Александр Чуманов Дело прошлое
Двадцать лет спустя
Да ещё один подзаголовок, ей-богу, напрашивался: «Сказки временных лет» по аналогии с основным историческим документом о Древней Руси — «Повестью временных лет», автором которой считается монах Киево-Печерского монастыря Нестор, утверждавший, в частности, что св. апостол Андрей доходил до Ильменя, и, стало быть, Русь узнала христианство задолго до крещения в десятом веке. А я, на документальность не претендуя, но полагая, что конец восьмидесятых и девяностые годы прошлого века можно смело считать также весьма «временными летами», называю моё сочинение «сказками». Хотя, если честно, это мои личные «неликвиды», не опубликованные вовремя по тем или иным причинам…
А потом всё это вроде бы безнадёжно устарело, осело в домашнем архиве, казалось, навсегда. Но вдруг, в очередной раз попавшись на глаза, заставило взглянуть на себя конструктивно да, что называется, по-хозяйски. И подумалось: «В конце концов, за двадцать истекших лет я же чему-то да научился, что-то новое узнал и понял по-новому! А ну-ка…»
И — пожалуйста.
Проездом
Жена периодически принимается ругаться.
— Это не дом, это какой-то проходной двор! — кричит она во всю свою громкость.
Я пытаюсь отмолчаться.
— Ну, за что только мне такое наказание! — выводит она колоратурным сопрано.
«За грехи твои тяжкие», — отвечаю ей про себя.
— Вы только поглядите, люди добрые, на этого ирода!
«Интересно, откуда современные бабы такие слоганы берут?»
А вслух говорю самое веское, что могу сказать:
— Алкашей в дом не вожу, с интердевочками не знаюсь, какого тебе рожна ещё надобно?
И фонтан иссякает. Он ещё некоторое время бурлит и клокочет, но уже как бы внутренне. И вот журчит неназойливо ласковый прозрачный ручеёк…
Дело в следующем. Городишко у нас маленький, ни гостиницы, ни постоялого двора, ни караван-сарая нет, а меня все знают, хоромина моя — ого. Вот и набиваются на постой всякие странствующие, праздношатающиеся да путешествующие. Разве откажешь?
И вот, например, как-то утром будит меня невнятный, но достаточно бесцеремонный шум за окном. Не продрав ещё глаз, выглядываю: батюшки-светы! Караван бедуинов у ворот расположился. Пыль до неба, погонщики гортанно покрикивают, туда-сюда снуют, верблюды орут.
Одеваюсь, выхожу, естественное раздражение притушив, кланяюсь, как в кино, по восточному обычаю. Ну, и слова подобающие сами собой как-то находятся.
— Мир вам, правоверные, — говорю бедуинам, — да продлит Аллах ваши дни!
— Мир, мир, — отвечают мои магометане, — здорово, Африкан, сбегай-ка давай в слесарку, скажи, чтобы колонку срочно починили, верблюдов, понимаешь, поить нечем, а нам ещё девять дён по пескам переть.
И хотя сам-то я уже месяц безропотно доставляю себе воду с параллельной улицы — у меня для этого фляга да специальная тележка имеются, но тут фляжкой, конечно, не навозишься, — беру газовый ключ, сдвигаю чугунную крышку, лезу. Слесарей-то, когда надо позарез, не дозовёшься же…
Вечером бедуины жгут костры до неба, поют свои заунывные бедуинские песни, мы с женой, где слова знаем, подтягиваем самозабвенно. И мерещатся нам барханы до самого горизонта, струящееся над песками марево, ящерки разбегающиеся из-под ног, словом, всё то, что мы видели по телевизору, и чего нам в натуре, скорей всего, никогда не видать.
— Неудобно, — шепчет жена, волевым усилием возвращая себя из мысленного кинопутешествия, и толкает меня в бок, — зови кочевников в дом, там двенадцатая серия «Ментов» начинается, им, небось, тоже интересно, что дальше.
«Вот так всегда, — рассуждаю по обыкновению молча, — а завтра я один виноват буду, что эти кочевники палас истоптали, их же не заставишь разуться — неудобно, опять же, — да, главное, они и так босиком».
Вслух же говорю:
— Попрошу в дом, многоуважаемые, двенадцатая серия «Ментов» начинается! Если же кто из вас не видел предыдущие одиннадцать — ничего страшного, этот сериал можно с любого места глядеть.
А после фильма объявляют вдруг внеочередной выпуск «Клуба бедуинов». И рассказывают про Аравийский полуостров. Так что в этот вечер постояльцы наши будто дома побывали. После передачи у многих на глазах слёзы. И жмут мне растроганно руки. Будто я телевидением командую. Чудаки…
Утром караван уходит. Мы стоим на крыльце — провожаем дорогих гостей. Просим не забывать, звонить, писать письма. Жена долго-долго машет вслед каравану синеньким скромным платочком, глаза у неё на мокром месте, да и мои — почти…
А потом она обводит растерянным взглядом наше перевёрнутое вверх дном жилище и начинает сокрушаться, быстро выходя на режим максимальной громкости:
— Это не дом, это какой-то проходной двор!
«Скорее уж — постоялый…»
Под вечер глядь — барражируют над огородом семеро ангелов. Словно бы в нерешительности.
— Можно, можно! — кричим хором и делаем приглашающие жесты. Потому что всё равно ведь приземлятся уже, так чтобы хоть — не на грядки.
Один за другим, не раздумывая ни минуты, производят посадку на указанное место. Во двор. Тесновато немного, уж очень размах крыльев большой, но ничего: один сядет, крылья за спиной уложит и — в сторонку. Тогда только следующий заход делает. Конечно, все — усталые, голодные, потрёпанные. Объясняют, что гроза прихватила.
— Ну, что ж, с грозой, конечно, шутки плохи, хоть до кого доведись, располагайтесь, ребята, отдыхайте…
Жена быстренько подсуетилась, супу с мясом налила, второе — тоже с мясом, чаёк заварила, к нему — печенюшки. Ну, и поллитру, которую правоверные давеча не велели даже открывать. В общем, что в доме было — то и на стол. «Яичек, — шепчет, — ещё набью с салом, если не прохватит».
А гости скоромное не едят. Глаза, подмечаю, заблестели при виде мяса да выпивки, но — боятся.
— Нам бы, — тоскливо так пояснил один, — калачей да квасу.
— Чего нет, того нет, — отвечаю, — да вы не бойтесь, ребята, никто ведь не узнает.
— Бог всё видит… — вздыхают пернатые.
— А вот у меня в армии помкомвзвод был такой вредный, просто — сохрани и помилуй, но и то в положение входил. Делал скидку, если причина уважительная, — привожу подходящий случаю пример.
— Со стихией боролись, чуть не пропали, можно сказать… — подсказывает моя.
Подействовало, похоже. Вот что значит своевременный пример из жизни. Переглянулись гости со значением да и принялись восстанавливать силы. Притом бойко так! Выпили — опьянели с непривычки — псалмы давай петь. На то ж она и водка. Тоску нагнали — хоть вешайся.
— Других, что ли, песен не знаете, ребята?
Беру гитару:
— «Возвращаюся с работы, рашпиль ставлю у стены…»
А жена мне локтем — в бок. Да со всей силы. Я аж икнул.
— Ты чего?! Больно же! — Но сам уж сообразил: действительно, перебор, пожалуй. — Нет, лучше я вам стишок собственного сочинения прочту. И как бы — про вас:
Пролетали в небе ангелы — пух роняли в колыбель. Брали воду в тёплом Ганге ли, во студёной Колыме ль. Обращались в тучи-облаки и порою по весне приходили в странном облике наяву или во сне. И на ангельском наречии речи страстные вели. Но ответить было нечего обитателю Земли. Он — ни «бе» ни «ме» по-ангельски, лишь по фене «бе» и «ме». Он Вараввою Котангенсом коронован в Бугульме.Покивали вроде как понимающе-сочувственно, однако от комментариев воздержались. И я поостерёгся спрашивать.
— Неправильно живёшь, Африкан, — говорит вдруг один плюгавенький, — Бога забыл, грешишь много. Гореть тебе в геенне огненной!
Пугает то есть. В моём же доме. Ага. Ну, известное дело, выпивши. И у меня в мыслях нет, чтобы «в занозу лезть». Так только — для поддержания легкой мировоззренческой дискуссии.
— «Геенна, геенна»… Давно меня эта мысль занимает: «Почему все адовы муки, в сущности, — телесные муки. Тогда как душа — нематериальна. Что ей — геенна-то?»… Да и атеист я, вообще-то… Так что не по вашему, товарищ, департаменту прохожу…
Разумеется, у плюгавенького было, что возразить. Но только он рот раскрыл — на него другие члены стаи зашикали, чего, мол, ты, офонарел, что ли, человек тебя в дом пустил, обогрел, накормил, приветил…
Жена постелила ангелам на полу, а они не ложатся. «Не можем — говорят — лежа спать, крылья помнутся. Нам бы насестик какой-нито». Пришлось вести постояльцев в сарай, где когда-то куры жили, да разве куриная жердочка их выдержит. Хоть и ангелы, а ничего, крепкие. Пришлось целое бревно прилаживать. Пока возился, спать осталось совсем ничего…
Утром чуть свет и улетели. Натощак. Только воды с полведра выпили. И ведь дом, уж не говоря про курятник, в пуху. У них, видать, как раз период линьки был. Поэтому и гроза так потрепала — когда линька идёт, аэродинамика ухудшается, конечно.
И я опять после гостей всё пылесосю да вытряхиваю, а жена причитает на полную громкость своё излюбленное:
— Это не дом, это какой-то проходной двор!
Между тем соседи завидуют нам лютой завистью. Ещё бы! У них кто-нибудь в Африку на два года уедет по контракту советы реакционному режиму давать, так они все два года важные ходят, будто сами эти советы дают. У них если какой-нибудь родственник — седьмая вода на киселе — в столице референтом служит, так к ним на бритой козе не подъедешь.
Зато у нас друзья — по всей Вселенной. И подушки ангельским пухом набиты. И правоверные верблюжонка подарили, он у нас теперь заместо бультерьера живёт, кусать никого не кусает, но большой стал и до соседа напротив запросто доплёвывает…
И вот день никого, два никого — уже скучновато как-то. Но тут слух пронёсся — в лесу грузди пошли. Не было, не было и пошли. А гриб, это такой предмет, что сегодня навалом, а назавтра уже пропал весь, зачервивел. Так что подтверждения слуха ждать нельзя — надо самим его либо подтвердить, либо опровергнуть. Вот мы с утречка и — на мотоцикл да по заповедным нашим местам.
Хотя сами-то мы грузди — не очень. Редко так, в охотку. Потому как это ж не еда — закуска. А мы спиртное — ни-ни. В силу ряда причин. Зато если кто спиртное — может, тому солёный груздь — первейшее дело. Он, уж прости Господи, что иудею, что эллину. Вот и заготавливаем для гостей. Знаем, что успех гарантирован. Это ж не стишки самодельные. Гости закусывают да нахваливают, а нам-то какая радость!…
И вот едем мы по лесной, разбитой донельзя дороге, поглядываем уже, где б нам спешиться. А вдруг навстречу толпа мужиков оборванных, заросших, грязных — ни дать, ни взять, шайка дезертиров ещё с Отечественной войны! Я от страха — по газам и вперёд, ведь поймают — порвут на портянки, но и они — врассыпную. Тогда останавливаемся. Останавливаются и они, не все, но которые посмелей.
— Эй! Вы кто?
— А вы кто?
— Да мы — по грибы.
— А мы на Москву идём, — говорит один с акцентом, притом явно не кавказским и не среднеазиатским, — нас ваш местный провести взялся, да завёл в эти дебри и смылся. Вот и блудим. Давно уж.
— А местного-то как звали? — начинаю смутно догадываться, хотя догадка явно бредовая.
— Ванькой, как больше-то.
Ну, это вы зря. Я же — не Ванька. Я, прошу любить и жаловать, — Африкан. А Ванька-то, небось, Сусанин был?
— Точно! Ты его знаешь?
— Понаслышке только. Однако долгонько вы, ребята, гуляете уже, долгонько. И далеконько от маршрута отклонились. Между тем у нас ведь с Речью Посполитой давно мир. И даже дружба. Пока.
— Что ты говоришь!
— Точно…
— Так что, — подаёт голос из коляски жена, — давайте-ка вы сперва к нам, помоетесь в баньке, одежонку вам кое-какую подберём, и тогда уж — на Москву. Точно уже спешить некуда. Только сначала помогите нам груздочков ведра два собрать. Все вместе-то мы — мигом…
Вот неугомонная баба!…
Двое с половиной суток поляки у нас прожили. Все шестеро. Потому что спешить, действительно, некуда уже. Или — пока. В баньке попарились, в моё приоделись. У меня его — век не сносить. Одних спецовок, выданных на разных работах и ни разу ненадёванных, — целая полка в шифоньере. Не «Версаче», конечно, но доброе всё.
Отдохнули, подхарчились. А я их за это время в курс дела ввёл. Ну, насколько мои скромные познания в истории позволяли. Фильм «Четыре танкиста и собака» пересказал во всех подробностях — сколько раз ведь показывали. Про Тухачевского, правда, — не стал. Зато про Ярузельского и «Солидарность» решил не утаивать.
Слушали меня с большим интересом. Радовались, печалились. Иногда производили обмен мнениями промеж себя и на своём языке. Видать, хотели от меня кое-что утаить. Между тем ничего для меня и для Родины моей такого уж обидного сказано не было. Как и — непонятного. Хоть я польским, вообще-то, владею в пределах: «Ще не сгинела!», «Матка Боска» да «Пся крев»…
А через двое с половиной суток посадили мы с женой несчастных скитальцев в автобус и объяснили — как дальше. На прощанье расчувствовались все, договорились дружить народами. Всем козлам назло. Если получится…
Ну, думали, отдохнём-таки. Прибрались, полы помыли, рваньё, полное паразитов, я в огороде сжёг. Но день ли, два ли проходит. Снова — здорово!
Вечером динамик включаю и слышу:
— Планета Альфа-Омега вызывает на связь Африкана.
— У аппарата! — рапортую согласно уставу.
— Будем у вас тридцать второго реомюра по пути к «чёрной дыре» G-4. Просим принять на дозаправку и кратковременный отдых.
— Давайте, куда вас денешь, — отвечаю не вполне по уставу.
— Милости просим, гостям всегда рады! — встревает, как всегда, моя.
Теперь космических бомжей ждём. Урожай в огороде пришлось раньше времени убрать, огород забетонировать. Жена, само собой, целыми днями кого-то жарит-парит-маринует-засахаривает. Короче, зафигачивает да захреначивает.
— Эх, ты, — смеюсь, — темнота! Может, попусту хлопочешь. Может, у них обмен веществ такой, что… Может, они вообще неорганические.
Да разве её вразумишь!
— А это их дело, — отвечает невозмутимо, — для меня главное, чтобы стол не пустовал…
И я смолкаю.
— Ну, за что мне такое наказание! Вот-вот инопланетяне сядут, а этот не чешется! Осрамимся сами перед гуманоидами и всё человечество осрамим! — выводит она колоратурным сопрано.
Вот так и живём. Встречаем-провожаем. И нет-нет вдруг мелькнёт своевольная мыслишка: «А не наладиться ли нам куда-нибудь?» Мелькнёт да исчезнет. Нельзя. Кто-то должен уметь слушать других с открытым ртом, охать да ахать, иначе вообще все путешествия, все параллельные и перпендикулярные миры, все неведомые галактики и острова потеряют смысл…
Зачем нужны жирафы
Увидев однажды в цветном иностранном фильме жирафа, четырёхлетний Коля заболел. Вечером у него сделался сильный жар, мальчик бредил, метался в постели, и родители всю ночь от него не отходили. «Жираф, жираф, — стонал Коля в беспамятстве, — хочу жирафа!»
Утром обеспокоенные родители вызвали участкового педиатра, но к приходу пожилой врачихи всю болезнь вдруг как рукой сняло. Она старательно осмотрела ребёнка, прослушала, но ничего не обнаружила. Даже признаков пресловутого ОРЗ, которое, по старинке, видимо, упорно называла гриппом и ангиной. «С маленькими детьми такое иногда бывает», — только и смогла сказать она на прощанье.
Конечно, родители готовились к тому, что вечером болезнь может снова вернуться, так тоже бывает, и это всем известно, однако — нет. И через несколько дней тревоги бессонной ночи почти забылись. Они бы забылись совсем, если бы Колюня то и дело не напоминал постоянными, скоро надоевшими и отцу, и матери, вопросами о жирафах. Он интересовался, где проживают эти не похожие ни на кого животные, что кушают, чем занимаются в свободное от кушанья время, водятся ли жирафы на Луне, в океане и на полюсе. Родители сперва отвечали на вопросы старательно, мобилизуя для этого всю свою эрудицию и даже порой заглядывая в справочную литературу, а потом враз разозлились: «Да отвяжись ты, наконец, со своим дурацким жирафом, несносный ребёнок!»
И Коля отвязался. Но, как оказалось, не надолго. Потому что вскоре они всей семьёй отправились жарить шашлыки «на природе», где отец сразу взялся мангал раздувать, а мать с сыном аппетиту пока нагулять решили. И там неподалёку стояла такая причудливо кривая берёза, на которую малыш вдруг дико уставился, будто это, по меньшей мере, баобаб. Или — жираф.
— Жираф? — молвил он тихо, но предельно отчётливо, показывая на берёзу пальчиком.
— Опять?! — сурово одёрнула сына мать и вдруг больно-больно — до слёз — прикусила себе язык.
А когда она слёзы сморгнула, то абсолютно явственно сама увидела настоящего живого жирафа, непринуждённо пасущегося в среднерусском березняке. От такой фантастической нелепости женщина даже громко охнула.
Чуткое животное мгновенно обернулось на голос, перестало жевать. На краткий миг оно замерло неподвижно, а потом грациозно метнулось в чащу, треща сучьями. Так что когда деморализованная женщина вновь обрела способность соображать, всё уже стихло, и даже потревоженные ветки качаться перестали. «Наваждение какое-то!» — подумала рассеянно она, что, однако, утешило слабо.
— Мама, мама, ты видела?! — истошно кричал сын.
— Видела, видела, — буркнула мать и скорей потащила Колю прочь от сомнительного места.
Когда Колюня поделился с отцом своей радостью от встречи с любимым представителем фауны, отец сказал: «Да-да!» и, добродушно улыбаясь, подмигнул жене. Но той было не до улыбочек. Она лишь промолчала да слегка потупилась.
Она ничего не стала говорить мужу и сама постепенно успокоилась. Включились, должно быть, некие предохранительные механизмы женского мозга, и уже через пару дней Колина мама ничуть не сомневалась, что всё виденное в лесу ей попросту померещилось. И она также перестала терзаться беспокойством за ребёнка — в его возрасте и должны посещать человека несуразные фантазии. Видать, к тому же творческая личность растёт.
Может, если бы в тот знаменательный момент мать раздувала мангал, а отец, наоборот, сыном занимался, то уж мужчина-то не отмахнулся бы так запросто от увиденного собственными глазами неопровержимого факта. Потому что знаменитую формулу: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда» мужчина придумать не мог. Только — женщина. Хотя если, опять же, факты доказывают обратное, то это какие-то неправильные факты…
Между тем через пару дней в местной газете появилась заметка корреспондента Цезаря Пенкина-старшего следующего содержания.
Унас — пампас
Экология, что бы с нею ни вытворяли, не теряет способности загадывать загадки. Так, вчера лесник В. Шкафчук сообщил в райотдел милиции, что на его участке лесных угодий поселился самый настоящий жираф.
Трезво оценив моральный облик блюстителя леса В. Шкафчука, сотрудники внутреннего органа дружески предложили последнему пойти домой и хорошенько проспаться, поскольку услуга вытрезвителя на данный момент ему быть оказана не может ввиду ремонта последнего. Но Шкафчук упорно продолжал настаивать, что не только видел неуместное в наших широтах млекопитающее, но и угощал его. Причём угощал простым русским хлебом. И жираф, преодолевая естественную стеснительность, угощался, проявляя доверчивость, быть может, необоснованную.
Тогда спорадически сформировавшаяся комиссия в составе дежурного по отделу лейтенанта Потысьева, лесника Шкафчука и автора данных строк отправилась на дежурном УАЗе в лес, где после непродолжительных поисков действительно обнаружила мирно пасущегося жирафа. Прокомментировать данный непреложный факт мы попросили заведующего кафедрой экологии нашего университета профессора А. А. Афанасьева. Алексей Афиногенович сказал, в частности:
— Это чрезвычайно редкое для наших широт явление ещё раз доказывает, что мы являемся свидетелями глобального потепления. «Парниковый эффект» уже привёл к тому, что по меньшей мере одно африканское млекопитающее совершило миграцию сюда, в среднюю полосу нашей страны. Думаю, что это только начало. Не удивлюсь, если вскоре узнаю, что в наших речках завелись крокодилы, а в болотах гиппопотамы.
Конечно, кое-кто может по легкомыслию обрадоваться. Дескать, теперь мы сможем выращивать на дачах бананы и ананасы, кофе и какао, а в парках, к примеру, бутылочное дерево. Должен со всей серьёзностью предупредить: глобальное потепление принесёт человечеству много неприятностей и совсем мало удовольствий; а также призвать: все на борьбу с парниковым эффектом, успех борьбы зависит и от нас с вами!
Профессор Афанасьев, едва увидев заголовок, кинулся в редакцию требовать немедленного опровержения, ибо, во-первых, слово «пампас» в единственном числе не употребляется; а, во-вторых, пампасы — в Америке, где жирафов не больше, чем в России, о чём известно любому школьнику. Не встретив в редакции понимания, разгневанный учёный хотел уж пожаловаться в вышестоящие инстанции, но тут заметку перепечатала одна столичная газета. И он понял, что профессионального позора уже всё равно не смыть, так хоть слава пусть будет. Пусть и с оттенком скандальности. Западные коллеги говорили как-то профессору, что это тоже неплохо…
— Как ты это сделал? — пристали к Колюне тоже славы захотевшие родители.
— Ну, так, просто, очень сильно захотел, вот и всё! — чуть не плача, закричал ребёнок, не имеющий слов сформулировать ответ в более доступной форме.
Для повторения эксперимента, не долго думая, вышли на улицу. И Коля без труда превратил в жирафа ближайший тополь. И родители бесповоротно убедились, что их единственный сын явно повредился головой. Только не было ещё полной ясности, хорошо это или плохо…
Весть о чудесном мальчике мгновенно облетела весь мир. Он сразу затмил собой миллионы вундеркиндов всех времён и народов. Мальчик принимал корреспондентов информационных агентств по жёсткому графику, разработанному комиссией, состоявшей из самых разнообразных экспертов. Родителям пришлось оставить работу. Вернее, дальнейшее выращивание уникального ребёнка и сделалось для них работой. Чем они хуже родителей юных шахматных гроссмейстеров?
— А ещё что-нибудь ты можешь? — то и дело цеплялись к ребёнку разные настырные личности.
— Я попробую, — скромно говорил Коля. Но из всего, на что он направлял свой демонический взор, неизменно получались жирафы различных размеров и оттенков. Только они.
— Ну, что вы ещё хотите от ребёнка, ему ж всего четыре года пока! — хором кричали возмущённые родители.
— Да, что вы ещё хотите от нашего народного достояния! — вторили им эксперты.
Хотя между тем всем было предельно ясно, что именно государственные специалисты и хотят больше всех от ребёнка. Только, храня строгую государственную тайну, не сознаются. И правильно делают, ибо вокруг обыкновенного с виду мальчика уже плели свои паучьи сети иностранные шпионские ведомства.
Кроме того, ещё не во всех зоопарках мира имелись жирафы. И теперь отовсюду сыпались заказы. Даже те города, в которых никогда не было самого маломальского зверинца, требовали для себя парочку-другую жирафов. Мол, надо же с чего-то начинать. Да что города — многие африканские страны требовали незамедлительно в качестве братской помощи отгрузить столько-то десятков или даже сотен голов для восстановления оскудевшего поголовья либо освежения имеющегося генофонда.
Разумеется, Колины родители не торговали жирафами ни оптом, ни в розницу. Тем более не занимались экспортом. Эту заботу целиком взяло на себя государство. Однако и у родителей как-то сама собой появилась вдруг новенькая «Волга» экспортного исполнения, а ещё большая и тоже новая квартира. Бригада шабашников взялась возвести на дачном участке более приличествующий общественному положению хозяев домик. Сбережения на книжке, само собой, возросли…
Коля между тем подрос, пошёл в школу, которую окончил в положенное время. Будто и не вундеркинд никакой. Потом в институт поступил на общих основаниях.
В институте он учился средне и даже, пожалуй, слабовато. Но от него терпеливо ждали не только жирафов, а потому приняли в аспирантуру в порядке исключения, помогли с диссертацией на тему: «Жирафосинтез». В данной научной работе, конечно, было маловато научности, но такое в учёном мире случается сплошь и рядом, если кто не знает.
А к тому времени в городе — уж про окрестные леса и говорить не приходится — никакого прохода не стало от жирафов. Животные опустошали целые лесные массивы, приучившись поедать даже хвою, уничтожали «зелёного друга» в городе, создавали аварийные ситуации на дорогах.
Жирафятина, считавшаяся спервоначалу дефицитнейшим деликатесом, очень скоро всем приелась, резко упала в цене — и правда, какой уж такой может получиться вкус, если кормить скотину исключительно веточным кормом — стала залёживаться на прилавках и протухать целыми партиями, порождая не только малоприятный запах, но и так называемую «пересортицу», то есть почву для махинаций и злоупотреблений в совторговле.
Да ещё эти длинношеие неприкаянно слонялись по улицам, заглядывали в окна верхних этажей, скалили жёлтые лошадиные зубы и пугали до полусмерти мирных обывателей.
И стало, само собой, стремительно нарастать общественное неудовольствие. Сперва звучали единичные спонтанные возгласы: «На кой чёрт нам эти жирафы?!», а потом дело дошло до стихийных уличных манифестаций под лозунгом: «Воспретить ему!»
Тогда только всем, даже самым упёртым оптимистам, сделалось окончательно ясно, что никаких других научных прорывов от единственного в мире специалиста в области «жирафосинтеза» не дождаться. А жирафье чудо терпеть уже невмоготу. Впору всенародно в «Общество охотников» записываться.
И Коле сказали так:
— Дадим тебе оклад заведующего проблемной лабораторией и отдельную комнату в качестве лаборатории. Только жирафов больше — ни-ни. Ладно?…
И Коле пришлось согласиться. Но всё-таки изредка, когда совсем невмоготу становится от безделья, он так, для души, сотворяет маленького-маленького, величиной с таракана, жирафика. И любуется им. А как налюбуется, так аккуратненько ногтем и придавит. Чик, и всё. Нету. Лишь малозаметный след на полированном столе одинокого завлаба.
Вдали от оживлённых трасс
Старость подкрадывалась исподволь, мелкими шажками да тихой сапою, и однажды вдруг внезапно обнаружилось, что она уже заполонила собой весь дом, загнала обитателей в угол и зажала там. Ни вздохнуть лишний раз, ни шелохнуться. Тем более — резко. Такое с людьми не однажды случалось за тысячелетия, вот случилось и с ними. И чужой многотысячелетний опыт нисколько их участь не облегчил. В чём тоже — ничего нового. Хотя, наверное, если бы подкрадывающуюся старость, на дальних подступах обнаружив, как следует пугануть, шугануть энергично, то можно было бы отвоевать у неё что-нибудь. Пусть временно…
Леонид с Катериной — одногодки. Поженились совсем юными и, сразу условившись, сколько им надобно детей, скоро достигли желаемого результата. Ранние дети росли крепкими да смышлёными, радуя родителей и вселяя в них честолюбивые надежды. А иногда Леонид высказывал вслух и такое:
— Вырастут дети, займутся своими делами, а мы с тобой, Кать, ещё хоть куда. И вполне можем совсем новую жизнь с нуля затеять…
Что он при этом в виду имел? Да то и имел, пожалуй, что первым на ум приходит. Поскольку никакого разнообразия личной жизни познать они оба не успели, а это часто порождает в людях определённую неудовлетворённость судьбой. Она, данная неудовлетворённость, может с годами понемногу сама собой на нет сойти, но может и, наоборот, такого с людьми натворить, что даже специально и придумаешь…
А Катерина лишь улыбалась словам преданного ей и детям мужа да отмалчивалась. Но ведь не возражала же! То есть не исключено, что ещё раньше до того же додумалась, однако распространяться не стала, будучи по природе своей человеком более сдержанным, чем муж, и даже скрытным…
Но вот впрямь выросли дети, разлетелись с морально и физически устаревшей Земли по разбегающимся траекториям. Это так происходило: старый скрипучий планетобус приплывал по утрам на Землю и через минуту грузно отчаливал прочь, битком набитый честолюбивой молодёжью, покидавшей патриархальную и бесперспективную родину в поисках лучшей доли.
Случались в планетобусе и пожилые, но те в основном следовали только до Марса, везя на тамошний рынок какой-нибудь немудрящий товар. А молодёжь следовала дальше, гораздо дальше, ибо Марс был всего лишь узловой станцией, откуда каждую минуту стартовали огромные быстроходные лайнеры во все концы необъятной вселенной. Везде во вселенной требовались крепкие руки, ничего, что покуда не слишком умелые.
Однако и старики не все до единого возвращались с Марса на свою деревенскую планету. Те, кому здоровье позволяло ещё переносить сверхдальние межзвёздные перегоны, улетали к детям в более весёлые и комфортабельные, по сравнению с Землёй, миры. Улетали, чтобы провести остаток дней в блаженном отдыхе и под присмотром первоклассных докторов. Но чаще всего престарелым землянам выпадало иное: нянчить непослушных инопланетных внуков, вести обширное, полное капризных роботов семейное хозяйство, привносить в дом молодых, вечно испытывающих недостаток денег людей льготы, причитающиеся ветеранам трудового фронта.
Конечно, это всё легко прогнозировалось, но старики отмахивались от собственных здравых прогнозов и очертя голову кидались в жуткий бездонный космос, как в омут — заколачивали окна старомодных земных жилищ, надеясь когда-нибудь вернуться ещё и понимая абсолютную несбыточность такой надежды…
Катерина с Леонидом и впрямь были ещё хоть куда, когда остались одни. Но оказалось, что ни ему, ни ей уже не хочется начинать новую жизнь. И очень хорошо, что эти их настроения так удачно совпали. Ведь если бы они не совпали, то кому-то одному было бы весьма неуютно в старой жизни. А так — ничего. Хотя, вероятно, тут и была самая первая, самая главная уступка впервые замаячившей на горизонте старости.
Стать няньками в своём ещё почти цветущем возрасте Катерина с Леонидом категорически отказались, чем, вероятно, отодвинули свой бесповоротный жизненный закат. Но и честолюбия, необходимого для самодостаточного бытования в иных мирах, не имелось.
Зато дети у себя там как-то со временем без помощи стариков преодолели всё, казавшееся непреодолимым — а куда б они делись — так что надобность в «эгоистичных» стариках однажды взяла и отпала. Как короста на пупке. То есть, выражаясь велеречиво, но банально, «прервалась нить, связующая поколения». Остались только редкие, чисто формальные электронные эпистолы, но перебраться поближе уже никто стариков всерьёз не зазывал.
Таким вот образом и застряли до скончания века Катерина с Леонидом в своей дыре. Жизнь доживать, друг за другом доглядывать, нехитрое, разваливающееся на глазах натуральное хозяйство из последних сил вести. Совсем бы его бросить, хозяйство это, да пенсионы-то у обоих больно маленькие — не шибко-то на них…
В глазах вселенского Содружества Земля уже давно не имела никакой реальной ценности. А по своей бедности и неустроенности была сущим бельмом в глазу у жизнерадостной Администрации. Планета находилась в стороне от больших и малых космических трасс, её снабжение и обслуживание получалось крайне убыточным, так что даже если бы кто-то наловчился решать все проблемы Земли безупречно, это вряд ли принесло бы данному гипотетическому чиновнику толику морального удовлетворения, а тем более славы.
Одно время Землю даже хотели снести. В смысле, перетащить поближе к Солнцу и сжечь в его термоядерной топке. Однако взбунтовалась вечно всем недовольная «общественность», сама живущая, между прочим, на самых комфортабельных планетах Содружества, но которой ведь только дай повод побузить. Эти неугомонные бунтари подняли такой вой по всем информационным каналам, что Земля не только на веки вечные осталась на своей заезженной орбите, но даже получила статус историко-ландшафтного заповедника. Правда, извечные проблемы неперспективных поселений всё равно никуда не делись. Бунтари ведь никогда ничего не доводят до конструктивного конца — не их это специальность.
Так что если, к примеру, умилительные бумажные письма да трогательные бандерольки доставлялись рейсовым планетобусом более-менее регулярно, то бригада врачей, посещавшая Землю два раза в год в периоды сезонных обострений у хроников, вечно торопилась, больных за полгода скапливалось несметно, на приём выстраивались бесконечные очереди, хотя — вот извечная гримаса нерентабельного сервиса — все ветераны имели неукоснительное право на обслуживание вне очереди.
Врачи так торопились, что ничего не хотели да и не имели возможности лечить. Почти во всех случаях они с ходу предлагали клиенту полную льготную замену внутренних органов и внешних членов, что было проще и целесообразней с экономической точки зрения, чем какие-либо лечебные мероприятия, требующие терпения и тщательности, но не гарантирующие сколько-нибудь приемлемый результат. И доктора сильно раздражались, когда старики с чисто старческим упрямством и эгоизмом цеплялись за тот или иной исчерпавший ресурс орган, словно именно в нём содержалась душа, хотя уже давно было научно доказано, что душа человеческая содержится в том исключительно слабом электромагнитном поле, которое человек создаёт вокруг себя.
А ещё, несмотря на статус вселенского заповедника, совсем худо временами обстояло дело с предметами первой необходимости, особенно продуктами питания. Космическая лавка должна была прилетать каждую неделю, но случалось, что она не появлялась по месяцу, и тогда население Земли натурально голодало. Люди слали в Администрацию коллективные жалобы на дирекцию вселенского торга, дирекция регулярно получала за свою халатность дежурную нахлобучку, чем дело и кончалось. Может, потому что другие показатели торговой отрасли были на недосягаемой высоте.
А когда космолавка добиралась-таки до захолустной планеты, люди хватали питательные таблетки, пилюли, микстуры, а также памперсы целыми упаковками. Разумеется, кому-то обязательно не доставалось жизненно необходимого товара. И земные старики, перемогая голодуху, только растравляли свои души и кишки распространяемыми из уст в уста легендами о добрых старых временах, когда человеческое пищеварение было устроено не в пример сложнее и могло замечательно усваивать пищу естественного происхождения. Само собой, легенды эти умалчивали про то, что усложнённое пищеварение было подвержено многим опасным заболеваниям, чему положила конец лишь управляемая и тщательно просчитанная эволюция, осуществление которой стало одним из самых грандиозных достижений науки и технологии.
Легенды, конечно, звучали весьма фантастично, однако на правду тоже здорово походили. Потому что многим доводилось наблюдать своими глазами, как и чем питаются дикие звери, вдруг начавшие хорошо плодиться на заброшенной Земле, хотя ещё недавно считалось, будто они вымерли подчистую. И давно. А звери жевали всё подряд так называемыми «зубами» и выглядели очень довольными. Стало быть, сытыми. Вводя в искушение самых отважных или наиболее проголодавшихся людей, которые пробовали, преодолевая отвращение, тоже проглотить что-нибудь нетрадиционное. Но маленький гладкий желудок не был приспособлен для грубого органического материала, он мог только исторгать её обратно в непереработанном виде, подчас причиняя экспериментатору немалые физические и эстетические страдания…
Дочь Леонида и Катерины Позитрона жила на Золотой Планете. Там абсолютно всё состояло из золота. Когда туда прилетели первые пионеры, они даже дома и деревья возле домов понаделали из золота. А потом и свой метаболизм перевели на золотую основу.
Сын Птолемей обосновался на Бриллиантовой Планете, где всё обустроили аналогично Золотой Планете, только, соответственно, из бриллиантов. Там даже печки топили бриллиантами, от которых много жару и совсем нет золы.
Давным-давно, когда дети один-единственный раз вместе навестили родителей в юбилей их совместного жительства, крепко выпившие муж Позитроны и Птолемей однажды сильно, чуть не до драки, заспорили, чья планете лучше. Едва удалось совместными усилиями жён и юбиляров не допустить рукоприкладства. Договорились к всеобщему удовольствию, что и Золотая, и Бриллиантовая бесконечно прекрасны, лучших новых родин просто немыслимо желать, что, помимо этого, и зять у стариков, и сын — парни хватские, головастые да горячие, чужого им не надо, но за своё они любому глотку порвут…
А ещё в Содружество входили: Серебряная Планета, Платиновая, Урановая, Нефтяная, Меховая, Гламурная. Все эти миры вели между собой оживлённый торгово-культурный обмен, жили дружно и счастливо, подчиняя своему влиянию всё новые и новые объёмы мироздания. Земля же в данном Содружестве, каким звонким статусом её ни награждай, всё же пребывала на правах бедной родственницы, поскольку её-то разнообразные природные давным-давно были подчистую выкачаны. Они, собственно, и составляли фундамент всех ныне зажиточных миров…
Хозяйство Катерину и Леонида здорово-таки выручало. Каждое утро поднимались они ни свет ни заря, наскоро завтракали безрадостными синтетическими пилюлями, заводили дряхлого реактивщика Серко, в миру СУ-29, и летели по так называемым «точкам» управляться. Хоть с грузом, хоть без, Серко давал свои две тысячи километров час — ни больше, ни меньше. Торопи, не торопи. Только попусту тоннами жрал горючку на форсаже, а она ж дико дорогая, завозится, как и прочее, крайне неритмично.
В хозяйстве стариков была пара заводов-автоматов по производству земных сувениров: матрёшек, ритуальных масок, скальпов, макетов мавзолея В. И. Ленина и другого прочего. За обоими заводами требовался постоянный хозяйский догляд, все киберы, работавшие там, были древних моделей, то есть склонными к припискам в отчётности, перерасходу фондов, снижению качества выпускаемой продукции. И каждый при этом норовил урвать маслица посвежее, электроэнергии побольше. Некоторые, стоило недоглядеть, так накачивали электричеством свои аккумуляторы, что их потом неделю пошатывало, и на всех окружающих, чуть что, летели длинные синие искры. Иногда же между перебравшими и вовсе вспыхивали жестокие, совершенно безобразные драки.
А ещё за Леонидом и Катериной числилась маленькая, морально устаревшая, как и всё прочее, АЭС на быстрых нейтронах. Словом, одно название, что хозяйство. Но и с таким всё труднее становилось управляться. Годы есть годы. Да ещё сувениры расходились всё хуже и хуже. В особенности «мавзолеи»…
Неуклонно сокращалось и народонаселение Колыбельной. Планета дичала, отбивалась от рук. Так что если бы кому-то из покинувших Землю учёных вдруг стало интересно поглядеть, как тут и что, они бы убедились, что некоторые приматы уже пытаются пользоваться простейшими орудиями, а некоторые всё чаще пробуют на вкус человеков, правда, только пробуют и тотчас выплёвывают с отвращением как совершенно несъедобный продукт. Однако всех интересовали только неведомые новые миры, поскольку минеральные ресурсы Земли были, как уже говорилось, полностью исчерпаны, а в естественной органике нужды не предвиделось никогда.
А тут ещё открыли очередную пригодную для человека планету, имевшую лёгкую, почти невесомую структуру. Планету назвали Пуховой и постановили, что лучшего пристанища для заслуженных тружеников представить невозможно. Пуховую даже перетащили в Солнечную систему, чтобы даже самые ветхие ветераны смогли на неё перебраться без ущерба для бесценного здоровья. Планету всю обставили супераудиовидеосистемами, наладили на ней автоматизированное и бесперебойное, высокотехнологическое производство питательных пилюль с лечебными добавками. А ещё предусмотрели, что раз в неделю над Пуховой будет появляться специальный космический зонд и разбрасывать миллиарды самых свежих сегодняшних, завтрашних и даже послезавтрашних газет, ибо виртуальные новости не пощупаешь ведь, не понюхаешь…
Известие об обязательном всеобщем переселении на Пуховую Леонид с Катериной приняли безропотно. Они лишь пожалели непутёвых роботов, которых придётся отключить, чтобы они не наделали с собой чего-нибудь от бессмысленности дальнейшего существования. Зато реактор атомной электростанции решили, наоборот, не глушить — пусть себе работает, пока есть топливо, а они развесят повсюду мощные прожектора, сияющие день и ночь, дабы старая планета не казалась самой себе абсолютно ни к чему не пригодной…
Вечером безотказный Серко приземлился на старой растрескавшейся бетонке, в незапамятные времена проложенной по берегу океана. Жизнь, у которой нет ни малейшей потребности приносить кому-либо пользу, взламывая бетон, неудержимо пёрла к солнцу.
Старики тщательно зачехлили быстро остывающие моторы, разделись, стараясь не глядеть друг на дружку, вошли в воду. Они довольно часто купались тут вечерами и вот теперь, напоследок, отважились-таки доплыть, поглядеть, куда садится вот уже миллиарды лет их багровое, но упрямо не стареющее, в отличие от всего прочего, солнце.
Уже подкрадывалась осень, повадками неотличимая от старости да и смерти самой, желтые да красные листья, срываясь, планировали в океан, а он брезгливо выбрасывал их на берег, словно отталкивая от себя это безжалостное время года. Вода была холодная, но закалённые старики любили холодную воду, она приятно обжигала тело и бодрила дух.
Они поплыли туда, где Земля соединяется с Вселенной, из которой в незапамятные времена была исторгнута, и долго-долго их круглые головы светились яичными пасхальными скорлупками на фоне лёгких, не ведающих каких-либо сроков волн.
Так получилось
Во времена, почитай, уже былинные в городе Спиринске жил-был мужик по имени Вася Бураков. Но это только так административно считалось, что в городе. О том, что Спиринск — город, может, одни только спирчане знали. Да ещё те, кто по должности имел дело со всякими документами, кому по роду службы знать надлежало. А жители окрестных населённых пунктов считали, что Спиринск — посёлок. Так уж исторически сложилась судьба города районного подчинения. Ещё, казалось, совсем недавно был он братом-близнецом такого же заштатного райцентра, а потом их даже сравнивать некорректно стало — за несколько десятилетий райцентр, постоянно осваивая львиную долю государственных капиталовложений, так раздался вширь, а главное, ввысь, что сделался самым настоящим городом. Тогда как невезучий Спиринск остался навсегда, если, конечно, не откроют вдруг в его центре какого-нибудь богатого месторождения, бестолково разбежавшимся по невысоким лысым холмам вдоль речки, нещадно загаженной ещё в пору индустриализации, которая как-то всё выше по течению происходила…
Вдали от процветающих сельхозпредприятий да гигантов индустрии, согласитесь, весьма затруднительно выбиться в Герои труда. Даже если очень серьёзно, начиная с раннего детства, надрываться с прицелом именно на это высокое звание. А Вася Бураков и не надрывался, он легко менял как предприятия, так и профессии: был электронщиком, строителем широкого профиля, водителем грузовика, слесарем, газоэлектросварщиком и даже трепачом, то есть точнее, конечно, оператором трепальной машины. Он справлял свои нехитрые, хотя довольно трудоёмкие, должности всегда на совесть, однако совсем без огонька. Старательно, однако не творчески как-то. Что позволяло никогда не конфликтовать с начальством, а заодно не иметь врагов. Как, впрочем, и друзей.
В профессиональном росте Василий выше четвёртого разряда ни разу не взошёл, но и ниже не спускался, полагая, что как труженик вполне заслуживает официальной средней зарплаты по стране, но не больше и не меньше. Если же больше приходилось огребать, Бураков сразу — в панику. Мол, расценки срежут. И эти опасения довольно часто оправдывались. Но уже — без него. Он к тому моменту уже был на другом участке коммунистического строительства.
И жить бы Васе Буракову одним из неприметнейших героев своего времени, никто бы никогда бы на него внимания не обратил, если бы не его редкостное семейное положение отца-одиночки. Не сильно редкое, но для малого Спиринска достаточно необычное, чтобы время от времени заинтересованно обсуждаться в тех или иных кругах.
А кроме того, родом Бураков был аж из самой Москвы, где и в описываемые времена обретались его родители, солидные да представительные, оба кандидаты каких-то полезных наук. Вася же был у них единственным балованным сынком, в детстве учился по спецшколам для повышенно умных детей, после чего его тем же порядком в университет отдали. Словом, жить бы парню и дальше по намеченному родителями перспективному плану, согласно которому его земной путь ну никак не должен был пересечься с путями никому не интересных спирчан. Да что-то сделалось с парнем на двадцатом году, зауросил вдруг, бросил учёбу, в армию добровольно напросился.
Родители потом до конца своих дней спорили, что за психоз такой с отпрыском приключился, но так к единодушию и не пришли. А сын угодил стеречь завоевания в богом забытый Спиринск и там после службы скоропалительно женился на симпатичной и уже беременной девушке, которая, похоже, шибко мечтала о столь же симпатичной, согласно бытовавшему стандарту, жизни…
В общем, Вася не много лет с молодой женой прожил совместно. То есть ровно столько, сколько требуется для обзаведения двумя дочками-погодками Анкой и Любкой да ещё для того, чтобы перебраться из общаги в старенький, но крепкий пятистенник на три окошка, купленный по случаю у одного отбывавшего на дожитие к детям старичка.
Молодая жена мечтала, что Ваське со дня на день надоест выдрючиваться перед учёными столичными предками и они умчат в лучший на всём доступном белом свете город Земли, где один только штамп о прописке бесценен, как, скажем, шедевр именитого живописца эпохи Возрождения. Терпение громко лопнуло, когда Васька привёз её из роддома второй раз в только что побелённую избу. Она потихоньку копила средства на первоначальное обзаведение в столице — крохи, конечно, но всё ж — а он их все ухнул на эту средневековую лачугу с не менее древней обстановкой и дощатым нужником на задах. Кроме того, желая супругу обрадовать хозяйской жилкой, прикупил двухмесячного поросёнка да дюжину гусят…
Жена была, конечно, глупой, но начитанной — такое случалось в описываемые времена. И она использовала в прощальной записке слова поэта Рубцова Николая: «„Ты птица иного полёта, куда мы с тобой полетим“, кретин»?
Вася тоже начитанным был, правда, об этом только он сам знал, ему Рубцов тоже близок был. Прочитав записку раза четыре, бедняга крепко задумался о превратностях жизни, он даже хотел, как полагается, уйти в длительный запой по случаю семейного кораблекрушения, и можно было надеяться, что общественность Спиринска с глубоким пониманием отнесётся к этому делу. Вася даже пошарил в комоде. Но всё до копейки выгребла его бывшая начитанная половина, недвижимость и детей великодушно оставив ему. Отсутствие денежных средств и остановило мужика. Одалживаться у соседей он не умел и никогда не проявлял наклонности этому учиться.
— Ишь ты, птица! — подумал Бураков вслух и неумело, поскольку лишь недавно стал это нужное для жизни в Спиринске дело всерьёз осваивать, сматерился.
А тут заплакала Любка. Анка через минуту — тоже. Вася ловко перепеленал одну, дал ей соску, а второй — погремушку, и побежал по воду. Поскольку обнаружил отсутствие запаса чистых пелёнок.
Через два месяца беглая мать малолетних детей прислала о себе короткую весть из денежных приполярных краёв. Она ни в чём не раскаивалась и тоски по детям, судя по всему, не испытывала. Она ругала Ваську за надругательство над светлой мечтой, но поэта, известного, помимо прочего, скверным поведением в быту, к своим личным делам больше не приплетала.
«Мне надо здесь хоть как-то обустроиться, поэтому добровольной матпомощи от меня не жди, — писала она, — если тебе невмоготу, отдай девчонок в интернат, я потом их сама заберу. А если хочешь, если ты не мужчина, можешь подавать на алименты».
Василий полагал себя мужчиной каким-никаким, но на алименты всё же подал. Из принципа — не из принципа, а чтобы неразумная бабёнка меньше мучилась, когда поумнеет. И соседи ему сердечно посочувствовали, однако стали с любопытством ждать, что будет, когда Васькина самоотверженность иссякнет.
— Хоть бы самостоятельная попалась да детей жалела, — искренне вздыхали они.
Но прошёл год, другой, а Вася — хоть бы что. Даже будто бы счастлив. С известными оговорками, конечно. Уже выходили года, уже дети становились большими, а он, похоже, ничего не собирался радикально менять в своей личной жизни. Зарабатывал свой средний по стране заработок, одевал девчонок во всё модное, что достать удавалось, а сам ходил зимой и летом в спецовке, которую выдавали в избытке на любом производстве, да ещё до ночи со скотиной и огородом управлялся, хотя побалакать с окрестными старушками тоже всегда минуту-другую находил.
Со временем Бураков даже перенял старушечьи манеры, всякими присловьями народными набил башку и щеголял ими, как первокурсник мединститута — латынью. Так что прозвище «Василиса» к нему неспроста накрепко прилипло с некоторых пор. Другой бы, может, обижался, а Вася — ничуть.
— Василиса была Премудрой и Прекрасной, — говаривал он с обезоруживающей улыбкой…
Ручеёк алиментов между тем то журчал неназойливо, то капал скупыми каплями. Впрочем, Вася и не мечтал никогда, что он вдруг зафонтанирует. Однако не на шутку встревожился, когда струйка вдруг разом иссякла. Не столько из-за денег встревожился, сколько из-за бывшей своей — уж не померла ли скоропостижно от дурного заболевания, к примеру? Оказалось — нет, слава Богу. Потому что позвонила и напрямик спросила истеричным несколько голосом: «Когда, ну когда ты, кровопивец, перестанешь отравлять мою несчастную жизнь?!» И сразу трубку бросила.
Конечно, Васька тут же исполнительный лист отозвал. «Ещё наделает с собой что-нибудь, горемычная!» — подумал он, не на шутку испугавшись. А надо заметить, что за все годы, как бы ни было затруднительно, Вася ни копейки из алиментов не потратил. Он сразу две сберкнижки завёл и потом, когда дочери одна за другой замуж выходили, а точнее, вступали в сожительство, торжественно вручал каждой, приговаривая: «Это не от меня, это от мамы, не сердись на неё…»
Но это потом. А пока дочки росли, они нередко здорово отца огорчали. Ему на них жаловались и соседи, и учителя, а он только кивал да обещал принять строгие меры. И ещё много раз добросердечные спирчане пытались Буракова женить, видя, что самостоятельно он ничего для устройства личной жизни скорей всего не сделает. Но он всякий раз наотрез отказывался: мол, неудобно, дети, мол, не поймут, может, после как-нибудь…
Изредка, потому что — через силу, в Спиринск наведывались московские дед да баба. Они уже давно примирились со сложившимся положением вещей и даже маленько как бы забыли, что Вася им — сын, а не просто один из провинциальных родственников. Погостят сколько-нибудь, прогуливаясь по экзотическому, по их меркам, Спиринску, а потом хозяин им гостинцы в сумки укладывает: банки с вареньем и грибами, копчёного гуся, окорок, то-другое…
— Папик, отпусти в Москву на живую Пугачёву поглядеть! — канючат Анка с Любкой.
А Вася бы и не прочь, чтобы любимые доченьки проветрились, столицу Родины посетили, но сами-то дед да баба — молчок. И ему ж понятно всё.
— Не-е, девчата, мы лучше на другой год все вместе — на теплоходе по Волге…
И так ему бывало тяжко, ведь в чём другом старался детям не отказывать никогда… Потом, став взрослей, дочки проситься в гости перестали, но и признавать за родню неласковых столичных стариков в некоторый момент прекратили — при встрече вдохновенно хамили и противно хохотали прокуренными голосами.
Конечно, никто не удивлялся, отчего у Василисы выросли такие невоспитанные дети. Элементарно же — вседозволенность, попустительство, беспринципность, слепая родительская любовь, отсутствие материнского влияния. Подобного добра задним числом всегда навалом. А Вася думал, что потом, много позже, когда его уже на свете не будет и дети станут пожилыми, они однажды всё поймут. Что — всё? Да — вообще…
Но прежде, чем стать умными, дочери, перебрав по несколько сожителей, устремились в туманную даль по маминой дорожке и словно в воду канули.
— В мать пошли, — рассудили спирчане.
— Жизнь настала такая… — ответил Бураков, как бы намекая на объективные обстоятельства и тем самым как бы привычно выгораживая своих нашкодивших…
Он только два раза успел получить пенсию, а уже пришлось предстать перед «Всевышней Аттестационной Комиссией» (ВАК). Где открытым голосованием решался извечный постбытийный вопрос: «В Ад или в Рай — соискателя?»
Василий стоял перед Комиссией голый, как допризывник, и тоже страшно робел.
— Праведник, праведник! — на редкость дружно закричали все, и каждый Васе кого-то знакомого неуловимо напоминал.
— Значит — в Рай! — и Председательствующий решительно воздел свой характерный красный карандаш, чтобы поставить в нужной графе судьбоносный крыжик.
— Правильно, правильно!
— Нельзя нам, атеисты мы, — встрял вдруг соискатель, как последний кретин, ей-богу же.
— Удивил! — хмыкнул на это вековечно Председательствующий. — Сейчас все атеисты, дак что, Рай закрывать? А между прочим, юноша, желающих — предостаточно!
— Так, выходит, большинство — где?
— Знамо дело, в Аду, где ж им быть?
— Ну, тогда и меня — туда! — сказал, как отрезал, Бураков, вдруг обнаглевший и полностью преодолевший извечную робость.
И тщетно его увещевали, сулили некие непостижимые для смертного перспективы, стращали. Упёрся, как… Будто твёрдо знал, чудило, что его мнение, никогда прежде никого не интересовавшее, тут непременно учтут.
Присни-ка ты мне…
Паша родился в ноябре месяце, а детство у него, как любили писать амбициозные, но бездарные газетчики, «отняла война». Само собой, Отечественная Великая. Из-за неё он, как и многие сверстники, тоже недокормленные вовремя, рост имел минимальный, зато жену — высокую и дородную, которая была криклива да своенравна, зато ловко колола дрова и ни о чём предосудительном не помышляла. Звали её Клавдией, и жилось Павлу с ней, как у Бога за пазухой.
Но однажды, когда оставалось до заслуженного отдыха всего-то месяцев семь, прямо во время производственного процесса пал на Пашину голову некоторый предмет. Ерундовая такая железяка. Могла бы убить — много ли такому трудящемуся надо — ан повезло, старая шапка-ушанка — её в народе ещё «зэковкой» зовут — смягчила удар и тем самым участь строителя коммунизма. Павел всего-то минуты две полежал без памяти на досках и встал, как ни в чём не бывало.
Хотя начальство, понятно, забегало. Небось, производственная травма. Контузия даже. Небось, в свете требований охраны труда — ого! Напихали Павлу полные карманы всяких таблеток, долго и нудно уговаривали не обращаться в лечебное учреждение, хотя мужик и сам не собирался никуда обращаться, домой, как министра, на самосвале привезли. Прямо к калитке. Да на прощанье — опять: ты де, Пал Иваныч, на работу не ходи, пока капитально не оклемаешься, ни о чём не беспокойся, мы тебе восьмёрки в табеле так просто будем ставить.
Кто-то, особенно непьющий и, стало быть, почти неуязвимый, мог бы, наверное, на принцип встать. Просто так, ради куража, а то и ради ещё каких-нибудь дополнительных преференций. Использовать ситуацию на всю катушку, как говорится. А Паша — нет. Правда, гордость некоторую — да, ощутил. Потеплело у сердца. Как же — небось, начальство выручать не каждый день приходится! И смог дома высидеть тунеядцем только два дня. Провернул по-быстрому кой-какие делишки по дому да и на производство с утречка отправился. Голова благополучно прошла — пора и честь знать.
И вскоре счастливый несчастный случай начисто забылся, опять мысли насчёт скорой пенсии стали большую часть времени занимать: сколько начислят да попросят ли ещё потрудиться или сразу прогонят с подобающими, давно отработанными церемониями. Но однажды, проснувшись утром, Паша заметил вдруг, что Клавдия тоже с открытыми глазами рядом лежит, при этом загадочно улыбаясь.
— Ты чо, Клав, лыбишься?
— Сон привиделся… Чудной такой…
— Будто с молодым мужиком кувыркаешься?
— Дурак старый! Тебя видела. Будто ты совсем плешивый, однако с большой белой бородой и в рубахе до полу. Ну, будто в моей ночнушке. Только тоже белой, каких у меня отродясь не бывало… И вроде говоришь: «Вот ты, Клава, спишь себе, спишь, а наши курицы у соседей несутся…» И я проснулась. А что, думаю, действительно ведь маловато яичек выходит. Щупать надо кур-то, а мы не щупаем, деликатничаем.
Тут Клавдия резко с кровати — прыг. И давай к соседке собираться. И как её муж ни отговаривал, мол, стыдно на людей наезжать с бухты-барахты — куда там!
— Да иди, иди, лезь — ищи! — не особо сопротивлялась соседка, у которой своих кур вообще не было.
И через несколько минут Клавдия уже домой вернулась, победно сияя всем широким лицом. А в переднике, верно, белело десятка полтора яичек. Негодных уже, запаренных. Это одна жаждущая стать матерью птица самовольно устроила у соседей гнездо. То-то она квохтала!
— Нашла! На повети! Вот так сон!
— Нашла и нашла — зачем зорить-то? Пусть бы — цыпушки… — заворчал для порядка Павел, а сам при этом подумал: «Ерунда! Совпадение. Бывает».
Потом два ли, три ли дня ещё миновало, вновь Клавдия увидела во сне мужа и опять в обмундировании то ли святого, то ли пациента умственной больницы. «Пойди в ларёк, — наказывал кажущийся Павел, — и скупи все, сколько ни есть, лотерейные билеты». И хотя Клава даже на сдачу никогда их не брала, — вот ведь надо ж болтать, будто народ наш поголовно до халявы патологически падок — отправилась утром к ларьку. И двигало женщиной исключительно здоровое любопытство, научный, можно сказать, интерес, потому что если бы билетов много было, она б ни за что не купила ни одного, а их было всего-то восемь, и она сравнительно легко решилась на эксперимент.
И незамедлительно покаялась мужу в растрате. Хотела смолчать, но не смогла. Не было у них в заводе такого, чтобы друг от дружки скрытничать. Само собой, рачительный хозяин хозяйку за такое дело не похвалил. А когда пришла таблица — оба ахнули. Мотороллер выпал! И так этот мотороллер пришёлся по душе да по росту Павлу Ивановичу, что он, как пацан-подросток, готов был вовсе с него не слезать. И не слезал бы, кабы не всякие докуки…
Потом на работе дело было. Павел вдруг заметил, что его в момент непосредственного труда внимательно разглядывает сам директор. «Вот оно! — мгновенно сообразил Пашка и вспотел сразу. — Решает! Сразу меня выгнать, как срок подойдёт, или дать малость скопить на будущее пенсионное нищенство?» Засуетился мужик, хотя, вообще-то, всегда, а не только на глазах у начальства, достаточно добросовестно пахал, даже несмотря на скопившуюся возрастную усталость. А директор резко развернулся и ушёл прочь.
Паша после этого переживал, конечно. Откуда ему было знать, что он накануне во сне аж до своего неприступного шефа добрался. И такого ему насоветовал в свете радикальной экономической реформы, что сравнительно совестливому советскому хозяйственнику стреляться впору…
Скоро о новоявленном феномене узнал весь посёлок. Люди, отвыкая стремительно от директивного некогда атеизма, с каждым днём всё более верили во всякую хрень, и уж, конечно, никто б не отказался от дармового мотороллера. Вот и лезли с дурацкими заказами. Мол, присни-ка ты мне, земеля, либо даже высни, если удобней тебе…
И всё трудней было Павлу отбиваться от мракобесов этих, всё острее ощущал он потребность хоть в каком-нибудь теоретическом обосновании происходящего. Ведь будь такое обоснование, он, может, даже позволил бы себе шире и осознанней применять свою способность на благо народа, а так — будто нечестно поступать по отношению к самой Истине…
К кому в посёлке обратиться? Да только к школьному учителю физики-информатики Пантелею Анатольевичу. Чтобы он, значит, провёл чистый эксперимент и обосновал, базируясь на самых последних достижениях.
— Противоречит элементарным принципам детерминизма! — с ходу сориентировался в поставленной задаче Пантелей Анатольевич, однако личный повод для чистого эксперимента у него имелся-таки. — Но если вы настаиваете… Тогда приснитесь мне в нынешнюю же ночь и скажите, кто вытащил у меня из нагрудного кармана двенадцать рублей, когда в день получки я задумчиво сидел на лавочке в сквере. Приснитесь и скажите без обиняков. Вот.
И Паше пришлось согласиться. «Назвался груздём…», как говорится. Хотя понятия так и не имел, какие психофизические процессы и как следует в себе возбудить, чтобы присниться тому, а не другому. Да ещё в обусловленное время. А уж о пророчествах и тем более. Но согласился, полагая, что всё получится само собой. Как и в прошлые разы.
Наутро Пантелей Анатольевич был заметно смущён. Он признался, что эксперимент в целом вышел успешный, но больше ничего не уточнил, лишь несколько позже известно стало, — от людей разве скроешь — что это учительская жена произвела досмотр крепко поддавшего с получки физика-информатика, о чём он и сам мог бы догадаться, ведь не впервой же. А вот насчёт теоретического обоснования всё равно руками развёл.
— Павел наш Иванович, — сказал самый авторитетный человек принародно, — действительно — феномен, самородок, средствами современной науки не объяснимый. Государственное, возможно, достояние. Но наука движется вперёд. Семимильными шагами. И будем верить, что необъяснимое сегодня станет объяснимым завтра. Не раз уже такое бывало.
У меня же только небольшая личная просьба к нашему достоянию: вы б снились, что ли, в каком-нибудь ином костюме. А то ж — метафизика. Да и не скромно, если на то пошло…
— Нет-нет! — сразу загалдели другие люди. — Пускай снится именно в этом костюме! Для народного, так сказать, благоговения…
И это понятно. Ведь большинство присутствовавших были в летах уже, когда пора думать о «вечном», то есть мечтать как-то искупить, приуменьшить былые прегрешения, даже, если получится, совсем дезавуировать их…
Скоро Павел сравнялся популярностью с первыми советскими секс-символами, а потом и обошёл эти символы по всем показателям. К нему потянулись секретари обкомов и прикормленные родной властью деятели культуры, учёные и снабженцы, старые девы и просто бомжи. Паша всех терпеливо выслушивал, всем обещал оказать содействие и, должно быть, оказывал, поскольку рекламаций не поступало.
Тощему, как щепка, долговязому и ужасно близорукому математику, всю жизнь угробившему на решение некой задачи, не сулящей ни в какой перспективе практической пользы, но захватывающе интересной, Паша приснился и сказал ласково:
— Эх, мил человек, разве не ясно, что функцию «I» надо интегрировать в пределах от нуля до «J»!
Математик тотчас проснулся, проинтегрировал свою функцию, как велели, и умер на радостях, ибо всё у него получилось, и на душе сделалось легко-легко.
Писателю-генералу одному Паша снился несколько лет кряду в удобное для того время и продиктовал одно большое эпическое полотно и несколько штук поменьше.
— Хватит, что ли? — спросил.
— За глаза! — был краткий по-генеральски ответ.
Дошло до того, что самородок наш научился сниться тысячам людей одновременно! Во всех концах света! И, может быть, однажды выработал некий ресурс. Или что. Потому что первый раз в жизни приснился сам себе в белом, известном лишь по чужим рассказам, балахоне.
— Ты кто?! — изумлённо уставился Паша на низкорослого лысого бородача в белой рубахе до пят. — Ты — Бог?
— Куда хватил! — хихикнул не старый ещё старец.
— Значит, не Бог? — Павел, пожалуй, некоторое разочарование ощутил. А почему — хоть убей, не сказал бы.
— Вот заладил! Обязательно вам всем ярлык подавай! Как подам тебе сейчас!
— Да ладно уже, не психуй… Чего снишься-то?
— Упредить хочу тебя. В общем, понимаешь, с мотороллером промашка у нас вышла. Потому что водила ты — аховый. Отдай-ка драндулет этот пацанам, а сам впредь — только пешком. Не то…
— Что?! — смертельно обиделся Павел, которому до пенсии оставалось всего-то несколько дней. — Это я — аховый? Да во мне, может, русский Шумахер пропал, я, может, только за руль сев, человеком себя почувствовал!…
— Пашка, стервец…
Но Павел не дослушал — проснулся резко. Волевым усилием выдрался из обидного сна.
Прямо ночью погнал куда глаза глядят. Развеяться на ветерке. И почти сразу — под КАМАЗ. Таким или подобным образом многие великие люди кончали. А сколько их погибло на всяких войнах, не успев никак проявить себя, а сколько — в абортариях, а скольких попросту не зачали родители в силу разных причин, хотя вполне могли.
Тоже — метафизика. И детерминизм. И причинно-следственные дела…
Ужас, да?
Однажды в декабре
Целыми днями по узеньким дорожкам Верхне-Фугуевского дома отдыха гуляли разнообразные должностные лица. В том смысле, что все мы с вами имеем в жизни определенную должность, а то и две-три. Даже больше. А в природе как раз буйствовал декабрь, дни стояли короткие, скучные, серые, то и дело валился снег из низких туч. И должность у подавляющего большинства обитателей этого приюта среди сосен была одна на всех. Предпоследняя. Должность пенсионера никакого значения.
Целыми днями благообразные старички и старушки в суконных платочках, в плюшевых жакетках, в валенках с блестящими калошами, каракулевых шапчонках пирожком, в облезлых пыжиках, в джинсах, в дубленках, в прочем, являющем удивительную смесь разнообразных мод и веяний прошлых десятилетий, неспешно фланировали между голубыми приземистыми корпусами дома отдыха. И эти одноэтажные корпуса-бараки, видевшие ещё недавно, летом, совсем другую публику, другую совсем, шебутную и рисковую, отчаянную и смеющуюся сквозь слёзы жизнь, эти корпуса, нахохлившиеся под огромными снежными шапками, даже и они всем своим видом нагоняли на стороннего наблюдателя, если бы таковой случился, беспросветную скуку да меланхолию, располагали к покорному ожиданию естественной и неизбежной смены сезонов.
Возможно, в связи с этим, а возможно, и с другим, исчез с места своей основной трудовой деятельности массовик-затейник Оглядов, человек слишком увлекающийся, слишком творческий, что ли. Он был дипломированным работником культуры и всегда мучился от сознания закопанности своего таланта. Но служить больше нигде не мог, вернее, нигде больше не могли долго терпеть его чрезмерной увлечённости. И он исчез. И, пожалуй, опрометчиво он это сделал, однако сделал, и мы не будем сожалеть об исчезновении Оглядова, ведь именно благодаря его исчезновению и произошла эта совершенно удивительная история, нигде официально не зафиксированная, а потому неповторимая в качестве положительного или отрицательного примера.
А в это время ещё и директор дома отдыха находился в очередном отпуске — когда же ему отдыхать, если не зимой. И был он, естественно, далеко от своего культурного учреждения, ведь не брать же, в самом деле, путёвку в собственный дом отдыха. И всеми делами в здравнице заправляла кастелянша Аглая Григорьевна.
Как ей удалось сделаться правой рукой самого руководителя, неведомо. Однако факт остаётся фактом: Аглая Григорьевна уже не первый год подменяла шефа, подменяла вполне успешно, самовозгораний не случалось, количество жалоб тоже оставалось в пределах нормы, материальные ценности сохранялись согласно нормативам.
А в общем, ничего особенного в этом кастелянском авторитете, пожалуй, и не было, авторитет ведь далеко не всегда адекватен занимаемой должности, тут многое определяется наличием громкого, веского голоса, природным умением как бы абстрагироваться от своей малой должности и с азартом совать нос во все дела, умением, говоря короче, «поставить себя» в коллективе. И Аглая Григорьевна умела. И никто уже из персонала дома отдыха, включая директора, не помнил, что Аглая Григорьевна всего лишь кастелянша и больше ничего. Вернее, помнить-то, может, и помнили, но как бы не придавали значения этому, несущественному для столь колоритной да энергичной личности факту.
И вот когда исчез массовик-затейник, Аглая Григорьевна была страшно удивлена не его исчезновением, этого-то как раз стоило ожидать, а была она удивлена тем, что, оказывается, массовик-затейник нужен зимнему контингенту даже, пожалуй, в большей степени, чем летнему. Потому что отдыхающие, начав с тихого ропота, стали уже на второй день возмущаться довольно громко, начали угрожать пожаловаться, требовать вернуть им деньги за путевки.
Между тем, над окрестностями целыми днями носились голоса самых современных эстрадных звезд, они были слышны на много километров вокруг — это осоловевший от безделья и скуки радист потчевал отдыхающих, а также прочих лесных обитателей личными записями, потчевал совершенно безвозмездно, можно сказать, на общественных началах, но публике этого казалось мало.
Будь директор на месте, Аглая Григорьевна вела бы себя с обнаглевшими пенсионерами круто. Она бы им объяснила некоторые свои убеждения. Но директор находился далеко, а ей очень не хотелось, чтобы за время его отсутствия имело место хотя бы самое маленькое чепе. В этом заключался один из её незыблемых принципов. И руководительница отправилась в город, где дала объявление в газету. И уже на другой день перед ней стоял искомый кадр.
Аглая Григорьевна с сомнением оглядела не очень из себя видного деятеля культуры. Это был невзрачный мужичок лет тридцати пяти в довольно поношенном костюмчике, без специального, естественно, диплома, вообще без какого бы то ни было диплома, но зато и без характерного творческого блеска в голубых ясных глазах, который без труда подмечает опытный взгляд, а отсутствие которого решает дело. Как, впрочем, и отсутствие других претендентов. Кадр назывался Олегом Чебаковым.
— И какие же затеи ожидают наших уважаемых отдыхающих? — с иронией спросила Аглая Григорьевна, самим тоном подчеркивая свою неограниченную власть здесь. Хотя, вообще-то, ей импонировали всяческие самоучки, поскольку она и сама числила себя по разряду щедро одарённых природой людей.
— Я поэт, — сказал без особой уверенности соискатель, — могу создавать сценарии для любых общественно-политических мероприятий.
Нетрудно было догадаться, что приготовленную фразу он собирался произнести гордо, а вышло, как вышло. И Аглая Григорьевна оформила поэта массовиком-затейником временно, рассудив, что под её неусыпным наблюдением ничего страшного произойти не сможет. И она, не откладывая, представила нового сотрудника отдыхающим да персоналу.
— Вечером прошу всех желающих собраться в нашем клубе, — оправившись от пережитого волнения, уже маленько важно сказал Олег.
И больше — никаких подробностей. Чем уже сумел заинтриговать определённую часть истосковавшихся по массовости людей. Тем более по затеям. Хотя, как обычно, нашлись среди собравшихся и более дотошные, которые пытались для чего-то выяснить у нового затейника, где он раньше работал и какими конкретно затеями прославился. Спасибо, выручила непререкаемая Аглая Григорьевна.
— Вечером, вечером, — сказала она, — придете и все узнаете!
И доверчивые да любопытные пенсионеры вечером заполнили клуб до отказа. Они даже на фильмы так дружно не являлись, видно, здорово настрадались бедняги без культурного досуга. Аглая же Григорьевна сидела, само собой, в первом ряду и была начеку.
Чебаков вышел на сцену и сразу вспотел от волнения. Однако он твёрдым шагом прошел на середину к микрофону, кашлянул и без предисловия заявил:
— Будем ставить трагикомедию по моей пьесе. Ролей хватит на всех, а кому всё-таки не достанется, я напишу специально.
Что тут было-о!… Да всё было, что должно быть. Шум, гам, оживление в зале, реплики с мест. Вопросы, не требовавшие ответов.
— Тихо! — вдруг неожиданно гаркнул поэт и сверкнул своими безвинными, вроде, глазами. — Тихо! Слушать меня!
И такая уверенность, такая непоколебимая властность послышалась в этом голосе, что люди мгновенно замерли. Даже сама Аглая Григорьевна, уже приподнявшаяся в своем кресле, опустилась обратно и закрыла рот.
— Ваша жизнь на излёте, — сказал Чебаков, пронзительно глядя в зал и поддергивая штаны. — Ваша жизнь скоро перестанет быть бесконечной, а сколько всего не сбылось у каждого за долгие годы! Вы мечтали, у кого была способность мечтать, мечтали окрылённо и возвышенно, пока хватало на это сил, а теперь уже никаких сил больше нет. Вы чего-то желали долгие годы, но не получили и уже не получите, никогда. Прислушайтесь к этому слову — «никогда», прислушайтесь!… В нём безысходность.
А я дам вам всё, о чём вы мечтали напрасно, к чему стремились безнадёжно. Потому что у меня всё это есть. Вам нужна молодость — сколько угодно! Нужны силы — пожалуйста! Вы будете играть мою трагикомедию и забудете, что это всего лишь игра, а не сама жизнь, потому что жизни у вас уже было довольно много, а игры не было давно, может, не было никогда. Ибо я не считаю игрой ловкую жизнь, игра — понятие высокое! Но не в этом дело, даже не в этом.
За оставшийся до конца заезда срок вы проживёте целый век, полный удач, побед и откровений, которых, вероятней всего, вы недополучили. Или вам кажется, что недополучили. Многим, если не всем, это кажется…
Итак, попрошу записываться на роли, — переведя дыхание, закончил массовик-затейник будничным голосом.
— А кому вы предполагаете дать в вашем спектакле заглавную роль? — спросил кто-то из зала робко.
— Вам! — мгновенно отозвался Чебаков, но, увидев замешательство «труппы», торопливо заверил: — И всем, кто пожелает участвовать. Статистов у нас не будет, все роли будут одинаково главными, это, конечно, может показаться немыслимым, но вы скоро сами во всём убедитесь. Я создавал свое произведение очень долго именно потому, что с самого начала поставил себе, как говорили мои многие знакомые, совершенно недостижимую цель. Но цель, представьте себе, достигнута. Ну, смелее!
— А если у меня нету таланту? — спросила какая-то старушка из заднего ряда.
— Есть, — ответил Чебаков, не раздумывая, — обязательно есть, и я его уже, кажется, вижу, вы представляетесь мне прирожденной светской дамой.
И люди стали по одному подходить к столику в углу сцены. И каждому массовик-затейник после непродолжительного раздумья вручал текст наиболее подходящей главной роли.
— Я хотел бы сыграть роль министра, — страшно стесняясь, сказал некий седой, но ещё осанистый господин. — Дело в том, что до пенсии я был директором, и это дело мне представляется наиболее знакомым.
— А вы были счастливы?
— Нет, не очень, хотя если бы — министром…
— Тогда попробуйте сыграть клоуна, у вас должно непременно получиться, клоун — вполне почтенная профессия, уверяю вас!
Поразительно, но бывший директор, совсем чуть-чуть поколебавшись, согласился. Поразительно и странно ещё потому, что старые люди практически не поддаются переубеждению, они чаще всего предельно серьезно относятся к самим себе, безмерно преувеличивая достижения да заслуги. И может быть, первый признак преклонного возраста — потеря способности иронически относиться к собственной персоне. Но, с другой стороны, гранитная твердолобость у них же нередко фантастическим образом сочетается с почти детской доверчивостью, поэтому, очевидно, глядя друг на дружку, все эти новопризванные артисты поразительно легко доверились самозванному режиссёру.
— Я бы изобразил адвоката, — попросил бывший прокурор, — если, конечно, у вас такая роль предусмотрена…
— У меня предусмотрена для вас любая роль, а та, которую вы просите, будет вам в самый раз.
— Я хотела бы попробоваться на кинозвезду, можно? — набралась смелости старушка в сером парике и с блеклыми редкими бровями. — Я когда-то занималась в самодеятельности, и некоторые находили у меня несомненный талант.
— И я нахожу, только давайте сделаем из вас лучше ткачиху-орденоносицу, вы даже и не представляете, как великолепно будете выглядеть в этом качестве!
— Ну, давайте, вам, конечно, виднее…
— А я в детстве мечтала стать регулировщицей движения планет… — конфузливо прошептала другая пенсионерка.
— Разве такие бывают?
— Нет, но, понимаете, я мечтала…
— Раз мечтали, то будете, мечты — святое дело, а текст я вам подготовлю к завтрашнему дню.
Люди получали роли или обещание создать роль в ближайшее время и уходили. И вскоре осталась одна Аглая Григорьевна.
— Олежек, золотце, — сказала она, непривычно заробев, — а почему бы и мне не принять посильное участие в вашем эксперименте? Может, у вас и для меня найдется какая-нибудь роль, маленькая такая, знаете, чисто наблюдательная…
— Конечно, о чем речь, Аглая Григорьевна! А что бы вы сами хотели?
— Ну, я даже и не знаю, как сказать, ну, я бы хотела, чтобы меня любили все мужчины, это не очень глупо?..
— В общем, не очень, Аглая Григорьевна, но неужели вам не надоели эти ваши однообразные романы с отдыхающими, которые ведь были, во множестве были?..
Никогда никому другому Аглая Григорьевна не простила бы таких слов, а тут даже ничуть не оскорбилась, приняла как должное, как вполне естественное, словно был этот невесть откуда взявшийся самозванец, поэт непризнанный, по меньшей мере, проповедником, её личным духовником, которые, как известно, давно устарели и не пользуются никакой популярностью; а то и самим господом Богом, перед ликом Которого ничего не скроешь, а только и остаётся, что смиренно признавать грехи да каяться.
— В общем, я думаю, — продолжил Олег твёрдо, — что вам в глубине души всегда хотелось быть добропорядочной супругой, любящей матерью, хранительницей очага. Подумайте, ведь хотелось? А у меня как раз и осталась одна такая роль, у вас бы здорово получилось. И как раз она, как вы изволили выразиться, несколько наблюдательная, несуетливая. Так как, берете?
И железная Аглая Григорьевна только истово закивала.
Разумеется, постепенно нашлись роли и для остальных работников дома отдыха, включая даже радиста, прежде упорно державшегося особняком…
А наутро, когда обитатели заведения проснулись, на улице, вопреки всем календарям, стояло настоящее лето. И благоухала свежей росой трава под окнами, и пели птицы, и новой краской сияли старые, еще вчера унылые корпуса. Только пруд не успел полностью оттаять за ночь, но обширная полынья плескалась возле пирса, и вода в ней была уже вполне теплой, пригодной для купания при любом состоянии здоровья.
Люди проснулись с каким-то давно позабытым весельем в сердце и высыпали на улицу с пляжными полотенцами через плечо. Сперва опасливо, а потом и совсем бесшабашно стали бросаться в воду, в которой, как выяснилось, невозможно утонуть и которая по вкусу точь-в-точь напоминала воду Черного моря, самого, как известно, синего в мире.
Оказалось, что это уже было началом спектакля. И только те, кому Олег ещё не успел написать роли, ходили, как потерянные. Пришлось экстренно снабжать бедолаг хоть какими-то словами, после чего и они мгновенно переменились.
Люди выходили из воды молодыми и даже загоревшими уже. Они знакомились по новой и сразу поголовно влюблялись друг в дружку, напрочь забывая о том, кем были они ещё вчера.
Аглая Григорьевна привела на утреннее купание сразу пятерых, взявшихся неведомо откуда ребятишек. (Неужели бутафорских?) Ребятишки выглядели абсолютно подлинными, мамочка — полный отпад. Мужчины просто глаз не могли оторвать от неё, но смотрели, как на не принадлежащее никому персонально произведение искусства — общенародное достояние…
И в целом же все чувствовали себя тем, кем хотели чувствовать всю жизнь, а если не хотели, так теперь увидели, как прекрасно то, о чем они даже не умели мечтать. Ну, а раз чувствовали, значит, и были…
Как быстро пролетели дни заезда, в которые никто не думал о будущем, потому что настоящее было, если можно так выразиться, невыносимо прекрасным!
О будущем, однако, думал Чебаков. И он видел, что люди слишком отвлеклись от реальности, что его пьеса получилась гениальной, но как её безболезненно завершить, он не знал. То ли опыта не хватало, то ли чего другого. А, в общем, ему больше нечего было делать в Верхне-Фугуевском, только требовалось как-то собрать декорации, смыть грим.
«Завтра снова замёрзнет пруд, выпадет снег, кончится навсегда молодость — как переживут это бедные мои старички? — думал Чебаков. — Что станется с Аглаей?»
Но он уже не мог больше ничем помочь этим людям, его энергия была на исходе. Сон в тот вечер долго не приходил, а потом навалился сразу. Глухо шумели всю ночь сосны.
А утром Чебаков первым делом выглянул в окно и увидел необъятную голубую даль. Он протёр глаза, быстренько натянул брюки и в тапочках на босу ногу выбежал на крыльцо. Снег, вопреки ожиданию, даже не подумал появиться. Более того, со всех сторон, на сколько хватало глаз, плескался океан. И только превратившийся в суверенный остров дом отдыха, с прилегающим лесным массивом, болтался единственной сушей среди кошмарных пучин…
С тех пор прошло много лет. Верхне-Фугуевский дом отдыха сочли без вести пропавшим, сильно поудивлялись на этот счет, погоревали, кому полагалось, повздыхали, кто притворно, а кто и натурально, придумали сносное объяснение феномену, да и всё. Что ещё сделаешь?
А на острове длится и длится бесконечный солнечный день. Спектакль идёт сам по себе, весёлые, жизнерадостные, любящие и любимые люди окружают Чебакова. Последний день их заезда, похоже, никогда теперь не кончится, и они всем довольны, их только слегка раздражает затесавшийся невесть как в их молодую компанию угрюмый, вечно чем-то недовольный, единственный в доме старикашка. Раздражает, но не очень. В основном они его не замечают, была нужда!
А этот старикашка не кто иной, как сам Олег Чебаков. И он чувствует себя единственной реальностью в этом придуманном им мире, потому что только на него и распространяются здесь неумолимые законы вечного времени.
А остров всё блуждает и блуждает где-то между Чёрным и Беринговым морями, а может, и между двумя разными Вселенными. Вероятно, следовало бы на всякий случай хоть координаты определить, но Чебаков этому делу не учён, да и солнце здесь никогда не заходит.




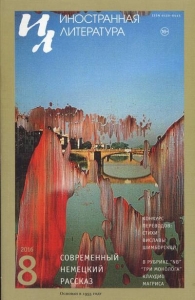
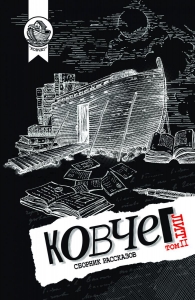







Комментарии к книге «Дело прошлое», Александр Николаевич Чуманов
Всего 0 комментариев