Софи Оксанен Когда исчезли голуби
Пролог
1948 Западная Эстония Эстонская ССР, Советский Союз
Мы подошли к могиле Розали, опустили полевые цветы на окутанный лунным светом травяной холм, постояли в тишине, разделенные цветами. Я не хотел, чтобы Юдит уходила, не хотел отпускать ее, и поэтому мне пришлось сказать то, что в данной ситуации говорить совсем не стоило:
— Мы никогда больше не увидимся.
Мои слова прозвучали сухо и резко, и я увидел блеск наполнивших ее глаза слез, тот самый блеск, что так часто обескураживал меня и превращал мой разум в кораблик из березовой коры, легко уносимый ветром. Вот и сейчас он раскачивался на волнах, поднимающихся в ее глазах. Может, я хотел справиться с собственной болью и поэтому произнес это так безлико, решил быть черствым, чтобы она по дороге проклинала меня и мою бесчувственность, а может, надеялся увидеть последнее доказательство того, что она не хочет уезжать — я никогда не знал, что она на самом деле чувствует, хоть мы столько пережили вместе.
— Ты жалеешь, что взял меня с собой после всего, что случилось? — спросила Юдит.
Я испугался ее прозорливости, обескуражено вытер шею. Она успела постричь меня еще вечером, волосы попали за шиворот и щекотали кожу.
— Ничего, я понимаю, — сказала она.
Я не стал возражать, хотя мог бы. Не считал, что без нее в лесу было бы легче. Лишняя обуза, как говорили мужики. Но я не мог не забрать ее в лес, узнав, что она бежала из Талина, когда русские подошли совсем близко, и укрылась в доме АРМов. Там было небезопасно, в лесу надежнее. Она была словно раненая птичка на ладони, слабая и чуть живая. Неделями жила в состоянии постоянного напряжения. Лишь после того, как наш фельдшер погиб в сражении, мужики разрешили госпоже Вайк прийти помочь нам, нам и Юдит. Мне в очередной раз удалось ее спасти, но как только она вступит на синеющую перед нами дорогу, я больше не смогу ее защищать. И тут мужики, конечно, правы: место женщин и детей — дома, Юдит должна вернуться в город. Кольцо вокруг нас сжималось, в лесу становилось опасно. Я следил краем глаза за выражением ее лица: она смотрела на дорогу, по которой ей предстояло идти, рот был приоткрыт, она всеми силами втягивала в себя воздух, а выдыхала холод и дрожь, которые, казалось, вот-вот заставят меня поменять решение.
— Так будет лучше. Лучше для всех нас. Ты вернешься к той жизни, от которой ушла, — сказал я.
— Это теперь не та жизнь. Она уже никогда не будет прежней.Часть первая
Тогда охранник Марк подтащил их поодиночке к краю рва и расстрелял из пистолета.
12 000. Материалы судебного процесса над фашистскими убийцами Юханом Юристе, Карлом Линнасом и Эрвином Виксом, проходившего в Тарту 16–20 января 1962 года. Составители Карл Леммик и Эрвин Мартинсон. Перевод с эстонского. Таллин, Эстонское государственное издательство, 19621941 Северная Эстония Эстонская ССР, Советский Союз
Шум нарастал, но я знал, что ждет меня за деревьями. Я посмотрел на свои руки, они не дрожали. Через мгновение я уже буду бежать в сторону приближающейся автоколонны и забуду про Эдгара и его нервы. Краем глаза я видел, как он трясущимися руками теребит галифе, а его лицо приобретает не подходящий для сражения цвет. Совсем недавно все мы проходили обучение в Финляндии, и я заботился об Эдгаре как о малом ребенке, но на фронте все было иначе. У нас было задание. Здесь. Скоро. Сейчас. Я побежал. Ручные гранаты больно били по бедрам, я подхватил одну из них, и мои пальцы отправили ее вращаться в воздухе. Рубашка финской армии, полученная нами на острове, все еще ощущалась как новая, и это придавало сил. Скоро все мужчины моей страны будут носить только эстонскую форму, и никакую другую, ни завоевателей, ни союзников, только свою. Это наша цель, мы хотим получить назад свою родину.
Я слышал, как другие бегут за мной следом, как земля прогибается под нашими ногами, и рванул еще быстрее в сторону нарастающего гула моторов. Я чувствовал запах вражеского пота, во рту нарастал вкус ярости и железа, в моих сапогах бежал кто-то другой, тот же бездушный воин, который в недавнем бою спрыгнул в ров и бросал гранаты в бойцов истребительного батальона, чека, пружина, бросок, это был кто-то другой, чека, пружина, бросок, и этот кто-то бежал навстречу реву моторов. Все наши автоматы смотрели в сторону автоколонны. Их оказалось больше, чем мы думали, бесконечно много, русских и бойцов-истребителей с эстонской выправкой, и у них бесконечно много машин и оружия. Но мы не испугались, испугались враги, в нашем лице бежала ненависть, и бежала она с такой силой, что противники на мгновение остановились, колеса их грузовика прокручивались впустую, наша ненависть сковала наших врагов, и тогда мы открыли огонь; я бросился вместе со всеми к грузовику, и мы перебили их всех.
Мышцы рук дрожали от вылетающих пуль, запястья гудели от тяжести бросаемых гранат, но постепенно я осознал, что все кончено. И только когда мои ноги привыкли к стоянию на месте, а гильзы больше не падали дождем на землю, я вдруг понял, что окончание боя не несет в себе тишины. Оно приносит гул — шорох червей, жадно поднимающихся из-под земли к мертвым телам, поспешный шепот приспешников смерти, стремящихся к свежей крови. Оно приносит вонь — тяжелый дух, исходящий от испражнений и смердящей желудочно-кислотной блевоты. Яркий свет ударил в глаза, пороховой дым рассеивался, и казалось, что на краю облака появилась яркая золотая повозка, готовая забрать всех павших с собой, наших, бойцов-истребителей, русских, эстонцев — всех в один кузов. Я прищурился. В ушах гудело. Я видел, как мужики тяжело вздыхают, вытирают пот со лба, качаются на месте, словно деревья. Я старался взглянуть на небо, на сверкающую повозку, но стоять, опираясь на покореженный грузовик, мне не позволили. Самые проворные уже действовали, словно купцы на рынке: надо было собрать оружие у убитых, только оружие, пояса и ленты с патронами. Мы обшаривали мертвые тела, подергивающиеся конечности. Я снял патронташ с вражеского пояса, как вдруг в мою лодыжку кто-то вцепился. Хватка была на удивление крепкой и потянула меня к хрипящему у самой земли рту. Колени подвели меня, и, не успев прицелиться, я рухнул рядом с умирающим, в таком же беспомощном состоянии, как и он сам, уверенный, что мой час пробил. Однако взгляд парня не был направлен на меня, с трудом выговариваемые слова были обращены к кому-то другому, к кому-то близкому, я не понял его слов, он говорил по-русски, но голос его был таким, каким мужчины разговаривают только со своими невестами. Я бы понял это, даже если бы не увидел фотографии в его грязных пальцах и белого подола на фотографии, который теперь был окрашен кровью любимого, палец закрывал лицо девушки. Резким движением я выдернул ногу из его руки, и жизнь погасла в его глазах, где за мгновение до этого я увидел себя. Я заставил себя встать, надо было идти дальше.
Как только оружие было собрано, вдали снова послышался шум моторов, и сержант Аллик дал приказ к отступлению. Мы предполагали, что истребительный батальон подождет подкрепления, прежде чем пойти в новое наступление или искать лагерь, но так он это дело не оставит. Наши пулеметчики уже добрались до края леса, когда я увидел знакомую фигуру, скачущую на теле убитого, — Март. Его ноги успели проломить череп, мозги смешались с грязью, а Март все бил, бил и бил, словно хотел пробить прикладом дырку до самой земли. Я подбежал к нему и с силой влепил ему затрещину, что заставило его выпустить автомат из рук. Март стал отбиваться, ничего не видя вокруг, не узнавая меня, рычал на невидимого противника и беспорядочно рубил руками воздух. Мне удалось связать его ремнем, который я вытащил из собственных штанов, и привезти к перевязочному пункту, где все срочно собирали инструменты. Я прошептал, что хорошо бы приглядеть за этим парнем, и постучал по виску. Фельдшер взглянул на бушующего Марта, на появившуюся в уголках рта пену и кивнул.
Сержант Аллик поторапливал нас, выхватил у кого-то из рук фляжку с алкоголем и закричал, что эстонцы не сражаются во хмелю, в отличие от русских Иванов. Я стал искать Эдгара, я подозревал, что он струсил и убежал, но кузен сидел на камне, закрыв рукой рот, и лоб его был мокрым от пота. Я взял его за плечо, и, когда убрал руку, он стал яростно тереть грязным носовым платком то место, которого коснулась моя запачканная кровью ладонь.
— Я на это не способен. Не обижайся.
Неожиданное отвращение поднялось во мне, я вспомнил, как мать прятала кофе и тайком варила его Эдгару, не мне. Я встряхнул головой. Надо было собраться, забыть кофе, забыть Марта и то, как я вдруг почувствовал себя тем мужиком, которого увидел в его помешавшемся взоре, тем мужиком, что в моих сапогах бежал в бой. Надо забыть неприятеля, вцепившегося в мою ногу, в глазах которого я узнал себя, забыть то, что я не увидел себя во взгляде сержанта Аллика. Ни во взгляде фельдшера. Никого из тех, кто, как я и предполагал, дойдет до конца. Это было уже третье сражение после моего возвращения из Финляндии, я все еще был жив, на моих руках была вражеская кровь. Откуда вдруг взялись эти сомнения? Почему я не узнал себя в тех, кто, я был уверен, доживут до мирного времени?
— Собираешься ли ты искать наших или останешься здесь и будешь сражаться? — спросил Эдгар.
Я отвернулся к деревьям. У нас было задание: ослабить захватившую Эстонию Красную армию, передавать сведения о продвижении армии союзникам в Финляндию. Я хорошо помнил, как мы с удовольствием переодевались в новую финскую военную форму и по вечерам распевали в строю Saa vabaks Eesti meri, saa vabaks Eesti pind [1] . После возвращения в Эстонию мое подразделение успело перерезать лишь несколько телефонных линий, после чего радиосвязь прекратилась, и мы решили, что будет полезнее, если мы объединимся с другими бойцами. Сержант Аллик показал себя очень решительным, лесные братья продвигались вперед с неимоверной скоростью.
— Беженцам необходимо прикрытие, — прошептал Эдгар. Он был прав. Двигающуюся под сенью леса группу сопровождало много хороших мужчин, но двигались они все же медленно, так как единственный возможный путь пролегал через болото. Мы сражались как безумные, чтобы дать им чуть больше времени, чтобы задержать неприятеля, но было ли этого достаточно? Эдгар почувствовал, как скачут мои мысли. Он добавил: — Кто знает, как там дома. От Розали нет вестей?
Я покачал головой прежде, чем успел даже подумать об этом, и отправился доложить, что мы уходим прикрывать беженцев, хотя я был уверен, что Эдгар придумал все это, чтобы избежать нового наступления и тем самым спасти собственную шкуру. Но кузен знал и мое слабое место. У нас у всех остались дома невесты и жены, но только я искал в моей женщине причину не ходить в бой. Я заверил себя, что мой выбор очень честный, даже разумный.
Капитан счел наш уход хорошим решением. Несмотря на это, пока мы шли, я все время чувствовал себя потерянным. Возможно, оттого, что слух все еще не вернулся в левое ухо или, может, последние слова неприятеля своей невесте все еще эхом отдавались в моей голове. Казалось, что все случившееся было неправдой, но запах смерти так и не сошел с моих рук, хотя я долго мыл их в попавшемся по пути ручье. Линии на ладони — жизни, сердца и ума — были все такими же, темно-коричневыми, засохшая кровь проникла глубоко в плоть, и я по-прежнему шел рука об руку с мертвецами. Время от времени я вспоминал, как ноги мои бежали в сражении, как руки, не колеблясь ни минуты, нажимали на курок, выпуская автоматную очередь, а когда закончились патроны, схватились за пистолет, а после этого бросали подобранные с земли камни и наконец разбили голову красноармейца о крыло грузовика. Но все это был не я, а тот, другой.
Мой компас пропал во время сражения, и двигались мы по незнакомому лесу. Несмотря на это, я упрямо шел вперед, словно бы знал, куда идти, и немного взбодрился, только когда вновь услышал пение птиц. Через некоторое время Эдгар наверняка заметит, что иду я не так уж и уверенно, но вряд ли он будет жаловаться, для нас было безопаснее держаться в стороне от беженцев, за которыми охотился истребительный батальон. Произносить это вслух необходимости не было. Несколько раз Эдгар говорил, что лучше бы нам спокойно дождаться прихода немцев, все остальное бесполезно и рисковать на этом этапе уже не стоит. Я не слушал его, а шел вперед: я бы отправился в дом Армов, чтобы защитить Розали и ее семью, я бы проверил еще, как там дела у Симсонов, и если бы бои продолжались, я бы нашел надежного лесного брата и вступил бы в его отряд. Эдгар шел за мной следом, так же, как тогда по Финскому заливу, направляясь на обучение. Пузырящаяся в трещинах вода заставила побледнеть щеки кузена, ему очень хотелось вернуться назад. Когда лыжи обледеневали, я счищал налипший снег и за него тоже. А потом мы снова шли гуськом, я впереди, Эдгар за мной, так же, как сейчас. На сей раз мне хотелось держаться от него подальше, хотелось, чтобы пыхтение брата смешалось с шелестом деревьев. Пальцы мои дрожали, когда я доставал пакет с табаком, и я не хотел, чтобы Эдгар это увидел. Выражение лица того парня, что схватил меня за ногу, снова и снова возвращалось ко мне, и я ускорил шаг, рюкзак тянул меня к земле, но я упрямо шел вперед, я хотел, чтобы лицо этого парня осталось позади, парня, который умер, я был уверен, от моей пули, парня, невеста которого никогда не узнает, где остался ее жених, и чья последняя мысль была: я тебя люблю. Были и другие причины к тому, почему я так охотно ушел, оставив других готовиться к следующему наступлению. Немецкие союзники вызывали во мне опасения уже давно.Они отправили нас в тыл Красной армии, снабдив несколькими гранатами, пистолетами и нерабочим радиоустройством. Всё. У нас не было даже нормальной карты Эстонии. Они отправили нас на убой, это точно. И несмотря на это, я продолжал выполнять приказы и запретил себе сомневаться. Как будто нас ничему не научили прошлые столетия, когда балтийские бароны драли с нас живьем шкуру.
До поездки на остров Стаффан я собирался примкнуть к отрядам Зеленого капитана, готовить диверсии. Но планы мои изменились, когда меня позвали принять участие в обучении, которое проводила Финляндия, море к тому времени замерзло и предоставило нам легкий путь через залив. Я решил, что это знак судьбы; в рядах лесных братьев царили такая бесшабашность и легкомыслие, с которыми ни войну не выиграть, ни оккупантов не прогнать, ни родных из Сибири не вернуть, ни дома не отвоевать. Я считал деятельность Зеленого капитана слишком рискованной — он носил в нагрудном кармане блокнот, куда заносил сведения обо всех своих бойцах и подробно записывал планы вылазок и подземных ходов. Мои сомнения подтвердились после разговора с дочерью Марта. Она рассказала, что истребительный батальон нашел продуктовые книги ее матери, куда она старательно записывала, кто и когда обедал у них, поскольку Зеленый капитан пообещал, что впоследствии все затраты будут ей возмещены. Теперь же дом Марта являл собой дымящиеся развалины, сам он лишился разума, а его дочь бредет где-то впереди нас вместе с другими беженцами. Часть лесных братьев, сведения о которых нашли в продуктовых книгах, были уже расстреляны.
Я понимал, что эти года все хотели вспоминать с чистой совестью, потом, когда Эстония снова станет свободной, а для доказательства законности и справедливости поступков потребуются свидетельства. Однако хорошее поведение было чем-то недоступным для нас, большевистские меры показали, что наша страна и наши дома находятся во власти людей необразованных. И все же вслух капитана никто не осуждал. Как человек начитанный, герой Освободительной войны, он знал о сражениях гораздо больше, чем я, и в его учении было много мудрости. Он инструктировал молодежь, учил стрелять, работать на аппарате Морзе и заботился о том, чтобы самое необходимое для леса умение — бег — отрабатывался по многу раз на дню. Если бы не привычка Зеленого капитана старательно заносить все в свой блокнот, я, скорее всего, остался бы в его отряде в Эстонии. Точнее, если бы у его людей не было фотокамеры. Я провел с ними некоторое время, и однажды утром все заговорили о групповой фотографии. Один незнакомый мне боец уклонился от этого, и я последовал его примеру, сказал, да чего там, все равно я к группе вашей не отношусь. Парни позировали перед землянкой, опираясь друг другу на плечи, с ручными гранатами на поясе, кто-то, кривляясь, засунул голову в граммофон. Перед ними поставили рюкзак, полный денег коммунистов из сейфа мэрии, тех денег, которые еще накануне Зеленый капитан раздавал служащим мэрии пачками, понимая, что его все равно обвинят в краже со взломом. “Берите, не стесняйтесь, — говорил он, — это рубли, конфискованные у Советского Союза, они должны вернуться к гражданам”.
Капитан стал легендой при жизни, мне таким никогда не стать, да и не хотел я быть героем. Можно ли считать это слабостью? Чем я лучше, чем Эдгар?
Розали гордилась бы фотографиями, сделанными как на учебном острове, так и в отряде Зеленого капитана. И все же я не хотел повторять ошибок капитана и поэтому сопротивляющимися пальцами разорвал на мелкие кусочки даже фотокарточку Розали. Ее взгляд всегда утешал меня в минуты отчаяния, и я знал, что в тот момент, когда жизнь потечет из моих жил в землю, Розали понадобится мне, она нужна была мне уже сейчас, когда мы пробирались сквозь камни и мох, оставив позади наших боевых братьев, мне нужен был ее взгляд. Плетущийся позади меня Эдгар никогда не носил при себе каких-либо воспоминаний о своей жене. Когда он появился в лесной избушке, где я ждал отправки в Финляндию, то сразу дал понять, что о его возвращении в родные края никто не должен знать. Забота армейского дезертира о своих близких была вполне оправданной, о слабых нервах матери было известно многим. И все же я не мог представить себе, что поступил бы так же, не сообщив ничего Розали. Я слышал тяжелое дыхание Эдгара у себя за спиной и не мог понять, почему он хочет, чтобы его жена верила в то, что он все еще служит в Красной армии. Я хотел поскорее увидеть Розали, Эдгар же ни словом не обмолвился о том, чтобы встретиться с женой. Я даже стал подозревать, не собирается ли он подло бросить ее, может, нашел себе новую подружку, где-нибудь в Хельсинки. Эдгар часто отлучался по собственным делам, засиживался в ресторане “Клаус Курки”. Но, вопреки моим подозрениям, его взгляд никогда не был затуманен женщиной, да и водкой он не очень-то увлекался, не то что мы все, и доказательством тому было его вечно свежее дыхание по возвращении. Эдгар носил ту же бесплатно выданную нам спортивную одежду, хотя и кривил рот по поводу ткани и фасона. Но в таком костюме уж точно не пойдешь на прогулку с дамой, да и развлечь ее на предоставляемые нам в день двадцать марок тоже вряд ли получится, не говоря уж о публичных домах. Денег едва хватало на табак, носки и самое необходимое.
На Эдгара смотрели с недоверием, считали его не таким, как все, я даже боялся, что его отправят с острова восвояси без всякого задания. Именно поэтому я действительно много помогал ему, особенно после того, как он прикладом рассек себе глаз и боязнь стрельбы переросла в панику. В то же время я удивлялся, как же он справлялся в Красной армии и откуда у него появился столь плотный жирок на животе, ведь вряд ли армию снабжали одним лишь маслом и белым хлебом. Правда, на острове умасленный сливками живот быстро пропал, в Финляндии все было по карточкам.
Эдгару многое прощалось, так как он был прирожденный оратор. Когда из генералитета Финляндии стали присылать лекторов, он наконец-то смог продемонстрировать свое глубокое знание Красной армии, отточенное владение русским языком и даже попытался научить других прыгать с парашютом, хотя сам ни разу так и не прыгнул. Вечера он проводил, корпя над поддельными документами, необходимыми для возвращения в Эстонию, мне он рассказывал о формировании идеальной группы, основа которой будет заложена на острове. Я слушал его вполуха, в отличие от других я давно привык к тому, что мой кузен вечно что-то выдумывает. Другие же слушали его с предельным вниманием — свободного времени у нас было предостаточно, обычно оно тратилось на подробное обсуждение каждой встреченной лотты [2] , словно это была сама прародительница Ева. Я проводил время, думая о Розали и весеннем севе. Мы узнали о депортациях в июне. Об отце я не слышал ничего с того дня, как его задержали в прошлом году. Мать тогда плакала и говорила, что отцу стоило бы спеть “Интернационал”, да снять шапку, пока поют, да попридержать язык на собрании, да не противиться национализации, но я знал, что отец все равно бы не смог. В результате Симсоны потеряли дом, сын ушел в лес, а отец оказался в тюрьме. Он стал показательным примером — предупреждением для остальных. При этом людей успокаивали, что землю отбирать не будут, но кто же поверит большевикам.
Эдгара положение Симсонов не сильно тревожило, хотя именно наша семья заплатила за его обучение, за все те школы, о которых Эдгар теперь с упоением рассказывал всем остальным, о студенческой жизни в Тарту и всякое такое, а студентов в наших рядах было гораздо больше, чем фермеров. О том, каким узким был круг виденной ими жизни, можно было судить, наблюдая, как Эдгар и другие студенты посмеивались над всем, что считали примитивным. В их устах слово “необразованный” было ругательством, и свое отношение к человеку они строили исходя из того, проучился он три класса или больше. Иногда их речи звучали так, как будто они до одури начитались английских шпионских романов и теперь уверены, что прошедшие обучение на острове Стаффан в считаные дни разберутся с Красной армией. Эдгар проповедовал эту мысль активнее всех. Я решил для себя, что это связано с жаждой приключений, трусов в нашей команде не было, и это вызывало доверие, я перестал думать о том, что выйдет из всей этой затеи. Основные этапы были одинаковы для всех, все выучились на радистов, все отрабатывали азбуку Морзе, и хотя заряжал Эдгар долго и неумело, но отстукивал он своими шелковыми пальцами очень ловко, до ста знаков в минуту, тогда как мои руки были гораздо больше приспособлены для плуга. В самых важных вопросах и в надеждах на англичан мы, к счастью, были согласны.
У меня созрел план: вместо фотокарточки Розали я еще со времен острова держал в нагрудном кармане листки бумаги с дырочками для подшивки, чтобы потом собрать их в папку, — носить все записи с собой было слишком опасно. Я также купил блокнот с клеенчатой обложкой, чтобы вести дневник. Я намеревался собирать факты бесчинств и преступлений, творимых большевиками. А когда придет мирное время, передать эти записи искусным летописцам, тем, кто будет писать историю этой освободительной войны. Сознание важности и необходимости этой задачи поддерживало во мне боевой дух, когда мне начинало казаться, что я не принимаю участия в осуществлении больших планов только по трусости или что выбрал этот путь, лишь бы избежать боев. И все же у меня было дело, которым гордился бы мой отец. Я не собирался записывать ничего такого, что могло бы кому-то повредить, выдать наших связных. Я не планировал записывать их имена или упоминать названия местности. Я с удовольствием приобрел бы фотокамеру, но не для того, чтобы фотографировать лесных братьев. Глаза шпионов сверкают повсюду. В них блестит золото, у нас же в глазах блестела наша земля.1941 Таллин Эстонская ССР, Советский Союз
Зерновые склады горели, и в небе вырастали столбы дыма. Автобусы, грузовики и легковые автомобили заполнили дороги, все спешили, колеса торопились не меньше людей. Взрыв! Огонь противовоздушной обороны. Осколки словно ливень. Юдит сидела, открыв рот, в углу на кухне своей матери, которая сбежала в деревню к сестре Лийе, оставив Юдит ждать бомбу в одиночестве, бомбу, которая всему положит конец. Дороги, ведущие из Талина в Нарву, забиты повозками эвакуирующихся, говорят, даже образован специальный комиссариат — по эвакуации скота, по эвакуации зерна и чечевицы, по эвакуации чего угодно — большевики хотели всё увезти с собой, всё до последнего, даже половинки картошки, лишь бы ничего не оставить ни немцам, ни эстонцам. Солдатам было приказано опустошить поля. Всё в сторону Нарвы, всё в сторону портов. Взрыв.
Юдит прижала ладони к ушам, так сильно, как только смогла. Она уже свыклась с тем, что город будет разрушен прежде, чем сюда придут немцы, но надеялась, что ее час пробьет в более будничной атмосфере, что последние, услышанные ею звуки будут звон чайной ложечки о блюдце, легкое перекатывание шпилек в шкатулке, приглушенный стук кувшина с молоком, поставленного на стол. Птицы! Их песни! Но люфтваффе и зенитные пушки поглотили всех птиц, она никогда больше не услышит их пения. Ни рычания собак. Ни мяуканья кошек, ни карканья ворон, ни странных стуков сверху, ни детских голосов снизу, ни топота ног посыльного мальчика, ни скрипа тележки, ни грохота жестяного ведра, когда соседка ударяется головой о притолоку прямо под окном Юдит. Носить ведро на голове не так уж глупо, Юдит тоже примеряла ведро, правда, дома и тайно от всех, позировала перед зеркалом и думала, почему модистки до сих пор не придумали шляп, которые можно было бы носить поверх небольшого ушата или ведра. Успех был бы обеспечен. Все женщины, словно дети, неисправимые чудачки, для защиты их голов нужны именно такие причудливые штуки, как ведра-шляпы. Но теперь звуки жестяного ведра уже остались в прошлом, там, где еще были будни. Будни, не отмеченные утратами и не окрашенные в красный цвет большевиками, обычные будни, со всеми их будничными звуками. Еще весной брат помог Юдит переехать к матери, на улицу Валге-Лаэва [3] , так, на всякий случай, но, несмотря на это, дни следовали один за другим, хотя брата с женой забрали в июне, и с тех пор Юдит ничего не слышала ни о Йохане, ни о золовке, а в доме Йохана поселились чужие важные люди из комиссариата. Муж Юдит был мобилизован в Красную армию и того раньше. Жившую этажом ниже, под матерью, Элису осудили за контрреволюционную деятельность — ее обвинили в том, что она знала, что Карин, снимавшая у нее квартиру, собиралась бежать из страны. Юдит тоже допросили по делу Карин. Но даже после этого дни по-прежнему сменяли друг друга и превращались в будни, что само по себе все равно было лучше, чем эти вот дни зачистки. Розали жила в деревне у тети Леониды и продолжала доить коров, несмотря на то что семья ее жениха подверглась террору: у Симсонов отобрали дом, отца Роланда арестовали, а его матери пришлось переехать к Розали. За это Юдит была очень Розали благодарна. Она сама не вынесла бы жизни со свекровью даже в такое бедственное время, у нее не было такого терпения, как у Розали. Если бы муж Юдит узнал о том, что произошло, он получил бы еще один повод к обвинениям, его мамуля не заслуживает такого равнодушия со стороны его жены. Может, и нет, но Розали ухаживала за свекровью гораздо лучше, чем Юдит, и наверняка вскоре наполнит дом маленькими детишками, к большой радости свекрови. Но Юдит этого уже не увидит.
Она стала думать, какие образы и какие звуки она хотела бы поднять из глубин прошлого, чтобы вновь прочувствовать их напоследок, перед тем как все закончится. Может быть, день из детства, Розали и доносящиеся из кухни звуки, мгновение, которое прозвучало бы так же, как все обычные утра мирного времени, когда день обещал быть таким же, как вчера, день, когда стоящий под окнами мамы фанерный стул Лютера со скрипом ехал по полу, и этот скрип раздражал Юдит, день, когда в голове у Юдит не было никаких важных мыслей и даже такие ничтожные вещи выводили ее из себя. Хотя, возможно, она хотела бы вспомнить перед смертью то время, когда она была еще незамужней девушкой, когда не было на свете ничего более возбуждающего, чем завернутое в шелковую бумагу платье в коробке, платье для будущего сватовства… О муже она не хотела бы думать ни в коем случае. Она закусила губу — муж не выходил у нее из головы, как она ни старалась. Если бы озаривший вдруг комнату взрыв пришелся на ее дом, мысль о муже стала бы ее последней мыслью. Новый взрыв заставил мышцы вздрогнуть, но сами бомбы ее уже не пугали, она даже не прятала голову в колени.
Мысль о том, что она будет погребена вместе с городом, возникла у нее за день до отъезда матери и так прочно засела там, как будто ни о чем другом она никогда и не мечтала. Таллин она любила, а свою свекровь нет, свекровь же жила теперь в доме Армов. Именно туда пыталась заманить ее мать, вся семья была теперь под крылом тети Леониды, и в такие дни надо держаться за своих близких.
— Слава богу, твой отец не видит всего этого. Что ж, поделим лишние рты, пусть одна моя сестра возьмет к себе меня, а другая тебя. Ненадолго. И, Юдит, прошу тебя, постарайся не ссориться со свекровью.
Юдит изобразила согласие, лишь бы только отправить мать в дорогу. Она не собиралась ехать к тете Леониде. Юдит, в отличие от матери, не очень-то верила в победу и в душе была благодарна, что воспаление легких забрало ее отца, когда в мире все еще было хорошо, отец не вынес бы прихода большевиков и исчезновения Йохана. Человеческие ресурсы Советского Союза были неисчерпаемы, с чего вдруг ситуация изменилась бы именно сейчас? Почему не раньше, до июньских репрессий, до того, как был задержан ее брат? Грохот боев катится вперед тяжелыми грязными колесами танков, он убьет их всех, это ясно. Юдит закрыла глаза, в комнате было светло: рассекавшие воздух полосы света напоминали салют в прибрежном ресторане “Пирита” в честь Иванова дня, к тому времени она уже целый год была замужней женщиной. Тогда Юдит еще не затыкала уши, у нее были другие заботы — все ее желания и мысли сводились к мужу или, точнее, к тому, каким она его себе представляла. И в тот вечер в “Пирите” она желала его, желала страстно. Она представила себя той летней ночью, явственно видела перед глазами пылающие смоляные бочки, лес, вздыхающий, словно проснувшийся после зимней спячки еж. Она пробовала языком вкус слегка прогорклой помады, чуть-чуть размазавшейся, но это не беда, это было лишь знаком того, что рот ее целовали, и музыканты играли что есть мочи, и в песне говорилось о быстротечной, как сон, молодости, об оленях, что беспечно пьют воду у ручья, и ночь была полна перешептываний о цветке папоротника, которые сопровождались неоднозначными улыбками и ужимками, и незамужние подруги Юдит хихикали и призывно потряхивали распущенными волосами, у них все было еще впереди, и предсказания волшебной ночи все еще могли обернуться правдой. Юдит чувствовала, как замужество лущит кожу ее щек, лишает мышцы упругости, а дыхание легкости. Так как в этом не было ничего такого, к чему стоило бы стремиться, она изображала перед подругами умудренную опытом женщину, немного лучше, немного умнее, и держала мужа за руку со спокойной уверенностью замужней дамы, одновременно стараясь задушить в себе росток горькой зависти, зависти к подругам, к тем, кто еще никого не выбрал и кого не выбрали на виду у всех, перед алтарем. Но потом муж Юдит подхватил ее танцевать и стал повторять слова песни о том, что его женушка маленькая, как карманные часики, и необъятная нежность его голоса унесла их далеко от всех остальных, оркестр уже играл другую мелодию, беспечные олени позабылись, а Юдит вспомнила, почему она вышла за него. Этой ночью. Этой ночью обязательно получится.
Юдит распахнула глаза, она опять думала о муже. Над Финским заливом, казалось, всходило солнце. Но это был не отблеск восхода, а зарево спасающегося в море Красного Талина, сирены визжали, словно растревоженные птицы. Звуки отступления. Юдит сделала несколько осторожных шагов по комнате и прислонилась к стене. Ей не верилось, что большевики могут уйти. Опустившись на пол в углу спальни, она поняла, что самолеты люфтваффе бомбят теперь лишь убегающие корабли, а вовсе не Таллин, однако факт этот не принес облегчения. Слишком уж хорошо помнили дрожащие ноги, что значит звук приближающегося самолета — надо бежать в кусты, в укрытие, куда-нибудь, как тогда в деревне, где она помогала Розали и тете варить самогон и в небе неожиданно появился неприятель: тетя отпихнула кастрюлю в сторону, все они бросились к деревьям и, тяжело дыша, смотрели на низко летящий самолет, чье пузо, к счастью, было пустым.
Юдит прислонилась спиной к стене, ногами прочно уперлась в пол. Она была готова встретить удар. Несмотря на то что воздух был тяжелым от гари, знакомые запахи не исчезли бесследно, стены все еще пахли домом пожилого человека, чем-то далеким и надежным. Юдит уткнулась носом в обои. Их рисунок был такой же старый, как и в доме у Йохана, в тех комнатах, где Юдит жила вместе с мужем, ожидая, когда будет достроен их собственный дом. Его так и не успели построить, она никогда не обставит его мебелью. И никогда не увидит на стенах новые обои с кувшинками, которые она выбрала в лавке у госпожи Мартинсон, без конца меняя решение и споря из-за каждого цветка по очереди с мужем, братом и золовкой, которая хотя бы понимала, насколько важен для нее этот выбор. Тогда Юдит вышла из магазина с чувством облегчения, радуясь, что отныне ей не придется больше просматривать образцы обоев, сравнивать их между собой у себя дома, а потом еще раз у госпожи Мартинсон и опять дома. Она даже взяла напрокат машину, чтобы поскорее сообщить радостную новость мужу, который тоже вздохнул с облегчением, после чего это событие было отпраздновано вместе с золовкой в ресторане “Нымме”, где крем от пирожных попал ей в нос, который тогда был еще гладким и горячим, так как она каждый вечер очищала лицо сахаром. Подумать только, сахаром! Пили ли они коктейли, танцевали ли в тот вечер?
И действительно ли муж потом присоединился к ним? И думала ли Юдит опять, что этим вечером, этим вечером обязательно все получится? Думала ли она в тот день так, как думала и желала раз за разом?Конец, которого ждала Юдит, так и не наступил. Утром город пошатывался, горел и дымился, но он не исчез, и она все еще была жива. А вот Красной армии не было. Доносящиеся с улицы радостные возгласы заставили ее подползти к заклеенному бумагой окну и открыть его, не обращая внимания на осколки. Войска вермахта заполнили дорогу, касок и велосипедов было так много, что сосчитать их не представлялось возможным, коробки противогазов раскачивались из стороны в сторону, солдаты тонули в море цветов. Юдит высунула руку на улицу, в воздухе кружились улыбки, словно пузырьки в лимонаде, руки махали освободителям, гоняя ветер, наполненный девичьими запахами, и ладони были словно листья на летних деревьях, дрожали и трепыхались, среди них другие руки рвали листовки компартии, картинки с портретами руководителей, чьи рты уродливо разъезжались, головы крошились, шеи расползались, чьи-то пятки вдавливали их глаза в землю, яростно сыпали песок в их бумажные рты, обрывки разлетались по улице, словно конфетти; разбросанные повсюду осколки стекла скрипели под ногами, как свежевыпавший снег. Ветер с шумом захлопнул окно, Юдит вздрогнула.
Этого не должно было произойти. А как же конец, которого она так ждала? Юдит была разочарована, решения проблем не последовало. Она дышала пробивающимся с улицы воздухом свободного Талина. Несмело, чуть-чуть. Так, будто неосторожное дыхание может спугнуть мир или будто ее накажут за то, что она не верила в победу немцев и отступление Советского Союза. Выбежать на улицу она не осмеливалась, и дело было не только в заплетающихся от волнения ногах, но и в несоответствующих мыслях, которые выскакивали наружу, словно соседская девочка, выбежавшая во двор с криком: “Папа едет домой!” Ее крик напомнил Юдит о том, в каком она положении, и ей, как старухе, пришлось опереться на стул, поднимаясь с пола.
Очень скоро разворованные Красной армией магазины вновь наполнятся товарами и откроют двери для покупателей, девушки-продавщицы за прилавками будут заворачивать покупки в бумагу, очистные сооружения починят, мосты поднимутся над реками, все, что было разгромлено, уничтожено и убито, вернется на свои места, словно в прокручиваемом в обратную сторону фильме. Город все еще был обнаженным и искалеченным, на дорогах валялись трупы лошадей и красных солдат, над которыми кружили жуки и мухи, но скоро и их не станет. Порты отремонтируют. Железнодорожные пути исправят. Выбоины от снарядов на дорогах зальют асфальтом. Из руин поднимется мирная жизнь, строительный раствор закроет зияющие в стенах дыры, разрушенные дороги больше не заставят путешественников менять маршрут, свечи можно будет убрать со стола в коробки, в квартирах загорятся электрические лампочки, сосланные вернутся, Йохан придет домой, и никого больше забирать не будут, никто больше не исчезнет, не будет никакого ночного стука в дверь, и Германия выиграет войну, что может быть лучше? Вновь наступят будни. И хотя именно этого Юдит только что желала, мысль в мгновение ока стала вдруг невыносимой и вызвала панику. Те будни, что ожидали ее в ближайшем будущем, не были буднями, о которых она мечтала. За окном лежал город, свободный от большевиков, — сапоги первых репатриантов уже пылили по его улицам, вскоре он наполнится эстонскими, немецкими и латвийскими военными формами, а также кружащими вокруг них девушками, дамами, невестами, вдовами, матерями, дочерьми, сестрами, бесчисленным количеством галдящих, всхлипывающих и пританцовывающих женщин.
Юдит не хотела встречать жен, которые будут говорить о своих возвращающихся домой мужьях или о своих женихах, отцах и братьях, пришедших из лесов или сбежавших из отрядов Красной армии, сражающихся в Эстонии или на Финском заливе. Ей нечего было им рассказать, она не отправила мужу ни одного письма. Хотя она пыталась, доставала бумагу и чернила, садилась за стол, но рука отказывалась выводить слова. Первая буква его имени казалась слишком тяжелой, первое предложение было невозможно придумать, она не могла написать письмо тоскующей жены, а только такие и можно отправлять на фронт. Все ночи, когда они пытались безрезультатно, и все те ночи, когда они даже не пытались, стояли у нее в памяти, она не забыла ни одного мгновения, когда подбирала блузки с как можно более открытым декольте, но так и не смогла обратить внимание мужа на свою грудь. Она помнила ту неловкость, что ощущала после этого, помнила, как все ее мечты, все надежды, все чаяния оказались напрасными, помнила, как только что обвенчанный муж оттолкнул предложенную ему грудь, отодвинул на другую половину кровати, как отодвигают на другой край стола испорченное блюдо.
В самом начале большевистской власти он, как и все, ушел прятаться от мобилизации на чердаках, и Юдит вздохнула с облегчением. Она заполучила целиком всю кровать, но, конечно, не забывала морщить лоб, изображая жену, беспокоящуюся о своем муже. Когда его схватили во время выхода за продуктами и запихали в черную эмку, Юдит удалось наполнить свои серые глаза слезами, потому что так следовало делать. Она уже тогда надеялась, что это будет последняя дорога мужа, слишком для многих поездка на эмке стала роковой, и тут же испугалась своей мысли, безумной радости от той возможности, которую могла бы подарить война. В их роду не было разведенных женщин, поэтому вдовство было единственным способом хоть когда-нибудь вернуть себе свободу. Упрямая свекровь добилась-таки из комиссариата известия, что сын отправлен на передовую, и снова Юдит, согласно установленным правилам, взялась за носовой платок. Она никому не могла рассказать, как нравится ей кровать, в которой нет мужа. Любовник бы ей не помешал, но где его взять? Неподходящей казалась даже сама мысль об этом. Она несколько раз перечитывала “Госпожу Бовари” и “Анну Каренину”, и хотя ситуации в семьях главных героинь были иные, она чувствовала, как они близки ей, она ведь тоже страдала.
Незадолго до свадьбы мать только и говорила, что о будущей семейной жизни, сыпала советами, заранее предлагала возможные решения — но тех сложностей, с которыми столкнулась Юдит, не было в этом списке. Сомнения закрались еще во время помолвки, и она даже пыталась рассказать матери о том, что, вопреки ее предположениям, жених никоим образом не пытался иметь с ней никакого физического контакта. Что у подруг были совсем иные рассказы о нетерпеливых юношах, которые с трудом могли дождаться венчания, а Розали то и дело намекала на горячий характер темнобрового Роланда. Мать Юдит только посмеялась над печалью дочери, сочла это знаком уважения, сказала, что ее отец был таким же джентльменом. Все образуется, как только они станут жить вместе.
И Юдит согласилась, что глупо считать странностью то, что говорит лишь о большой любви, и она торопила свадьбу, номер для новобрачных был забронирован в прибрежной гостинице в Хаапсалу. Обмен обручальными кольцами не изменил ситуации. Первая брачная ночь стала настоящим испытанием. Муж вошел в нее, но потом что-то случилось. Он встал, ушел за ширму, и Юдит слышала, как он налил воды в таз и старательно мылся. После чего улегся на другой стороне кровати, как можно дальше от своей жены. Юдит притворилась, что спит. Следующей ночью все повторилось. А еще через день он заснул на диване и утром вел себя как ни в чем не бывало. Днем они гуляли по “африканскому” пляжу, а вечером танцевали в курзале, как самые обычные молодожены в свадебном путешествии. Вернувшись в Таллин, муж приступил к работе ассистентом в нотариальной конторе Йохана, а Юдит сконцентрировалась на их новом доме и мучительно обдумывала, что же ей делать.
В публичных местах он вел себя как примерный супруг, подавал руку, целовал — в хорошем настроении даже в губы, — но его поведение менялось, как только они оставались вдвоем. Если он не чувствовал к ней никакого влечения, зачем позвал ее замуж? Неужели все с самого начала было обманом? Розали познакомила Юдит с семьей Симсонов, как только обручилась с Роландом, и сначала Юдит не обратила никакого внимания на его тихого кузена Эдгара, но потом Розали рассказала, что парень не так прост, как может показаться, что он собирается стать пилотом. Юдит только что прочитала “Красного барона”, и ее вопросы и неподдельный интерес вызвали у него огромное уважение, вдвоем они провели немало жарких часов, обсуждая судьбу Манфреда вон Рихтгхофена. В том, как парень вдруг преобразился, было нечто удивительное, близкое к страсти, и Юдит уже нисколько не сомневалась ни в своем избраннике, ни в том, какое место она займет среди зрителей, когда ее будущий муж будет совершать показательный полет с переворотами Иммельмана. Розали одобрила выбор Юдит, та, в свою очередь, одобрила выбор Розали, и обе решили, что им очень повезло. В своих письмах жених обещал свозить ее на самолете в Париж и Лондон, они оба хотели повидать мир, путешествовать. Мысль о воздухе под ногами пугала Юдит, но лица ее подруг стоили того, чтобы с упоением рассказывать им о том, какая жизнь ждет впереди жену летчика, о том, как она, замужняя дама, увидит все крупные города мира, как будет покупать перчатки в Париже, где продавщицы напудрят их изнутри специальными пудреницами, если она вдруг вздумает их примерить. Однажды ее мужа, возможно, покажут в новостях, и публика замрет на своих местах, сдерживая дыхание, а у некоторых девушек перестанет на мгновение биться сердце. Иногда Юдит удивлялась, почему человек с таким невероятным будущим выбрал именно ее, и, когда они объявили о помолвке, он поцеловал ее в лоб и ее вдруг обдало жаром. Поцелуй разгорячил ее так, что она не решалась даже думать об остальном. А потом оказалось, что никакого остального нет и не будет.
В конце концов Юдит решила разузнать у своих замужних подруг об их интимной жизни. У Розали она не осмеливалась ничего спрашивать — та как раз собирала приданое, а в доме Симсонов готовились к приезду молодой хозяйки. Несмотря на искрящиеся отношения Роланда и Розали, они не спешили под венец, а решили сделать все достойно, но после свадьбы Юдит была не в силах принимать участие в планировании праздника Розали. Раньше кузины вместе обсуждали свадебные прически и букет невесты, мечтали о том, как станут замужними дамами, письма, касающиеся этих тем, летали между Таллином и домом Армов, и Юдит писала Розали, что скоро они обе поедут с мужьями в Хаапсалу, будут принимать грязевые ванны в санатории и попытаются сделать так, чтобы их мужья подружилась, — нельзя сказать, чтобы они ненавидели друг друга, но было бы приятнее, если бы они были друзьями, такими же близкими, как Юдит и Розали.
Сначала Розали казалось, что бесплатные швейные курсы Зингера лучше всего подходят для домохозяйки, но потом согласилась, что можно пригласить на пару дней работников позаботиться о доме, а самим отправиться в путешествие, чтобы провести время вдвоем — в деревне всегда такая спешка, совершенно не хватает времени друг на друга. Наконец Розали сочла, что задумка кузины не так уж плоха, но Юдит отказалась от нее сразу после свадьбы. Она была уверена, что Розали видит ее насквозь, что она заметит фальшь ее брака, которую Юдит не сможет ей объяснить. Разве может она сказать Розали, что брак сделал ее ни на что не пригодной? Розали не поймет. Розали не поверит. Никто не поверит.
Юдит не находила себе места и взялась за подаренный на свадьбу “Справочник хозяйки домашнего очага”. В разделе “Семейная жизнь” упоминалось о сексуальных отношениях между супругами. Там же говорилось о холодности и пояснялось, что фригидность зачастую имеет психологические причины: боязнь боли, неприязнь к партнеру, болезненные воспоминания. Юдит поняла, что речь идет не о мужчинах, а о женщинах. Причина была в именно в ней. Многие из ее замужних подруг рассказывали, что мужья все время хотят еще и еще, одна жаловалась на неприятные ощущения, другая на то, что муж не оставляет ее в покое даже во время месячных, что, безусловно, ужасно негигиенично и наверняка даже опасно, третья предполагала, что муж подхватил во время отпуска венерическое заболевание. То, что случилось с Юдит, было нетипично, и в конце концов она поняла: гонорея, сифилис и мягкий шанкр. Конечно! Она нашла причину! Муж не говорит об этом, потому что стесняется! Его надо отвести к врачу, но как? Юдит не могла сказать ему, что подозревает у него заболевание.
Она выпустила книгу из рук. Фотография ножки грудного ребенка с наследственным сифилисом вызвала в памяти образ женщины из детства, увидев которую мать замедлила шаг и увела Юдит на другую улицу, решив, что лучше они сходят в магазин позже, — женщина страдала болезнью плохих женщин, которой можно заразиться, например, пользуясь с больным общей посудой. Мать была права, об этом говорилось и в “Справочнике хозяйки домашнего очага”, но тогда и у Юдит должны быть симптомы? Юдит все еще помнила лицо той женщины. Оно было чистое, без каких-либо признаков кокаиновой зависимости, хотя семейный врач во время воскресного визита говорил о распространении заболевания: “Среди врачей бытует мнение о снижении кокаинового безумия в нашей стране, но количество психопатов и невротиков не уменьшилось, а именно они являются основными носителями болезни. А теперь только представьте, как много таких людей…”
В “Справочнике” не говорилось о том, влияет ли болезнь на мужскую потенцию. Юдит не продвинулась в своих размышлениях ни на шаг. Сифилис — самое тяжелое и самое страшное венерическое заболевание. Не могло ей так не повезти. Она наверняка ошибается. Глаза мужа не были красными, да и во рту не было никаких нарывов или язв, и на ногах тоже никаких ран. И все же, как ей узнать, болен ли ее супруг, целовал ли он плохих женщин или, может, даже не только целовал, и если это так, то что тогда? Как ей узнать, ходил ли ее муж к врачу?
Юдит стала наблюдать за собой, каждый день осматривала язык и руки, пугалась каждого комариного укуса, небольшого воспаления, прыща на подбородке, мозоли на пятке, думала, а вдруг она что-то пропустила, может быть, у нее начался бессимптомный период, упомянутый в “Справочнике”. Ей уже стали намекать, что пора бы завести детей, возникло даже некоторое недоумение, так как предсвадебную спешку Юдит многие расценили как знак скорого прибавления в семействе, особенно свекровь шептала об этом настойчиво и требовательно. Наконец Юдит решилась: она должна узнать правду. Врач вел себя очень приветливо, но в остальном визит к нему был мучительным и болезненным. В заключении было сказано, что в организме Юдит нет никаких отклонений или заболеваний.
— Мадам, — сказал врач, — вы просто созданы, чтобы быть матерью.1941 Западная Эстония Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
Целую неделю мы шли по дорогам, изуродованным сражениями, обходили кишащие насекомыми и вздутые газами трупы людей и лошадей, старались держаться подальше от взорванных мостов и распознавать шум приближающихся бомбардировщиков ДБ. Наконец лес стал казаться знакомым и более здоровым, возможно, благодаря тому, что тоска по дому немного утихла, вскоре мы вышли на знакомую с давних лет тропинку, ведущую к жилищу нашей девушки-связной. Я оставил Эдгара мерзнуть на краю леса, а сам осторожно приблизился к калитке, однако пес узнал нас издалека и выбежал навстречу. Я понял по его поведению, что опасности нет, поэтому расслабился, подошел вместе с ним к окну и постучал условным знаком. Девушка тут же открыла дверь, широко улыбнулась и сразу рассказала главные новости: большевики продолжают отступление, Восточный фронт крошится, финны и немцы гонят врага по Ладоге, русские обливают леса бензином и поджигают, но финско-немецкие отряды не остановить лесными пожарами! Братья Андруссоны вышли к порогу и встали за девушкой, а я позвал Эдгара, крикнув ему, что все в порядке.
Шум и суета в мгновение наполнили избу, все смеялись и говорили, перебивая друг друга. Мне же все это казалось каким-то далеким, я смотрел на них словно со стороны. Позже вечером пришли еще более обнадеживающие новости, и хотя я постепенно уже начинал верить услышанному, радость все же не била в барабаны в моей груди. Я всматривался в линии на руке и долго их скреб, когда мы с Андруссонами пошли в баню. Время от времени руки казались мне чистыми, но потом на них снова появлялись следы крови. Кузен совершенно преобразился, выпрямился и заговорил так, словно бы кто-то снял пробку с бочки: он описывал времена, когда учился еще в школе летчиков, размышлял, не пойти ли ему туда снова после войны, и уверял младшего из Андруссонов, Карла, что и здесь тоже можно быть пилотом и ничего, что лодыжка сломана, все знают, как умеет накладывать шину госпожа Вайк, все еще впереди! Братья потеплели от мыслей о будущем, а Эдгар стал с энтузиазмом рассказывать, как строили ангар гидросамолетов. Я не сказал, что у него еще молоко на губах не обсохло, решил, пусть рассказывает. Умолчал также о том, что, когда ангар строили, Эдгара еще и на свете не было.
— Дело в том, что эта пограничная зона была уже тогда для России важной стратегической точкой, — размахивал руками Эдгар, и я подумал: ну что такого в том, что человек мечтает.
Я дотронулся до нагрудного кармана — мои записи, скоро и для них придет время. Записывать я уже начал, но пока не очень удачно. Каждое слово казалось неправильным, обидным для братьев по оружию жалким нытьем по сравнению с теми действиями, свидетелем которых я был. События избегали слов. Сапоги пахли болотом, линии рук горели огнем, след от моей ручки не мог быть чистым.
Девушка-связная сообщила последние новости, как только смогла вставить слово в речь Эдгара. В Вильянди рожь убирали те, кто владел участками до земельной реформы большевиков, и теперь они должны продавать ее по тридцать копеек новым жителям, которым большевики все отдали и которые теперь могли помогать настоящим хозяевам работать на земле за определенную плату, но они ни в коем случае не должны касаться лесов или поваленных деревьев, кроме как закончить очищать их от веток. Должность директора совхоза отменена, руководство переданной в государственную собственность текстильной фабрики “Касе” бежало вместе с Красной армией, у руля встал бывший владелец Ханс Кыйва, все, кому нужны трактора с машино-тракторной станции, должны подать заявление, о заброшенных земельных участках просят сообщать отдельно, на месте сожженных коммунистами домов можно начинать строить новые и получить на то помощь. Почта вновь заработала. В общем, новости хорошие. Я схватил газету с подробными предписаниями и сделал пламя лампы поярче. Гости привезли девушке несколько номеров “Сакалы”, где я наткнулся на распоряжения относительно уборки ржи. Я перевел взгляд на соседнюю колонку. Тяжело было думать о том, в каком состоянии наш дом и наши поля и кто уберет урожай. Я стал изучать директивы новых господ: всем жителям приказано зарегистрироваться, владельцам квартир не разрешено сдавать жилье тем, кто не зарегистрирован; всем евреям, беженцам и коммунистам следует незамедлительно явиться в местные органы администрации; остальные жители и владельцы домов должны продекларировать свою собственность; выходцам из Советского Союза надлежит зарегистрироваться в местной комендатуре в течение трех дней; все евреи должны носить звезду Давида. Контроль за исполнением этих распоряжений возлагался на полицейских и их помощников. Прослушивание советских и антигерманских радиостанций воспрещалось.
Все это означало, что мы свободны от большевиков. Я отложил “Сакалу” в сторону и взялся за “Ярва Театая”. Объявление в траурной рамке на первой странице заставило меня поднять руку к виску, хотя моя фуражка лежала на столе. “В память обо всех павших в боях за освобождение Эстонии с глубокой скорбью…” Свобода обрела в газете черную рамку, казалось, она истекает кровью. Я слушал, как вокруг меня разговаривают другие, и вдруг понял, что они живут в уже освобожденной стране. Словно мы никогда и не участвовали ни в каком сражении. Словно мирное время уже настало. Эдгар мгновенно вступил в новую эпоху. Неужели это все и правда закончилось? Не надо скрываться и жить в лесных избушках? Смею ли я надеяться, что дом наш скоро вернут, и я смогу забрать свою ясноглазую девочку, и мы наконец обвенчаемся? А в следующем году засеем луг для коров горошком и соберем тимофеевку в амбары? Неужели я выйду босиком в поля Симсонов и пройдусь по ним с бороной и земля будет набиваться между пальцами, а мерин упрямо сопротивляться? Он не любит эту работу, так как трава при этом слишком далеко от него, зато вот сено в сарай отвезет куда живее, или снопы на молотилку, а вечером моя ясноглазая сварит мне настоящего кофе, а потом снимет фартук, к которому прилипнет несколько сухих травинок, и глаза ее будут сиять словно полевые цветы. Эдгар займется наконец строительством собственного дома, будет заботиться о своей жене и избавит меня от этой бесконечной болтовни. Может, и те, кого угнали в Сибирь, тоже смогут вернуться на родину, может, удастся обязать к этому Советский Союз. Отец вернется домой.
Я описал все виденные мною дымящиеся руины, все лежащие непогребенными тела, я обозначал их домиками и крестами, потому что был не способен на слова при виде безжизненных глаз или кишащих червями животов. Я найду людей, которые смогут использовать мои записи, и меня уже больше не будет угнетать незначительность моего вклада в освобождение страны, не будет угнетать мысль, что я не был в отряде Зеленого капитана или капитана Тальпака, когда они освобождали Тарту и Таллин. Скоро наступит время отстраивать страну заново. И это только начало. Я спросил у связной, где мне найти официальных представителей власти, которым я мог бы передать сведения о разрушениях, учиненных большевиками. И в тот же миг понял, как это глупо. Меня тут же призовут в немецкую армию, как и Эдгара, который, судя по его болтовне, тоже не понимал сложившейся ситуации. Война еще не закончилась. Мне не удастся засеять поле будущим летом, я не буду слушать по вечерам веселый смех Розали. Отступление большевиков ослепило меня, я оказался недальновидным, как ребенок. Я проклинал себя. Я смотрел, как девушка-связная танцует со старшим братом, пока Карл играет на гармони, и меня охватили ужасные предчувствия. Я уже не сомневался, что вскоре расклеенные большевиками по всем заборам приказы о мобилизации сменятся такими же немецкими.1941 Ревель Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
Когда Юдит впервые осмелилась выйти из квартиры, она сначала остановилась около входной двери и прислушалась. Звуки войны пропали, действительно пропали. Она подняла воротник и согнула под прямым углом руку с сумкой, перчатки прикрывали напряжение пальцев, сжатых в кулак. Первые шаги по улице были осторожными, под ногами все еще скрипели осколки стекла. Не успела она толком вспомнить оставшуюся где-то в далеком прошлом манеру гулять по улицам столицы, как город набросился на нее за первым же поворотом, где были детские коляски, непонятно откуда взявшиеся бродячие собаки, смеющиеся дамы и играющие на губной гармошке, подмигивающие немецкие солдаты. Юдит учащенно задышала и покраснела, но стоило ей прийти в себя от первого потрясения, как в ушах раздался привычный шум почты, двери банка открывались и закрывались, мальчики-посыльные бегали туда-сюда, а в рукав ошеломленной Юдит вцепился мальчуган, торгующий фотографиями фюрера, и она не знала, как отвязаться от него, доходы пойдут на помощь пострадавшим от пожаров, а девушка конечно же хочет помочь бездомным семьям, и Юдит сунула фотографию в сумку, снова согнула руку в локте, крепко прижала к себе и, испугавшись доносившихся из кинотеатра выстрелов и проносившейся мимо грузовой машины с кирпичами, чуть было снова не сжалась в комок, но то были звуки стройки, а не войны. Стоящий на углу пацаненок засмеялся, увидев испугавшуюся грузовика женщину, порозовевшая Юдит поправила шляпку на голове. Над городом развевались на ветру, сплетаясь, флаги Эстонии и Германии. Срочно ремонтировали “Палас”, на киноафиши собралась подивиться группа подростков, да и взрослые останавливались взглянуть на них мимоходом, Юдит заметила промелькнувшую улыбку маленьких красных губ немецкой актрисы и длинные ресницы Мари Мельдре. Движение толпы заставляло ее ноги двигаться быстрее, ей казалось, что она сама стала частью какого-то фильма. Все это не могло быть реальностью. И все же ей хотелось двигаться со всеми вместе, продолжать бесцельную прогулку и никогда не возвращаться домой. Почему нет? Почему нельзя? Почему она не может разделить всеобщую радость? Запах гари больше не чувствовался, по крайней мере здесь, но в ее окно он все еще проникал, и она вдыхала воздух как запах свежей булочки, пока не начала кружиться голова. Город не был уничтожен, русские так спешили сжечь склады и промышленные цеха, а также взорвать бронепоезд на товарной станции Копли, что до жилых домов руки не дошли. Она продолжала идти, отыскивая все новые признаки мирного времени, прошла мимо “Солдатенхейма”, где взгляды беззаботно беседующих мальчиков-военных надолго задерживались на ее губах, ускорила шаг и отвела взгляд от женщины, что устанавливала большую фотографию Гитлера в витрине галантерейного магазина, отвела взгляд от надписи под фото “Гитлер-освободитель”, она искала другого, прежде всего людей, которые, казалось, уже забыли прошлое. Город вдруг наполнился молодыми мужчинами, и Юдит чувствовала себя неловко, их было слишком много, и ей захотелось домой, неожиданно и остро, скорее домой, она поспешно купила газету и еще подхватила со скамейки в саду “Отепяян Театая”, в которую кто-то, очевидно, заворачивал продукты, а потом какое-то время смотрела на работающее кафе, всех официанток которого раньше знала по именам. Вернулись ли они на работу, или у кафе теперь новый владелец и новые служащие? Раньше Юдит определенно зашла бы туда, побаловала бы себя пирожными, встретила бы знакомых, теперь же обручальное кольцо давило под перчаткой. Рядом с госпиталем солдаты вермахта ловили голубей. Один из них заметил Юдит и улыбнулся, другие заставили его вернуться к прерванному занятию: “Кастрюля уже на огне!”
Юдит еще издали увидела около своей двери толпу мальчишек, которые таращились на припаркованную на улице DKW [4] с фанерным кузовом. Мальчишки ей не мешали, они не стали бы расспрашивать ее о муже, но рядом стояла очень разговорчивая соседка, пройти мимо которой было сложно и в конечном счете не получилось. Женщина схватила Юдит за руку и запричитала: “Неужели скоро все машины будут из фанеры? А что же дальше?” Юдит вежливо кивнула, но та не отпускала ее и продолжила говорить что-то про смену рельсов под немецкие поезда и про газогенераторные автомобили. “Только представьте, трамвай на дровах! — трещала она. — И чего только не придумают эти немцы!” Слова соседки сыпались на Юдит до самого двора, а там прозвучал и растревоженный ветром вопрос о возвращении мужа; Юдит вырвалась из цепкой хватки и заспешила вверх по ступенькам. Уже в коридоре было слышно, как разрывается телефон. Он продолжал звонить, когда Юдит прошла в кухню, но она не ответила, как не отвечала все предыдущие дни, не осмеливалась. Она не открывала дверь, даже если в нее стучались, не решалась, и лишь по вечерам смотрела из своей темной квартиры на блуждающие огни немецких фонариков, пугалась странных теней, заворачивающих во двор машин с притушенными огнями, прислушивалась к шагам и выкрикам на немецком языке. Победа Германии не вызывала сомнений — в газетах говорилось, что даже тело Ленина уже эвакуировали из Москвы. Юдит разложила газеты на столе, заварила ячменный кофе и прикурила одну из последних папирос, чтобы подготовить себя к новостям, но там не было никаких сведений о возвращающихся домой. Вместо этого читателей просили присылать в редакцию шутки периода оккупации, а также публиковали ряд новых цен на продукты питания. Эмменталь — 1,45–1,60 рейхсмарки, эдам — 1,20–1,40 рейхсмарки, тильзитер — 0,80–1,50 рейхсмарки. Йогурт 0,14 — рейхсмарки. Гусь без внутренностей, головы, крыльев и ног — 0,55 рейхсмарки за килограмм, второй сорт. Завтра ей надо сходить за талонами на продукты, зарегистрировать их в ближайшей лавке, стоять в очереди, поправлять время от времени плохо сидящие плечики, все как раньше. Соседка приютила у себя приехавших из разрушенного Тарту родственников с оравой детей, шум оттуда проникал сквозь стены и напоминал о семейной жизни, которой у Юдит не было и никогда не будет. Ее исковерканная жизнь возвращалась в том же виде, как до ухода мужа на фронт, не хватало только его приезда. Постепенно Юдит поняла, что размышляет глупо. Мужчин не будут отправлять домой, раз война еще не кончена, их силы потребуются на Восточном фронте. Да и сами они не смогли бы добраться до дому за один день, домой вернулись только те, что находились в Эстонии и близлежащих территориях. Если бы она взяла трубку, открыла бы дверь и вообще поговорила бы со знакомыми, то давно бы это поняла. Война лишила ее способности рассуждать здраво, она лишь все время представляла своего мужа, стоящего на пороге, мужа, которого она должна теперь понимать лучше, ведь те, кто прошел через войну, нуждаются в понимании. Мучительное ожидание может длиться бесконечно, муж может находиться очень и очень далеко. А что, если он пропал без вести? Как долго ей придется ждать, прежде чем она на законном основании сможет начать новую жизнь? Может быть, ей стоило поступить так же, как Карин, из-за которой Элису с нижнего этажа осудили за антиреволюционную деятельность, — устроиться на корабельную кухню, уплыть прочь, в чужую страну, бросить все, начать сначала, найти нового мужа в новой стране и забыть о своем браке. Но тогда Розали, маму или еще кого-то из родственников ждала бы судьба Элисы.
Когда в газетах стали появляться списки возвращающихся домой, соседка в ожидании мужа поставила на комод бутылку вина. Телефон звонил с утра до вечера, и в конце концов Юдит пришлось ответить, она понимала, что до нее пытается дозвониться мама, и это была именно мама, спрашивала, как дела, требовала ответа, рассказала, что наводила справки у тех, кто вернулся, не знают ли они ее зятя, спрашивала, есть ли сведения о Йохане, и Юдит не могла ей запретить это делать, только вздрагивала от каждого звонка, так как всякий раз он звучал приговором к прошлой жизни. И все же ей надо было устраивать свою жизнь, надо было придумать, чем жить. На улице ее уже много раз останавливали и просили еды, хотя бы кусок хлеба. В деревне еда была всегда. В деревне гнали самогон. Из деревни можно было бы тайком привезти в город всякой всячины и открыть свой магазин. Это был единственный вариант, мама тоже на него согласилась и велела Юдит приехать к Розали во время забоя скота, а еще лучше остаться там, и Юдит пришлось поехать, хотя она знала, что ей придется выслушивать причитания свекрови и тети о том, что разве может молодая женщина одна жить в городе, и, конечно, рассказы свекрови о невероятных талантах ее любимого сына и размышления о том, что приготовить на обед, когда сын вернется домой. О свекре никто говорить не будет. Юдит была почти уверена, что он не вернется никогда; Розали сказала, что в июне в доме Армов появились мыши, а мыши никогда не обманывают.
Несмотря на то что большинство поездов перевозило только военных, солдаты брали по дороге и обычных путешественников, поэтому Юдит принарядилась, насколько это было возможно, перед трудной дорогой. Когда ей помогли забраться в поезд, одобрительный свист заставил ее щеки порозоветь, в кармане муфты лежал добытый на черном рынке проездной документ, и она выкурила последние папиросы, хоть и находилась в общественном месте; всю дорогу она боялась, что свекровь все сразу поймет, что она заглянет прямо в ее лживое сердце, ведь разве она после свадьбы не изображала из себя счастливую жену, разве не сделала все возможное, чтобы они выглядели самой обычной молодой парой. Она поссорилась с мужем только раз, после года совместной жизни и двух попыток некого подобия секса. Юдит долго думала, как спросить у мужа, не был ли он у врача или какого-нибудь знахаря. Вопрос выскочил сам собой за ужином с котлетами. Муж был ошарашен, он опустил вилку, потом нож, но продолжал жевать. Тишина дрожала в плошке с соусом. Он передвинул десертную ложку и спросил:
— А зачем? Со мной все в порядке.
— Но так не должно быть!
Стул упал на пол, фанера поцарапала доски. Юдит убежала в спальню, закрыла за собой дверь и подставила стул под ручку. Лекарства хранились в ящике серванта, но там не было ничего, кроме порошка Гуфеланда. Она высыпала все, что нашла, в рот и поблагодарила Бога, что Йохан с женой гостят у родственников.
Муж постучался в дверь.
— Дорогая, открой дверь. Давай выясним, что с тобой.
— Пойдем вместе со мной к врачу.
— Тебя что-то беспокоит?
— Ты не мужчина!
— Дорогая, у тебя истерика.
Голос мужа был спокойным и терпеливым. Он тихо сказал, что сейчас приготовит для нее стакан сахарной воды, его мама всегда так делала, когда они были маленькими и просыпались от кошмаров. Это ее успокоит. А потом они вместе подумают, не стоит ли Юдит сходить к специалисту по нервным болезням.
Юдит записалась на прием в частную клинику Грайффенхагена. Доктор Отто Грайффенхаген лечил мужские болезни, а его клиника была, безусловно, самой современной в городе. Если там не смогут помочь, то тогда уж нигде не смогут. На приеме Юдит заикалась, сглатывала и покашливала, намекая на свою проблему. Доктор вздохнул:
— Вам надо бы обоим прийти ко мне на прием. Вместе. Или ваш муж может прийти один.
Юдит поднялась, чтобы уйти.
— Мадам, конечно, есть различные средства. Например, ампулы тестовирона могли бы помочь. Однако прежде я должен обследовать вашего мужа.
Но Юдит не смогла убедить мужа пойти на прием к Грайффенхагену, принимать тестовирон и даже совершить первый полет. Прошло какое-то время, и она перестала ходить на курсы разговорного английского, а вскоре забросила и французский, который добавила в свой распорядок дня во время помолвки. Тогда она еще думала, что жена летчика должна знать иностранные языки.1941 Деревня Таара Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
Скрип и скрежет саней доносился до избушки издалека: Эдгар с шумом возвращался из города, куда ездил по делам. Когда сани остановятся, тут же начнется разговор о немцах. Я знал это и заранее приготовился помалкивать. Утром я как бы между прочим предложил прогуляться до дома Розали: я помогал им при забое свиньи и знал, что Эдгар никогда не откажется от супа с фрикадельками, теперь же как раз был тот самый случай, но мама, вероятно, успела ему сообщить, кто приезжает. Эдгар отказался и уехал по своим делам. Отношение кузена к жене было единственным, что меня в нем раздражало. С лошадьми он обращаться не умел, поэтому я вышел ему навстречу — распрягать все равно пришлось бы мне. Мерин здорово устал, из его ноздрей шел пар, скорость, скорее всего, была очень большой. Об овсе Эдгар, как всегда, забыл, его осталось в мешке литра два, тогда как часть мешков с сеном, заправленных мною в сани накануне, исчезла. Я решил не отвечать на бодрое приветствие кузена. Его шаги замерли на полпути, снег неуверенно заскрипел под ногами. Я сделал вид, что не заметил, отвел мерина на конюшню и стал очищать ему копыта от снега и тщательно натирать “голодные ямки”, я знал, что они чешутся у него больше всего. Эдгар наблюдал за мной, стучал валенками друг о друга, стараясь привлечь внимание. Ему явно что-то хотелось рассказать. Его новости касались сена и поэтому не особо меня интересовали, положение было плачевным. Леонида обещала, что двадцати стогов вполне хватит на зиму, но уже сейчас приходилось подмешивать солому, хотя мой мерин всегда предпочитал тимофеевку. В конюшне Армов дела шли не лучше, крупные кони немцев довели деревенских животных до истощения, но Эдгара напрасно было просить позаботиться об этом в своих поездках, только если убедить мать поговорить с ним. Но мать никогда и ничего не просит у Эдгара. Как только мы вернулись в родные края, Эдгар сразу же юркнул под крыло истосковавшейся матери. И она расплылась в улыбке, как масло по сковородке, Эдгар же обрадовался, увидев, как хорошо Розали о ней заботится. Ему даже удалось уговорить мать и Леониду держать в секрете его возвращение — не рассказывать ни одному человеку, включая его жену. Мать считала, что Эдгара могут схватить как коммуниста, если его вдруг узнают в деревне, чего я никак не мог понять, ведь никто в советское время не пережил столько бед, сколько Симсоны. Раньше я понимал, что кузен хочет скрыть свое бегство из Красной армии, но теперь-то в чем проблема? По деревне разгуливали и другие дезертиры из Красной армии, мы же прошли обучение на острове Стаффан и сражались против большевиков. Конечно, мать никого из нас не хотела отпускать на войну, у нее были слабые нервы, и я не мог противостоять ее слезам. Она всегда становилась такой веселой, когда Эдгар приходил ее проведать, тут же начинала варить соленое мясо, чтобы приготовить консоме, или искала что-нибудь еще вкусненькое на стол. И все же я не верил, что Эдгар просто так делает себе новые документы. Его новая фамилия, Фюрст, — я стал называть его Вурсти — была достаточно немецкой, изящной, как вискозная рубашка, что вновь заставило меня задуматься о том, что кузену есть что скрывать. Розали хотела отправить весточку жене Эдгара, но Эдгар запретил, мать запретила, а потом и Леонида за ними следом. Чем больше времени проходило с возвращения Эдгара, тем сложнее было рассказать об этом Юдит.
Кузен продолжал топтаться за моей спиной. Я не торопился, похлопывал мерина по ворсистому боку в темноте конюшни.
— Ты не спросишь, как дела, — сказал Эдгар и с шуршанием вытащил из сумки газету.
Он не мог дождаться, пока мы перейдем из конюшни в дом, и стал, прищуриваясь, читать в свете штормового фонаря о том, что в Таллине были освобождены двести шесть политических заключенных и что это подарок на Рождество от генерального комиссариата Эстонии всем безвинно пострадавшим женщинам и детям, которые столкнулись с трудностями после того, как кормилец семьи оказался за решеткой. Голос кузена звучал торжественно, блеклые глаза приобрели цвет.
— Ты меня слушаешь? Интересно, многие ли отнесутся столь же благородно к семьям противников? Или ты все еще думаешь о своем поле?
Я утвердительно помычал в ответ, прежде чем вспомнил, что не собирался говорить с Эдгаром, который столько суетится, но нисколько не способствует продвижению дел Симсонов. От отца нет никаких вестей, наши поля все еще в чужих руках. Не получится засадить их картошкой, хотя клевер, растущий там вот уже три года, прекрасно насытил землю азотом — что может быть лучше для картошки! Немцы запретили выращивать табак, и даже Розали не удастся достать рассаду, но с земель Армов удалось выдворить пригнанных туда большевиками рабочих, а также им вернули часть полей, конфискованных в пользу народа. Я бы опрыскал плодовые деревья Армов “Эстолеумом”, купленным по моей просьбе заранее и в достаточном количестве. Отец Розали был очень благодарен за этот совет, Аксель относился ко мне как к родному сыну. Я сказал, что “Эстолеум” — инсектицид куда лучше, чем “Парижская зелень”, яблок на продажу будет достаточно, но это все, что молодой хозяин дома Симсонов мог сделать для своей невесты, а в собственном доме он не мог и этого. Вот какие вопросы волновали меня. Эдгар же никогда не понимал сельскохозяйственных проблем, хотя утреннее парное молоко, похоже, всегда отлично подходило для его слабых легких.
Он продолжил читать газету, пока я работал в конюшне, война нисколько не изменила моего кузена.
— “Мы все помним, как ужасно большевистская пропаганда отзывалась о национал-социалистах Германии и особенно об их фюрере. Это были не люди”. — Голос Эдгара набирал силу, он старался, чтобы я услышал его. — “Национал-социализм стремится объединить все слои общества ради построения народного благосостояния. Кровавые межклассовые и братоубийственные распри чужды этой идеологии. Все классы имеют одинаковое право на жизнь… Для нашего маленького народа каждая личность и каждый человек являются самым главным богатством”.
Уши мерина задвигались.
— Прекрати, — сказал я. — Лошадь напугал.
— Роланд, разве ты не видишь, что генкомиссар подобрал очень правильные слова для насущных нужд народа?
Я молчал, онемев от ярости. Я догадывался, что у кузена свои планы, он заигрывал с фрицами, но, похоже, решил втянуть в это и меня. Но зачем и для чего я ему нужен? Я хорошо помнил, как Эдгар поджав хвост сидел в избушке после ухода Красной армии, когда вокруг, спасая свою жизнь, прятались по лесам люди из истребительных батальонов, а за ними гонялись немцы. В составе “Омакайтсе” были сформированы подразделения, которые прочесывали все вокруг. Леса тонули в дыму. А потом я заметил двух мужчин, ошивающихся возле нашего дома. Я легко узнал в них чекистов, которые охотились за отрядами Зеленого капитана, узнал потому, что видел их, стоя в дозоре, и долго всматривался в их лица, чтобы не забыть. Тогда они ушли от меня, но не теперь. Эдгар закрыл рот рукой, когда увидел во дворе два трупа посреди растекающихся луж крови, он выглядел так же, как в тот день, когда впервые увидел зарезанную свинью. Он тогда только приехал к нам; мамина сестра тетя Альвийне отправила сына в деревню, чтобы тот окреп, — отец Эдгара умер от дифтерии, а у мальчика обнаружили опасное малокровие. Мы с моим отцом были уверены, что маменькин сынок не выдержит жизни в деревне. Но не тут-то было, он прекрасно справился под крылом моей матери. Она наконец-то обрела недостающего ей второго ребенка, две больные души нашли друг друга. У нас в деревне этот недуг называют другим словом — лень.
Как только Эдгар пришел в себя от потрясения, вызванного видом трупов, он проявил необычайную активность и сказал, что сам избавится от них. Я сомневался, что он справится, но все же помог ему погрузить их на телегу, и он их куда-то увез. На следующий день Эдгар вернулся, пряча легкую улыбку. В город он больше не ездил, пока в лесах снова не стало спокойно. Я догадался, что кузен придумал насчет двух этих трупов какую-то историю, которая позволила оставить нас в покое. Но, конечно, рано или поздно немцы вспомнят про нас, недоумевая, почему это мы, два обученных в Финляндии шпиона, торчим в лесной избушке, но, возможно, Эдгар уже заключил с ними какой-то договор и нам нечего опасаться. Самое время было спросить, что за немецкие дела у него в городе. И все же мне не хотелось его расспрашивать. Эдгар был бы очень рад, если бы я проявил интерес к его делам, но я не желал видеть его слащавой улыбки. Я заметил, что вожжи запутались, распутал их, затем прошел в избу, достал шило и навощенную нить, чтобы подлатать привязь. Потер в руках кожу — надо бы, кстати, смазать упряжку, — и, раздумывая об этом, почувствовал вдруг острую тоску по полю и свою полную беспомощность. До тех пор пока немцы не отдадут назад украденные большевиками земли, пока не вернут назад людей, в моих глазах они не будут иметь доверия, что бы там Эдгар ни говорил. Я снова вспомнил табачное поле, которое привел в негодность какой-то идиот большевик, вывалив на него говно из уборной, непонятно, что он собирался выращивать, и совхозную лошадь, чьи “голодные ямки” были такими глубокими, что я не понимал, как она вообще может тащить повозку. Эдгар всего этого не замечал, лишь подивился странному запаху на краю испорченного поля. Это было наше поле, поле Симсонов, и лошадь тоже была моя, именно она раз за разом получала на сельскохозяйственной выставке блестящие синие наградные ленточки. Я бы узнал ее где угодно, и она узнала меня, но мы должны были оставить испорченное поле как оно есть и позволить лошади идти дальше.Эдгар вошел вслед за мной, зажег лампу, почистив немного стекло от сажи, и продолжил читать с того места, на котором остановился в конюшне. Хочет одобрения своей деятельности с моей стороны? Что-то ему явно нужно, но что?
— Ты не слушаешь, — обиделся Эдгар.
— Чего ты хочешь?
— Чтобы мы начали планировать нашу жизнь, чего же еще.
— Как это связано с генкомиссариатом?
— Ты должен получить новые документы, как и все остальные. Таков приказ. Я могу помочь.
— Советы Вурсти мне не нужны.
— Маме не понравится, что я не забочусь о тебе.
Я посмеялся. Эдгар становился невыносимым.
— Ты мог бы пойти работать в полицию. Стоит попробовать. Там сейчас не хватает людей, — сказал Эдгар.
— Это не для меня.
— Роланд, большевиков уже выгнали. Работа легкая, и не надо идти в немецкую армию. Ты ведь именно поэтому здесь сидишь? Какие еще пожелания?Я вдруг понял, о чем идет речь. Как только период силовых действий и пороха миновал, а в рядах нашей полиции появились зияющие пустоты, Эдгар решил, что пришло его время. Я смотрел на него и видел в его взоре жадный блеск: нет больше ни балтийских баронов, ни большевиков, ни глав республики, его ждут лишь пустые руководящие посты. Именно поэтому Эдгар ходил такой важный, именно это он держал в себе. Он всегда восхищался Германией, привезенными из Берлина велосипедами, видеотелефонами и иногда даже менял слова в предложении на немецкий манер. И все равно я не понимал, почему он решил поделиться со мной своими планами. Что я мог сказать о его намерениях? Ведь у него, обучавшегося в Тарту в гимназии и университете, было и без меня немало возможностей. Я вспомнил, как он гордо позировал во дворе во время каникул. Мама всегда находила деньги, если Эдгар хотел заказать из Берлина книги про полеты, фотографии немецких летчиков-асов или самолетов, и, пока другие гнули спину на сенокосе, мама отдыхала дома, так как чувствовала недомогание, а Эдгар сидел возле нее и рассказывал ей о подвигах Эрнста Удета, хотя в деревне такое поведение считали странным. Они были так похожи, мама и Эдгар. Ни тот ни другой не нуждались в моих советах, но за обоими мне приходилось присматривать. Я мечтал, чтобы Эдгар отправился наконец делать карьеру и стал бы сам заботиться о себе.
— Иди сам в полицию, зачем я тебе нужен, — пробурчал я.
— Хочу, чтобы ты пошел со мной. Мы так много времени провели вместе. Я хочу, чтобы у тебя появилась возможность начать все сначала.
— Вурсти, ты так заботишься обо мне, но почему же, Вурсти, ты совсем не заботишься о своей жене? Или ты нашел себе подругу, более подходящую для твоих маневров?
— Я должен сначала привести в порядок свою собственную жизнь. А потом уже забирать к себе жену. На все готовое. У нее такие высокие требования.
Я рассмеялся, голос Эдгара стал взволнованным, но он быстро справился с волнением, его адамово яблоко прыгало вверх и вниз, пока не замерло на месте. Эдгар отвернулся и сказал:
— Пойдем со мной. Ради нашей дружбы.
— Ты уже говорил с мамой о своих планах? — спросил я.
— Поговорю, как только все будет улажено. Не хочу подавать ей пустые надежды. — Он вновь повысил голос: — Мы не можем бесконечно жить в избушке Леониды. К тому же я уже намекнул, что у меня есть на примете подходящая для полиции кандидатура с хорошим образованием. Это ты. Ты нужен им. Ты нужен Эстонии!
Я решил вернуться в конюшню напоить мерина. Я надеялся, что Эдгар не пойдет за мной. У меня были свои планы на будущее, хотя Эдгар так не думал. Я собрал все свои записи, привел их в порядок; встречаясь с нашими, расспрашивал их о некоторых подробностях, не забывая делать выводы из речей Эдгара. Я намеревался устроиться на работу либо в порт в Таллине, либо на железной дороге в Тарту — чтобы хоть как-то помочь домашним. Эдгар никогда не давал матери денег, хотя из дома Армов регулярно отправляли мясо в город жене Эдгара. Я должен был позаботиться и о них тоже, сколько можно прятаться в лесу и сторожить перегонный куб Армов, положения это не спасало, спина Леониды сгибалась все ниже и ниже, мать ни на что не годилась, Аксель без ноги. Работа в порту привлекала меня еще и тем, что Таллин ближе к Розали, чем Тарту. К тому же я смог бы избежать призыва в немецкую армию, а если вдруг и из порта станут забирать, то в моих документах значился теперь совсем иной год рождения. Но если Эдгар заикнулся обо мне в полиции, то, вероятно, немцы уже и так знают о моем прошлом больше, чем следовало бы. Вряд ли они позволят мне надолго задержаться в порту, если, конечно, Эдгар не сделает мне новые документы на другое имя, но даже если сделает, откуда мне знать, что он не выдаст меня фрицам? Откуда мне знать, что он не расскажет им о моем намерении устроиться на работу в порт?1941 Деревня Таара Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
Когда Юдит наконец приехала в деревню, никто ничего не сказал ей о муже. Руки свекрови проворно перебирали спицами, и носок рос, детский носок, и почему-то Юдит была уверена, что он вяжется не для будущих детей Роланда и Розали, свекровь всегда лелеяла только своего приемного сына, не родного. Говорили, что Роланд живет в избушке Леониды и время от времени приходит помогать по дому. К этой теме не возвращались, хотя Юдит все время ожидала, что разговор продолжится. Но нет. Розали лишь упомянула, что Роланд скрывается, но сказала это как бы между прочим, и на лице ее не было той радости, которую предполагала увидеть Юдит, ведь жених вернулся домой целым и невредимым. То, что здесь совсем не говорили о возвращающихся, казалось странным. В остальном разговоров хватало. Сначала долго вспоминали, как прозванные волками контролеры изымали для собственных нужд продукты в поездах, затем решали, как Юдит следует вести себя, если на обратном пути придет проверка. Благодарили Бога за то, что поезду Юдит не пришлось останавливаться в пути из-за налетов, и уже под вечер перешли к обсуждению дел в усадьбе. Она пустовала после того, как Гитлер отозвал балтийских немцев в Германию, теперь там располагался немецкий штаб, над входной дверью стояла ловушка для голубей, немцы ели голубей, что забавляло деревенских женщин. Позднее в усадьбу привезли ванны, немцы всегда были опрятными, а офицеры — добродушными. Работающие в усадьбе садовники и женщины из прачечной рассказывали, что их детей кормили карамелью, а на страже всегда стоял только один солдат. Каждый раз, когда глаза Юдит натыкались на Анну или Леониду, женщины тут же приподнимали уголки губ. Что-то было не так. Юдит ожидала найти свекровь на грани нервного срыва, оттого что ее муж и любимый сынок находятся неизвестно где, и думала, что та будет уговаривать ее остаться в деревне, но свекровь, похоже, совсем не беспокоил тот факт, что невестка живет в Таллине одна, она даже улыбалась про себя время от времени, позванивая спицами в поворотах вывязываемой пятки. Одного только возвращения Роланда было недостаточно для такого веселья. Может, дело в том, что семья Армов получила обратно свои земли после ухода большевиков? Но хозяйство было в таком ужасном состоянии, что тут без посторонней помощи не справиться, так что вряд ли это могло быть причиной большой радости.
Розали заснула прежде, чем они успели поболтать перед сном, хотя они всегда раньше так делали, потушив свет. На следующее утро Юдит стала подозревать, что Розали просто притворилась спящей: утром ее улыбка была словно натянутая на веревку простыня, и она все время куда-то спешила. Днем после работы свекровь как бы случайно обронила слово “блокада”.
— Говорят, на два рубля там можно купить пол-литра воды в день на человека, десятки тысяч людей умирают каждый день. Всех лошадей уже съели, да и у тех, кто на фронте, дела, похоже, не лучше.
Леонида попросила Юдит помочь ей наколоть соли. Юдит взялась за топор, и соль стала крошиться. Губы свекрови вновь изогнулись дугой, но не от печали, хотя вряд ли известие о блокаде могло заставить кого-то улыбаться. Может, свекровь сходит с ума, или она просто не знает, как реагировать на сухие глаза Юдит? Может, ей следует разрыдаться при мысли о том, что муж, возможно, находится на Ленинградском фронте? Изображать скорбь или, напротив, надежду? Мать слышала, что кто-то видел ее мужа среди тех, кого отправляли под Ленинград, но стоит ли верить таким слухам? Свекровь об этом не говорила, но Юдит переживала. Ей хотелось уехать обратно в Таллин. Острые взгляды свекрови и Леониды клевали ее лицо, так что становилось нестерпимо больно. С Розали было невозможно поговорить наедине; свекровь и Леонида все время шныряли где-то поблизости, просовывали голову в дверь именно в тот момент, когда Юдит думала, что они ушли в хлев, выныривали из-за спины, когда Юдит хотела пойти вместе с Розали кормить кур. Розали, казалось, ничего этого не замечала, занималась все время какими-то делами или теребила в руках истрепавшийся край кофты, который все время жевала ее любимая корова, отводила взгляд и, схватив фонарь, тут же убежала в хлев, как только свекровь заговорила с Юдит: она начала издалека и пояснила, что беспокоится о том, как Юдит будет искать покупателей для банок с жиром, в деревне это гораздо проще. Немцы ходили по домам и спрашивали: ein Eier, eine Butter, ein Eier, eine Butter [5] с таким отчаянием, что свекрови становилось их жалко.
— Их дети умирают от голода, у многих из них есть дети. Ты поймешь, что это значит, как только у тебя будут свои.
И свекровь пристально посмотрела на талию золовки. Юдит подняла руку к животу и уставилась на сервант, где на полке стоял целый ряд пустых солдатских банок: пищу нельзя было посылать, но остальное можно. По полу что-то пробежало, и Юдит заметила мышь, юркнувшую за чемодан, а следом за ней вторую. Она сильнее нажала на живот, а свекровь продолжала говорить, открыв ящик серванта, полный солдатских плиток шоколада. Леонида носила их дежурным в устроенном на крыше школы посту противовоздушной обороны и в придачу укутанный в шерстяные платки пятилитровый бидон теплого супа. После энергетического шоколада Schoka-kola наблюдатели не смыкали глаз.
— Что эти парни могут дать взамен? Разве что несколько восточных марок. Я-то все вынесу, а вот дети!
Если бы Юдит не нуждалась так остро в продуктах для продажи, она бы тут же уехала. Все, о чем говорила свекровь, казалось, было направлено на то, чтобы указать Юдит ее бесполезность. Она решила не обращать внимания, ведь она никогда больше не приедет сюда, но чем она тогда будет торговать? Надо было придумать какой-то другой источник дохода, знания немецкого языка и курсов стенографистки было недостаточно, в городе слишком много девушек, чьи пальцы снуют по клавиатуре машинки куда быстрее, чем ее собственные, слишком много девушек, ищущих работу, не гнать же в городе самогон. Когда Юдит уехала из дома Йохана, она оставила там все вещи мужа, и теперь жалела об этом. Что толку вздыхать о только что купленных сапогах и зимнем пальто. Мать сказала, что, как только вернется в Таллин, потребует, чтобы дом Йохана вернули им. Но сейчас все равно ничего нельзя было поделать, дом сильно пострадал от большевистских погромов, к тому же никто не знал, где Йохан держал документы на дом. И все же что-то надо было придумать. Что-то другое, помимо банок с жиром и самогона. Что-то другое, потому что сюда она больше не приедет, а на одни только немецкие соцпакеты не прожить. Юдит все еще держала руку на животе, словно полные обидных намеков взгляды свекрови заставляли ее защищать живот, защищать что-то, чего там не было. И что будет, если муж вдруг вернется домой? Юдит была уверена, что он потребует, чтобы его любимая мамочка жила вместе с ними под одной крышей, следила бы за ней и за тем, как она готовит суп с фрикадельками. В городе его можно было готовить хоть каждую неделю.
Неприятная атмосфера разрядилась, только когда Аксель пришел забрать нож и одновременно бросил на печку рабочие рукавицы. Запах мокрой шерсти распространился по кухне, в лампе дрожало пламя. Вчера в сарае подвесили забитую свинью, и Аксель провел там всю ночь, опасаясь воров. Розали вернулась из хлева, и, когда они пошли за мясом, Юдит вцепилась в руку Розали:
— Произошло что-то, о чем я не знаю, да? — спросила Юдит. — Все ведут себя как-то странно.
Розали попыталась высвободиться, но Юдит не отпускала. Они стояли вдвоем во дворе, Леонида ушла вперед, чтобы сказать, какие куски свинины она хочет получить. Ее голос доносился из сарая и вклинивался между Юдит и Розали. Растрескавшиеся губы Юдит сжались.
— Ничего, — сказала Розали. — Просто Роланд вернулся. И мне так стыдно, что я уже могу его увидеть, а твой муж все еще на фронте. Это неправильно. Все неправильно.
Розали вырвалась.
— Розали, я не единственная, у кого муж на фронте. Не беспокойся за меня. Если бы ты знала…
Юдит замолчала. Она не хотела говорить о муже с Розали. Не сейчас.
— Моя свекровь тебе досаждает? — спросила Юдит.
Плечи Розали расслабленно опустились, как только Юдит сменила тему.
— Нет, совсем нет. Она убирается и делает всякую мелкую работу, стирает марли для молока, все то, что обычно делают дети. Она здорово помогает. А потом, у Роланда меньше хлопот, ведь он знает, что его мать здесь под присмотром. Пойдем, нас ждут.
Розали поспешила в сарай. Юдит перевела дух, вечер был тихий, слишком тихий, и она пошла вслед за Розали. Скоро она уедет, скоро поезд будет подбрасывать ее костлявые коленки. Надо еще немного потерпеть, всего ничего, вот только будут готовы банки со свиным жиром да пара бутылок самогона, чтобы спрятать их под юбкой в специальном поясе. Юдит больше не пыталась заговорить с Розали, а молча раскладывала мясо на разделочном столе. Свекровь и Леонида тщательно выбирали подходящие куски, чтобы положить на дно бочки на лето, куски для первой засолки — в таз, бока — в соус, спинку — на сковородку, тыкали пальцами в ногу, которая будет ждать своего часа до Пасхи, та часть, что чуть выше хвоста, пойдет на зимние щи с кислой капустой. Обсуждая деревенские сплетни, женщины так громко говорили, что безмолвия Розали и Юдит никто даже не заметил.1941 Ревель Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
Шум с Ратушной площади долетал до окон гостиницы “Центрум”, автомобильные гудки и выкрики мальчишек-газетчиков врывались в номер, обтекая статную фигуру Эдгара, стоявшего перед зеркалом массивного шкафа темного дерева. Эдгар медленно и торжественно поднял руку, сосчитал до трех и уронил ее вниз, затем повторил движение, досчитав до пяти, потом до семи и вглядываясь в образуемый рукой угол: достаточно ли пряма рука, а голос достаточно ли уверенный? Надо еще не забыть оставить необходимое для приветственного взмаха пространство. Он не пользовался немецким приветствием при встрече с контактными лицами, встречи были неофициальными и не должны были привлекать внимания, теперь же ситуация изменилась, а протокол неизвестен, рука может задрожать, или ее сведет судорогой. Он тайком практиковался еще в лесу, учитывая, что Эггерт Фюрст был левшой. Что, безусловно, делало его приветствие слегка неловким, чуть замедленным. Имя пришло ему в голову, когда обучавшиеся на острове Стаффан готовились к возвращению в захваченную большевиками Эстонию и Эдгар выправлял для парней советские документы. Тогда-то он и вспомнил о родившемся в Петрограде в эстонской семье Эггерте Фюрсте, друге детства одного его коллеги из НКВД. Более подходящей кандидатуры для его целей найти невозможно: прошлое Эггерта нельзя проверить, находясь по эту сторону границы, а его родственники вряд ли могут здесь объявиться. Эдгару надо лишь позаботиться о том, чтобы его собственная семья молчала, — и если он даже не отвыкнет отзываться на имя Эдгар, то “Эггерт” звучит похоже, всегда можно объяснить, что ослышался. Этот незнакомый для него человек вряд ли так ясно отпечатался бы в его памяти, если бы не сослуживец, который тяжело переживал утрату друга, умершего от туберкулеза; Эдгар помогал ему тогда справиться с горем, и они вместе долгими вечерами перечитывали старые письма и предавались воспоминаниям детства. Легко запоминающиеся дуги и резкие взлеты почерка — особые черты переученного левши — были знакомы Эдгару еще с гимназии. Успокаивая напряженные нервы заказанным в номер пирожным, Эдгар мысленно благодарил Вольдемара, которому так часто была необходима помощь с домашними заданиями. Он помнил жесты и движения Вольдемара, неловкое обращение с вилкой, огромную рукавицу, надетую на левую руку, чтобы он ни в коем случае не пользовался ею тайком. Об этой рукавице было сложено немало дразнилок. Тренировка движений, свойственных левшам, была, пожалуй, необязательной, но детали — залог успеха. Поэтому по приезде в гостиницу Эдгар взял ручку сначала левой рукой, а затем переложил ее в правую, посмеявшись над старой привычкой вместе с работником гостиницы — о левшах сложено немало анекдотов, — и, забирая отпаренный костюм у горничной, он левой рукой дал ей хорошие чаевые.
Эдгар слизнул остатки крема с пальцев левой руки и продолжил тренироваться перед шкафом. Он был доволен своим новым я — немного постарел за последние годы и уже не выглядел как мальчишка. Один из курсантов Стаффана уже работал в канцелярии главы города Талина, остальные искали славы в других краях. Эдгар был не намерен довольствоваться малым. Напротив.
Попрактиковавшись еще какое-то время, он сел за стол и стал просматривать документы, которые он вскоре должен отнести на Тынисмяги в штаб немецкой полиции безопасности. Список коммунистов, писавших в газету “Ноорте Хяэль”, был безупречным, над ним пришлось поработать. Для поиска тел в тюрьмах и подвалах НКВД его помощь не требовалась, но унтерштурмфюрер СС Менцель несказанно обрадовался, когда Эдгар открыл ему менее очевидные адреса захоронений. Список своих бывших коллег по НКВД он передал еще при первой встрече в отеле “Клаус Курки”.
Последний раз Эдгар видел Менцеля в Хельсинки, еще во времена учебы на Стаффане, и все же, готовясь к встрече, он волновался. Хотя было понятно, что рано или поздно данные всех, прошедших обучение на острове, проверят, однако неожиданное появление унтерштурмфюрера СС Менцеля, который и без того знал слишком много, поначалу основательно испугало Эдгара. Но, возможно, немцам был как раз нужен кто-то вроде него. Менцель еще тогда благословил новую ипостась Эдгара и дал слово, что сохранит его секрет, они быстро подружились, да и Германия не хотела терять хороших людей. Это должно было успокоить Эдгара. Но законы товарообмена были понятны, Менцель определенно считал сведения Эдгара важными, и все же Эдгар не переставал гадать, какие планы строит на его счет унтерштурмфюрер. Планы явно имелись, но Эдгар не мог сказать наверняка, достаточно ли будет тех сведений, которые он может предоставить.
Беспокойство о правильности приветствия оказалось напрасным. В штабе никто не засмеялся, ни у кого не промелькнуло на лице ни тени сомнения. Менцель пригласил Эдгара сесть напротив незнакомца в штатском. Мужчина приехал из Берлина, и что-то в его облике говорило, что прибыл он в столь отдаленную часть Остланда совсем недавно. Возможно, такое впечатление складывалось оттого, что он слишком внимательно рассматривал помещение и Эдгара, или же оттого, что он сел на стул, словно бы сомневаясь, что в этой дыре с адресом полевой почты может найтись приличная конторская мебель.
— Как давно мы не виделись, герр Фюрст. Приятное было местечко отель “Клаус Курки”, — сказал Менцель.
— Да, очень приятное, — согласился Эдгар.
— Перейду прямо к делу. Нас попросили осветить вопрос с евреями. Мы, безусловно, уже собрали материал, но герр Фюрст знает местную ситуацию гораздо лучше. Как вы полагаете, насколько хорошо прибалты осведомлены об угрозах, исходящих от евреев?
Мучительный момент. Эдгар почувствовал, что у него пересохло во рту. Он подготовился к встрече неправильно, теперь это было очевидно. Хотя он прокручивал в голове сотни возможных тем, о которых может пойти речь, но к этому вопросу оказался не готов. Мужчина в штатском ждал ответа, он не представился. Эдгар решил, что тот уже недоумевает, с какой стати он должен тратить время, выслушивая объяснения местных придурков, скорей бы уж передать документы и уехать. Менцель изучал свои безупречные ногти, ожидать помощи с его стороны не имело смысла.
— Прежде всего, стоит заметить, что я плохо осведомлен о ситуации в Литве и Латвии, — сказал Эдгар, прощупывая почву. — Эстонцы в значительной мере отличаются от литовцев и латышей. Поэтому называть всех прибалтами нерезонно.
— Разве? Но ведь эстонцы представляют собой смесь восточнобалтийских и северных кровей, — заметил вдруг незнакомец.
Менцель прервал его:
— Возможно, вы уже отметили, что эстонцы заметно светлее, чем остальные народы. Поэтому северную кровь можно считать доминирующей. Четверть всех эстонцев можно отнести к чисто северной расе.
— И гораздо больше синих глаз, конечно, мы отметили этот позитивный фактор, — согласился незнакомец.
Разговор прервал еще один вошедший в комнату немец, вероятно, старый знакомый берлинца. Об Эдгаре на секунду позабыли, и он постарался использовать время с пользой, надо было срочно придумать, что говорить и как действовать. Сведений о большевиках было теперь явно недостаточно, хотя именно они больше всего интересовали Менцеля в Хельсинки. Эдгар рассчитал неверно. Его больше никогда не позовут сюда, на карьере можно поставить крест. Зацикленность на собственной биографии ослепила его, заставила думать, что шуршащего в кармане аусвайса на имя Эггерта Фюрста будет довольно. В разговоре были упомянуты расовые признаки эстонцев и основные понятия из произведений рейхсминистра Розенберга, и Эдгар приготовился вступить в разговор. Все же не зря он выучил наизусть названия основных работ Розенберга “След еврея в перемене эпох” и “Миф XX века”, но, упомянув их, тут же испугался, что его могут спросить о содержании; к счастью, Менцель стал явно уставать от своего гостя. Эдгар скрыл вздох облегчения: пожалуй, коснись они более глубоких вопросов расовой теории, он бы не справился. Теперь важно не нервничать. К следующей встрече он подготовится более основательно, найдет людей, знавших рейхсминистра, одноклассников, родственников, соседей по улице Ванна-Пости, приятелей по ревельской мужской гимназии. Он найдет того, кто скажет, что за человек был в юности Альфред Розенберг и какие планы у него могут быть в отношении своей родины. Если он научится думать как Розенберг, он будет знать, какой информации ожидают от него немцы, каковы их истинные интересы. В голове уже кипела работа, внутренние архивы пересматривались в поисках подходящего человека, того, кто знал или мог знать о бежавших из Германии в Эстонию евреях или об эвакуированных в Германию и возвращенных обратно в Эстонию после ухода Советского Союза балтийских немцах. Их не так уж много.
Менцель направился к двери, демонстрируя, что аудиенция закончилась.
— Могу ли я еще немного поговорить с вами, — сказал Менцель и пригласил Эдгара следовать за ним.
В коридоре он выдохнул:
— Герр Фюрст, удалось ли вам собрать сведения, о которых я просил? Я очень жду ваших списков.
Чувство облегчения было настолько сильным, что Эдгар только у двери понял, что взял портфель неправильной рукой, правой. Менцель, казалось, не заметил замешательства Эдгара, а сосредоточился на полученных бумагах. Эдгар приоткрыл рот в поисках свежего воздуха.
— Управление безопасности, отдел Б-IV, отличное место, поздравляю, герр Фюрст. За пределами Талина нужны такие люди, как вы, работы в Hapsalin Außenstelle [6] очень много. Не забудьте сначала сходить в Патарей зарегистрироваться в канцелярии отдела Б-IV, там вы получите более точные указания.
— Герр унтерштурмфюрер СС, можно узнать… — Эдгар откашлялся, — за что такая честь?
— Самые заметные ячейки большевиков уже зачищены, но вы, безусловно, понимаете, как важно провести основательную дезинфекцию, когда речь идет о столь настырном вредителе. А вы можете его распознать, герр Фюрст.
Менцель повернулся на каблуках и ушел в свой кабинет, Эдгар остался стоять на месте. Ему удалось, несмотря ни на что, ему это удалось.
Когда Эдгар вошел в стены тюрьмы Патарей, у него закружилась голова — он был жив, в отличие от стольких других. Он приступит к изучению еврейского вопроса сегодня же вечером. Метровые каменные стены поглотили крики тысяч расстрелянных и замученных, казалось, эти камни сами источают смерть, прошлую и будущую, не знающую разницы в национальностях, правителях и столетиях, но его шаги эхом разносятся по коридорам и направляются в сторону жизни. В отделе Б-IV его тепло приняли, он заполнил бумаги на имя Эггерта почерком Эггерта, знакомых лиц не увидел и почувствовал, что находится в правильном месте. Ему разрешили съездить повидать мать, перед тем как он приступит к работе в Хаапсалуском отделе Б-IV. Работы много, дни будут длинными, сказали ему, но Эдгара это не пугало. Одного он не знал — как сказать об этом Роланду. Было бы хорошо, если бы Роланд тоже пошел работать в полицию, во-первых, у него безупречная репутация, а во-вторых, за ним стоит присматривать, а присматривать, как известно, легче вблизи. К тому же лучше не отправляться в бой без напарника. Роланд умел молчать, и на него всегда можно положиться — Эдгар не сомневался в том, что кузен не выдаст его. Свои вопросы Роланд мог бы задать ему еще в тот момент, когда Эдгар ушел из НКВД и появился на пороге его дома. Попасться на получении взятки было крайне непрофессионально, Эдгар сам это признавал и стыдился. Но Роланд ни о чем не расспрашивал, а просто взял его с собой в Финляндию. На лице у него было все то же усталое выражение, как и тогда, когда Эдгара поймали на продаже пропусков для пересечения границы в погранслужбе эстонской армии, где оба они отбывали воинскую повинность. Тогда Роланд вступился за него, соврал, будто бы им сказали, что пропуска платные, и Эдгар избежал тюрьмы. Роланд считал, что увольнение Эдгара из армии будет и так для мамы достаточно тяжелым ударом, и в этом он, конечно, был прав. В общем, Эдгар рисковал ради Роланда не напрасно: без кузена, его рекомендаций и Финляндии он никогда не заработал бы такой хорошей репутации и никогда не встретил бы Менцеля. К тому же Роланд всегда слушался маму, Розали слушалась Роланда, а его будущая теща слушалась своей дочери. Мама же слушалась Эдгара и очень быстро привыкла к его новому имени, ни о чем не спрашивая. Ей было достаточно того, что она смотрела в глаза Эдгара и видела, что он настроен решительно. Она была счастлива, что, побывав у ворот смерти, он вернулся домой живым и невредимым. Маму надо только убедить в том, что у него все в порядке, а теперь будет и работа. У Эггерта Фюрста все замечательно. Надо только придумать, как заманить с собой Роланда. Мама найдет нужные слова, а если кузен ее не послушается, то мама поговорит с будущей невесткой. Мама ведь хочет, чтобы и у Роланда тоже было хорошее будущее.1942 Деревня Таара Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
Эдгар стоял на пороге лесной избушки, и рот его открывался и закрывался. Я прочитал по губам имя Розали, руки кузена летали, но я не понимал, почему он говорит о моей любимой. Из приоткрытой двери подул ветер, моя рубашка затрепыхалась, пол потемнел от воды.
— Ты слышишь меня? Ты понимаешь, что я говорю?
Крик Эдгара прилетел откуда-то издалека. Стеклянная банка упала со стола на пол и разбилась, в ней стояли калужницы. Ветром их унесло к стене, к мышеловке. Я смотрел на них. Их собрала Розали, ее пальцы касались моих пальцев совсем недавно. Я дрожал, как лист табака, подвешенный на просушку, меня охватила лихорадка, как будто сердце мое заковали в бочку. После жара от сердца к животу пополз леденящий холод, я не чувствовал больше ни рук, ни ног. Рот Эдгара продолжал открываться и закрываться.
— Ты понял, что я сказал? Ее уже похоронили.
— Вурсти, закрой дверь, дует.
— Роланд, ты должен понять маму и Леониду. Похоронить пришлось тайком, на шее остался след.
— Вурсти, не кричи.
Я взглянул на мышеловку. Она была пуста.
— Какой такой след? — закричал я.
— Остался след! Женщины такие чувствительные, кто знает, что заставило ее совершить этот грех.
Я бросился запрягать мерина.Ответов на вопросы не было, но факт оставался фактом: Розали умерла. Мать и Леонида встретили меня как чужого, Леонида потуже затянула платок на шее, словно хотела сплющиться и исчезнуть, и стала заваривать корм для скота. Мне здесь были не рады. Мать открыла рот, словно тяжелую дверь, но слов не было. Я попытался вытащить из нее хоть какие-то намеки на то, что произошло и почему, кто приходил и когда, за жиром или яйцами, какие солдаты, их имена. Я не поверил грязным словам кузена, не могла Розали сделать с собой что-то дурное. Взгляд матери запрыгал от моего крика, она приказала мне выйти вон. Я хотел встряхнуть ее, но руки дрожали. Хотел ударить, но вспомнил отца. Он выбрал в жены неподходящую женщину и нес свой крест, не жалуясь и не ругаясь. Я пошел в отца, любовь и меня сделала слабаком, но все же я не хотел, чтобы он вернулся в дом, где сын поднял руку на свою мать, даже ради любви. И я опустил кулак.
— Она опозорила наш дом своим грехом, — прошептала мать.
— Опозорила? Что значит опозорила? О чем вы говорите? — закричал я.
Из продовольственной лавки вернулся Аксель, сел, чтобы стянуть с ноги сапог, другая нога после Освободительной войны [7] была деревянной. Он не посмотрел на меня, не проронил ни слова. Как эти люди могут вести себя так, словно ничего не произошло?
— Почему вы не дали мне взглянуть на нее? Почему скрыли от меня?
— А чего там смотреть? Никогда бы не поверила, что она может пойти на такое, — сказала мать и спрятала носовой платок под манжету. Ее глаза были сухие. — Роланд, возьми себя в руки. Поговори лучше с Эдгаром.
Я пробежал через весь дом, на пороге горницы остановился, заметив на стуле платок Розали. Бросился прочь. Люди в доме Армов стали мне чужими, я не желал никогда больше их видеть.В отчаянии я не придумал ничего лучше, чем обратиться за помощью к Лидии Бартельс. Ехать в город только ради сеанса с ней было глупо, но я хотел получить хоть какой-то знак от Розали, знак оттуда, где она находилась сейчас, знак, который помог бы мне отыскать виновного. Хотя, похоже, этот вопрос никого, кроме меня, не интересовал. Я отправился в город пешком, шел старыми пастушьими тропами, краем леса, прятался в чаще, заслышав шум мотоцикла, топот копыт или стук повозки. Усадьбу, превращенную в немецкий штаб, обошел как можно дальше и с наступлением темноты добрался до цели. Собаки настораживались, когда чуяли незнакомца на границе своих владений, поэтому я старался держаться подальше от заборов и шел посередине дороги, прыгая в кусты, если близко раздавались шаги. Я различал телеграфные столбы и очертания домов, звуки привычных домашних хлопот доносились из кухонь, стук топора и мяуканье кошек. Звуки жизни людей, у которых есть дом. У которых есть кто-то, с кем можно заниматься вечерними делами. У меня всего этого уже не было. Боль жгла мое тело, словно огонь, подбирающийся со всех сторон к сердцу, но я ничего не мог изменить.
Прежде чем идти к Лидии, я зашел на кладбище. Отыскал нужное место, точнее, я предполагал, что это именно оно. Обошел ограду, спотыкаясь о могилы и задевая кресты. Здесь, как нигде, я ожидал услышать ее голос. В этой церкви мы должны были венчаться, здесь, у алтаря, я должен был увидеть подвенечный наряд и фату невесты, которые ей так нравились и говоря о которых она застенчиво улыбалась. Ночь была звездной, и, взобравшись на кучу мусора, я стал искать глазами свежую могилу. Найти ее было несложно, ни креста, ни цветов, даже собаке уготовано в земле лучшее место. Ударил кулаками о железную ограду, так что мох разлетелся во все стороны, молился на коленях, чтобы любимая подала знак и мне не пришлось бы идти к Лидии Бартельс, знак, что любовь моя обрела покой, знак, что я могу возвращаться назад. Я не знал, почему Розали ушла из дома, с кем, кто ее нашел и где. Почему ее похоронили позади церковного кладбища, какой священник это разрешил, да и был ли священник? Розали никогда не лишила бы себя жизни, хотя все на это намекали. Но это было не так, не могло быть так. Я клял себя за то, что меня не оказалось рядом, что я не смог предотвратить случившееся. Как же далеко мы были друг от друга, если я не почувствовал приближения беды! Невозможно себе представить, что все это произошло, когда я спал или разжигал огонь, занимался привычными делами. Почему твои мысли не долетели до меня? Почему я не смог тебя защитить? Мне было важно понять, что я в тот момент делал, в тот момент, когда Розали покинула этот мир. Если бы я знал, я сумел бы найти хоть какой-то знак.
Но знака не было, ответа не было — Розали была неприступна. Я плюнул на ступени церкви и достал из кармана часы. Время приближалось к полуночи. Пора было идти к Лидии Бартельс. Я не знал о ней ничего, кроме того, что сеансы она проводит по четвергам и что “Седьмую книгу Моисея” она получила от матери, когда та была при смерти. Леонида считала, что Лидия ведет антицерковную деятельность, пользуется старыми заклинаниями, но подруги Розали ходили к ней, пытаясь получить сведения о пропавших без вести или отправленных в Сибирь родителях. Они всегда ходили парами, никто не решался пойти в одиночку. У меня же не было никого, с кем бы я мог пойти. Для храбрости я прочитал “Отче наш”, хотя понимал, что креститься или приносить с собой изображения Бога запрещено. На главной улице я натянул шапку поглубже на уши. В лесу я не брил бороду, с ней я выглядел гораздо старше своих лет, не думаю, что кто-то мог меня узнать. Я подумывал о том, чтобы раздобыть немецкую военную форму. Связная рассказала, что некоторые евреи поступали именно так, а кто-то даже пошел к немцам на службу — лучшего способа спрятаться не придумаешь. Она еще тогда посмеялась над своими словами, но сквозь ее смех прорывался страх, как вода выплескивается из переполненного ведра. Я знал, что она говорит о своем женихе.
В комнате Лидии Бартельс горела только одна свеча. На полу стояло блюдо, по центру которого была проведена черта. Под ним лежал большой лист бумаги со словами “да” и “нет”. Ниже выглядывал край какой-то скользкой на вид ткани. Лидия Бартельс сидела на полу с закрытыми глазами и поднятыми вверх ладонями. Открывшая дверь госпожа Вайк спросила, чей дух я собираюсь вызвать. Я снял шапку и крутил ее в руках, с трудом подбирая слова. Неожиданно она перебила меня:
— Не надо отвечать. Скажите только, касается ли это золота?
— Не касается.
— Приходит много людей в поисках золота, спрятанных сокровищ тех, кого забрали. Но эти вещи не интересуют духов. Напрасные сеансы утомляют ее. — Госпожа Вайк кивнула в сторону двери.
Я вошел внутрь и сел вместе с остальными, мои ноги ныли, напряженное дыхание заполнило комнату, занавески слегка покачнулись, в этот момент Лидия Бартельс спросила, здесь ли дочь мужчины со светлыми волосами. Вздох ужаса послышался слева. Тарелка вздрогнула и стала двигаться. Дыхание участилось, сердца судорожно застучали, надежды устремились в центр круга, и я почувствовал острый запах пота с кислым привкусом человеческого страха. Тарелка повернулась к слову “да”.
Женщина слева от меня заплакала.
— Она ушла. Но появился еще кто-то… Розали? Розали, ты здесь?
Тарелка задвигалась по бумаге, словно раздумывая, в какую сторону направиться. Она остановилась на слове “да”.
— Ты хорошо себя чувствуешь?
Тарелка передвинулась: “Нет”.
— Твой конец был насильственным?
Тарелка передвинулась: “Да”.
— Ты не сама это сделала?
Тарелка передвинулась: “Нет”.
— Ты знаешь, кто это сделал?
Тарелка передвинулась: “Да”.
— Ты знаешь, где он сейчас?
Тарелка осталась на месте.
— Розали, ты еще здесь?
Тарелка не передвинулась, но дрогнула.
Госпожа Вальк прошептала, что я могу задать свой вопрос. Не успел я открыть рот, как человек справа от меня резко поднялся и, содрогаясь всем телом, стал отступать к двери, бормоча под нос “Отче наш”. Лидия Бартельс уронила голову.
— Нет! — вырвался у меня крик. — Розали, вернись!
Госпожа Вайк вскочила и выпихнула дрожащего человека из комнаты. Дверь хлопнула, лампа зажглась. Лидия Бартельс открыла глаза, она потуже обвязала платок вокруг себя и поднялась, чтобы пересесть на стул. Госпожа Вайк стала выгонять людей из комнаты. Я был в таком смятении, что не сразу обратил внимание на то, что все смотрят на меня. Кто-то был огорчен, что сеанс закончился, прежде чем подошла его очередь, у кого-то во взгляде читалось, что теперь о Розали будут говорить даже те, кто никогда ее не знал. Я остался последним, прислонился к стене, по которой скакали тени от лампы, и сполз по ней на пол. Открыв глаза, понял, что смотрю прямо на прикрепленную за комодом фотографию президента Пятса.
— Вы должны уйти, — сказала госпожа Вайк.
— Позовите Розали обратно.
— Не получится. Приходите в следующий четверг.
— Позовите Розали!!!
Я должен был узнать. Кто-то говорил, что в деревне появился бродяга, пристающий к женщинам. Я не верил в бродяг, не верил в рассказы о русских военнопленных, работающих в домах батраками. В доме Армов таковых не было, мама бы сошла с ума, если бы увидела русских или услышала русскую речь, хотя я уговаривал их взять на работу пленных. Хозяйству Армов нужны были дополнительные руки, хозяин дома — одноногий инвалид, а я не мог приходить к ним каждый день. Но за пленными следили, за немцами же никто не следил.
— Послушайте, молодой человек, сеанс очень тяжелый, духи забирают у Нее всю силу, так как у них нет своей энергии. Такие сеансы можно проводить не чаще одного раза в неделю. Разве вы не видите, как Она устала? Пойдемте на кухню, я налью вам чего-нибудь горячего.
Госпожа Вайк сварила ячменный кофе и плеснула в стакан домашней водки. Я знал, что она помогает избавиться от нежеланных детей, хороня в лесу тайны прошлого. Если я не получу помощи у нее, то даже не знаю, куда мне идти.
— Я готов заплатить, только позовите Розали обратно. Все, что хотите.
— Мы делаем это не ради денег. Приходите в четверг.
— Я больше не смогу прийти сюда, меня заметили. Я должен найти виновного. Иначе я не смогу обрести покой. Розали не сможет.
— Тогда вы должны найти виновного.
Взгляд госпожи Вайк был тугим и жестким, словно узел на суровой нитке. Я смотрел на расставленные в углу кухни мышеловки и теребил под столом руки, которые не привыкли оставаться без дела. Залпом опрокинул стакан, ударив краем по зубам, — боль вспыхнула в голове, но не смогла затмить мысль, что я уже никогда не смогу связаться с Розали, а у этих женщин такая возможность есть. Я знал, что действую против ее воли. Она всегда говорила, что души умерших не надо призывать в этот мир, они должны пребывать в своем мире. Но теперь мне было все равно. Я оставил церковные дороги, они больше не для меня. К тому же церковь сама отвергла Розали.
Госпожа Вайк пошла проверить мышеловку, стоявшую рядом с сервантом, достала оттуда мышь и выбросила в ведро с помоями.
— Стало ли вам легче от того, что вы узнали, что Розали не обрела покоя? — спросила она.
— Нет.
— И все-таки вы хотели это знать. Иначе бы вы не пришли сюда. Мы лишь посредники. Мы не несем ответственности за полученные сведения и за то, что за ними следует. Странно, что вы не спросили о своем отце.
Я уставился на нее. Она медленно покачала головой, глядя мне прямо в глаза.
— В поезде. Он был уже в возрасте. Это произошло почти сразу. Поезд направлялся в Сибирь. Я думаю, вы догадывались об этом.
Я ничего не сказал. Госпожа Вайк была права. Розали говорила о мышах, поселившихся под кроватью матери еще в начале июня, но я не хотел ее слушать. Дочь госпожи Вайк Марта вошла на кухню и стала возиться у плиты. Это были еще одни уши, но я не смел ничего сказать.
— Ваша невеста приходила сюда вместе с подругой. Марта наверняка помнит тот вечер, на сеансе было слишком много народу, неожиданно пришли немцы, но мы не могли их прогнать, — сказала госпожа Вайк.
— Розали беспокоилась о вашем отце, о брате подруги и своем женихе. Из них появился только ваш отец, — добавила Марта, сбросила с головы платок и посмотрела на меня с сочувствием. Я не выдержал ее взгляда.
— Розали ничего мне не рассказывала об этом, она не любила, когда призывают души умерших.
— Она хотела знать правду. А после того, как узнала, решила, что надежда — это лучше, лучше для вас, — сказала госпожа Вайк.
Я выпил еще один стакан водки, опьянение не приходило. Мышь барахталась в ведре. План был готов, Юдит поможет мне.Вернувшись домой, я стал готовиться к выполнению задания: собрал рюкзак, почистил пистолет и сковал обручем сердце, защищая его от того, что было и что будет. Я чувствовал маленькую руку Розали на своей шее, она держала ее там во время нашей последней встречи. Я чувствовал ее все время. Никто уже давно не называл ее имени, тишина вокруг нее стала невесомой. Завидев меня, люди тут же начинали оживленно о чем-то говорить, о цветах на лугу или еще о какой-нибудь ерунде, только бы не оставлять пауз между словами, чтобы я не влез в разговор со своими дурацкими вопросами. Кто были эти люди? Неужели июньские репрессии сделали их такими пугливыми, каждый готов был молчать, лишь бы только немцы не пускали обратно большевиков. Неужели семья Армов радовалась тому, что у них никого не забрали, что только мой отец и брат Юдит попали в лапы к большевикам, неужели они так радовались, что готовы были молчать ценой жизни собственной дочери, а то ведь, не дай бог, тевтонские спасители сочтут их неблагодарными? Или они боялись, что я могу разозлить немцев, что стану требовать возвращения дома Симсонов? Похоже, даже Юдит стала неподходящей невесткой из-за своего брата, из-за того, что ее мать пыталась вернуть дом Йохана, или Эдгар уже оплатил безопасность матери в доме Армов благодаря своим связям с немцами? Как далеко готовы зайти эти люди, живущие в доме Армов? Казалось, я их больше не знаю. С отцом я попрощаюсь позже, продолжу свою работу по преступлениям большевиков, буду делать это в память о нем, но прежде я должен найти виновных в смерти Розали. Пришло время действовать, ждать больше нельзя.
— Что ты задумал? Надеюсь, без глупостей?
Эдгар стоял на пороге, как предвестник беды, полы его пальто вздымались на ветру, словно черные крылья. Я уже жалел, что вчера рассказал кузену об услышанном мною на обратном пути: соседский ребенок видел, как какой-то немец шел от дома Армов в ту самую ночь, когда ушла Розали. По крайней мере, на нем была немецкая военная форма, в темноте пацан не разглядел лица. Приходил ли он за банками с жиром? Вряд ли.
— Виновный бродит на свободе, а ты думаешь только о новой должности, — сказал я.
— В деревне видели бродягу. Он мог уйти куда угодно, — сказал Эдгар.
— Сам знаешь, что все это пустая болтовня.
— Ты обвиняешь всех немцев за то, что сделал один какой-то придурок. У тебя помутился разум, ты ведешь себя как сумасшедший.
Голос Эдгара загремел у меня в ушах. Мне пришлось встать, я прошел к печке, добавил дров, погремел кочергой.
— Какая была бы польза, если бы Леонида обратилась в полицию? Розали бы это все равно не вернуло.
Эдгар зачерпнул половником кашу в тарелку сначала левой рукой, а затем правой. Слова стали пропадать в такт поднимающейся ко рту ложке, смешивались с хлюпаньем и неодобрением и вместе с комками каши падали на стол.
— Подумай сам, Леонида пришла бы в полицию и сказала, что какой-то немец сделал что-то с Розали. И что дальше? Немцы стали бы обходить стороной их дом, а денег и так не хватает. Наверняка стали бы обходить, раз жильцы дома распускают необоснованные слухи.
Проговорив это, Эдгар укоризненно поджал губы, морщины вокруг рта стали глубже.
— Посмотри на себя. И посмотри на меня, на Леониду, на маму, на всех наших знакомых. Жизнь продолжается, и ты тоже должен идти вперед. Сбрей хотя бы бороду.
Слова Эдгара звучали нагло. Он всегда вел себя нагло, возвращаясь после “деловых встреч”. Часто он задерживался во дворе, словно бы продолжая с кем-то разговаривать, возможно, с новыми знакомыми или с кем он там встречался в городе. Я сказал, что он должен выяснить, что случилось с Розали, что говорят люди. Кто-то должен был знать, в деревнях секреты долго не хранятся. Я ждал новостей, но Эдгар, возвращаясь с работы, лишь качал головой. В конце концов я перестал верить, что он пытается что-то узнать. Идти к Леониде и к матери я не мог, боялся, что подниму на них руку. Эдгар время от времени заходил к ним, и ему бы мать точно рассказала, но он не мог говорить с ней о таких тяжелых вещах, не спрашивал имен, не интересовался, какие солдаты к ним приходили, не делал ничего, как я его ни умолял.
— А что, если это был не немец? Что, если ты напрасно их обвиняешь?
— На что ты намекаешь?
— А что, если это кто-то из ее ухажеров…
Эдгар лежал на полу. Тарелка с кашей разлетелась вдребезги. Когда он открыл рот, его зубы были в крови. Я стоял над ним и дрожал. Эдгар пополз в сторону двери. Я догадался, что он направляется в конюшню. Опередил его. Эдгар не смотрел на меня, он всегда боялся драк. Я испугался, что снова ударю, ударю и на сей раз убью его. Я подошел к двери, откинул крючок и открыл дверь.
— Исчезни!
Эдгар выполз на крыльцо. Я закрыл дверь и ушел на задний двор. Стал сторожить конюшню. Эдгар взял велосипед. Он вывел его на дорогу, остановился — вероятно, догадался, что я смотрю ему вслед из тени куста.
— Про нее говорили всякое, — прокричал Эдгар.
Он побежал, даже не пытаясь запрыгнуть на велосипед, видно, удар был действительно сильным.
— Разве ты не помнишь, у нее была подруга на винокурне! Туда-то она и бегала каждый раз, когда улучала момент. А как думаешь, почему бегала? Там были ее ухажеры, как немцы, так и наши!
Я было двинулся следом, но напряг все свои мышцы, чтобы удержаться на месте. Сердце мое было полно черных мыслей, ночные кошмары были еще чернее. Я стал похож на попавшее под обстрел дерево, с поломанными сучьями, весь в трещинах и разломах, и мир вокруг меня был таким же. Розали, моя Розали покинула меня. Я больше никогда не услышу веселого щебета моей ясноглазой невесты, не пройдусь вместе с ней по краю поля, не буду строить планы на будущее. Эта утрата никак не умещалась в моей голове, хотя вся обложка записной книжки была испещрена крестами лесных братьев. Но братья — совсем другая история, все они погибли в сражениях.
После ухода Эдгара я тоже собрался в дорогу. Взял с собой аккуратно вырезанные кузеном штемпели, наверняка пригодятся. Мерина я незаметно оставил в конюшне Армов. Хотя он и был моим единственным другом все эти дни, я не мог взять его с собой в город. Остановился только по прибытии в Таллин, у ворот дома на улице Валге-Лаэва. Я не знал, получила ли уже Юдит известие о случившемся, и если да, то что именно ей сказали. С моего резинового плаща лилась вода, и в голове снова всплыл тот момент, когда Эдгар стоял на пороге, а собранные Розали калужницы катились по полу.
Когда похудевшая фигура Юдит показалась у двери, я шагнул вперед. Казалось, я с трудом узнаю ее. Она прыгала по ступенькам как легкая птичка, и в груди у меня что-то дрогнуло — теперь каждая легкокрылая девушка напоминала мне мою любимую.
— Роланд! Что ты здесь делаешь?
— Пойдем в дом.
Внутри говорить было ничуть не легче. Я набирался смелости, напоминая себе о том, что еще некоторое время назад я был человеком, который все потерял, теперь же я человек, у которого есть план: я хотел найти виновного и подарить покой Розали. Я знал, что этим не верну назад наших полей, не воскрешу убитого большевиками отца, но, по крайней мере, выбью почву из-под ног моего врага.
— Как ты приехал?
— Приехал как приехал.
— Как дорога?
— Хорошо.
— Что-то случилось? — спросила Юдит.
Я уставился на стену в коридоре. Вокруг плаща, брошенного мною на стул, образовалось большое мокрое кольцо. Слова были такими тяжелыми, что я никак не мог вытащить их наружу. Я сидел в кухне за столом. Об отце я расспрошу ее позже, прежде всего мне надо посвятить ее в свой план. На столе стояли банки с топленым жиром. Странно было сидеть вот так, с пустыми руками. Но говорить оказалось еще сложнее, была бы хоть ручка, чтобы крутить ее в пальцах, или упряжка, чтобы ее смазывать. Я чесал щетину на лице, ворошил стоящие торчком волосы, вел себя крайне неприлично за столом у светской дамы. Такие вот мысли крутились в голове, совсем неподходящие, лишь бы только не думать о самом главном деле.
Тишина становилась гнетущей, Юдит беспокойно сновала по кухне, и, хотя ей явно хотелось задать вопрос, она молчала. И молча стала переставлять аккуратно расставленные кухонные предметы, убрала банки с куриным мясом в ящик, потом сказала, что Леонида привезла их, когда приезжала на рынок, продала целый ящик немцам, они отправляли их домой своим семьям.
— На эти банки можно купить все, что угодно. За две банки я выручила две пары носков. И яичный порошок.
Я открыл рот, чтобы заставить ее замолчать. Но я не знал никого, кто подходил бы для моего задания лучше, чем Юдит. И я сжал зубы.
— У тебя жар, Роланд.
Юдит протянула мне носовой платок. Я не взял его. Дверь кухонного шкафчика скрипнула, и она подсела ко мне с градусником. Капнула в стакан с водой каплю йода и протянула мне градусник и стакан. Я снова не взял. Юдит положила передо мной градусник, поставила стакан и достала из корзины все необходимое для компресса — развернула уже батист Бильрота и фланель.
— Ты выглядишь больным, — сказала она.
— У меня дело. К тебе. Тебе надо выведать кое-что у немцев. Это совсем неопасно и несложно, всего ничего.
— Роланд, о чем ты говоришь? Я не собираюсь впутываться ни в какие глупости, — стала отнекиваться Юдит.
— Розали…
Руки Юдит замерли.
— …Мою девочку похоронили за стеной кладбища. Без креста.
— Розали?
— Немцы.
— Что значит немцы?
— Немцы сделали это.
— Сделали что? Ты хочешь сказать, что Розали…
Я встал. Компрессы упали мне под ноги. Лоб у меня горел огнем, больше говорить я не мог. Отсутствие эмоций на лице Юдит было как ушат ледяной воды.
— Роланд, пожалуйста, сядь и расскажи, что произошло, — попросила она.
— Розали осталась теперь только в моем сердце и в сердце земли.
Юдит молчала. Веки ее хлопали, издавая звук, похожий на звук трепещущих крыльев, когда птица касается поверхности озера. Казалось, я вижу, как вокруг нее расходятся по воде круги.
— Ее похоронили за кладбищем. Немцы сделали это.
— Прекрати винить немцев.
— У меня к тебе дело, и ты это задание выполнишь. Я вернусь, когда все будет готово, — сказал я и ушел.
Юдит осталась стоять. Я успел спуститься до самого низа, когда наверху хлопнула дверь, и она сбежала следом за мной.
— Роланд, расскажи, ты должен.
— Не здесь.
В квартире я рассказал ей то, что знал сам.
Корзина Юдит валялась на полу, рассыпавшиеся по полу компрессы напоминали покрывала для покойников.Часть вторая
Наша основная задача — выявить попытки зарубежных фашистских группировок реабилитировать гитлеровских оккупантов и их приспешников.
Эстонское государство и народ в Великой Отечественной войне. Таллин, 19641963 Таллин Эстонская ССР, Советский Союз
Потолок скрипел от шагов. Скрип доносился оттуда, где этажом выше стоял комод, от комода к окну, от окна к шкафу, от шкафа снова к комоду. Глаза товарища Партса бродили по потолку, напряженные от сухости, не моргая. Время от времени было слышно, как жена садилась на стул, ножка стула царапала пол, звук отражался на лбу Партса. Он сжимал пальцами влажные виски и стучащие под ними вены, но каблучки жены не останавливались, а продолжали шагать на месте, стук проникал сквозь деревянные половицы, въедался в толстую коричневую краску, множился в штукатурке потолка и разбегался по трещинам, образуя невыносимую какофонию, которая мешала Партсу приступить к работе.
Маятник часов пробил одиннадцать, пружины кровати в спальне заскрипели, это длилось с минуту. Потом тишина.
Товарищ Партс прислушался. Потолочное перекрытие больше не прогибалось, его край у стены над плинтусом оставался неподвижным, еле заметное дрожание люстры прекратилось.
Было по-прежнему тихо.
Этого момента Партс ждал весь день, ждал неистово, время от времени вздрагивая от нетерпения. К ожиданию примешивалось возбуждение, все внутри бушевало, такое с ним случалось теперь все реже и реже.
Пишущая машинка стояла в полной боеготовности. Свет люстры мягко отражался в ее металлических деталях, клавиши сверкали. Товарищ Партс поправил шерстяную кофту, расслабил запястья и округлил кисти, словно бы готовился дать концерт, за билеты на который шла драка. Книга станет шедевром, все образуется. И все же Партсу приходилось признать, что в момент, когда он садился за письменный стол, ворот рубашки всегда сдавливал шею, словно был на размер меньше, чем нужно.
В машинке лежал недописанный вчера лист с подложенной копиркой. Запястья уже поднялись, готовые опуститься на клавиатуру, но, подумав, он отвел руки и положил их на отутюженные штаны. Взгляд застыл на напечатанных на бумаге словах, Партс прочитал их несколько раз, проговаривая себе под нос, взвешивая и смакуя, и наконец одобрил. Повествование все еще казалось свежим, давление ворота на шею немного ослабло. Воодушевившись, он выхватил первую страницу рукописи, вышел на середину комнаты, вообразил себя стоящим перед публикой и медленно прочитал первый абзац:...
На какие чудовищные злодеяния оказались способны эстонские приспешники оккупантов! На страницах этого исследования мы раскроем фашистские заговоры и расскажем о леденящих кровь убийствах. Здесь вы найдете доказательства зверских пыток, которые использовали гитлеровцы, прибегая к ним с удовольствием и без тени сомнения. Эта книга — воззвание к справедливости. Мы перевернули каждый камень, чтобы раскрыть преступления против советских граждан.
Товарищ Партс с трудом перевел дыхание, дойдя до конца абзаца. Дыхание перехватывало и от самого текста, и Партс счел это хорошим знаком. Начало — всегда самое важное, оно должно быть выразительным и захватывающим. Здесь было и то и другое, к тому же оно полностью соответствовало указаниям Конторы. Книга должна была заметно выделяться на фоне других произведений, затрагивающих тему гитлеровской оккупации. У него было три года — именно столько времени Контора выделила ему на проведение исследования и написание книги. Это был исключительный жест доверия, ему даже выделили новую “Оптиму”, которую он увез домой и поставил на письменный стол, правда, теперь уже речь шла не о контрпропагандистской брошюре и не о молодежных текстах о дружбе народов, даже не о поучительной сказке для детей, речь шла о произведении, которое перевернет мир: великую Родину и Запад. И его начало должно было быть решительным.
Мысль принадлежала товарищу Поркову, а товарищ Порков был практичным человеком, именно поэтому он любил книги и активно использовал их в работе. Он считал, что, покупая книгу, читатели оплачивают расходы на проведение операции. По той же самой причине Порков любил и кинематограф, но фильмы не относились к ведомству Поркова, тогда как художественное слово относилось, и надо признать, слова Поркова согревали Партса в моменты отчаяния, хотя он прекрасно знал, что Порков льстит ему, но именно капитан Порков порекомендовал Партса для выполнения задания, так как не знал никого, кто был бы более красноречив, чем Партс.
Сам момент объявления задания был исключительным. Во время одной из еженедельных встреч они сидели на конспиративной квартире и обсуждали корреспондентскую сеть Партса. Партс даже не догадывался, что Порков имеет на него совершенно иные планы. Что Москва уже рассмотрела личное дело Партса и одобрила выбор. Что через мгновение его приоритетом будет не обширная переписка с Западом, а нечто совсем иное. Неожиданно товарищ Порков сказал, что настал подходящий момент. Когда Партс в замешательстве попросил уточнить, что он имеет в виду, тот ответил:
— А то, что вы, товарищ Партс, станете писателем.Он получит внушительный аванс, три тысячи рублей. Половина из них уйдет Поркову, так как он проделал часть работы и подобрал материал, на основе которого надо было написать книгу. Все эти документы лежали теперь под замком в шкафу у Партса: две сумки книг о гитлеровской оккупации, в том числе изданные на Западе и не предназначенные для глаз советских граждан. Партс бегло ознакомился с ними и сделал соответствующие выводы как о предоставленном материале, так и о рекомендациях к написанию. Будущая книга должна показать, что Советский Союз крайне заинтересован в расследовании гитлеровских преступлений, даже больше, чем западные страны. Так как упор делался именно на это, было очевидно, что в западных странах на дело смотрят иначе. Словосочетание “Советский Союз” следовало как можно чаще сопровождать эпитетами “справедливый” и “демократичный”, а на Западе этого не делали.
Еще один важный момент — эстонские эмигранты, большая часть материалов, переданных Партсу, принадлежала перу активных и влиятельных беженцев. Очевидно, Политбюро беспокоили их громогласные антисоветские высказывания и дискредитация родины. А поскольку Москва была обеспокоена, на местах приступили к действиям, пришло время симметричного контрудара. Даже сам Партс не придумал бы лучше — выставить эмигрантов в невыгодном свете, что подорвет доверие к ним западных стран. Как только фашистские настроения эстонских националистов будут озвучены, Советский Союз получит всех предателей обратно на блюдечке, ни одна западная страна не станет защищать гитлеровцев, преступники должны предстать перед судом. Никто больше не будет слушать призывы и высказывания эстонских эмигрантов, никто не будет публично поддерживать их, так как это означало бы поддержку фашизма, а Национальный комитет Эстонии признают тайным обществом фашистских приспешников. Доказательств даже не требуется, подозрений вполне достаточно. Только намек, только шепот.
— Конечно, ваш собственный опыт придаст книге дополнительную достоверность, — добавил Порков, объявив Партсу о его новом задании. Они никогда раньше не разговаривали о прошлом Партса, но Партс намек понял, не было смысла скрывать причины, по которым он оказался в лагере в Сибири. Теперь эти же причины обернулись заслугами — каждый миг, проведенный на острове Стаффан, был ему на пользу, свидетельствовал о его осведомленности. — Мы никогда не смогли бы так успешно уничтожить этих националистских выродков без вашей помощи. Такое не забывается, товарищ Партс, — сказал Порков.
Партс сглотнул. Хотя Порков тем самым дал понять, что с ним можно спокойно говорить на эти темы, Партсу не хотелось обсуждать этот этап своего прошлого, поскольку он его все-таки компрометировал. Поркову же хотелось продолжить, и Партсу пришлось растянуть губы в улыбке.
— Могу сказать по секрету, что Комитет государственной безопасности ни от кого не получал столь полных сведений, все эти связные, английские шпионы, лесные бандиты, адреса… Огромная работа, товарищ Партс. Без вас путь бегства фашиста Линнаса на Запад остался бы нераскрытым, не говоря уже обо всех тех предателях, что помогали эстонским эмигрантам. Вы помогли их выявить.
Партс чувствовал себя голым. Порков говорил все это для того, чтобы показать, как много он знает о Партсе. Конечно знает, Партс и не думал иначе, но проговаривание этого вслух было демонстрацией власти. Метод был ему знаком. Партс заставил свою руку спокойно лежать на месте, хотя ей хотелось подняться и проверить, на месте ли паспорт. Он заставил ноги не двигаться, смотрел прямо на Поркова и улыбался.
— В ходе работы на антифашистском фронте я близко познакомился с деятельностью эстонских националистов, могу сказать, что хорошо разбираюсь в ней. Я бы даже осмелился назвать себя специалистом в этом вопросе.
Книга должна выйти в издательстве “Ээсти Раамат”. Порков позаботится о том, чтобы все прошло гладко. Партс может уже готовиться к подписанию договора с издательством, торжественный момент, шампанское и торт “Наполеон”, и гвоздики для жены. А потом будут переводы, много. Премии. Огромные тиражи. Его будут приглашать на все антифашистские мероприятия.
Он сможет оставить работу охранником на фабрике “Норма”. Авансов и коричневых конвертов от Конторы вполне хватит на жизнь.
В его дом проведут газ.
Партс просто не мог поверить своему счастью.
Проблема заключалась только в условиях для работы, дома покоя не было. Товарищ Партс попытался намекнуть на отдельный кабинет, но вопрос пока не решился, а жене о характере работы рассказывать нельзя, даже в надежде на то, что это успокоит слегка ее нервы. Партс вернулся за рабочий стол и расстегнул пуговицы воротника. Пора было приниматься за работу, Порков уже ждал первых пробных глав, на кону стояло так много — вся оставшаяся жизнь.1963 Таллин Эстонская ССР, Советский Союз
Холод, гуляющий по подвалу дома на Пагари, охватывал уже на улице, за сотни метров до входной железной двери. Товарищ Партс помнил этот особый холод еще со времен своей молодости, советских лет, предшествовавших приходу немцев. Он приходил в этот дом на встречу со своим тогдашним коллегой по НКВД Эрвином Виксом. Викс вышел из двери, ведущей в подвал, в ту минуту, когда Партс остановился стряхнуть дождевую воду с пальто. На манжетах Викса виднелись капли крови, от ботинок на белом полу остались кровавые следы. О находящейся в подвале барокамере ходили в народе разные слухи. Партс считал, что холод — это самое страшное, из подземных помещений всегда несло холодом, и холод этот сдувал прочь храбрость, с которой он шагал по улице до прихода в дом на Пагари. Здание Комитета госбезопасности десятилетиями так действовало на людей. Такого холодного ветра не было больше нигде, он проникал в лифт и на верхние этажи, дул прямо сквозь паркет и лишал Партса столь тщательно выработанной уверенности, едва он переступал порог кабинета товарища Поркова. Партс чувствовал паркетины сквозь подошвы ботинок, ощущал каждое волокно. Словно на нем снова были ботинки его молодости, с металлическими носами и такой протертой подошвой, что песок щекотал пальцы.
Порков приветливо улыбался, сидя за столом под портретами руководителей партии и опираясь локтем о картонную папку, которую он перед этим нарочито медленно закрыл, так что Партс успел заметить свою фотографию, мелькнувшую внутри. Они вместе полюбовались восхитительным видом на улицу Лай, открывающимся из окна кабинета Поркова, даже море было видно, и башня церкви Святого Олафа, которая так нравилась Поркову. Партс прищурился: отсюда, с Пагари, провод, ведущий к башне церкви, был едва заметен. На какое-то мгновение он даже подумал, а что, если у него когда-нибудь тоже будет такой кабинет, свой отдел, проходя по коридорам которого чувствовалось бы, что идешь по коридорам власти, а из подвала веяло бы холодом уже на других, не на него. Он позволил бы сотрудникам ездить только на старом лифте для обслуживающего персонала, а сам бы всегда пользовался главным лифтом, у него были бы ключи от всех кабинетов, от центра информации, видеоархива и подвалов. Каждое полученное в ночи по стрекочущему телетайпу сообщение было бы для него. Жизни всех граждан. Каждый телефонный разговор. Каждое письмо. Каждое движение. Каждая связь. Каждая карьера. Каждая судьба.
Штанины его колыхались от сквозняка, Порков откашлялся. Партс выпрямился, расправил плечи. Приглашение в светлый кабинет Поркова было знаком особого уважения, следовало вести себя соответственно, сдержанно. Хрустальный графин блестел в последних лучах заходящего солнца. Порков налил водки в чешские стаканы, включил люстру молочного цвета и сказал, что он очень доволен. Партс сглотнул — с его первыми главами ознакомились, Порков был в хорошем настроении, мед его хвалебных речей ввел Партса в некое вязкое состояние, в котором он то молча краснел, то пытался пробормотать что-то в ответ.
Опрокинув стакан, Партс ущипнул себя за руку и опомнился, ему еще предстояло поговорить о деле. Он уже много раз по дороге домой как бы невзначай проходил мимо здания на Пярнуском шоссе 10, рассматривал окна верхних этажей и испытывал страстное желание войти внутрь, рассказать о рукописи работникам Главлита, чтобы они поняли всю важность проекта. Но это только мечты, на самом деле он никогда этого не сделает, никогда не увидит воочию работников Главлита, которых надлежит убедить. Вместо этого ему надо попасть на разговор в издательство, расположенное в том же здании, и хорошо бы побыстрее получить деньги, но всему свое время, и об авансе лучше поговорить позже. Прежде всего нужно, чтобы Порков был доволен, надо добиться доверия. Не стоит портить прекрасное расположение духа товарища капитана, иначе он может счесть неуместной просьбу о расширении архивных материалов исследования.
Порков был в ударе, полбутылки беленькой было уже выпито, он вновь наполнил стаканы, и разговор заструился куда оживленнее. Сначала Порков, казалось, не понял витиеватой просьбы Партса, во взгляде промелькнуло некое удивление, столь пронзительное, что Партс догадался: Порков преувеличивает свое опьянение, как и сам Партс. И все же на опьянение можно было списать некую развязность поведения, и, держа это в голове, Партс решил высказать свою просьбу напрямую. Одновременно он позволил выражению лица сломаться, стал бормотать, что наверняка найдет в архивах дополнительные сведения о фашистских выродках, сможет идентифицировать их. Порков засмеялся, шлепнул Партса по спине и сказал: посмотрим, выпьем еще по одной и посмотрим. Наливая водку в стаканы, Порков снова взглянул на него, и Партс потер глаза, расслабил спину до пьяной мягкости, сделал вид, будто, ставя стакан, чуть не промахнулся мимо стола, и усилием воли сдержал правую руку, которой чуть не смахнул с плеча перхоть.
— Но вам и так предоставлено много материала для работы над книгой, его должно хватить. У нас есть указания, товарищ Партс.
Партс поспешил поблагодарить за предоставленный материал и добавил:
— Но я уверен, что в Москве товарища капитана будут считать героем, если результат превзойдет ожидания.
Эти слова заставили Поркова остановиться перед Партсом.
— Конечно, вы можете обнаружить в документах нечто такое, что другие не заметили.
— Именно. Я сам был свидетелем преступлений, совершенных фашистскими выродками, и погиб бы, если бы советские войска не освободили лагерь Клоога. Я посвятил всю свою жизнь сохранению памяти о героических действиях Красной армии и выявлению преступлений гитлеровской чумы. Я мог бы опознать даже охранников. Многие из них были эстонскими националистами, а впоследствии стали бандитами.
Порков вновь рассмеялся, капли слюны брызнули на стакан Партса, и Партс присоединился к сдобренному выпивкой хохоту в знак взаимопонимания. Любой человек на месте товарища капитана желал бы более высокого положения, а дела у Поркова шли очень хорошо. Сможет ли он устоять перед выложенной золотом дорогой, ведущей в Москву? В последние годы появилось так много книг о фашистских преступлениях, так много их разошлось за границей, что Партс знал, насколько важна эта тема. По какой-то причине Политбюро делало упор именно на этой деятельности в Эстонии, что привело к появлению конкуренции.
Порков опять наполнил стаканы.
— Я устраиваю небольшой праздник у себя на даче. Приезжайте вместе с женой. Хочу познакомиться с ней. Нам стоит всерьез задуматься о вашем будущем. Эстонцы скрывают националистов, не понимают, насколько они опасны. Это нравственная проблема, надо поднять нравственные идеалы нации, и у вас явный талант к этому.
Живот товарища Партса скрутило уже в автобусе. Неприятное чувство было связано не с водкой, выпитой в кабинете, а с возвращением домой и неожиданным приглашением Поркова. Товарищ капитан отнесся благосклонно к просьбе Партса, но сохранит ли он свое хорошее расположение, если Партс откажется от визита? Из окон доносился вечерний звон посуды, ярко освещенные кухни навевали тоску. В третьем по счету доме по средам варили суп с фрикадельками, а по четвергам молочный с вермишелью для детей, а для мужчин жарили мясо. Варили варенье. Партса ждали дома ледяная плита и кастрюля с картошкой в холодной воде — все, что осталось от соусов и котлет первых лет семейной жизни после возвращения Партса из Сибири. Урожая ягод с кустов во дворе ждать не приходилось — жена ни разу не удобрила землю под ними золой.
Однако у ворот Партса поджидало удивительное зрелище: ветер теребил развешенные на веревке простыни. Залюбовавшись на поднимаемые холодным порывом белые волны, Партс на мгновение остановился, он уже давно не видел ничего подобного, хотя в столь позднее время белье стоило бы перенести в дом. Но жена занималась стиркой, дома! Его вдруг перестала раздражать странная привычка жены сушить нижнее белье под простынями и то, что утром ванна была пустой, а замачивание на несколько часов в “Ферменте” никак не могло гарантировать хорошего результата, и даже то, что скоро снова начнется нытье про стирку в прачечной, хотя Партс прекрасно знал, как они там стирают; простыни же были подшиты мамиными кружевами. Но это все мелочи, главное, что ситуация уже не столь безнадежна и, возможно, произошел поворот к лучшему. И может, они даже смогут принять приглашение Поркова.
Партс приблизился к входной двери. Ференц Лист струился с проигрывателя жены, проникал во двор, на крыльцо и перила и затрепетал, переходя в руку Партса, как только тот схватился за них, поднимаясь по ступенькам. Надежда и страх, что его ожидания не оправдаются, боролись в его голове, когда он достал из кармана ключи, открыл дверь и переступил через порог, не зажигая света в прихожей. Из гостиной доносился вой, сквозь стекло двери, ведущей в комнату, струился свет. Вой то стихал, то нарастал, время от времени к нему примешивались слова. Все это время Партс надеялся, что дверь гостиной отворится и навстречу ему выйдет жена всего лишь немного навеселе, но разочарование уже выползало наружу, словно гниль из луковицы; искра надежды, загоревшаяся в нем при виде белья во дворе, погасла в полной окурков пепельнице на телефонном столике. Партс поставил портфель из натуральной кожи около трюмо, повесил пальто на вешалку и переобулся в домашние тапочки; только после этого он осмелился приоткрыть дверь гостиной и вступить на территорию жены.
Жена бродила взад и вперед в свете оранжевой лампы, подол ее платья задрался до пояса, кружева нижней юбки испачкались, оплывшее лицо закрывали растрепанные волосы. Зажженная сигарета дымила в пепельнице красным глазом, “Белый аист” был наполовину выпит, под столом собралась целая гора мокрых полосатых мужских носовых платков. Партс тихо прикрыл дверь и прошел на кухню. Его шаги были тяжелы, простыням придется подождать на улице. Удачно прошедшая встреча в доме на улице Пагари ввела его в состояние идиотской обнадеженности. Он просто надеялся, очень сильно надеялся, что они могли бы пойти на вечер вместе, как муж и жена. Какой же он дурак!
Несколько лет назад все было иначе. В Сибири Партс получил письмо от матери, она писала, что невестка в порядке и под присмотром. Сообщение о здоровье жены не всколыхнуло в нем никаких чувств, хотя это было первое известие о ней за долгие годы. Он не знал, чем она занималась до отступления немцев. Сам он довольно скоро предстал перед судом и был отправлен в Сибирь, а там мысли о жене были далеко не главными; когда же он наконец отправился в обратный путь, в Эстонию, было приятно думать, что у него есть дом, куда он может вернуться. Мамы и Леониды уже не было на свете, так же как и его родной матери Альвийне, в доме Армов жили теперь чужие люди, никого больше не осталось. Жена нашлась в Валге, в маленькой, но уютной комнатке, воздух которой портила вонь из единственного на всю коммуналку клозета, расположенного за соседней дверью. Сама по себе комнатка была вполне приличной, жена — в здравом уме, опрятная, — медленно кивнула, когда он стал объяснять, что если кто-то спросит о сибирской ссылке мужа, то ей надо помнить, что его осудили за контрреволюционную деятельность и за доверие к третьей стороне — англичанам — и что он получил десять лет за то, что призывал эстонцев объединиться после ухода немцев, а также за школу разведчиков на острове Стаффан; жена могла бы рассказать об этом другим вернувшимся из Сибири и помнила бы о судьбе своего брата.
Жена ничего не спрашивала, пожалуй, она и сама хотела безопасно передвигаться после захода солнца, а потому поняла, что самое важное в данный момент — это то, что Парст эстонец. Времена были не самыми лучшими для тех, кто некогда выбрал или кого подозревали в выборе иных сторон, кроме эстонской, в Конторе же приверженцев Эстонии не любили. К счастью, лагеря изменили лицо Партса до неузнаваемости, хотя с прежними сослуживцами он вряд ли столкнется — все они давно ликвидированы. Начало новой жизни было совсем неплохим. Спальня никогда не была для них с женой ни местом общего отдыха, ни ареной страсти, они научились делить постель, их холодность позволяла простыням оставаться свежими даже в самые жаркие дни, они стали товарищами, если даже не друзьями. Партс не жаловался на новое место жительства, не спрашивал, почему жена переехала сюда из Талина. Вернувшемуся из Сибири не стоило даже мечтать о чем-то лучшем, разрешение на переезд в столицу ему все равно никогда не выдадут. Надо было тихо сидеть в сторонке, позволить времени еще больше состарить его щеки, дать образоваться ямочкам на носу от ношения очков, выстроить новую внешность. Ошибок больше не будет.
Партс уже прожил в Валге некоторое время, когда по дороге домой ему вдруг повстречался незнакомый мужчина. Партс сразу понял, в чем дело. Распоряжения были очень простыми: надо втереться в доверие к тем работникам комбината, которые вернулись из Сибири, и доложить органам о настроениях возвращенцев и их антисоветских высказываниях, оценить, способны ли они на организацию саботажа, и следить за реакциями на получение писем из-за границы. Он справился на отлично, и его сочли подходящей кандидатурой для ведения переписки от лица человека, который приходил к нему по вечерам. Партс догадался, что его талант подделывать почерки уже известен людям в Конторе. Позднее он узнал, что специалисты по графике и почерку из Комитета госбезопасности даже завидовали ему.
Благодаря своим способностям Партс продолжал работать с эмигрантами. Для пущей убедительности он сфабриковал фотографии, на которых добавил себе медаль Лайдонера и сочинил красивое описание того, как генерал Лайдонер собственноручно наградил его этой медалью. Контора была довольна языком и тщательно продуманными фразами Партса. Излишней остроты и проклятий в адрес советской системы Партс избегал, потому что лишь самые закоренелые западные придурки способны были поверить, что письма, полные угроз и критических оценок, могли попасть за границу без благословения Конторы и почтовой цензуры.
Буквально через две недели он получил ответ на письмо, составленное согласно рекомендациям и отправленное Виллему в Стокгольм. Они вместе учились в Тарту, и Виллем очень обрадовался весточке с родины. Контора завела на Виллема дело, отдел ПК ускорил отправку писем матери Виллема в Швецию, и спустя месяц Партс уже ехал по заданию отдела в Тарту, чтобы наладить контакт с матерью Виллема. В течение двух месяцев Партс собрал достаточно доказательств того, что Виллем входит в круг американской шпионской сети, и получил за это поощрение: ему разрешили переехать с женой в Таллин. Он устроился работать на фабрику “Норма”, жена получила место дежурной на вокзале, где у ее был собственный стул на перроне поездов дальнего следования. У них наконец-то появилось место для раскладного дивана, и жена каждый вечер раздвигала для него диван в гостиной. Разве можно после такого успеха привести жену на вечер к Поркову, чтобы она там напилась? Нельзя. Они не смогут туда пойти. Партс так и не попробует подаваемую на вечере у Поркова белугу.
Поворотным моментом в их прохладной, спокойной семейной жизни стал судебный процесс по делу Айна-Эрвина Мере, проходивший два года назад. Партс был приглашен в качестве свидетеля фашистских преступлений и отлично справился: старательно отучился на курсах для свидетелей, организованных на улице Манеези, искусно использовал на суде все приемы, которым там научился, обвинял подсудимого со знанием дела и в то же время был страшно рад, что Англия отказалась выдать Мере Советскому Союзу: личная встреча с майором была бы слишком мучительной. Свидетельство Партса транслировалось по радио, об очевидце страшных расправ в лагере Клоога писали все газеты, его даже пригласили выступить в детском саду, где засыпали цветами. Вспышки фотокамер то и дело щелкали, а в радиопередаче об этом визите воспитательницы плакали, а дети громко пели.
Контора была довольна, жена — нет. Перемены были радикальными: жена стала пропускать работу, перестала за собой следить, запах алкоголя впитался в обои, красота ее поблекла, кожа стала серой, как пепел бомбардировок на женских волосах. Партс слышал от людей, что от жены несет водкой даже на службе, что однажды она упала со своего стула на перроне. В иные дни она вставала и бодро принималась за домашние дела — например, сегодняшняя стирка, — но после первого стакана забывала закрыть кран или открыть печные вьюшки, и вода из ванны текла через край. Теперь Партс проверял вьюшки по нескольку раз на дню и все время принюхивался, не пахнет ли газом.
Приговоры Карлу Линнасу и Эрвину Виксу подлили масла в огонь, и случайные срывы стали обычным делом. Партс хорошо помнил, как застал жену за чтением книги Эрвина Мартинсона о судебном процессе над Линнасом и Виксом с дрожащими руками и темной от сигарет струйкой слюны в углу рта. Она горестно вздыхала, и каждый такой вздох делал без того напряженную атмосферу в доме еще тяжелее. Партс выхватил книгу и запер ее в шкафу в кабинете. Голос жены был полон ужаса: знает ли он, какое место он займет на следующем процессе, знает ли он, куда все это приведет, что с ними будет?
После суда над Мере жена обезумела, с Партсом же происходил обратный процесс. Судебное заседание в Доме офицеров стало началом нового периода в его жизни, и он ухватился за представившуюся возможность, провернув все с выгодой для себя. Карьера свидетеля, жертвы и живого очевидца гитлеровских убийств уже сама по себе гарантировала безопасное будущее. Скорее всего, его станут приглашать и на другие процессы, даже, может быть, за границу, он востребован. Почему жена не понимает этого?
Предложение написать книгу открывало новые горизонты, великолепные перспективы. Если повезет, он сможет получить доступ к сведениям, использование которых правильным образом станет гарантией беспечной жизни, отпусков на Черном море и пропуском в специализированные магазины.
За процессом над Линнасом и Виксом последует бесчисленное количество аналогичных представлений, в этом Партс был совершенно уверен. Они уже шли, и новые готовились в других регионах, в Латвии, Литве, на Украине, в Болгарии. Просчеты, давшие себя знать в ходе процесса над Линнасом и расцененные как трудности первых шагов, больше не повторятся. “Социалистическая Законность” объявила результаты суда на Линнасом и его товарищами уже в конце 1961-го, хотя сам суд начался только на следующий год. Партсу это казалось абсурдным, но он воздерживался от комментариев и усмешек, когда об этом заходил разговор в обществе. В целом продвижение Конторы в этом вопросе было вполне заметным, разрабатывались новые методики, технический отдел стремительно развивался, а сеть агентов расширялась. Людям нужны были новые книги на актуальную тему. Партс радовался, что так удачно вписался в один из самых интересных поворотов в деятельности Конторы.
Если ему удастся и в дальнейшем удовлетворять запросы Конторы, настроение которой менялось так же, как у его жены, кто знает, может, настанет тот день, когда товарищ Партс непринужденно зайдет в ближайшее фотоателье и попросит сделать фотографию для загранпаспорта, именно так, и произнесет это таким тоном, будто это вполне обычное дело, будто он всегда был “выездной”, примерный гражданин Советского Союза, у которого есть право выехать за рубеж. Некоторые коллеги и знакомые, которых он даже не помнил, будут просить его привезти журналы про секс или хотя бы игральные карты с изображением голых женщин. В глазах у Партса мелькнуло лицо круглощекой девушки-гида из “Интуриста”, у которой были контакты на Западе и через которую в страну регулярно попадали несколько плотно привязанных к животу журналов. Игра продолжалась уже довольно долго, но, несмотря на это, девушку никогда не обыскивали: Конторе тоже нужны были журналы.
Книга Партса не успеет выйти к юбилейным торжествам будущего года, когда все будут отмечать двадцатилетие освобождения Талина из лап немецко-фашистских захватчиков, но в ходе празднования товарищ Партс, писатель и свидетель нацистских преступлений, станет одним из героев, одариваемых цветами. Возможно, общество филателистов Талина будет любоваться его чертами на марках и конвертах. Ему больше не надо будет вести бесконечную переписку и поддерживать ненужные связи, не надо часами возиться с письмами, поддельными и настоящими, чтобы провести “профилактику”, дезинформировать, прозондировать. С вербовкой репатриированных эмигрантов будет покончено. Контора поймет его потребность в собственном кабинете, журнал Cross & Cockade и другие западные газеты будут умолять его написать статьи о советских пилотах. Переписку он продолжит только с теми, кто захочет обменяться мнениями с заслуженным советским писателем или поговорить о его особом интересе — советских летчиках. Работа на фабрике и настроения эстонских беженцев останутся в прошлом, хотя бы потому что в их глазах он уже будет скомпрометирован. Он станет новым человеком, у него начнется новая жизнь.Единственной проблемой оставались нервы жены. После всех этих лет они расстроились окончательно — именно тогда, когда будущее стало таким ясным, а у Партса появилась поддержка Конторы.
1963 Таллин Эстонская ССР, Советский Союз
На конспиративной квартире не было никого, кроме товарища Поркова и Партса. Два стола, магнитофон, несколько стульев и постоянно дребезжащий телефон. Партс сидел молча: он держал в руках папку со списками заключенных лагеря Клоога и какое-то время с удивлением прислушивался к доносящемуся откуда-то урчанию; он чуть не спросил у капитана, не принес ли тот кошку, но придержал язык, поняв, что звук исходит из его собственного живота. Зеленый свет обоев стал таким ярким, что ему пришлось прищуриться. Товарищ Порков кивнул на папку и сказал, что списки неполные. Хотя фашисты увезли с собой архивы, Комитету госбезопасности удалось собрать необходимые сведения, да и комиссия по расследованию фашистских злодеяний проделала значительную работу.
— Однако осталось много неопознанных жертв, и мы хотели бы пополнить списки, — сказал Порков. — К сожалению, и имена некоторых палачей нам неизвестны. И таких немало. Мы очень надеемся на вашу помощь. Преступники не должны остаться безнаказанными — таковы нравственные правила Советского Союза. И мы руководствуемся именно ими. Вы сможете ознакомиться с материалами у себя дома.
Папка со списками узников лагеря Клоога не давала Партсу покоя целый день, щекотала нервы сквозь кожу портфеля, стоящего на полу фабричной сторожки. Ему хотелось тут же достать их, просмотреть хотя бы мельком, но он не был уверен, что сохранит самообладание, если вдруг что-то обнаружит. Он все еще нервничал, хотя краски окружающего мира вновь обрели свой привычный вид. И все же солнце никогда не стояло так высоко, а свет не казался таким ярким, Партс прикрывал рукой глаза даже в своей будке и целый день старался думать о другом, вести себя обычно, сосредоточиться на будничных обязанностях, смотрел за потоком людей, проходящих через ворота, на талии женщин, чьи трусы были набиты выносимыми с фабрики изделиями, на оттопыривающиеся карманы мужчин, следил за шумом, вызванным неожиданной проверкой, и за тем, как предложенный женщине-инспектору коньяк заставил ее щеки зардеться и как она, хихикая над шутками хлопочущих вокруг нее мужчин, пересекла вместе с ними фабричный двор. Инспектора обхаживали самые красивые мужчины фабрики. Партс равнодушно принял несколько плиток шоколада, кивнул водителю, который повез листовой металл для дачи инспектора, и подумал о жене, пообещавшей сходить за молоком, хотя он был почти уверен, что если сам не зайдет за молоком, то вечером в холодильнике его будут ждать пустые бутылки, на дне которых, возможно, осталось еще немного простокваши. Он старался думать о чем угодно, только не о содержимом своего портфеля, а по дороге домой уже начал бояться того, что может оказаться в той папке. Если он вдруг что-то обнаружит, к чему это приведет? В волнении он позабыл о молоке. В холодильнике стояла батарея молочных бутылок, на их алюминиевых крышках блестели просроченные даты. Партс вылил содержимое бутылок в раковину, почистил их ершиком и поставил в ряд, к которому жена никогда не притрагивалась, после чего прислонился к шкафу с новым газовым баллоном, задержал дыхание и, на мгновение прикрыв глаза, сел. Нет смысла в очередной раз расстраиваться из-за каких-то бутылок. Сейчас нужно сконцентрироваться на более важных делах, на списках лагеря Клоога. Вместо молока он решил удовольствоваться сметаной; громко звеня ложкой, Партс добавил в сметану сахар и купленный в магазине яблочный компот и направился в кабинет. Ему предстояло просмотреть списки Клооги, и если в них найдется что-то интересное, то он просмотрит также списки других лагерей, один за другим. Порков был столь благосклонен, что доступ к документам представлялся сейчас вполне возможным. Если Партс не наткнется на имена, компрометирующие его самого, он обязательно изучит и другие списки, какие угодно списки, пройдется по всем фамилиям и внимательнейшим образом займется каждым, кто мог бы его знать: жив ли еще этот человек, и если да, то где живет в настоящий момент.
Интуиция не подвела товарища Партса. В списках 1944 года обнаружилось знакомое имя. Только имя — ни даты смерти, ни отметки о переводе в другой лагерь, ни сведений об эвакуации в Германию. Имя, на месте которого он предпочел бы увидеть какое-нибудь другое имя. Чье угодно имя. Он искал знакомых людей, но это имя хотел обнаружить меньше всего; казалось, оно жгло язык, покрывая его страшными ожоговыми волдырями. Имя, которого не должно было быть в этих списках.
Кузен исчез из виду почти сразу после прихода немцев, и с тех пор Партс ничего о нем не слышал, никаких известий или слухов, даже от мамы, которая обязательно бы рассказала, если бы что-то знала. Партс решил, что Роланд либо сбежал на Запад, либо погиб еще до прихода советских войск, поэтому и возникал вопрос, каким образом Роланд оказался в Клооге и почему именно там, а не где-то в другом месте! Почему имя Роланд Симсон обнаружилось в списках заключенных лагеря? Партс внимательно просматривал бумаги и время от времени охлаждал рот сметаной. Трое заключенных упоминают Роланда, свидетельств самого Роланда нет. Мужчина по имени Антти помнил дату появления Роланда в лагере, так как это был день его рождения, и он решил отдать свой кусок хлеба первому заключенному, которого встретит в этот день. Роланд Симсон только что прибыл в лагерь, он представился на чистом эстонском языке и вел себя так, словно они были совсем не в лагере. Антти надеялся, что Роланд попадет в его бригаду, все евреи были в плохом состоянии, а Роланд оказался хорошим работником. Партс сжал руки в кулаки, так что ногти врезались в кожу, и проклял все на свете праздничные дни. Боль отрезвила голову. Роланд прибыл в лагерь незадолго до отступления немцев. Скорее всего, его расстреляли еще в лагере, а тело просто осталось неопознанным, или, если даже ему удалось выбраться из лагеря живым, его наверняка убили в лесу или сразу же после прихода советских войск. Вот только с кем он успел встретиться до этого? С кем общался? Как долго он успел пробыть в лесу, в каком отряде? На Роланда должна быть отдельная папка, необходимо найти сведения о его смерти или о месте заключения. Партс долго грыз ручку, пока та не сломалась. Требовались надежные источники.1963 Таллин Эстонская ССР, Советский Союз
В стопке документов показалась тетрадка с клеенчатой обложкой. Записная книжка. Партс сразу же узнал почерк; пол ушел из-под ног, угол стола, казалось, подался вперед. Этого он никак не ожидал. Все, что угодно, только не это. Даже тщательная подготовка к визиту в архив не помогла Партсу сохранить самообладание, находка была слишком значительной. Он постарался успокоить дыхание и заставил ноги твердо стоять на полу, щеки его некоторое время нервно подергивались, но усилием воли он взял себя в руки и сосредоточился на изучаемых материалах, хотя стол и стул словно стали пластилиновыми и таяли прямо на глазах от неожиданно поднявшейся в зале температуры, он чувствовал, как фанера прогибается под ним, хрустит и ломается, но мысленно все время твердил себе, что это всего лишь обман чувств, фокусы разума, не более. Он сжал край стола, словно штурвал самолета, и открыл записную книжку на первой попавшейся странице. Написанный в углу страницы год ударил в бок словно снаряд.
Когда проверяющий отошел к дальнему столу, записная книжка, будто сама собой, устремилась под рубашку Партса. Он толком не понимал, что делает, и одновременно прекрасно понимал. Укрытие доказательств было отягощающим обстоятельством, легко проверяемым, если вдруг кто-то решить сверить найденный в архиве материал со списком, в котором все выданные Партсу материалы были отмечены; столь же легко было проверить и список лиц, которым данная записная книжка выдавалась на руки. Его не спасло бы даже ее возвращение, было слишком поздно сожалеть о содеянном. Записная книжка лежала у него под боком, и он чувствовал ее запах, ее прямое попадание.
После кражи товарищ Партс старался вести себя как обычно и погрузился в изучение других разложенных на столе материалов, но кожа, соприкасающаяся с записной книжкой, покрылась липким кислым потом, доносящийся с других столов шорох страниц громом отзывался в ушах, каждый стук, каждый кашель, каждый звук казался ему признаком того, что его проступок заметили, что нервно подергивающиеся щеки уже выдали его, и ему хотелось тут же вскочить со стула. Взгляд Партса упал на стоящего перед читательскими столами проверяющего, и он тут же овладел собой, его зрачки не расширились, он не отвел взгляд слишком поспешно, в этом он был уверен, как и в том, что на лице проверяющего не мелькнуло ни тени подозрения. Никто ни в чем его не подозревал. Проверяющий опустил глаза обратно к разложенным на столе спискам, вероятно, к новым запросам, так, словно ничего исключительного не произошло, и стал изучать их, закрывая в выдаваемых книгах страницы и даже целые параграфы, разрешения на просмотр которых не было у будущих читателей.
Партс уже имел возможность познакомиться с крайне опасными книгами, помеченными двумя шестиконечными звездами, теперь же он получил на руки еще более горячие материалы, и что же он натворил? Поставил все это под угрозу. Он получил разрешение на ознакомление с материалами особых библиотек и архивов спустя несколько месяцев после того, как они вместе выпивали с Порковым в его кабинете. Это усилило позиции Партса. Тот факт, что стальные двери архивов наконец-то распахнулись для него, было победой, Партс прошел испытание. Протягивая документы начальнику отдела, он почувствовал себя привилегированным человеком. Он был не абы кто. Еще немного, и он сможет стать кем захочет. Даже никем. Все это он поставил на карту ради записной книжки.
Партс еще раз попытался сосредоточиться, заставил себя разглядывать изображения землянки, внимательно вчитывался в каждый заголовок бандитских листовок. Он должен вести себя столь же непринужденно, как и проверяющий, как все остальные, сидящие в читальном зале, он должен ознакомиться со всем выданным ему материалом прямо сейчас, так как неизвестно, будет ли у него другая возможность прочитать все эти довольно профессиональные, но незаконные газеты, получит ли он еще раз доступ к ним, поймают ли его, и если да, то что будет дальше. Большинство газет представляли собой одинарные листы, заполненные текстом с обеих сторон, но встречались и номера, состоящие из четырех или даже шести страниц. Их гневный язык имел определенные, легко вычисляемые черты, Партс помнил об этом еще со времен учебы на Стаффане. Тогда он принимал участие в формировании группы идеалистов, в задачу которой входило выдворение Красной армии с эстонских земель. В другие времена он бы улыбнулся, вспомнив свою юношескую наивность, а сейчас не самый подходящий для этого момент, но он еще обязательно улыбнется, он позаботится о том, чтобы иметь возможность улыбаться, когда ему хочется, но именно поэтому надо сейчас выпутаться из этой ситуации и не попасться на краже. Если бы похищенная вещь была менее значимой или хотя бы год в углу страницы был иным, он, возможно, не волновался бы так сильно. Однако год и автор записной книжки не сулили ничего хорошего, клеенчатая обложка обжигала голую кожу, въедалась до самого мяса, Партс летел над океаном на дымящемся самолете. Его указательный палец нерешительно обводил контур рисунков, застывал на мгновение на дымовых трубах, печах, на устроенных вдоль стен нарах и вентиляционных трубах, и, как он ни старался изменить курс, фюзеляж уже был пробит, пальцы невольно соскользнули со страниц и расстегнули верхние пуговицы рубашки, вены на шее шумно стучали о ткань, стучали яростно, сердце билось о записную книжку, живот взмок от пота, лопасти винта тонули в высоких волнах. Где-то за читательскими столами послышался звук разжигаемой трубки, спичка чиркнула о коробок, мужчина встал, посмотрел прямо на Партса и выпустил дым изо рта. Неужели он что-то заметил? Партс больше не мог оставаться за штурвалом, придется покинуть самолет, придется спрыгнуть.
Стул заскрежетал по паркету, когда Партс стал подниматься, дотошная рука проверяющего остановилась, голова поднялась. Партс подошел к столу и положил выданные ему папки перед проверяющим. Потные пальцы оставили темные следы на рисунках, но проверяющий ничего не сказал. Он стал медленно сверять содержимое со списком, чернила рисовали отметки в графах с мучительной точностью, и Партс уже приготовился протестовать, если проверяющий заметит, что в принесенной Партсом стопке недостает одного документа. Он сказал бы, что не получал его, приготовился дать полный отпор, с яростью кричать о халатности и небрежности женщины, которая принесла материалы, но именно в этот момент в замке стальной двери заскрипел ключ, и упомянутая женщина вошла в зал. Партс замер, женщина попыталась пройти за спиной проверяющего к картотеке, но ее широкие бедра, покрытые пестрым ситцем, задели стоявшую на краешке стола стеклянную пепельницу, которая, упав на пол, разбилась и тем самым привлекла взгляды всех сидящих в зале к проверяющему; женщина подпрыгнула, перевернулась чернильница, чернила оставили кляксы в графе, проверяющий заворчал, схватил стопку салфеток, русские ругательства эхом разбежались по залу, проверяющий попросил всех заниматься своим делом, в это время стопка книг, лежавшая на краю стала, упала, а Партс сухо сообщил, что торопится и что возвращенные материалы, пожалуй, сумеют принять без его участия. Он оставил проверяющего ругаться с женщиной, отметив про себя, что чернила залили список, а пепел разлетелся по комнате. Он подхватил ключи, оставленные женщиной на столе проверяющего, открыл ими стальную дверь, бросил их читателю, сидящему за ближайшим столиком, и вышел из зала, не привлекая к себе особого внимания.1963 Таллин Эстонская ССР, Советский Союз
Товарищ Партс занес руку над столом и опустил рядом с записной книжкой. Наверху было тихо, жена отключилась. Бумага записной книжки отсырела, ее края стали мягкими. Партс задержал дыхание, приподнял обложу большим пальцем и отрыл первую страницу. Записная книжка оказывала на него все то же действие, хотя он просмотрел ее уже несколько раз: пульс учащался, по спине начинали бегать мурашки. Страницы были исписаны убористым почерком, где-то карандашом, где-то бледными чернилами, сильный нажим на перо то и дело оставлял дырки на испещренных лиловыми разводами листах в клеточку. В очертаниях букв Партс улавливал эмоции, владевшие пишущим, но здесь не было ни одного названия, ни одного реального имени. Даже закодированные имена выглядели странно, автор явно сам их придумал, ни одно из них не упоминалось в других подпольных записях, которые изучал Партс.
Некоторые авторы таких записей тщательно фиксировали полные данные членов своих отрядов, даты их поступления, а также расположение землянок, всё подряд, количество продуктов, места хранения оружия и боеприпасов — абсолютно тупо, всё до мельчайших подробностей. Но этот автор был редким исключением. На записной книжке было указано, что она принадлежит неустановленному бандиту и что нашли ее в жестяной коробке в одной из сгоревших землянок. В землянке также обнаружили три трупа бандитов, входивших в Союз вооруженной борьбы, опознанных, но неизвестных Партсу. В ходе расследования было установлено, что записная книжка не могла принадлежать ни одному из них, отдел по борьбе с бандитизмом предоставил образцы почерка всех троих убитых, и ни один из них не являлся автором записной книжки. Эта книжка была единственным свидетельством существования этого неизвестного бандита, и только Партс знал, что принадлежала она Роланду Симсону.
Записи велись с 1945 года и заканчивались на последней странице 1950–1951 годами. Именно последние страницы были самыми шокирующими — не из-за содержания, а из-за указанных дат. Последние предложения были написаны спустя семь лет после установления советской власти и закрытия границ. Это доказывало, что Роланд был жив, по крайней мере, еще два года после мартовской зачистки, когда группы поддержки бандитских формирований были уничтожены по всей стране, помощники выдернуты с корнем, словно сорная трава, и не осталось ни одного двора, где поддерживали бы лесных братьев, всех загнали в колхозы, сопротивление было сломлено.
Роланд не был расстрелян в Клооге, как сначала предположил Партс, не окончил свои дни в безымянной могиле в подвале дома, сожженного немцами, не попал в плен и не умер от ран в лесу. Будучи заключенным, он не мог уехать из страны, эвакуировать его не успели. Если он был жив и на свободе до пятьдесят первого года, то убить его уже никто не мог. Значит, он где-то здесь.
Партс решил не паниковать. Он разгадает эту загадку, научится понимать Роланда, как самого себя, он станет как Роланд. Только так можно выйти на его след. И чем скорее он поймет авторов этих дневников и записных книжек, тем скорее отыщет провалившихся сквозь землю героев, а среди них и автора этой записной книжки. Он должен понять ход их мыслей лучше, чем своих собственных. Потому что, даже если человеку удается получить новое имя, новый паспорт и сочинить себе новую биографию, что-то из его прежней жизни останется с ним навсегда и позволит его вычислить. Товарищ Партс знал это как никто другой.
Вырисовавшийся после прочтения записной книжки образ никак не соотносился с тем человеком, которого знал Партс. Тот бесстрашно, как одержимый, бросался в бой, автор записной книжки был более осторожным. Однако записи велись таким образом, словно предполагали наличие в будущем какого-то читателя. Этого Партс никак не мог понять. Роланд жил в долине смерти, у него не было никакой надежды на возвращение к нормальной жизни, ни единого шанса выжить, откуда же столь глубокая уверенность в том, что когда-то его голос будет услышан? С другой стороны, как раз в этом Роланд не был одинок. Партс хорошо помнил упорство, с которым в Сибири люди запихивали в стеклянные бутылки записи с историей своей жизни, с воспоминаниями, “на этих страницах собраны сведения о преступлениях большевиков для будущих поколений” и так далее в том же роде, бутылки, которые тайно хоронили там же, где и их авторов, в анонимных могилах. Вероятнее всего, часть этих бутылок теперь покоится где-то в архивах за семью печатями, так же как и столь искусно добытая Партсом записная книжка, и доступ к ним имеют лишь проверенные органами безопасности люди, а часть записей так никогда и не будет найдена и прочитана. Партс вспомнил о коллеге, которого ребенком увезли в Катынь. Размякший от водки, он шептал, что конечно же они знали, что случилось с поляками, и эстонцы будут следующими. “Ты бы видел лица матерей”. Всем полякам сделали прививки, их повели к автобусу, и никто не сопротивлялся: разве идущим на смерть выдали бы сухой паек в дорогу, разве идущим на смерть стали бы делать прививки? “Но мы, эстонцы, все понимали. На вагоне, в котором нас везли, было написано: “На восемь лошадей”. Но почему поляки исписали стены приспособленного под тюрьму монастыря своими именами и воинскими званиями, которые вскоре исчезли под надписями следующих заключенных? Неужели все дело в неистовом глубинном желании писать, потребности оставить какой-то след на земле? Неужели у Роланда тоже было такое желание, дурацкое представление о том, что в конце концов истина обязательно откроется? Да, было.
А может, Роланд был как тот русский, который рассказывал, что проводил опыты с ипритом в особом отделе в Москве и без всякой надежды выцарапывал химические формулы на нарах. Партс делил с ним тесную каморку в этапном лагере, и тот объяснил, что начальник особого отдела очень интересовался воздействием газа на человеческую кожу. Действием яда кураре, рицина. Самые важные результаты получали в ходе опытов на людях. “Я четыре раза выхаживал одного немецкого солдата, и лишь на пятый раз доза оказалась смертельной”. Партс не смог запомнить с ходу формулы ученого, хотя сразу понял, что в будущем рецепты старика будут иметь хорошую цену. Множество государств счастливы были бы их получить, но тогда связь с заграницей казалась недостижимой мечтой. Разумнее было оставить лаборатории в покое, старик сказал, что он единственный из его коллег, кто еще жив. Возможно, именно поэтому он испытывал потребность в передаче своих знаний кому-то. Может, это и побудило Роланда вести записи — уверенность в том, что дни его сочтены?
Партс пробовал на язык имя “Роланд”. Он постепенно привыкал к нему, должен был привыкнуть. На протяжении следующих лет это имя будет проходить через его мозг множество раз, и оно должно входить и выходить легко, не прожигая, как сейчас.
Задняя сторона обложки была исчерчена крестиками. Целая страница маленьких крестов в память об убитых, перо цепляло бумагу, почти прорывало страницы. Но ни одного имени.Товарищ Партс осторожно положил записную книжку обратно на стол и стал просматривать выписки из бандитских газет и листовок. Ближе к концу новости становились все более расплывчатыми, надо было как-то поднимать боевой дух, это понятно. В записной книжке тоже чувствовалось беспокойство оттого, что уже давно в отряды не приходят новые люди. До смерти Сталина большинство незаконных формирований были уже уничтожены — 662 бандитские группировки и 336 подпольных организаций. Сколько их еще после этого оставалось в лесу? Сотни, несколько десятков? Десять? Пять? Оставался ли Роланд в лесу? Один или с кем-то, или даже целым отрядом? Или же он согласился на амнистию? Многие скрывавшиеся в лесу так и поступили, но об этом должны были остаться записи, а потом в ходе легализации его бы обязательно допросили о событиях в Клооге и упоминания об этом были бы в деле. Нет, Роланд не принял амнистию. Или ему все же удалось раздобыть себе новые документы? Массовый приток в страну эстонцев из России и ингерманландцев позволил многим нелегалам раздобыть себе временный паспорт, паспорта тогда часто выкрадывали в поездах. Заявления о пропаже паспорта, а также начального владения русским языком было в какой-то период достаточно для получения нового паспорта, главное, чтобы заявитель был родом из Ленинградской области и чтобы кто-то из местных предоставил ему жилье. Мошенников ловили, когда заканчивался срок действия паспортов. Если Роланд проделал эту операцию, то как ему удалось потом получить новые документы? С кем он общался все эти годы, кто его сообщники? Кто-то должен был ему помогать, кто-то помогает ему до сих пор, независимо от того, скрывается он в лесу или живет в городе среди людей.
Партс схватился за карандаш и записал несколько слов для пробы на промокашке: “Мой кузен, вероятно, находится в Канаде или в Австралии. С благодарностью приму любые сведения о нем, у меня не осталось никого, кроме него”. Завтра он отнесет объявление в редакцию газеты “Кодумаа”. Пока Контора не знает, что он разыскивает автора записной книжки, он может спокойно искать своего кузена и знавших его людей, объясняя это тем, что подобный прием вызовет сочувствие и доверие к нему у соотечественников за рубежом. Партсу уже удалось отыскать с помощью газеты многих людей и завязать с ними доверительные отношения; ориентированная исключительно на эстонцев, проживающих за границей, “Кодумаа” получала восторженные отзывы в среде эмигрантов. Поиску пропавших родственников и друзей был отведен специальный раздел, который вызывал симпатии даже у тех, кто настороженно относился к Советскому Союзу. Создание этой газеты было, бесспорно, одним из самых гениальных решений Конторы. Раньше в обязанности Партса входило изучение настроений в среде эмигрантов — ностальгия и возрастающее недоверие к родине, — но сейчас ситуация изменилась. Может быть, стоит предложить органам сфабриковать объявления тоскующих родственников на страницах “Кодумаа” для поиска свидетелей по делу лагеря Клоога. Кто-то всегда что-то знает, знает кого-то, кто знает что-то, а Партсу доверяли, он человек, который прошел через Сибирь, он не принадлежал ни к какой партии и был награжден Лайдонером.
Лишь в отношении Айна-Эрвина Мере он ошибся. Когда у Партса спросили о том времени, когда Мере возглавлял Группу Б, ему не стоило преувеличивать их близость — но кто же тогда мог знать, что Мере откажется от сотрудничества с Конторой. Решение было крайне неожиданным еще и потому, что в Комитете госбезопасности обнаружилась информация, которая помогла бы его продвижению: до прихода немцев Мере работал чекистом в Народном комиссариате внутренних дел. Партс получил разрешение на обнародование этого факта в ходе переписки с Мере, или, точнее, с Мюллером — именно под таким именем Мере значился в годы работы в НКВД. В своем письме Партс вспоминал о встречах у старой мельницы и игриво называл своего друга Айн-Мюллером. Мере так и не ответил на это письмо, что было с его стороны невероятной глупостью. Партс нисколько не сомневался, что мог бы добиться лучших результатов, если бы ему позволили посетить майора в Англии, но нет, ему разрешили только писать. Англия же не согласилась выдать Мере Советскому Союзу. Больше таких неудач не будет. Партс позаботился о том, чтобы его свидетельство по делу Айна-Эрвина Мере не было опубликовано в “Кодумаа”, хотя в целом судебный процесс освещался довольно широко. Это могло испортить образ, созданный Партсом для зарубежных друзей по переписке, — они не верили в советское правосудие.Казалось чудом, что Роланда до сих пор не нашли и даже не искали, хотя его имя черным по белому значилось в списках концлагеря Клоога, — ведь всех тамошних заключенных, выживших, но избежавших принудительной эвакуации в Германию, подозревали в шпионаже. Поэтому Партс наверняка будет не единственным, кто пустится на поиски Роланда, но ему нужно найти его раньше, чем оба они окажутся на одной и той же скамье подсудимых. Теперь, когда деяния фашистов рассматривают в микроскоп, свидетелей по делу концлагеря Клоога разыскивают особенно тщательно. Партс знал это как никто другой. Никто не укроется. Работа над книгой послужит прекрасным прикрытием, чтобы найти Роланда.
1963 Таллин Эстонская ССР, Советский Союз
Марк был типичным представителем фашистских выродков”, — Партс попробовал на вкус написанное предложение. Поезд задребезжал в окнах и нарушил заданный ритм, медленно растущая возле “Оптимы” стопка бумаги задрожала. Предложение было емким и содержало достаточно сильный заряд, но при этом оставалось холодноватым, не способным пробудить эмоции. Кошмары, читатели должны увидеть кошмары. Поэтому людоедство было гениальной находкой Мартинсона, хотя гением Партс бы его не назвал. Нет такого ребенка, в чьи сны не пробрался бы людоед, а следы столь раннего переживания практически невозможно стереть из памяти, никто не сможет изменить сформированные в детстве представления о людоедах. Эрвин Мартинсон одним словом повернул историческое колесо в полезную для отдела сторону. Одним-единственным словом! Чувство сильнее разума, об этом в Конторе знали. Чувство способно победить здравый смысл, но для этого сначала надо пробудить чувство. Партс вытер испачканные в пастиле пальцы, заправил лист бумаги с копиркой в машинку и просмотрел последнее издание справочника по запрещенной информации. Товарищ Порков заколебался, протягивая брошюру Партсу, но все же счел его достойным ее получить. Тут были списки слов, вызывающих эмоции: негативные в одной колонке, позитивные — в другой. Сначала Партс думал, что такие жесткие требования не позволят ему развить свой собственный язык, отточить мастерство, но в конце концов соблюдение правил оказалось делом привычки: все вредное отсеивалось само собой.
...
Известно, что Марк при украшении рождественской елки брал пример со своего начальника. Он украшал ее золотыми обручальными кольцами советских граждан, привезенных в лагерь и оставшихся в нем навеки. Его дети водили хороводы вокруг елки, а он любовался этим зрелищем.
Партс похрустел пальцами. Он не помнил, где и когда видел елку, украшенную подобным образом, и видел ли вообще, но образ был такой впечатляющий, что грех было его не использовать. Одновременно подчеркивались негативные ассоциации, связанные с рождественской елкой вообще, что тоже неплохо. Правильную ли интонацию он выбрал? Партс поджал губы. Вероятно. Но может, стоит добавить какие-то конкретные детали, впечатления очевидцев. Например, женщины, которая вынуждена наблюдать эту картину.
...
Отправленная в Тартуский концлагерь Мария была счастлива, что ее назначили служанкой в дом Марка. Счастлива, потому что избежала более жестокой судьбы и потому что могла время от времени уносить оттуда остатки еды, но глубоко несчастна, потому что вынуждена была подавать на стол рождественские блюда в тот самый момент, когда воск со свечей заливал обручальные кольца замученных советских граждан. Было ли среди них кольцо ее матери? Или ее отца? Мария этого так и не узнала.
Товарищ Партс стучал по клавишам “Оптимы” так яростно, что на бумаге появились дырки, молоточки сцепились и клавиши не слушались. Кольца советских граждан? Или евреев? Не отодвинет ли упоминание о евреях страдания советских граждан на второй план? Не обесценит ли жертвы советского народа, не уменьшит ли его величие? Партс заметил, что в закрытых материалах, изданных на Западе, евреям уделялось особое внимание.
Он распутал молоточки, вынул из машинки лист, встал и прочитал вслух несколько предложений. В тексте появилось нужное напряжение. Женщины — пожалуй, стоит сосредоточиться на женщинах, они вызывают эмоции. Мария, безусловно, очень хороший персонаж, она внушает жалость. Марк будет недостаточно плох, если рядом не окажется героини, через которую жестокость Марка проявлялась бы в полной силе, чьими глазами читатель смотрел бы на рождественскую ель и рождественский ужин. Да, свидетельства Марии необходимы. Но не отдает ли это сентиментальностью? Нет, пока нет. О людоедстве Партс в любом случае писать не хотел. Достаточно того, что ему и так приходилось постоянно ссылаться на книги Мартинсона, они входили в список работ, рекомендованных к цитированию. Разумеется, со временем его собственная книга будет цитироваться не менее широко, и каждая отсылка к ней будет придавать ей достоверности, убедительности и укреплять его престиж, но пока имя Мартинсона он печатал неохотно.
Партс вынул ноги из тапочек, размял пальцы и отломил кусочек пастилы. В книге Мартинсона он обнаружил идеально подходящего для своих целей персонажа — Марка. Военный преступник и хладнокровный убийца, который так и не был пойман, даже неизвестно, Марк — его настоящее имя или прозвище. Эту линию легко было развить. Имелось множество свидетельств жестокости Марка, однако о нем самом ничего известно не было. Партс встряхнул головой, раздумывая о том, как ошибки коллег в конечном счете обернулись ему на пользу. По документам было видно, что органы безопасности прибегали к услугам неопытной молодежи, информация была отрывочной, профессиональных кадров явно не хватало.
В ходе допросов никто не догадывался задать уточняющий вопрос или получить более конкретные сведения. Многие свидетели называли людей только по имени или только по фамилии, отыскать их след на основании этих данных было невозможно. Недостатки этих методов, повсеместно применявшихся в конце сороковых годов, стали ощутимы лишь позднее. Живых свидетелей практически не осталось — арест сам по себе был достаточно веским основанием для смертного приговора. То, что данные Роланда оказались столь четко прописаны в бумагах концлагеря, можно счесть усмешкой судьбы.Марк был широкоплечим и мускулистым, его мощь поражала всех, на кого он обрушивал свою ярость, к тому же он часто напивался. Мария, вечерами начищавшая до блеска сапоги хозяина, вспоминала, как Марк делился с ней своими подсчетами: сколько вышло бы из Марии железных гвоздей, сколько спичек из содержавшегося в ее организме фосфора или сколько обыкновенного мыла. Мария слышала также, как Марк обучал детей математике, заставляя их считать, сколько направленных в лагерь военнопленных поместится в одной серой машине шоколадной фабрики “Брандман”. Серая дверь машины “Брандман” с шумом захлопнулась…
Стучащие по клавишам пальцы замерли. Резкий хлопок произвела не дверь серого автомобиля, он долетел с верхнего этажа. Плечи Партса напряглись, он прислушался. Тишина. Тишина, однако, не сняла напряжения, вслед за плечами окаменела шея. Он достал из ящика стола упаковку аспирина, разорвал бумажную обертку и вытащил таблетку. Оборвавшееся на полуслове предложение не возвращалось, оно было утрачено, напряжение в шее медленно переползало в затылок. Головная боль сейчас совсем не к месту, Партс уже было поднялся, чтобы идти за анальгином, который лежал на кухне рядом с валерьянкой жены, но снова сел и проглотил аспирин всухую. Работа должна двигаться вперед, пастила помогла избавиться от горечи, оставшейся во рту после таблетки. Партс занес руки над машинкой и вызвал в памяти образ мускулистого и грозного Марка. Несколько фактов — в этом вся соль. Ровно столько, чтобы придать тексту достоверность. Одного слова может быть достаточно. Одно слово — и его книга будет во всех магазинах страны, на Востоке, на Западе и во всем мире. Он попытался вставить в текст несколько подлинных свидетельств из записной книжки. Однако ее язык был слишком расплывчатым, книга же требовала конкретики. Кресты на задней стороне обложки можно упомянуть: например, Марк рисовал их, ведя учет своим жертвам, с другой стороны, разве Марк из тех, кто стал бы вести такой учет?
Наверняка Мартинсон сейчас тоже работает над новой книгой, возможно, он продолжит тему каннибализма, высветит ее как характерную именно для эстонцев, докажет, что в среде эстонских фашистов людоедство приобрело грандиозные масштабы и без вмешательства Советского Союза эстонцы съели бы друг друга без остатка. Давление нарастало в груди, он должен написать лучше, чем Мартинсон, лучше, чем кто-либо еще, он никого не пропустит вперед, и в тот момент, когда он почти уже было вернулся к прерванной мысли, тяжелые ступни жены опустились на половицы и вновь застучали над головой Партса; вначале лишь несколько шагов от кровати до комода и обратно, словно она тренировалась, чтобы набрать необходимую для ходьбы скорость. Словно вовсе не собиралась возвращаться в постель. Партс опустил руки на колени. У матери были такие же проблемы в деревне в начале пятидесятых. Крысы стаями бегали под полами и за стенами, и она не могла заснуть. Мать писала ему об этом в Сибирь. В то время популяция крыс вдруг резко возросла. Их называли крысами несчастья. Теперь же вместо крыс у него была жена.
Партс закрыл глаза, сладкий вкус пастилы убаюкал слуховые рецепторы, он постарался сосредоточиться на работе. Его главный герой Марк постепенно оживал. Скорее всего, Контора заинтересуется возможностями, которые дает такой персонаж, и попросит найти для него прототип среди эстонских эмигрантов, чтобы при случае потребовать выдачи военного преступника Советскому Союзу, но Партс готов был подыскать для этой цели более подходящую кандидатуру и вставить в книгу нужного персонажа. Марка же он оставит себе. Это его герой, и объявление всему миру настоящего имени Марка станет его звездным часом. Все необходимые сведения он передаст Конторе, как только настанет нужный момент. Не сейчас. И тогда уже Контора позаботится о решении вопроса. Настоящий Марк может быть где угодно: в Канаде, в Америке, в Аргентине или где-то еще, и если он жив, то вряд ли будет возражать, если за его преступления ответит кто-то другой. Конечно, жаль, что Роланду придется взять на себя бремя ответственности за преступления Марка. Что поделаешь, раз Марк оказался таким идеальным героем. Что же касается поступков самого Роланда, то Партс уже давно выбрал самые героические для себя, записав их на свое имя.Часть третья
Мы все знаем, что в фашистском терроре принимали участие не только мужчины, но и женщины, невзирая на присущие их полу нежность и инстинкт жизнедарения. Продавшиеся гитлеризму женоподобные существа не являются женщинами, они утратили сходство с представительницами слабого пола и превратились в звероподобных захватчиц.
Эдгар Партс. В эпицентре гитлеровской оккупации. Таллин, 19661942 Ревель Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
Юдит сидела в кафе “Культас” и вела себя так, как ни в коем случае не должна вести себя замужняя женщина, тем более в компании незнакомого мужчины. Юдит ворковала и строила глазки, прихорашивалась и поправляла прическу, и Роланд, якобы беспечно прогуливающийся в нескольких шагах от кафе, представлял себе это в уме столь явственно, что то и дело натыкался на прохожих. Роланд не был уверен, что Юдит выполнит его план, пока не увидел ее подходящей к кафе и Дому искусств со стороны улицы Харью. Только тогда он с облегчением вздохнул, развернулся и растворился в толпе, гудящей перед кафе на площади Свободы, старясь, чтобы Юдит его не заметила. Он не смог сдержать слово, хотя обещал, что не будет следить за ней. Задание, которое он дал Юдит, было слишком важным, он просто не мог не прийти и теперь прохаживался поблизости как ни в чем не бывало, поглядывал на крышу здания Эстонского страхового общества, а потом незаметно переводил взгляд вниз к окнам кафе. Его глаза повторяли это движение раз за разом.
Напротив Юдит сидел немецкий офицер, но не тот. Нужный немец попивал кофе в другом углу зала, шурша газетой и дымя трубкой. Рыцарский крест на шее офицера притягивал взгляд Юдит, вспотевшими ладонями она вцепилась в подлокотники, сердце ее громко билось, и она совсем не знала, о чем говорить. На столе медленно остывал горячий шоколад, над верхней губой выступила капелька пота, а в голове была звенящая пустота; ей уже не нужны были неоновые огни Страхового общества, не горевшие во время войны, не нужны уличные фонари, потому что она загорелась сама. Ее охватил какой-то невероятный порыв, непреодолимое желание быть вместе с сидящим перед ней немецким офицером. Сердце колотилось, щеки алели, как будто она все еще была юной девушкой, которая ничего не знает о своих желаниях, ноги вспотели, несмотря на холодный пол. За спиной у нее был ледник, впереди — жаркий летний день, и она попеременно оказывалась во власти то холода, то жары.
Она все еще могла уйти, оставить предложенные мужчиной печенье и пирожные и разработать новый план, чтобы познакомиться с офицером, которого указал Роланд, очаровать его, обвить нежной рукой его шею, но она посмотрела на другого мужчину, повернула к нему лицо, заглянула в его глаза, и что самое ужасное — как только мужчина улыбнулся ей, Роланд, задание, безымянная могила Розали, все, что успело произойти с ней за несколько последних лет, все вдруг забылось. Она забыла бомбежки и лежащие на дорогах тела, забыла мух и личинок, копошащихся в трупах, забыла неудачные попытки торговать банками с жиром и то, что она замужем и как при этом полагается себя вести. Она забыла даже о том, что сидит в одних чулках, что ее ботинки украли, единственные ботинки, забыла о хулиганах, которые толкнули ее на землю прямо у кафе и стянули ботинки с ног, забыла холод и стыд, слезы отчаяния и жалости к себе. Забыла, как только офицер протянул ей руку и помог подняться. Забыла, ибо уже совершила непростительную ошибку и посмотрела в его глаза.
— Фрейлейн должна непременно позволить мне проводить ее домой. Вы же не можете идти по улице в одних чулках. Будьте великодушны. А может быть, фрейлейн окажет мне честь и посетит мою квартиру, тогда я попрошу мою горничную купить вам новые ботинки. Я живу совсем недалеко, на другой стороне Фрайхайтплатц.Пока Юдит влюблялась, Роланд бродил среди фыркающих конских морд, цокающих копыт, солдат вермахта и вертлявых барышень с изящными сумочками, рассматривал невидящим взглядом афиши кинотеатра “Глория-Палас”, прохаживался мимо окон столовой, и живот его предательски урчал при виде официанток, ловко стригущих продовольственные талоны, обходил мелких торговцев, посыльных, дымящиеся лошадиные лепешки и прямые спины горожан. Портье гостиницы “Палас” уже смотрел на него с подозрением, и ему пришлось обходить “Палас” стороной. С наступлением сумерек Роланд продолжал кружить среди теней, собственных мыслей и синеглазых фар. Он случайно толкнул какую-то девушку, и в тот момент, когда она вскрикнула, Юдит была уже на пути к своей любви.
Юдит отдала горничной пальто и перчатки, а намотанные на ноги тряпки сняла сама — всякому унижению есть предел. Ее провели прямо в гостиную, хотя она сопротивлялась, опасаясь, что на мозаичном паркете останутся мокрые следы. Щеки ее алели скорее от смущения, чем от холода, и как только немец ушел, чтобы принести чего-нибудь согревающего, она засунула мокрые тряпки под кресло, прочь с ковра. В кафе он сам с помощью официантки обернул ей ноги полотенцами, обвязал упаковочной веревкой и, несмотря на возражения Юдит, заплатил официантке за причиненные неудобства. Серая штопка на чулках постыдно выделялась даже в сумрачном свете кафе, каждый стежок. Тряпки скрыли ее на время, но теперь в свете хрустальной люстры все оказалось на виду, и Юдит стыдливо пыталась поджать ноги под себя. Перед ней появился таз с дымящейся водой, горчичный порошок, полотенца и мягкие тапочки с дрожащим помпоном из перьев. На диване лежала грелка, из граммофона доносилась музыка Листа. Юдит не спрашивала, откуда горничная этого немца возьмет обещанные ботинки. Губы ее посинели, хотя в гостиной было тепло. Она едва взглянула на него, когда он вернулся с хрустальным графином и стаканами, закрыла глаза и попыталась запомнить его лицо, потому что не хотела его забыть, такую красоту забыть нельзя. Пульс стучал под носовым платком, спрятанным в манжетке, вышитая буква “Ю” царапала кожу, просто “Ю”, без фамилии. Мужчина опустил поднос на столик у дивана, налил в стаканы вина и отвернулся, чтобы Юдит смогла снять чулки. Юдит поняла намек, но не знала, как действовать, а потому схватила стакан с вином и выпила его, словно воду, одним махом, чтобы наконец вспомнить, что значит быть женщиной, как должна вести себя женщина. Все ее прежние попытки сводились к неудачам на супружеском ложе, но она не хотела думать о них, а просто выпила еще вина, налила сама себе и выпила, а он слегка повернул голову, услышав звон, и его взгляд упал на широко распахнутые ресницы Юдит, и взгляд этот не был смелее, чем глаза Юдит, и не более уверенным, чем ее застывшая на чулке рука.
Поднявшись утром, Гельмут заботливо укрыл Юдит, нежно обернул ее ноги пуховым одеялом, но она сбросила его, позволив теплому воздуху ласкать кожу. Она опустила босые ноги на ковер, вытянула носки, как будто пробуя воду в ванне, раскинула руки, наклонила голову, и воздух окутал ее словно парное молоко. Постоянная нехватка дров сделала ее жадной до тепла. Но она не стеснялась этого, как и того, что кружилась голой на пушистом ковре, что находилась в одной комнате с мужчиной, которого повстречала лишь накануне. Аромат настоящего кофе проник в ноздри, в которых до сих пор стоял запах вчерашнего вина. Как же беспечно они пили его, радуясь или, точнее, пытаясь скрыть смущение от того, что зарождалось между ними, а ведь так и было.
С улицы доносился стук башмаков русских военнопленных, Гельмут включил Брукнера и пригласил Юдит вечером пойти вместе с ним в театр.
Юдит забралась обратно в постель и натянула на ноги одеяло:
— Я не могу.
— Почему, фрейлейн?
— Фрау.
Гельмут был необычайно красив в форме. Он стоял перед зеркалом, надевая на шею Рыцарский крест.
— Я бы очень хотела, — добавила Юдит.
— Так почему бы тогда не пойти, моя красавица?
— Кто-нибудь из знакомых может увидеть, — прошептала она.
— Я прошу вас.
Гельмут присел к ней, щелчком открыл портсигар и закурил. Он смотрел на свои руки, и Юдит догадалась, что он боится отказа с ее стороны так же, как и она с его стороны.
— Простите, а можно и мне одну? — спросила Юдит.
— Конечно. Простите. Видимо, я слишком долго пробыл в Берлине.
— А в чем дело?
— Вы выглядите такой молодой. У нас девушкам до двадцати пяти лет курение запрещено.
— Почему?
— Считается, что это влияет на деторождение.
Юдит смутилась. Гельмут улыбнулся:
— Я обрадовался назначению в Остланд, потому что решил, что здесь смогу курить, не выходя из кабинета. Рейхсфюрер запрещает курить на службе, но, надеюсь, сюда он с проверкой не явится. Вполне логично, что курение запрещено во всех учреждениях, сейчас идет активная борьба с пассивным курением.
— Пассивным?
— Вдыхание табачного дыма некурящими людьми.
— Забавно, — сказала Юдит и снова смутилась. — Я не хотела осуждать.
— Рейхсфюрер желает повысить рождаемость, его беспокоит упадок нашей расы, и я должен бороться с этим всеми силами.
Гельмут закурил новую сигарету и вставил ее в губы Юдит. А она не знала, что возбуждает ее сильнее — сама сигарета или то, как он это сделал. Ей хотелось, чтобы это утро не кончалось никогда, ее голова была по-прежнему полна ночного тумана, на завитках волос еще искрились капельки ночи, и когда Гельмут заглянул ей в глаза, она почувствовала, что, о чем бы они ни болтали, их сердца движутся навстречу друг другу, и мысль о том, что это движение может иметь конец, была нестерпима.
— Каждый день приходят новые ограничения, а потому стоит наслаждаться, пока это возможно. В Риге уже запретили курить в театре, наверно, скоро запретят и в Эстонии, хотя кто тут будет следить за этими правилами и запретами. Ну а теперь надо идти, служба зовет, надеюсь, мы увидимся вечером в театре? Как знать, успеем ли вместе насладиться последней сигаретой в храме искусства?
В его взгляде сверкали искры, а в искрах обещания.1942 Ревель Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
Выбранный мною немец ушел из кафе “Культас” в одиночестве. Я проводил взглядом его удаляющуюся фуражку и поспешил в кафе. Юдит там уже не было. Официантки смотрели на меня с подозрением, когда я стал расспрашивать о даме с чертами Юдит, и качали головой. В последующие дни я без конца звонил в квартиру на Валге-Лаэва, но никто не брал трубку. Я ходил туда и стучался в дверь, но Юдит пропала. Я забеспокоился. Наконец попросил нашего человека в отделе Б-IV выяснить, где находится женщина по имени Юдит Партс, и узнал, что она стала любовницей немецкого офицера, неизвестного мне гауптштурмфюрера СС. Я некоторое время переваривал информацию, пытаясь смириться с поражением, потом выяснил адрес немца и наслаждался мыслью о том, как подошлю к ней своих людей и как напугаю, неожиданно появившись перед ней и рассказав, как давно уже ведется слежка, в какое время она со своим фрицем заходила в “Норд”, а когда отправилась в казино. Я представлял себе, как она побледнеет, спрячет лицо в лисий воротник, как предательски накрашенный и оскверненный рот скроется за мехом, как сильно она испугается. Все это слегка утешало меня. Но я так и не осуществил своей задумки. Во-первых, добыча оказалась даже лучше, чем первоначально выбранная мной. Во-вторых, я не хотел привлекать к Юдит лишнего внимания. Для нашей общей безопасности я больше никогда и нигде не упоминал ее имени. Я решил сам следить за ней и был уверен, что как только схвачу ее за локоть, сожму изо всех сил, она сразу поймет, что у нее нет других вариантов, кроме сотрудничества со мной, если она не хочет, чтобы муж узнал о ее похождениях или немец — о ее двойной игре. Я скажу, что никогда не оставлю ее в покое.
1942 Ревель Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
Роланду удалось снять себе угол на улице Роозикрантси, и теперь он подкарауливал Юдит каждый день, возвращаясь из порта. Работу в порту он получил благодаря поддельным документам, добытым через своего человека в отделе Б-IV. Дни в порту были долгими, Роланд уходил на работу, когда Юдит, вероятно, еще спала, а возвращался затемно. На записки, оставленные под дверью квартиры на Валге-Лаэва, ответа он так и не получил, вряд ли Юдит вообще там бывала, она переместилась в мир, двери которого были закрыты для Роланда, и прошло несколько недель, прежде чем он впервые увидел ее: она села в машину, припаркованную у подъезда, и Роланду оставалось лишь смотреть вслед удаляющемуся “опелю-олимпии” с шумной компанией в салоне. Он запомнил имена людей, выходивших из здания: генеральный комиссар Литцман и вечно снующий везде Хяльмар Мяэ [8] . Как-то раз в дверях показался сам начальник полиции безопасности и СД в Эстонии Зандбергер. В гостях у любовника Юдит бывали очень влиятельные персоны, и многие из них приходили и уходили затемно, некоторые даже через дверь для прислуги. Сведения об этих персонах, полученные от Ричарда, работавшего в отделе Б-IV, звучали грозно.
Смех Герды в “опеле” был слышен даже на лестнице. Юдит села рядом с ней, держа Гельмута за руку. Они ехали полюбоваться закатом солнца над морем. На берегу, под летним дождем, подмочившим прически дам, они выпили бутылку шампанского и решили идти не в курзал, а отправиться к сверкающим столам “Норда”. Гельмут считал, что там лучший повар и лучший рислинг, а Юдит была благодарна Герде, за то что та не осуждала ее и можно было не скрывать, как сильно она влюблена. К тому же Герда опекала Юдит: когда они сидели с ней на диване в туалетной комнате “Норда”, Герда, подкрашивая губы, спросила:
— Я надеюсь, ты обо всем позаботилась?
Юдит покраснела.
— Так я и думала. Неудивительно, что Гельмут очарован тобой. В Берлине такая невинность — большая редкость, это я тебе говорю. Лучший друг женщины — окклюзионный пессарий, все остальное — ерунда. Я знаю врача, который даст тебе его, — прошептала Герда. — Он дорогой, но это не проблема. Поверь мне, он совершенно незаметный, и с ним ты сможешь быть совершенно спокойна.
Герда написала адрес врача на обратной стороне визитки Вальтера, и самая большая проблема замужней женщины, имеющей любовника, была решена. Вздох облегчения, вырвавшийся у Юдит, рассмешил Герду. Юдит тоже засмеялась, и вскоре обе они громко хохотали на диване, пока Юдит не начала икать, а у Герды не размазалась тушь, — только тогда они решили взять себя в руки. Мир преобразился для Юдит с появлением Герды, с которой можно было говорить практически обо всем. Герды, которая только фыркнула, когда Юдит поделилась с ней своей тревогой: а вдруг ее законный муж узнает, что она открыто гуляет с другим мужчиной? Герды, которая считала, что Юдит будет дурой, если бросит Гельмута, потому что он точно женится на ней, ведь была же у рейхсминистра Розенберга эстонская жена, балерина Хильда Леэсман. Возражения Юдит насчет того, что его карьера стала развиваться гораздо быстрее после того, как скончавшуюся от туберкулеза Хильду сменила немка Хедвиг, Герда даже не слушала, хотя Юдит напомнила, что рейхсминистр происходит из семьи балтийских немцев, а не из рейха, как Гельмут, а для истинного арийского офицера СС жена с восточных земель не самый лучший довесок. Сидя на диване туалетной комнаты, Герда лишь посмеялась над ее аргументами.
— Послушай, дурочка. Все это организационные вопросы. Я же наблюдаю за вами. Мой Вальтер заглядывается на других женщин, даже когда я сижу рядом с ним, Гельмут ни на кого, кроме тебя, не смотрит. Вальтер считает, что у Гельмута блестящее будущее и что у него есть талант по части всяких стратегий, в которых я ни черта не понимаю. Когда война закончится, его, увешанного медалями, позовут в Берлин, а ты будешь ходить с ним в качестве его дамы на разные блестящие приемы. Ты сделала правильный выбор. Твой немецкий идеален, и выглядишь ты как настоящая немецкая фрейлейн. Какой подбородок! А нос! — воскликнула Герда и развеяла сомнения Юдит, щелкнув ее пальцем по носу. — Не зря ты ходила в немецкую школу для девочек. И ведь наверняка была лучшей в классе! Золотко, пойдем-ка лучше глотнем “Сайдкара”. Прочь печали!
Герда схватила Юдит за руку и крепко сжала ее. Она так просто умела все объяснить, и, возможно, она действительно права, возможно, все на самом деле просто, по крайней мере сейчас, на диване в “Норде”. Юдит привыкла все усложнять, беспокоиться о мелочах, хотя Гельмут показал ей совершенно другой мир, где не было и не должно быть места печалям прошлой жизни. Вчера сестры Паалберг обменялись многозначительными взглядами, когда Юдит прошла мимо них по Лиивалайа. Одна из них насмешливо подняла брови, после чего обе они повернулись к витрине хлебной лавки. Юдит задумалась, как бы Герда на ее месте отнеслась к такой встрече, и решила, что та просто пожала бы плечами. И тогда она тоже гордо вскинула голову вверх, к солнцу, и ей сразу же стало легко и даже весело. Герда терпеть не могла высокомерия, с которым отнеслись к ней женщины, одетые в дважды перелицованные пальто. Ей не нужны были такие люди, да и вообще никто. Герда права. Теперь Юдит смотрела фильмы в их собственном домашнем кинотеатре в квартире на Роозикрантси и была этим чрезвычайно довольна: в городском кинотеатре можно было столкнуться со знакомыми, с которыми у нее нет больше ничего общего. Она позвала в гости Герду, чтобы вместе посмотреть Liebe ist Zollfrei [9] . В собственном кинозале. Ей не приходилось больше жаловаться на то, что нужно везде ходить пешком и что общественный транспорт скверно работает. У нее был личный шофер и “опель-олимпия”. И она совершенно не знала, что делать, если знакомые вдруг начнут смеяться над Гитлером или над немцами в присутствии Гельмута — немцы не понимали эстонского языка, и многие пользовались этим, чтобы отвести душу. Немцы оказались менее суровы, чем русские. Юдит недавно видела, как какой-то парень показал нос немецкому офицеру, а тот даже не обратил внимания. При прежней власти такого просто не могло быть. И все же она не хотела бы оказаться в подобной ситуации вместе с Гельмутом. Это было бы несправедливо, ведь он так много сделал для нее, даже пообещал найти сведения о Йохане.
Разговор с Гердой взбодрил ее, несколько коктейлей взбодрят еще больше, но, возвращаясь вслед за Гердой в зал, Юдит быстро огляделась по сторонам. Она привыкла делать это с первого же вечера, хотя там, где обычно бывали немцы, знакомые встречались гораздо реже, во всяком случае, вряд ли тут мог оказаться Роланд, единственный человек, о котором она ничего не рассказывала Герде.В тот момент, когда Юдит подносила коктейль к губам, сидя за покрытым белой скатертью столиком, Роланд, стоя на Роозикрантси, делая вид, будто изучает объявления, над которыми большими буквами было написано “Аренда квартир”. Он знал наизусть каждое из этих трепещущих на ветру объявлений. Двери госпиталя и доносящийся оттуда запах карболки прочно ассоциировались у него с ожиданием и чувством досады. Он различал по шагам и голосам спешащих на работу медсестер и санитаров, служащих, бегущих в свои конторы, горничных и служанок, отоваривающихся в специальных магазинах для немецких военнослужащих. Его квартирная хозяйка уже почти ничего не видела и не слышала от старости и не совала нос в его дела, но на улице было много немцев и их приспешников; поскольку сам он уже легко опознавал все категории пешеходов, он предполагал, что вскоре будет и сам столь же легко узнаваем для других, и поэтому решил сменить место жительства. Он переберется на чердак заброшенного дома в Меривялья. Подпольщик должен действовать осторожно, а он уже достаточно долго следит здесь за передвижениями немца Юдит и его знакомыми. Соотнося свои сведения с полученными от Ричарда отчетами, Роланд приходил к выводу, что немцы не меньшие лицемеры, чем большевики, которые обобрали страну до нитки и сделали это официально, по законам Советского Союза. Когда советские войска ушли и замок Курессаари стал доступен, Ричард был в числе первых, кто попал внутрь и обнаружил там горы трупов — у женщин была отрезана грудь, мужчины исколоты иголками. Стены в подвалах фабрики “Каве” были вымазаны кровью. Теперь повторялось то же самое, не менее законно, чем прежде. Они сделают все, чтобы история с Розали не всплыла на поверхность, даже ради иллюзии законности. Роланд почти не сомневался, что ему придется стать свидетелем таких же зверств, как и во времена большевиков, и руки его дрожали, когда вечером он описывал сложившуюся ситуацию. Курьер отвезет письмо в Швецию.
Штурмбаннфюрер СС Зандбергер и глава марионеточного самоуправления Мяэ считают, что Германия должна вернуть себе доверие эстонцев. Во времена Эстонской республики бежавшие из Германии и других стран евреи вели столь активную контрпропаганду, что массовые погромы, великолепно организованные в Литве и Латвии, не решат проблему в Эстонии. Зандбергер понял это с первых дней и поэтому старался ограничивать деятельность зондеркоманд и препятствовать незаконному насилию. Подобная деятельность, а также приверженность закону подчеркивают, что Зандбергер умен и наблюдателен. Все действия должны производиться в соответствии с законами Германии.
1942 Ревель Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
— Я помню, как открывали курзал. Стояли длинные белые ночи. Только представь себе, коктейли подавали до трех утра!
Юдит наконец пришла. Слова о коктейлях напомнили мне, что Юдит совсем не такая, как Розали, из другого мира. В юности она пила коктейли, бывала на приемах, отплясывала свинг.
Мы сидели какое-то время молча и слушали музыку, доносившуюся из курзала. Я старался скрыть, как я рад этой встрече. Организовать свободный час на работе было непросто, тем более что на мое место стояла большая очередь желающих. Я был почти уверен, что Юдит не придет, но надеялся, что хотя бы новости меня не разочаруют. Слишком уж часто они разочаровывали. Слишком часто.
— Скучаешь по деревне? — спросила Юдит.
Я не ответил, не понял ее вопроса. Городские мостовые нравились мне не больше, чем моему мерину, и Юдит прекрасно знала это. Я старался вести себя непринужденно, чтобы она не догадалась, как я зол на нее за все те вечера и ночи, когда напрасно ждал ее. Когда же наконец я ее увидел и она шла одна, я испытал одновременно облегчение и ярость. Стеклянные глаза ее чернобурки были столь же бесчувственными, как и ее собственные, в них не было и следа памяти о Розали, но даже тогда я смог сдержать свои чувства. Я не имел права спугнуть ее, лишь слегка напугать. У нас не было ни одного своего человека на таком высоком уровне, и, несмотря ни на что, я доверял ей гораздо больше, чем остальным девицам, обхаживавшим немцев.
— Где ты теперь живешь? — спросила Юдит.
— Лучше тебе этого не знать.
— Пожалуй. Многие усадьбы в Меривялья пустуют. Так говорят.
Я смотрел на гуляющих по берегу людей, на бегущую за мячом собаку, на женщин в купальниках, чье мокрые бедра призывно блестели, на парочки, которые выходили из ресторана и шли в сторону моря, придерживая друг друга под локоть, останавливаясь и сметая вафельные крошки с уголков рта. Их счастье сияло в волнах, и грудь моя сжималась от боли. Я не мог больше продолжать никчемные разговоры.
— Удалось тебе что-то выяснить?
Вопрос заставил Юдит вздрогнуть, и хотя я задавал его всякий раз, когда мы встречались, она плотно сомкнула губы. Я сжал кулаки.
— Зачем ты вообще приходишь, если тебе нечего рассказать мне?
— Могу и не приходить, — ответила Юдит и отодвинулась от меня подальше.
Я знал, что не следовало так говорить. Но надежда, которая рождалась во мне всякий раз, когда я видел Юдит, вновь погасла, ее сменила кавалькада мыслей, которые мучили меня по ночам, и сбруя их звенела у меня в ушах даже после пробуждения. Юдит посмотрела на мои кулаки, отодвинулась на край скамейки и стала вглядываться в морскую даль, как будто там было что-то интересное. Меня трясло. Юдит такая же, как все остальные. Она не поверит ни единому дурному слову о немцах, тем более теперь, когда лицо ее округлилось и заостренные скулы уже не выпирают, как в голодные времена. И даже расскажи я ей о том, что знаю, она решит, что я ее обманываю. После победы под Севастополем в успехе Германии никто не сомневался, как и в том, что только Германия способна спасти нас от нового террора большевиков, но наша группа верила Черчиллю и Атлантической хартии, обещавшей восстановление независимости после войны и гарантировавшей, что никакие территориальные изменения не будут производиться против воли народа. Наши курьеры все время переправляли материалы в Финляндию и Швецию, среди которых были и мои рапорты, мы получали газетные вырезки и новостные подборки со всего света. Не было никаких оснований надеяться, что немцы ответят на наши ожидания иначе как пышными речами. Но этим речам так хотелось верить, и многие верили, в том числе и вкусившая сладкой жизни Юдит.
— Я просто помогаю там по хозяйству. В присутствии прислуги никто не говорит о важных вещах, неужели ты не понимаешь? К тому же он расследует случаи саботажа, а не уголовные преступления, и в его ведомстве занимаются только тем, что происходит в Таллине, у него, наверное, даже доступа нет к материалам, касающимся всей страны, неужели ты не понимаешь, от меня нет никакой пользы, — сказала Юдит.
Я слышал эти объяснения уже много раз, эти жалкие, никому не нужные объяснения, хотя я подчеркивал, что любые сведения могут навести на след убийц Розали, любое упоминание даже о самом незначительном нарушении закона. И раз за разом она отрицала все — слухи, скандалы, дебоши немцев. Я не верил в строгие правила и жесткую дисциплину фрицев, ее неизменно повторявшиеся ответы обескураживали меня, и я надеялся, что немцам она врет искуснее. Я знал, почему она так поступает, брак ее нельзя было назвать нормальным, но одного я никак не мог понять: почему я должен напоминать ей о Розали.
Юдит собралась уходить, поправила плечики, бледными пальцами застегнула бакелитовую брошь на кофте. И вдруг я отчетливо понял, что у нее есть для меня новости. Это внезапное озарение помогло мне сдержать свои чувства. Я сказал спокойно, стараясь не повышать голоса:
— Здесь номер телефона. Позвони и скажи “хорошая погода”, если твой немец куда-нибудь уедет. Я хочу попасть в его кабинет. Любые сведения могут помочь нашему движению.
Юдит не взяла листок. Я сунул его ей в сумочку. Юдит положила завязанный узелком носовой платок возле меня и стала смотреть на море.
— Роланд, ты должен уехать в деревню, срочно.
Юдит говорила быстро, взгляд ее был прикован к морю. Полевой жандармерии стало известно, что в порту работают дезертиры и уклоняющиеся от военной службы, было решено провести там проверки, одновременно будут искать человека, готовившего диверсию. Гельмут Герц получил сведения, согласно которым диверсант прячется среди портовых грузчиков.
— Кто-то планировал покушение на Розенберга, когда его поезд прибудет на железнодорожный вокзал. Это ведь не ты? — произнесла Юдит и замолчала.
Я посмотрел на нее. Она была серьезна, как никогда.
— Ты должен уехать, так хотела бы Розали. Я дам тебе денег.
Юдит встала, оставив узелок на скамейке, и ушла, не оглядываясь. И это было то, о чем она хотела рассказать, ради этого она пришла? Я был разочарован, но одновременно насторожился. Я ничего не слышал о подготовке этого покушения, но раз Юдит так серьезно спросила о моем участии, значит, другие тоже могли так подумать. В любом случае немцы наверняка усилят меры безопасности и утром в порт идти нельзя.
Несмотря на то что в трамваях документы проверяли довольно часто, я решил сэкономить время и сел в один из них, надо было успеть собраться в дорогу. До сих пор мой новый “аусвайс” прекрасно проходил везде, и исправленного года рождения никто не замечал. Я хранил его в нагрудном кармане, где прежде лежала фотография Розали, и, стоя в набитом до отказа трамвае, вдруг понял, что рука моя уже давно не ищет фотокарточку в кармане. Я сам когда-то уничтожил ее, но лишь сейчас появилось ощущение, что она действительно исчезла и я больше никогда не смогу ее вернуть, даже в воображении. Место Розали заняли мои поддельные документы, а в ушах у меня стоял удаляющийся стук каблуков Юдит. Он звучал фальшиво: это был стук настоящих кожаных туфель и звонких металлических набоек. Она удалялась, подол платья колыхался легкими волнами, и я готов был бросить узелок с деньгами ей вслед. На миг я даже пожалел, что не сделал ничего, чтобы причинить ей боль. Не рассказал о том, что выяснил Ричард в отделе Б-IV: Йохан попал в подвалы “Каве”, и, хотя камера была предназначена для предварительного заключения, следы Йохана теряются именно там. О его жене нет никаких сведений. Я не стал рассказывать об этом Юдит, потому что не умею утешать женщин. И потому что Юдит всегда была непредсказуемой. Если она не согласится сотрудничать с нами, когда я снова вернусь в Таллин, то я расскажу ей, как выглядел подвал, когда Ричард впервые вошел в него, пусть знает, что именно в этом месте окончился земной путь Йохана. Вряд ли это известие настроит Юдит против немцев, скорее наоборот, но, возможно, оно погасит искры шампанского в ее голове и напомнит, что немцы не сделали ничего для возвращения собственности Йохана его семье, напомнит о важности нашей деятельности. Мне необходимо было это оружие, пусть даже не самое благородное, потому что второго такого агента нам не найти. Юдит вращалась в таком обществе, что мое беспокойство было вполне оправданным, за ней необходимо было приглядывать. Я следил за ними. Я видел их. Я знал, что Юдит хочет остаться со своим немцем, ее глаза излучали любовь, она шла по лепесткам роз. Это было моим оружием, и я должен был научиться им пользоваться.Шея Юдит все еще болела от напряжения, когда она входила в ворота. Своими мучительными вопросами Роланд раз за разом лишал ее того, что некогда у нее было, — чести. Он никак не мог понять, что не всем дано обрести любовь достойным способом, Юдит получала любовь в обмен на честь. Но, войдя в дом Гельмута и ступив на мягкие ковры прихожей, она гордо подняла голову, расправила плечи и протянула шляпу и пакеты горничной так, словно с малых лет привыкла к тому, что прислуга встречает ее у дверей, и, пройдя к буфету, чтобы выжать себе лимонного сока, она держалась торжественно и чинно, закурила сигарету в дополнение к “Сайдкару” и сожгла телефонный номер, оставленный Роландом. Мир теперь совсем иной, у Юдит другое будущее, лучше, чем когда-либо прежде, и она не позволит потерявшему все Роланду разрушить ее жизнь. Нет, он не сможет повлиять на нее, он не отнимет у нее того, что ей удалось достичь: она ждала так долго, чтобы назвать кого-то любимым, кого-то, кто хотел бы ее целиком и кому она была бы нужна. Она всю жизнь ждала мужчину, похожего на Гельмута, чтобы умирать от любви каждый день и каждую ночь, чтобы ощущать языком мед и молоко, а не серу и ржавчину. Гельмуту не мешал даже тот факт, что Юдит официально замужем, они долгое время не говорили об этом, но потом Юдит выложила все как есть, объяснила, что ее брак вовсе не был браком. И Гельмут не ушел, а целовал ее ухо и называл ее самой сладкой девочкой рейха, а все потому, что после посещения салона красоты на ее ухе остались кристаллики сахара.
Прежде всего, Гельмут не наседал на нее с требованиями рассказать, что эстонцы думают о немцах. Они просто разговаривали обо всем, и Гельмут ценил ее мнение даже в таких вопросах, которые Герда считала политикой. Утром Юдит размышляла вместе с Гельмутом, почему фотовыставки, проводимые отделом пропаганды, не привлекают внимание широкой публики. Пустые залы выглядели убого. Юдит заметила, что рейху не подобает устраивать выставки, не интересные для народа. У кого-то может сложиться впечатление, что народ не уважает рейх!
— Какая же ты у меня умная, — засмеялся Гельмут. — И хотя Propagandastaffel [10] подчиняется вермахту, а вермахт все время все запутывает… Но не слишком ли это скучная тема для моей любимой?
Юдит воодушевленно покачала головой. Чем внимательнее Гельмут прислушивался к ее мнению, тем сильнее она влюблялась и тем больше ответственных дел он ей поручал. Она стала его личным секретарем, в ее обязанности входили перевод документов и бесед, стенография, чтение лекций об эстонских традициях и верованиях для берлинских исследователей, приезжающих в Таллин, а также организация спиритических сеансов для заинтересованных офицеров. Занятый на службе Гельмут полностью переложил заботу о гостях на плечи Юдит, и она с удовольствием занималась как берлинцами, так и любителями спиритизма — достаточно было отправить телеграмму госпоже Вайк, которая в свое время устраивала сеансы Лидии Бартельс. Гельмут получал нескончаемые благодарности, говорил, что Юдит предприимчива, как настоящая немка, и подарил ей агатовую розу на шляпку. Он доверял ей, и она ни за что на свете не желала бы обмануть его доверие, потому работала все усерднее, все искуснее организовывала праздники, заказала по совету Герды женские журналы из Германии, привезла из дома “Руководство хозяйки домашнего очага” и внимательно изучила правила сервировки стола и рассаживания гостей, научила горничных складывать салфетки и нашла подходящую прислугу для застолий. Придуманный с помощью повара рецепт приготовления голубей пользовался невероятным успехом, она с удовольствием делилась им со всеми желающими и наслаждалась каждым моментом своей жизни, ибо только сейчас, погруженная в эти заботы, она вдруг поняла, что живет именно так, как хотела, ведь именно к этому она стремилась все свое детство и юность. Она наконец-то нашла применение своему образованию и таланту общения, она была очень занята, и в ее распорядке дня не было времени для Роланда. Поэтому она придумала, что подозреваемый в организации покушения на Розенберга прячется среди портовых грузчиков. Оказалось, что она способна врать даже лучше, чем думала, ее псевдобрак сделал из нее непревзойденную лгунью.
Юдит убедилась, что горничная хихикает на кухне с лудильщиком, прошла в спальню и распахнула дверцы платяного шкафа, презрительно наклонив голову, с прямой как струна спиной. Запрятанные у самой стены валенки на кожаной подошве были изготовлены из хорошего материала, их подошвы и кромки были тщательно смазаны и до блеска начищены шерстяной тканью, вместе с калошами их можно носить в любую погоду. Когда Леонида отправила шерсти на две пары валенок, Юдит сразу решила, что вторую пару отдаст Роланду, как только тот появится в Таллине, но требования Роланда стали такими мрачными и полными угроз, как и сам Роланд. Утром Юдит выбросит их солдатам, или нет, зачем ждать. Юдит открыла окно и вышвырнула валенки на улицу. Скоро Гельмут вернется домой, вечером они вместе с Гердой и Вальтером отправятся веселиться, и Юдит будет веселиться как никогда, а сейчас она сделает себе еще один “Сайдкар”, уложит волосы мягкими волнами и не будет испытывать угрызений совести. Всего один бокал — и она сможет накрасить ресницы, не боясь, что они размажутся.После третьего бокала Юдит села за туалетный столик и взяла в руки зеркало. После двух удачных локонов волосы перестали ее слушаться, и она отбросила щипцы на стол. Вечернее платье ожидало на вешалке, тюль и газ, в коробке на комоде лежало новое платье для следующего вечера — укутанный в шелковую бумагу крепдешин. Одна проблема была решена, но легче не стало, и виной тому были мыши. Или, точнее, их отсутствие. Она расставила мышеловки в комнатах и шкафах, в каждом углу, но они оставались пустыми. Иногда она просыпалась по ночам от шороха, но каждый раз ошибалась. Мыши никогда не подводили, они всегда первыми предсказывали смерть, и поэтому Юдит была уверена, что муж ее по-прежнему жив. В прошлый раз они принесли весть о гибели Розали, хотя Юдит так надеялась, что они станут вестниками ее свободы.
1942 Ревель Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
Когда утром грузовик с лесорубами отправится из Талина, я спрячусь среди них. До этого мне надо успеть добраться до чердака в доме на Меривялья и собрать вещи. Дом стоял пустой, поэтому идеально подходил мне. Но мне не нравилось жить здесь, как, впрочем, и в других местах, из которых ушла жизнь. Немцы съели всех голубей в этом районе. Из-за сарая больше не доносилось привычное воркование, бездомные кошки открыто бесчинствовали в комнатах и на верандах. Последнюю ночь я решил провести в сарае, а не на чердаке, впрочем, не без удовольствия. Подойдя к двери дома, я заметил, что оставленная мною для контроля доска сдвинута в сторону. Еле заметно, но все же сдвинута. Возможно, это всего лишь кошка. И все же я вытащил свой “вальтер” и прислушался. Осторожно прокрался через веранду, пересек темную гостиную. Кто-то сдвинул с места кресло, покрытое простыней. Поднимаясь по лестнице, я ступал по скрипучим ступеням. Подошел к двери чердака, приоткрыл ее и чуть не выстрелил в стоящего за дверью Ричарда.
— Что ты здесь делаешь?
Я приставил оружие к его голове. Ричард потерял от испуга голос и с трудом прохрипел, что он один. Он знал пароль. Я опустил пистолет.
— Мне сказали прийти сюда, я должен срочно уехать из страны.
— Судя по следам, оставленным тобой, ты бы не заметил, даже если бы за тобой следили.
— Пропали два чиновника из внутренней службы безопасности, на меня смотрят с подозрением. Ты должен мне помочь, у меня есть поддельные пропуска.
Я быстро собрал в рюкзак свои вещи и приказал Ричарду следовать за мной. Надо было спешить, я был уверен, что за ним следили. Ричард собрался было выйти на лестницу, но я его остановил. Мы решили уходить через крышу.Девушка-связная раздобыла для меня немецкую военную форму и принесла из леса пару банок патронов. Я попросил ее присмотреть за Ричардом, пока я не найду для него место на пароме или в моторке. Ричард положил на стол папку и сказал, что взял с собой все, что смог. Я положил рядом с папкой полученный от Юдит узелок с деньгами, Ричард убрал его в карман. Он указал на папку и сказал, что ее содержимое вряд ли мне понравится. — Рапорты политического отдела, все подлинники.
...
Дерпт оказался на удивление европейским городом, несмотря на выпавшие на его долю несчастия прошлых лет. Рейхсминистр Розенберг считает, что страны Балтии имеют европейский характер. К сожалению, великолепные произведения рейхсминистра здесь неизвестны, большевики не стремились к повышению образованности в стране.
В качестве мер мы предлагаем, чтобы результаты исследований Имперского института истории новой Германии были в достаточной мере представлены также и в Эстланде, возможно, стоит подумать об организации здесь собственной референтуры. Иначе эстонцы могут не понять, насколько важным является еврейский вопрос. Во времена республики в Эстланде существовала культурная автономия евреев. Именно поэтому так важно узнать, какой вред нанесло народу такое положение, при котором евреи не имели никаких ограничений, и каким образом характерное для евреев коварство проявилось в подобной ситуации. Нет сомнения, что запрет на антисемитизм 1933 года является результатом еврейских интриг, из чего мы можем сделать вывод, что правительство в тот момент было слабым или же что эстонская нация обладает на редкость неразвитым умом. Что несколько неожиданно, так как она имеет хорошие предпосылки. Также возможно, что правительство в тот момент уже окончательно деградировало или же что евреи были членами правительства. Следует понять, каким образом столь нерадивое государство вообще сумело просуществовать хоть какое-то время. Возможно, имеет смысл сделать Эстланд самой большой еврейской резервацией во всем Остланде. Хотя начальник полиции безопасности и СД в Эстонии Зандбергер утверждает, что погромы не подходят для Эстланда в связи с таким юдофильским прошлым. От полного разрушения страну, безусловно, спасла лишь германская культурная традиция, и благодарить за это надо немецкий “ауфзегелунг” [11] . Правда, евреев здесь совсем немного, значительно меньше, чем в Литве и Латвии. Но возможно, они просто умеют приспосабливаться, так что коренное население не обращает на них внимания. В качестве местных осведомителей мы выбрали людей, имеющих германские черты. Среди балтийских немцев, возвращенных рейхом в Эстланд, нашлось немало подходящих кандидатур.
Проведение согласованной политики крайне важно для Остланда и абсолютно необходимо для вынесения общего решения.Я опустил папку и попросил у связной воды. Ричард достал свою табачную машинку и скрутил нам обоим по сигарете. Девушка заплакала. — Прочитай последние страницы, — сказал Ричард, — там говорится об “операции”. Так они называют июньские депортации.
...
Эстонцы вели себя совсем как евреи, послушно залезали в грузовики, послушно садились в поезда. Неприятных ситуаций не возникало. Женщины и дети плакали, всё как обычно. Разрешение взять с собой свои вещи успокаивало их так же, как и евреев.
Папка выпала у меня из рук. Связная села рядом. Ее мокрые глаза были круглыми, как луна во время ночных бомбардировок. Я подумал о своем отце. Об отце, сидящем в поезде. Не смог думать дальше. Я вновь схватил бумаги и напомнил себе о нашей цели.
— Кто это написал? — спросил я.
— Твой кузен.
— Эдгар?
— Эггерт Фюрст, так его называют. Он пришел наводить порядок в нашем отделе, и я пообещал, что никому не раскрою его прежнего имени. Эдгар утверждает, что он женился второй раз и взял фамилию жены, но слишком уж надуманно это звучит, жена якобы оказалась любительницей приключений и бросила его. Хотя не знаю, он упомянул что-то о векселях.
— Надеюсь, ты не рассказал ему о нашей деятельности?
Ричард обиделся:
— Нет, конечно.
Я ему поверил, но я знал, как изворотлив Эдгар.
— Что еще он делает, кроме как строчит рапорты в Берлин?
— Не знаю, но он хорошо ладит с немецкими офицерами, даже говорит как немец. И выглядит как настоящий ариец.
Я в очередной раз проклял про себя попытку покушения на Розенберга. Положение было серьезное, а я должен был бежать поджав хвост, как жалкая дворняга. Я стал читать дальше. Немцы были довольны тем, что отряды полиции удалось набрать так быстро, и это несмотря на то, что весь прежний полицейский состав Эстонии был уничтожен в ходе летней операции Советского Союза. Считалось, что действия СССР принесли большую пользу немцам, так как смягчили реакцию эстонцев. Никто уже не обращал внимания на поезда, идущие в лагеря, на переполненные до отказа вагоны. Никто не хотел попасть в эти вагоны.
— Но почему немцы сравнивают эстонцев с евреями? Планируют ли они организовать депортации в Германии? — спросил я. — Или здесь, в Эстонии? Собираются сделать с евреями то же самое, что русские когда-то сделали с нами? Кто с кого берет пример? Какого черта они творят?
— Плохие новости, — прошептала связная.
Я знал, что у нее есть жених и что он еврей. Альфонс предоставлял жилье бежавшим из Германии евреям, но отказался уехать в Советский Союз, когда немцы стали подходить к границам. Отца Альфонса депортировали в Сибирь, поэтому у него были вполне адекватные представления о том, что его там ждет. Я вопросительно посмотрел на связную.
— Нас всех убьют.
Голос девушки звучал ломко, но уверенно. У меня закружилась голова. Я увидел перед глазами сияющую улыбку Эдгара.1942 Ревель Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
Эдгар не мог заснуть. Он поднялся, размешал сахар в стакане воды и залпом выпил. Утром ему предстояло встретиться с унтерштурмфюрером СС Менцелем в штабе полиции безопасности, Менцель хотел поговорить о результатах работы Эдгара после перевода в Таллин, и Эдгару надо было произвести должное впечатление. Он нервничал. Впрочем, визит Менцеля в Таллин пришелся как нельзя кстати; в Германии закончилось обучение эстонских национальных кадров для полиции безопасности, и в Таллине торжественно принимали выпускников, именно они-то и не давали покоя Эдгару, добавляя беспокойных морщин на лице. Если страна наполнится специалистами из Германии, то, скорее всего, их ожидает быстрое продвижение по служебной лестнице. Найдется ли тогда применение его талантам, не забудут ли о нем, готовясь к важным операциям? Эдгар еще раз проверил свой костюм, почти новый, прекрасно сидевший. Он уже дважды за вечер почистил его щеткой. Левое плечо прежнего владельца было чуть ниже правого, поэтому Эдгару пришлось выпотрошить часть ваты из плечика, но идеальной линии плеч достичь не удалось. Несмотря на это, идти на встречу надо было именно в этом костюме, старый был совсем поношенным. Если встреча с Менцелем пройдет хорошо, он сможет, наверно, отнести пиджак настоящему портному или даже приобрести на черном рынке шерстяной ткани для нового двубортного костюма.
Унтерштурмфюрер Менцель начал встречу с похвалы: предоставленная Эдгаром информация подтвердилась, в отличие от сведений, полученных от других осведомителей, его рапорты отличаются редким профессионализмом. Эдгар вздохнул с облегчением и слегка расслабился, но одновременно почувствовал острый запах одеколона. Надеясь произвести впечатление, он решил немного сбрызнуть новый костюм, но по неосторожности вылил целый флакон. Чистка влажным полотенцем не дала результатов, а на проветривание не было времени. Чтобы пахучее облако не заполнило весь кабинет, он старался двигаться как можно меньше и незаметно отодвинул стул подальше от немца. Менцель, казалось, ничего не заметил, и Эдгар осмелел. Возможно, немец был просто деликатен, или запах на самом деле не был таким уж сильным, вполне может быть, что ему это просто показалось от волнения.
— Как вы оцениваете общее настроение в отделе Б-IV, герр Фюрст? Расскажите откровенно о ваших впечатлениях, — попросил Менцель.
— Пожалуй, основная проблема в том, что местные осведомители стучат друг на друга, герр унтерштурмфюрер. Большевиками называют кого угодно, рассадники коммунизма видят там, где их никогда не было, об одном и том же саботаже мы получаем три различных версии. Мотивы обычно самые простые — зависть, злоба и месть, все то, что управляет примитивным разумом, — сказал Эдгар. — Однажды донос написали даже на нашу квартиру, то есть находящуюся в пользовании наших агентов. Такие случаи не позволяют сконцентрироваться на делах первой необходимости. Я бы сказал, что это очень неэкономично.
Менцель слушал внимательно, слегка подавшись вперед, и робость, от которой у Эдгара подергивались ноги, исчезла. Спокойная уверенность пролилась на Эдгара так же неожиданно, как одеколон на костюм, и ощущалась так же сильно, но приятно. Даже плечи пиджака сидели как влитые, как будто костюм был специально сшит на заказ, он чувствовал себя специалистом, и это помогло ему расправить плечи.
— Ситуация действительно требует скорейшего вмешательства, иначе над нами будут смеяться. В Германии такого нет. И мы не можем позволить, чтобы кто-то использовал Германию в своих целях, — отреагировал Менцель на слова Эдгара и предложил: — Коньяк? Латвийский, со странным привкусом бензина, вы уж простите. Вторая большая проблема связана с тем, что эстонцы неохотно вступают добровольцами в наши войска. Мы ожидали гораздо большего рвения.
Менцель подчеркнул, что не ждет “приятных ответов”, ему нужна правда. Эдгар вращал коньяк в бокале, шевеля одним запястьем, и сосредоточенно смотрел на жидкость. Запах одеколона распространился по комнате, как только Эдгар потянулся за бокалом, и чувство уверенности исчезло. Пока он говорил, он совсем не помнил об одеколоне, чему способствовало и заинтересованное выражение лица Менцеля. Или ему просто показалось. Его одолевали сомнения. Карточную игру надо было вести по правилам, но он не знал, какие карты правильные, а какие нет. После переезда отдела Б-IV на Тынисмяги, где располагалась немецкая полиция безопасности Германии, он кисло отмечал, приходя в главный штаб, что другие продвигаются по служебной лестнице все выше и выше, получают ответственные задания и потом спешат куда-то в парадной униформе и каждый раз с новыми знаками отличия более высокого ранга, он же растрачивает свои таланты на недоброжелателей, сплетниц и их доносы.
Эдгар набрался храбрости и сказал:
— В народе ходят слухи, что после войны эстонцев выселят в Псковскую область или в Карелию, герр унтерштурмофицер. Такие слухи рождают недоверие к немецкой армии. После июньских депортаций эстонцы очень настороженно относятся ко всему, что может вынудить их покинуть свои дома и земли.
Менцель поднял брови и встал со стула. Плечи его напряглись, коньяк задрожал в бокале.
— Это, конечно, очень конфиденциальная информация. Но скорее всего, переселение коснется только прибалтийских евреев, возможно также живущих на побережье шведов, но эстонцев — ни в коем случае. Неужели эстонцы не знакомы с таким понятием, как благодарность?
— Я уверен, что благодарность эстонцев не знает границ в том, что касается роли рейха в освобождении Эстонии. В целом настроения в народе очень спокойные, никто не планирует взрывать, например, транспорт вермахта или что-то в этом роде, если не считать горстки большевиков. Но дефицит продуктов, безусловно, вызывает недовольство. Добровольцев было бы больше, если бы мужчины могли носить эстонскую форму.
— Посмотрим, что можно сделать в этом направлении. Ходят ли еще разговоры о Великой Финляндии?
— Практически нет. Я бы не беспокоился на этот счет.
Встреча закончилась. Эдгар поднялся и вновь почувствовал запах одеколона.
— Я порекомендовал вас одному коллеге. Позднее вы получите более точные указания. Ему необходим обзор ситуации с местной точки зрения. Можете свободно высказать ему свои наблюдения, герр Фюрст.Эдгар вышел из штаба с легким сердцем и полный надежд. Он даже улыбнулся, вспоминая о том, какое отчаяние вызвал у него поезд с добровольцами эстонского легиона СС [12] : из окон доносился веселый смех, некоторые вагоны были даже украшены березовыми ветками. Стоя на перроне, Эдгар проклинал себя за то, что вовремя не записался в полицию, что не послушался других, а пошел за Роландом. Он был бы сейчас в числе возвращающихся, слушал бы на вокзале приветственные слова представителей командного состава полиции безопасности оберштурмбаннфюрера Штёрца и оберштурмфюрера Керля, а также возвышенные речи ландесдиректора Ангелуса. Рожденное неуверенностью беспокойство росло еще и потому, что кадры, обучавшиеся на острове Стаффан, считались добровольцами армии Финляндии. Их не касался даже запрет на вручение Железного креста представителям оккупированных восточных территорий — этих юношей со Стаффана ценили столь высоко, что для них было сделано исключение, чтобы они могли получить этот крест. И они его получили. Зависть жгла Эдгара, с тех пор как он услышал, что с крестом на шее даже эстонцы могут получить места, предназначенные для немцев. Если бы он не пошел за Роландом, у него тоже сейчас был бы крест. И все же игра не была проиграна, встреча с Менцелем подтверждала это. Придет день, и его фотографию будут продавать по всей территории Третьего рейха или, по крайней мере, в Остланде, и дети будут заваривать клейстер, чтобы вклеить ее в свою тетрадку. Все еще возможно. Кузена Эдгар не видел с того самого дня, когда Роланд выгнал его из лесной избушки Леониды и дороги их разошлись навсегда. Вынужденная пауза в карьерном росте, спровоцированная Роландом, закончилась, и все, что было, осталось позади: пустое сидение в избушке и ругань из-за Розали, безумие, горящее в глазах кузена, настойчивые расспросы о жене. Какое право он имеет судить о его браке!
1942 Ревель Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
Несмотря на то что Гельмут попросил Юдит сидеть дома пятого октября и предупредил о возможных диверсиях, Герда уговорила ее пойти на проводы легионеров. Бог с ними, с диверсиями, а у парней, отправляющихся на войну, должно остаться красивое воспоминание об Эстонии.
— Чтоб не только рыдающие матери! Наш долг пойти на вокзал, — кричала Герда и с осуждением наблюдала за действиями Юдит, которая размеренными движениями смешала две части перекиси водорода и одну часть нашатырного спирта и стала ватными шариками втирать смесь в голову. Герда считала, что осветлять волосы лучше у парикмахера, который делает это гораздо профессиональнее. — Признайся, что ты наводишь марафет ради мужчин. Но тебе не надо все делать самой. Иногда мне кажется, что ты не понимаешь этого, — злилась Герда. — Дай слово, что это в последний раз! Говорят, некоторые собирают для парней посылки с едой в дорогу, я же решила просто накрасить ногти.
Юдит засмеялась. Она не могла противиться Герде, и утром они уже бежали к воротам гимназии Густава Адольфа, чтобы увидеть, как колонна добровольцев отправится в сторону Ратушной площади. Двор и дорога были усыпаны цветами, народ следовал за оркестром, толпа росла. Перед легионерами кружились девушки в национальных костюмах и прикрепляли юношам на грудь букетики цветов.
Эстонские флаги яростно трепетали, германские лениво висели у самой земли. Кто-то сделал замечание знаменосцам, хватка окрепла, флаги поднялись. Ратушная площадь бурлила и гудела, мальчишки, затаив дыхание, смотрели на легионеров, на их гордую осанку и аккуратно причесанные головы. Герда потащила Юдит за собой, их едва не затоптала толпа, но все же им удалось скорее услышать, чем увидеть выступление обергруппенфюрера СА Литцмана. Юдит поднялась на цыпочки: за Литцманом топтался Хяльмар Мяэ и, кажется, начальник полиции безопасности и СД в Эстонии Зандбергер, края белого воротника лежали на его груди словно крылья чайки, или это был оберфюрер СС Мюллер? Герда помахала рукой. Вокруг Литцмана толпились фотографы, они сновали взад-вперед, искали лучший ракурс и отбрасывали на мостовую сгоревшие лампы-вспышки, которые им выдали в несметном количестве. Площадь цвела флагами — белые, синие, черные, красные со свастикой, — от шума кружилась голова. Юдит опустилась на пятки и поправила рукой осветленные волны волос, пряди у висков опять превратились в кудряшки. Среди добровольцев не было ни одного знакомого лица, что она здесь делает? Герда сказала, что они должны прочувствовать момент: эстонцы отправляются сражаться за свою свободу, наконец-то у Эстонии появился свой легион, ты понимаешь, Юдит, как долго все ждали этого, судьба Эстонии зависит от того, какой вклад эстонцы готовы внести в борьбу с большевизмом, Юдит, ну неужели ты не понимаешь!
Юдит подняла руку, в которую Герда вложила маленький сине-черно-белый флаг. Крики усилились, и вскоре мимо Юдит прошел тот, кто вызвал столь бурные овации: унтер-офицер Ээрик Хурме с Железным крестом и медалями Зимней войны. Юдит уже знала, что завтра будет написано в газетах: что шаги легионеров были твердыми, их родители светились от гордости, эстонские флаги будут упомянуты несколько раз — но всегда вместе с немецкими, — и фотография, на которой крючконосый Литцман воодушевленно пожимает руку унтер-офицеру Хурме. Юдит знала, что Гельмут получил рапорт о настроениях в народе и что, согласно рапорту, возмущения были вызваны тем, что мобилизованным пришлось подписать бумагу, в которой говорилось, что они отправляются на службу добровольно. Составитель рапорта выказывал озабоченность подобными заявлениями и тем, что некоторые от призыва уклонялись. Но сейчас Юдит смотрела на настоящих добровольцев, на воодушевление Герды и вдруг заметила вдалеке знакомый профиль. Мужчина исчез в толпе, Юдит зажала рот рукой. Темная голова мелькнула опять, теперь уже чуть дальше, мужчина обернулся, и Юдит поняла, что ошиблась. Ее сознание вновь сыграло с ней злую шутку. Но знакомая голова появилась еще раз. Взгляд Юдит беспокойно забегал по рядам, на сей раз тщетно, она попыталась пробраться на другую сторону площади, но это было невозможно. Скорее всего, ей просто показалось. Возможно, ей привиделся покойник. Покойники могут оставаться на земле еще три месяца после смерти, чтобы попрощаться с близкими. Толпа была такой плотной, что Юдит приходилось держаться за руку Герды. Речи надо было выслушать до конца, хотя ноги уже не держали, потом еще пропеть гимн Германии и следовать за Гердой до самого вокзала. Там где-то должен быть Гельмут, выслеживающий большевистских саботажников. Легионеры выстроились на платформе. Юдит продолжала искать глазами Роланда или мужчину, похожего на него.
— На вагонах написано “Победа или смерть!”, — прокричала Герда.
А потом вдруг началось Saa vabaks Eesti meri, saa vabaks Eesti pind, поезд тронулся, песня звучала все громче. Слезы покатились по щекам Юдит.Несколько месяцев назад в кабинете Гельмута обсуждали телеграммы, полученные от Литцмана и рейхсфюрера. Девушка-служанка как раз налила господам кофе, когда Юдит вернулась из магазина с коробкой пирожных от Кагге, и, услышав звон чайных ложечек в кабинете, поспешила предложить гостям свежее угощение. Она как раз входила в комнату, когда Хяльмар Мяэ проговорил блеющим голосом:
— Мы должны пообещать, что обучение будет проходить здесь. И что их будут использовать только в сражениях с Советским Союзом, и ни в коем случае с Западом.
А потом секретарша Гельмута заболела, и Юдит предложили в штабе ее заменить. Она целый день записывала, сидя на всех встречах и заседаниях Гельмута, заполняя блокнот за блокнотом, и там говорилось, что эстонцев в немецкой армии недооценивают. Они же вовсе не считают себя бойцами второго класса. Поэтому создание отдельного легиона в элитных войсках СС изменит положение и прекратит бегство молодых людей призывного возраста в Финляндию. Юдит писала, ручка в ее руках ни на секунду не останавливалась, и она поняла, что Германия, должно быть, в отчаянии, если пытается обманным путем завлечь в свои ряды эстонцев, из которых лишь 50–70 процентов по своим расовым показателям или состоянию здоровья годны к службе в легионе СС. В тот момент, когда Юдит отправилась расшифровывать свои записи, в штаб прибыл немец, который привез письма и рассказал Гельмуту, понизив голос, что фюрер чуть не упал в обморок, услышав предложение о мобилизации украинцев. Нельзя давать оружие в ненадежные руки, только не этим дикарям!
Дома Юдит первым делом приготовила себе “Сайдкар” и потом расплакалась. Она подходила немцам лишь на 50–70 процентов, расовые показатели и состояние здоровья были вполне удовлетворительными ниже пояса, но не выше. Так сказал бы Роланд, если бы знал, и добавил бы, что для Гельмута Юдит никогда не будет столь же хороша, как стопроцентно подходящая фрейлейн. Да Юдит и не знала, какую судьбу готовят для Гельмута его друзья на родине и какие планы имеют на него родственники, независимо от того, чего и кого хочет сам Гельмут. Кто знает, может, ему уже присмотрели подходящую невесту, наверняка стопроцентную немку, которая никогда раньше не была замужем и не родилась на оккупированных восточных территориях, чьи волосы лежат красивыми мягкими волнами и не превращаются в бешеные кудряшки во время дождя. Смешав себе еще один “Сайдкар”, Юдит стала оплакивать отчаявшуюся Германию, допивая третий, она уже прикладывала к глазам холодные ложки, чтобы снять красноту и успокоиться до прихода Гельмута.
В штаб ее больше не вызывали. Но она не переживала, хотя раньше даже надеялась стать настоящим секретарем Гельмута и получить место и положение. Она хотела спешить по утрам на работу вместе с другими секретарями, переводчиками и машинистками, мечтала быть хоть самой младшей телеграфисткой, только бы находиться поближе к повседневной жизни Гельмута.
Но теперь она была довольна тем, что переводила дома длинные отчеты по безопасности водочного завода, о деятельности кондитерских фабрик Брандмана и “Каве” и статьи из эстонских газет. Она была довольна, потому что не хотела знать больше, чем нужно. Герде повезло, она не владела скорописью.1942 Ревель Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
Эдгар чувствовал себя неуверенно, оставив шляпу и плащ в гардеробе. Почему встреча назначена именно здесь? Почему не в парке, не в обычном кафе, не на Тынисмяги? Может, они хотят подчеркнуть его положение, подразнить запахами, доносящимися с кухни, загнать его в угол? Пьянящие ароматы ресторанов и продуктовых магазинов для немцев были слышны уже с улицы, он частенько поводил носом, проходя мимо, и этот ресторан не был исключением. Офицеры сидели в зале и стояли на лестнице, спешащие официанты лавировали между униформами, скрипя половицами. Запах жареного мяса струился из кухни, звон приборов мешался с горечью средства для чистки латуни. Бокалы звенели, как колокола, бутылки ныряли в ведра со льдом, коктейли устремлялись в руки кокеток, и всем было весело.
Унтерштурмфюрера Менцеля не было видно, зато Эдгара, очевидно, узнали сразу же. Ему помахали с центрального столика, прежде чем метрдотель успел проводить его к другому концу зала. Гауптштурмфюрер, понял Эдгар по нашивкам и протянул руку для приветствия. Гость слегка привстал и ответил с ленцой. Гауптштурмфюрер СС Герц был красив. Чрезмерно красив.
— Приятно познакомиться, герр Фюрст!
— Взаимно, герр гауптштурмфюрер!
— Унтерштурмфюрер Менцель очень рекомендовал вас. Ему, к сожалению, пришлось срочно уехать из Ревеля, но он передавал вам привет. Если я правильно понял, вы учились в Дерпте?
Эдгар кивнул. Он почувствовал, как краснеет до кончиков пальцев.
— Многие хвалят тамошний театр. А что вы скажете?
— Всячески рекомендую, герр гауптштурмфюрер, а также оперу! В “Ванемуйне” ставят Пуччини так, что вам наверняка понравится. Я слышал, что туда собираются с концертами музыканты из Штутгарта.
Голос Эдгара был спокойным и уверенным, в уме он поблагодарил себя за интерес к культуре, хотя и считал начало разговора несколько странным. Доносившийся из кухни равномерный стук мясницкого топора мешал сосредоточиться. Еще один официант проплыл мимо него, держа в руках поднос, закрытый серебряным колпаком, губы немца, сидящего за соседним столиком, были кроваво-красными от вина, Эдгару захотелось пить. Язык набух так, как будто он ничего не пил несколько дней, живот урчал, а в горле появилось жжение, которого он давно уже не ощущал.
— Спасибо, герр Фюрст, я еще не успел ознакомиться с культурной программой Дерпта, постараюсь наверстать упущенное, как только появится возможность. Но теперь к делу. Как вы относитесь к тому, что названия улиц будут на немецком языке? Внутренний директорат категорически против, считают, что эстонцам не понравится “Адольф-Гитлерштрассе”. А как народ отреагировал на речь рейхсмаршала Геринга?
Гауптштурмфюрер беззаботно менял темы, его фразы всякий раз заканчивались легкой улыбкой, от которой вокруг глаз появлялись мелкие морщинки. Он напоминал легендарного пилота Эрнста Удета, аса из асов: форма носа и линии губ были очень похожи. На открытке, которую хранил Эдгар, Эрнст был еще очень молодым, человек же, сидящий за столом напротив него, уже повидал жизнь. Эдгар повернулся к гауптштурмфюреру правой щекой, так он выглядел более привлекательно.
— Речь рейхсмаршала Геринга, произнесенная шестого августа, прозвучала несколько проблематично. Особенно в связи с тем, что дефицит продуктов все время растет. Если вы помните, рейхсмаршал Геринг сказал…
Гауптштурмфюрер наморщил лоб:
— Да, да. Что прежде всего надо кормить немцев, а потом уже всех остальных.
— Можно выдвинуть осторожное предположение, что после этой речи наблюдается небольшой спад популярности Германии. К тому же определенные подозрения вызывает деятельность доктора Вески.
— Кто такой доктор Вески? — спросил гауптштурмфюрер.
И снова мимо проплыл поднос с крокетами. Урчание в животе прекратилось, жжение стихло. Эдгар слегка приподнял брови, чтобы глаза выглядели ярче. В отражении ножа было видно, как горит его кожа, ее словно покрыли румянами, и каждая новая стопка добавляла еще один слой.
— Доктор Вески — филолог Дерптского университета. Говорят, он составляет новую карту восточных территорий в связи с тем, что эстонцев планируют переселить в Россию. Говорят, на его карте все русские деревни уже имеют эстонские названия.
Эдгар вслушивался в свой голос и понимал, что говорит словами из диалогов, которые он заранее проговаривал в голове, и не был уверен, сможет ли он ответить на вопросы, которые будут выбиваться из подготовленного им сценария. Глаза то и дело цеплялись за Рыцарский крест, и Эдгару приходилось усилием воли отводить от него взгляд.
— Надо же?! Это неожиданно и даже невероятно. Откуда взялись эти слухи и кто их распространяет? Могу заверить вас, что данные планы противоречат интересам рейха.
— Конечно, герр гауптштурмфюрер.
— Вы гораздо лучше многих владеете ситуацией, герр Фюрст. Гораздо лучше. У вас есть общая картина всего происходящего.
На лице гауптштурмфюрера вновь появилась улыбка. Эдгар растерялся, поднял руку к щеке.
— А что насчет антигерманской деятельности?
— Ее практически нет.
— Я читал написанные вами отчеты. Прекрасный слог, благодарности приходят из самого Берлина. Я уверен, что вы самый подходящий человек для нашего задания. Надеюсь, вы сможете продолжить работу в Группе Б, в отделе Б-IV, но в несколько ином статусе. Полагаю, вы еще не знакомы с группенлейтером Айном-Эрвином Мере? Вы с ним еще обязательно встретитесь, он подчиняется лично мне. Ваша задача — следить за настроениями в отделе и мне докладывать. Мы получили сведения, что подпольным организациям удалось внедрить шпионов даже в самые элитные подразделения, и хотим знать, как обстоит дело в Группе Б.Когда Эдгар вышел на улицу, опрокинутые в пустой желудок стопки запросились наружу. Он поспешил отойти за угол, отыскал там подворотню и стал ждать, пока его нутро немного успокоится. На сей раз проблем с одеколоном не было — Эдгар держал бутылку на достаточном расстоянии от одежды, — но он должен был догадаться поесть перед встречей. Он понял, что слишком старается, при каждой встрече случалась какая-нибудь оплошность, рвущаяся наружу стопка или одеколон. Теперь же все дело было в сидящем напротив мужчине. В тот момент, когда их ноги случайно соприкоснулись под столом, Эдгар решил, что станет для гауптштурмфюрера Герца незаменимым помощником. Герц доверял ему, и совсем скоро у него будет возможность увидеть его вновь.
1943 Вайвара Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
Как только “опель” покинул Таллин, Юдит стала напевать Das macht die Berliner Luft [13] , но Гельмут смотрел в окно. Одной рукой он машинально обхватил Юдит за плечи, другая застыла над пепельницей, держа сигарету. Голос Юдит ослабел. Значит, и в этот раз они не будут петь задорных маршей, насвистывать веселых песен, как раньше. Гельмут не вытащит из кармана свой крошечный немецко-эстонский разговорник, на обложке которого Юдит написала на двух языках строчки из стихотворения Марии Ундер, и не будет по дороге учить под руководством Юдит обиходные фразы, не прошепчет ей на ухо по-эстонски “твои уста в моих устах”. Протянувшиеся от столба к столбу провода сменились колючей проволокой. Гельмут открыл окно, выбросил окурок и подставил лицо ветру, как будто в машине ему не хватало кислорода. Юдит чувствовала напряжение сидящего рядом Гельмута, время от времени он поворачивался и смотрел ей в глаза, с излишне точной периодичностью, словно делал это намеренно, чтобы она не заметила морщин на его лбу.
Люди из “Балтише Эль” уже давно тайно приезжали в квартиру на Роозикрантси, их сдержанные разговоры время от времени просачивались под дверью спальни и достигали ушей Юдит: одна из самых важных военно-экономических задач Германии на территории бывших балтийских государств заключается в переработке и использовании горючих сланцев, и в этом вопросе высшее руководство рейха не собиралось уступать. Именно поэтому “опель-олимпия”, в котором сидела встревоженная Юдит, спешил в сторону Вайвары и новых возможностей нефтеперерабатывающей промышленности. Возможно, все это началось со Сталинграда, с продолжающегося отступления на Восточном фронте. Обеспокоенность и нервозность стали потихоньку прокрадываться в ряды друзей Гельмута, а Юдит не решалась даже помыслить, к чему все это может привести. Она отказывалась думать об этом и старалась взбодрить Гельмута, когда тот вздыхал, что офицерский состав стал похож на резервистов.
Поначалу Юдит считала хорошим знаком, что для рабочих стали строить квартиры и восстанавливать разрушенные большевиками заводы. Немцы не стали бы так вкладываться в местную промышленность, если бы не были уверены, что большевики сюда больше не вернутся, ведь так? Но тогда почему Гельмут столь озабочен? Новости тонули в пропаганде. Герда сказала бы, что политика не красит женщин, в нее не надо влезать. Герда была права. От запаха выхлопных газов сдавило виски, все было слишком запутанно, она не понимала, что происходит, и страдала от того, что страсть отступает под натиском военных забот, проникающих даже в спальню.Когда прибыли на место, Гельмут тут же отправился встречаться с важными людьми, застучали каблуки, зазвучали приветствия, а Юдит пошла искать подходящий камень для возможно последней в этом году солнечной ванны. Она надела солнечные очки, сняла туфли, закатала чулки и немного, в рамках дозволенного, приподняла подол. В прохладном ветре уже чувствовалась осень, она дрожала и без того, но не настолько сильно, чтобы достать из сумки первитин. Она стала носить его с собой после февральских бомбардировок. Говорили, что армия разгружает склады, и у Гельмута были теперь целые коробки первитина. Гельмут был прав, первитин помогал. Под его воздействием подавленное состояние исчезало, как снег под бомбами; Юдит помнила, какой неестественно черной была земля после бомбежек, помнила очереди вдоль проселочных дорог, нагруженные сани, покидающие город, и то, как в ночь перед обстрелом она первый раз увидела на улице пьяного немецкого солдата. Юдит открыла сумочку. Больше она не замечала развалин, ее глаза привыкли к ним, как к пыли в комнате. Ее не волновало ничего, кроме мужа. Ярко-красные, сверкающие на солнце ногти на ногах напомнили ей вновь его упреки: свекровь, видите ли, не одобрила бы выбор цвета. Теперь же ее ногти могли жадно впитывать свет, такие же свободные и такие же красные, как и у Лени Рифеншталь, чей загар был знаменит на весь мир и которая всегда брала с собой в дорогу двух фотографов, чтобы они снимали ее и ее наряды.
— Что скажешь… несколько кур, корова, простая жизнь в деревне? С тобой.
Юдит решила, что ослышалась. “Опель” подпрыгнул на ухабе, Юдит ударилась локтем о ручку двери и вскрикнула — от удивления и боли. Когда на закате они отправились в обратный путь, Гельмут тихо сел в машину и долго сидел, не произнося ни слова. Он не взял Юдит за руку, не поцеловал ее. Неужели он действительно говорит о возможности остаться здесь после войны? Не может быть? В деревне?
— Многие офицеры подумывают об этом. Ты поедешь со мной в деревню, дорогая?
Сначала Юдит просто обрадовалась, что Гельмут не уедет в Германию без нее, он останется, и она его не потеряет. Потом мысли ее устремились в другую сторону, она представила, что живет в деревне, похожей на Таару, запах ржи, девчонки, несущие бидоны к телеге, и себя, замужнюю женщину, сожительствующую с немцем, косые взгляды и плевки, летящие в спину, как только она отвернется. Ситуация не изменится, купи Гельмут даже целое имение, а не клочок земли. Юдит не хотела жить в имении на правах любовницы. Все заявления о браке офицеров СС рассматривались в штабе управления безопасности, и она наверняка не прошла бы этот отбор, но даже если бы и прошла, подобный брак сломал бы карьеру Гельмута, Юдит нечего будет делать в Берлине. Может, поэтому Гельмут и говорит о переезде в деревню. Но его слова означают и еще одно: Германия не сдастся, Германия победит, большевики никогда не вернутся. Иначе Гельмут не планировал бы здесь своего будущего.
— Я написал нескольким друзьям и посоветовал им купить землю в Эстланде. Ты стала бы прекрасным проводником в сельскую жизнь. Земля плодородная, растительность богатая, чего еще надо. Почему бы не построить наш маленький рай в деревне?
— Но после войны у тебя наверняка будет возможность делать что угодно и где угодно, — вскричала Юдит.
— Я думал, ты хочешь остаться здесь.
— Ты никогда не спрашивал меня о будущем.
Гельмут открыл портсигар и закурил:
— Ты хочешь уехать в Германию?
— Об этом ты тоже не спрашивал.
— Не решался.
Его слова успокаивали Юдит, напрасно она так испугалась. У Гельмута не было пока никаких конкретных планов, он пока не присмотрел себе подходящего дома или усадьбы. Возможно, ей не придется объяснять ему, что в Эстонии к любовницам относятся совсем не так, как в Германии, не придется облекать стыд в слова. В Германии никто не возмущался, увидев округлившийся живот сожительницы или секретарши. Женщин просто отправляли на отдых в какой-нибудь немецкий городок, где, как говорят, жить приятнее, безопаснее и питание лучше. Так уехала Алисе, с которой у Юдит была общая портниха, так уехала Астрид, с которой у них была общая парикмахерша, и так же, собрав чемоданы, уехала наконец и Герда. Она все же обещала писать. Юдит должна спросить у Герды, как ей живется в Германии, может быть, даже съездить в гости, прежде чем принимать окончательное решение. Там не будет знакомых из прежней жизни, может быть, там она и согласилась бы провести остаток жизни в роли тайной любовницы. Гельмут может жениться на подходящей для его рода и рейха женщине. Юдит вынесла бы и это, лишь бы быть рядом с ним.
— Я поеду куда угодно, куда ты захочешь, — прошептала она.1943 Ревель Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
Эдгар взглянул на часы, он пришел вовремя. Ткань кармана немного растянулась от того, что он все время дергал его нетерпеливой рукой, каждый день считая минуты до следующей встречи. Каждая крупица информации, которую ему удавалось добыть, воодушевляла его неимоверно, каждая деталь, вносимая в рапорт, казалась личным подарком гауптштурмфюреру. Герц был доволен им, это было заметно, и, вполне вероятно, вскоре они могли бы вместе провести вечер в театре. Эдгар заранее готовился к возможному приглашению и даже заказал у портного новый костюм, сказав, что должен выглядеть так, как будто только что прибыл из Берлина.
В ресторане стоял такой же шум, как обычно: альгемайне-СС были в черном, вермахт в сером и все длинноногие. В глазах пестрели медали “Мороженое мясо” [14] , орлы и свастики, так что Эдгару пришлось отвернуться. Истории о Сталинграде были не подходящими для женских и детских ушей, он тоже не хотел их слушать.
Гауптштурмфюрер Герц махнул рукой и поднялся.
— Приятно снова видеть вас, герр Фюрст. Официант! Я рекомендую вам взять голубей, очень изысканное блюдо… И принесите еще лучшего рислинга.
Присаживаясь за столик, покрытый белой скатертью, Эдгар старался не смотреть на Рыцарский крест на шее и держал брови слегка приподнятыми. Чтобы взгляд казался более открытыми. Но не слишком. И почаще поворачиваться к Герцу правой щекой.
Утро прошло в нервных приготовлениях, теплое полотенце, которое он обычно прикладывал к подбородку, перед тем как побриться, получилось слишком горячим, камень для бритья потерялся, а идея поточить бритву оказалась неудачной. Все его действия напоминали поведение молодого человека, который только что перешагнул порог переходного возраста и теперь готовился к первому свиданию с возлюбленной: он был точно так же взволнован и с дрожью в голосе повторял фразы, которые могут пригодиться в разговоре. Предвкушение приятной встречи заставило его кожу пылать огнем, и жар этот не остудил даже свежий воздух улицы. К счастью, в ресторане стоял полумрак. Эдгар, конечно, видел, как проходящие мимо женщины одаривают Герца заинтересованными взглядами, но, к своему удовольствию, заметил, что Герц не обращает на них никакого внимания. Он был вежлив с дамами, но его глаза ни разу не соскользнули на их грудь или на бедра. Тем более странно выглядели следы пудры на его безупречном воротничке.
— Вы проделали прекрасную работу, и я даже не знаю, как вас отблагодарить. Но у меня есть для вас еще одно, не менее интересное задание. Как вы понимаете, в Эстланде не хватает рабочих рук, и поэтому принято решение привезти сюда дополнительную рабочую силу.
Принесенные блюда слегка утихомирили бушующие чувства Эдгара, и он смочил губы вином, но пить не стал. Другие напитки попросить он не осмелился, хотя в пересохшее горло мясо лезло с трудом. Эдгар закашлялся. Надо было сосредоточиться на работе, доверие Герца нельзя было терять ни в коем случае.
— Особенно мужских рук катастрофически не хватает, — продолжил гауптштурмфюрер. — Промышленность не может работать в полную силу, большевицкая тактика “выжженной земли” нанесла непоправимый урон, но это для вас не новость. Нам нужны новые производственные территории и жилье для рабочей силы. Прежние трудовые лагеря находились в подчинении Главного управления имперской безопасности, новый лагерь будет принадлежать хозяйственному управлению, ВФХА. Надеемся, Группа Д сможет добиться лучших результатов, так как, откровенно говоря, доход трудовых лагерей оказался далеко не таким, как ожидалось. Мы будем работать в прямом подчинении только что назначенного на должность главного инспектора концентрационных лагерей группенфюрера СС Рихарда Глюкса — он, в свою очередь, подчиняется непосредственно рейхсфюреру Гиммлеру. Я уже получил перевод и теперь собираю команду ответственных работников для такой важной миссии. На этой неделе я побывал на площадке, где будет возведен новый лагерь, и могу сказать, что работы предстоит немало. Дороги в ужаснейшем состоянии, мне просто повезло, что мой шофер оказался еще и механиком. Комендантом Вайвары назначен гауптштурмфюрер Ганс Омейер, у него десятилетний хозяйственный опыт, и мы надеемся, что он сможет поднять производительность лагеря на должный уровень. В настоящий момент идут переговоры об административном делении. Мы сотрудничаем с “Балтише Эль”, а также с отделением Руссланд-Норд Организации Тодта. Мне в группе нужен надежный человек, который понимал бы настроения местных жителей.1943 Ревель Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
В тот момент когда Юдит повернула на Роозикрантси, навстречу ей из арки вышел Роланд в немецкой форме и вежливо приподнял фуражку. Юдит застыла на месте, раздумывая, имеет ли смысл бежать, успеет ли она открыть двери и нырнуть внутрь — до входа оставалось метров десять. Пристальный взгляд мужчины испугал девушку-служанку, несущую пакеты с покупками, Юдит заметила, как она неуверенно переминается с ноги на ногу.
— Можешь идти, Мария, — сказала Юдит.
Девушка забежала в ворота. Юдит заставила себя сделать вежливое лицо и кивнула проходящим мимо соседке и директору немецкого армейского магазина. Роланд схватил Юдит за плечо и заставил идти вперед.
— Давай прогуляемся, — сказал он.
Они шли рядом, Роланд держал ее под руку. Его шаг был непринужденным, чего нельзя было сказать о голосе.
— Мне нужна квартира твоей матери.
Юдит затаила дыхание. Если она сейчас громко закричит, то навсегда избавится от Роланда, ей никогда больше не придется высматривать его в толпе, страшиться его неожиданных появлений и думать, что будет, если о нем узнает Гельмут. Их окружали люди, и полицейский стоял совсем недалеко, Юдит открыла рот, но своего голоса не услышала, глаза ее метались от прохожего к прохожему, она обдумывала, что скажет, если вдруг встретит кого-то, с кем надо будет поздороваться, представить своего спутника, варианты роились в ее голове, но каждая заготовленная фраза разбивалась о стеклянный взгляд Роланда. Как только Юдит пыталась замедлить шаг, он сжимал ее локоть, заставляя идти ровнее.
— Дни становятся короче, и в Финляндию переправляют все меньше людей. Но квартир для нелегалов не хватает. Все боятся, везде спрашивают документы.
— Говори тише, — прошептала Юдит.
— Ты тоже боишься. Поди, и думаешь уже по-немецки.
— Нет.
— Квартира на Валге-Лаэва расположена как раз рядом с парком. Если что — в парке всегда можно укрыться, к тому же большевики снесли складские помещения поблизости. Туда легко попасть. Тебе ведь не нужна квартира, а другим нужна, — сказал Роланд. — Кстати, ты о брате что-нибудь слышала? Неужели твой тевтонец не способен выяснить даже это?
Юдит открыла было рот, но снова закрыла. Гельмут сказал, что лучше подождать до конца войны. Тогда появятся новые возможности разузнать о судьбе Йохана. Он обнял ее, и от сочувственного тепла этого объятия Юдит расплакалась. Но с Роландом она не хотела говорить о брате, голос Роланда был ледяным. Горло Юдит сжалось от боли, но у него на глазах она не заплачет. Они повернули на улицу Люхике-Ялг и стали подниматься по ступеням к Тоомпеа. Она могла бы скользнуть под перила, побежать вниз по мощеной стороне улицы, у ворот было много народу, Роланд, возможно, не успел бы за ней так быстро, она могла бы закричать, и дело было бы решено, но она лишь выдавила из себя:
— Я не могу пойти на это.
— А кто тебя спрашивает.
Роланд взял из онемевшей руки Юдит сумку, покопался в ней и достал ключи. Они дошли до конца улицы Кохту. На смотровой площадке стояла группа немецких офицеров с биноклями, представители “Остланд-фильма” демонстрировали пейзажи, фотографы и репортеры снимали окраины Остланда. Роланд повел Юдит дальше. На лестнице Паткули он взял ее за руку, поддерживая, как новорожденного жеребенка.Время, казалось, стоит на месте, его движение было совсем незаметным. Или слишком быстрым. В любом случае всегда неправильным. Завтра. Завтра Юдит пойдет в квартиру на Валге-Лаэва и выполнит данное Роландом поручение. Юдит кругами ходила по кабинету и никак не могла сосредоточиться на работе, хотя стопка материалов для перевода ждала возле пишущей машинки. Но предложения цеплялись одно за другое, как только она садилась за стол. Хорошо еще, что Гельмута не было дома и Юдит могла сколько угодно вздрагивать от глухих выстрелов выхлопных труб, сирен скорой помощи, теней на стене, могла без помех кружить по комнате, чтобы успокоиться, хотя с каждым кругом все острее чувствовала себя запертым в клетке животным. Гельмут больше не мечтал о деревенской идиллии, его мысли устремились в Берлин, он рассказывал о своем тамошнем детстве и о местах, которые Юдит обязательно должна увидеть, но под конец его лоб сморщивался, как бумага.
— Или, может, все-таки куда-нибудь еще, где не будет видно войны, — сказал Гельмут.
Он действительно относился к ней очень серьезно, и тем не менее Юдит все ставит сейчас под угрозу: этот курительный столик, который Гельмут высвободил из-под хлама и соорудил ей рабочее место, поставив на него печатную машинку, этот кабинет и эти газеты, аккуратно сложенные служанкой на столе. Часто Гельмут, когда ездил в штаб, приходил во второй половине дня работать домой, в свой кабинет, потому что ему больше нравилось слушать, как переводит Юдит, нежели штатные переводчики, и она переводила ему, что пишут в эстонских газетах. Эти дни Юдит тоже ставила под угрозу, дни, которые она любила больше всего, и возможность отправлять матери эстонские газеты, для которых теперь не хватало бумаги, хотя станки на заводах работали на полную мощность. У прессы на немецком языке таких проблем не было. Немцам всего хватало, и ей тоже, она очищала лицо сахаром, чего не могла бы делать, не будь Гельмута. Юдит продолжала ходить по комнате. О работе на сегодня можно было забыть, нервы разгулялись, чулки не давали покоя. Ноги чесались так, как будто на них было несколько пар толстых шерстяных носков, как в детстве, когда они должны были защитить от укусов гадюк. Юдит сняла резинку с чулок и закатала их вниз. Сосудистое пятнышко на правой икре всегда напоминало ей Аделину, отца которой убили большевики — его останки были найдены в подвалах на улице Пикк, — ее мать и запах потного талька, расползавшийся по комнате, когда она, кряхтя, снимала резиновые чулки, которые носила из-за варикоза. Кожа Юдит покраснела, вены набухли. Она не должна допустить появления узлов, ни в коем случае, она не должна допустить, чтобы Гельмут потерял к ней интерес, чтобы его пальцы перестали медленно подниматься по ее бедру в сумерках Эстонии. В связи с переходом на новую должность забот у Гельмута стало больше, работа в хозяйственном управлении предполагала много поездок, ему хотелось снова вернуться к обязанностям, соответствующим его квалификации. В его прикосновениях появился оттенок рассеянности, что день ото дня все больше беспокоило Юдит, побуждая еще тщательнее заботиться о своей красоте. Ее жизнь зависела от чувств Гельмута, без него у нее ничего не останется.
Доносившийся с улицы шум заставил ее вздрогнуть, хотя это были всего лишь голоса возвращавшихся с первой смены школьников. Зуд в ногах стал невыносимым. Завтра было уже совсем близко. Завтра она пойдет принимать беженцев. Через тридцать часов. А что, если она все испортит? Что, если она не сумеет вести себя так, как нужно? Если совершит какую-нибудь глупость? Если среди беженцев окажутся знакомые? Что, если она просто не пойдет? Почему Роланд не может найти для этого кого-нибудь еще? Откуда он знает, что добытое им расписание работы береговой охраны правильное? Откуда он знает, что этим рыбакам можно доверять? Как долго они смогут обманывать проверяющих? Хватит ли пил и других инструментов, чтобы скрыть истинное назначение перевозящей беженцев лодки? А что, если рыбаки начнут шантажировать, откуда тогда взять деньги? Где они берут грузовики и топливо? Юдит не желала этого знать. Почему она не отказалась, что сковало ее губы и не дало говорить? Сталинград, Тунис, Ростов или тот факт, что в немецкую армию стали призывать мужчин с оккупированных восточных территорий? Если бы она доверилась Герде, та наверняка придумала бы какое-нибудь средство, скорее всего, посоветовала бы использовать женские чары, сказала бы, что Юдит должна научиться управлять Роландом, а не позволять ему управлять ею. Но Юдит не Герда, у нее нет врожденного таланта растапливать сердца даже самых безжалостных противников. Юдит скучала по Герде, по ее советам. Она так и не получила ни одного письма от подруги, хотя та обещала писать.
Завтра Гельмут не узнает, что Юдит ускользнет из дому после наступления комендантского часа, потому что утром вся группа, кроме нее, отправится на несколько дней в Вильнюс, но как быть дальше? Юдит не может заранее предсказать, в какие дни Гельмут будет дома, а в какие нет. Часы, которые, казалось, стояли на месте, вдруг пошли с удвоенной скоростью. Ей надо готовиться. Гельмут вернется с минуты на минуту, вскоре придут и его друзья, повариха уже взбивает яйца в пену, Мария накрывает на стол. Ей надо готовиться, она должна развлекать и услаждать взор. Нервозность сразу же отражается на женской коже, так говорила Герда, и Юдит не имеет права показывать это кому бы то ни было. Она начала с того, что вспенила туалетное мыло. Герда убедила ее в том, что идеальная гладкость ног достигается бритвой, а не сероводородом. Герда считала, что сероводород сильно воняет, и она права. Ноги выглядели слишком бледными, загара практически не осталось, и с этим надо было что-то делать. Приняв ванну и побрив ноги, Юдит припудрила подмышки салициловой пудрой и поставила баночку обратно на полку, рядом с черным карандашом, которым когда-то рисовала швы на ногах, в те времена, когда у нее не было чулок. Темные локти смотрелись грозовыми тучами. Юдит схватила маленькое зеркальце, чтобы проверить, насколько ужасно они смотрятся. Надо попросить Марию принести еще лимонов. В остальном ее превращение из голубя в гадюку на коже не отразилось… Или она лишь пыталась себя в этом убедить?Стоя на пороге дома гауптштурмфюрера Герца, Эдгар перевел дыхание. Сквозь зеленое окно над дверью в прихожую проникал мягкий свет. Он выпрямился и расправил плечи, портной справился с заданием на отлично. Повязка держалась прямо. Бауфюрер ОТ. Из-за нехватки обмундирования ему придется довольствоваться повязкой и удостоверением, по крайней мере на первом этапе, но это его не сильно тревожило, у него было достаточно поводов для гордости. Этого приглашения он ждал уже давно, эта дверь станет для него воротами в рейх. На ужин должны были прийти представители “Балтише Эль”, концерна “Голдфельд”, а также Организации Тодта, с деятельностью которой он уже успел познакомиться. После того как немцы сдали позиции на Кавказе и потеряли надежду на выход к Каспийскому морю, их взгляды обратились к Эстонии. Эдгар сразу понял, что это значит. У немцев не было нефти, немцы никогда не откажутся от Эстонии, горючие сланцы гарантируют им будущее. Интересы “Балтише Эль” стояли теперь превыше всего, и хотя он еще не до конца в этом разобрался, но очень скоро разберется.
Горничная взяла у Эдгара пальто и шляпу, в зале уже царила веселая атмосфера, портрет фюрера на стене висел немного криво. Гауптштурмфюрер Герц тепло поприветствовал гостя, проводил его к остальным, а сам отправился искать свою спутницу, которая вот-вот должна была подойти. Штурмбаннфюрер Омейер продолжил начатый днем разговор о поездке в Вильнюс и Ригу. В Литве, говорят, разработан интересный механизм, ускоряющий производственный процесс, они смогут посмотреть его в действии в лагере Панеряй. Подобную систему хорошо бы внедрить и в Эстланде. Эдгар рассказал, как организовано разделение труда между полицией и третьим батальоном майора Йоханнеса Коорта. В правилах установлено наиболее приемлемое расстояние между охраной и заключенными — шесть футов, по административным вопросам переговоры все еще продолжаются. Штурмбаннфюрер кивнул, ситуация была ему знакома — ВФХА старалось прочно удерживать за собой определенные области.
Дверь в зал была открыта, и погруженный в разговор Эдгар не сразу понял, почему голос женщины, разговаривающей в коридоре с гауптштурмфюрером Герцем, кажется ему таким знакомым. Потом он вдруг понял, чей это голос! Нет, он не мог ошибиться, хотя гости вокруг говорили очень громко. Эдгар взглянул на окна. Нет-нет, о них не стоило даже думать, но между окнами были большие стеклянные двери, которые, очевидно, вели на балкон.Эдгар вжался в угол балкона, прилип спиной к стене и изо всех сил сжал правой рукой перила. Край шторы, выглядывающий в дверную щель, лизал ботинки. Из зала доносился стук каблуков, скрип паркета и знакомый смех, женский смех. Спрыгнуть он бы не рискнул, слишком высоко. Все двинулись к столу, Эдгар услышал, как штурмбаннфюрер Омейер упомянул его имя и сказал что-то о свежем воздухе. Когда горничная позвала хозяйку к телефону, Эдгар понял, что это единственный шанс. Удостоверившись, что стук каблуков удаляется, он вернулся обратно к гостям, перекинулся парой фраз с хозяином дома, спокойно прошел через зал, затем ускорил шаг и нашел клозет ровно в ту минуту, когда голос Юдит стал снова приближаться. Он сел на пол и подождал, пока Юдит пройдет в зал, после чего вышел в коридор и оттуда в прихожую, где отыскал свои пальто и шляпу. Прислуге он прошептал, что плохо себя чувствует и вынужден уйти, просил передать хозяевам искренние извинения за столь поспешный уход. Позднее он прислал записку, что машина может забрать его утром. Он в порядке и готов ехать вместе со всеми.
Когда шофер штурмбаннфюрера Омейера въехал ранним утром на Роозикрантси, сидящий на заднем сиденье Эдгар на всякий случай надвинул на глаза шляпу. Машина остановилась, и все вылезли размяться, он же остался внутри, сославшись на слабость и сказав, что попытается немного вздремнуть. Из-под надвинутой шляпы и высоко поднятого воротника он увидел, как на улицу выбежала горничная, та самая, что приняла у него вчера пальто и чуть было не столкнулась с дворником, размахивающим метлой перед воротами. Привычность утра успокаивала. Темные шторы были раздвинуты, из булочной доносился аромат свежеиспеченного хлеба, лошади, запряженные тяжелыми повозками, направлялись к армейскому магазину. Наконец гауптштурмфюрер Герц вышел на улицу, остановился купить рожок у торгующего мороженым паренька, радостно поприветствовал Эдгара и других спутников и направился к своей машине. В этот момент дверь дома отворилась, и выбежала Юдит в цветастом утреннем халатике. Ветер подхватил ее и отнес прямо к “опелю”, опустил на заднее сиденье, и Герц обвил рукой ее плечи, ласково приподнял вьющиеся со сна волосы и нежно-нежно коснулся уха. Увиденное на мгновение ослепило Эдгара, прожгло насквозь, как случайно выпитая щелочь, и он ничего не мог с этим поделать, с этой убийственной силой, ибо в этом прикосновении была вся любовь мира, вся нежность мира, все самое драгоценное, и происходило это на глазах у всех. Гауптштурмфюрер СС вел себя подобным образом на глазах у всех этих людей, мальчишек, старьевщиков и дворников, позволил женщине выбежать на улицу в ночной сорочке, позволил ей подбежать к машине, чтобы попрощаться, несмотря на то, что сорочка прилипла к бедрам на ветру, позволил шелку сползти с женского плеча и в награду одарил ее столь нежным прикосновением. Как возможно такое бесстыдство, такой жест, позволительный лишь в постели или в будуаре, такой острый момент интимной жизни посреди улицы, такая честь, которую не принято оказывать шлюхам! Эдгар видел, как ведут себя офицеры с полевыми женами, но это же было совсем другое. Такой жест существует в жизни каждого лишь для одного человека, и многим он не достается никогда.
Этот жест отложился в сознании Эдгара в виде непрерывной цепочки повторяющихся кадров: женщина, бегущая к машине и садящаяся в нее, мужчина, опускающий руку ей на плечи, чтобы погладить волосы и коснуться уха. Картинка беспрерывно крутилась в голове — выражение радости на лице позабывшего обо всем мужчины, улыбка Юдит, заставившая мостовую светиться любовью, и свет, озаривший лица обоих. Эдгар не в силах был избавиться от мысли, что Юдит и офицер делят постель, хотя и не хотел думать об этом, о руке, которая касается ее уха, ее лица, о губах, что целуют ее брови и кончик носа. В ушной раковине Юдит не было ничего исключительного, это же самая обычная девушка, не выделяющаяся особой красотой. Да еще и замужем. Кто дал ей право, этой ничтожной твари, так бесстыдно вести себя с гуаптштурмфюрером и посещать гостиные, в которых Эдгару не было места? Кто дал ей право так легко, так незаслуженно войти в мир немцев? Женщина садится в машину, в машине вспыхивает свет близости, и мужчина кладет руку ей на плечи, чтобы погладить волосы и коснуться уха, и от света, исходящего от них, темнеет день, они превращаются в маяк посреди черного моря, но даже не замечают этого, как не замечают всего окружающего их мира, в котором ничуть не нуждаются, они пылают, мужчина касается уха женщины, и загорается огонь, их огонь.
Подумав хорошенько, Эдгар понял, что когда-нибудь положение Юдит можно будет использовать. Придет еще такой час. А пока он успеет познакомиться с поручениями, данными ему штурмбаннфюрером Омейером, составит производственные расчеты и съездит проведать мать, выяснив между делом, знает ли она что-нибудь о похождениях невестки. Больше ему нечего делать в Таллине, оставался единственный выбор — грязный лагерь Вайвара, там он не рискует столкнуться с Юдит. Впервые в жизни он ненавидел свою жену.Часть четвертая
Агенты фашистской Германии намеренно прибыли в страну еще до оккупации Эстонии гитлеровскими войсками. Одним из них был Марк, чья невеста разделяла его убеждения. По свидетельствам очевидцев, советские военнопленные часто видели ее стирающей красные от крови шинель и рубашки Марка. Она утверждала, что он всего лишь обезглавливал птиц, которых они собирались приготовить на ужин. “Я же всегда знал, что Марк организует казни советских граждан”, — утверждает свидетель М. Афанасьев. Убийства стали для националистов повседневным занятием. После каждой расправы живодеры устраивали пьянки и немыслимые оргии, в которых непременно принимала участие и невеста Марка, невзначай стряхивая с юбки застрявшие в складках ткани ногти невинных жертв.
Эдгар Партс. В эпицентре гитлеровской оккупации. Таллин, 19661963 Таллин Эстонская ССР, Советский Союз
Жена пододвинула стоящие на столе сумки с продуктами в сторону товарища Партса, словно ожидая похвалы за то, что сходила в магазин. Порвавшиеся вискозные кружева нижней юбки небрежно болтались, торча из-под подола, синеватый дым наполнял комнату. Партс опустил свои покупки на пол, открыл окно и убрал в сторону прыгнувшие прямо к лицу ветви вьющегося хмеля, он вел себя очень спокойно, хотя неожиданное появление жены на кухне его слегка напугало. В чем дело? Чего она хочет на этот раз? Раньше жена несколько раз говорила, что хочет новые модные полотенца, и Партс не смог ей отказать. Он купил взамен старых льняных полотенец китайские махровые, а рядом с зубным порошком в ванной появился тюбик польской зубной пасты. Партс долго ждал разрешения на покупку маленького холодильника, после чего трижды выстаивал очередь, пока наконец ему не удалось приобрести предпоследний в тот день “Снайге”. Все это полностью легло на его плечи, так как с точки зрения бытовых привилегий работа жены была абсолютно бесполезной. Если Партсу хотелось купить нормальные, сухие франкфуртские сосиски, то и об этом ему приходилось заботиться самому, искать знакомых на комбинате, которые бы продали ему сосиски до того, как продавщицы накачают их водой для веса. О супе с фрикадельками можно было и не мечтать, если не имеешь влиятельных друзей на мясокомбинате, — в фарш, который продавали в магазине, подмешивали порой даже крыс. Все это отнимало много времени, и все же он занимался этим ради собственного удобства и чтобы не вызывать у жены очередных приступов. К чему же она клонит теперь?
Жена еще на сантиметр подвинула сумки к Партсу, но он даже не взглянул на них. Ужин будет холодным, нравится ей это или нет. Он не будет сегодня жарить котлеты, не будет разбирать покупки, он хочет уйти в свою комнату прежде, чем жена выскажет новые требования.
Неожиданно она открыла рот, отчего по комнате разнесся кисловатый запах ее дыхания, и стала рассказывать, что провела вечер вместе с Керсти, которая тоже работает на вокзале, и как они зашли сначала в один магазин, потом в другой, и в обоих магазинах был учет, и как после какого-то очередного учета они пошли в лавку, где работает приятельница Керсти, там у служебного входа стояла толпа, и им достались апельсины. Жена стала копаться в сумке, на пол упала коробка. Свежая пастила, похоже, из магазина “Калев”. Может, она хочет машину? “Москвич” стоит пять тысяч. Невозможная сумма и невозможные очереди на получение, а ему все еще не выплатили аванс.
— А потом мы пошли посмотреть новую квартиру Керсти. Кухня совсем крошечная. Мы хотя бы можем готовить здесь и обедать, у нее же это невозможно, хотя сама квартира большая и современная.
— Что же здесь странного? Люди вполне могут обедать в общих столовых, кому сейчас нужна большая кухня, — ответил Партс.
Они разговаривают.
Они впервые за долгие месяцы разговаривают.
Жена взглянула на Партса и сказала, что они дома и вдвоем. Партс раскладывал на тарелке вчерашние свиные ножки и старался не касаться сумок жены, не поднял даже упавшую на пол коробку пастилы. Он сдержал раздражение, которое вызывали у него острые нестриженые ногти на ногах жены, и не спросил, каким способом бездетная подруга смогла получить новую квартиру, неужели новый любовник подсобил? Рабочей обстановкой вечера нельзя было рисковать. А что, если он сразу выдаст жене коричневый конверт, полученный из Конторы? Деньги всегда успокаивают женщин. От нее пахло аптекой. В этом не было ничего нового, но, проходя мимо, Партс отметил и едва уловимый запах сухого шампанского. Волосы были непривычно взбиты. Как будто жена старалась показать, что она в своем уме.
— Почему ты разговариваешь со мной? — спросил Партс, четко выделяя каждое слово.
Жена вздрогнула, ее напористость тут же пропала, она молчала. Тлеющий кончик сигареты удлинялся, чашка с кофе дрожала в руке, Партс закрыл глаза и ничего не сказал. От кофейного сервиза осталось лишь несколько целых чашек, сервиз был свадебным подарком матери. Партс помнил, что произошло в прошлый раз. Жена посмеялась, какая, мол, разница, они им все равно никогда не пользовались, не было гостей, которым надо подавать кофе.
— Они так рады новой квартире. Ничего удивительного. Все как-то движутся вперед в жизни и в карьере, заводят семьи, только для нас каждый день может стать последним днем в Таллине. Но ты ведешь себя так, будто не понимаешь этого.
Партс впервые за много лет посмотрел жене в глаза. Прежде такие красивые и широко открытые, они теперь превратились в заплывшие щелки. Жалость проникла на кухню, раздражение отступило, голос Партса помягчел:
— Я не намерен возвращаться в Сибирь. Никогда, — сказал он.
Жена включила радио.
— Не намерен? Неужели? Я слушала по радио процесс над Айном-Эрвином Мере и все передачи о нем. Я даже сходила в Дом офицеров и посмотрела издали начало. Конечно, ваши уже знают, кто там присутствовал, но я надела платок и темные очки. Можешь найти меня на фотографиях, у вас их, наверное, множество.
Партс сел. Радио кричало, жена же понизила голос, так что ему приходилось следить по губам, чтобы понять, что она говорит.
— Какого черта ты там делала? Там не было Мере. Он в Англии и ни за что не уедет оттуда, — проворчал Партс.
— Я должна была. Я хотела знать, как это будет. На что это будет похоже.
Она закурила новую сигарету, предыдущая догорала в пепельнице. Рев радио гонял по кухне пыль и пепел.
— Боже мой! Это был показательный процесс! Айн-Эрвин Мере отказался сотрудничать с нами, в этом все дело!
— Он совершил ошибку. Но ты уверен, что сам ее не совершишь?
Партс взял себя в руки, он отошел от замешательства и прошипел:
— Мере был большой шишкой, я же фигура незначительная. Такое представление не станут устраивать ради мелких сошек.
— А что, если им понадобится именно такой показательный пример? Ты уже однажды получил приговор за контрреволюционную деятельность. Или ты полагаешь, что выступление на процессе сделало из тебя героя на все времена?
Локоть жены толкнул сумку с продуктами. Из сумки выпал апельсин и докатился до прихожей. Партс раздумывал, стоит ли рассказать о книге подробнее. Нет. Пусть жена наслаждается благами подготовительного периода, но всей широты проекта ей раскрывать нельзя, как и того, какую роль в нем должна сыграть его книга. Партс налил себе приготовленный женой ячменный кофе и сел за стол. Жена передвигала пепельницу взад-вперед, пепел летел Партсу в кружку, усилием воли Партс проглотил поднявшиеся к горлу гневные слова.
— Я не хочу быть следующей, — сказала жена, Партс сделал радио еще громче. — К нам пришли новые девушки на работу. Одной из них пришлось тут же уйти. Причины нам не объяснили, но Керсти знала, что отец девушки служил в немецкой армии. Я жду каждый день. Жду, когда за мной придут, жду с того момента, как они вернулись. Я знаю, они обязательно придут.Партсу надо было подождать еще некоторое время, прежде чем он сможет опустить пальцы на клавиши “Оптимы”; он ждал, пока жена опустошит бутылку, и в ожидании тихо посасывал косточки свиных копыт. После чего вытер руки, открыл сейф и достал записную книжку. Чем на самом деле занимался Роланд после их разрыва, может, жена угадает? Мать и Леонида успели отойти в мир иной, пока Партс был в Сибири. Связывался ли с ними Роланд в отсутствие Эдгара, осмотрительный Роланд? Женщины всегда что-то знают. В гостиной заиграл проигрыватель, Брукнер. Усталость, вызванная неожиданным разговором, постепенно прошла. Партс опустил пальцы на клавиши и закусил губу. Он все еще мог вернуться к жене, подобрать укатившийся в прихожую апельсин, почистить его для нее, взять за руку, попросить рассказать все, что она помнит, сказать, что они спасутся вместе, спасут друг друга, хотя бы раз, хотя бы этот единственный раз они могли бы объединить усилия, ведь надо спешить. Жена могла бы помочь найти Роланда, вспомнить что-то такое, что он не помнил, догадаться о том, о чем он не догадается никогда, — места, куда Роланд мог отправиться, люди, с которыми он был связан. Он мог бы показать жене записную книжку, а вдруг она тоже узнает этот подчерк, назовет имена. Что, если у жены есть ключи к загадкам Роланда? Сейчас самый подходящий момент, она достаточно напугана и, возможно, после всех этих лет наконец готова, а иначе почему она начала этот разговор, почему рассказала, что ходила на процесс по делу Мере? Означало ли это, что ее гордость сломлена? И чем это вызвано — отчаянием или пониманием того, что никто другой, кроме Партса, не может обеспечить ей безопасное будущее? Почему же Партс не мог сделать шаг навстречу, взять ее за руку, хотя бы раз, почему не мог поверить своей жене, хотя бы в этот единственный раз?
1963 Таллин Эстонская ССР, Советский Союз
В 1943 году Марк придумал новый способ обогащения. Поскольку часть сторонников немцев уже понимала, что фашистская Германия проиграет войну, то у многих зрели в голове другие планы, а именно бегство на Запад, где они намеревались саботировать движение против Третьего рейха и способствовать распространению гитлеризма. Марк стал помогать этим людям и с помощью хитро приобретенных знакомств среди рыбаков переправлял гнидышей на принимающий их с невинными глазами Запад. А так как в буржуазно-фашистской Эстонии Марк был еще и известным спортсменом, его знали в лицо, им восхищались. Поэтому он легко находил новые контакты. Марк попросил о переводе из Тарту в Таллин. Он уже успел зарекомендовать себя в гитлеровской разведслужбе, и таллинские фашисты ждали его с нетерпением. Ожидающих переправы Марк направлял в специально арендованную для этой цели квартиру. Квартира принадлежала матери его невесты, которая также предала свой народ, продавшись немецкому офицеру… Партс опустил запястья на стол и вытер платком взмокшую шею. Каблуки жены вновь стучали над головой, словно проливной дождь, но текст рождался легко. И все же над выбором слов стоило еще подумать. Любовнице? Гитлеровской сучке? Шлюха, пожалуй, слишком примитивное слово, не стоит его использовать. Женщине, которая состояла в интимной связи с эсэсовцем? Эстонской фашистке, которая состояла в интимной связи с офицером СС? Женщине, боготворившей Гитлера и состоявшей в порочной связи с офицером СС? Невесте оккупанта? Или все же лучше военной невесте, любящей Гитлера?
Партс подумал о жене, о ее подругах времен молодости, об умершей теще, он искал более точное выражение. Жена наверняка подсказала бы подходящую фразу. Партс еще помнил ту детскую мечту, которую он лелеял по возвращении к жене из Сибири: что общее прошлое создаст основу для выживания в новой изменившейся стране и они вновь обретут взаимопонимание, которое не смогут найти ни у кого больше. Предпосылки были самые многообещающие. Жена не подала на развод, хотя многие так поступали, пока муж находился в Сибири. Правда, ни одного письма Партс от нее не получил, зато передачи были — ровно столько, сколько дозволено. Надежды Партса были не совсем несбыточными, и во времена процесса над Айном-Эрвином Мере он даже подумывал, а не привлечь ли ему жену к выступлениям в детских садах, где он сам выступал. Она могла бы произнести речь как жена свидетеля-героя, поблагодарить Красную армию за спасение ее мужа, они бы вместе позировали среди детей, жена держала бы в руках букеты гвоздик. Не исключено, что Контора использовала бы такую возможность, будь у них дети, а может, там уже тогда знали о ее прошлом и считали, что она не подходит для детских садов. Но все к лучшему, резкое ухудшение состояния жены наступило очень внезапно.
По собственному опыту Партс знал и понимал те первобытные инстинкты, которые владели его женой, он даже предложил ей однажды завести себе друга, не избегать общения с молодыми мужчинами. Во всяком случае, это наверняка подействовало бы на нее благотворно и тем самым улучшило бы рабочую обстановку Партса. Жена стала бы думать о чем-то другом, это дало бы выход кипящим в ней страстям. Но она только еще больше замкнулась в себе. Партс расстроился. Жена не подозревала, но он-то знал, что удовлетворенное влечение может превратить сложную жизненную ситуацию в терпимую, а порой даже и приятную. В концлагере он быстро усвоил эти правила, в том мире действовали звериные законы и животные инстинкты. Все остальные, получившие покровительство уголовного барака, были очень красивыми юношами, Партсу пришлось продемонстрировать особые умения, чтобы быть принятым в их число, но после этого его жизнь стала вполне сносной. Никто уже не осмеливался отправить его на лесоповал или в карьер, а у врача он получал достаточно вазелина: врачу тоже были нужны поддельные документы, не говоря уж об уголовниках. Эти безумные моменты он, впрочем, оставил позади, выбросив из головы все связанные с ними воспоминания, как выбрасывают нежеланных котят в реку. Крепкая хватка потной руки блатного на шее забылась, смешавшись с другими воспоминаниями прошлого.
Партс даже поговорил о состоянии жены с одним знакомым врачом, и тот заверил его, что, скорее всего, Партс прав. Очевидно, именно маточная пустота была причиной неуравновешенности, она, вероятно, была бесплодна, специалист посоветовал привести ее на прием. Но Партс не осмелился предложить это жене, хотя, по мнению врача, бесплодие способствовало возникновению психических расстройств. Если бы у нее был ребенок, она не уделяла бы так много внимания судебным процессам, и, может быть, эмоциональный срыв удалось бы предотвратить, хотя бы частично. К тому же они бы могли создать для ребенка прекрасные условия. Жизнь в частном доме и уважаемое положение Партса позволили бы вырастить из него достойного гражданина. Он сам не стал бы возражать против малыша и даже попытался несколько раз заговорить об этом, призывая жену к исполнению супружеского долга, пока не перебрался обратно на диван, который со временем переехал к нему в кабинет. Без детей изображать нормальную семейную жизнь было сложно. Общаться с другими работниками Конторы стало бы куда легче, если бы они могли ходить друг к другу в гости семьями, да и задания выполнять было бы проще, будь у него с собой ребенок в качестве прикрытия. Партс мог бы поговорить с Конторой, он слышал об одном случае, когда ради успешной вербовки усыновление оформили за неделю.
Из-за детей он перестал гулять по Пирите. Там всегда было слишком много смеющихся карапузов, бесконечно вращающихся волчков, встающих на пути колясок и едва научившихся ходить малявок. Однажды он увидел, как отец вместе с сыном запускают авиамодель. Самолет сделал восьмерку на фоне идеально синего неба, Партс поднял руку, чтобы определить силу ветра — в самый раз для запуска, — и замедлил шаг. Так хотелось рассказать парню несколько историй, например, о том, как Александр Федорович Авдеев подбил в районе Сааремаа знаменитого летчика и аса Вальтера Новотны. Александр был красивым мужчиной, как и все летчики, и его самолет И-153 был словно изящная чайка, но модель быстро устарела, и ее сняли с производства. Глаза парня округлились бы от удивления, он захотел бы услышать еще и еще, и тогда Партс рассказал бы, как однажды самолет вошел в штопор, когда он сам управлял “чайкой”. Парень от волнения затаил бы дыхание, а Партс сказал бы, что непременно бы разбился, но хладнокровно отклонил педаль в сторону, противоположную вращению, и вышел из штопора, хотя в голове его вращение продолжалось еще долго, ему казалось, что самолет вращается в обратную сторону, не в ту, в какую он действительно вращался, но это вполне нормально, летчики привыкают к этому, так бы он сказал, а потом похлопал бы парня по плечу и пообещал бы, что позже они могли бы сходить за наклейками с изображением самолетов, и спросил бы: полетаем еще немного, и парнишка бы кивнул, и они бы вместе смотрели, как поднимается в небо маленький самолет…
Стук каблуков жены по лестнице подстрелил летящий самолетик. Партс открыл глаза и увидел вместо сини неба пожелтевшие пузырящиеся обои своего кабинета и темно-коричневый шкаф, с лаковой поверхности которого он стирал уголком носового платка следы пальцев, как только таковые попадались на глаза. В шкафу он прятал несколько листов с наклейками, прихваченных в канцелярском отделе универмага. В них были самолеты.Клавиатура оказалась придавлена головой, буквенные молоточки сцепились. Товарищ Партс вытер со щеки засохшую слюну. Было уже почти утро. Порядочная жена пришла бы проверить мужа, не позволив ему спать в неудобном положении. Товарищ Партс отодвинул стул, встал, запер дверь кабинета и раздвинул диван — поработать все равно уже не удастся. Может, мальчишка с самолетом вернется в сон, и тогда можно будет рассказать ему о встрече с Лениным, о том, что Партс был тогда на руках у матери, но помнит пристальный взгляд вождя и его слова о том, что из парня выйдет настоящий летчик, что у него уже сейчас взгляд острый, как у пилота. Когда диван был уже разложен, Партс вдруг понял: он так одинок, что вынужден искать общения во сне. Он опустился на стопку сложенного постельного белья, усталость испарилась, луна сидела в круглом окне как плотно застегнутая перчатка на руке. Партс встал и задернул шторы, удостоверился, что в них не осталось щелей, высвободил смятый листок из машинки, немного прибрал на столе и открыл записную книжку на той странице, которая вызывала у него довольную ухмылку. При первом прочтении он был раздосадован, что нигде нет ни одного упоминания о нем. Правда, именно этого он и опасался или если не опасался, то думал об этом с неким неприятным предчувствием. После этого он прочитал всю книжку еще раз.
У нас недостаточно специалистов под подделке документов. У нас нет Мастера. Мастера, который сумел бы вырезать идеально точные штампы. Я знаю, что такие умельцы есть, но они не с нами, не в наших рядах.
Прошло какое-то время, прежде чем он понял, что улыбается. Он был нужен им. Мастер. Он был этим Мастером. Партс написал слово на промокашке. Перо застыло. Он написал его с большой буквы, потому что именно в таком виде оно встречалось в записях Роланда. Он зажмурился и открыл глаза, поспешно пролистал записную книжку, не находя нужного места. Его озарила догадка. Как же он был слеп!
Поначалу обрывистые предложения Роланда раздражали его, он уже было решил, что никогда ничего в этом не поймет. Ни имен, ни названий. Лишь тоскливые отчеты о погоде и прекрасных рассветах, заметки о трезвости команды и радикальная критика пьянства. И ведь Партс позволил всем этим никчемным размышлениям запутать его. Роланду удалось ввести его в заблуждение. Записная книжка написана о реальных людях, но не напрямую. Он должен прочитать ее еще раз, внимательно, выписать все слова, написанные с заглавной буквы, даже те, которые совсем не похожи на имена, проверить каждый речевой оборот, не скрыто ли в нем чего-то еще. Не зашифровано ли в нем имя.
Через десять страниц Партс заметил, что его внимание снова рассеивается. Одна за другой шли записи о нехватке бумаги, о том, что чернила никуда не годятся, а краска так сильно размазывается по дорогостоящей бумаге, что газеты подчас невозможно читать, — все это приводило Роланда в ярость. Из описания мер предосторожности, которые приходилось соблюдать нелегалам, Партс решил выбрать несколько подходящих деталей для своей книги, например, как люди, тайно приходящие на ферму поесть, пользовались одной общей тарелкой, чтобы в случае опасности быстро скрыться и не беспокоится о том, успели ли хозяева убрать лишнюю посуду со стола. Хороший пример фашистской хитрости, подлинная деталь, которая заставила пальцы вновь оживленно забегать по клавишам. От строчки к строчке, от чадящих керосиновых ламп и протертых подошв до лесных рейдов, проводимых чекистами, когда те каждый камень в лесу переворачивали в поисках землянок, от проблемы починки радиоприемника к радости от приобретения ротатора. И дальше — к размышлениям о том, как трудно найти хороших авторов для газеты, к планам организации отдельного журналистского подразделения. И вновь хороший пример фашистского коварства, которым никак не мог бы похвастаться Мартинсон: один из агентов, внедрившийся в ряды лесных братьев, глупо выдал себя, задав Роланду простой вопрос о последних спортивных результатах, — если бы Роланд знал ответ, это бы означало, что радиоприемник расположен где-то в радиусе одного дня ходьбы, никто из отряда не мог спросить такого. Глаза Партса летали по страницам, отмечая время от времени слова, написанные с заглавной, пальцы оживленно листали вполне здравые рассуждения о заграничных новостях, размышления об ожидании войны — войны, которая так до сих пор и не разгорелась, войны, которая бы освободила Эстонию, войны, в каждом упоминании которой сквозила горечь, и яростные проклятия в адрес коллективизации, начавшейся после мартовских репрессий.
Вьющийся хмель бился в окно, Партс закрыл записную книжку, он нашел, что искал:Но Сердце мое в безопасности, и это дарит мне утешение. Сердце мое не покинуло корабль, как те крысы, что сбежали в Швецию, но и не попало в Сибирь. Хотя многих постигла эта участь, в том числе и того, кто окольцевал мое Сердце в церкви.
Роланд писал “Сердце” с прописной буквы, так же как и в случае с Мастером.
Я потерял свой род, но не Сердце, да и моя семья никогда меня не предавала. Будущее небезнадежно.
Партс читал эти строки и раньше, но не понимал, что в них есть ключ, Сердце с прописной буквы. Кодовое имя, вероятно даже невеста. Первая заметка, касающаяся Сердца, датирована 1945 годом. Слова о Сибири написаны в 1950-м, после мартовских репрессий: отчаяние овладевало людьми, и неудивительно, ведь борьба с бандитизмом стала первой и наиважнейшей задачей нового министра госбезопасности Москаленко, с которой тот прекрасно справился. Отсылка к церкви, скорее всего, означала наличие у Сердца законного мужа, но никаких указаний на то, когда он был сослан, не было. Возможно, его арестовали еще в начале советского периода, но, может быть, и в ходе массовых репрессий. Слова облегчения наверняка связаны с тем, что до этого Роланд беспокоился за судьбу возлюбленной: весной 1949 года поезда, направляющиеся в Сибирь, заполнялись в основном женщинами, детьми и стариками, многие из которых были членами семей ранее высланных или родственниками скрывающихся в лесах мужчин.
Партс принес из кухни жир, оставшийся со вчерашнего дня от жарки котлет, и стал макать в него куски хлеба. Союз вооруженной борьбы был фактически ликвидирован, репрессии лишили его поддержки, отряды сильно поредели, любой новоприбывший мог оказаться чекистом, и, несмотря на все это, Роланд писал о небезнадежном будущем. Почему он разделил род и семью? Кого он считал относящимися к роду, а кого к семье, были ли лесные братья его семьей?
Впрочем, все это не важно. Главное — это Сердце, женщина, муж которой был отправлен в Сибирь. Женщина, которая все еще живет в этой стране. Женщина, которую можно найти и которая наверняка знает о Роланде больше, чем кто бы то ни было. Согласится ли Контора на то, чтобы Партс прошелся по всем спискам отправленных в Сибирь в поисках человека, чья жена осталась в Эстонии? Вряд ли. На каком основании? Может ли товарищ Порков в качестве небольшой услуги передать ему эти сведения? Каким образом Сердцу удалось избежать лагерей, скрывалась ли она в лесу вместе с Роландом? “Я потерял свой род, но не Сердце”. Состоял ли он с ней в интимной связи? Что это была за женщина? Любовница бандитского главаря, кухарка лесного отряда или кто-то из пособников и связных? Жила ли она в лесу, принимала ли участие в деятельности Союза вооруженной борьбы? Союз не упоминается в записной книжке, но найденные в землянке тела принадлежали активистам СВБ. Делился ли Роланд всем, что знал, со своей возлюбленной, осторожный Роланд? Если так, то Партс должен ее найти не только потому, что она может вывести на след Роланда, но и потому, что Роланд делил с ней часть своей жизни, а значит, возможно, она знает все то, что знает Роланд. Готов ли Партс взять на себя такой риск? Большинство сбитых пилотов замечали атаку, только когда было уже поздно. Он не должен совершить такую ошибку. Партс прикусил язык и почувствовал во рту вкус крови. Неужели Роланд и правда отдал свое сердце Сердцу? Партс прекрасно помнил, как заботливо Роланд относился к Розали. Вел ли он себя так же с новой возлюбленной? Или одиночество заговорило в нем словами отчаяния? Действительно ли он всем с ней делился? И самое главное: представляет ли она угрозу для Партса? Будь жена Партса другой, он поговорил бы с ней об этом, Сердце из записной книжки было подходящим орешком для женской логики.Партс больше не совершит такой оплошности, как в случае с Эрвином Виксом. Как он волновался, входя в кабинет Особого отдела концлагеря в Тарту! Сидящий за столом Эрвин Викс подписывал бумаги, связанные с особым заданием, так он сказал, поднимаясь для приветствия. Карьера Партса была в тот момент на подъеме, он объезжал производственные объекты вместе с немцами, как вдруг перед ним вырос бывший коллега по НКВД. Глаза Викса впились в него, взаимное узнавание на секунду объединило их сильнее, чем постель объединяет влюбленных, в какой-то момент Викс незаметно сделал красноречивое движение, резанув рукой по шее в районе адамова яблока. Прибывший вместе с Партсом капитан поднял со стола какие-то бумаги и бегло их просмотрел, Викс стал рассказывать об особом задании, но расписание было очень плотным. Они ушли, оставив после себя запах перегара, и, пересекая двор, он все время боялся, что кто-то из заключенных вдруг узнает его и выкрикнет его имя. И лишь выйдя за ворота, он вслух выругался. Викса надо было проверить уже давно. Он единственный из оставшихся в живых коллег знал, что до прихода немцев Партс работал в НКВД. Очевидно, Викс уже зачистил собственные тылы, и то, что он позабыл про Партса, было, скорее всего, чистой случайностью, пробелом, хотя, возможно, он предполагал, что с Партсом уже разобрались. Но он и сам виноват. Как он мог не вспомнить о Виксе! Викс относился к той категории людей, чей профессионализм по части организации убийств всегда востребован. Это позволило ему занять место руководителя специального отдела Б-IV политической полиции Талина. Позднее Партс не раз задумывался, стоит ли ему искать более близких отношений с Виксом или лучше держаться в стороне. Высокое положение Викса не позволяло от него избавиться, тогда как Викс мог избавится от Партса в любой момент. Партсу оставалось только надеяться, что Викс — человек занятой и у него нет времени охотиться за подчиненными. К тому же Викс, в некотором смысле, оказал ему услугу в лагере Тарту: подписал приказ об уничтожении тысяч бывших работников НКВД и их помощников. Подручные, осведомители, доносчики, большевики. Викс очистил небо для них обоих. Партс решил набраться смелости и обратиться с просьбой к товарищу Поркову. Он должен получить список ссыльных, чьи жены остались в Эстонии. Предстояла большая работа, но, благодаря ей, он может найти то, что ищет, и это будет сенсационное разоблачение.
1963 Таллин Эстонская ССР, Советский Союз
Товарищ Партс хранил записную книжку в ящике с двойным дном, который первоначально предназначался для фотоальбомов. На край ящика он всякий раз клал незаметную ниточку, и до сих пор она всегда бывала на месте, когда Партс открывал ящик. Роланд проявлял такую же бдительность в своем дневнике, тщательно оберегая Сердце от внешней угрозы. Впрочем, нет, Роланд был еще бдительнее, он уничтожил даже фотографию Розали. С обложки фотоальбома на Партса пристально смотрел Эрнст Удет. Партс схватил альбом и подошел к печке, но стук каблуков над головой остановил его застывшую над языками пламени руку. С Эрнстом он делился всем, Эрнст всегда понимал его, советовал, как уклоняться, как уходить в сторону, это была тактика, столь же необходимая Партсу в работе, как и Эрнсту в его воздушных сражениях. Каждый нуждается в таком человеке, в понимании. И Роланд тоже. Восполнила ли новая возлюбленная ту пустоту, что осталась после Розали, делился ли кузен с ней воспоминаниями, клал ли голову ей на грудь, рассказывая о том, что его тяготит, даже вещи действительно страшные, которые могли напугать Сердце, заставить ее бояться еще больше? Стук каблуков раздался снова, гулко отозвавшись в ушах Партса, его глаза устремились к потолку, потолок скрипел, повизгивал, как отброшенная пинком собака, ножки кровати царапали пол. Партс убрал альбом обратно в ящик, вернул нитку на место и стал ходить по комнате. Его ноги повторяли маршрут каблуков, стучавших наверху; заметив это, он остановился. Нет, как она ни старается, свести его с ума ей не удастся. Партс вернулся к записной книжке. Он еще не знал, как обоснует свой запрос Конторе, как объяснит нужду в таком списке. Особая просьба требовала очень весомых обоснований. Что в такой ситуации сделал бы Эрнст, что придумал бы? Эрнста обвиняли в том, что он подрывает мощь люфтваффе, но виноват был не он, а его больное горло, которое прошло лишь после получения Рыцарского креста. Виной была жажда славы и честолюбие.
Партс прикрыл глаза, щелкнул пальцами и в подаренной верхним этажом внезапной тишине придумал целую историю: он скажет, что вспомнил об одной антисоветчице, сотрудничавшей с Карлом Линнасом и потому представляющей интерес для Конторы. С ее мужем он познакомился в лагере и был удивлен, что его забрали, а ее нет, хотя именно она вела активную деятельность, а не он. Только вот он позабыл имя той женщины, но наверняка вспомнит его, если пройдется по спискам. Объяснение было слабое, Партс это понимал. Интересом к Линнасу, однако, не стоило пренебрегать, как и тем, что товарищ Порков не упустит возможности набить себе цену, продемонстрировав служебное рвение и результативность. Тщеславие капитана было оружием Партса.
Недостатки Партса имели ту же природу, он это признавал. Он отнесся к записной книжке свысока, считая Роланда простаком, потому и упустил главную зацепку. Это не должно повториться. Партс вновь взялся за записную книжку, хотя знал ее уже практически наизусть, даже каждое слово в рассуждениях на две страницы, касающихся угрозы бактериологической войны со стороны русских и вызванного этим беспокойства американцев. Наверняка было что-то еще, должно было быть. Что-то помимо Мастера и Сердца. В Конторе сумели бы расшифровать этот тайный язык гораздо быстрее, вскрыли бы кодовые слова, Партс в этом был не силен. Но он не сдавался. Он дочитал до 1950 года и соображений Роланда о том, что обе стороны боятся друг друга.Никто не говорит об Эстонии. Эстония исчезла с карты мира, словно неопознанное тело на фронте.
Когда стало известно, что добровольцы истребительных батальонов освобождаются от норм обязательной сдачи сельхозпродукции, в записях появилась вполне понятная горечь:
Победители не вступают в переговоры. Вот и коммунисты не видят смысла вступать в переговоры с нашим народом.
Никаких намеков на семью или знакомых.
Крысы бегут с корабля и укрываются в Швеции. Наш корабль дал течь, и я не уверен, что в моих силах предотвратить крушение.
Воспоминаний о том, какими радостными были первые несколько лет в лесу; под формированием отрядов явно подразумевалась организация региональных отделений Союза вооруженной борьбы, записи об этом были уверенные, довольные. Наверняка Роланд ездил по всей стране и встречался с ключевыми фигурами каждого отделения. У него была широкая сеть знакомств, где сейчас эти люди, кто они? Партс снова с удивлением заметил, как хорошо обрывистые предложения Роланда ложатся на бумагу, хотя в разговоре они всегда раздражали, в тексте же обретали особую красоту, некую неуклюжую поэтичность.
Восемь убитых. Кто нас слышит? Семеро вчера, сколько завтра? Мы обескровлены и оттого постепенно засыпаем.
И опять упоминание о Сердце — одно слово, нацарапанное в уголке страницы. Сердце разбавило горечь, которую вызвали у лесных братьев слова австрийского радиокомментатора. Комментатор был уверен, что освободительной войны в Эстонии не будет.
Когда свобода наконец придет, они все станут патриотами. Посмотрим, как много новых героев у нас тогда появится. Но сейчас, когда родина в опасности, эти “герои” ползают на коленях или плывут по течению, заглатывают дешевые приманки, лижут сапоги предателям и охотятся по лесам на наших братьев ради права пользоваться спецраспределителями.
Партс решил взбодрить себя бутербродом с килькой пряного посола и направился в кухню. В прихожей он попал ногой в мышеловку, которые повсюду расставляла жена, на полу валялись скомканные носовые платки, часть из них была вытащена из его шкафа. Он отбросил их ногой, но потом передумал и, подхватив тряпкой, выбросил в мусорное ведро. Приготовление бутербродов оказало на него успокаивающее действие: несмотря на поэтичность языка Роланда, вряд ли его так уж интересовала поэзия. Во всяком случае, не настолько, чтобы посвящать ей целые страницы, если к тому нет особой причины. Партс вернулся мыслями к стихотворению о назначении искусства. Оно называлось “Кочан капусты” и было, по мнению Роланда, слишком индивидуалистичным, не отвечало потребностям движения, он считал его бесчестным, недоумевал, с какой целью оно вообще написано, и критиковал заодно всех остальных поэтов страны. Партс помнил эти строчки наизусть:
Эти посредственности, именующие себя поэтами, охотно прислуживаются, а потом протискиваются в ряды советских писателей, в их союзы, где даже с ничтожными способностями можно рассчитывать на кусок хлеба с маслом и хорошую жизнь. Мера моего презрения безгранична, лишь Сердце сдерживает мои руки. Кочан капусты этого недостоин.
Ага! Роланду снова удалось запутать Партса. Кочан капусты — это не стихотворение, а поэт — Каалинпяя. Роланд сомневался в его честности, потому что это был человек, а не потому, что его беспокоил какой-то там пассаж в стихотворении. Если Каалинпяя был впоследствии легализован, то его несложно найти. Он может что-то знать о Сердце. Пожалуй, стоит включить его имя в бумагу для Поркова. Учитывая и без того зыбкие аргументы для запроса, можно упомянуть эту кличку, хуже не будет, но не стоит превращать эту практику в систему. Прежде чем открыть банку с килькой, Партс приготовил себе воды с сахаром. Молоко опять скисло.
Часть пятая
Марк, известный как подручный Линнаса, приобрел особую славу в концлагере Тарту за свою жестокость, но кто он был на самом деле? Никто из выживших после издевательств Марка свидетелей не мог назвать его фамилии. Возможно, пришло время приоткрыть завесу тайны и рассказать о нем подробнее. Он был самым обычным земледельцем, пока не вдохновился идеологией фашизма и не стал посещать фашистские собрания. Там он нашел себе близкую по духу невесту. Особую ненависть они испытывали к коммунизму.
Эдгар Партс. В эпицентре гитлеровской оккупации. Таллин, 19661943 Ревель Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
Времени оставалось всего несколько часов. Взрослые сидели на тюках, сделанных из простыней и наволочек, дети спали на железных кроватях. Или делали вид, что спят. Сна не было в их дыхании, глаза блестели, но тут же закрывались, натыкаясь на чей-то взгляд. Я заметил, что Юдит разглядывает беженцев. Она присела возле какой-то пожилой женщины, и их шепот будоражил меня, как будто они делились какими-то тайнами, хотя вряд ли Юдит рассказывала ей о себе, здесь, среди чужих людей. Потом она перешла к мужчине с больной спиной. Он повесил у плиты свою рубашку, и Юдит стала гусиным пером смазывать ему спину бальзамом с серной кислотой. Запах от процедуры был не самый приятный, заполненная до отказа комната была и без того до предела напряжена, кругом то и дело раздавались тяжелые вздохи, но уверенные движения рук Юдит успокаивали меня. Она находила нужные слова для встревоженных людей, понимала, что в данной ситуации главное — не терять самообладания, особенно в тот момент, когда придется садиться в грузовик. Лучшей кандидатуры для этого нельзя было и придумать. Многие сомневались, когда я сказал, что нашел новую квартиру для приема беженцев и нового человека для работы с ними. Я назвал Юдит Линдой, заверил, что она очень надежная, и умолчал о ее связи с немцами. Я понимал, что как только Юдит включится в эту работу, она будет держать рот на замке. Она стала время от времени сообщать мне кое-какие полезные сведения, и ее мнение о немцах, похоже, начало меняться.
На этот раз ситуация была особенно неспокойной. Речь Хяльмара Мяэ пробудила некую надежду: по его словам, мобилизация — это первый шаг на пути к независимости. Я видел неуверенность на лицах беженцев, желание поверить ему. Безграничное людское доверие не переставало меня удивлять. И отчаяние. И все же день ото дня росло число тех, кто уже не верил в победу Германии и в обещания независимости или хотя бы автономии Эстонии. Никто не желал оставаться и ждать новой расправы, люди были уверены, что большевики вернутся. Священники говорили о возвращении безбожного государства.
В этом году нам предстояло в большом количестве переправлять дезертиров из немецкой армии, они и сейчас уже были среди беженцев, их можно было узнать по гордой осанке. Это были смелые ребята, с горящим взором, готовые идти в бой сразу же, как только баркас пристанет к берегам Финляндии. Я тайно надеялся, что мы сможем создать из них отдельный эстонский батальон, который бы стал ядром новой армии Эстонии, когда немцы начнут отступать. Тогда мы сможем воспользоваться ситуацией, как уже случилось однажды в 1918 году, когда после ухода германских войск мы отбросили назад красных и получили независимость. Капитан Тальпак уже занимался в Финляндии вопросами создания отдельного батальона, я доверял ему и называл его имя, когда парни спрашивали меня о создании эстонской армии. Капитан отказался сотрудничать с немцами, и не он один. Ричард до своего бегства успел написать рекомендацию нашим ребятам, как избежать фронта и получить направление в Ригу на курсы радистов абвера, чтобы вернуться потом в наши ряды. Многие уже прошли обучение и теперь ожидали ухода немцев.
Еще несколько часов — и настанет время действовать. Юдит подошла ко мне и стояла, робко переступая с ноги на ногу. Я подвинулся. Она села рядом, взяла предложенную мной папиросу и прикурила от зажженной мной спички. Вьющийся локон прилип к ее щеке, дрожащие тени ресниц говорили об ее напряжении. Я отметил про себя, что сине-черно-белое эмалевое кольцо снова вернулось на ее левую руку.
— Что будем делать со свиньями? — прошептала она на ухо. Капля слюны брызнула мне на ухо. Я вытер ее. Мне передалось тепло ее тела, но это было немецкое тепло, и мне это не нравилось. — Семья священника не хочет их оставлять.
— Скажем потом, что их украли.
Она кивнула. С каждым днем переправы становились все дороже, цены росли, спекулянты наживались на человеческой беде. Тем, у кого не было денег, приходилось изобретать собственные пути бегства или оставаться. Но и это не все, среди беженцев тоже попадались нечестные игроки. Места на борту было мало, однако некоторые, вроде этого священника, не желали с этим считаться. Многие забивали животных незадолго до отъезда и везли мясо с собой, но этот стоял на том, что за живых свиней получит в Швеции больше.
— Посиди теперь ты на страже, — попросил я, решив увести свиней в подвал разрушенного дома по соседству. Кто-нибудь из наших заберет их потом.
— Кого тут сторожить, я пойду с тобой.
На темной лестнице Юдит положила руку мне на плечо. Я тут же сбросил ее. Она сказала, повысив голос:
— Я знаю, как ты ко мне относишься, но, по-моему, у нас есть дела поважнее.
— Просто ты такая же, как и все остальные.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Обеспечиваешь себе будущее после ухода немцев, — пробурчал я с неуместной в этой ситуации злостью.
— Роланд, я по-прежнему думаю по-эстонски.
Я стал спускаться по лестнице, осторожно держась за перила. Луна не показывалась, ночь была идеальной для переправы.
— Германия не проиграет, — сказала Юдит.
Я презрительно хмыкнул, и она услышала это.
— К тому же я не получаю за это денег, — продолжила она. — В отличие от Александра Креэка и еще бог знает кого. Например, тебя.
— Я делаю это не ради денег, — вспылил я.
Юдит остановилась и засмеялась. Смех ее разносился по лестнице вверх и вниз, сжигал кислород, так что мне стало вдруг нечем дышать. Неужели она и правда думает, что я собираю деньги для себя, чтобы уехать за море? Или она просто дразнит меня, как я дразнил ее из-за немца?
Перила качались, Юдит облокотилась на них, и мне пришлось убрать руку, ступеньки прогибались под тяжестью ее смеха. Этажом ниже открылась и закрылась дверь, кто-то вышел посмотреть в коридор. Я схватил Юдит за плечи и стал трясти. Из открытого рта вырывался дух балтийских баронов, безжизненный смрад, и мне пришлось поднять руку к носу, защищаясь от него, другой рукой я сжал ее локоть так, что нежные косточки внутри затрещали. Она все смеялась, от ее смеха сотрясалось все мое тело, глумясь над моей беспомощностью. Я должен был заставить ее замолчать, но не мог, потому что она стояла так близко и была похожа на крошечную птичку на ладони.
— Ты хочешь, чтобы нас поймали? Ты же понимаешь, что с тобой будет? Ты этого хочешь? Этого ждешь?
Я говорил и одновременно прислушивался к соседям внизу и голосам, доносящимся с улицы. Соседи могут позвонить в полицию, и тогда квартиру надо будет срочно освобождать, а грузовик придет только через несколько часов. Свободной рукой я стал нащупывать “вальтер” и потерял равновесие. Юдит даже не попыталась вырваться. Мы упали на лестничную площадку. Легкое тело Юдит прижалось ко мне, моя рука все еще сжимала ее локоть, приоткрытые губы накрыли рот, грудь выползла из кофты, и в тишине я услышал, как изменился ее запах, став соленым, как морские камни, и язык ее, мокрый, как хвост русалки, плавал в моих устах. Предательское движение тела заставило меня оторвать руку от локтя и перенести ее на бедро. Произошло то, чего не должно было произойти.Когда мы вышли во двор, я стал поправлять сбившийся костюм. Юдит вымыла руки в ледяной воде дождевой бочки. Мы старались не смотреть друг на друга.
— Как думаешь, твоя соседка позвонит в полицию?
— Моя соседка?
— Она выходила посмотреть на лестницу.
Юдит немного испугалась.
— Не позвонит, она знает мою мать. Я зайду к ней, когда мы пойдем обратно.
— Может, ей заплатить?
— Роланд, она подруга моей матери!
— В такие времена даже подругам надо платить. Сюда приходит много незнакомого народа, и вряд ли твоя мать знает об этом.
— Роланд!
— Заплати!
— Я могу отдать ей свои продовольственные карточки, скажу, что мне они не нужны.
Я схватил мокрую руку Юдит и приложил к своим губам, которые все еще хранили тающую сладость ее губ. Ее кожа пахла осенью, каплями дождя на яблоках. Мне захотелось укусить ее руку, но я сдержался. Запах немца испарился, теперь она пахла моей землей, как все, что рождено на моей земле и в мою землю обратится, моей невестой из моей страны, и я вдруг понял, что должен извиниться за то, что часто обращался с ней так плохо. Звезды проглядывали сквозь тучи и отражались в ее глазах, которые были похожи на выкупавшихся в молоке лесных голубей. Темнота скрыла мое смущение, и я промолчал. Нежность была неподходящим чувством для этого времени и этой страны.
Я положил руки ей на шею и продел палец в крутой завиток волос. Ее шея хранила мягкую податливость мирного времени.1943 Ревель Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
Эдгар смотрел на сидящего рядом гауптштурмфюрера Герца. Тот облокотился на спинку сиденья “опеля”, расставив в стороны мускулистые, мужские ноги, и всем своим видом показывал, что ехать ему не хочется, то и дело смотрел на часы, явно мечтая поскорее прибыть на место — и, главное, побыстрее вернуться в Таллин. Это был плохой знак, Эдгар тщательно подготовился к этой поездке, самые свежие данные ожидали в идеальном порядке в портфеле. Он поэтапно продумал план экскурсии, демонстрирующий стратегию развития производства в Вайваре. Он хотел пролоббировать несколько других вопросов и заранее договорился с оберштурмфюрером фон Бодманом, на какие детали стоит обратить особое внимание. Он хотел поговорить о военнопленных, без них Вайваре не добиться успеха. Очередной список прибывающей партии заключенных был полон еврейских имен, а евреи не относятся к сфере ответственности Организации Тодта, и Эдгар ничего не сможет сделать, если остальные не согласятся детально обсудить этот вопрос. Проблема должна быть решена, а потому Эдгар должен заставить гауптштурмфюрера Герца прислушаться к словам Бодмана, в конце концов, он главный врач лагеря. И все же одновременно он думал о связи Герца и Юдит. Вот в этой самой машине его рука касалась уха Юдит, а она держалась за эту вот ручку двери, и ее сумочка лежала на сиденье, именно здесь Юдит прижималась к своему любовнику, пряталась у него под мышкой, терлась щекой о его петлицы, а из-под юбки проглядывали голые колени, на которые он незаметно клал руку, и Юдит называла его по имени.
На этот раз на воротнике гауптштурмфюрера не было ни пудры, ни запаха, оставленного прижавшейся к мундиру женщиной. Скорее всего, Герц вернется в Германию или в конце концов устанет от своей военно-полевой невесты, так случается со всеми. И все-таки это движение, которым Герц коснулся уха Юдит, не давало Эдгару покоя, потому что оно было именно таким, о котором мечтал сам Эдгар. В городе было полным-полно красивых женщин, почему же именно Юдит заполучила мужчину, который с одинаковой беззаботностью поедал устриц в Берлине и подписывал смертные приговоры в Остланде и чей парабеллум наверняка стрелял с поразительной точностью. Юдит заполучила мужчину, который заслуживал лучшего. Расстановка сил была проблематичной.
Эдгар прислонил голову к стеклу и ударялся о него на каждой выбоине. Это было даже приятно, расставляло мысли на свои места, отодвигало прокравшиеся в голову желания на задний план. Никогда прежде он не сидел так близко к Герцу, к гауптштурмфюреру Герцу. Шея шофера была крепкой и надежной, он напевал что-то себе под нос. Вряд ли Юдит, развалившись на дорогих покрывалах, говорила о своем браке, но как отнесся бы к законному мужу своей любовницы гауптштурмфюрер, узнав, что это господин Фюрст? Возненавидел бы его, это ясно, но Эдгар не хотел ненависти с его стороны.
— Бауфюрер Фюрст, я слышал, что у вас были проблемы, связанные с тайным провозом продуктов на территорию лагеря, люди Тодта передавали ее заключенным.
— Так точно, герр гауптштурмфюрер. Мы пытаемся пресечь эту цепочку, но, с другой стороны, это сдерживает мятежные настроения, и если…
— Исключений не должно быть. Зачем они это делают?
Эдгар задержал взгляд на петлицах Герца, он не хотел запутаться в словах. Суть ожидаемого ответа была ему неясна: следует ли высказать подтверждение его предположениям или, наоборот, опровергнуть их, или же что-то третье? Жест Юдит снова пронесся перед глазами Эдгара, и ему страстно захотелось узнать, какие разговоры они вели между собой. Была ли Юдит честна со своим любовником или говорила лишь то, что тот хотел услышать?
Эдгар откашлялся.
— Эти эстонцы являются исключением, постыдным пятном нашей нации. Возможно, они передают продукты только эстонцам, не евреям.
— Согласно рапортам, местные жители тоже подкармливают заключенных, тех, что выходят на работы за пределы лагеря. Откуда такие симпатии?
— Это единичные случаи, герр гауптштурмфюрер. Я уверен, что если это и происходит, то речь идет только о военнопленных. Все знают, что евреи возглавляли здесь в сорок первом году истребительный батальон. Руководителями Народного комиссариата внутренних дел и партии большевиков были евреи, мы все это прекрасно знаем. Политруки и комиссары — все они были евреями! Троцкий, Зиновьев, Радек, Литвинов! Всем известны их настоящие фамилии! Когда Советский Союз оккупировал Эстонию, сюда приехали толпы евреев, которые были чрезвычайно активны в организации новой политической системы!
Гельмут Герц открыл было рот, набрал воздуха, словно хотел что-то сказать, но промолчал, оставив без внимания защитную речь Эдгара. Эдгар решил пойти на риск:
— Конечно, свою роль играет и тот факт, что эстонцы прекрасно знали участников истребительных батальонов, и надо сказать, не все они были евреями.
— Конечно, среди них были и представители других национальностей, но все же самые важные решения принимали…
— …евреи, я знаю. — Эдгар повел себя грубо, перебив Герца, но тот, казалось, не заметил этого, а напротив, вытащил из кармана серебряную фляжку и две стопки.
Неожиданное проявление братских чувств порадовало, коньяк прогнал неуверенность, которую Эдгар испытывал, продумывая ответы. Он не знал, умолчал ли унтерштурмфюрер Менцель о деятельности Эдгара в советское время, хотя и дал слово офицера хранить это в секрете. Однако опыт работы в НКВД оказался очень полезным в делах Вайвары, поэтому Эдгар рискнул убедить немцев в том, что доставка рабочей силы на поездах не вызовет никаких вопросов. И не вызвала. С Бодманом они вели интересные беседы на эту тему. Бодман интересовался психологией. Люди слишком боялись поездов, каждый вагон напоминал им о том, что, если немцы отступят, следующие поезда повезут уже исключительно эстонцев, и прямиком в Сибирь. Некоторые смельчаки приносили к поездам хлеб и воду, если евреям удавалось разбить окна и выставить наружу свои котелки, но Эдгар никак не реагировал на эти случаи, даже не докладывал о них Бодману. Ради хорошего рабочего состояния заключенных стоило пойти на небольшой риск. А что, если Герц заговорил об истребительных батальонах специально, проверяя Эдгара? Ведь он, как никто, знал, что сведения о евреях в составе батальонов сильно преувеличены, но что это меняет? Или он напрасно волнуется? Заразился тревогой от немцев? Их лица становились день ото дня все более жесткими, как скукоживающиеся над плитой грибы, развешенные для сушки.Гауптштурмфюрер Герц опустил тщательно начищенные сапоги в слякотную землю лагеря, и нос его незаметно сморщился. Эдгар бросил быстрый взгляд на охранников — часть из них незнакомые тодтовцы, среди них много русских, все хорошо. Оберштурмфюрер фон Бодман вышел из административного барака, как только машина с Эдгаром и Герцем остановилась во дворе. Приветствие, щелчок каблуками. Бодман и Эдгар обменялись взглядами, к делу стоило перейти сразу же после формальностей. Бодман предложил Эдгару перейти на “ты”, когда заметил, что оба они одинаково заботятся о процветании лагеря. Порой казалось, что вопрос этот не заботит, кроме них, никого другого. Используемая рабочая сила была физически слабой, к тому же ее сильно подкосила эпидемия сыпного тифа: какой-то вредитель собрал зараженных вшей в спичечный коробок и распространил их по лагерю. Бодман постоянно отправлял сообщения о нехватке лекарств и одежды, но безрезультатно. Когда Эдгар видел, что местные приносят заключенным продукты, он отворачивался, чтобы никто не мог обвинить его в неисполнении правил безопасности. Семьи немецких инженеров, напротив, крайне жестоко обращались с узниками. Одна дама избила свою служанку-еврейку до потери сознания лишь за то, что она унесла с собой ключ от ящика с хлебом. С Бодманом можно было хотя бы разговаривать о дефиците продуктов, с инженерами и их женами не стоило даже заикаться об этом.
— Каждый заключенный добывает ежедневно до двух кубометров сланцевой породы, из которой в течение двух часов получается сто литров нефти! — Бодман повысил голос на слове “сто”. — Понимаете ли вы, какие потери несет рейх, если вклад одного рабочего уменьшается, а это происходит постоянно. Военнопленные физически более крепкие, евреи же, поставляемые из вильнюсского гетто, находятся в ужасном состоянии, и, чтобы отобрать среди них тех, кто пригоден к работам, их нужно завозить гораздо больше… Бауфюрер Фюрст, проясните ситуацию.
— Предприниматели и бизнесмены не хотят евреев. Хотя речь идет о нескольких тысячах, а не о десятках тысяч, как в случае с военнопленными. Следует увеличить приток военнопленных. Результат будет лучше, если мы сможем использовать физически более здоровую рабочую силу.
— Именно. Гауптштурмфюрер Герц, мы неоднократно посылали запрос, что делать со стариками. Читает ли кто-нибудь наши рапорты? Почему из Вильнюса присылают целые семьи? В некоторых из них совсем нет работоспособных мужчин, — продолжил Бодман.
— Отправляйте их в другое место, — раздраженно сказал Герц. Эдгар заметил, что в его голосе появилась нота презрения, хотя Бодман был все же оберштурмфюрером СС и входил в лагерное руководство.
— За пределы Эстланда? — уточнил Эдгар.
— Да куда угодно!
— Спасибо, именно это мы и хотели узнать. Несмотря на наши письма, мы не получили подтверждения на запрос о подобных действиях. Зато нам обещали прислать дополнительную рабочую силу. Нам нужны люди, которых можно использовать.
Эдгар решил сменить тему и перевести разговор на достигнутые успехи:
— Мы построили водопровод, и теперь за водой не надо ходить за пределы лагеря. Во время этих походов евреи часто вступали в контакт с местным населением, и хотя мы старались сделать так, чтобы заключенные ходили за водой в самые ранние часы, чтобы избежать обмена информацией, ситуация долго оставалась безнадежной, но теперь все иначе.
В бараке повисло напряженное молчание. Бодман незаметно покачал головой.
— Думаю, мы еще успеем познакомить вас с нашими методами, а пока, господа, я попросил подготовить нам скромную трапезу, давайте пройдем за стол, — предложил Эдгар и услышал в ответ одобрительное мычание.
На улице раздался выстрел. За ним последовала тишина. Унтершарфюрер СС Карл Тейнер, очевидно, приступил к обычному обходу, покинув изолятор. Кончик носа Герца нервно дернулся, он поднялся и вышел, на столе остался нетронутый стакан.
Снаружи выстроилась шеренга дрожащих от холода обнаженных заключенных с белой иссохшей кожей. Руками они кое-как прикрывали половые органы. Судя по судорогам, застреленный все еще был жив, но зубов у него уже не было. На место прибыл художник с блокнотом в руках и теперь старался запечатлеть событие.
Эдгар взглянул на унтершарфюрера Тейнера — на растянувшемся в чудовищной улыбке лице выделялся широко раскрытый рот. Эдгар был уверен, что Тейнер испытывает острейшее возбуждение и впереди у него полная наслаждений ночь. Нефть не входила в число приоритетов для унтершарфюрера. Проблема заключалась именно в этом.
Гауптштурмфюрер Герц отошел в сторону, щелкнул зажигалкой и закурил отливающую золотом сигарету. Стук грифеля о бумагу и шелест блокнота смешивались с покашливанием и свистящим дыханием заключенных. Эдгар услышал, как Герц что-то тихо пробормотал себе под нос. Что-то вроде того, что власть никого не красит.1943 Ревель Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
Не успела Юдит войти в квартиру и опустить горжетку на знакомую с детства табуретку в прихожей, как в дверь постучали. Стук был неправильным. С колотящимся сердцем Юдит открыла дверцу печки и выудила из глубины завернутый в ткань маузер. Бросила пальто на табуретку и спрятала под ним оружие, сверху накинула чернобурку. Стук становился настойчивым. Юдит взглянула на себя в трюмо, помада на месте, волосы аккуратно уложены. А может, лучше бежать? Вариантов было немного: окна слишком высоко. Возможно, ее час пробил здесь и сейчас. А может, кто-то просто забыл код, такое иногда случалось. Люди забывают самые важные вещи, когда сдают нервы. Рука ее, взявшаяся за ручку, казалась неживой. На лестничной площадке стоял незнакомый мужчина. Пальто из хорошей ткани, модного покроя. Мужчина приподнял шляпу:
— Добрый день.
— Да?
— Неприятно стоять на лестнице. Может, мы зайдем внутрь?
— Простите, но я спешу.
Мужчина подошел ближе. Юдит не двинулась с места. Рука сжимала ручку. Он немного наклонился.
— Я хотел бы уехать в Финляндию, — прошептал мужчина. — Заплачу сколько нужно.
— Не понимаю, о чем вы.
— Три тысячи марок? Четыре тысячи? Шесть? Золото?
— Вынуждена попросить вас удалиться. Я не могу вам помочь, — сказала Юдит. Слова вылетели легко, спина распрямилась. Она справится.
— Ваш друг посоветовал мне прийти сюда.
— Мой друг? Не думаю, что у нас есть общие друзья.
Мужчина улыбнулся:
— Десять тысяч?
— Я позвоню в полицию.
Юдит захлопнула дверь. Дрожь тут же вернулась. Из-за двери были слышны шаги мужчины, спускающего по лестнице. На часах было около восьми, первая семья должна вот-вот появиться, а их уже раскрыли. Надо успокоиться, надо принять несколько таблеток первитина, надо сосредоточиться. Может, ей все-таки просто сбежать, она еще успеет скрыться. Каждый звук, доносившийся с улицы или лестницы, заставлял ее испуганно вздрагивать, но она не двигалась. Что с ней происходит, какое ей дело до того, что подумает Роланд, если ее здесь не окажется и она не откроет им дверь? Какое ей дело до того, что их всех до единого здесь возьмут? Она успеет спасти себя, успеет предупредить Роланда, но беженцы уже шли к ее квартире, и она не знала, куда их направить. Роланд бы знал, но Роланда здесь нет. Юдит схватила пальто и сумку, спрятала маузер в кармане и открыла дверь. На лестнице стояла тишина, лишь поднимался вверх запах жареного сала от соседки. Она прокралась вниз, стараясь избегать скрипучих половиц, вышла через заднюю дверь во двор и оттуда за сарай. Она знала, что Роланд придет именно этой дорогой, как и все беженцы, через развалины разрушенного бомбой дома. Она будет ждать, сольется со стеной сарая и будет ждать. Может быть, этот человек следил за ней уже давно. Может быть, они избежали облавы только потому, что квартира выглядела пустой или потому что она ничего не сказала мужчине. Может быть, непрошеный гость только хотел разнюхать возможные пути переправы беженцев. Может быть, засаду устроят, только когда факты подтвердятся. Если приходивший мужчина был из полиции и если он знал, кто она такая, то Гельмут получит информацию с минуты на минуту, но сейчас не стоило думать о Гельмуте. О том, что все раскроется. Надо думать о другом. О том, что она будет делать, когда все это закончится. Она уже знала. Она больше никому не позволит использовать эту квартиру как ночлежку, она тщательно вымоет ее щелоком, даже обои, поставит бак с водой на плиту и прокипятит все простыни и занавески, отчистит раствором буры темные полосы на тазах, смоет прочь все отвратительные предложения, сделанные беженцами, которые пытались выторговать у нее дополнительное место на баркасе, навязывая в обмен, например, золотые часы, чтобы только увезти с собой свой скарб. А когда она закончит, то навсегда забудет этих людей, готовых променять родную мать, свекровь или бабушку на какой-нибудь хлам или лошадь. А следующим летом она сделает то, что они всегда делали вместе с Розали: наберет в лесу листьев таволги и покроет ими пол. Воздух станет свежим, полы очистятся, аромат таволги вытеснит все чужие запахи. Так она и сделает, только бы выпутаться из всего этого.
Юдит обнаружила у стены сарая скамейку и присела на нее. Колени стучали, в них поселился страх. Роланду пора было уже прийти, но первым среди развалин показался не Роланд, а мужчина с двумя детьми. Юдит уже догадалась, что это беженцы, они шли без опаски, считали, что сумерки защищают их. Юдит остановила их. Пароль был правильным. Она рассказала, как пройти в квартиру, и дала им ключ. Что еще она могла сделать? Следующая семья пришла через час: страшащийся возвращения Советов священник и молодая девушка, без детей, с маленькими фанерными чемоданами. Даже сквозь сумерки были заметны слезы на глазах у девушки, мужчина вздрагивал от малейшего шороха, пугался теней. За ними пришла группа молодых людей. Двоих из них уже успели призвать, но они сбежали. Юдит не осмеливалась даже закурить, боялась, что огонек сигареты выдаст ее, и поглубже натянула шляпку, чтобы скрыть светлые волосы. Накануне она поставила в вазу на столе веточки можжевельника. На можжевеловых ягодах есть крестики, и они защищают, так же как ягоды рябины и черемухи. Рядом с вазой положила Библию и картинку с распятием, все это казалось нужным в такие дни и ей, и беженцам. Зачем она вообще согласилась на это? Зачем позволила загубленной жизни Роланда погубить свою? Зачем пошла у него на поводу, почему не выставила локти, как сделала бы Герда? Зачем она поставила на кон все, что у нее было, “мед и молоко под языком твоим”, Гельмута, Берлин, кухарку, горничную и шофера, “опель” и шелковые платья, туфли на кожаной подошве, хлеб без опилок?.. Роланд никогда не сможет предложить ей подобную жизнь, даже отдаленно на нее похожую, с Роландом ее ждут одни опасности. А что, если Роланд прав и она действительно ведет двойную игру? Испугалась? Ведь верит же она в победу Германии, верит же? Верила ли в нее когда-нибудь? Верил ли в нее хоть кто-нибудь из тех беженцев, что прошли через квартиру матери? Верит ли она обещаниям Германии предоставить Эстонии независимость, ведь она же слышала, как они говорили, потягивая коньяк, что, имея девятьсот тысяч населения, Эстония не сможет существовать как самостоятельное государство, неужели они сами этого не понимают.
Юдит достала из сумки еще одну таблетку первитина, он заглушит мышиное шуршание в ушах. Роланд задерживался. Юдит не решалась даже подумать, что она станет делать, если Роланд не придет. Такого не может быть, Роланд должен прийти, и он точно будет знать, что делать, хотя порой и сомневается в способности своих людей действовать решительно. Он считал, что многие участвуют во всем этом только потому, что жаждут приключений, как будто не понимают, что происходит в мире на самом деле. В словах Роланда чувствовалось презрение. Нет, Юдит не будет думать об этом сейчас. Она подумает об этом позже.
Она почувствовала приближение Роланда еще до того, как увидела его. Он привык к сумеречным маршрутам, его глаза лучше видели в темноте, чем на свету, Юдит тоже стала приобретать эти навыки. Когда рука Роланда опустилась на ее плечо, Юдит даже не вздрогнула.
— Почему ты не в квартире?
— Я ждала тебя. Кое-что произошло, — прошептала Юдит и все рассказала.
Роланд стоял так близко, что каждый волосок на ее теле поднялся ему навстречу, словно подшерсток у птиц на морозе. Он снял кепку и провел рукой по волосам. Юдит почти почувствовала их жесткость, на долю секунды вспомнив, как волосы Роланда касались ее шеи на лестнице, но сейчас было не самое подходящее время думать об этом. Только бы Роланд сказал, что все образуется, она бы тут же ему поверила. Но он снова надел кепку и ответил:
— Придется отказаться от этой квартиры. Сегодня последний раз. Потом ты свободна. Отдай мне маузер, который прячешь под пальто.
Роланд был спокоен, намного спокойнее, чем предполагала Юдит. Словно он ожидал, что это произойдет. Возможно, такое происходит с ним часто.
— А что, если… — Голос Юдит задрожал. Слова утешения, которых она так ждала, не прозвучали.
— Я не слышу, что ты сказала. Твой кошелек полон? Отдай оружие.
Юдит покачала головой, Роланд усмехнулся, повернулся спиной и пошел к дому. Юдит побежала следом, схватила его за плечо. Роланд резко вырвался.
— Роланд, не ходи туда. Давай уйдем.
— Отправка должна состояться.
Слова выстрелом ударили в грудь Юдит, она сжалась в комок. Делая каждый следующий шаг, Роланд хотел обернуться, сказать, чтобы она уходила, бежала со всех ног, но не сделал этого. Они раскрыты, и этот двор сейчас ничем не отличается от освещенной витрины, однако он вел себя так, будто Юдит его нисколько не волнует, будто ничего особенного не происходит. Быть может, сейчас идут последние минуты, когда он мог бы открыть ей то, что таил в своем сердце, волнение, причину которого он не хотел признавать и которое не оставляло его с того момента на лестнице, когда Юдит оказалась так близко, волнение, не подходящее для воина. Выкрашенные в белый цвет ступени должны были облегчать ходьбу во время затемнения, но Роланд все равно споткнулся, стал отряхивать колени и заодно незаметно вытер глаза. Он еще мог обернуться, обвить руки вокруг своей голубки, и она бы не оттолкнула его, Роланд был в этом уверен, и они могли бы вместе убежать, но рука его не потянулась к Юдит, она поднялась лишь затем, чтобы условным стуком постучать в дверь.Имя Юдит было неожиданным в списке. Эдгар посмотрел на своего бывшего коллегу, удобно расположившегося в креслах спортивного общества “Калев”, и перевел взгляд на стоящую перед ним кружку пива, стараясь не выказать удивления, сохранить невозмутимость. Александр Креэк всегда был жадным и потребует больше, если заметит заинтересованность Эдгара. Сотрудничество с Креэком началось еще со времен работы в Таллинском отделе Б-IV, и хотя Эдгар был теперь полностью занят на работе в лагере, ему все же удавалось время от времени выбраться в Таллин, чтобы встретиться с прежними осведомителями. Вложенные в Креэка средства всегда окупались, так было и на этот раз. Чтобы сбить его с толку, Эдгар перевел разговор на другую тему, стал расспрашивать о делах спортивного общества, которое после прихода немцев вновь вернулось в отобранные большевиками помещения на улице Гонсиори, и Креэк с удовольствием стал демонстрировать владения, они здесь все отремонтировали, неужели Эдгар и правда никогда раньше не бывал здесь? Следуя за Креэком и изображая заинтересованность, Эдгар лихорадочно думал, как же использовать полученные данные с максимальной выгодой, при этом не забывал время от времени восхищаться спортивной карьерой Креэка и с воодушевлением вспоминать его блестящие достижения в толкании ядра. Это, однако, не помешало Креэку попросить плату золотом, марки уже не годились. Провожая Эдгара до двери, Креэк сказал:
— Квартира, о которой я говорил, это новый пункт сбора беженцев. Я послал вчера человека проверить, дверь открыла женщина, которую он узнал, видел ее раньше в обществе немецких офицеров в “Эстонии”. Конечно, все эти девки выглядят одинаково, но невеста моего человека училась с ней в одной школе, в антракте она восхитилась ее новыми шмотками и решила подойти представить ей жениха, а та повернулась к ней спиной. Невеста страшно обиделась. Интересно, правда?
— Сколько?
— Мы подошли к самому главному, — усмехнулся Креэк.
Эдгар догадался, что Креэк сам планирует выехать за границу.
— Я не плачу за бесполезные сведения. Адрес. Имена.
— Мой человек запомнил только имя — Юдит.
Эдгар опустил конверт в карман Креэка, тот вышел из комнаты и через минуту вернулся.
— Адрес: Валге-Лаэва, 5–2.
Квартира тещи. Юдит жила в ней до прихода немцев. Мама говорила, что она переехала туда еще до того, как забрали Йохана. Эдгар постарался взять себя в руки. Креэк может потребовать еще денег, если поймет, насколько важную информацию только что сообщил. Пришло время действовать. Юдит поймают, и шайка будет раскрыта, в этом Эдгар был уверен. Если об этом знает он, значит, наверняка знают и другие. Ситуация изменилась. Теперь некогда ждать подходящего момента, чтобы использовать связь Юдит и Герца, но у Эдгара появилась возможность сыграть на другом просчете Юдит: если деятельность шайки будет раскрыта с его подачи, то это станет его козырем. Но тут нужен кто-то, кому Юдит откроет все карты, через кого этот путь станет возможным. Кто-то, кому Юдит доверяет хотя бы в какой-то мере. Кто-то, кого бы Эдгар тоже считал надежным источником. Мама и Леонида.1943 Ревель и деревня Таара Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
Когда Юдит наконец решилась забрать почту из опустевшей квартиры, где больше не было беженцев, ее ждала целая гора писем от свекрови и Леониды. В них был укор. Леонида интересовалась, почему Юдит так давно не приезжала, а свекровь ругалась, что невестка совсем их забыла. Она должна приехать: Аксель зарежет свинью к Рождеству, можно будет сделать холодец. Она скучала по невестке, безмерно. В рамках немецкой программы трудовой повинности дом Армов получал дополнительные рабочие руки во время сенокоса и уборки урожая, поэтому Юдит не спешила в деревню, ссылаясь на загруженность на работе. Ее отговорки были вполне правдоподобны, тогда как в письмах свекрови и Леониды чувствовался подвох. Проверив, что в квартире не осталось ничего, что могло бы обнаружить причастность хозяйки к подпольной организации, Юдит приняла решение. Она выяснит, в чем дело. К тому же ей не мешало обдумать сложившуюся ситуацию вдали от глаз Гельмута, переключиться на что-то другое, и хотя месячные начались в срок, а Роланд затаился и не показывался на глаза, с нелегальной деятельностью было покончено, и жизнь Юдит вернулась в привычное русло, насколько это было возможно в ситуации, когда положение Германии стало напряженным. И все же… Хотя бы просто для того, чтобы какое-то время побыть в другом месте.
Юдит не знала, что случилось с последними беженцами, не хотела знать. Сама она спаслась, и это было главное, в другой раз судьба вряд ли будет к ней столь же благосклонна. Страх, охвативший ее в тот день, нельзя было сравнить ни с чем, что она переживала прежде, он был слепящий, словно свет прожектора, и она ни за что не хотела бы испытать его снова. Маузер остался у нее, и она спрятала его на ту же полку, где когда-то хранила валенки для Роланда.
В квартире матери Юдит решила провести полную дезинфекцию. Химикаты были в дефиците, но Гельмут поможет ей достать их.Юдит приготовилась выслушивать нравоучения о своем аморальном поведении, слухи наверняка докатились и до деревни. Однако ничего подобного не произошло, в доме Армов ее приняли как долгожданную невестку, сразу усадили за стол, накормили котлетами из легкого. Привезенный Юдит в качестве гостинца керосин вызвал бурные выражения благодарности. Леонида и свекровь продолжили заниматься хозяйством и отказались от ее помощи — она должна отдохнуть с дороги. Кусок гранита накалился в печи, и Леонида вскрыла свиное брюхо. Свекровь неуклюже помогала, хлопоча за спиной. Пока занимались кишками, поведали все деревенские новости: крысы загрызли самую лучшую кошку, немецкий офицер увез Лидию Бартельс в Берлин, и госпожа Вайк теперь живет одна. Ни та ни другая, казалось, нисколько не тревожились о своих сыновьях. Зато о мерине Роланда можно было не беспокоиться, Аксель сказал, что приходит к нему на конюшню всякий раз, как в небе поднимается гул и грохот.
Бабы явно что-то скрывали, кружили, словно жадные коршуны. Воздух в кухне был тяжелым из-за тех, кого здесь не было, и плотным от болтовни, в ходе которой обсуждались разные стороны текущих событий: в Тегеране, возможно, будет выдвинут ультиматум Германии и ее союзникам, Леонида сказала, что это блеф и что против Германии ведется психологическая война:
— Но мы-то понимаем, что пропаганда — лишь попытка скрыть собственные слабости и проблемы. Об этом всегда стоит помнить. Мы должны быть готовы к психологическим бомбам. Правда, Юдит?
Юдит вздрогнула и кивнула. Они все еще ни слова не сказали о ее муже. Не намекнули на ее плохое поведение. Леонида, кряхтя, засунула тяжелый камень в желудок, шипение, пар — и желудок очистился. Когда рубец вывернули, по кухне распространился запах горелого мяса. Юдит вспомнила, как приехала в дом Армов, узнав о судьбе Розали. Она сорвалась с места сразу же и, войдя в дом, нашла безжизненную, как комната покойника, кухню в полном бездействии, если не считать огня в печи. Леонида теребила носовой платок в рукаве, но не доставала его, он прятался там словно опухоль. Теперь дух Розали уже выветрился из дома, все связанные с ней предметы убрали, и Леонида в одиночку, без Розали, выворачивала кишки, мыла и засаливала желудок, набивала колбаски. Юдит не понимала: казалось, у нее никогда и не было дочери, а у Юдит не было кузины, словно Розали не была членом этой семьи, а у Роланда не было невесты. Никогда прежде дом не казался таким чужим. Никогда прежде Юдит не ощущала себя настолько чужой в этом доме.
Юдит было не менее трудно понять себя: почему она не задала ни одного вопроса о Розали, словно негласно стала членом этого бессловесного союза. Быть может, спрашивать было просто не о чем. Человеческая жизнь казалась столь ничтожной и хрупкой, что не стоило из-за нее беспокоиться, когда надо готовить холодец, топить жир, солить кишки для колбасы на следующий год, делать хозяйственные дела для поддержания других не менее хрупких жизней. Ожидая под бомбами гибели Талина и надеясь при этом на свою собственную, она еще не понимала этого, но после случая с беженцами поняла. Ей теперь было что терять. Возможно, у Леониды и свекрови тоже есть что терять. Эта мысль заставила ее посмотреть на них новыми глазами. Достаточно ли веской причиной для молчания является экономическая выгода от продажи жира?
Камень в желудке перестал шипеть. Леонида и Анна весь вечер внимательно наблюдали за ней; она, конечно, это заметила.
— Юдит, есть одно дело.
Лишь когда Юдит вернулась домой, ее терпению, стоившему ей немалых усилий, пришел конец. Дрожащими руками она смешала “Сайдкар”, но напиток расплескивался, а паркет в гостиной качался, словно палуба корабля. Неужели свекровь сошла с ума? Что случилось с расчетливой Леонидой? Их требования были невероятными, они превзошли даже требования Роланда.
После третьего коктейля в голове стало проясняться, но она по-прежнему не могла сидеть на месте, а открывала одну за другой дверцы шкафов на кухне, радуясь, что отпустила кухарку в отпуск на время своей поездки деревню. На столе лежала записка от Гельмута: ему пришлось уехать по срочному делу, и он вернется только через неделю. Значит, у нее есть время успокоиться и обдумать, что делать дальше. Наконец она нашла яйца, разбила их в чистую плошку, добавила сахару и стала взбивать. Она взбивала их по пути в спальню, где достала с нижней полки шкафа спрятанную в коробку из-под платьев пластинку Boswell Sisters , левой рукой установила ее на граммофон и продолжила взбивать. Пол Уайтмен ожидал своей очереди, а она все взбивала, пока за окном не стало смеркаться и не пришло время задернуть шторы. Пена стала крутой и блестящей. Выписав на ней, как обычно, первую букву имени своего возлюбленного, она вдруг заметила, что вместо буквы “Г” — Гельмут, на бледно-желтой поверхности появилась буква “Н” — немец.
Юдит взяла ложку, села рядом с граммофоном и опустошила всю чашу. Ее доступ к шкафу с яйцами мог закончиться в любой момент. После последнего случая с беженцами она решила, что никогда больше не будет рисковать своей теперешней жизнью, но откуда же ей было знать, что новая угроза уже поджидает за поворотом. Схватив сумочку, она достала упаковку первитина. Две таблетки. Они помогают, но не очень, мысли все равно кружатся словно прялка свекрови. С чего вдруг две пожилые женщины решили, что должны принять участие в делах беженцев? С какого времени они перестали бояться за себя и свою ферму? Леонида, очевидно, совсем не понимала, в каком мире живет и работает Юдит. Она была явно ошарашена реакцией на свое предложение:
— Как вы можете задумывать такие интриги, немцы сделали для этой страны так много хорошего!
— Но людям надо помочь уехать из страны!
— Да, но при чем здесь я? К тому же зима на дворе, — вспыхнула Юдит.
— По льду тоже можно уйти! Мы должны спасти тех, кого еще возможно!
Прозрачная кожа свекрови пошла пятнами от волнения, ее пронзительный крик смешивался с низким голосом Леониды:
— Могла бы хоть раз нам помочь, была бы и от тебя польза! Разве ты забыла о моем дяде? Как он рассказывал о революции в России? Помнишь, почему он покончил с собой, или забыла? Он убил себя сразу же, как только в нашем небе показались первые русские самолеты, потому что он видел их революцию! Неужели сама ты забыла, что мы пережили при большевиках? Коммунисты всех нас убьют!
Юдит сбежала сразу же после этой громогласной перепалки, не попрощавшись, не попробовав холодца. Неужели они и вправду думают, что ей, работающей на немцев, будет легче выступать в роли связной? Слишком уж невероятным совпадением показался ей тот факт, что болтливые тетки, наполовину выжившие из ума, решили предложить ей заняться подпольной деятельностью именно сейчас? Ведь то, что известно Леониде, известно всей стране, слишком маленькой для больших секретов. Только судьба Розали оставалась тайной.Аксель довольно быстро догнал ее на лошади, стал уговаривать сесть в сани. Юдит какое-то время потопталась в валенках, сжимая кулаки внутри муфты, но потом согласилась. Аксель был добрый, он не стал требовать, чтобы она вернулась, а отвез ее на станцию, неуклюже похлопал по плечу и тихо попросил, чтобы она не сердилась на Леониду.
— Она теперь сама не своя. У горя мало слов.
Юдит скорее предположила бы, что речь идет о полной бесчувственности, но она не хотела пререкаться с Акселем.
— Анна же до смерти боится прихода русских, почти не спит, всю ночь вслушивается в небо. Так-то вот. — Аксель повернулся спиной, собираясь уходить. — Единственная же была у нас дочка, — вздохнул он, забрался в сани и исчез в пелене снега.
Юдит отломила от водосточной трубы сосульку и, посасывая ее, отправилась искать кассу, где попросила телефон и позвонила своему шоферу, который по приезде оставил ее на вокзале ждать Акселя, а сам отправился в гостиницу. Было бы сложно объяснить жителям деревни, откуда у секретарши собственный “опель”.
Проведя ночь в гостинице, Юдит попросила шофера отвезти ее к кладбищу. Могилы она не нашла, как будто Розали никогда и не было. Как ей поступить, она пока не знала, но одно решила точно: она больше никогда не будет иметь дела со свекровью и Леонидой. Неожиданно она стала понимать людей, которые хотели взять в лодку свое имущество, а не родственников.1943 Ревель Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
Это был уже второй раз, когда Юдит пускала Роланда в квартиру, пока Гельмута не было дома. Пожалуй, она даже сама себе не могла бы объяснить причины этого поступка, и теперь даже не знала, кого она боится больше и почему. Улица Роозикрантси кишела немцами, по соседству с домом находились армейский магазин и военный трибунал, однако, несмотря на это, она разрешила Роланду прийти. Вчера он переоделся в трубочиста, сегодня в посыльного лавки Вайзенберга. Эти предосторожности не успокаивали Юдит, стоявшую в коридоре на страже. Она прислушивалась поочередно то к звукам на лестнице, то к шорохам в кабинете. Но к кому же еще, кроме Роланда, она осмелилась бы обратиться, вернувшись из деревни, и рассказать о намерениях свекрови и Леониды, никто другой не мог бы ей помочь или что-то посоветовать, никому другому она не доверяла. Реакция Роланда была неожиданной. Он сказал, что это просто совпадение, и, воспользовавшись неуверенностью Юдит, попросил впустить его в кабинет Гельмута. Планы Роланда казались ей ребячеством. Эстонии не нужны сведения о причиненном немцами ущербе, никаких контрибуций не будет, потому что Германия не проиграет вой ну. А может, она пустила Роланда потому, что сама уже больше не верила в победу Германии? Или причиной стали слова Гельмута, сказанные незадолго до его отъезда в Ригу, что сельская жизнь где-то в южной Эстонии все-таки не для них? И возможно, Эстония вообще не для них. Гельмут считал, что Берлин всегда для них открыт, да и можно ли чувствовать себя желанным гостем там, где идет война. Юдит была с ним совершенно согласна. Она тоже хотела уехать. Вместе с Гельмутом, и поскорей.
Она думала над этим дни и ночи, думала о Берлине или какой-нибудь другой столице, где ее бы никто не знал, где она спокойно бы развелась или просто бросила мужа. Родственники, знакомые и Роланд остались бы тут решать свои проблемы, и ей не пришлось бы об этом беспокоиться. Но дорога к Берлину была долгой. Куда бы они ни отправились, дорога все равно будет долгой. Да и готов ли Гельмут ехать куда-то, кроме Германии, куда-нибудь, где никто не будет косо смотреть на брак истинного немца с эстонкой? Как на союз коменданта лагеря Эреди и его еврейской невесты Инге. Юдит видела рапорт в кабинете Гельмута. Они полюбили друг друга и сбежали из лагеря, но по дороге в Скандинавию были пойманы и совершили двойное самоубийство; конечно, у них с Гельмутом ситуация совсем иная, но все же. Затушив сигарету, Юдит задумалась, хватит ли у нее смелости спросить у Гельмута, есть ли у них какие-то другие денежные средства, помимо восточных марок. Есть ли рейхсмарки? Или лучше золото. Или хотя бы серебро. Что-то. Ей следовало бы взять золотые часы, которые предлагали беженцы, почему она была так по-детски честной, особенно в таких обстоятельствах? Если бы Гельмут никуда, кроме Германии, ехать не хотел, то он не стал бы даже задумываться о таких местах, где не видно войны, это ясно как день. Так почему же она ставит под удар свое будущее с Гельмутом, пуская Роланда в его кабинет, ведь кухарка и Мария могут вернуться с рынка в любую минуту.
Дверь кабинета скрипнула, и в гостиной послышались шаги Роланда.
— Ты ведь все оставил на своих местах, — спросила Юдит.
Роланд не ответил и прошел к задней двери, убирая записи в карман. На пороге он остановился и оглянулся. Юдит стояла в дверях гостиной.
— Поди сюда.
Юдит опустила ресницы и стала рассматривать узор на паркете. Ресницы были тяжелые от туши, в этом вся причина, и только. До двери было невероятно далеко. Юдит ухватилась за косяк, перенесла правую ногу через порог, затем левую, оперлась о край кухонного стола, раковину и наконец оказалась перед Роландом, дрожа всем телом.
— У меня к тебе есть еще одно дело, — сказал Роланд. Его суконное пальто пропахло ночевками на чердаках, дымом, одеждой, которую не снимают, когда ложатся спать. — Полевая жандармерия задержала три грузовика с беженцами, два из них были организованы Креэком, — продолжил он.
— Креэком?
— Ты наверняка помнишь его, толкатель ядра. Активно искал рыбаков, нанял в том числе двоих наших. Из трех тысяч рейхсмарок, запрошенных Креэком, двадцать процентов идет водителю, деньги собирают перед тем, как люди садятся в грузовик. Рыбакам платить не надо, так как машины не доходят до порта. Креэка надо остановить, давно уже следовало, и ты могла бы сделать это… Юдит, не надо так пугаться.
— Как?
— Скажи своему немцу.
Юдит сделала шаг назад:
— Ты не можешь просить об этом! Как я ему объясню? Откуда у меня такие сведения?
— Скажи, что слышала разговор о том, что кто-то организует выезд для беженцев. Он сделает остальное.
— Но ведь их убьют!
Роланд подошел совсем близко, но глаза прятались под козырьком кепки.
— А что, как ты думаешь, происходит с теми, кто попадает в руки жандармерии?
Юдит обхватила себя руками. Носовой платок торчал из-под манжеты.
— Не думай о предложении Анны и Леониды, я же тебе сказал, забудь о них.
— Но как?
— Поверь, это просто случайность, что они поделились своими идеями именно с тобой. Глупые бабы, пустая болтовня.
Юдит не поверила Роланду, это не было, не могло быть случайностью. Он просто пытается успокоить ее. Она крепче сжала руки. Возможно, положение столь безнадежно, что Роланд и сам подумывал о побеге. Возможно, все они уже знают, что произойдет. А потому нет смысла рассказывать ему о разговорах, которые вел по вечерам Гельмут, встречаясь со своими коллегами: “…Повлияет ли на фюрера тот факт, что нам придется уйти из Финляндии… но Остланд не отдадим, нет, не отдадим, об этом все время говорят в Берлине… ради Швеции конечно же, чтобы Швеция могла сохранить свою позицию… к тому же, я думаю, фюрер полагает, что у нас есть финские друзья, которые ненавидят новое правительство и ждут нашей помощи… Безумие! И все ради “Балтише Эль”. Нет, мы не выдержим еще одного удара, нам не выстоять!” Однажды Гельмут, выпив слишком много коньяку, лег возле нее и сказал, что не знает, как долго еще они смогут сдерживать наступление большевиков…
— Но ты же понимаешь, об этом нельзя никому рассказывать, только подумай, какая поднимется истерика, если эстонцы вдруг узнают, что мы не в состоянии дать отпор большевикам…
Юдит кивнула, конечно, она никому не станет рассказывать.
Вместо этого она выдвинула Роланду требование, даже не успев толком подумать о том, чего просит:
— Я скажу ему о Креэке, но при одном условии: когда придет время, для меня и Гельмута найдутся места в лодке. Я оплачу все расходы, хоть целый баркас.
И тут же ужаснулась своим словам. Зачем она это сказала? Ведь она даже не заикалась об этом Гельмуту. Надеялась ли она, что Роланд не согласится и попросит ее остаться с ним, уехать с ним? Почему она ничего не объяснила, почему не сказала, что боится странных предложений свекрови?
Щека Роланда дрогнула. И все же он не спросил, почему Гельмут хочет уехать, не спросил, почему Юдит готова пожертвовать не только Таллином, но и Берлином, не спросил, обсуждали ли они это с Гельмутом. Он ничего не спросил. Он просто сказал: “Договорились”.1944 Ревель Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
В квартире царила тишина, но Юдит уловила присутствие Гельмута уже в дверях. В гостиной было тихо, в кухне тихо, воздух замер, прислуги не было. Юдит сразу поняла, что час настал. Половицы в коридоре сочувственно вздыхали, занавески застыли на месте, их складки окаменели, а на листьях фикуса появилась серая пыль. Юдит положила чернобурку на трюмо. Она соскользнула на пол и свернулась клубком. Пальто сопротивлялось, не хотело сниматься, рукава тянулись к лестнице, калоши вцепились в туфли, и когда наконец удалось их оторвать, они отлетели к двери, носками к выходу. Юдит еще успела бы убежать, вниз, на улицу, хотя там, возможно, уже ждала машина. Или целый строй людей в форме. Может, весь дом уже окружен. Дыхание со свистом вырывалось из груди и эхом разносилось по гостиной, губы пересохли, в уголке появилась трещинка. Туфли громыхали, как готовящаяся к переезду мебель. Пока еще можно попытаться убежать. Можно успеть, можно. Но она тихо прошла вперед и остановилась в дверях спальни. Она знала, что Гельмут будет сидеть в своем кресле. На столике возле него лежала кружевная салфетка, на салфетке парабеллум. Он был в форме, фуражка отброшена на кровать, рядом с фуражкой — маузер Юдит. Горячая волна опалила ее щеки, Гельмут был бледен, лоб его сух. Дрожащими руками она сняла шляпу, оставив в руке булавку. Было жарко, пот уже пропитал сорочку и пятнами проступал на платье.
— Можешь уйти, если хочешь.
Голос Гельмута был сухой. Таким голосом он говорил в штабе, на Тынисмяги, но никогда не с Юдит, до этого момента никогда.
— Я отпускаю тебя.
Юдит шагнула в комнату.
— Никто не будет тебя преследовать.
Юдит сделала еще один шаг.
— Но ты должна уйти сейчас же.
Рука Гельмута лежала на салфетке. Парабеллум блестел рядом с ней, начищенный, готовый.
— Я не хочу уходить вот так, — услышала Юдит издалека свой голос.
— В данный момент все остальные уже схвачены. Я надеюсь, ты не будешь пускаться в ненужные объяснения.
Юдит сделала еще один шаг. Она протянула руку к туалетному столику и взяла сигареты и зажигалку. Пламя взметнулось вверх. Роланд! Неужели и его схватили?
— Можно я сяду?
Гельмут не ответил, Юдит присела. Роланд погиб. Скорее всего, это именно так. Сломавшаяся пружина давила в бедро. Она уже никогда не починит этот стул. Не будет одеваться за этим столом, чтобы пойти в “Эстонию”. Шляпная булавка покрывалась потом в одной руке, сигарета дрожала в другой.
— Мне дали задание познакомиться с другим человеком, не с тобой, — сказала Юдит. — В кафе “Культас” я должна была заговорить с другим офицером. Это придумал жених моей подруги, не я. А потом появился ты.
Пепельная головка сигареты упала на ковер. Юдит наступила на нее кожаной подошвой своей туфли, потом сбросила обе лодочки с ног, отстегнула подаренный Гельмутом браслет и положила его на туалетный столик. Он зазвенел как двадцать серебряных монет.
— Я не решалась рассказать тебе. Но и не могла не встречаться с тобой.
— Что ж, вероятно, все были довольны твоей работой. Ты прекрасно справилась, поздравляю.
Юдит поднялась и стала расстегивать платье.
— Что ты делаешь? — спросил Гельмут.
— Оно твое.
Юдит аккуратно положила платье рядом с браслетом. Пятна пота расползлись с боков на спину и бедра.
— Я понимаю, что это может значить для тебя, — сказала она.
— Ты слышишь меня? Тебя могут арестовать в любой момент. Тебе надо уходить.
— Но если я единственная, кого не поймали, то все считают, что это я их предала…
— Это уже не моя забота. Заключенные не знают, кого еще поймали, всех держат отдельно.
— Поверят ли они, что ты никак с этим не связан? Что ты ничего не знал? Гельмут?
— Не произноси моего имени.
Гельмут смотрел мимо Юдит, поднял руку и отгородился от нее ладонью, она напрасно старалась поймать его взгляд. Потом он резко встал, сделал несколько быстрых шагов в ее сторону, схватил за плечи и потащил к двери. Юдит сопротивлялась, задела ногой за стул, схватилась за дверную раму, булавка выпала из ее рук. Он выволок ее в коридор, все еще избегая смотреть на нее.
— Уедем вместе, — прошептала Юдит. — Уедем вместе прочь отсюда, прочь от всего этого.
Гельмут не отвечал, он тянул упирающуюся Юдит, которая цеплялась ногами за стулья и столы, стулья падали, ковер собирался в складки, окаменевшие шторы рассыпались на части, ваза упала на пол, фикус упал, все упало, Юдит упала, Гельмут упал, их тела упали, как одно, и слезы поглотили их.1944 Вайвара Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
Сначала эвакуировали Нарву, через два дня лагеря Аувере и Путки, затем тодтовцев из Вийвиконны. Всех перевезли в Вайвару. Из-за нехватки помещений детский и больничный барак Вайвары перевезли в Эреди, а начальство Вийвиконны перебралось в Саку. Эдгар суетился, перебегал с места на место, ругался на нехватку продуктов и плохую погоду, принимал эвакуированных, едва стоящих на ногах от долгого перехода, регулировал движение машин вермахта, которые подбирали тех, кто упал по дороге, снаряжал дополнительные подводы для транспортировки больных, отправил часть из них в гражданский госпиталь и запретил себе останавливаться, запретил возвращаться мыслями в тот полный разочарования миг, когда ему и его коллегам было приказано готовиться к приему заключенных Нарвского лагеря. Немцы упрямо повторяли, что это временные меры, но никто им не верил, явно началась подготовка к ликвидации лагерей. Военное поражение было теперь лишь вопросом времени. Когда табачный курьер Эдгара привез ежемесячную партию папирос “Манон” с фабрики “Лаферм”, Бодман пришел забрать свою часть и покачал головой: планы по эвакуации, считал он, нереальны, заключенные ни за что не смогут дойти пешком до Риги. Мнением Бодмана поинтересовались, но к нему никто не прислушался. Эдгар ночи напролет думал о возможных для себя выходах. В лагере он неплохо подрабатывал на сигаретах, но вскоре все это закончится. В Таллине он не был уже несколько месяцев. Операция по выявлению банды, перевозящей беженцев, удалась, но Эдгар даже не знал, кого задержали. Казавшаяся поначалу столь простой задача оказалась довольно муторной, хотя мама сразу поняла, почему поток бегущих из страны саботажников и дезертиров необходимо остановить, ведь все это ослабляет силы Германии. Мама и Леонида сделали все возможное и не раскрыли истинных целей этого секретного плана. Однако Юдит повела себя совсем не так, как он ожидал: она обиделась и уехала, порвав все отношения. Эдгар глубоко ошибался, полагая, что способен предвидеть поступки и ход мыслей своей жены. Таких ошибок он впредь допускать не должен. В конце концов он придумал решение, подослав на Роозикрантси двух женщин с детьми, изображающих беженок. Они позвонили в дверь, когда Юдит была дома, и ей ничего другого не оставалось, кроме как впустить всю ораву в дом, после чего она отвезла их на конспиративную квартиру и оставила там. Эдгар передал адрес непосредственно гауптштурмфюреру Герцу. Имя Юдит в рапорте не упоминалось. Герц пообещал заняться этим делом, однако потом больше не связывался с ним и в Вайвару не приезжал, так как получил новую должность. Ликвидация банды не привлекла должного внимания, и Эдгара охватили плохие предчувствия: он занимался никому не нужной работой в Вайваре, его старания в других делах тоже никого не интересовали, ко всему прочему в настоящий момент у него были связаны руки и он не мог предпринять ничего, что принесло бы хоть какую-то пользу.
В мае фюрер приказал остановить все мероприятия по эвакуации, ситуация на фронте стабилизировалась, одновременно пришло распоряжение начать строительство новых производственных объектов. Новость была бы обнадеживающей, если бы табачный курьер Эдгара не успел рассказать совсем другое: в создавшейся неразберихе жители Тарту были уверены, что немцы принудительно эвакуируют женщин и детей, а мужчин отправят в лагеря. Таллин охватила паника. Дороги были забиты людьми, которые бежали из города в деревни, а также теми, кто пытался прорваться обратно в город, а оттуда в порт. Немцы призывали к законной эмиграции — в Германию можно было выехать без проблем, однако это направление мало кого привлекало. Рейхсфюрер амнистировал всех эстонцев, уклонившихся от призыва в Имперскую армию и воевавших в войсках Финляндии, которые после снятия обвинений в измене родине стали возвращаться в Эстонию для борьбы с большевиками. Эдгар же застрял в грязи Вайвары. Однако у него появился шанс, когда люди из отдела Б-IV приехали проводить проверку и рассказали, что в Клооге дела обстоят совсем плохо. Оттуда уже эвакуировали рабочую силу, но поскольку поезда были переполнены, вещи взять не разрешили, и поэтому теперь железнодорожное полотно усеяно ворохами чемоданов и сумок, которые работники ОТ обклевывают как вороны. Местные жители, конечно, все это видят, и в народе ходят слухи, что эвакуированных топят целыми кораблями. Отдел Б-IV получил задание проверить ситуацию в других лагерях. Эдгара попросили показать Вайвару и рассказать о положении вещей. И тут у него созрел новый план. Бодман говорил, что по сравнению с другими лагерями в Клооге самые лучшие условия: рабочие жили в каменных домах, и кормили их вполне сносно, так как за питание отвечал отдел лагерей Ваффен-СС. Работа тоже была почище: мины для подлодок и пиломатериалы. Но самое важное заключалось в том, что Клоога находилась значительно ближе к пунктам эвакуации, Таллину и Сааренмаа, и значительно дальше от Нарвы. Эдгар решил во что бы то ни стало попасть туда и поэтому в ходе экскурсии по Вайваре любезно угощал всех сигаретами и одновременно рассказывал о своей карьере в Б-IV и о том, что он с удовольствием продолжил бы службу в ОТ, но… Эдгар красноречивым жестом указал на все вокруг, и все понимающе закивали. К вопросу обещали вернуться. Экскурсию прервал приказ срочно готовиться к эвакуации, через два часа приказ отменили. Следующие недели были не менее сумбурными: комендант телефонировал ночи напролет, распоряжения, отданные накануне днем, отменялись следующим утром, рабочих то отправляли в сторону порта, то снова заставляли работать. Через какое-то время Эдгар получил приказ о переводе в Клоогу. С легким сердцем он оставил весь свой запас “Манона” Бодману и уехал.
1944 Клоога Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
У двери барака появился пулемет.
Перекличка.
Вперед вышел унтерштурмфюрер СС Верле.
Заключенных эвакуируют в Германию.
Гауптшарфюрер Далман стал отбирать мужчин покрепче для подготовки к эвакуации.
Опять перекличка.
Я уже привык к постоянному контролю и перекличкам, но сейчас что-то было не так. Они явно что-то задумали. Я узнал среди заключенных нескольких эстонцев. Большинство же были евреи из Литвы и Латвии. Я ждал, когда прозвучит мое имя. Его еще не назвали. Я был уверен, что скоро назовут. Так же уверен, как, садясь в грузовик у тюрьмы Патарей, знал, что меня везут убивать. Но нет, меня привезли сюда. Я попытался взглядом найти других эстонцев, что были со мной в одной машине, не осмеливался повернуть головы, но глазами нашел, по крайней мере, троих. Рядом со мной стоял Альфонс, его тоже привезли с Патарей. Он хотел избежать службы в немецкой армии и был поймал. Мое имя скоро выкрикнут. Я был в этом уверен.
Вчера в лагерь прибыла дополнительная охрана.
Работы были прерваны, на работу никого не отправили, никто не пришел в лагерь на работу, в том числе и тот финн, Антти, что иногда приносил с собой немного хлеба. Отношения между заключенными были очень хорошие, в товарах, перевозившихся из лагеря в лагерь, прятали записки. Я сам нашел подобный список, в котором люди отмечали, кто откуда приехал и куда их везут. Я спрашивал о Юдит. Спрашивал и в тюрьме Патарей. Но никто ничего не слышал, даже наш знакомый эстонский охранник. Возможно, Юдит уехала на корабле со своим любовником, я надеялся, что это так. Или ее застрелили на месте.
На обед был суп. Хороший, лучше, чем обычно, и это успокоило многих, но не меня. Верле прошел мимо, говорил громко, почти кричал. Приказал поварам оставить супа тем тремстам лагерникам, которые находились в лесу — после тяжелой работы им нужно будет подкрепиться.
Заключенных снова построили. От стояния кружилась голова, хотя мы только что поели.
Ворота лагеря были заблокированы грузовиками.
Мне не выбраться отсюда живым.
Примерно около шестнадцати часов из строя вызвали шесть сильных мужчин, им приказали погрузить на грузовик две бочки топлива. Тодтовцам было приказано сидеть у бараков, они были дерганые и бледные. Один из них так нервничал, что никак не мог прикурить папиросу, в конце концов бросил ее на землю, откуда она тут же исчезла. Лица охранников были куда более испуганными, чем лица заключенных.
Отобрали еще полсотни мужчин. Эвакуация будет происходить группами по пятьдесят, максимум сто человек. До сих пор вызывали только евреев. Альфонс прошептал, что скоро эстонцам придется поработать: сначала убьют евреев, а только потом нас. Немцы повели первую группу, в этот момент Альфонс сделал странное движение. Проходящий мимо повар споткнулся, охранники насторожились. Повар завывал и держался за ногу. Альфонсу приказали унести повара и чан с супом. Мне велели ему помочь. На кухне никого не было, но повар вдруг оказался лежащим на полу со свернутой шеей. Оставшийся снаружи охранник наблюдал за происходящим во дворе. Альфонс сделал мне знак. Через мгновение мы уже выпрыгнули из окна, тут же заскочили в соседнее и по лестнице взлетели на чердак, откуда выбрались на крышу.
У ворот царило оживление. Мы постарались стать как можно незаметнее. Это было несложно, мы были истощены до предела. Стоявший у дверей кухни охранник забегал туда-сюда, позвал на помощь других охранников, они, хлопая дверцами шкафов, перевернули всю кухню.
Альфонс еле слышно прошептал:
— Они скоро уйдут, поиск пропавших заключенных может вызвать переполох, а Верле приказал вести себя спокойно.
Альфонс был прав: охранники оставили кухню и тело повара и ушли. Я наблюдал за ними с крыши. Узнав знакомый профиль в проходящем мимо охраны человеке, я чуть было не сорвался с крыши, но вовремя успел взять себя в руки и напрячь мышцы.
— Ты когда-нибудь раньше видел здесь этого тодтовца? Охранником или кем-нибудь еще?
— Вон того? Не помню.
К женскому бараку повели группу заключенных, я узнал среди них лагерного парикмахера и портного. Возле охранников крутился тот человек, и я понял, что не ошибся. Я узнал его походку, она выделялась особой энергичностью.
Мы были слишком далеко, и я не мог рассмотреть выражения его лица, но был уверен, что мой кузен не так напуган, как остальные охранники, не говоря уже о заключенных. Его пульс частил скорее от воодушевления, чем от страха.
Голова была гордо поднята.
Он никогда не любил сражений.
Но такое, очевидно, было ему по душе.1944 Ревель Генеральный округ Эстланд Рейхскомиссариат Остланд
Эдгар еще раз постучал в дверь гауптштурмфюрера СС Герца, на сей раз кулаком, стук разнесся по лестничной клетке. Эдгар прислушался. В доме было тихо, лишь на первом этаже раздавался собачий лай, больше ни звука. На Роозикрантси не осталось ни одного немца, двери армейского магазина были открыты, внутри зияла пустота, из госпиталя исчезли все пациенты. Эдгар достал из кармана самодельную, но оказавшуюся вполне пригодной отмычку и вскрыл замок. Квартира казалась нежилой, прислуги не было. В гостиной царил беспорядок, высохший фикус лежал среди осколков горшка, земля разлетелась по полу, ковер сбился, занавески были наполовину оборваны. Эдгар быстро заглянул в каждую комнату. Двери шкафов в кабинете были открыты, ящики пусты. В спальне все еще чувствовался аромат духов Юдит, в шкафу висели платья. Ящички туалетного столика были перевернуты. Пустые. Кухонные шкафы — пустые. Эдгар проверил окна: не считая мелких трещин, все они были целы, на комоде и подоконнике пыль, а вовсе не пепел от бомбардировок. Земля на полу — сухая, на подносе бокалы, из которых испарился напиток. На журнальном столике — апрельский номер Revaler Zeitung . В холодном шкафу стояла бутылка сока, которую Эдгар жадно открыл, присел и на мгновение задумался. Хаос в квартире не был связан с уходом немцев, он возник гораздо раньше. Если Юдит задержали, то вряд ли ей дали время собраться. Может быть, прислуга очистила дом после этого? Но почему тогда такой беспорядок, откуда такая спешка? Из столовой пропали все стулья. Похоже, здесь спешили даже больше, чем в других немецких домах. Произошла ссора? Из-за провала группы или из-за чего-то еще? Герц скрыл вину Юдит или отсрочил разоблачение, чтобы избежать огласки? У него тоже были неприятности? Или Юдит вместе с любовником уже на пути в Германию?
Когда Эдгар наконец добрался из Клооги до Талина, немцев в городе уже не было. На сердце заскребли кошки, но он не позволил отчаянию взять верх, не дал себе права сломаться, хотя и предполагал, что все корабли уже ушли. “Опель-блиц”, прибывший в лагерь накануне и доставивший группу специального назначения, состоящую из одних немцев, исчез сразу же, как только лагерь был ликвидирован. Эдгару тоже следовало бы тут же уехать, отправиться в ночь вместе с охранниками, не ждать разрешения сесть в грузовик, идущий в порт. Теперь поздно сожалеть. Все пропало. Медицинские склады и клиники разворованы, армейские сапожники и парикмахеры разбежались, от солдатского клуба осталась одна вывеска, от прачечной на улице Вене — лишь огромный бак в каменном полу. Над Длинным Германом развевался эстонский флаг. Эдгар остановился. Пробежавший мимо паренек рассказал, что адмирал Питка собирает людей, чтобы встать на защиту нового правительства Эстонии: “Капитан Тальпак тоже здесь! Все настоящие мужчины Эстонии берут в руки оружие! Мы не позволим русским снова захватить нас!”
Он опоздал, ему уже не попасть в Данциг. В порту он в этом убедился.На раздумия времени не было. Он резко встал из-за стола, и голова у него закружилась, но лишь из-за голода и блевотины, которая пристала к сапогам еще в лагере. Эдгар заметил неприятный запах только сейчас. Намочив полотенце, он вытер сапоги и привел себя в порядок, даже не взглянув в зеркало. Он знал себя достаточно хорошо, чтобы сказать, что на его лице не было выражения испуга, как у других охранников, которые ехали с ним в одном грузовике. Случившаяся в пути поломка двигателя стала для многих поворотным моментом, они решили плюнуть на отъезд, на немецкую армию и ее приказы. Они решили идти домой, Эдгар же упрямо пробивался к порту. Из кранов в ванной комнате все еще шла вода, Эдгар быстро умылся, встряхнул головой, стараясь выветрить туман, вызванный недосыпанием, и вернулся в кабинет Герца. Ценных предметов не было, ни золота, ни столового серебра. От письменного набора на столе осталось лишь несколько чернильных пятен. Надо было действовать раньше, заставить Юдит рассказать, где что спрятано, где лежат важные бумаги, где золото и драгоценности, надо было очистить квартиру сразу же, как только банду задержали. Эдгар был наивен, словно ребенок. Он опоздал и тут. Но времени на переживания не было. Он принес из спальни наволочки и стал набивать их оставшимися на столе бумагами. На мгновение он задумался, а не специально ли они оставили их на столе и не поддельные ли эти документы и может ли быть так, что квартиру гауптштурмфюрера, служившего в СД, не проверяли и не зачищали или что сам он не взял с собой секретные материалы, после того как Юдит задержали. Эдгар не верил в беспечность немцев по отношению к бумагам, но теперь это уже не имело значения, документы, какими бы они ни были, могли оказаться ценным товаром, независимо от того, специально их здесь оставили или нет, а если содержимое окажется слишком скудным, Эдгар сфабрикует что-нибудь потяжелее. Для этого он на всякий случай взял с собой несколько пустых бланков, конвертов и листов бумаги, нашел даже несколько печатей. Подумав, он упаковал стоявшую на курительном столике пишущую машинку, несколько лент к ней, а также найденные в глубине стола неоткрытые бутылочки чернил. Среди отчетов на столе он обнаружил несколько знакомых бумаг, им самим с любовью составленных; их он сжег, бросив в огонь заодно документы на имя Эггерта Фюрста, повязку бауфюрера ОТ и разрешение на эвакуацию, которому еще недавно безмерно радовался, после чего закрыл дверцу печи правой рукой. Для начала он должен спрятать добычу — никуда не денешься, наволочки получились довольно тяжелыми, — а потом успеть обратно в Клоогу. Там он подберет в куче тряпья подходящий наряд и позволит большевикам освободить его — Эдгара Партса, свидетеля чудовищных преступлений, выжившего только благодаря действиям Красной Армии.
1944 Клоога Эстонская ССР, Советский Союз
Лагерь был пуст, немцев не осталось.
Мы спустились по крыше обратно на чердак. Там прятались существа, похожие на скелеты, с выражением застывшего ужаса на лице. Я попытался стащить одного из них вниз, мужчина стал кричать и сопротивляться, я не разобрал слов, не понял языка, на котором он говорил. Я повторял, что немцы ушли. Складывал немецкие слова: кайне дойче, кайне дойче, кайн мер [15] . И хотя я совсем не знал немецкого и вовсе не хотел на нем говорить, но попытался объяснить, что фрицы ушли. Он меня не понял. Его крик был полон животного страха, в нем не было ничего человеческого. В них во всех было что-то угрожающее, и я не решался повернуться к ним спиной. Альфонс стал осторожно задом отступать к двери. Я последовал его примеру, и, выйдя на лестницу, мы со всех ног бросились вниз.
Ворота лагеря были открыты. Нигде никого не было. Мы ринулись вперед. Я был так слаб, что бегом мои движения можно было назвать лишь с большим трудом. С чердака никто за нами не последовал.
Выбежав за ворота, мы направились в сторону леса. Я закрыл рукой рот, зажал пальцами ноздри. Беглецам стреляли в спину, среди деревьев лежали трупы. Мы не в силах были смотреть друг на друга, я старался не смотреть на землю, не смотреть по сторонам, не смотреть туда, откуда шел жар. Ни на обуглившиеся стволы, ни на белизну свежесрубленных деревьев, ни на то, что было между ними — торчащие отовсюду руки и ноги, в обуви и без. Я устремил свой взгляд вперед и вдаль. Я решил, что буду искать глазами первый деревенский дом, где смогу переодеться и попросить еды. Кто-нибудь обязательно мне поможет. Я скажу, что немцы ушли. Я буду смотреть только вперед. И никогда больше не вспомню о том, что оставил позади. Настал час, которого все мы ждали и к которому готовились. Немцы ушли, а русские еще только идут, чтобы завоевать нас. Мы не пустим их на нашу землю.Часть шестая
В странах империалистического Запада самоуверенный голос националистов-реваншистов год от года звучит все громче, рассадники зла, созданные ими в Нью-Йорке, Лондоне, Стокгольме и Гётеборге, гудят, как осиные гнезда. Нельзя забывать, что возникающие в их среде “комитеты” и “союзы” всегда будут центрами подрывной деятельности и скопищем шпионов. Предатели не знают отдыха! Враг не дремлет, не забывает! Он продолжает свои вредоносные вылазки, и поэтому новое поколение должно быть бдительным. Юноши и девушки, выросшие после краха гитлеровской Германии, знают о тех страшных временах лишь по учебникам и рассказам современников. Скоро живых очевидцев уже не останется, и единственным свидетельством этих бесчеловечных преступлений будут книги. Новому поколению необходимо знать, что в так называемом свободном мире преспокойно гуляют фашистские убийцы и голос их эхом разносится над Нью-Йорком!
Эдгар Партс. В эпицентре гитлеровской оккупации. Таллин, 19661965 Таллин Эстонская ССР, Советский Союз
Столичный салат был съеден, кофе выпит. Товарищ Партс готов был заказать еще один, хотя от раздражения это бы его все равно не спасло. Он сидел в кафе “Москва” уже который час, а Объекта все не было, юнец опаздывал, и товарищ Партс не знал, когда наконец вернется домой. Возможно, только после закрытия кафе. Партс хлопал глазами, стараясь не заснуть. Новое задание Конторы было, безусловно, знаком доверия, но поначалу вызвало шок.
Партс смотрел на фотографию Объекта на столе конспиративной квартиры — бакенбарды, юношеские прыщи, свойственное молодости самодовольство и кожа, которой едва коснулась жизнь, — и не понимал, что происходит, он и сейчас все еще не понимал. Его подключили к операции, цель которой — выявить очаги антисоветской деятельности в студенческой среде. Новый объект Партса, двадцатиоднолетний молокосос, входил в подозреваемую группу. Предстояло выяснить, где, когда и с кем он встречается. Работу над рукописью продолжать можно, но не в ущерб новому заданию.
Когда Партс вышел на улицу после получения задания, камни мостовой показались ему скользкими, несмотря на погожий день, тошнота предвещала скорую мигрень. Отношения с Порковым были доверительные, рукопись продвигалась, и в отношении ее не было никаких нареканий. Три года, выделенные на написание книги, еще не прошли. Однако Партс больше не будет отчитываться перед Порковым, ему назначили нового “опекуна”. Ставшая последней встреча с Порковым прошла абсолютно нормально, в ней не было ничего, что могло бы вызвать подозрения. Неужели кто-то заметил, что он украл записную книжку? Но почему тогда никто не потребовал ее вернуть? Может, он допустил какие-то другие ошибки? Следует ли считать новое задание понижением по службе? А может, и самого Поркова перевели на другую должность за какие-то прегрешения? В новом задании Партса не было никакого смысла: для слежки у Конторы были всегда свои люди, он же, хоть и прошел небольшой курс, предложенный Конторой, все равно не чувствовал себя специалистом в этом деле. Его конек — разбираться в почерке. Тем не менее Контора решила поручить это дело именно ему. Контора, которая обычно не лишала особо отличившихся работников возможности работать в той же сфере.
Вместе с данными, касающимися Объекта, Партс должен был вернуть Конторе предоставленную документацию, в том числе и полученную от Поркова самую свежую версию “Перечня материалов, запрещенных к публикации в прессе, в программах радио и телевидения”. Партс сомневался, дадут ли ему новую версию, когда она появится, могут счесть, что это нецелесообразно. И хотя он уже практически наизусть знал все рекомендации справочника, ему не понравился унизительный приказ вернуть материалы. Это было предупреждение, способ напомнить, кто есть кто. Но пишущую машинку все же позволили оставить.
Коллега в углу зала заказал себе стакан воды. Партс отвернулся, ему было стыдно за мужчину. В городе ходил анекдот: почему шпионы, когда пьют кофе, прищуривают один глаз? Потому что, как и все русские, опасаются, что торчащая из стакана ложка в глаз попадет. Партс в свое время тоже смеялся над этим анекдотом, но сейчас ему было не до смеха, в коллеге можно было за версту узнать человека из Конторы: сидит за пустым столом и наблюдает. Возможно, таков новый метод работы — дать понять людям, что Контора видит все. Сам Партс в такие методы не верил. Ему казались более надежными естественность и неприметность, поэтому он даже подумывал, не приударить ли за какой-нибудь секретаршей с фабрики — с женщиной можно подолгу сидеть в кафе, не привлекая внимания. Однако ухаживания требовали времени и денег, и Партс выбрал более простое решение: он будет изображать учителя, который проверяет контрольные работы, или писателя. Наличие бумаги и ручки позволяло тут же записывать все, что происходит, для отчета понадобится просто переписать все начисто. Чувство унижения, вызванное получением нового задания, Партс решительно сбросил с себя вместе с пальто еще в гардеробе и, поднимаясь по лестнице на второй этаж, держался прямо и непринужденно помахивал портфелем. Люди приходят в кафе расслабиться, поэтому он должен делать вид, что расслабляется.Ситуация казалась необъяснимой еще и потому, что одновременно с новым заданием ему наконец-то назвали издательство — “Ээсти Раамат”, — а также имя будущего редактора. Товарищу Поркову не дали завершить это дело, хотя ему причиталась половина аванса. Новый “опекун” не выказал интереса к деньгам, в связи с чем Партс решил, что может наконец-то покинуть сторожевую будку на фабрике. Однако вместо того, чтобы тратить освободившееся время на рукопись, ему приходилось следить за сопляками студентами. Поход в издательство был в высшей степени странным: директор издательства говорил раздраженно и все время поглядывал на дверь своего кабинета. В коридоре то и дело слышались шаги сотрудников Главлита, Партс сам уже с порога узнал одного из них по выражению ничего не видящих глаз. Редактор нервно дергал воротничок рубашки, за которым прятался страх за должность. Следить за выражением его лица было так забавно, что досада, связанная с новым заданием, слегка утихла. О рукописи никто ничего не спросил, конверт с купюрами был передан молча, а в коридорах издательства на него смотрели как на протеже неких влиятельных кругов — нежное прикосновение власти ощущалось на щеках, и он кожей чувствовал восторженные вздохи главлитовцев. Возможно, он напрасно расстроился, возможно, он все понял неправильно, возможно, Контора всего лишь считает его многоплановым специалистом и дает возможность показать себя в новом качестве. В любом случае избавление от фабрики “Норма” уже было прогрессом, как и подписание договора с издательством.
В течение вечера уверенность Партса все же дала сбой. Объект так и не появился, и казалось, что ничего не происходит. Партс положил рукопись между тарелкой с шоколадными трюфелями и кофейником и оттачивал фразы. За столиком, где обычно сидел Объект, две девушки обсуждали, успеют ли они получить пропуск на остров Сааремаа до дня рождения живущего там отца или нет. В кафе ввалилась шумная группа студентов-технарей и подсела к девушкам. На весь стол заказали четыреста граммов коньяку и кофе. Коллега пристально следил за девушками. Партсу их лица были незнакомы, на фотографиях, показанных ему на конспиративной квартире, девушек не было. В воздухе повисло ожидание, вся компания нетерпеливо ерзала и беспокойно переговаривалась: никто, казалось, не заводил серьезных бесед, кто-то крутил в руках студенческий билет, кто-то все время поправлял фуражку [16] и теребил козырек — всех привлекал коньяк и печенье “Валери”. Только тут Партс заметил, что одна из студенток в брюках. Партс поморщился и погрузился в бумаги, крутя в руке карандаш, но одновременно продолжал наблюдать за веселой компанией, неподвижной фигурой коллеги и за всем происходящим в кафе. Расположившиеся за соседним столиком двое мужчин наполнили стаканы ликером из графина. Золотистый Lõunamaine раззадорил пыл того, что помоложе: он схватил печенье с тмином и захотел поделиться им со своим другом, но проделал это странным образом — положил половинку себе в рот и без помощи рук передал ее в приоткрытые губы партнера. Тот, что постарше, время от времени закуривал, спички вспыхивали, и их пламя отражалось в блестящих глазах. Партс угадал движения ног мужчин по еле заметному колыханию скатерти. В тот момент, когда голень молодого коснулась голени старшего, ноздри у обоих вздулись, а скатерть покачнулась. Они смотрели друг на друга, но взгляды уже путались в простынях. Партс зажмурился. Все это настолько завладело его вниманием, что он не заметил, как в зале появился Объект. Один ли он пришел, давно ли уже стоит посреди кафе? Партс обвел глазами посетителей, ища новые лица и отмечая тех, кто ушел. Коллега в углу смотрел прямо на Партса, в углу его рта дрожала улыбка, в глазах появилась насмешка. Партс перевел взгляд на любимый столик Объекта и обратно в зал. Необъяснимо. Объект пропал.
1965 Таллин Эстонская ССР, Советский Союз
До ушей Эвелин, сидевший в гостиной, донесся голос Рейна. Она попыталась расслышать, что он сказал, но громко работающее радио и проигрыватель, включенный по случаю их прихода, заглушали все слова. Это был дом, в котором часто бывал Рейн, но он никогда не рассказывал, почему и с кем он здесь встречается. Это был дом, куда Рейн никогда прежде ее не приводил. Эвелин волновалась, и поэтому неподвижно сидела на одном месте, хотя она была одна и никто не смотрел, чем она в гостиной занимается, как сидит и как выглядит. На низком столике стояла хрустальная ваза с печеньем, напольные часы тикали, обозначая боем каждую четверть, маятник качался, занавески шуршали на сквозняке, прокисшие сливки свернулись в кофе, и Эвелин не знала, куда бы его вылить. Может, Рейн просто оберегает ее и поэтому ничего толком не рассказывает. Или хочет поиграть в таинственного героя, изобразить важную персону, или просто пока еще не доверяет ей на все сто. А может, он взял ее с собой, чтобы утешить, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Все однокурсники Эвелин уехали в Тарту, как только туда перевели финансовый факультет. Эвелин уезжать не хотела, ведь Рейн оставался в Таллине. Недолго думая, Эвелин попросила перевести ее на другую специальность. Она не станет директором банка, как предполагалось, а станет инженером. Советскому Союзу нужны инженеры, они основа общества. Эвелин жалела, что оказалась совсем не готова к такому бессмысленному сидению. Она могла бы взять с собой конспекты лекций или навевающую сон книгу Саареперы “Принципы составления объяснительной записки к годовому и квартальному отчетам промышленного предприятия”. Теперь же ей не оставалось ничего другого, кроме как жевать предложенные изюм и печенье.
Еще на первом курсе Эвелин пару раз заходила в кафе “Москва” и уже тогда обратила внимание на Рейна и вьющуюся вокруг него компанию. Рейна невозможно было не заметить. Как и девушек вокруг него. Эвелин никогда бы не поверила, что Рейн может заинтересоваться ею, деревенской девушкой, у которой в гардеробе всего два свитера, одна юбка и одно платье и которая ничего не знает о тех вещах, о которых все знает Рейн и сидящие вокруг него девушки, меняющие платья, рубашки и брюки каждый день. Брюки! Мама обещала, что на вырученные от следующих телят деньги купит Эвелин новое платье, но до этого еще далеко. Она и представить себе не могла, что студенческая жизнь окажется такой сложной, если в шкафу у тебя всего одно платье. В гимназии все было проще: пришил воротничок, отпарил платье, и готово. Пожалуй, никто другой так не тосковал по школьной форме.
Эвелин хотелось пить, но она не осмеливалась выйти из гостиной. Остывший кофе так и стоял на столе, когда мужчины наконец вернулись. В убранстве комнаты чувствовалась женская рука, однако в доме не было никого, кроме открывшего им дверь человека в очках. Кто знает, может, Рейн заходит сюда, только когда его знакомый остается один. По модному интерьеру было заметно, что у хозяина квартиры хорошие связи, на книжных полках стояли книги, которые можно получить только из-под прилавка или напрямую из типографии. Эвелин любовалась высокими, до самого потолка, книжными полками и мечтала, что когда-нибудь в их доме тоже будут такие, в ее с Рейном доме. В баре стоял бы коньяк для гостей, в шкафу лежало бы аккуратно сложенное белье. Она бы протирала двери шкафа каждый день, чтобы на поверхности не было ни пятнышка, двери блестели бы, зрительно увеличивая пространство комнаты. Каждое утро они с Рейном пили бы кофе, после того как она сложит диван-кровать, поставит диванные подушки на место и уберет одеяла в шкаф. Для гостей варили бы настоящий кофе, без каких-либо примесей. На подоконнике за шторами стояли бы кактусы. Рейн предложит послушать на магнитофоне запись его друга, который играет на электрогитаре, и пока крутятся бобины, притянет ее на диване поближе к себе. И наконец-то у них будут свои простыни.
Рейн долго не соглашался брать ее с собой в этот таинственный дом, и Эвелин даже стала подозревать, нет ли у него другой девушки. Обвинение сорвалось с ее губ как бы само собой. Все эти разодетые девицы, проводящие вечера в кафе “Москва”, не давали ей покоя, в особенности студентка искусствоведческого отделения с белыми бедрами, которая делила с Эвелин и еще двумя девушками комнату в общежитии. Каждый раз, когда Эвелин тайно приводила Рейна в комнату, она была уже в кровати и как бы случайно выставляла напоказ из-под одеяла то голое бедро, то грудь, то голень. Глаза Рейна так и прилипали к этому бедру или округлой груди, сияющей в темноте словно луна, а девушка поворачивалась, якобы во сне, и рука ее еще больше приподнимала грудь, которая, казалось, жаждет прикосновения жарких губ. Поэтому Эвелин не хотела приводить Рейна в общежитие, полное девушек, снующих по коридорам в нижних юбках и хихикающих на кухне в ночных сорочках, и где соседка всегда укладывалась в постель в ожидании Рейна. Эвелин согласилась привести его только после долгих уговоров и напоминаний. Она тогда пожарила на кухне большую сковороду картошки, не жалея собранного в кружку жира для жарки, а Рейн в это время развлекал на вахте дежурную, которая делала для него исключение и забывала о правиле: никаких мужчин в женском общежитии после десяти часов. О том, чтобы пойти в мужское общежитие, не могло быть и речи, Эвелин не желала видеть стены, украшенные насаженными на булавки клопами. А потом, это будет еще более неловко… все эти парни… Да и Рейн никогда ее туда не приглашал.
В дом к мужчине в очках они пришли через заднюю дверь. До этого долго плутали обходными дорогами и тропинками между многоэтажными домами, потом вышли на большой проспект, с которого Рейн вдруг нырнул в кусты и потащил ее за собой, — так они оказались на заднем дворе частного дома. Там Рейн вынул несколько веточек из ее волос и пригладил ее взъерошенную прическу. Чулки, к счастью, остались целы, и Эвелин вздохнула с облегчением. Рейн громко постучал в серую дверь, и, пока они ждали, Эвелин наблюдала за соседкой. Женщина несла тяжелые ведра с водой, сохнущие на веревке марлевые подгузники у нее за спиной развевались на ветру, словно саван. Опрокинув ведра в лохань, она отправилась в обратный путь. Кто-то точил вдалеке косу. Эвелин вспомнила девушку, которую выгнали из общежития, а соседка с белыми бедрами сказала, что такие оплошности случаются только с идиотками. Эвелин не хотела быть идиоткой, опорочить себя, испортить себе жизнь, хотя Рейн и сказал, что так нельзя испортить жизнь. Можно, Эвелин это прекрасно знала, и это заставляло ее волноваться при каждой встрече, ведь она никогда не сможет объяснить родителям, почему бросила учиться. Разрешение на выращивание телят гарантировало дополнительные деньги на учебу помимо стипендии, но это означало, что после работы в колхозе мать еще и ухаживает за телятами. Она работала не разгибая спины, чтобы дочь могла учиться, а Рейн все время вовлекал Эвелин в такие ситуации, которые могли навредить учебе, клал руки туда, куда не следует. Каждый раз, когда Рейн оставался в общежитии и устраивался рядом с Эвелин, его рука тянулась к ее груди и животу, а Эвелин плотно сжимала веки, выбрасывала из головы картинку с грудью соседки и убирала руку Рейна в сторону, не позволяя ей вернуться обратно. Она старалась не думать о том, что Рейн может обидеться, а думала о летней сессии, беспокоилась за себя и за Рейна, который вряд ли сдаст экзамены в этом году. Рейн совсем забросил учебу, у него были другие дела, поважнее.
Голос Рейна раздавался уже совсем близко. Они смеялись, как смеются мужчины, которые после долгих споров пришли к одному общему решению. В этом смехе чувствовалось облегчение, он был слишком громким, чтобы быть беспечным. Именно так обычно смеется Рейн. Под этот смех Эвелин и ее друг двинулись обратно к двери, а оттуда через двор назад в большой мир. Рейн снял с себя куртку, укутал ноги Эвелин, чтобы чулки не порвались, и вынес ее сквозь кусты на дорогу. Уже на остановке Эвелин заметила в руках у Рейна холщовую сумку.
— Он тебе что-то дал?
— Книги, — ответил Рейн.
— Какие книги?
— Ты все равно не сможешь их прочитать.
Больше Эвелин не спрашивала, знала, что Рейн не любит зануд. Рейн был в хорошем настроении, слегка касался ее ключицы и шептал в ухо:
— Вот видишь, ничего ужасного не произошло.
Губы Рейна были так близко к ее губам, что она почти почувствовала поцелуй и отступила назад.
— Все смотрят.
— Ну и что?
Она отвела взгляд, губы Рейна коснулись мочки, дыхание наполнило ухо, и оно превратилось в морскую раковину — точно такую же она хранила дома в память об их совместной поездке автостопом на Кавказ. Эвелин высвободила пространство вокруг себя, слегка отодвинув Рейна.
Несмотря на веселость, Рейн волновался, его ладони были горячее, чем потный автобус, в который они сели. Но возбуждение его не было вызвано юбкой Эвелин, хотя она укоротила ее чуть больше, чем полагалось. Эвелин прижалась спиной к Рейну, опасаясь случайных приставал. Таких в переполненном автобусе всегда было более чем достаточно.
Ей удалось незаметно запустить руку в сумку Рейна, и она нащупала там плотную пачку фотобумаги. Рейн учащенно дышал ей в шею.
Вечером, прежде чем вернуться в общежитие, Эвелин, все еще удивляясь своей смелости, достала из кармана спрятанную там фотографию. На ней был только текст — сфотографированная страница книги на неизвестном ей языке.1965 Таллин Эстонская ССР, Советский Союз
Девушка в брюках раскачивала ногой, сидя за опустевшим столиком Объекта. К ней подсела другая пигалица, и они вместе стали писать что-то на маленьких прямоугольных бумажках. Виски товарища Партса сковала внезапная боль. Он прекрасный специалист, а вынужден следить за тем, как шмакодявки делают шпаргалки. Партс заметил, как его коллега нырнул в двери гостиницы “Палас” в тот момент, когда сам он направлялся в кафе “Москва”. Сейчас он, наверное, распивает шампанское в кругу иностранцев, запихивая в рот густо намазанный черной икрой бутерброд. Почему Партса не послали туда? Неужели его деятельность вызвала нарекания? Неужели Контора им недовольна? Действительно ли органы решили, что ему больше подходит занятие именно такого рода — следить за юными хулиганами и вертихвостками? Партсу никак не хотелось верить в это. Он умел вести себя достойно, по-западному, и вполне подошел бы для международного общения в “Паласе”, значит, дело в чем-то другом. Кому-то не понравилось поведение его жены? Неужто жена представляла такую опасность, что Комитет госбезопасности решил отвести Партсу менее заметную роль? Сама мысль об этом казалась невозможной. Его никогда больше не позовут на совещание с высокопоставленными лицами, он никогда больше не получит приглашения на торжественные празднования и юбилеи. Партс вздохнул, зашелестев листами рукописи. Полумрак кафе давил на глаза. Партс не мог не покраснеть, вспомнив, как они вместе с женой встретили на улице директора Эстонского телеграфного агентства Альберта Кейса и жена стала ни с того ни с сего говорить о собраниях картин в школах. Поначалу Партс не заподозрил ничего плохого и позволил разговору продолжаться, как вдруг до него дошло, что жена расхваливает работы молодого Альфреда Розенберга, висящие на стенах Петровского реального училища. Партс закашлялся, в горле внезапно образовался ком.
Альберт Кейс удивленно приподнял брови и выпучил глаза:
— О чем вы говорите?
— Работы молодого Альфреда Розенберга. Удивительно талантлив, все признаки великого гения, невероятное владение линией.
К счастью, Партс сумел взять себя в руки и спасти ситуацию, выразив огорчение — действительно, он тоже слышал, что в школе по-прежнему висят работы Розенберга, почему никто не проявил бдительности в этом вопросе? Партс старался довести себя до такого бешенства, которое отодвинуло бы на задний план восхищенное щебетание и восторженное выражение лица жены. Новый утюг, купленный взамен сломанного, лежал в сумке и оттягивал руку, Партсу хотелось бросить его прямо на улице. Вокруг сновали люди, окна дома торговли “Каубамая” блестели на солнце, Кейс пристально смотрел на них своими рыбьими глазами, голос Партса стал повышаться, прохожие оглядывались, рука, державшая сумку с утюгом, окончательно онемела. Жена рассматривала витрины, как будто все это ее не касается.
Позднее Партс услышал, что в таллинской средней школе № 2, бывшем Петровском реальном училище, действительно обнаружили работы Розенберга и они были изъяты без лишнего шума. Жена пыталась объяснить, что оказала Партсу услугу, ведь таким образом вскрылась шокирующая информация и Партс от этого только выиграл. Но он прекрасно помнил, какими эпитетами наградила Розенберга жена: удивительно талантлив, невероятное владение, великий гений. А что, если Кейс доложил об этом Конторе?Партс заказал столичный салат, кофе и три трюфеля. Официант вернулся с подносом, и в этот момент в кафе пришел коллега, протиснувшись в тот же самый угол, что и вчера. В его глазах промелькнула насмешка, объектом которой не мог быть никто другой, кроме Партса. Тот попытался скрыть раздражение, собрав листы в стопку и постучав ею по столу. Выровняв их, он опустил стопку на стол и как бы невзначай коснулся нагрудного кармана. Паспорт был на месте, как и полагалось. Он сделал это непроизвольно и заставил себя скорректировать движение поднимающейся к карману руки, переместив ее к шее и поправив белый воротничок. Гладильщики комбината бытового обслуживания справлялись со своей работой вполне сносно, но, получив аванс, Партс стал мечтать о домработнице — белье, выстиранное в общественных прачечных, никогда не было идеально чистым. У Мартинсонов наверняка была работница или даже стиральная машина. Теперь такими вещами было очень легко подчеркнуть свое положение, невзначай упомянуть стиральную машину, как сильно она упрощает жизнь. Ходят же к другим Мария, Анна или Юли стирать белье и убирать квартиру за три рубля в день, у них тоже скоро будет домработница, которая наконец-то выгладит все носовые платки, количество которых из-за приступов жены было невообразимым. Но прежде всего он должен выяснить причину перемен, нельзя опускать руки.
Партс не любил утюги. Пока они жили в Валге, в ходу были угольные, которые он ненавидел не меньше жены, но по другой, нежели она, причине. Красный накал угольного утюга напоминал ему застенок в тюрьме Патарей, куда его привели после ухода немцев. Из соседней камеры доносились крики. Кричал Альфонс, еврей, которому удалось уцелеть при немцах, что в глазах советского правосудия однозначно делало его гитлеровским шпионом. Слушая эти крики, Партс решил выйти из застенка целым и невредимым. Органы пронюхали, что он обучался в разведшколе на острове Стаффан, и это мучило его до сих пор: Контора в очередной раз доказала свое превосходство, но для него это было плохо. С тех пор вид раскаленного утюга вызывал в памяти тошнотворный запах паленой кожи, запах унижения. От раскаленного железа его спас архив немецких документов, но он и без угроз стал бы сотрудничать с русскими. Он же умный человек, его не надо запугивать, утюгом жгли только ничтожеств.
Немного успокоив себя трюфелем, он стал раскладывать бумаги и одновременно делал пометки, не позволяя мыслям разбегаться, как в прошлый раз. О жене стоит подумать в другом месте, Партс не хотел, чтобы его озабоченность была заметна, он должен сохранять бодрый вид, хотя после того, как он наконец-то получил сведения об оставшихся в Эстонии женах репрессированных, тревога прочно поселилась в его душе. Его кое-как обоснованный запрос и путаные объяснения сработали, взгляд Поркова устремился в Москву, рука протянулась в сторону Кремля. Порков пообещал также достать сведения о Каалинпяя, но прежде чем он успел выполнить обещание, их сотрудничество прекратилось. В списке жен поначалу не обнаружилось ни одного подходящего имени, никого, кто мог бы быть невестой Роланда.
Он сразу же вычеркнул имена тех, кто жил географически слишком далеко, он не верил, что Роланд мог сойтись с абсолютно незнакомой женщиной издалека. Да и описания природы в записной книжке указывали на то, что Роланд находился где-то поблизости от родных мест. Скорее всего, он мог довериться женщине, с которой у него и прежде были какие-то отношения. Во всем списке было только одно знакомое имя, но оно казалось невероятным: имя его жены.
В течение двух последних лет Партс неоднократно просматривал этот список и все время натыкался на имя жены. Теперь он смотрел на нее новыми глазами, пытался найти в ее поведении какие-то зацепки, трещины, которые заставили бы ее открыться и все рассказать, нечто, что подтвердило бы его подозрения или хоть бы подсказало, как докопаться до правды. Подозрения крепли еще и оттого, что Партс не знал, чем занималась его жена, пока он был в Сибири. Жена не была на похоронах свекрови, но приезжала в гости при ее жизни. Мать писала, что наконец-то от невестки есть хоть какая-то польза. К тому моменту силы Леониды и Акселя уже иссякли, и она изо всех сил помогала выполнять норму, собирала ягоды, грибы, закручивала банки. Она чудом достала для плодовых деревьев и кустов карболовой кислоты, выменяв ее на свиной жир, распылила, как научил ее Роланд, и урожая хватило даже на продажу. А цветы обработала касораном. Даже таскала из леса дрова. Ночевала обычно на конюшне или в сарае, а иногда и в бывшей лесной избушке Леониды, для которой колхоз не нашел никакого применения. Это, конечно, было разум но: многие знали о связях жены с немцами, времена были непростые, а муж в Сибири. И все же. Что, если внезапная привязанность жены к родным местам и частые визиты к свекрови были связаны с Роландом? Что, если она спешила с корзиной ягод прямо в объятия Роланда, а он поверял ей в постели свои тайны?
Перед глазами Партса качалась нога девушки в брюках. Он медленно жевал салат, выискивая языком горошины и раскусывая их по одной, и время от времени аккуратно вытирал салфеткой следы майонеза в уголках губ. Возможно, его хватка стала ослабевать. Раньше он всегда знал, в какую сторону двигаться, инстинкт самосохранения всегда срабатывал. Теперь же он был растерян, связанные с рукописью поиски то и дело заходили в тупик, натыкались на неожиданные препятствия или, как в стену, упирались в глаза жены. Партс не понимал ситуации, в которую поставила его Контора. Несмотря на некоторую подготовку, в роли оперативника он чувствовал себя неуклюжим. Накануне он запаниковал, собрал бумаги и даже не проверил, действительно ли Объект пропал или же просто отошел в туалет. Выбежав на улицу, он какое-то время прислушивался, потом направился в сторону студенческого общежития. Свет в комнате Объекта не горел. Партс чувствовал себя собакой, потерявшей след. Он отчаялся. Луна насмешливо смотрела на него, отражаясь в темных глазах окон. Назавтра он с надеждой ожидал появления Объекта, стоя в незаметном углублении стены недалеко от входа в аудиторию. Напрасно. Юнца с бакенбардами не было в числе выходящей из зала молодежи, которая резко отличалась от той, что заседала по вечерам в кафе “Москва”. Обычные студенты, в их взглядах не было того напряжения и неподдельной увлеченности, что царили в кафе и особенно остро ощущались всякий раз, когда приглашенный рассказчик переходил к главному. То были тайные лекции. Неудивительно, что обычная учеба юнца не привлекала. Его интересовал пакт Молотова — Риббентропа и то, как живут люди в Финляндии и вообще за границей. Среди лекторов были те, кто сам выезжал за границу, журналисты и спортсмены, прошедшие тщательную проверку Конторы, получившие разрешение на выезд, — и вот благодарность за дарованные им особые права. Зависть ли жгла Партса, словно укусы слепня, или кожа его зудела от затхлого воздуха кафетерия?
Партсу нужны были результаты, карьеру необходимо было вернуть на прежние рельсы. Неуверенность вымести прочь, освежить навыки. Даже самые невероятные вещи могут оказаться правдой, если проговорить их вслух или написать на бумаге. Впервые он осознал это еще в гимназии. Из кармана учительского пальто пропали деньги, и его поставили в угол, чтобы он признался в содеянном. В конце учебного дня учитель собрал книги и сказал, что если он так и будет молчать, то ему придется остаться в школе на всю ночь, хотя и так уже все ясно: ведь когда все остальные вышли на перемену, он единственный остался в классе, чтобы стереть с доски, так как в этот день был дежурным. Он отрицал свою вину и, позволив словам слетать с губ, почувствовал, как участился его пульс, как зашумело в ушах, сомнение свинцом сдавило живот — не пройдет, не получится, учитель не дурак, он не поверит, — однако на коже не проступил пот с горьким привкусом страха, подмышки остались сухими, а дыхание глубоким и спокойным, как на богослужении, и учитель поверил, поверил сразу, и вера его крепла по мере того, как он продолжал рассказывать, уверенным голосом, в котором не было ни капли подросткового кукареканья, голосом мужчины, говорящего правду. О том, что это был вовсе не он, а Антс, который тоже заходил в класс на перемене, Антсу нужны были деньги, потому что он не успел выполнить домашнюю работу и заплатил за нее другим. Он тихо закрыл за собой дверь гимназии, стараясь сдержать улыбку. За углом он позволил ей растянуться во весь рот, и она не исчезала, пока он шел мимо играющих в англо-бурскую войну мальчишек, мимо парка и лавки сапожника, оставаясь на его лице до самого дома, и согревала его даже в тот миг, когда он опустил голову на перьевую подушку, под которой спрятал полученные от Антса кроны за написанное за него сочинение.Объект с друзьями прибыл в 17:40 и заказал черный кофе и московскую булочку. Партс был настороже.
— Мы подготовились к вопросам о двадцатом, двадцать первом и двадцать втором съездах КПСС.
— Сделайте и мне шпаргалки.
— Сделай сам, — засмеялась девушка и легонько толкнула Объект.
Ручка Партса дымилась, он все записывал. Пианист еще не начал играть, в кафе было довольно пусто, а потому слышимость была отличная.
Девушка в брюках встала и просеменила мимо Партса в женскую комнату. Партс раздраженно вытер губы, одновременно следя за тем, как Объект что-то доказывает только что вошедшему в кафе мужчине. Шея мужчины была плотно закутана шарфом. Партс тут же узнал его. Радиожурналист Мяги. Мужчина присел за столик, слегка наклонился к остальным и зашептал. Девушка в брюках вернулась и, завидев гостя, поспешила к столику. Партсу удалось прочитать по губам несколько предложений, он разобрал слова “восстание Юрьевой ночи” [17] и тихонько записал их, демонстративно просматривая свои бумаги. На столике студентов наверняка установлен микрофон, но Партс не позволял себе ослабить внимание, пусть даже его слова понадобятся лишь в том случае, если техника даст сбой. На улице шел дождь, входящие в кафе отряхивали фуражки. Партс с сочувствием подумал о фотографе, который снимал всех входящих и выходящих из кафе и наверняка мечтал о горячем бульоне с мясными пирожками. Он провел рукой по воротнику и постарался взбодриться, развернул конфету, откусил половину и положил вторую половину на обертку. Коллега сидел на своем привычном месте. Может быть, он следил и не за Объектом Партса, а за кем-то еще. От мысли о бесконечных вечерах, которые ему предстоит провести в кафе “Москва”, сдавило виски. И хотя студенты были так молоды и так нетерпимы, что операция вряд ли продлится долго, Партс все же решил ускорить ее конец. Они должны совершить ошибку. Рано или поздно они осмелеют и потеряют бдительность, в этом Партс был абсолютно уверен. После чего их будет очень легко взять с поличным, и он, специалист, вернется к нормальному рабочему распорядку и совсем уже скоро купит специальной, самой белой бумаги для последнего варианта рукописи. Книга должна быть закончена как можно скорее.
В общежитии Объекта наверняка найдется кто-нибудь, кто готов сообщать обо всех приходящих на имя Объекта телеграммах, письмах и их содержании. Комитет госбезопасности еще не дал разрешения на поиск контактного лица, но Партс придумает неопровержимые обоснования, Контора никогда не отвергала хороших осведомителей. Надо еще придумать, почему именно он должен провести вербовку. С другой стороны, даже если Контора решит направить для поиска осведомителей кого-то еще, Партс мог бы рискнуть сойтись с ним сам, объяснив, что об этих встречах не следует рассказывать остальным. Вряд ли завербованный поставит под сомнение полномочия Партса. И хотя он в свое время потерпел неудачу с Мюллером, такого рода задания обычно бывали легкими и недорогими, при благоприятном раскладе вербовка агента стоила всего нескольких рублей или какой-то незначительной услуги. Некоторые требовали кое-чего посерьезнее, и это вполне понятно: поездки, гарантированные места учебы для детей, повышение по службе. К таким Партс испытывал даже некоторое уважение. Кто ж не хочет работать гидом в “Интуристе”? Кто не хочет поблажек на экзаменах для детей, особенно для тех, чьи головы не отягощены особыми знаниями? Кто не хочет быстрого продвижения в очереди на квартиру или машину? Или безопасного места службы для уходящего в армию сына? Или хотя бы книг, которых нет даже под прилавком? Но те, кто действует бескорыстно, кто доносит на своих соседей или сослуживцев, не требуя никакой платы, — для чего они это делают и почему? С другой стороны, западное движение за мир поставляло все больше новых полезных агентов, хотя у них там нет таких проблем, как у нас. Их инициативность была ошеломляющей, а ведь им совсем ничего не платили. Почему? Вербовка на идейно-политической основе была самой дешевой, однако Партс с трудом понимал психологию этих людей и больше доверял вербовке на основе компрометирующих сведений. Конечно, есть еще и такие, кто просто любит копаться в чужом грязном белье, или те, кем движет зависть. Последних Партс считал самыми ненадежными. Стукачей, которые не осознают открывшихся перед ними возможностей, он отказывался понимать. Или эти люди в душе своей уже достигли коммунизма, поэтому им не нужны ни деньги, ни материальные блага? Вырождение. В этом вся суть. Вслух об этом нельзя говорить, но теоретикам коммунизма стоило бы признать очевидный факт биологического вырождения некоторых наций, и это никак не связано с разложением классового общества и проистекающими из этого конфликтами.
Сам Объект был, к сожалению, из тех, кого завербовать крайне сложно. Юнец уже пользовался вниманием, девушки смотрели на него с восторгом, никто, казалось, не смел его перебивать. Ему не нужно было становиться осведомителем, чтобы почувствовать себя нужным, у него было хорошее место учебы, модные шмотки, и он был так молод, что привилегии в житейской сфере — очередь на квартиру или перспективы для детей — его пока не заботили. Его родители, очевидно, имели деньги или знали, как их раздобыть. К тому же Объект явно хотел поиграть в героя, а такие игры непременно создают много проблем. Самая легкая жертва для вербовки — это тихий и неприметный участник группы: девушка, которую никогда не приглашают на танец, или юноша, о котором вечно забывают, женщина, которая всегда заказывает то же, что и остальные, мужчина, которого называют “этот”, потому что никто не помнит, как его зовут. Или девушка, чей подспудный страх ждет лишь небольшого толчка. Партс уже заметил в числе вьющихся вокруг Объекта бабочек несколько потенциальных осведомителей.1965 Таллин Эстонская ССР, Советский Союз
Эвелин выкладывала на противень печенье, творог и варенье и с трудом сдерживала слезы. Рейн замучил расспросами, почему она не хочет знакомить его с родителями, а Эвелин не осмеливалась рассказать ему правду. Будь она одна, обязательно бы расплакалась, но в кухне и без того было полно раздраженных криков: студенты-технари вновь совершили ночной пьяный налет на девичьи продуктовые шкафчики, выломали замки, и теперь дорогие колбасы и не менее дорогие консервированные салаты пропали в жадных мальчишеских ртах. На полке Эвелин остались только банки с вареньем — ими и печеньем ей придется питаться до следующей стипендии. Но голод мало беспокоил ее сейчас, ее беспокоил Рейн. Лора пробежала мимо, размахивая полами халатика, и добавила в стакан для умывания молока. У этих девушек не было таких проблем, как у Эвелин, они с легкостью шли со своими женихами на угловые диваны в комнатах отдыха и задние ряды в кинотеатрах. Эвелин, похоже, была единственная, кто пытался сосредоточиться на событиях на экране, хотя Рейн все время просовывал руку под подол к подвязкам чулок, но она отводила его руку в сторону. Вскоре Рейну надоест это занятие, и он уйдет посреди сеанса, заставив всех вокруг подняться, и на Эвелин будут смотреть, знакомые будут толкать друг друга в бок, жадные глаза устремятся на Рейна, и, выбравшись наконец из кинотеатра, Рейн навсегда выкинет Эвелин из своей жизни. Спрятанный в рукаве носовой платок пульсировал в запястье, девушки продолжали шуметь, тапочки шуршали по линолеуму, каждая сорочка, проглядывающая из-под халата, напоминала Эвелин о том, что она должна позволить Рейну раздеть себя, должна позволить. Еще недавно все было хорошо, она вместе со всеми радовалась новому общежитию, о клопах можно было забыть, а Рейн был таким милым. Но после нескольких встреч ему уже было недостаточно просто держать ее за руку, а потом появились и новые требования, жених непременно хотел встретиться с ее родителями. Эвелин не соглашалась: что будет, когда он увидит все эти вилы, мотыги и амбары, колхозную жизнь и бедность? Отец заставит Рейна выпить с ним, опьянеет, и тогда может случиться что угодно. Рейн был городским парнем, из хорошей и начитанной семьи, его мать никогда не выходит из дому без шляпки. Эвелин поставила торт из печенья в шкаф, чтобы он пропитался, а сама ушла в комнату чинить чулки и думать о своей судьбе, но слезы застилали глаза, капали на крючок для петель, и, когда девушка с белыми бедрами зашла в комнату, Эвелин резко вскочила и убежала. Меньше всего сейчас она хотела бы видеть эти белые бедра. Даже в собственной комнате ей нет покоя. У выхода из общежития она остановилась. Пожалуй, прогулка в это время — не самая лучшая идея: район Мустамяэ был мрачным и неосвещенным, а выходить на проспект ей не хотелось. Высокие заборы соседних зданий хранили тайну лежащей за ними темноты, днем они скрывали от глаз работающих во дворе заключенных.
В коридоре Эвелин натолкнулась на парней, которые несли магнитофон Лоры. Лора кричала им вслед, чтобы они записали для девчонок современную музыку. Беззаботно, ах как беззаботно кричала она: “Музыку для танцев!”, и приподняла ногу так, что под платьем мелькнуло голое бедро. Одна из бобин выпала из рук какого-то парня и запрыгала по коридору, Алан бросился за ней следом, туда, где светилось бедро Лоры, и одновременно быстро посмотрел на Эвелин. Алан, который когда-то пригласил Эвелин на студенческую вечеринку, Алан, чья рука вспотела во время танца и оставила мокрый след на спине ее платья. Но музыка была хорошая, электрогитара, Алан рассказал, что собирается сам создать группу. Может, с Аланом ей было бы легче, чем с Рейном, может, у него не было бы таких требований? Ведь не могут же все парни быть такими, как Рейн? Эвелин резко отвернулась и ушла в свою комнату, где девушка с белыми бедрами начесывала волосы с помощью расчески и лака для мебели.
Рейн уже наверняка был в Москве. Он сказал, что едет туда, сразу после их разговора. Точнее, после ссоры. Если это была ссора. Наверное, все же была. Если Эвелин свозит Рейна домой, возможно, он возьмет ее с собой в Москву. А может, она просто снимет юбку? Нет, пожалуй, все же отвезет Рейна домой. Пусть он убедится, что у нее серьезные намерения и она не дразнит мужчин ради забавы, как сказал Рейн. Или нет, может, все-таки юбка? Эвелин снова вспомнила девушку, уходившую в слезах из общежития, и как все качали головами. Ей пришлось прервать учебу. Никто этого не забудет. Все знали, по какой причине девушки прерывают учебу. Нет, она не снимет юбку. Рейн рассмеялся, когда Эвелин сказала, что не верит, что все это делают. Нет, не все. Девушка с белыми бедрами — возможно. Студентка искусствоведения — наверняка. И Лора, которая всегда выставляет себя напоказ. Лора училась на педагогическом. Там все такие. А что, если бы Эвелин была такой же блестящей собеседницей, как девушки из кафе “Москва”? Может, тогда Рейн не думал бы так много о том, что у нее под юбкой? Кто знает. Наступающее лето беспокоило Эвелин: Рейн собирался провести его в городе, сначала на практике, а потом на пляже, загорая вместе с девушками из кафе и лакомясь копченым угрем. Эвелин же сразу после практики поедет в деревню, да и на выходные будет уезжать домой. Ее ждут капустные листья, ДДТ и вилы для сена, а Рейн в это время будет веселиться. У Рейна будет целых два месяца, чтобы найти себе юбку, которая без труда согласится со всеми требованиями.
Если Эвелин не найдет решения, то потеряет Рейна, и это будет конец всему. Она знала, что произойдет после этого. Она вернется к той жизни, которой жила до Рейна и в которой с ним все поменялось. После того как она начала встречаться с Рейном, девушки стали относится к ней совсем иначе, приглашать на вечеринки, занимать для нее место в кафе, подсаживаться к ней на лекциях. На танцах никто больше не смотрел с презрением на ее платье, всегда одно и то же.1965 Таллин Эстонская ССР, Советский Союз
Жена втирала крем “Орто” в трещины на локтях медленными круговыми движениями, она явно ждала мужа. Товарищ Партс опустил пакеты с продуктами на пол в кухне и стал делать себе бутерброд с килькой, не обращая внимания на жену, пока та не спросила, выдавливая новую порцию крема на ладонь, почему Партса не бывает дома по вечерам. Вопрос не предвещал ничего хорошего. Некоторое время назад Партсу удалось успокоить жену на несколько месяцев договором с издательством, тортом “Наполеон” и шампанским, тремя бутылками “Белого аиста” и проведением в дом газа. Жена сочла это знаком одобрения свыше. Но вскоре приступы снова возобновились. Ради сохранения спокойной рабочей обстановки Партс не стал уходить от ответа, а объяснил, что получил новое задание, которое требует работы по вечерам.
— Это связано с книгой?
— Не совсем. Ну, в какой-то степени, — ответил Партс.
— В какой-то степени?
Жена сразу решила, что новое задание — это понижение по службе, бровь ее насмешливо взметнулась. Партс тут же добавил, что надо разнообразить свою деятельность, чтобы лучше писалось, невозможно все время сидеть за столом, ему нужен свежий воздух, прогулки. Жена фыркнула, а угол верхней губы пополз вверх. Зубы показались наружу, на них были следы помады. Презрение парализовало Партса. Щелкнуло и включилось радио, вылетающий из него крик раскачивал занавески и волосы жены, она наклонилась вперед и прошептала:
— Они прочитали твою рукопись? Неужто они не поняли, какая она замечательная? А может, они поняли, что ты вообще не способен написать книгу? А как же все то, что ты обещал? Что ты позаботишься, чтобы с нами ничего не случилось?
Жена выпрямилась, посмотрела на зажатый в руке металлический тюбик и изо всех сил сжала его. Крем полез из всех щелей, закапал на стол. Партс смотрел на блестящие пятна и надеялся, что военная промышленность увеличит объем производства, чтобы глицерин шел только на военные нужды, а не на косметику и непонятные игры его жены. Сморщив лоб, жена вернулась к массажу кожи на локтях, крем продолжал капать на стол. Партс схватил тюбик и швырнул в мусорное ведро. Рука жены замерла, дыхание остановилось. Партс вышел из кухни. Он слышал, как жена там взялась за фарфор. Вскоре от сервиза, подаренного мамой, не останется ни одной целой чашки. Этот срыв будет стоить ему потери последней памяти о матери. Ошибка, непростительная ошибка. Возможно, это возмутило бы его гораздо сильнее, если бы он сам не сознавал, что в словах жены есть доля истины, и его бурная реакция тому доказательство. Он выдал себя самым позорным образом. Такое не должно повториться. Надо было сразу переключить внимание жены на что-то другое, сказать, что она совсем не занимается домашними делами и это отрицательно сказывается на его работе, запах пригорелого молока мешает ему сосредоточиться, когда он возвращается домой. Наверно, соседи варят детям кашу, и этот запах настоящей семейной жизни режет его по живому, когда он открывает дверь своей квартиры, где его встречает ледяной спертый воздух. Партс подавил бушевавшую в нем ярость, подкрепив силы глотком жидкого гематогена. Да, на кухне его самообладание дало течь. Слова жены прожигали насквозь:
— А что, если это знак? Что, если Конторе не нужна твоя книга? Что, если мы будем следующими? Что, если твое понижение — это лишь первый шаг на пути вниз?От проносящегося мимо поезда дребезжали окна, Партс ждал, пока состав проедет, прежде чем снова взялся за работу. Он бы с удовольствием переехал в какой-нибудь другой район, но особого выбора не было, к тому же дом целиком принадлежал им. Это было роскошью по сравнению с положенными девятью метрами на человека. Проживанием в отдельном доме можно было даже похвастаться и поймать завистливые взгляды. В свое время дело решилось при помощи Конторы, коньяка и трюфелей. Подруга жены выдала справку, что она ждет двойню, а Партс нашел далеких престарелых родственников, которые захотели переехать к ним. Потом никто не поинтересовался ни двойней, ни родственниками. Тогда он думал, что привыкнет к поездам, но ошибся.
Жена напрасно полагала, что рукопись никто не читал, Контора ознакомилась с текстом и согласились, что направление выбрано правильно. Однако Партс знал, что других коллег, работающих над аналогичными темами, не привлекали к операциям вроде слежки в кафе. Они сидели в отделах Конторы и читальных залах библиотек, работали в редакциях газет или числились писателями, получали награды и ездили в Москву. Все они издавали книги по данной теме. Они делали то же, что и он, но у них условия работы были иными. Товарищ Барков служил начальником следственного отдела Комитета госбезопасности Эстонской ССР и заканчивал работу над диссертацией, посвященной переходу буржуазных националистов Эстонии на сторону фашистов. Ему наверняка помогала жена, которая вела архив, приводила в порядок бумаги, переписывала рукопись набело и заботилась о том, чтобы Барков мог сконцентрироваться на самом важном. Или это делает секретарь. Или даже несколько секретарей. То же относилось и к Эрвину Мартинсону, который писал очень много. На столе Партса лежала стопка листов, покрытых исправлениями, восклицательные знаки настойчиво бросались в глаза, требуя немедленной доработки. В Конторе было огромное количество машинисток, но для рукописи Партса их не хватало. Прежние сомнения вновь вернулись: возможно, Контора посчитала, что его прошлое может стать препятствием для публичного признания, и через пару лет он будет не пожинать писательские лавры, а объезжать сельхозрайоны, помечая запретные для иностранцев маршруты или гоняясь за осквернителями туалетов, или, еще того хуже, окажется смотрителем общественной уборной в какой-нибудь забытой богом дыре и будет подслушивать сортирные разговоры. И “Отпиму” у него заберут.
А может быть, дело в прошлом жены или ее теперешнем состоянии? Ее потребности в лекарствах требовали все большей изворотливости. Ответственность за заполнение домашней аптечки ему пришлось взять на себя, жена не смогла бы придерживаться правильной тактики. Если бы они покупали эти лекарства всегда в одной и той же аптеке, то их количество давно бы уже вызвало подозрения, а Партсу этого совсем не хотелось. Люди стали бы шептаться, и шепот непременно дошел бы до ушей Конторы. В Конторе же именно такие сведения и собирали: купленные по рецепту и без рецепта лекарства, походы к врачам, покупки спиртного — все это могло послужить свидетельством неблагонадежности объекта или порочащих его слабостей, которые впоследствии пригодятся, чтобы обеспечить его лояльность и готовность действовать по указке Конторы.
Он никогда всерьез не думал о том, чтобы отправить жену в клинику Зеевальда, но именно сейчас, возможно, наступил тот самый момент, когда этот вариант стоило бы рассмотреть как один из наиболее приемлемых. Проблемы, связанные с женой, были вполне вероятной причиной сложившейся ситуации, если даже не самой очевидной. Развод был бы плохим вариантом, так как бросить больную жену считалось неприличным и аморальным поступком, зато если отправить жену на лечение в клинику, то это не только позволит Партсу вести нормальную жизнь, но даже вызовет к нему сочувствие. Он вспомнил историю одной русской женщины с фабрики “Норма”, которая перевезла свою престарелую свекровь из России в Таллин. Неожиданно свекровь перестала говорить по-русски и стала общаться только по-французски. Вся семья стояла на ушах, свекровь заперли в спальне. Возможно, никто так бы и не узнал об этом, но старушке удалось сбежать из-под замка. Партсу эта история казалась забавной еще и потому, что муж этой женщины занимал видную должность в партии и преподавал в университете научный коммунизма, как вдруг оказалось, что у него дома живет говорящая по-французски мать, которая скучает по своей подруге графине Мари и говорит, что невестка похожа на императрицу, — так, во всяком случае, они решили, поскольку никто в семье не говорил по-французски. Свекровь отправили в психушку на Пальдиски, 52. Теперь эта история уже не казалась Партсу смешной, он каждый день наблюдал признаки пошатнувшегося рассудка в собственном доме. У каждого есть своя точка перелома, и у него в том числе: если он не сойдет с ума теперь, то этому поспособствует время, которое вернет его рассудок в те дни и те часы, куда он возвращаться не хочет. К ностальгии по графиням и императрицам, к воспоминаниям, в которых Лиля Брик разъезжает по Москве на одном из первых в стране автомобилей. Или же в Сибирь, к газогенераторам, к урчащим двигателям, сжирающим полено за поленом, к воспоминаниям, где дрова трещат, жир горит, и кожа… и этот запах… Повредившийся разум может вернуть его к воспоминаниям, в которых огонь обнажает черепа и бедренные кости, к картинам, которые нужно забыть и которые были забыты и не вспомнятся до тех пор, пока его износившаяся душа не вернет их обратно и не сделает явью, не вернет к жизни огонь, дым, треск, горы дров, и тот запах, и выстрелы, и душераздирающие крики, и прошлое снова станет настоящим, и он закричит прилюдно в полный голос в самой длинной очереди на распродаже и провалится во тьму, куда ушли все те, от кого он избавился, как ему казалось, навсегда, расчищая себе дорогу, в ту же самую тьму. Такого не должно случиться ни с ним, ни с его женой.Временами Партс был уверен, что прорыв где-то рядом, и не мог избавиться от ощущения, что жена и есть Сердце, о котором упоминает в своей записной книжке Роланд. В такие моменты он мечтал о том дне, когда представит жене доказательства ее антисоветской деятельности в годы его сибирской ссылки. Он воображал, как это произойдет, и заранее наслаждался. Он будет спокоен и вежлив, встанет под оранжевой лампой в гостиной, прямо и торжественно, и низким невозмутимым голосом перечислит ей все факты до мельчайших подробностей. Взгляд жены дрогнет и потрескается как яичная скорлупа при первом же неопровержимом доказательстве, а под конец она будет лежать посреди ковра, словно мертворожденный теленок, которого Партс собственноручно вытянул на свет, крепко держа за веревку.
В ожидании этого момента Партс даже отправился в деревню Таара, в бывший дом Армов. Пейзаж показался ему одновременно знакомым и чужим. Местонахождение колхозного свинарника можно было угадать еще в автобусе. Дорогу, ведущую к усадьбе, по-прежнему украшали ясени. В воздухе стоял запах дыма — вблизи яблонь жгли прошлогоднюю траву, чуть дальше виднелись кучи листьев, сквозь ветви деревьев можно было заметить парящего в небе ястреба-стервятника. Кур выпустили на свободу, и они оживленно копошились в земле, часть из них грелась на весеннем солнце. Партс отметил про себя отсутствие петуха во дворе дома Армов. На бесполезные рты денег не было. Наверно, последний анекдот уже дошел до ушей Конторы: новая система даже у кур забрала петухов.
В дом переехала семья дальних родственников Леониды, которые с опаской отнеслись к гостю. За столом все немного расслабились, и Партс между делом стал расспрашивать о прошлом, рассказал, что его жена приезжала сюда время от времени помогать. Он говорил так, как будто точно это знал. Имя жены ни о чем не говорило жителям дома, но Партс догадался спросить о фотографиях с похорон матери, ведь они наверняка остались в бумагах Леониды. Как он и предполагал, Роланда на фотографиях не было. Похороны, свадьбы и дни рождения были всегда под особым наблюдением и стали роковыми для многих лесных братьев — не все готовы были пропустить важные семейные события. Роланд оказался исключением. Мысль о том, что на похоронах мамы не было никого из ее детей, заставило глаза Партса увлажниться. Теперь этого уже не исправишь. Он не хотел, чтобы другие заметили его волнение, и поднялся, чтобы уйти. По дороге он заглянул на винокурню. Там тоже жили новые люди. Ему посоветовали сходить на конюшню и встретиться с главным агрономом колхоза. Партс снова сказал, что случайно проезжал мимо и решил найти кого-нибудь, кто был с матерью в последние годы ее жизни, хотел бы поговорить, расспросить о маме. Агроном хорошо помнил прежних обитателей винокурни и сообщил, что одна из тех женщин живет сейчас в центре, в новом кирпичном доме у своей дочери, которая работает в колхозе бухгалтером. Когда Партс постучался в их дом, женщина поначалу встретила его с подозрением. Только после того, как он упомянул о сибирской ссылке, она вспомнила Розали, сказала, что так и не смогла понять ее жениха, который уехал в Швецию и ни разу не вспомнил о своей престарелой матери, даже ни одной посылки не прислал, и добавила, что такие вот теперь времена. Кроме этой истории, придуманной мамой и Леонидой, то ли чтобы скрыть место пребывания Роланда, то ли потому, что она звучала вполне правдоподобно, ничего другого узнать не удалось.
Партс съездил и в Валгу, нашел старых соседей и подстроил случайную встречу с ними на рынке. За кружкой пива он перевел разговор на былое и подосадовал, что не успел повидать даже своего не так давно скончавшегося кузена, который часто проведывал жену, пока сам он находился в Сибири. Сосед попытался вспомнить гостей жены, но, поморщив лоб, сказал с сожалением, что не помнит никого, ни одного гостя. Она всегда держалась особняком. Партс поверил соседу, придавив свое разочарование словно таракана. Времени и так было потрачено слишком много, а результатов никаких. Пора было отбросить второстепенные варианты и профессионально подойти к основной задаче.
Однако наблюдение за женой он продолжил, раз за разом возвращаясь к анализу ее поведения, когда он возвратился из Сибири. Он перебирал в голове подробности их совместной жизни в Валге, пружины дивана, мышеловки в каждом углу, крики соседских младенцев, звуки постельных игр, доносившиеся из-за стены и мешавшие спать, движения, которыми жена разжигала печь или мыла молочные бутылки перед тем, как сдать их в магазин. Он помнил первоначальную владелицу дома, супругу держателя автобусного парка, ее испуганное выражение лица, старомодные платья и то, как жена все время извинялась, столкнувшись с ней на кухне, говорила, что понимает, что они здесь чужие, к тому же единственные эстонцы в доме. Но он не помнил ничего, что могло бы вызвать хоть какие-то подозрения. Жена не проявляла интереса к почте, ее никогда не звали к телефону, она ни с кем не общалась, у нее никогда не бывало гостей, она просто сидела дома.
О годах немецкой оккупации они не говорили, за исключением небольшого эпизода, когда Партс узнал о судьбе Гельмута Герца. Однажды вечером, спустя несколько месяцев после его возвращения в Эстонию, он обнаружил дома жену перед бутылкой вина и горящей свечой. Когда он спросил, по какому поводу праздник, она ответила, что сегодня день рождения ее немецкого любовника. Тогда Партс спросил, что с ним стало, и жена сказала, что его расстреляли на берегу как собаку. Она говорила об этом как о хорошо известном факте. Словно считала, что Партс прекрасно осведомлен о ее приключениях, и он повел себя так, будто действительно знал обо всем, даже о том, что, когда они убегали, жена стреляла в преследовавших их немцев, но стреляла плохо, она вообще стреляла очень плохо и поэтому не смогла спасти своего любовника.
Жена засмеялась, опустошила стакан и покачала головой. Она хотела убить всех, в кого целилась. Партс вспомнил жест немца, когда он коснулся уха его жены. Воспоминание не вызвало в нем никаких чувств, только печаль, и Партс поднялся и ушел. Он гулял всю ночь и вернулся только под утро. Жена, проснувшись, казалось, не помнила ничего из вчерашнего разговора. О немце они больше никогда не вспоминали. Позднее Партс, конечно, задумывался, не была ли она тогда чересчур спокойной, учитывая тот факт, что потеряла любовника и шанс на новую жизнь, но он решил, что время делает свое дело, ведь и он тоже не плакал, потеряв Данзига. Несмотря ни на что, он смог идти вперед. А Роланд? Остудило ли время и его воспоминания? Партс хорошо помнил, как двадцать второго сентября 1944 года флаг с серпом и молотом взвился на флагштоке Длинного Германа, спущенный же флаг был не гитлеровским, а эстонским. Пять дней независимости. Пять дней свободы. Партс сам видел этот флаг, хотя в рукописи он об этом, конечно, не напишет, ведь это Советский Союз освободил Эстонию от гитлеровцев. А как же Роланд? Видел ли он это, и если да, то как сумел с этим примириться?
Шаги наверху вновь прервали раздумья Партса. Возможно, Контора еще не догадывается, что он готов отправить жену в такое место, где она никому не будет мешать. Но нет. Контора знает о его ситуации. Подслушивающие устройства наверняка использовались и в его доме, скорее всего, используются и сейчас. Каждая стычка, каждое оскорбление записаны и учтены, в том числе и тот случай, когда жена неожиданно запустила в него банкой со сметаной. Партс прибрал в комнате. Закрыл глаза. А что, если жену наняли следить за ним?
Он встал и пошел в ванную, подкрепился еще одним глотком гематогена, умыл лицо, промокнул его полотенцем и снял с кожи налипшие нитки. Вид у него был усталый, наметилась лысина. Партс взял у жены тушь для ресниц, поплевал на щеточку, как делала она, и провел по вискам. Перхоть в раковине смыл водой и, посмотрев в зеркало, оценил результат. Краска освежила общий облик. Оставленный женой шрам на щеке быстро заживал. Не стоит огорчаться, если затеянное им расследование не даст результатов. Отрицательный ответ — это тоже ответ. Иногда подозрения попросту оказываются необоснованными, и, возможно, он напрасно запирает дверь кабинета, перед тем как ложиться спать. Возвращаясь обратно к столу, он остановился, разглядывая мышеловку, установленную женой в углу коридора. У жены нет никого, о ком ей стоило бы беспокоиться, так почему же она постоянно проверяет мышеловки, она, которая ленится выполнять даже обычные домашние обязанности?1965 Таллин Эстонская ССР, Советский Союз
Дым над столом был таким густым, что Эвелин с трудом разглядела лица людей, с которыми ее знакомили. Мужчина с густой бородой, три девушки в брюках, у одной из них длинная челка, все имена она позабыла сразу же после того, как их назвали, и прежде чем она успела сесть, разговор продолжился:
— У литовцев в Кремле был свой человек, который знал, как надо себя вести, умел ловко лавировать, нам тоже надо брать пример с Литвы, а самое главное, что в Литве совсем нет проблем с русскими, во всяком случае таких, как у нас, уж не знаю, как им удалось этого избежать, что они такого сделали, но в Литву едут поляки, только поляки, подумайте!
— Мы недостаточно их давили, вот в чем причина. Ни один русский не осмеливается сейчас поехать в Литву.
— И потом, все эти новые заводы и фабрики… туда берут только литовцев, а русских нет. Почему же у нас не так?
— Если мы будет действовать, как литовцы, то, возможно, ситуация изменится. Молодежь должна вступать в партию, как в Литве.
— Как в Литве.
— Только так мы можем добиться привилегий для своей страны, только так.
— Только так, — вздохнул кто-то за столом. — Только так.
Эвелин сидела тихо как мышь, ей нечего было сказать. Рука Рейна отпустила ее пальцы и летала над столом в такт воодушевленным речам. Несколько часов назад на площади Победы он приложил губы к их сложенным вместе рукам и подул между ладоней, сказав, что здесь лежит их общее сердце, которое всегда будет горячим и любящим. Хорошее настроение Рейна распушило волосы Эвелин, словно летний прибрежный ветер, и она пригладила непослушные кудри руками. Им было хорошо вместе. Рейн позвал Эвелин в кафе “Москва”, чтобы встретиться там с его друзьями. Эвелин смотрела на стеклянную дверь кафе, которое находилось всего в нескольких метрах от нее, и мечтала, как совсем скоро будет сидеть там вместе с Рейном. А все потому, что Эвелин сказала, что написала письмо маме, в котором пообещала, что Рейн приедет к ним в гости летом после сессии. Рейн замер на месте, и в этот момент Эвелин поняла, что все сделала правильно. Теперь ничто не могло помешать им. С этого момента ей больше не надо доказывать Рейну свою любовь, убеждать его, что относится к нему серьезно, не дразнит и не играет его чувствами, что она всегда будет принадлежать ему, Рейну. Рейн будет делиться с ней всем, о чем говорит с друзьями, расскажет о книгах, хранящихся в виде микрофильмов, которые мужчина в очках распечатывает в темной подвальной комнате серого дома. Она приведет домашние дела в порядок к приезду Рейна, хотя бы на тот срок, пока он пробудет там, она обязательно что-нибудь придумает. Во время сенокоса отец, глядишь, не будет пить, бабушку она отправит погостить к родственникам, мама поможет все подготовить, она поймет, что молодым не стоит быть в разлуке все лето. Теперь же Эвелин сидела в кафе “Москва” в своем лучшем свитере и не знала, что сказать, хотя изо всех сил старалась придумать хоть что-нибудь. За столом говорили о непонятных вещах, к тому же ей не нравилось, что все перешептываются и таинственно понижают голос. Давящее чувство сжало горло, и Эвелин потянула Рейна за рукав. Ей хотелось домой.
— Но почему, вечер ведь только начался!
— Я плохо себя чувствую.
— Надеюсь, не из-за коньяка.
— Нет, просто мне нехорошо, прости.
Она направилась в сопровождении Рейна к выходу и краем глаза посмотрела на мужчину, о котором говорили за столом. КГБ. Ну конечно. Господи, все эти люди безумны, их речи безумны. А Рейн полный идиот. Господи, она должна была догадаться, все эти предосторожности, эта таинственность. Проходя мимо стола, за которым сидел, уткнувшись в бумаги, кагэбэшник, Эвелин коснулась рукой скатерти и уронила на пол фантик от трюфеля, но мужчина даже не взглянул на нее. Она разглядела перхоть на его плечах, четкий пробор и розовую кожу на голове, блестящий нос, широкие поры и небольшой шрам. Она отвернулась и крепко сжала руку Рейна, рука была сухой. Рейн вел себя вполне беззаботно, он привык к тому, что КГБ следит за их встречами. Идиоты. Полные идиоты. Эвелин представила искаженное от ужаса лицо матери, если бы та только узнала, в каких кругах Эвелин проводит время.Товарищ Партс почувствовал, что сон вновь давит на глаза, и решил, пока Объект провожает свою бледную невесту, сходить в мужскую комнату и сбрызнуть лицо водой. Он как раз успеет, Объект будет прощаться какое-то время. Хотя девушка раньше не появлялась в кафе, Объект вел себя так, что сразу стало понятно: это не просто приятельница, а та, кого он готов представить своим родителям и вести к алтарю, все остальные не шли с ней ни в какое сравнение. Девушка была приятно одета, специально для вечера, но относилась к вещам с бережливостью старшей дочери в бедной семье, которая знает, что не получит нового платья раньше следующего года. Она была вся словно натянутая струна, робкая и хрупкая, вероятно, с большими надеждами. Партс был уверен, что Объект не пойдет провожать ее до дому, хотя должен и знает, что любая невеста на ее месте обиделась бы в такой ситуации, но девушка была из тех, которые всегда готовы прощать, а Объект, со своей стороны, из тех, кто знает, что ее способность прощать неиссякаема. От таких пар не стоит ждать сюрпризов, они всегда ведут себя одинаково. Когда Объект впутает девушку в свои глупости — исключительно вопрос времени.
В тот момент, когда Партс открывал дверь мужского туалета, задержав дыхание, чтобы как можно дольше не вдыхать зловония, до его ушей долетело имя. Двое юнцов из компании Объекта стояли в скользком, залитом водой из подтекающих труб углу и оживленно спорили. И хотя внутри у Партса бушевала буря, он подошел к раковине как ни в чем не бывало, открыл кран, подождал, пока побежит вода, намочил руки, похлопал ими по лицу и зашел в кабинку. Он закрыл дверь и прижал ее плечом. Замок был сломан. Юнцы ушли. Каалинпяя. Кочан капусты. Нет, он не ошибся. Один из них ясно сказал, что новый сборник Каалинпяя уже вывезен на Запад и что стихи вызвали там огромный интерес.
Партс смотрел на надписи на стене кабинки, на череду пляшущих букв, непристойности и контрреволюционные призывы, он узнавал почерки и чувствовал сострадание к коллегам, гоняющимся за туалетомарателями. Он никогда не был одним из них и никогда не станет, сомнения относительно будущего вмиг растаяли — Партс почувствовал, что он на правильном пути. Он вышел из кабинки, вновь освежил лицо и бросил рубль дежурной, запомнив ее лицо, но еще не решив, годится ли она для сотрудничества. Возможно. Неужели Каалинпяя так глуп, что продолжает писать под тем же именем? Или это один из последователей прежнего Каалинпяя? Если и так, то он наверняка знает что-то о своем кумире. Партс это выяснит. Он вернулся в зал, ему хотелось улыбаться, каждый шаг, казалось, придавал ему уверенности и энергии, с которой он будет отныне продолжать работу в кафе. Надо просто верить в то, что рано или поздно все всегда сходится в одной точке, даже без лишних усилий.1965 Таллин Эстонская ССР, Советский Союз
Клозетная дама оказалась неподкупной: старушка была верующей, по-настоящему верующей, иначе вряд ли она работала бы в общественном туалете. В общежитии же, наоборот, повезло. Встреча с новой осведомительницей была назначена в парке Глена, недалеко от общежития. Она пришла, прихрамывая, стала жаловаться на больную ногу. Партс едва слушал, спеша перейти к делу. Изображать натянутое дружелюбие не понадобилось: вахтерша общежития проявила недюжинное рвение и патриотизм — она не только принесла письма, но также тщательно скопировала приходившие на имя Объекта телеграммы. Партс поблагодарил от души, убрал все в портфель, обещая вернуть через неделю, и ушел, оставив осведомительницу с больной ногой в парке, где отдыхали на природе русские, развернув газетки, кроша вареными яйцами и хрустя свежим зеленым луком, готовились к экзаменам студенты, а влюбленные обнимались на развалинах замка. Контора никогда не предоставила бы ему копии полученных Объектом писем, в лучшем случае отдельные цитаты, отпечатанные на машинке. Другое дело, если бы в Конторе захотели, чтобы он вступил с кем-нибудь в переписку от имени Объекта, но в данной операции вряд ли ему предстоит такое задание. Писем было всего несколько, и Партс даже не надеялся, что в них встретится имя Каалинпяя, он не верил, что невеста знает так много, но двух-трех страниц вполне хватит для анализа почерка, может, и другая полезная информация найдется. Образцы почерка помогут выманить Каалинпяя из логова или сфабриковать компрометирующие письма.
Придя домой, он наткнулся в дверях на гору женской обуви. Туфли жены некрасиво вздувались в районе “косточки”, подобрать зимние сапоги было практически невозможно, летом она носила только босоножки. Каждый раз, массируя в коридоре больные ноги, жена спрашивала, когда же они наконец пойдут в спецмагазины Тоомпеа, в следующей жизни? И острила, что, несмотря на громкие слова мужа, она видит лишь признаки карьерного спада, очевидно, в их доме больше никогда не будет фарша без крысятины. Партс отбросил в угол зацепившуюся за тапку сандалию. Жена права. Ситуацию надо исправлять, пока не поздно. Если другого выхода не будет, он достанет соль висмута и подсыплет в письма. Лаборатория Конторы без труда обнаружит соль, а если он правильно помнит, то именно ее использует шпионская служба Америки.
На кухне Партс зажег плиту и подождал, пока закипит вода, стараясь не обращать внимания на стук, доносящийся с верхнего этажа. В телеграммах не было ничего интересного, невеста Объекта сообщала о своих перемещениях. Среди бумаг был также список всех визитеров Объекта с пометками осведомительницы о подозрительности его гостей, например странной манере одеваться. Пустышка. Ничего о Каалинпяя. Партс просмотрел обратные адреса на конвертах: Эвелин Каск, деревня Тоору. Почерк был округлым и аккуратным, перо касалось бумаги равномерно, без излишнего нажима, чернила нигде не размазались, буквы плотно прилегали друг к другу. Почерк примерной ученицы. Из обработанного паром конверта выпали наивные строчки признаний:Я старательно готовлюсь к экзаменам, а все очень ждут твоего приезда, даже соседская Лийса. Мама шлет тебе отдельную открытку с днем рождения, но я должна предупредить тебя о бабушке, она у нас немного странная. Вот сейчас она сидит напротив меня за столом и расспрашивает о тебе.
Открытка была с розами, Партс бросил ее на стол. В письме было ужасно много пространных и скучных описаний. Партс никак не мог поверить, что такая девушка, как невеста Объекта, будет изнурять своего жениха занудными сценами сельской жизни и деревенскими сплетнями. Без сомнения, это закодированное послание, но для расшифровки ему нужно куда больше писем. Что-то кроется за всем этим, но что? И какова роль Каалинпяя? Если он найдет Каалинпяя раньше Конторы и тот окажется тем самым поэтом, который упомянут в записной книжке, сможет ли он выжать из него информацию о Сердце?
Вода в кастрюле выкипела. Парст выключил свет и подошел к окну. Вьющийся хмель и стоящее перед домом мертвое дерево слились с неподвижной темнотой. Он вступил в опасную игру: вскрытие писем не входило в его компетенцию, ему не следует знать полной картины происходящего, он должен строго выполнять свое задание, не выходя за его рамки. Может, сейчас на него уже пишется рапорт, подклеиваются новые фотографии, добавляются сведения, его досье пухнет на глазах. Возможно, уже продумываются методы дальнейшей работы, ведется слежка, прослушивание. Он вспомнил о нитке, которую всегда оставлял среди бумаг и которая исчезла в его отсутствие. Может, он напрасно подозревал жену? Или ему это все просто кажется? Включив свет, Партс протянул руку к бутерброду с килькой, но вовремя остановился. Килька была из открытой вчера банки. В холодильнике стояла новая банка, а в хлебнице свежий, нетронутый хлеб. Никаких больше ошибок.
Партс вернулся к материалам, полученным от вахтерши, и попытался еще раз отыскать в них повторяющиеся слова, ключи к секретному коду. Разочарования избежать не удалось: похоже, глупости, которые написала эта идиотка, действительно не более чем глупости. В задумчивости Партс надкусил кильку и задержал во рту. Когда в нем уже закипала ярость отчаяния, он вдруг заметил розовую промокашку, покрытую черничными пятнами, в которую были завернуты высушенные цветы. На ней случайно осталось имя — Долорес Вайк. В какой-то момент он решил, что это сон, но он не спал. Он схватил в руки поздравительную открытку. Отправителем значилась Марта Каск. Партс услышал, как тяжело он дышит, слюна наполнила рот. Дочь Долорес Вайк звали Марта Вайк. Партс аккуратно положил перед собой промокашку, конверт, поздравительную открытку и стал последовательно соединять в голове предложения, очень медленно. Невеста Объекта поехала в деревню к родителям. В деревне она писала письмо и пользовалась промокашкой. До нее этой же промокашкой пользовался еще кто-то, либо сама Долорес Вайк, либо кто-то, кто писал о Долорес Вайк, но, скорее всего, она сама. Из письма Эвелин Каск следует, что госпожа Вайк живет в доме своей дочери Марты Каск, дочь которой является невестой Объекта. Неужели Контора нарочно подсунула ему это дело? Неужели это действительно так? Неужели Конторе известно, что он знаком и с Мартой, и с госпожой Вайк? Нет, все слишком запутано, чтобы быть правдой. Это абсолютно невозможно — откуда Конторе знать, что они знакомы? Но даже если Контора знает, какое это имеет значение? Но своя логика в этом была. После отъезда Лидии Бартельс в Германию оставшаяся в Эстонии госпожа Вайк устроилась на работу в ветеринарную лечебницу и участвовала в нелегальной деятельности, об этом Партс знал. В какой-то момент за ней наверняка была установлена слежка — вероятно, потому что она имела связи с Германией, нелегалами и эмигрантами. Но почему Контора подсовывает Партсу ее ближайшую родственницу? Или дело касается самого Партса? Может, на нем проверяют какую-то новую методику? Странно. Очень странно.
Партс хорошо помнил Марту Каск. Овдовевшая госпожа Вайк и ее дочь Марта помогали Лидии Бартельс проводить спиритические сеансы. Партс не раз сталкивался с ними на кухне, ожидая немцев, которые непременно хотели посещать эти сеансы. Марта кормила его и шофера, немцы строили Марте глазки, но Марта лишь покачивала длинными пшеничного цвета волосами и пресекала все попытки приблизиться к ней. Народу на сеансах было очень много, Бартельс стала доверенным лицом многих немецких офицеров.
Погрузившись в воспоминания, Партс даже не заметил доносившегося с верхнего этажа шума. Он пытался придумать контраргументы, найти причины, по которым данная связь была бы простой случайностью. Ему необходимо найти информацию о том, чем потом занимались госпожа Вайк и Марта, ответ может таиться именно там. Он попытался успокоить воображение, сейчас не время для фантазий, надо собраться с мыслями. Карл Андруссон. Опубликованные на страницах “Кодумаа” объявления принесли свои плоды, он получил сообщение от Карла. В письме, украшенном канадскими марками, он благодарил за то, что госпожа Вайк вылечила его ногу. Если бы не она, его карьере летчика пришел бы конец.
Партс выдвинул ящик с письмами и достал оттуда канадскую пачку. Карл всегда наклеивал на конверты много почтовых марок, зная, как ценятся западные марки в среде местных филателистов.
Товарищ Партс обмакнул перо в чернила.1965 Деревня Тоору Эстонская ССР, Советский Союз
Отец лежал на лужайке перед домом, изо рта на щеку стекала слюна. В кармане его брюк был пистолет, Эвелин знала об этом. Она оставила отца лежать на траве, а сама прошла в дом. Отец никогда не воспользуется оружием, никогда. Рикси, встретивший Эвелин на автобусной остановке, тут же проскочил в кухню, мать выбежала навстречу, за ней бабушка, из кухни веяло теплом, заходи, заходи скорее, на столе тут же появился ячменный кофе и свежие булочки, загремела кочерга, аромат манной запеканки победил все остальные в борьбе за право владеть носом Эвелин. Мать доставала запеканку из печи и одновременно интересовалась новостями. Эвелин перевела разговор на местные темы. Она не хотела, чтобы мать спрашивала о Рейне, и та стала с воодушевлением рассказывать о соседской Лийсе, которая получила письмо от своего сына из Австралии, хотя была уверена, что он давно умер, ведь, поди, двадцать лет от него не было ни слуху ни духу, — и вдруг письмо! Сын прислал вместе с письмом шифоновый платок и обещал прислать еще, он знал, что здесь их можно хорошо продать. Платок прислать можно без проблем, и Лийса так горда, с ума сошла от радости, повторяет уже которую неделю “мой сын жив”, как будто хочет убедить себя, что это правда, а не мечта. Мать все говорила и говорила, бабушка стучала щетками для чесания льна, а Эвелин делала вид, что слушает, время от времени кивая, но при этом думала только о Рейне и дергала кудряшки на шее. Волосы мамы, папы и бабушки были прямые, у отца вообще жесткие, как лошадиная грива, почему же над ней природа так подшутила? У девушки с белыми бедрами волосы были светлые и прямые, Рейну наверняка нравились именно такие.
После того вечера в “Москве” они стали видеться реже, Рейн назвал ее трусихой, посмеялся над тем, что она испугалась, а потом заверил, что повода для беспокойства нет, что все в порядке, хотя это было не так. Рейн больше не звал ее с собой ни на встречи, ни в кафе, ни в странный дом к мужчине в очках. Визит к родителям пришлось отложить на неопределенное время, Рейн был все время занят. Но для Эвелин это было облегчение. Когда осенью она вернулась обратно в город, возникшее тогда в “Москве” напряжение уже забылось, словно ничего и не было, Рейн соскучился по ней за лето и сразу же повел в кино и на танцы. От него пахло копченым угрем и вчерашней выпивкой. Эвелин, конечно, догадалась, в какой компании все это было съедено и выпито. Рейн опять заговорил о визите к родителям Эвелин, она не смогла отказать, и они решили, что под Рождество будет самое время. Эвелин опять придется затевать приготовления. Забытый было страх опять вернулся: как она сможет привести туда Рейна?
— Завтра будем мять лен, — сказала мать. — Лийса обещала прийти помочь. И помоги отцу, его надо привести в дом.
— Пусть он лежит там. Ему что, опять заплатили водкой? Надеюсь, теперь крыша в порядке?
— Эвелин, перестань.
Скоро придет время забивать скот на Рождество, а до этого будет еще много разной работы. В деревне не хватает мужских рук, отец на все будет соглашаться, получать плату водкой, пропадать ночи напролет в доме жены парторга, которой надо то одно починить, то другое, и всегда именно в те дни, когда муж в отъезде, и всякий раз отец будет возвращаться домой пьяным. Он заставит пить Рейна, и что потом? Заранее предсказуемый ход событий уже стоял перед глазами Эвелин: отец напьется, мать будет без конца говорить о телятах и льне, о том, какая Эвелин была в детстве и как любила своих овечек и бегала смотреть, как вспенивается вода в озере вокруг вымачиваемого льна. Эвелин будет посматривать на сидящую в углу и постукивающую щетками бабушку. Куда же деть бабушку на время приезда Рейна? На Рождество ее никуда не отправишь. Эвелин слышала, как отец разговаривал с матерью и оба пришли к выводу, что бабуле уже лучше никуда не ездить. На этот раз Эвелин была согласна с отцом. Она не хотела, чтобы бабушка снова приезжала к ней в Таллин, после того как познакомилась с Рейном, не хотела. А вот родители вполне могли бы приехать и встретиться с ним, может, после этого он перестал бы канючить насчет приезда сюда, но родители станут ссылаться на скот, на дом, на то, что их нельзя оставить без присмотра, что в деревне полно ворья. Хватит ли Рейну того, что приедет одна мать? Отец мог бы позаботиться о телятах и курах, пока она будет в Таллине. Надо поговорить с ней при первом удобном случае, но не сейчас — сейчас она не хотела, чтобы мать стала расспрашивать, как у них дела, как Рейн, чем он занимается. Разве можно ответить, не обманывая? Ну почему Рейн участвует во всем этом? Что, если кто-нибудь вдруг узнает? Рейна выгонят из университета, он попадет в армию и надолго отправится неизвестно куда. Понимает ли это сам Рейн? Как можно быть таким беспечным? Таким эгоистом? Что будет с их собственными простынями, с кактусами на подоконнике, с лакированным шкафом? А что, если Рейн делает что-то такое, за что можно попасть в тюрьму? Эвелин не в силах была даже представить себя ожидающей Рейна под толстыми стенами тюрьмы Патарей или бегающей по городу в поисках бутылки “Вана Таллин”, чтобы отправить ее куда-то, где служит Рейн.
Она вспомнила вернувшегося домой в цинковом гробу Яанне, который дважды завалил экзамен, не пошел пересдавать комиссии и попал в армию. Рейн сумасшедший, играет с огнем.
Эвелин сделала неправильный выбор, лучше б она заинтересовалась тем польским студентом, который сразу заявил, что хочет жену из Эстонии. Поляк усердно учился, он был совсем не такой, как Рейн, который даже площадь Победы отказывался называть площадью Победы, потому что не хотел пользоваться советским названием. А может, ей стоило еще на первом курсе пойти на танцы вместе с Меэлисом, который звал ее, но она отказалась, потому что уже тогда заглядывалась на парней со старших курсов, впрочем, как и все первокурсницы. Старшие казались более умными, не то что простак Меэлис, который всегда на вечеринках повторял, что просто хочет спать на чистых белых простынях, и больше ничего, так он всегда говорил. Меэлис вырос в Сибири. Чистых белых простыней ему было в жизни достаточно. Эвелин же хотела большего, и вот к чему привела ее эта ненасытность.
Мать закашлялась и схватилась за бок. Она уже выздоравливала, остался только кашель и свист при глубоком дыхании. Эвелин заявила в свое время, что будет приезжать по выходным и работать в хлеву, но мать не разрешила, сказала, что учеба важнее, что это самое важное, отец тоже так считал, главное, говорил он, это вырваться из колхоза, а как только они закончат чесать лен, мать свяжет Эвелин новую кофту, в которой можно будет ходить в университет даже зимой. Рукава по просьбе Эвелин будут длинным и широкими, хотя истинную причину этой просьбы Эвелин матери не раскрыла — в рукавах можно прятать шпаргалки. Летняя сессия прошла хорошо, даже устные экзамены, такие, как история КПСС и средства повышения производительности труда. Тогда Эвелин успела подготовить все восемьдесят вопросов, заранее выданных преподавателем, и написала шпаргалки себе и Рейну. Порой она уезжала готовиться в деревню, но потом возвращалась в город и ходила заниматься в парк Глена. Правда, время от времени там появлялись эксгибиционисты, а также городские парни в поисках компании и милующиеся влюбленные парочки. Она была не единственной, кого они раздражали, — за столиками кафе недалеко от пруда сидели и другие одинокие женщины, читали или просто загорали. Она познакомилась с одной из них. У женщины было слишком много продуктов для себя одной, и она отдала оставшиеся апельсины Эвелин. Она даже помогла ей и поспрашивала по Марксу. Так было удобнее готовиться, да и Эвелин было повеселей. Женщина посоветовала ей к тому же хорошую парикмахершу, которая умеет укладывать вьющиеся волосы. Проблема укладки непослушных волос была и ей знакома. Но потом ее присутствие стало раздражать, она слишком много расспрашивала, и Эвелин решила больше не ходить в парк, не пошла и в парикмахерскую, хотя видела, как Рейн смотрит на гладкие волосы девушки с белыми бедрами.
После летних экзаменов Эвелин погрузилась в химию и физику, чтобы смена факультета прошла как можно легче. Делопроизводство и машинопись были уже сданы, но в зачетку их не ставили. Впереди были экзамены по истории партии, анализу хозяйственной деятельности и по политэкономии социализма, но к зимней сессии она должна найти более подходящее место для подготовки, поиск такого места заботил уже сейчас. В библиотеке она все время засыпала, в общежитии было слишком шумно, а на улице зимой не почитаешь. Может, ей выбрать специальность поинтереснее? Например, автодорожное дело или землемерные работы? Все, что угодно, только не общественные науки, Марксом она была сыта по горло. В любом случае она обязательно что-нибудь придумает, а вот положение Рейна ее беспокоило, его не волновало отсутствие мест для подготовки к экзаменам. С вычислительной техникой и программированием он вполне справится, с Малголом проблем возникнуть не должно, да и выпускной экзамен состоит из задачи, которую надо решить на ЭВМ, но вот устные экзамены ему не сдать. С другой стороны, у родителей Рейна есть деньги, иначе вряд ли бы он сдал все предыдущие сессии. Он тратил все время на подготовку ноябрьской студенческой демонстрации и даже осторожно рассказал об этом Эвелин.1965 Таллин Эстонская ССР, Советский Союз
В письме Карлу Андруссону Партс передал приветы от госпожи Вайк, упомянув, что его жена “постоянно с ней общается”. Он также упомянул, что госпожа Вайк очень обрадовалась, узнав, что благодаря ее стараниям Карл стал летчиком. Ответ, несмотря на почтовую цензуру, пришел необычайно быстро, через несколько недель. Партс был так возбужден, что даже порвал канадские марки, вскрывая конверт, правда, это его нисколько не расстроило. Карл обрадовался, новостям о госпоже Вайк и попросил передать ей его адрес, после переезда госпожи Вайк к дочери мать Андруссона потеряла связь с ней, но слышала, что внучка госпожи Вайк учится в Таллине и хочет стать директором банка.
Партс получил необходимые доказательства: он действительно все это время следил за внучкой госпожи Вайк. Другой полезной информации в письме Карла не было, лишь размышления о том, тоскует ли госпожа Вайк по родным краям так же сильно, как он, хотя, конечно, его отделяет от дома море, а госпожа Вайк все-таки живет в своей стране. Партс выругался. Если бы у него был хоть какой-то контакт с женой, он бы уже давно знал все эти новости и не пришлось бы искать их аж в Канаде. Карл Андруссон может знать что-то и о Роланде, но Партс не осмеливался спросить напрямую, он не хотел, чтобы Контора обратила на Роланда внимание. А использование псевдонима могло бы вызвать недоверие у Карла, он стал бы задавать неправильные вопросы. Партс сунул в рот кусочек пастилы, вытер пальцы о носовой платок, подождал, пока сотрясающий окна поезд пройдет мимо, и закрыл глаза, чтобы лучше представить себе всю картину и не переживать, что не спросил об этом раньше. От долгой розыскной работы внимание притупилось, профессиональная болезнь. Однако чем больше Партс думал, тем менее вероятным казалось ему, что Контора обучила и послала его на это задание совершенно случайно. Его настоящим объектом была семья Каск, возможно, основная цель сводится к тому, чтобы провести профилактическую работу с Эвелин или ее родителями, заставить девушку довериться Партсу. Но почему именно она? Что в ней такого важного? Неужели вся эта суматоха ради одного избалованного ребенка? Нет, за этим явно стоит нечто большее, но что? Компромата на девушку было более чем достаточно. Стоит лишь намекнуть ей, как легко потерять место в университете и как быстро бабушка может оказаться в поезде, идущем в страну холода. Партс прислушался к себе. В Конторе умели ошарашивать людей, это один из методов воздействия, и надо признать, в его случае им это удалось. Если он намерен искать Каалинпяя, следует быть осторожным, чтобы Контора ничего не заподозрила. Может, все же стоит рискнуть и перевести слежку с Объекта на девушку? Хотя бы на какое-то время. Заметят ли это в Конторе?
Конец “московской” операции уже маячил на горизонте, и это поднимало Партсу настроение. У Эвелин Каск закончилась лекция, и Партс шел за ней по Тоомпеа. Он смотрел на нее новыми жадными глазами и чувствовал, что вновь обретает нюх. Старый добрый нюх не мог его обмануть, хотя девчонка вела себя как обычно. Шаги Партса таяли в булыжной мостовой, пальто сливалось со стенами, он ощущал свою невидимость. Юбка девушки была даже более скромной, чем у других, на руках белые перчатки фабрики “Марат”, которыми она через шаг прихлопывала и поправляла прическу. Ее каблуки с металлическими набойками скользили на камнях. Она устало поднялась в автобус и, едва не упав, сошла на остановке возле общежития. Партс держался на расстоянии, позволил девушке подняться до второго этажа какого-то дома, прежде чем сам отправился следом. Он достал из бумажника пучок пустых стержней от шариковых ручек и встал в очередь, предварительно подождав, чтобы за девушкой встали еще на несколько человек. Сидящая за столом женщина сосредоточенно выковыривала шарики из стержней, вставляла стержни в машинку, поворачивала рукоятку, возвращала наполненные стержни, забирала мелочь. Очередь шуршала, шепталась, двигалась, студентов из кафе не было. Неожиданно лицо девушки напряглось. Рука, в которой был пакет, слегка отклонилась в сторону. К девушке подошел незнакомый парень, поздоровался и тут же ушел. Партс проследил за ним взглядом: в руке парень нес пакет, который только что забрал у девушки. Партс вышел из очереди и устремился следом за пакетом. Парень шел немного впереди, не спеша лавировал между высоток, мимо дома с голубем мира на стене, спокойно ждал автобуса. Партс не спешил его догонять, лишь на остановке смешался с группой людей, последним влез в автобус, последним вышел и последовал за парнем, который неожиданно свернул в кусты. Партс чуть не споткнулся и тут же вспомнил, как несколько раз терял Объект из виду именно на этой дорожке, но всегда винил свою усталость и излишнюю осторожность. Только сейчас он понял, что это было неслучайно. Ловкие исчезновения говорили о том, что Объект знал о слежке, но был гораздо хитрее теперешнего парня, который шагал звучно, никого не опасаясь, и чертыхался, пробираясь сквозь репейник. Партс заметил, как парень прошмыгнул в заднюю дверь серого дома, и записал время. Он догадался, что человек в очках, впустивший парня, занимается нелегальной деятельностью.
В пропахшей кошачьей мочой песочнице играл с юлой мальчик, он с удовольствием взял рубль и назвал имя живущего в сером доме поэта.
Партс отправился в библиотеку знакомиться с поэзией. Поэт издавал хвалебные гимны рабочему народу примерно в те годы, когда Роланд ругал Каалинпяя. Возможно, это случайность, но так ли уж много поэтов, связанных с нелегальной деятельностью, пользуются одним и тем же псевдонимом?1965 Таллин Эстонская ССР, Советский Союз
На следующий день в кафе “Москва” товарищ Партс задремал над кофе, трюфелями и салатом “Столичный”. Накануне он до ночи работал и вчитывался в стихи. Когда подбородок ударился в грудь, Партс встрепенулся и огляделся. К компании Объекта присоединились студенты-художники в фиолетовых фуражках, кто-то был с непокрытой головой. Одна из девушек была в очень короткой юбке и, понимая это, все время держала руку плотно прижатой к бедру, правда, было неясно, пытается ли она опустить синюю ткань ниже или не допустить, чтобы она задралась выше. Над васильковой юбкой искрилась белая рубашка. Партс подумал, что в рапорте стоит отдельно упомянуть об использовании национальных цветов в одежде.
Вместе с фиолетовыми фуражками в кафе пришел невысокий брюнет, волосы его свисали вперед, как у неопрятной женщины, а борода скрывала лицо. Партс признал в нем автора антисоветских картин дурного вкуса. Контора наверняка давно уже следит за его деятельностью. Империализмом дышал даже сам облик художника, откровенно копирующего моду капиталистических стран. Пианист старался изо всех сил, длинноволосый мужчина заигрывал с двумя девушками. Их смешки пронзали задымленный воздух острыми стрелами и заставили Партса проснуться. Он вздрогнул и распахнул глаза. Что за мелодия?
Неужели они родились в его голове? Пел ли он вслух? Видел ли сон? По-прежнему звучали джазовые ритмы, но девушки перестали хихикать, мужчина забыл стряхнуть пепел с сигареты, и он посыпался на стол. Объект поднялся. Партс незаметно оглянулся. Все студенты повернули головы в сторону пианиста, женщина за соседним столиком улыбалась, ее улыбка прожигала все вокруг, рука поднялась на плечо кавалера, а губы неслышно двигались: Saa vabaks Eesti meri, saa vabaks Eesti pind… Партс захлопал глазами. Ритм марша прорывался сквозь импровизации пианиста, прятался и появлялся, прятался и появлялся, губы женщины беззвучно продолжали петь. Бородач встал, хихикавшие у него под мышкой девушки тоже, за ними вся студенческая компания. Партс посмотрел на коллегу за столиком в углу. Он тоже встал и весь напрягся, как перед прыжком, настороженно обвел взглядом кафе и на секунду встретился глазами с Партсом. В этот момент то пропадающий, то вновь возникающий марш замедлился, и бородач с Объектом запели: Jään sull’ truuiks surmani, mul kõige armsam oled sa [18] , коллега Партса стремительно, словно порывистый ветер, пролетел через весь зал, хлопнул крышкой пианино, повернулся к бородачу, замахал руками, что-то сказал и выбежал из кафе, махнув перед лицом Партса полами пальто. Партс успел заметить, что лицо коллеги покрылось пятнами, а глаза вытянулись в узкие щелочки. Как только дверь за ним захлопнулась, пианист открыл крышку пианино и заиграл свой обычный вечерний репертуар. Друзья бородача потащили его к выходу, голова к голове, на лбах выступил пот, а шепот эхом разносился по залу. Они не смотрели по сторонам, никто не смотрел на них, словно они вдруг стали невидимыми, однако весь зал волновался, как море перед бурей. Партс слышал отдельные слова, но не верил своим ушам. Неужели коллега действительно подошел к бородачу и сказал: “Вы в своем уме, замолчите, я из КГБ!”Пианист был тот же самый и на следующий день, и через день тоже, так что Партс даже засомневался, доложил ли коллега о случившемся. Однако сам он в кафе не появлялся, а на третий день его сменило новое лицо. Бородач больше не приходил. Компрометирующего материала было уже и так более чем достаточно. Компания явно затевала что-то в рамках университетского факельного шествия, и если это правда, то работа Партса по ведению “московской” группы закончится либо до шествия, либо сразу после него. Партс понял, что ему надо спешить. Он должен завершить расследование, пока группа со всеми своими подразделениями еще на свободе и в полной доступности.
Поэт сам открыл дверь. Дом был таким все таким же серым, одежда мужчины сливалась со стенами. Поэт поправил очки, глаза с трудом можно было разглядеть за толстыми линзами. Партс вежливо улыбнулся и сказал:
— Каалинпяя.
Момент был, бесспорно, волнующий. Партс знал, что стоящий на пороге мужчина и не подозревает, что они сейчас испытывают примерно одни и те же чувства. У поэта был шанс. Хорошие актерские способности и правильная тактика защиты спасли бы его. Партс повидал за свою жизнь множество изворотливых личностей, которые отлично владели искусством высшего пилотажа, однако этот человек оказался не из их числа. Фигура его поникла, как стены прогнившего дома, которые можно сломать одним ударом топора.
— Нам стоит поговорить. Старые дела не должны мешать вашей карьере. — Партс сделал небольшую паузу и продолжил: — Но нельзя забывать и о молодом поколении. Ваши нынешние произведения недостаточно способствуют укреплению моральных устоев молодежи.
— Моя жена скоро вернется домой.
— Я с удовольствием побеседую и с ней тоже. Может быть, продолжим внутри?
Поэт попятился.
— Мы, безусловно, постараемся сделать все возможное, чтобы запрет на публикацию был как можно скорее снят.
Поэт оказался легким случаем. Намного легче, чем Партс мог себе представить. Удивительно, как ему удавалось вести двойную жизнь так долго под самым носом у партии. Он годами считался заслуженным советским поэтом, и, судя по всему, отдел пропаганды, Главлит и все прочие инстанции были им вполне довольны, и все же, несмотря на это, он продолжал вести подпольную деятельность. И одновременно писал оды партии!
Партс бодро шагал к остановке. Лишь там его накрыла усталость, и ему пришлось присесть. Поэт был легким случаем, потому что у Партса была информация, чтобы прижать его. Но у него не было ничего, чтобы прижать жену. Хотя имя Сердца упало из уст поэта, словно “юнкерс” без топлива, он не был уверен, что Роланд делился с ней абсолютно всем. Однако не потому ли между ним и женой выросла непроходимая стена? Знала ли она все это время, почему ему необходимо избавиться от Роланда? Имело ли это теперь хоть какое-то значение? Он сам удивлялся, насколько спокойно все воспринял. И почти восхищался своим хладнокровием. Может, в глубине души он давно догадывался обо всем, но сейчас это было не важно. Впервые за долгое время он испытывал невероятное удовлетворение. Он знал, что все в его власти, — чувство, которое в последнее время он едва не забыл. Словно он на лету поймал целую стаю птиц, которая тут же превратилась в легко управляемую массу. Дома его ожидали нетерпеливые клавиши “Оптимы” и жена. Обо всем остальном позаботится Контора.1965 Таллин Эстонская ССР, Советский Союз
Все пошло наперекосяк. Рейна и еще троих организаторов демонстрации задержали. Эвелин дрожала, лежа в кровати под одеялом, гнетущая тишина общежития давила на потолок, и он, казалось, опускался все ниже и ниже, в голове еще звучали крики: милиция, милиция! Эвелин не хотела выходить из комнаты, она знала, что в кухне все будут перешептываться. Нет, у нее нет новостей, и она не знает, где Рейн и что с ним будет. Точнее, знает. Рейн не вернется на учебу, но это все понимали и без нее, об этом не стоило даже шептаться. Или ей взять и уехать домой? Но можно ли? Приедет ли милиция забирать ее оттуда, выгонят ли ее из общежития, из университета? Мать не перенесет этого, не выдержит, нет, она не может поехать домой, не может рассказать им об этом. Как подобрать слова? Нет, не выйдет. А как же Рейн? Попадет в тюрьму или в армию? Или в тюрьму и в армию? Или в психушку? Эвелин села на кровати: в психушку, боже мой, так случилось с тем автором листовок, чью пишущую машинку искали в мужском общежитии и перевернули вверх дном каждую комнату, тысячу кроватей, тысячу шкафов. Машинку не нашли, но парня взяли. Его увезли в психушку на Пальдиски, 52, после этого никто о нем больше ничего не слышал. Рейн сумасшедший, да, она влюбилась в сумасшедшего, позволила ему замутить ей голову. Она поставила под угрозу свое выпускное платье и надежду оказаться в числе студенток последнего курса, чьи фуражки уже полиняли, а ручки исписались, поставила под угрозу шанс со временем стать инженером. Они с Рейном никогда больше не встретятся, у них никогда не будет ни общих простыней, ни кактуса на подоконнике, ни лакированного шкафа. Ей не надо больше думать о том, позволить ли Рейну снять с нее юбку или нет. Надо было позволить. Надо было найти партийного. Надо было прислушаться к той девушке, которая сказала, что Рейн — это плохой выбор, надо было подумать о себе: я хочу окончить университет, хочу семью, хочу дом, хочу выйти замуж, хочу хорошую работу. Эвелин подбежала к своему шкафчику. Там не было ничего, она знала это, но скоро они придут и будут рыться в шкафах, постелях, подушках. Эвелин побросала вещи в чемодан, обулась и выбежала в коридор, оттуда на лестницу, из комнат выглядывали, она чувствовала на себе любопытные взгляды, они кололи ее, словно иголки, шаги гулко отдавались в голове, она побежала вдоль забора к остановке, вдоль забора, за которым работали заключенные, скоро среди них будет Рейн или она, Эвелин побежала быстрее, чемодан был тяжелый, но она справится, страх загнал ее в тридцать третий автобус, переполненный рабочими с фабрики, так что она с трудом протиснулась внутрь. Автобус тронулся, и Эвелин облокотилась на тюк какой-то женщины, увязанный в белую простыню, этот тюк скоро поедет в Сибирь, как и все подобные тюки, набитые купленными в Эстонии товарами, которые русские тащили, согнувшись в три погибели, на вокзал и в Сибирь, куда и она тоже скоро отправится, куда ее отправят, скрип ее зубов был похож на скрип вагонов, и в этом скрипе страх выгнул спину и приготовился вцепиться в ее хребет, но не сейчас, не сейчас, сначала домой, она хочет увидеть дом, прежде чем они придут за ней, а они придут, они всегда приходят. Возможно, они уже ждут ее в доме матери. Глаза Эвелин были сухими, хотя и намокли от слез, как и у Рейна, когда они смотрели на цепочку факелов, спускающихся от башни Кик-ин-де-кёк. Он сжал ее руку, все прошло спокойно, и Рейн говорил о восстании Юрьевой ночи. Тогда факелы порабощенных эстонцев тоже зажглись в ночи, но все закончилось кровавой бойней — Эвелин стоило бы помнить об этом. Стоило бы помнить уже тогда, слушая рассказ Рейна, стоило бы помнить, а не улыбаться в ответ, шагая по Нарвскому шоссе в сторону Кадриорга и распевая Saa vabaks Eesti meri, saa vabaks Eesti pind , но она улыбалась и, как идиотка, кричала “ура!” вместе со всеми, пока не услышала, как кто-то завопил: милиция! — и тогда идущая впереди девушка сбросила туфли на каблуках и в одних чулках побежала к соседнему переулку, люди повернули назад и стали напирать на них, факелы попадали на землю, милиция! — истошно закричал кто-то, и ее рука вырвалась из руки Рейна, она потеряла его из виду и побежала вместе со всеми, милиция, она бежала неизвестно куда и остановилась лишь у закрытых на ночь ворот Паткули, перелезла через них и притаилась с другой стороны, выжидая, пока шум стихнет. Подъезжая к своей остановке, Эвелин поняла, что не может так поступить с родителями. Нельзя, чтобы ее забрали из дому. Все увидят, вся деревня увидит. Нет. Она должна вернуться в Таллин.
1965 Деревня Тоору Эстонская ССР, Советский Союз
Товарищ Партс встал в конец очереди, женщины в платках повернули головы и посмотрели на него. Он никого в деревне не знал, он никогда раньше не был в этих краях и совсем не успел подготовиться к предстоящему заданию. Все произошло слишком быстро. Неожиданно он осознал, что сидит в машине, выделенной отделом, и направляется в деревню. Никто в Конторе не намекнул, что им известно о прошлом, которое связывало Партса с госпожой Вайк или Мартой, но он не смог придумать никакой другой веской причины, чтобы объяснить, почему именно он должен провести профилактику, это не входило в его обязанности. Марта Каск должна была появиться в деревне в день работы магазина. Суматоха. Мужчины, несущие на согнутых спинах мешки с хлебом для коров. Велосипеды, нагруженные пустыми молочными бутылками.
Он без труда узнал Марту.
— Марта, неужто и правда ты!
Марта вздрогнула, глаза ее расширились, как будто Партс бросил камень в озеро. У Партса больше не осталось сомнений: Марта не сумеет извлечь выгоду из того, что ей известно. Она не понимает, что это товар, которым можно торговать: спасти свою дочь, прижать Партса, обвинив его в связи с немцами. Она не понимала ценности своей информации, в этом Партс был уверен. Ему даже стало жаль ее на какой-то миг, но потом он включился в работу, протиснулся сквозь толпу прямо к Марте, повторяя “надо же, какая неожиданность”, и сказал, что пробудет здесь до завтра в связи с обновлением состава учителей Эстонской Советской Социалистической Республики.
— Обучение учителей истории хотят целиком перевести в Москву, вряд ли у них получится, — усмехнулся Партс и подмигнул Марте. — Я этого не допущу. Угости же меня кофе, коли уж встретились спустя столько лет!
Партс заметил, как Марта смотрит по сторонам, словно бы ища кого-то, но кого? Он догадался, что она хочет послать с кем-то весточку. Когда знакомый мальчуган подбежал к Марте, Партс тут же достал из кармана трешку и сунул в руку парнишке:
— В торговый день и детям не грех полакомиться чем-нибудь вкусненьким. Завтра я приду с проверкой в вашу школу. Иди скажи учительнице, что все будет хорошо.
Парнишка убежал.
— Чего такая грустная, Марта?
Партс посмотрел ей прямо в глаза, отметил изменения зрачков, нервное переминание с ноги на ногу и то, как она поправила платок на висках.
— Какая неожиданность, что мы вот так вот встретились! И какая удача! И как старый друг вашей семьи, Марта, я должен сказать, что беспокоюсь за вашу дочь. Эвелин, так ведь ее зовут?
— За мою дочь? Эвелин? — Голос Марты был хрупким и напоминал только что покрывшуюся льдом поверхность озера.
— Министерство образования — прекрасное место работы. Площадка будущего всей страны. Мы несем ответственность за будущее нашей молодежи. Поэтому особенно печально, если молодые люди выбирают неправильную дорогу. Вы, наверно, слышали о студенческой демонстрации?
Марта испугалась вопроса, не знала, отвечать да или нет, и затихла слишком надолго.
— Эвелин, конечно, ни в чем не виновата, но компания… Ее жениха арестовали.
Марта пошатнулась.
— Давайте лучше поговорим за чашкой кофе.
Партс с намеком кивнул в сторону толпы. Марта смотрела по сторонам, словно бы ища помощи.
— Но вам же надо сделать покупки, пойдем потом.
Марта, казалось, боится сдвинуться с места, Партс проводил ее к очереди, Марта, словно овца, послушно следовала за ним. На прилавке стучали счеты, хрустела оберточная бумага, свиных ножек осталось всего четыре, Марта дергала платок и поправляла его на висках. Потом заправила под него выпавшую прядь волос, капелька пота стекала по виску, словно слеза. Партс стоял около нее не двигаясь и вежливо улыбался всем проталкивающимся к прилавку. Кто-то подошел сказать Марте, что ее муж был с утра первым в очереди. Марта кивнула. Партс вопросительно посмотрел на нее.
— Забота о продуктах всегда ложится на женщин, — сказала Марта.
Партс догадался, что она имела в виду. Муж Марты сходил утром за водкой, забыв обо всем остальном. Везде одна и та же проблема, в каждом колхозе. В дни работы магазина и дни зарплаты никто не работает, даже коровы стоят недоеными. Товарищ Партс взбодрился, ситуация развивалась в правильном направлении.
Партс помог Марте уложить банки с кислой капустой и вывел ее на улицу. Она, казалось, еле держалась на ногах, велосипед то и дело уводило в сторону, сумки позвякивали, от блочных стен веяло холодом. В воздухе пахло снегом и мерзлой землей. Атмосфера была гнетущей, но Партс был в прекрасном расположении духа. Марта повернула во двор. Над трубой поднимался дым, из амбара послышалось мычание. Побеленные известью стволы яблонь расчертили сад на полоски.
— У нас беспорядок, — сказала Марта. — Может, лучше…
— Не беспокойся, милая Марта.
Она бросила быстрый взгляд в сторону бани. Партс остановился, резко повернулся и быстро зашагал к бане. Марта бежала следом, хватала за руку, за пальто. Партс оттолкнул ее, оставив кричать позади, и распахнул дверь бани. На скамейке спал Роланд, опустив подтяжки до пояса и открыв рот. Он храпел.1965 Таллин Эстонская ССР, Советский Союз
Роланд Симсон, известный нам под именем Марк и позднее перевоплотившийся в Роланда Каска, неприметно и вполне беззаботно жил в деревне Тоора. Его дочь Эвелин Каск поступила учиться в Таллин. Кто бы мог подумать, что под маской примерного отца скрывается человек, который еще совсем недавно хладнокровно стрелял в беременных женщин на глазах у всех? Кто бы мог подумать, что люди, способные на такие кощунства, передадут этот вирус следующему поколению? Эвелин Каск пошла по стопам отца, став ярой антикоммунисткой и сторонницей буржуазного национализма.
Товарищ Партс опустил руки на колени. Последние главы были почти готовы, работа спорилась, с тех пор как он смог посвящать ей не только ночи, но и дни. Даже фотографии уже подобраны. Одна из них — портрет автора во время фашистской оккупации. Красная армия, вступив в лагерь Клоога, фотографировала бараки и заключенных. В числе раненных в спину Партс отыскал себя. На его счастье, все истощенные, умирающие и уже мертвые узники были на одно лицо.
Товарищу Партсу удалось выжить, притворившись мертвым. Он был в группе заключенных, которую привезли в Клоогу из тюрьмы Патарей. Он стал свидетелем ужасов лагеря смерти, его вынуждали принимать участие в сожжении заживо других советских граждан, но он попытался бежать. Ему выстрелили в спину, и он был тяжело ранен. Если бы Красная армия освободила лагерь хотя бы днем позже, он бы не выжил. Благодаря своей находчивости он и сегодня свидетельствует против фашистских иродов, открывая нам глаза на правду.
Подойдет ли такой текст в качестве подписи под фотографией, или выстрел в спину — это уже слишком? А что, если кто-то потребует доказательств? Об этом стоит подумать отдельно, Контора вряд ли потребует дополнительной правки, но детали следует еще отточить, сделать повествование более живым, а потом уже можно отправлять книгу в большой мир. Последние штрихи добавились после того, как он еще раз съездил в деревню Тоору, чтобы ощутить местный колорит, найти характерные детали, вышел на середину поля к груде камней, откуда открывался хороший вид на дом Марты Каск. Опасаясь гадюк, он надел калоши и шерстяные носки. Прихватил с собой бинокль. Он следил за жизнью в доме, за работой двух женщин в платках и записывал подробности.
Партс не чувствовал усталости, хотя предыдущий вечер был изматывающим. Встреча в Конторе продолжилась до обеда, а после этого еще в нескольких барах. К таким заходам Партс не был готов, но справился. Он успел даже упомянуть возможные темы новых расследований и невзначай напомнил о своей учебе на острове Стаффан. Для него не составило бы труда освоиться в Финляндии, известный писатель и историк не вызовет подозрений, академический мир будет для него открыт. Настало время планировать будущее. Например, посольство СССР в Хельсинки. Работа атташе по культуре была бы ему по душе. Вновь открывшееся паромное сообщение между Финляндией и Эстонией означало, что силы Конторы были задействованы по полной программе, органам срочно нужны оперативные работники, надежные люди. Безусловно, Контора может решить, что он больше подходит для наблюдения за западными туристами в Таллине или для расширения переписки с Финляндией, чем для работы в Финляндии тайным агентом. Однако Партс верил, что выход книги избавит его от такой судьбы. Только бы она вышла! Он не собирается смотреть на паромы с берега. Он обязательно попадет на него, обязательно.
Еще один вариант — Советский комитет по культурным связям с соотечественниками за рубежом, точнее, его отдел, расположенный в ГДР. Он прекрасно владеет немецким языком. Может быть, ему удастся попасть в архивы Германии и найти какие-то свидетельства о человеке с фамилией Фюрст. До сегодняшнего дня это имя нигде не всплывало, но рано или поздно может появиться, здесь или за рубежом. Хотя это было бы даже весело. Партс решил найти кого-нибудь из Первого отдела, какого-нибудь начальника, которому он мягко намекнет об этом деле. Будет лучше, если кто-то другой выскажет мысль, что он подошел бы на роль агента в Финляндии или Германии. Излишняя инициативность никогда не приветствуется. Еще решат, что он надумал сбежать из страны. Что ж, осталось лишь несколько страниц, финальная сцена. Клавиши “Оптимы” нетерпеливо включились в танец.В 1944 году фашисты заторопились — Красная армия стремительно наступала. Однажды утром всех узников концлагеря Клоога собрали во дворе для переклички. Чтобы держать ситуацию под контролем унтерштурмфюрер СС по фамилии Верле сказал, что заключенные будут эвакуированы в Германию. Через два часа помощник коменданта лагеря унтершарфюрер СС Шиварзе отобрал триста самых крепких мужчин. Им объявили, что они будут помогать при эвакуации. На самом деле это было не так. Их заставили таскать тяжелые бревна на открытую площадку, примерно в километре от лагеря. Во второй половине дня из числа заключенных было выбрано еще шесть человек. Им дали задание погрузить на тележку две бочки с бензином или дизельным маслом. Бочки предназначались для разведения огня. Марк руководил укладкой поленниц.
Марк по натуре был идеальной кандидатурой для работы в концлагерях. До того как советские воины освободили Эстонию от фашистского рабства, он работал приспешником палачей в лагере Клоога. Фашисты не знали, что делать с заключенными. Времени на эвакуацию лагеря не было, ибо победоносная Красная армия была уже на подходе. Большинство узников были так измучены, что не выдержали бы переезда. Паромы ждали солдат и офицеров, но куда девать остальных?
Решение нашел Марк. Он предложил костры.
Уложили бревна. Поверх бревен положили толстые доски. Бревна были сосновые и еловые, доски длиной 75 сантиметров. Посередине — четыре доски, поддерживаемые несколькими бревнами. Наверно, они должны были служить неким дымоотводом. Площадка была шесть на шесть с половиной метров. Недалеко от нее, на расстоянии от 5 до 200 метров, лежало восемнадцать человек. Все они были застрелены. Позднее их смогли опознать по номерам на руке.
Около пяти часов вечера начались жестокие расправы. Узникам приказали лечь на костер лицом вниз. Затем их расстреляли выстрелами в затылок. Длинные, плотные ряды трупов. Как только ряд заполнялся, сверху на трупы укладывали новый ряд бревен. Костры состояли из трех-четырех слоев бревен и трупов. До леса было 27 метров. Костры располагались на расстоянии трех-четырех метров друг от друга.
Позднее особая комиссия по расследованию преступлений, совершенных в Клооге, обнаружила также сожженный дом, от которого остались только печные трубы. На пепелище были найдены останки 133 тел, некоторые сгорели практически дотла. Опознать их было невозможно. Все палачи, находившиеся 19 сентября 1944 года в лагере Клоога, должны предстать перед судом по обвинению в массовом убийстве советских граждан и понести самое суровое наказание.Эпилог
1966 Таллин Эстонская ССР, Советский Союз
Товарищ Партс наблюдал за женой из окна второго этажа. На скамейке в парке жена выглядела вполне спокойной. Она даже не скрестила ноги, они прямыми палками торчали вперед, руки лежали по бокам. Женщина, сидящая рядом с ней, курила, затягиваясь быстрыми короткими затяжками, но жена и головы не повернула в ее сторону. Партс видел только ее профиль, ее фигура явно раздалась вширь. Он не помнил, чтобы она когда-нибудь была такой неподвижной, словно соляной столб.
— Значительные перемены, — заметил товарищ Партс. — Раньше она курила без остановки.
— Да. Инсулиновые шоки делают чудеса. Правда, мы еще не уверены в точном диагнозе вашей жены. Астеническая неврастения или даже психопатия, осложненная хроническим алкоголизмом. Или астеническая психопатия, — перебирал варианты главврач. — Возможно, параноидная шизофрения.
Партс кивнул. Во время предыдущего визита врач рассказывал ему о ночных кошмарах жены. Тогда Партсу не разрешили увидеть ее, медикаментозное лечение привело к возникновению побочных эффектов, галлюцинации усилились. Впрочем, лечение тогда только началось. Врач считал случай жены очень интересным: он прежде не встречал пациентов, чьи галлюцинации были бы так зациклены на гитлеровских преступлениях. Обычно у замужних женщин активизируется инстинкт защиты, направленный на других, особенно это свойственно женщинам, потерявшим детей при трагических обстоятельствах. Главврач, казалось, был заинтересован в более пристальном изучении ее заболевания. Он предложил Партсу сесть. Тот собирался уходить, но, отойдя от окна, вежливо присел. Возможно, врач полагал, что как муж пациентки и самый близкий ей человек он нуждается в особом обращении. Прозвучали слова сожаления о том, что жену товарища Партса придется перевести в другую клинику. В лечебнице Зеевальда много больных, к которым уже никто не приходит.
— Появились ли новые галлюцинации? — спросил Партс.
— Пока нет. Я надеюсь, что созданные ее воображением друзья исчезнут в ходе лечения. Видения дочери сохранились, в иные дни она ведет долгие беседы со своей воображаемой девочкой, интересуется ее учебой, дает советы по уходу за кожей, подбирает прически для вьющихся волос и так далее, вполне невинные вещи. В отличие от других ее видений, дочь не вызывает в ней агрессии, — пояснил доктор. — Скорее она испытывает гордость за нее, она думает, что она учится в университете.
— Может быть, именно бездетность спровоцировала ее заболевание, — сказал Партс. — Она никогда не соглашалась проконсультироваться у специалистов, хотя я на этом настаивал. Ведь все это, наверно, можно было бы предотвратить, если бы она вовремя обратилась за помощью?
Партс понизил голос, как бы преодолевая волнение, хотя на самом деле он пытался скрыть облегчение. Судя по словам врача, его жену наконец-то признали сумасшедшей. Врач поспешил заверить, что Партсу не стоит винить себя, все всегда обстоит намного сложнее.
— Министерство внутренних дел порекомендовало Минск. Не так уж это и далеко, — сказал Партс.
— Вам не стоит беспокоиться, новые психиатрические лечебницы оснащены наилучшим образом. Ваша жена получит самый лучший уход.
Партс оставил на столе главврача коробку шоколадных конфет “Калев” и сетку с апельсинами. Он никогда не станет просить выписать жену из больницы. С тех пор, как в доме воцарилась тишина, эта мысль стала ясной и прозрачной как стекло. Он всегда был слишком сентиментален, слишком осторожен, все это надо было сделать гораздо раньше.
Утро было особенно ясным, а свет удивительно воодушевляющим. Белки в парке провожали его до самых ворот. Партс покинул лечебницу Зеевальда, наслаждаясь мыслью, что никогда больше не увидит свою жену. Конец и начало сошлись в одной точке. Его шаги становились все легче и непринужденнее, он решил совершить долгую прогулку, идти было приятно, и он уходил все дальше, словно выскользнувший из рук воздушный шарик. Первый тираж книги составил восемьдесят тысяч, тогда как книги Мартинсона выходили тиражом не более двадцати тысяч, и типография уже приступила к допечатке. Завтра будут работать продуктовые спецраспределители, и он купит себе фарша; через месяц поедет в ГДР, где готовится к выходу тираж в двести тысяч, потом в Финляндию, где книга также будет напечатана. Он встретит новых людей, завяжет новые контакты, но сегодня, сегодня у него выходной. И ведь есть отличный повод для праздника. В приподнятом настроении он решил познакомиться с техническим прогрессом на улицах города и проехал на новеньком троллейбусе от ипподрома до “Эстонии”, купил мороженое и с пломбиром в руках, не чувствуя усталости, дошел до склона холма Мустамяэ. Студенты шныряли взад и вперед, но теперь его это уже не беспокоило, скорее он даже хотел бы влиться в их компанию, ведь он тоже стоял на пороге новой жизни. Солнце выглянуло из-за облаков, ветер расчистил небо, белизна силиката слепила глаза. Партс поднял руку, прикрывая ею глаза, из соседних кустов взметнулась в небо стая голубей, он повернул голову в их сторону, но ничего не увидел, небо было слепяще-белым. Распогодилось, воздух был чистым, как только что отштукатуренная стена, как побледневшая кожа Розали на фоне отштукатуренной стены сарая. Девушка повернулась и посмотрела на Эдгара, она была в ярости, разгневанная и бледная.
— Что ты суетишься вокруг немцев? Я видела тебя, — прошептала она.
— Ничего. Дела.
— Скармливаешь им коммунистов!
— Это должно было бы тебя обрадовать! А сама-то что делаешь? Знает ли Роланд, что его невеста заигрывает по вечерам с немцами?
— Это не так! Я ходила на винокурню к Марии.
— Почему тогда не рассказала об этом Роланду?
— Откуда ты знаешь, что не рассказала? Леонида не может больше носить туда продукты. Мне проще туда вместо нее.
— Так я спрошу у него? Скажу, что ты устала ждать Роланда дома?
— Может, тогда и я скажу твоей жене, что ты вернулся?
— Скажи.
— Не хочу делать ей больно. Ты сам должен ей сообщить. Хотя ей было бы лучше без никчемного, ни на что не годного мужа.
— На что ты намекаешь?
— Я видела, как ты смотришь на того немца, с которым у тебя дела. Я видела, как он выходил отсюда.
— Да ты спятила, радость моя. С каких это пор запрещается смотреть? Что ты сама там делала и как смотрела? Я знаю, какими глазами ты на него смотришь.
— Я видела, как он вышел отсюда и ушел задами, я видела. И веришь, нет, я все о тебе знаю. Юдит не понимает, не хочет понять, до нее не доходит, она слыхом не слыхивала о таких отклонениях, как у тебя. Но я знаю, что бывают такие мужчины, такие, как ты. Я думала об этом, долго думала. Юдит заслуживает лучшего! Я хочу предложить ей, чтобы вы аннулировали ваш брак. Для этого есть основания, мужская неполноценность — достаточно веская причина, ты болен, не способен выполнять супружеский долг, не способен иметь детей, не муж. Я все выяснила. Это ненормально!
Лицо Розали покрылось морщинками, морщинки стали наливаться краской, их белые края исчезали, отвращение рвалось наружу, хотя ее натуре такие чувства были совсем несвойственны, она была жизнерадостной и веселой, но отвращение было слишком сильным, непреодолимым.Шея Розали оказалась тонкой, как осиновый прут. Такие прутья она связала бы спустя несколько месяцев в метлу, чтобы убрать сарай, перед тем как побелить его стены. После этого она развела бы известь, взболтала бы ее, достала бы кисть из конского волоса, которую Роланд смастерил из срезанного по весне хвоста, и стала бы водить ею по стенам, делая их все белее и белее, тонкими, как мундштук, пальцами, которые так любил ее жених.
Глоссарий
Эстония под властью СССР (1940–1941, 1944–1991)
КГБ СССР — Комитет государственной безопасности СССР (1954–1991). Помимо охранной, оперативно-розыскной и разведывательной деятельности (за исключением военной разведки, которой занималось ГРУ), в задачи КГБ входила борьба с инакомыслием и антисоветскими организациями.
ГЛАВЛИТ — Главное управление по делам литературы и издательств, орган цензуры печатных изданий, а также радио- и телетрансляций в СССР.
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС была правящей партией СССР и обладала монопольным правом на политическую власть.
НКВД СССР — Народный комиссариат внутренних дел (1934–1954), главный орган госбезопасности СССР в 1934–1954 годах. Народные комиссариаты прекратили свое существование после войны, их функции перешли к министерствам. В 1946 году функции НКВД СССР переходят к Министерству внутренних дел (МВД). В 1954 году часть функций МВД переходит к КГБ.
Союз вооруженной борьбы, СВБ (Relvastatud Võitluse Liit, RVL) — созданная в уезде Ляэнемаа подпольная вооруженная организация лесных братьев, которая противостояла советской оккупации во второй половине 1940-х годов.
Стаффан (Staffan) — остров в Финляндии, где по инициативе немецкой разведки проходила обучение группа эстонских добровольцев под названием “Эрна” (Erna) , выполнявшая в 1941 году партизанские и разведывательные задания на территории советской Эстонии.
Эстонская ССР — Эстонская Советская Социалистическая Республика.
Эстонское телеграфное агентство, ЭТА ( Eesti Telegraafiagentuur, ETA) — информационное агентство Эстонской ССР, входившее в единую государственную информационную систему СССР.Эстония под властью Третьего рейха (1941–1944)
Абвер (Abwehr) — орган военной разведки и контрразведки Германии (1920–1944).
“Балтише Эль” ( Baltische Öl GmbH, BaltÖl,) — общество с ограниченной ответственностью “Балтийская нефть”, использовавшее труд узников концлагерей.
Ваффен-СС (Waffen-SS) — войска СС.
Вермахт (Wehrmacht) — вооруженные силы нацистской Германии в 1935–1945 годах.
ВФХА СС (SS-WVHA, SS Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt) — Главное административно-хозяйственное управление СС.
Главное управление имперской безопасности, РСХА (Reichssicherheitshauptamt, RSHA) — главный орган безопасности Третьего рейха в 1939–1945 годах, находился в подчинении СС. В его состав входили тайная государственная полиция рейха (гестапо), служба безопасности (СД), а также государственная криминальная полиция (крипо).
“ Омакайтсе ” (Omakaitse) — эстонская военизированная организация, действовавшая во время Второй мировой войны на стороне Германии. Впервые возникла в 1917 году для обеспечения безопасности граждан и частной собственности. В период первой советской оккупации организация была распущена. 22 июня 1941 года лесные братья, скрывавшиеся от советской мобилизации и ставшие объектами репрессий, возродили организацию и приняли активное участие в Летней войне (22.7.1941–21.10.1941). После парада победы немецких войск “Омакайтсе”, состоявшая из партизанских отрядов, была обезоружена и распущена. В августе того же года организацию вновь возродили, на сей раз под командованием оккупантов. В 1943 году участие в деятельности “Омакайтсе” было обязательным для всех мужчин 17–45 лет, в 1944 году возрастные рамки расширили до 60 лет (раньше мужчин этого возраста мобилизация не касалась).
Организация Тодта, ОТ (Organisation Todt, ОТ) — немецкая военно-строительная организация времен Третьего рейха; названа по имени возглавившего ее Фрица Тодта. Осуществляла строительство крупных объектов как в Германии, так и на оккупированных территориях. В работе организации использовался принудительный труд.
Полевая жандармерия (Feldgendarmerie) — военная полиция вермахта.
Полиция безопасности и СД Эстланда (Sicherheitspolizei und SD Estland) — эстонское отделение полиции безопасности нацистской Германии. Делилось на немецкий сектор (Группа А) и эстонский сектор (Группа Б). Отдел Б-IV представлял собой эстонскую политическую полицию.
Рейхскомиссариат Остланд (Reichskommissariat Ostland) — административно-территориальное образование нацистской Германии в 1941–1944 годах, состоявшее из оккупированных территорий Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии и Северной Польши.
СД (SD, Sicherheitsdienst) — служба безопасности СС.
СС (SS, Schutzstaffeln der NSDAP) — военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП).
Трудовые лагеря, лагеря трудового перевоспитания (Arbeitserziehungslager, AEL), — лагеря принудительных работ, создаваемые гестапо с 1940 года.
Эстонский легион СС был частью Ваффен-СС в 1942–1943 годах. Легион не набрал планируемой мощи и в целом не принимал участия в сражениях. В 1943 году переформирован в Эстонскую добровольческую дивизию СС (Estnische SS-Freiwilligen-Brigade) , в которую призывали мужчин 1919–1924 годов рождения. Призванные на обязательную трудовую службу могли выбирать между трудовыми работами и службой в дивизии.Примечания
1
“Стань свободным, эстонское море, стань свободной, эстонская земля” (эстон.). В оригинале песня начинается словами: Jää vabaks (“Оставайся свободным”), но в период оккупации эстонцы переделали начало песни на Saa vabaks (“Стань свободным”). (Здесь и далее — прим. перев.)
2
Лотты — так называли участниц финской женской военизированной организации “Лотта Свярд”.
3
Улица Белого Корабля (от эст. Valge laev , белый корабль). Улицы с таким названием не существует в Таллине. Образ белого корабля символизировал путь к свободе.
4
DKW (Dampf Kraft Wagen) — марка немецких автомобилей и мотоциклов.
5
Яйцо, масло, яйцо, масло (нем.).
6
Хаапсалуском отделении (нем.).
7
Имеется в виду Эстонская освободительная война (1918–1920), в ходе которой вооруженные силы самопровозглашенной Эстонской республики противостояли Красной армии.
8
Хяльмар -Йоханнес Мяэ (1901–1978) — эстонский политик, в годы немецкой оккупации был лидером марионеточного эстонского самоуправления.
9
“Любовь не облагается пошлиной” (нем.).
10
Подразделение пропаганды (нем.) .
11
Ауфзегелунг ( от нем. Aufsegelung ) — христианизация прибалтийско-финских народов немцами в Средние века. В нацистской Германии это слово возродилось в новом значении — вовлечение завоеванных стран в сферу немецкой культуры.
12
Вступившие в легион направлялись в учебный центр в Дембице, где через три месяца учебы принимали присягу на верность нацистской Германии и возвращались в Эстонию.
13
Все это делает берлинский воздух (нем.) .
14
Имеется в виду медаль “Зимнее сражение на Востоке 1941/42” (Восточная медаль). Немецкие солдаты называли ее “Мороженое мясо”, так как ее часто вручали после обморожения.
15
Нет немцев, нет немцев, нет больше… (искаж. нем.)
16
Почти все вузы Эстонии имеют свою форменную одежду, в частности студенческие фуражки разного цвета.
17
Восстание Юрьевой ночи — восстание 23 апреля 1343 г., с которого началась война эстонских крестьян за освобождение от немецких и датских феодалов (1343–1345).
18
Буду верен тебе до смертного часа, ты мне всего милей… (эстон.). Строка из государственного гимна Эстонии, запрещенного в советское время.



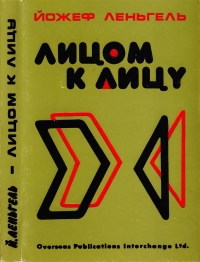


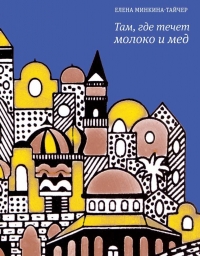

Комментарии к книге «Когда исчезли голуби», Софи Оксанен
Всего 0 комментариев