Хосе-Мария Виллагра Антарктида
От переводчика
«Вдохновенная проповедь бесчеловечности». «Удивительная способность видеть то, чего нет». Такими словами встретила эту книгу латиноамериканская критика. Чилийский писатель Хосе-Мария Виллагра еще довольно молод и, наверное, заслуживает не только лестных слов, но, так или иначе, «Антарктида» — повесть, которая заставила о нем говорить.
«Антарктида» — классическая утопия. И, как всякая утопия, она кошмарна. Люди умирают от счастья! Что может быть безнадежнее? Рай, в сущности, это тоже конец света. Во всяком случае — рай на земле. Это мир, где нет зла, а значит — и нет добра. И где любовь неотличима от зверства. Впрочем, так ли уж фантастично все это? Несмотря на футурологическую направленность, основная идея этой повести продолжает тему, которой, по сути, посвящена вся мировая культура: все вокруг не то, чем кажется. Все вокруг только кажется нам. И к реальному миру сказанное относится в куда большей степени, чем к вымышленному. Герои этой книги задаются вопросом, который сводите ума людей со времен Платона и Аристотеля. Почему жизнь только кажется нам? С этого вопроса и начинается бегство от нереальности бытия.
Та довольно жесткая манера, в которой написана повесть, отчасти объясняется противоречивой личностью автора. Его дед был видным государственным деятелем режима Аугусто Пиночета, в то время как большинство его родственников принадлежали к демократическому лагерю и многие из них пострадали в период военной диктатуры. По отцу он отпрыск старого аристократического рода, потомок конкистадоров. А по матери — мапуче. Это единственный индейский народ Южной Америки, который не был завоеван ни инками, ни испанцами. Мапуче сохраняли независимость до конца XIX века, и их культура никогда не отличалась особой сентиментальностью. Вот как, к примеру, обошлись они в 1553 году с Педро де Вальдавия, одним из предков Хосе-Марии: они отрезали испанцу острыми раковинами руки и ноги, поджарили их и съели на глазах у еще живой жертвы, а затем умертвили пленника, заставив его пить жидкое золото. Кстати, последнее человеческое жертвоприношение у мапуче было официально зафиксировано в 1960 году, когда богу моря Ньен Лав Кену, наславшему на Чили цунами, был отдан мальчик-сирота.
Те полубоги, а вернее — полулюди, которые действуют в повести, носят имена древних индейских божеств Киллены и Ванглена. Их мифологические взаимоотношения с точки зрения европейца выглядят довольно туманно: они при жизни питали лютую взаимную ненависть, но страстно полюбили друг друга после того, как погибли во взаимной борьбе. Затем они возродились силой взаимной тоски и еще больше возненавидели друг друга, каждый даже поменял себе пол, чтобы сподручнее было противостоять врагу, после чего они вновь полюбили друг друга, возненавидев себя, и т. д. Символика этих имен до конца становится понятной лишь после долгих экскурсов в хитросплетения эстетики мапуче, поэтому здесь я ограничусь лишь тем пояснением, что примерным, скорее эмоциональным, чем смысловым, их аналогом для европейского уха могут служить такие сочетания имен, как Орфей и Эвридика, Эней и Дидона или, если хотите, Адам и Ева.
В принципе, автор достаточно космополитичен. Он много путешествовал, жил в США, в Европе, в том числе и в Москве, где переводчик и познакомился с будущей звездой латиноамериканской литературы. Виллагра неплохо знает русскую литературу, читает ее в оригинале. Данный перевод делался при его активном участии и является, в сущности, авторским вариантом повести.
Кстати, даже с учетом европейской составляющей пестрого культурного бэкграунда Виллагры русскому читателю следует учитывать еще одну особенность, которая вносит дополнительный колорит в фантасмагорический калейдоскоп «Антарктиды». Оставив в стороне традиционную специфику южноамериканских рассуждений о добре и зле, замечу лишь, что даже понятия Юг и Север для чилийца значат совсем не то, что для нас с вами. Впрочем, вряд ли все это столь важно. Ведь дело касается другого полушария Земли, но не мозга. Кто-то должен быть крайним. Если не Север, то Юг.
Леонид СитникP.S. И еще один момент… В принципе, я вполне мог бы и вовсе не упоминать о нем, поскольку, в отличие от автора, не считаю его таким уж важным с точки зрения качеств этой книги. Но раз уж автор настолько озаботился этим обстоятельством, что пожелал его скрыть, то, наверное, оно достойно упоминания, тем более что и сам автор вовсе не стремился, во всяком случае — в России, окружать свою личность завесой непроницаемой тайны, а сделал это, скорее, ради шутки, в рамках литературной игры, которой и является, по сути, любая книга, и если автор скрыл этот факт, то лишь потому, что и сам считает его не имеющим никакого значения, а в такой стране, как Чили, сделать это обстоятельство не имеющим никакого значения для восприятия собственно книги можно, лишь вывернув его наизнанку, благо двойное и двойственное имя позволяло сделать это без лишних ухищрений, простым умолчанием. Дело в том, что наш жесткоперый автор на самом деле — милая женщина.
Я не готов прямо сейчас пускаться в длинные рассуждения о мужском и женском началах в творчестве, которые, в целом, не имеют никакого отношения к полу, но эмоциональная сторона этой книги, при всей своей физиологической выпуклости, мягко скажем, не довлеет над ее интеллектуальной составляющей, как это принято считать в отношении женской литературы, и если и говорить о какой-то особенной непосредственности автора, то лишь в том смысле, что его не назовешь посредственным. Впрочем, если кому-то понадобится подходящий повод для того, чтобы списать на него некоторую странность этой книги, то предлагаю воспользоваться именно этим моментом. Пусть этот роман будет женским.
В процессе работы над этим переводом однажды я со своим мужским самоумием чуть изменил один из эпизодов, немного по-иному интерпретировал фразу и даже сам не заметил этого, поскольку на самом деле просто не понял, что в точности имелось в виду, и допустил некоторую вольность, что Мария — так мне было позволено обращаться к автору — сразу почувствовала, восприняв это не как неточность, а именно как мужской произвол, и после довольно бурного обсуждения этого эпизода вездесущий «скайп» неожиданно принес мне с того конца этого света следующее сообщение: «Спасибо за признание в любви!» Конечно, это было сказано всего лишь с дружеской иронией, хотя мне было бы приятно отнести эти слова к русскому тексту этой книги.
P.P.S. Несколько слов по поводу странного финала этой книги. В принципе, вопрос опять-таки второстепенный, но удержаться от удовольствия прокомментировать его я не смог.
Вавилонская башня рухнула не оттого, что люди потеряли общий язык. Подвели расчеты. В древнем Вавилоне считали, что число Пи равняется 3,125. И Вавилон пал. В 2011 г. американский студент Александр Йи и японский исследователь Сигэру Кондо установили очередной рекорд, просчитав число Пи с точностью до 10 триллионов знаков после запятой.
Число Пи, как известно, является отношением длины окружности к ее диаметру. Доказано также, что вычислить его до конца невозможно. Любопытно, что с чисто геометрической точки зрения для любых мыслимых расчетов достаточно первых 39 значений. Длина окружности вращения Вселенной при этом может быть вычислена с точностью до радиуса протона. Но тогда зачем природе все эти остальные триллионы?
Есть гипотеза, что в этом числе зашифровано все, что только есть в мироздании. К примеру, каждый человек может отыскать в нем свой телефонный номер. А можно найти в нем закодированную «Войну и мир» и вообще все что угодно, включая еще ненаписанные произведения и даже несозданные миры. Вопрос лишь в правильной расшифровке, задача которой, впрочем, представляется едва ли разрешимой.
Но истинная проблема состоит в том, что точное значение одной из основных констант бытия получено быть не может в принципе, потому что очень похоже, что это не число, а чувство — чувство меры, чувство красоты. И создано оно неисчерпаемым, в том числе и для того, чтобы показать тщету всех наших попыток поверить алгеброй гармонию. Поэтому вавилонская башня цивилизации рано или поздно все равно падет. Она ложна, как любовь по расчету. Однако эта книга, в сущности своей, не столько один из бесчисленных сценариев того, как это, возможно, произойдет (в таковом качестве она была бы банальна и скучна), сколько еще одна попытка выразить некоторое неисчислимое чувство, одна из бесчисленных попыток, совокупность которых называется литературой.
Часть первая
1
Двое стоят на песке и смотрят в море. Их кожа покрыта великолепным северным загаром. Одежды на них нет, но они держат себя так, будто на них красуются самые пышные наряды, будто их тела — роскошная одежда, которую они носят со сдержанной торжественностью, но совершенно естественно и даже с какой-то изящной небрежностью, переходя от одной позы, которую назвать картинной мешала лишь ее совершенная простота, к другой с непринужденной пластикой борца или танцора, когда он не танцует и не борется. Один из них молод и строен. Он не уступает в росте второму, но тот намного шире в плечах.
Однако не в возрасте и стати состояло главное и разительное различие между ними. Тот, что моложе, выглядел столь изящным в пропорциях и сочленениях своего тела, что казался нарисованным в воздухе, очерченным несколькими сильными взмахами огненного угля. Не нужны были никакие подробности, чтобы восхищаться этим очерком. Все прочие черты казались случайными. Другой, постарше, был плотно вырезан из огромной глыбы живого камня. Он весомо отливался совершенно нереальными деталями своей чудовищной мускулатуры, легко преодолевая бремя бытия концентрированностью своего в нем присутствия. Даже стоя на месте со сложенными на груди руками он просто взрывал треугольником спины пространство вокруг себя, в то время как его товарищ плыл, рисовался в нем, и его, прямоплечего и узкобедрого, еще надо было разглядеть в глубине резкости трехмерного мира.
— О чем ты все время думаешь? — внезапно, точно потеряв терпение, спросил тот, что моложе.
— Я бы тебе сказал, но, боюсь, ты заснешь, меня слушая, — ответил широкоплечий. — Мои мысли не сделают тебя счастливее.
— Конечно, не сделают. Ведь невозможно быть счастливее, чем я есть!
— Никто не может сказать о себе, что счастлив, пока не узнает свою смерть.
— Мне кажется, что я так счастлив, что буду счастлив даже умереть.
— Я об этом и говорю. Придет день, и ты будешь счастлив умереть.
2
Ванглен открыл глаза и, как всегда, в первое мгновение едва не задохнулся от счастья. Он был счастлив просто оттого, что проснулся.
Как бы ни был прекрасен сон, проснуться — вот что было настоящим счастьем. Радость пробуждения была столь острой, что Ванглен вновь закрыл глаза, не в силах стерпеть брызги солнца на потолке и стенах. Ванглен лежал, привыкая к плеску света, к свежести морского воздуха, врывающегося в распахнутое окно, к тяжести литых мышц своего тела. Пробуждение! Всякий раз это было, как сотворение мира.
Ванглен рывком вскочил с постели, прошлепал босыми ногами по мозаичному полу, изображавшему море, солнце и горы, глянул на море, солнце и горы за окном. Пол приятно холодил ступни. Ванглен быстро прошел к выходу и, сладко потягиваясь, выскочил на порог, где замер в розовых лучах восходящего солнца, обозрел лазурную гладь залива, густую зелень пальмовых рощиц, белизну песка, сирень неба. Не в силах больше стерпеть ослепительного счастья бытия, Ванглен вскинул вверх свои руки и возопил во всю мощь легких, затем сорвался с места, одним махом пронырнул бассейн перед домом, прямо по газону пробежал через сад к пляжу и ринулся в море, бешено работая руками и ногами. Ванглен плыл и плыл навстречу зеленому солнцу, пока не выбился из сил настолько, что перестал чувствовать что-либо, кроме стучащей в висках крови. Он полежал на воде, приходя в себя, разгоняя розовый туман перед глазами. Берег казался узенькой полоской песка и зелени в беспредметной акварели моря. Ванглен неторопливо поплыл назад.
Выйдя из воды, юноша пошел в сад и принялся поднимать над головой и швырять на траву огромные камни, чтобы разогреться и почувствовать каждую клеточку своего тела. Некоторые камни были столь велики, вровень с его ростом, что он мог лишь ворочать их с бока на бок, да и для этого требовалось собрать всю силу. Он швырял, тягал и катал валуны, пока его кожа не залоснилась от синего пота. Мышечная радость привела Ванглена в эйфорию, и он с дикими воплями принялся плескаться у берега, поднимая искрящиеся брызги до самого неба.
Ополоснувшись, Ванглен напился прямо из моря, зачерпывая воду пригоршнями и наслаждаясь ее свежестью и сладостной чистотой.
Утолив жажду, он вылез на берег и лег на песок, слушая, как плещутся волны, как шелестит ветер листьями пальм, как гудят вершины сосен с огромными лазоревыми цветами, торчащими из хвои. Он сел и долго смотрел на то, как удивительно расположились разбросанные в саду камни, какие причудливые тени рисуют на девственном песке тени фруктовых елей. Мир был столь прекрасен, что казался нереальным. Ванглен словно оцепенел. О, какое это странное, странное, странное чувство — жить! Он вдруг ощутил себя счастливым, как никогда раньше.
А это был всего лишь крепкий порыв ветра.
И тогда Ванглен встал и побежал. Он бежал что есть мочи, чтобы сильнее почувствовать, как приятель-ветер ласкает его кожу и гладит волосы, как влюбчивое солнце нежит ему спину и целует плечи. Иногда, дурачась, он начинал бежать огромными скачками, крутился колесом, делал сальто. Он то сбегал на рыхлый песок, то несся по колено в воде, стараясь напрячь радость бега, и вновь переходил на ровную трусцу по самой кромке шелкового моря. Подошвы плотно впечатывались в мокрый песок — и это тоже было наслаждение, которое хотелось длить и длить. Ванглен бежал уже довольно долго, когда увидел девушку на берегу.
3
Девушка сидела на песке, у самого моря. Ванглен заметил ее еще издали — маленькая фигурка на пустом пляже. Она была прекрасна, как и все девушки Антарктиды, и сердце Ванглена радостно подпрыгнуло.
Он еще издали окликнул ее, но девушка сидела неподвижно, уставившись в песок прямо перед собой. Лишь ветер слегка шевелил полог ее густых волос, казавшихся необыкновенно черными даже на фоне до синевы загорелой спины. Девушка никак не реагировала на его оклики, но лишь оказавшись рядом, Ванглен понял, в чем дело, и сам едва не оцепенел. Прямо перед ней на песке лежала… книга!
Увидев книгу, Ванглен чуть не вскрикнул от неожиданности, но быстро взял себя в руки. Прежде всего он ногой отшвырнул книгу далеко в море. Затем наклонился и заглянул девушке в лицо. Она была уже где-то очень далеко, но ее светло-серые глаза еще не потухли. Пульс все еще сочился по капле в ее запястье, казавшемся таким хрупким в огромной ладони Ванглена. Девушка ушла в себя, но ее тело еще не окоченело. Еще не поздно было попытаться вернуть ее к жизни.
Ванглен подхватил на руки и перенес пушинку девичьего тела в тень пальм. Ее голова и ноги безвольно обвисли. Ванглен от волнения сам едва не терял сознание, но руки делали, что положено. Он положил девушку на песок, пристроив ее голову так, чтобы язык не запал в горло, а затем приник ртом к ее полуоткрытым губам… Бесполезно. Поцелуй жизни не сработал. Девушка быстро остывала на горячем песке, и Ванглен принялся за сердечный массаж. Он старался согреть маленькое тело, мял груди, гладил живот и узенькие бедра. Он щипал ее соски и вновь страстно целовал губы, нос, лоб, прекрасное лицо, кусал мочки маленьких, почти прозрачных ушей. Все было напрасно. Девушка оставалась холодной и бездыханной. Ее прозрачно-серые глаза быстро стекленели.
Торопясь и волнуясь, Ванглен раздвинул девушке ноги. У нее, как и у всех девушек Антарктиды, не было возраста, но теперь Ванглен увидел, что она жила на свете дольше, чем он думал: на ее лобке уже росли волосы.
Дальнейшее оказалось не так легко осуществить с безжизненным телом, ведь по сравнению с девушкой Ванглен был огромен. Он подтянул одну ее ногу и терпеливо совершал свои попытки, пока не справился с узким местом. Ванглен был осторожен и все же чувствовал, что буквально раздирает бесчувственную плоть. Как и все девушки Антарктиды, она была девственницей.
Ее лицо теперь оказалось на уровне его груди, и Ванглен не мог больше целовать ее губы, но он внимательно смотрел в ее застывшие глаза, стараясь уловить малейшее движение век, хотя бы легкую рябь жизни в глубине зрачка. Средоточие его нежных усилий стало твердым, словно кость. Он чувствовал, как тугая плоть поддается его напору.
Придерживая тело девушки за плечи, чтобы оно не ерзало по песку, Ванглен чуть усилил натиск и после нескольких осторожных пресмыканий проникновенно взмахнул бедрами. Он был уверен, что сумеет тронуть девичье сердце. И это сердце наконец содрогнулось.
Шок оказался слишком силен, и девушка выгнулось дугой, почти сбросив с себя Ванглена, который не ожидал такой мощной конвульсии от столь хрупкой на вид плоти. Но он превозмог ее первую судорогу и сильным движением вновь впечатал тело в песок. Девушка вскрикнула, и конвульсии вновь сотрясли ее, но на этот раз Ванглен ждал отклика. Ему удалось расшевелить девушку, задеть ее за живое.
Он смотрел в ее запрокинутое лицо и видел, как ожили губы, как она сделала глубокий и жадный вдох, будто выныривая из-под воды. Ее бледные глаза чуть посинели. Девушка задышала полной грудью, вбирая сладостный воздух жизни. Ее тело стало упругим и гибким. Ее руки вцепились в торс Ванглена. Ее ноги обвили его бедра. Девушка то прижималась к его груди, то откидывала голову и дышала так, точно не могла надышаться. Ее слепые глаза быстро набирали синевы, затем потемнели и стали черными.
Наращивая силу маха, Ванглен словно плыл с ней. Плыл из океана смерти к берегу жизни. Он видел, что девушка пришла в себя и уже старалась встречными всплесками не сбросить, а поглотить посылы Ванглена. Так они дошли до взаимного экстаза. Ванглен подождал, когда ее последние судороги уйдут в песок, и лишь после этого поднялся и сел рядом, тяжело и сладко дыша.
Девушка некоторое время лежала неподвижно, глядя в небо. Ее глаза вновь стали голубыми. Они будто светились на загорелом лице. Девушка потерла узкой ладошкой лоб и виски, огляделась вокруг, точно все еще не понимая, на каком она свете. Наконец она встала, отряхнула от пудры песка свои маленькие ягодицы, взглянула светящимися глазами на Ванглена, словно силясь его спросить о чем-то. На ее губах выступила капелька голубой крови, и она слизнула ее маленьким розовым языком. Девушка сделала несколько неуверенных шагов по изрытому песку, вошла в море, еще раз молча оглянулась на Ванглена и поплыла, сначала медленно, почти не совершая никаких движений руками и ногами, точно вода сама несла ее от берега, затем быстрее, уверенными и точными гребками проталкивая свое смуглое тело сквозь бирюзовую гладь. Ванглен следил за девушкой, пока она не скрылась из вида в блеске волн где-то далеко, за мысом. После этого он встал, взглянул, как море слизывает узенькие следы на песке, точно и не было никакой девушки на берегу, точно все, что сейчас случилось, лишь привиделось ему на пустом пляже. Ванглен вошел в море, ополоснулся в паху от синей девичьей крови и медленно побрел вдоль берега.
4
Ванглен лежал на камне лицом вниз, крестом раскинув могучие руки. Камень был столь велик, что нечего и пытаться было сдвинуть его с места, и Ванглен невольно думал о той чудовищной силе, которая забросила этот огромный, лобастый валун на середину пролива между двумя вытянутыми грядами островов, больших и таких маленьких, что и сами они казались лишь чередой камней, скользкие шишаки которых едва проступали над сизой дробью волн.
Ванглен лежал на камне, обнимая его теплую от солнца покатую спину, выглаженную водой, ветром, льдом древнего ледника, временем и, хоть немного, его, Ванглена, ладонями. Он чувствовал щекой твердую зернь породы. Его пальцы ощупывали край трещины, пересекавшей поперек всю глыбу. И непонятно было, что говорило ему о мироздании больше — простородность камня или блажь этой трещины в нем. Следить за трещиной пальцами было целым приключением.
Серые, омытые солнцем валуны были накрошены по всему проливу, громоздились у берегов, поросших поверху колючими пальмами, неведомо как цеплявшимися своими вздувшимися корнями за голый камень. По небу тянулись изумленные, выпукло взбитые облака, и, когда лимонное солнце выглядывало из-за них, казалось, нет ничего ярче, чем эти нагретые скалы, плескучая лазурь воды между камней, едкая хвоя пальм с их рдяной корой, поросшей цветастыми мхами. Но солнце скрывалось — и все вокруг гасло, куталось в рваную серость, становилось плоским и по-южному неуютным. Но тем ярче плескала солнечными звездами морская даль между онемевшими, затекшими островами. И вновь появлялось солнце, мгновенно намагничивая камни и плавя воду до такой синей, ветреной переливчатости, что берега и скалы, эти сколы бытия, казалось, плыли в ней со всеми своими искрометными крапинами, рудной ржой прожилок и солнечным рельефом тени. Сама их неподъемная тяжесть становилась светлой и плавучей. Камни блуждали в купоросном пламени вод. Но вновь набегало безвольное облако, и мир сутулился, тускнел, уходил в себя, чтобы через минуту опять сбросить хмарь и вспыхнуть с новой силой.
Ванглен очень любил бывать в шхерах. Это был покой, который, меняясь снаружи, оставался незыблемым внутри. Это была дрожь вечности. Даже своей тревожной переменчивостью она умиротворяла душу и говорила о какой-то древней катастрофе, прочертившей борозды этих узких проливов, искорежившей берега, раскидавшей огромные, как горы, камни. Все это так отличалось от усыпанного коралловым песком северного берега, который, в сравнении с суровостью южного, выглядел каким-то ненастоящим, искусственным, декоративным. И вместе с тем Ванглену казалось, что даже если бы кто-то сотворил Антарктиду с тем умыслом, чтобы она выглядела случайной, то он не смог бы создать ничего более естественного, чем шхеры с их бирюзовыми притонами. И, чтобы еще более подчеркнуть этот эффект, все эти обкатанные валуны и стесанные берега словно встали к Ванглену боком, обнажая именно для него свой трагический профиль, но глядя куда-то мимо, поверх, сквозь него, в ту даль, в которую ушел древний ледник, когда-то сорвавший их с места, выдавивший им спины, оставивший шрамы шхер. И не было, казалось, этой природе никакого дела до маленького человека среди огромных камней.
Ванглен перевернулся на спину и взглянул в небо. Облака разошлись под его взглядом, и в литой синеве зенита вспыхнула радуга. Сначала бледная и прозрачная, она постепенно разгоралась все ярче и нереальнее.
5
Когда Ванглен поселился на этом острове, то долгое время считал себя его единственным обитателем. В этом не было ничего странного. Антарктида огромна, и в ней всегда можно отыскать безлюдный уголок. Но однажды во время пробежки Ванглен увидел человека. Он стоял на берегу, широко расставив ноги, и глядел в море.
Ванглен был счастлив встретить живую душу после стольких дней одиночества. Он заулюлюкал, захлопал в ладоши и даже прошелся на руках от восторга. В свою очередь, увидев Ванглена, незнакомец так обрадовался, что захохотал, громко и раскатисто. Чем ближе подбегал к нему Ванглен, тем больше изумлялся облику незнакомца. Они были почти одного роста, но Ванглен еще никогда не видел такой мощи в человеческом обличии — перед ним вздымалась настоящая гора мышц. Это был восхитительный соперник, и они сразу, не тратя времени на разминку, вступили в схватку. Ванглен обожал бороться. Иногда ему казалось, что жизнь — это борьба.
Ванглен считал себя опытным борцом, и для него не было секретов в искусстве единоборства, но в этот раз он точно налетел на скалу. Борцы сплелись в тугой ком перекатывающихся мышц, и, при всей своей ловкости и быстроте, Ванглену просто нечего было противопоставить чудовищной силе противника. Кости и сухожилия трещали от напряжения, но он так и не смог добиться ни малейшего преимущества в борьбе за захваты. Он попытался взять соперника хитростью, но тот, похоже, знал все мыслимые приемы и уловки. Ванглен решил измотать его долгой возней, но вскоре понял, что изматывается сам. Соперник был неутомим и вел схватку, как опытный боец. Он не форсировал события. И лишь когда наступил подходящий момент и глаза Ванглена уже застилал кровавый туман усталости, противник вдруг взорвал груду своих мышц. Он поднял Ванглена над землей, красивейшим приемом швырнул его через себя, а затем просто-напросто вкатал юношу в песок. Никогда еще Ванглен не испытывал такого восторга! Это было самое красивое поражение всей его жизни!
Великолепного борца звали Ньен. Он был много старше Ванглена.
Волосы росли у него даже под мышками, а в паху курчавились густыми красивыми кольцами. И когда вечером они доставляли друг другу удовольствие, то Ванглен просто залюбовался, держа в руках его огромный, тяжелый, бугристый корень. Это был настоящий символ мощи.
6
Ванглен стал сходиться с Ньеном почти каждый день. Он даже хотел переселиться к нему ближе, благо в окрестных кущах было полно пустых домов. Но Ванглен больше всего любил восходы, а Ньен — закаты, и они продолжали жить на противоположных концах острова, одного из бесчисленных островов у берегов Антарктиды.
Ванглен обожал кидать камни, а Ньен — плавать. Часто он пропадал в море на несколько дней. Но сегодня он был на берегу и, как обычно, смотрел на горизонт, ожидая заката. И, как обычно, они тут же вступили в борьбу.
Ванглен прикладывал все силы, чтобы доставить другу удовольствие поражения, но бороться с Ньеном — все равно, что попасть под камнепад. Мало того, что он был силен и умел, но во время схватки, особенно если она затягивалась, гигант приходил в неистовство и просто калечил соперника. Каждый раз все это заканчивалось для Ванглена одним и тем же. Вот и сегодня он испытал счастье великолепного поражения. Ванглен даже не смог сразу встать с песка и вынужден был какое-то время лежать, ожидая, когда срастутся поломанные ребра. А Ньен стоял, широко расставив ноги, и, по обыкновению, смотрел на горизонт, будто и не было их бешеной схватки.
— Я сегодня встретил на острове девушку, — произнес Ванглен, немного придя в себя.
Ньен обернулся к нему с радостным изумлением. Люди Антарктиды редко говорили друг с другом. Зачем говорить, если и так все ясно. Люди Антарктиды прибегали к словам, лишь чтобы выразить чувства.
— И ты, конечно, влюбился в нее! — засмеялся Ньен.
— В нее нельзя было не влюбиться! — блаженно улыбнулся Ванглен. — Я еще не встречал более красивой девушки!
— Ты счастлив? — смеялся Ньен.
— О, да! Никогда еще я не был так счастлив! Но когда я увидел ее, то не думал о счастье, — ответил Ванглен. — Когда я увидел ее, она читала книгу.
Брови Ньена поползли на лоб. Он перестал улыбаться. Ванглен замолчал, задумчиво набирая в ладонь песок и наблюдая, как он тоненькой струйкой стекает с его пальцев. Он так увлекся этим занятием, что не сразу почувствовал вопросительный взгляд Ньена.
— Она совсем ушла в себя, — продолжил свой рассказ Ванглен. — Мне с большим трудом удалось вернуть ее к жизни.
Какое-то время прошло в молчании. Ньен смотрел в море. Ванглен веял песок по ветру.
— Почему люди засыпают, чтобы никогда больше не проснуться? — спросил Ванглен, продолжая ковыряться в песке.
— Ты хочешь поговорить? — с восторгом повернулся Ньен к другу. — Ты хочешь поговорить о смерти? Я с радостью воспою ее для тебя!
Гигант вновь обернулся к морю, воздел свои громадные руки к заходящему солнцу и возопил:
— О, смерть! Закат дней нашей жизни, венчающий своим великолепием ее долгое счастье! Ты — самое прекрасное, что может случиться с человеком в Антарктиде! Мы все ждем тебя с восторгом и упоением! Мы жаждем тебя! Рано или поздно наступает миг, когда человек не в силах больше выдержать счастье бытия, когда в нем сливаются все краски мира, все его восходы и закаты, весь свет и все тени, ароматы всех цветов, все восторги дружбы и вся любовь, которую он познал. Однажды наступает миг, яркий и упоительный, ради которого все мы и живем в Антарктиде, — миг высшего счастья! И оно столь велико, что становится непереносимым. И человек понимает, что это счастье — внутри него, что счастье — это он сам. И человек растворяется в этом счастье. Человек уходит в себя, чтобы никогда больше не возвращаться.
— Как красиво! Как красиво ты говоришь! — со слезами на глазах прошептал Ванглен, восторженно глядя на вдохновенное лицо друга, на его могучее тело, точно вырубленное из куска мрамора и отшлифованное миллионами поцелуев.
— Значит, книги — это высшее счастье, если от них засыпают? — ликовал Ванглен.
— Люди не всегда умирали от счастья, — тихо, будто колеблясь, продолжать ли, произнес Ньен. — Были и другие времена.
— Ты знаешь про другие времена? — спросил Ванглен, непонятно чему удивляясь, существованию других времен или тому, что его собеседник тоже знает о них.
— Я давно живу на свете, видел много людей, говорил с ними, — Ньен старался хранить спокойствие, но дрожь в голосе выдавала его волнение. — Я видел человека, который никак не мог уснуть и не проснуться. Он жил так долго, что даже лицо у него поросло волосами и они стали белыми, как снег. Он не мог уснуть даже над книгами, хотя он только и делал, что читал их.
— И он рассказал тебе, что написано в книгах? — произнес побледневший Ванглен, снова непонятно чему удивляясь.
— Сначала содержание книг показалось ему очень странным, — Ньен все больше увлекался речью. — Они были совершенно понятны! Они были слишком понятны, чтобы быть написанными лишь ради того, что в них написано. В одной из них, к примеру, говорилось о квазистационарной теории строения материи. В другой рассматривались частные аспекты преобразования струнных пространств с произвольным числом измерений. Были книги, которые вообще целиком состояли из математических вычислений, — сотни страниц сплошных формул, где в самом начале уже было предопределено то, что получится в конце, так что непонятно, зачем все это писалось с начала, а не с конца, с задач, а не прямо с ответов. Беловолосому сперва вообще непонятно было, зачем писались книги. Но потом он понял. Люди, писавшие эти книги, не знали ответов. Представь себе, они искали ответы!
Ванглен судорожно сжимал и разжимал песок в кулаке. Его лицо пошло пятнами. Дыхание стало неровным.
— Людям, писавшим книги, приходилось обо всем думать, даже о чувствах, — продолжал Ньен. — Их рассуждения были замысловаты, и тем не менее они умудрялись делать элементарные, смешные ошибки. Они на полном серьезе думали, что материя из чего-то состоит, а у пространства есть измерения. Люди, писавшие книги, считали, что будут знать больше, если поймут, из чего, к примеру, состоит этот камень. Нам с тобой невозможно даже представить логику их рассуждений, потому что мы знаем этот камень так хорошо, будто сами его создали. Он состоит из того же, из чего и мы. Как можно о нем что-то знать? Мы просто чувствуем его. А люди, писавшие книги, на самом деле считали, что у целого есть части. Их воображение было столь бедно, что им все надо было вычислять. Беловолосый человек видел книги, целиком посвященные вычислению числа Пи. Люди вычисляли и вычисляли его и никак не могли завершить эти вычисления. Они не могли понять, что число Пи нельзя вычислить, потому что это не число, а чувство. В данном случае — чувство меры, чувство красоты. Но люди, писавшие книги, не могли чувствовать это чувство сильно и точно. Их чувства были неясными. Поэтому они пытались все вычислить и все понять. Они не знали ответов. Они жили в мире, где не было ответов, так же как мы живем в мире, где нет вопросов.
Ванглен в глубокой задумчивости уставился в песок, но Ньен все говорил и говорил.
— Они называли это наукой. Но их наука еще не дошла до понимания главной научной истины: нет верных или неверных ответов. Разум всесилен и может доказать все, что угодно. Не только то, что есть, но и то, чего нет. Нет верных ответов. Верны лишь чувства. Но чувства людей в те времена были несовершенны. Они могли чувствовать не только любовь и счастье, но и их противоположность. И тогда они придумали искусство, чтобы чувствовать чувства. Им нужны были звуки, чтобы слышать гармонию мира. Они называли это музыкой. Им нужны были краски, чтобы видеть красоту. Они называли это живописью. Им нужны были слова, чтобы выразить чувства. Они называли это литературой. Но чтобы люди могли чувствовать чувства, в них говорилось не только о чувствах, но и об их противоположностях. Нам трудно даже представить то, о чем говорилось в этих книгах. В них говорилось о том, что любовь может быть мукой. Что ветер, ласкающий листву, способен рвать ее с ветвей. Что дождь может длиться сутками, а не моросить недолго перед самым рассветом. Что цветы могут не только цвести, но и вянуть. Что мир может быть жестоким, а люди способны умирать не только от счастья. Они называли это поэзией. В ней о чувствах говорилось словами! Это вообще невозможно вынести. Вот послушай:
Любовь коснулась губ Нежней, чем можно Выдержать, и груб Казался воздух, Которым я когда-то жил — Тот мускус был так густ, Что голову кружил…В этот момент Ванглена мучительно стошнило на песок какими-то желто-зелеными сгустками. Он совсем было уснул, но при звуке стихов природа выручила.
— Противно думать! — пожаловался он.
— Дыши ровнее, — спохватился Ньен. — Не смотри вглубь себя. Смотри на землю или на небо. Или на море, как это делаю я, когда тошные мысли одолевают. Полюбуйся на что-нибудь. Тебе станет легче.
— У меня плохое чувство! — простонал Ванглен Ньен подбежал к ближайшему дереву, сорвал с него цветок побольше и сунул его в нос Ванглену.
— Если книги не приносят счастья, то почему мы, люди, умираем от них? — прошептал Ванглен, жадно прижимая цветок к лицу.
— А почему ты думаешь, что мы — люди? — солнце почти село, и на божественном лице Ньена играли его багровые отблески.
7
Мир, в котором живет борец во время схватки, совсем не похож на обычный мир. Время и пространство одновременно сжимаются и растягиваются. Прием надо проводить с максимальной скоростью, со скоростью мысли. Но иногда и мысль не поспевала за развитием событий, и тогда на помощь приходила интуиция, опережающая и события, и время, и саму мысль. При этом в каждое мгновение схватки может уместиться столько действий, что мыслей о них хватило бы на день обычной жизни. Борец даже видит иначе. Иногда Ванглен совсем слеп от усилий, но это не мешало ему отлично чувствовать все действия Ньена и контролировать дистанцию до него с предельной точностью. Борец видит соперника не глазами. Он ощущает его всем своим телом, всей кожей и внутренностями, каждая из непрерывно напрягающихся мышц говорит ему о положении, действиях и даже о мыслях противника. Мышечное чувство — вот зрение борца.
Стойка Ньена обычно была выше, хотя он защищался, а нападал в начале схватки всегда Ванглен. Таку них повелось с самой первой встречи. И дело не в том, что Ванглен больше жаждал борьбы, горячился или хотел что-то доказать себе или сопернику. Ньен — более сильный борец, это и так ясно. Но его превосходство не было абсолютным. Ванглен обладал своими достоинствами. Он был гибче, ловчее, но самое главное — быстрее. Латентный период его мышц был короче.
Преимущество в скорости, с которой его мышцы выполняли команды мозга, могло показаться совсем незначительным, моргнуть — и то больше времени занимает, но в борьбе мгновения играют решающую роль.
У Ванглена самыми быстрыми были икроножные мышцы, чуть отставали от них в скорости реакции мышцы спины. Двуглавой мышцей плеча можно было гордиться, а вот дельтовидная и трехглавая мышцы работали не столь проворно, хотя обладали достаточной взрывной силой, чтобы держать в постоянном напряжении даже такого борца, как Ньен. Прямая мышца живота работала медленнее, и об этом надо было всегда помнить. Но хуже всего дела обстояли с четырехглавой мышцей бедра. Это было уязвимое место. А вот у Ньена самыми быстрыми были как раз бедра и трехглавая мышца плеча. Ванглен все это знал и готовился к схватке с учетом всех этих особенностей.
Схватка начиналась с борьбы за захваты. Внешне почти ничего не происходило. После первых наскоков и оплеух, которыми борцы словно бы приветствовали друг друга, стараясь справиться с охватившим их восторгом, начиналось долгое единоборство. Иногда схватка напоминала Ванглену размеренную беседу, обмен мнениями, а порой она превращалась во вдохновенный спор, полный высоких порывов, откровений и самых неожиданных поворотов, который всегда жалко было заканчивать и в котором горячее стремление опровергнуть аргументы друг друга доходило до крайней нетерпимости, но который все же был невозможен без соучастия. Соперники, полусогнувшись, топтались друг возле друга, стараясь ловчее ухватить один другого за шею, кисть, предплечье или плечо в поисках входа в прием и препятствуя удобному захвату оппонента. Солнце могло пройти половину небосклона, а взмокшие Ванглен и Ньен все так же топтались на песке, упершись лбами и сплетясь руками. Вроде бы ничего особенного не происходило. Но на самом деле это был один из самых волнующих и напряженных периодов схватки. О, если бы кто-то мог в этот момент заглянуть борцам в мозг!
Он увидел бы там феерический каскад приемов: отвлекающая попытка взять предплечье на ключ, на самом деле лишь маскирующая истинные намерения и срывающая соперника из устойчивого положения, стремительный нырок под руку, захват, подбив ноги бедром, вертушка, перевод в партер, захват рук и туловища, накат с выходом на мост, когда ты чувствуешь (весомое, сладостное и всеобъемлющее чувство!), что все твое тело становится частью приема, превращается в путь, по которому этот прием реализуется в сжавшихся и одновременно растянувшихся времени и пространстве, словно не ты проводишь прием, а прием — тебя, и именно в результате этого приема ты, твое тело по-настоящему существует, затем еще накат, за которым следует немедленный захват туловища сзади и бросок через себя с высокой амплитудой, после чего делается замок на плечо и шею, дожимающий поверженного соперника.
И вся эта феерия внутренней борьбы скрывалась за небольшим движением мышц, даже не движением, а намерением Ванглена сделать это движение. Но Ньен уже все просчитал в своей голове и сорвал атаку, едва заметно сместившись вперед и вправо, чуть изменив положение центра тяжести своего тела, сделав полушаг навстречу потенциальной угрозе. Ньен знал, что атаку надо гасить еще на попытке входа в прием, пока она не набрала темп и инерцию, не стала неотвратимой, не превратилась в удар, сметающий все на своем пути. И даже это уже недостаточно своевременно. Атаку надо гасить на этапе замысла, предугадав намерения противника, пересчитав его. И в головах борцов постоянно шел расчет будущих действий и противодействий, своих и соперника. Вокруг простой вертушки, о которой невозможно было даже помыслить, чтобы она удалась в единоборстве двух столь опытных борцов, Ванглен и Ньен могли разыгрывать в голове целые баталии.
А со стороны казалось, что ничего особенного не происходит: сопение, возня, полушаги, подтанцовывания, попытки сдвинуть друг друга с места, раскачать, вывести из равновесия, чуть-чуть, на полпальца, улучшить захват. Но за всей этой невзрачной толкотней стояли стремительные движения мысли. В каждом борце таилось бесчисленное множество отработанных до автоматизма программ действий. Прием или каскад приемов могли последовать в любое мгновение, как только мозг борца, его мышечное самосознание определит, что его тело, руки и ноги, а также тело соперника в своем постоянно меняющемся противоборстве взаимоположений, захватов и контрзахватов, — как только эти тела хотя бы на самый летучий миг принимали позицию, позволяющую провести атакующее действие. В этом случае прием последует незамедлительно, и для этого опытному борцу порой даже не надо принимать сознательного решения. Его тело, его мозг все сделают сами, мгновенно взорвавшись отработанными действиями. Конечно, именно сознание играло в борьбе главную роль. Более того, главным образом это была не борьба мышц, а борьба нервов, борьба умов.
Внешне все выглядело как однообразная возня двух гигантов, топчущихся в песке на одном месте. Но на самом деле шла напряженная, изматывающая внутренняя борьба, состоящая из микроатак и порой незаметных глазу контрприемов, проходивших на фоне силового давления и противодействия, и каждый из борцов постоянно и очень остро ощущал, какой опасности противостоит. Каждый знал, что малейшая неловкость, заминка или неверное движение закончатся для него мгновенной, неотразимой атакой и неизбежным поражением.
Пользуясь преимуществом в быстроте реакции своих мышц, Ванглен создавал Ньену угрозу за угрозой. Ванглен вынужден был постоянно атаковать. Он знал, что стоит ему хотя бы на мгновение ослабить натиск и проявить чуть меньше изобретательности в создании угроз, и Ньен сомнет его.
Ванглен знал все приемы борьбы. Их было так много, что ему не хватило бы дня, чтобы показать их все, если бы кто-то попросил его об этом. И каждый из этих приемов мог выполняться из множества положений во множестве вариантов. Ванглен знал, что нет ничего хуже, чем раз и навсегда, жестким образом заученный прием. Из сильной стороны он превращается в слабость, в стереотип, узнав о котором, соперник легко может подловить борца на контратаке. Вся жизнь борца проходила в отработке приемов до полного автоматизма, а затем — в борьбе с косным навыком, мешающим творческой интерпретации слишком жестко заученного действия в случайной вариативности боя. Каждый случай применения того или иного приема требовал особого подхода. Ванглен порой сам изумлялся неисчерпаемости путей, которые он видел в развитии техники своей борьбы. Ведь даже самый отработанный прием никогда не проводится в чистом виде. В реальной схватке невозможно уловить момент, когда кончается один прием и начинается другой. Бессмысленно даже пытаться проводить изолированный прием в единоборстве с опытным противником. На каждый прием существует две-три защиты и несколько контрприемов.
Но защита от одного приема создает благоприятные условия для проведения другого. Каждый прием нужно встраивать в комбинацию, и таких комбинаций — простых и сложных, длинных и коротких, жестко определяющих действия и противодействия соперников — построить можно неисчислимое множество. Действительные намерения следовало маскировать ложными атаками. Причем ложные атаки становились действенным средством борьбы лишь тогда, когда могли в любое мгновение стать реальными действиями. Борец должен верить в успех своей атаки, в реальность создаваемой им угрозы и своей верой заставлять соперника сосредотачиваться на защите.
Техника и тактика борьбы, связанные между собой неразрывно, предоставляли столько возможностей для реализации самых изощренных замыслов, что, казалось, всей жизни не хватит, чтобы продумать и воплотить их в реальной схватке. Ванглен мог часами сидеть на берегу, уставившись в пустоту перед собой, и придумывать все новые и новые комбинации. Даже когда он любовался чем-то, нюхал цветы или был с женщиной, он постоянно ощущал, что где-то в глубине его существа постоянно идет напряженная внутренняя борьба.
Внешне ничего особенного не происходило. Возня борцов, их движения могли показаться даже медлительными и ленивыми, но за ними стояла молниеносная работа мысли. Угрозы возникали одна за другой. Ванглен ставил капканы, готовил ловушки, создавал завесу сбивающих факторов, прокручивал в голове самые изощренные варианты развития событий. Иногда его комбинации были столь остроумны, что Ньен не выдерживал и начинал смеяться прямо в ходе схватки, несмотря на всю напряженность момента. Ванглен стремился запутать, сбить соперника с толку, застать его врасплох, удивить, ошеломить, опередить хоть на мгновение в своих расчетах, но Ньен всегда был настороже, и рано или поздно наступал момент, когда он начинал брать верх в этой сложной игре угроз и противодействий.
Дело не в том, что Ванглен уставал физически. Конечно, он уставал, но это тоже была часть борьбы, и физически он мог продолжать поединок несколько дней без перерыва. Ванглен прекрасно владел своим телом и умел чередовать различные типы мышечной активности — взрывные усилия стяговыми, предельные нагрузки с релаксацией, преодолевающий, уступающий и удерживающие режимы работы, статику с динамикой боя. Умение дать отдых той или иной группе мышц в ходе схватки, следить за дыханием, поменять стойку с левосторонней на правостороннюю или фронтальную — важнейшая составляющая искусства борьбы, в свою очередь еще более усложнявшая ее тактику и стратегию, ту игру, которую вели соперники. Но в борьбе изнемогало не тело Ванглена, а его мозг.
Ванглен уставал верить в успех своих атак. Его мозг переставал справляться с объемом поступающей информации, и рано или поздно это приводило к едва заметному сбою в хорошо продуманных действиях, неуловимой потере концентрации, небольшой неточности в положении рук, ног и тела, и Ньен мгновенно пользовался удобным случаем.
Ванглен еще не успевал толком осознать, что произошло, а соперник уже швырял его в воздух. Земля на одно очень долгое мгновение менялась местами с небом, и Ванглен парил где-то высоко, беспомощный и невесомый, перед тем как рухнуть в песок. Дальнейшее было делом техники и напоминало любовь. Ньен наседал сверху. Ванглен конвульсировал внизу, жадно хватая воздух ртом. Эта агония могла продолжаться довольно долго, но решалось все в один ослепительный миг.
Их схватки порой начинались ранним утром, а заканчивались на закате, хотя Ванглен хорошо понимал, что Ньен мог бы расправиться с ним гораздо быстрее, если бы не одна особенность. Дело в том, что гигант всегда заканчивал бой одним и тем же приемом — броском через спину. Это был один из самых красивых и самых сложных приемов борьбы, но Ньен умел проводить его практически из любого положения. Достаточно малейшей заминки — не в действиях даже, а в мыслях — и Ванглен взлетал в воздух. Ньен мог бы просто перевести Ванглена в партер и укатать в песок одними накатами, но он заканчивал единоборство только своим любимым броском.
Ванглен прекрасно знал об этом и строил всю свою тактику и стратегию вокруг этого факта. Он много дней размышлял об этом, бесчисленное количество раз прокручивал в голове малейшие нюансы их прошлых схваток, изобретал новые уловки, подбирал сложнейшие комбинации, и все же каждый раз Ньен проводил этот прием неожиданно, неординарно, всегда как-то по-новому, но неизменно красиво и яростно. Ванглен много размышлял над этим приемом и средствами противодействия ему.
В ходе схватки он мог сорвать несколько попыток его применения, что приводило Ньена в полный восторг, от которого он впадал в совершенное неистовство, делавшее его абсолютно необоримым. Сперва Ванглен думал, что этим бешенством Ньен вызывает в себе дополнительные силы, позволяющие ему сокрушить любое сопротивление, но постепенно Ванглен понял, что таким образом проявлялось высшее вдохновение этого могучего борца. Дело было не в том, что Ньен сильнее. Это и так ясно, и колосс мог бы продемонстрировать свое превосходство в силе бесконечным числом других способов. Но Ванглен умел противостоять силе, умел использовать ее в своих целях, и одной силы было недостаточно, чтобы победить его. Поэтому Ньен в первую очередь стремился демонстрировать то, что он умнее, расчетливее и искуснее. Даже в своей необузданной ярости, которая тоже была частью вдохновенного расчета. Он побеждал в своем воображении. Даже то, что он думал в течение схватки лишь об одном приеме, давало ему преимущество. Ведь в то время как Ванглен планировал множество комбинаций, Ньен все время думал об одном и том же. А в Антарктиде, если о чем-то долго думать, то это непременно происходит.
8
Несколько дней Ванглен провел в одиночестве. Ньен уплыл к горизонту, но юноша чувствовал себя таким счастливым, что даже не замечал отсутствия друга. Он вставал на заре, встречал солнце, плавал, бегал, швырял камни, нюхал цветы, а потом валялся на берегу, прислушиваясь к шелесту пальм и плеску моря, и наслаждался внутренней борьбой. Ванглен был так счастлив, что вновь увидев девушку на берегу, лишь в это мгновение осознал, как страстно ему хотелось встретить ее.
Ванглен так разволновался при виде девушки, что даже не смог окликнуть ее, точно чьи-то пальцы в борьбе сдавили ему горло. Девушка шла навстречу, а Ванглен замедлял шаги. Он вдруг так ослабел, что не мог больше двигаться быстро. Он боялся, что его тело осыплется песком, схлынет волной в море, растворится в воздухе, словно аромат цветка. Он шел навстречу девушке бесконечно долго. У него было такое чувство, что он шел к ней всю свою жизнь.
Его руки — это были словно не его руки. Его ноги не слушались его. Он будто заново учился ходить. Каждый его шаг был первым. На него всякий раз надо было решиться. Он чувствовал, что с каждым шагом сердце в его груди билось все сильнее — не быстрее, а глубже, — и в конце концов ему показалось, что он весь превратился в одно содрогающееся сердце.
Она шла навстречу. Легко и красиво. И чем ближе они становились, тем яснее Ванглен осознавал, что никогда еще в жизни не встречал девушки прекраснее. Она была нереально красива. Ее хрупкость казалось вызовом физической силе его взгляда. Но тонкость ее черт и фигуры сочеталась с точностью и уверенностью легких движений. Она отрицала реальность и одновременно оправдывала ее со всеми этими длинными, солнечными днями.
Она подошла совсем близко. О, какое у нее было лицо! В это лицо можно было смотреть целую вечность. На одни эти полуоткрытые губы ушли бы несколько жизней. А ее глаза! Это были не глаза, а свет, леденящий и обжигающий вместе. Ее тело было порождением всех стихий, их средоточием, местом их встречи и совершенного равновесия. Она была прекрасна, как может быть лишь мечта о прекрасном, его, Ванглена, мечта, которой он грезил во всех своих снах, и все же не мог вообразить, какой прекрасной она может быть наяву, потому что если бы он хотя бы на краткий миг отчетливо вообразил это, то немедленно сошел бы с ума, оттого что видит ее во сне, а не наяву, и даже теперь, увидев ее наяву, он не был до конца уверен, что это не сон. Она была, как все его сны, вместе взятые. Не плоть — сгусток света и тени, которыми нельзя обладать, в которые можно лишь погрузиться, сгореть в протуберанцах рук и ног, в ослепительном свете лица, в ледяном огне глаз, в черном зареве ее волос, во всполохах груди и бедер, в трепетном пламени живота. Воздух стекленел и плавился от нежности ее кожи.
Ванглен остановился, не в силах сделать последнего шага. Он не смел даже вздохнуть, чтобы не смутить видения. Он не мог шевельнуться, несмотря на страстное желание и закаленную волю борца. Потому что вдруг понял, что мертв. Что он не жил до этого мгновения. В нем просто не могло быть жизни, потому что вся его жизнь сосредоточилась в этой девушке в шаге от него.
Девушка смотрела на Ванглена так, будто впервые его видела, будто вообще впервые видела мужчину, человека. А потом она полупрозрачной ладонью коснулась его щеки и даровала жизнь. Ванглен едва выдержал это прикосновение. Это было все равно что родиться заново. И Ванглен со всей страстью бросился жить.
Они не могли больше существовать раздельно, как душа и тело. И они попытались слиться, проникнуть друг в друга так глубоко, как только это возможно. И еще, и еще, и еще раз. Весь мир вокруг них превратился в одно огромное содрогающееся сердце. Ее глаза стали черными, и Ванглен все падал и падал в эту бездну, пока маленькая смерть не снизошла на обоих.
9
Ванглен не помнил, сколько времени они провели вместе, прежде чем мир вокруг вновь стал обретать знакомые очертания — моря, неба, песка, деревьев, цветов и солнца. Был вечер. И было утро. Лунная ночь. И солнечный день, который казался тусклым после того огня, который испепелял обоих.
Ванглен лежал на спине, запрокинув голову, и ему казалось, что море стало небом, а небо — морем. Ему казалось, что он на небе. Голова девушки лежала на его плече. Ее черные волосы разметались по его груди. Ее синие глаза светились на темном от загара лице.
— Как тебя зовут? — спросил Ванглен.
Девушка смотрела на него так, будто этот вопрос для нее ничего не значил, будто она даже не понимает смысла этих слов, и Ванглен вновь испугался, что пребывание там, за чертой жизни, не прошло для нее бесследно.
— Меня зовут Ванглен, — ткнул себя пальцем в грудь Ванглен, а потом коснулся девушки. — А как зовут тебя?
— Ванглен… Тогда, наверное, меня зовут Киллена, — улыбнулась девушка.
— Ты не помнишь, как тебя зовут? — удивился Ванглен.
— Я так люблю тебя, что позабыла обо всем на свете, — ответила Киллена, и свет в ее глазах стал густым и синим. — Я так люблю, что забыла себя. Мне кажется, что я помню лишь тебя, моя любовь. Что я всю жизнь помнила лишь тебя. Я искала тебя. Я бродила по земле. Я плыла от острова к острову. Но никак не могла вспомнить, где я тебя видела. Иногда мне казалось, что я видела тебя лишь во сне, что на самом деле тебя нет, что я тебя выдумала.
— Ты не помнишь, как мы встретились? — рассмеялся Ванглен.
— Значит, мы встречались не во сне?
— Я встретил тебя здесь, на этом острове. Ты сидела на песке и… читала книгу. Разве ты не помнишь этого?
— Я помню лишь тебя, — полыхнула взглядом Киллена. — Мне кажется, что до встречи с тобой меня вообще не было. Это была не я. Я помню, что та я, что была до меня, жила в большом городе, где было так много домов, что из окна одного всегда можно было разглядеть крышу другого, и где было так много людей, что, не побродив и дня, обязательно встретишь человека. И эти люди были столь прекрасны, что я влюблялась во всех мужчин и во всех женщин. И всякий раз это была любовь с первого взгляда, потому что нельзя было не полюбить их, увидев хотя бы раз. И люди любили меня. Рядом со мной, вокруг меня, во мне было столько любви! Мы целыми днями танцевали! Танцевали и любили друг друга. Любовь и нежность переполняли меня. Я выплескивала их на первого встречного, но любви во мне не становилось меньше. Ее становилось больше. И я не могла вынести этого счастья. Я ушла от людей. Я уплыла от них в море. Я плыла много дней и ночей, от острова к острову, и никого не встречала на своем пути. Никогда еще я так долго не была одна. И никогда еще я не была так счастлива. С каждым днем я становилась все счастливее. Я вся горела внутри и таяла снаружи от прикосновения ветра, волны, луча солнца. Мои чувства обострились настолько, что даже собственные движения стали для меня источником нестерпимого наслаждения. Я плыла и чувствовала, что наслаждение растет во мне с каждым взмахом руки, растет и достигает экстаза, которого я не испытывала ни с одним мужчиной и ни с одной женщиной. И тогда я выходила на берег и отдыхала. В то хрустальное утро я вышла на берег, и ветер прильнул к моей груди с самой трепетной нежностью, а солнце опалило мою кожу сладчайшими поцелуями. Я бросилась в море, но вода обняла меня еще более жгучей лаской. Я каталась по песку, но он с нежностью льнул ко мне каждой своей песчинкой, мириадами песчинок. Я чувствовала, что больше не могу этого вынести. Умирать от счастья — это так трудно! Я пряталась в тени деревьев, скрывалась в домах. Но это не приносило покоя. Море, солнце и ветер звали меня, и я не могла противиться этому зову. И тогда я вышла на берег и почувствовала, что достигла высшего счастья, счастья, которое невозможно выдержать, от которого нет спасения, потому что оно бесконечно, и от которого невозможно избавиться, потому что оно — это и есть я сама. И вдруг я увидела книгу.
Я не помню, где нашла ее и каким образом она оказалась в моих руках, но мне ничего больше не оставалась, как открыть ее…
Киллена молчала. Ванглен гладил ее волосы.
— Ты помнишь, что было написано в книге? — вдруг спросил он, и лицо его при этом осталось совершенно спокойным.
— Этого нельзя рассказать, — глаза Киллены изменили цвет. — Но не потому, что я этого не помню. Там были вопросы, на которые нет ответа. Но не потому, что ответа нет. Смысл этих вопросов не в ответах, а лишь в том, чтобы человек задался ими. И начал думать.
Взгляд Киллены посерел, словно сумерки, и она произнесла слова, которые оглушили Ванглена. Он пытался понять, что она говорит, но не мог. Ее губы шевелились беззвучно.
— Я тебя не слышу! — орал Ванглен, глядя на беззвучные губы Киллены.
— Не слышу! Я не слышу тебя, Киллена!
Он взглянул ей в глаза, и это спасло обоих. Ванглен обхватил ее за плечи, встряхнул, стал целовать, заставил посмотреть себе в лицо. Киллена очнулась. Взгляд ее просиял.
— Когда в то утро я открыла книгу, то думала, что достигла высшего счастья, — горячо зашептала Киллена на ухо Ванглену. — Но я ошиблась. Никогда! Никогда еще я не была так счастлива, как в эту минуту с тобой!
10
Когда Ванглен очнулся от сна, было раннее утро, самый милый его сердцу час. Ванглен сел на прохладном песке и сразу увидел Киллену и Ньена. Они танцевали. Это было прекрасно.
Ньен был огромен, как гора. Киллена рядом с ним казалась порывом ветра в верхушках сосен, плеском волны у подножья скалы, лучом света, мерцающим в темноте пещеры. Музыка, под которую они танцевали, была беззвучной, но Ванглен так же ясно слышал каждый перелив ее мелодии, как видел движения двух нагих тел в резких лучах восходящего солнца, на розовом песке, на фоне глубинной синевы гладкого, как кожа девушки, моря.
Мелодии, которые вели Ньен и Киллена, были столь же разными, как и они сами. Чтобы подчеркнуть этот контраст, Ньен совершал странные и резкие движения, будто он не танцевал, а разминался перед схваткой. Бугры его мышц перекатывались и вспухали под кожей. Его могучая фигура, казалось, заслоняла все небо над трепещущей Килленой. Если бы в этом мире существовала угроза, то Ванглен сказал бы, что Ньен угрожал Киллене. Он грозил ей, как грозит волнам скала, висящая над морем, и ждущая, когда же волны подточат ее. Ньен словно творил над Килленой каменный небосвод, готовый низвергнуться огненной лавой страсти, клокотавшей в глухом подземелье его музыки.
Киллена вела совсем другую мелодию. Она была высока, тонка и печальна, невыразима печальна. Ванглен никогда не слышал ничего подобного. Киллена словно бы принесла эту музыку из какого-то другого мира, где она побывала и откуда Ванглен вновь вызвал ее к жизни. Он жадно слушал эту музыку, которая беззвучно раздавалась не то в его душе, не то повсюду вокруг. Ванглен окаменел от восторга. Нет ничего на свете прекраснее музыки. Особенно, если она печальна и звучит внутри. Наслаждение можно чувствовать, не зная боли, но радость невозможно понять без печали. Впрочем, в Антарктиде и печаль была радостью. Музыка была единственной печалью в Антарктиде. Слушать ее — высшее наслаждение.
Беззвучные слезы, которые лила Киллена в танце, не были светлыми. И все же магическая красота ее движений превозмогала скорбь, и это мешало Киллене выразить всю глубину печали в этом сияющем мире восходящего над Антарктидой солнца. Мучась этим, Киллена пыталась выскользнуть из грациозности собственного тела, но чем больше она старалась сбросить с себя несказанное изящество хрупкой плоти, тем прекраснее и чувственнее становились ее отчаянные жесты.
Киллена вытягивалась в струну. И струна звенела. Девушка ломалась и падала, но музыка взметалась ввысь и поднимала ее за собой. Самые странные и угловатые ее жесты были слишком красивы, чтобы казаться случайными.
Музыка рыдала, как душа, лишенная плоти. Как душа, которая жаждет стать плотью, чтобы насладиться физической близостью с этим сверкающим миром, и Киллена всем своим существом отдавалась музыке, чтобы та могла хоть немного утешиться ею. Киллена стремилась стать музыкой, раствориться в ней.
Увлекшись этой игрой, Киллена не замечала ничего вокруг себя и не видела той каменной бури, которую вздымал над ней Ньен. Огонек ее тела бился на песке, сам к себе льнул и сам себя отталкивал, и Ньен постепенно приходил в бешенство оттого, что ее мелодия не замечает громады его страстного танца. Все его попытки навязать Киллене свою музыку разбивались о ее самозабвенную игру. И Ньен, как обычно, впал в неистовство. Его танец превратился в череду конвульсивных выбросов энергии, рассыпался в первозданный хаос. Жилы вздулись на его теле. Ньен напрягал всю свою мощь, чтобы обрести опору в разверзшейся вокруг него пустоте. Его чудовищный черный пест вздулся и окаменел, словно новый пуп мироздания, и Ньен принялся восставать из огня своей страсти.
У танца возникла новая линия. Она мелькнула сперва как случайное соприкосновение двух тел, самых кончиков их пальцев. И все крепла и крепла по мере того, как эти тела и их мелодии становились все более непрозрачными друг для друга. Эта линия сразу заставила Ванглена позабыть обо всем на свете. Потому что это была его любимая тема — тема борьбы.
Вновь обретший себя, словно сам себя из собственных бедер родивший, Ньен сперва попытался увлечь Киллену одной только мощью своих замахов. Но девушка ускользала из его рук, словно вода или ветер.
Тогда Ньен попытался пустить в ход силу. Сделать это было нелегко, слишком уж разной была природа танца обоих. Они смешались, словно свет и тьма, словно огонь и воздух. Ньен бросался на Киллену и отскакивал от нее, отраженный и обезображенный. Киллена играла и билась, не даваясь в руки гиганту, отчаянно сопротивляясь тяжелому ритму его тектонической музыки, которой он пытался растоптать ее полет. И все же ее красота была слишком земной, слишком зримой и чувственной, чтобы долго ускользать от объятий. Киллена так и не смогла стать музыкой, и Ньен стал овладевать ее танцем физически.
Прямая борьба между ними казалась немыслимой, и все же она завязалась. Киллена стекала с рук Ньена, как ручей со скалы, она металась по кругу, очерченному его страстным взглядом. Она изо всех сил стремилась вырваться из этого круга, выбежать, выпорхнуть, выкатиться, выползти из него. Она то парила, то пресмыкалась. Но всякий раз Ньен настигал ее, стеной вставал на пути ее полета, успевал схватить за руки, ноги, плечи, волосы и вновь швырнуть в безумное горнило своего танца. Он сметал ее, как лавина. Он кружил ее, как лепесток в горном потоке. Он швырял ее в небо, втаптывал в землю, нянчил и терзал, вдыхал, пил ее. Он окружал ее своей огнедышащей плотью, он смыкался над ней, поглощал ее. Киллена билась и изнемогала. Не в силах противиться силе, она попыталась сжаться в мерцающую точку, погаснуть, как луч заходящего солнца, уйти в песок, как волна. Но Ньен разжигал ее руки и ноги, снова раздувая пламя схватки.
Их борьба стала буквальной. Верный своей тактике, Ньен медлил, чтобы утомить Киллену, чтобы бешеная ярость ее сопротивления растворилась в тяжести его мышц, в буграх его вздувшейся спины, в глыбах ягодиц. Но, стремясь закончить бой красиво, он не стал ждать ее полного изнеможения. В тот миг, когда ярость девушки достигла пика и заставила Киллену на слишком долгий миг раскрыться навстречу его мощи, он положил ее на лопатки, вмял в песок и начал доставлять удовольствие поражения, тяжело и мощно, не обращая больше внимания на конвульсии маленького тела, которые скоро перешли в судороги наслаждения, в агонию страсти. Их танец стал общим. Ванглен сидел, очарованный, прислушиваясь к последним вздохам музыки, а затем встал и присоединился к ним.
Весь этот долгий день они любили ее, вдвоем и по очереди. А когда больше не было сил любить, когда кожу саднило даже дыхание, не то что прикосновение, обжигал взгляд, не говоря о поцелуе, они танцевали, чтобы быть вместе, не касаясь друг к друга, чтобы чувствовать, не глядя один на другого. Весь день они любили и отдыхали от любви, плавали и дремали вместе, танцевали и дурачились, перебивая музыкальные экспромты друг друга. И снова любили. И ее, такой маленькой и хрупкой, хватало обоим, даже когда они были с ней вдвоем, и все же ее было мало, даже когда она оставалась с одним из них. Она ласкалась к ним всем своим фантастическим телом, и ей не хватало их, даже когда они любили ее оба.
А вечером они сидели рядом и смотрели на закат, как это любил делать Ньен. И непонятно было, как они оказались на противоположном конце острова и сколько времени прошло с утра на самом деле. Они любовались заходящим за дальний архипелаг солнцем, пока на небе не высыпали огромные звезды. Тьма шелестела в пальмах. Многоцветные ленты полярного сияния полыхали необыкновенно ярко, и Ванглен подумал, что сегодня очень много людей смотрят на небо. Песок светился. Море струилось потоками подводного света. Это была прекрасная видимость. Никогда еще они не были так счастливы.
11
Киллена и Ньен нарвали в зарослях еды, а Ванглен принес из ближайшего дома кувшин и наполнил его нектаром из больших фиолетово-оранжевых плодов. Киллене захотелось баклажанов с начинкой из тающе-сладкого желе, а мужчины набросились на бананы, мясистые и пахучие. Когда их срываешь с ветки, они начинали быстро дозревать и греться. Ньен любил их есть полусырыми, брызжущими горячим красным соком. При этом он обильно посыпал еду жгучей пыльцой маленьких ярко-красных цветов. Ванглен подождал, пока сочная мякоть прожарится до солоноватой корочки и лишь после этого ободрал почерневшую кожуру и впился зубами в тугую, волокнистую плоть. Еда была такой вкусной, что все трое постанывали, пока ели.
Насладившись пищей, они некоторое время сидели молча, нюхали цветы и пили нектар. Стало совсем темно. Ньен сломал несколько веток, сложил их домиком на песке и воспламенил взглядом. Охмелевший от еды и нектара Ванглен разглядывал кувшин. По красному фону его боков бежали черные контуры людей: могучие фигуры мужчин и тонкие силуэты женщин. Мужчины боролись и преследовали женщин. Женщины танцевали и манили мужчин. Это было очень красиво.
Ванглен сунул руку в огонь, глядя, как языки пламени лижут его кожу, наслаждаясь его лаской. Кожура съеденных плодов таяла на песке, на глазах превращаясь в аромат. Ванглен сунул в костер вторую руку и омыл ладони синим пламенем. Кожа стала сухой и чистой.
Киллена сделала Ванглену и Ньену венки из больших белых цветов, а себе — браслеты из ярко-красных побегов на руки и ноги. Она вновь стала девушкой и принялась тихонько пританцовывать вокруг костра, временами обрывая мелодию и начиная ее вновь. Ванглен лег на песок. Ему стало хмельно и весело. Звезды кружились перед глазами. Мириады переливающихся звезд! Они вспыхивали и гасли. Одни двигались медленно, едва заметно для глаза, другие быстрее. Они перемещались все вместе, целыми скоплениями и поодиночке, образуя все новые и новые созвездия.
— Как красиво! — прошептал Ванглен. — Как красиво! Как хочется оказаться прямо там!
— Где? — не понял осоловевший Ньен.
— Среди звезд! — почти пропел Ванглен. Небо кружилось над его головой.
— Мы и так среди звезд, — буркнул Ньен.
— Я как будто лечу! Ты хотел бы полететь к звездам, Ньен?
— Если бы хотел, то полетел бы.
— Ты умеешь летать?
— Конечно.
Ванглен уставился на Ньена в пьяном восторге.
— Это шутка! — восхитился Ванглен. — Пошути еще, Ньен!
— Когда я был очень молод и жил в горах, то однажды встретил мужчину.
— С белыми волосами? — перебил его Ванглен, уже готовый рассмеяться.
— Нет. У него вообще не было волос на теле, — продолжил Ньен и вновь остановился, терпеливо ожидая, пока Ванглен справится с приступом смеха.
— Как его звали? — спросил Ванглен.
— Какая разница? На самом деле ни у кого из нас нет имени. Ты зовешь меня Ньен, потому что я так тебе сказал. И для тебя я — Ньен, а она — Киллена. Но я встречал людей, которые звали меня совсем по-другому.
Ванглен блаженно улыбался. Нектар притупил его чувства и затуманил ум, и он мог спокойно думать. В нынешнем своем состоянии он мог бы так же спокойно висеть над пропастью, улыбаясь, или падать в нее, хохоча.
— У него не было ни волос, ни имени, но самое странное — это были его глаза. Они все время смеялись, — продолжал Ньен. — И вопрос, с которым он обратился ко мне, показался мне смешным и странным. Он спросил, не хочу ли я полетать? Он спросил так, будто не знал ответа. Я был тогда совсем молод, только что из-под куста, и он повел меня за собой, но не вниз, к морю, куда шли все, а вверх, в горы, к самым снеговым вершинам. Несколько дней и ночей мы карабкались к небу и звездам. Мы спали на голых камнях. Мы ели траву. Человек вел меня, а его глаза все смеялись. Наконец, на самом верху огромной скалы, мы остановились у края обрыва. Половину Антарктиды — от заснеженных гор до самого синего моря — я окинул одним взором. Мне кажется, я мог бы стоять там вечность, глядя на бесчисленные леса, долины, реки и озера далеко внизу. Это был самый красивый вид, что я видел в своей жизни. И тогда человек со смеющимися глазами сказал: «Ты хотел летать? Ну так лети!» И с этими словами он столкнул меня с обрыва. И я полетел прямо в эту красоту. Сначала головой вниз, беспорядочно кувыркаясь. Затем мне удалось лечь на воздух. Ветер свистел у меня в ушах. Я летел, летел, летел, а потом — бац — грохнулся на камни. Удар был такой, что даже глаза лопнули.
Ванглен катался по песку, держась за живот и корчась от беззвучного хохота. Киллена даже перестала танцевать и с веселым изумлением воззрилась на мужчин.
— Это самая лучшая шутка, что я слышал в своей жизни, — простонал Ванглен, вытирая слезы на глазах.
— Только на третий день мокрое место, которое осталось от меня после падения, начало подсыхать. Я слизывал мох с камней, но все-таки встал на ноги. И как только я обрел способность двигаться, то вновь полез наверх, вскарабкался на обрыв, разбежался и полетел в эту ослепительную красоту. И вновь упал и разбился. И опять оброс плотью, встал и полез наверх, чтобы прыгнуть вниз, потому что невозможно было представить себе счастья большего, — чем то, что я ощущал в этих полетах. Никогда прежде я не переживал столь остро восторг жизни, как в тот миг, когда, раскинув руки, отрывался от края обрыва и летел в манящую бездну. И постепенно я стал замечать, что после каждого падения мои кости становились все крепче и крепче, на них нарастало все больше и больше мяса. С каждым разом я становился все тяжелее и тяжелее.
— Так вот откуда в тебе столько силы, — с пьяным умилением воскликнул Ванглен. Его глаза все еще были мокры от слез.
— А еще я стал замечать, что с каждым падением все крепче и тяжелее становилась моя голова, — продолжал Ньен. — В ней начали прорастать мысли, и моя голова в какой-то момент стала достаточно крепка, чтобы выдерживать их. Я чувствовал, что эти мысли явно не были моими. Они проникали извне в мою разбитую голову и прорастали в ней, как пережившие долгую засуху зерна. Они пускали корни, переплетались с чувствами, распускались, словно цветы. Изменились и мои чувства. С каждым разом чувство красоты, когда я смотрел на мир с обрыва, становилось все более глубоким. Оно стало таким сильным, что восторг падения, восторг вообще лишь мешал ему. И перед каждым следующим прыжком я стоял у края обрыва все дольше и дольше. Я думал, и у меня захватывало дух от одной только мысли. И однажды, забравшись наверх, я глянул с обрыва и понял: чтобы летать, не обязательно лезть вверх и прыгать вниз. И теперь я всегда летаю. Даже когда стою на берегу и гляжу в небо. Даже когда сижу и читаю книги.
— Ты умеешь читать книги? — рассмеялся Ванглен. — Кто научил тебя этому?
— А кто научил меня говорить? — поднял густые брови Ньен. — Мы умеем все это с самого рождения, как дышать и видеть, как плавать и ходить, умеем с того момента, как созреваем под родным кустом, открываем глаза и появляемся на свет где-то в лесах предгорья, чтобы начать свой путь к морю. И никто нас не учил этому. Просто мы это умеем. Трудность в другом. Мы не умеем думать. Даже когда мы думаем, что думаем, на самом деле думаем не мы. Это мысли думают сами себя. В нас они просто прорастают, как сорная трава среди чувств. Наши здесь только чувства.
— Так вот почему меня тошнит от одной только мысли! — хохмил Ванглен.
— Думать противоестественно. Зачем думать? Думать — значит не понимать. А нам все и так понятно. Мы все понимаем от самого рождения. Мы от рождения знаем все. А когда все знаешь, очень трудно думать. Мучительно думать, когда понимаешь все. Сама мысль об этом невыносима.
— Ты думаешь? — рассмеялся Ванглен собственной шутке.
— Нет, я просто излагаю мысли, — сказал Ньен. — На самом деле мы не можем думать, потому что разум давно покинул нас. Беловолосый человек рассказывал мне, что когда-то люди были разумными. Они должны были думать, потому что не все понимали. Разум человека был ограничен. Но затем разум отделился от человека и получил неограниченные возможности. Став всемогущим, разум все понял. Он познал этот мир, и мир перестал быть ему интересен. Ведь невозможно понять одно и то же дважды. Тогда разум открыл для себя иные миры — или сотворил их, что одно и то же, — и ушел, чтобы творить и наслаждаться творчеством.
— Если разум оставил нас, то зачем он нас оставил? — все еще веселился Ванглен. — Зачем тогда мы?
— Невозможно жить, если все понимаешь. Разум все понял, и этот мир перестал для него существовать. Он превратился в чистое знание, в идеальную теорию, в полный набор данных. Обретя абсолютное знание и научившись думать и не ошибаться, разум утратил способность чувствовать: то есть видеть не то, что есть, а то, что кажется. Вместо этих чудных звезд и волшебного моря разум видит даже не сгустки праха, а сгустки пустоты — набор формул. Они изящны, но давно решены. А мы видим то, что кажется, — звезды и море. Этот мир создан, чтобы казаться. Потому-то он столь прекрасен. И этот мир существует лишь потому, что в нем есть мы — те, кто видит не то, что есть, а то, что кажется. Этот мир существует только потому, что мы не можем думать. Нельзя понять дважды, но чувствовать можно бесконечно.
— У меня такое чувство, что этот кувшин бесконечен, — заявил Ванглен, потягивая нектар.
— В общем, так оно и есть, — оживленно подхватил Ньен, его пьяные глаза странно бегали. — Его существование — замкнутый круг. Ты смотришь на него, потому что он существует. И даже если ты не смотришь на него, то он существует потому, что на него смотрит кто-то еще. И даже если никто на него не смотрит, то ты все равно знаешь, что он существует, потому что на него можно посмотреть. А теперь представь, что в мире не существует вообще никого, кто мог бы посмотреть на этот кувшин. Тогда этот кувшин перестает существовать. Он не существует, даже если существует. Этот рисунок на его боках становится рисунком лишь в твоем воображении. На самом деле это просто пятна, но для тебя это рисунок. Без тебя он — ничто, существуя — не существует. Увидеть в нем рисунок можешь только ты. И при этом ты создаешь его в своем воображении. Без тебя он, существуя, не существует. То же самое можно сказать и обо всем этом мире в целом. Для того чтобы все это существовало, нужен ты.
Лицо Ньена приобрело потешно-торжественное выражение. Венок сполз на затылок.
— Так все-таки этот кувшин есть или только кажется мне? — Ванглену было интересно, какой из неверных ответов выберет Ньен.
— Есть и казаться — это суть одно и то же, — продолжал вещать Ньен. — Есть этого мира вовсе не кажущееся. Казаться — основное свойство его есть. Этот мир есть для того, чтобы казаться. Но казаться для этого мира — это не значит казаться, но не быть. Казаться — это и есть его есть.
— Ну, это понятно, — хихикал Ванглен.
— А я перестал это понимать, поэтому стал думать, — разглагольствовал Ньен. — Этот кувшин есть, даже когда его нет. Если его разбить, то на том же столе и в том же доме, откуда ты притащил его, появится точно такой же. И даже не точно такой же, а именно он. И будет как новый.
— Как смешно ты говоришь, — веселился Ванглен. — Ты говоришь так, будто ты прочитал обо всем этом в книгах. Будто этот удивительный мир удивляет тебя.
— Этот мир таков потому, что о таком мире мечтали люди. Это не мир, а мечта. Он существует, и кажется, чтобы мы наслаждались им. Мы лишились разума, но в нас необыкновенно развилась сила чувствовать радость и счастье. Счастье — наша среда обитания. Заповедник счастья — вот что вокруг нас. Мы не люди. Мы — звери. Звери в заповеднике.
— Звери! — рыдал от смеха Ванглен. — Расскажи! Расскажи мне про зверей, Ньен! Расскажи так, будто я совсем ничего не знаю об этом.
— Когда-то человек жил среди зверей. Человек сам был зверем, и волосы у него росли по всему телу. Он мог сильно чувствовать, но это были такие чувства, что лучше было думать, чем чувствовать их. И человек стал думать. Так возник разум. Звери видели то, что есть вокруг них. Они видели, что солнце кружится над землей. А человек стал понимать, что ему это только кажется. Человек стал понимать, что он видит на самом деле. Это отличало человека от зверя. Это отличает человека от нас. Человек больше не мог жить среди зверей. Он покинул зверей и создал заповедники, где звери жили так, как будто в мире нет людей. Когда разум покинул нас, он поступил так же — создал заповедник, где мы живем так, будто нет разума.
— А зачем в заповеднике книги? — длил Ванглен пьяную болтовню.
— Книги остались с тех времен, когда человек уже чувствовал, но еще не научился пользоваться своими чувствами. Его чувства были неразвиты. Он ничего не мог просто почувствовать, просто вообразить, как ты — этот кувшин. Все, что он придумал, ему непременно надо было создавать. Буквально. Руками. Поэтому книги такие странные. Их природа двойственна. С одной стороны, они рукотворны. С другой, являются плодом воображения. Книги, слова вообще — это первая попытка разума отделиться от человека и получить неограниченные возможности. Книги и слова впервые стали думать вместо человека. Книги — воплощение чистого разума, но созданы человеком. Люди все поняли и перестали быть людьми. Люди исчезли как вид, в смысле — пропали из вида. Люди вымерли, а забытые книги застряли в этом мире. Они — на границе между явью и воображением, между чувством и разумом, между разумом и людьми, между людьми и нами, между тем, что есть, и тем, что кажется.
Ньен потянулся, разминая затекшую спину, поиграл бицепсами, покатал бугры мышц. Ванглен представил себе Ньена с книгой, и его вновь начал разбирать смех.
— Я видел книгу только один раз в жизни, — признался Ванглен.
— Беловолосый находил их почти в каждом доме. Он читал их, пытаясь заснуть. У него их были тысячи. Книги повсюду. Просто ты их не замечаешь. Ты слишком взволнован жизнью, чтобы замечать книги. Ты можешь целый день слушать, как ветер шумит в соснах, ты можешь различить каждую иголочку в их вершинах — и при этом ты не заметишь книгу даже под собственным носом. Мы так устроены, что замечаем лишь то, что волнует нас. Мы слишком взволнованы тем, что кажется, чтобы замечать то, что есть.
— А мы сами есть или только кажемся себе? — спросил Ванглен. Ему нравилось задавать вопросы, для которых не нужны никакие ответы.
— Какая разница? Какая разница, есть мы или кажемся? Есть и казаться — это одно и то же. Разве у тебя, когда ты был особенно счастлив, не возникало чувство нереальности происходящего? Будто ты — это не ты. И ты не можешь понять — ты есть или тебя нет. Ты есть — и тебя нет. Ты растворяешься в счастье. Ты — сгусток счастья, сгусток собственных чувств. И весь этот мир — просто запах цветка, который ты вдыхаешь, просто сон, который распускается в тебе, словно цветок, источающий запах. Будто кто-то вообразил и тебя, и весь этот мир вокруг. Быть может, это сделал я. А быть может — ты. Или кто-то другой, кто наслаждается счастьем быть нами. Кто-то умный и печальный. И именно поэтому мы красивы и счастливы. И нам не надо думать, потому что кто-то делает это вместо нас. Прямо сейчас.
— Я чувствую себя разумным существом, — захохотал Ванглен.
— Это только чувство, — Ньен сделал магический жест, чтобы вызвать прохладный ветерок.
— Слушай, Ньен, а как ты себя чувствуешь? — без тени иронии, стараясь не расхохотаться, спросил Ванглен.
— Хорошо, — пьяно улыбнулся Ньен, подставляя разгоряченное лицо ветру.
— Я тебя спрашиваю, не как ты себя чувствуешь, а как ты это делаешь? — без тени улыбки, очень серьезно настаивал юноша.
— Надеюсь, что хорошо! — Ньен почесал шерсть внизу живота. — И в этих словах нет ложной скромности, потому что это делаю не я, а со мной.
— Значит, меня нет, а есть только чувство меня? — с удовольствием продолжал бессмысленную беседу Ванглен.
— Дело не в том, есть мы или нет, — ответил Ньен. — Вопрос в том, живы мы или нет. Иногда мне кажется, что нет, и поэтому-то в нас столько жажды жизни. Вопрос в том, есть ли в нас нечто не столь иллюзорное, как мы, как наши чувства, мысли и тело, не столь иллюзорное, как море, земля и небо, как весь этот мир вокруг, который есть и нет одновременно в зависимости от того, считаешь ли ты это вопросом или ответом. В нас есть нечто, что делает нас живыми. И это нечто — душа. Лишь душа по-настоящему реальна. Все остальное можно вообразить — кувшин, женщину, море, небо. Иногда вообразить получается так, другой раз — иначе. Но дело не в силе воображения, а в правде. Если я долго буду смотреть вверх, то смогу вообразить звезду — и она там вспыхнет. Посмотри, сколько счастливых взглядов скользит сейчас по небу! Звезды на небе — это правда, что ни воображай о себе. А душу вообразить нельзя. Ее можно только вложить. Душа — это единственное, что не является плодом воображения. Мы есть не потому, что мы есть и кажемся, а потому, что в нас есть душа. Кто-то вложил ее в нас. Поэтому мы есть, хотя мы и не люди.
— Быть может, мы боги? Люди умерли, а боги остались, — потешался Ванглен.
— Какие же мы боги! — поднял густые брови Ньен. — Боги властны. Они могут не только творить, но и рушить. А мы — нет. Ты не можешь разрушить себя. Ты не можешь разрушить даже этот кувшин. Он тут же появится вновь. Причем в твоем же воображении.
— Если я вообразил этот кувшин, то почему я вообразил его именно таким? — нарочно спросил Ванглен, чтобы услышать не ответ, а чувство, с которым Ньен произнесет его.
— Этот мир таков, какой он есть. Таким он и кажется нам. Ты же не человек, чтобы выдумывать то, чего нет. Ты просто воображаешь то, что есть, вернее — кажется тебе, и оно таким и становится. И оно не может быть иным, потому что не может быть прекраснее, чем ты это вообразил. Взгляни на этот кувшин. Разве он не совершенен в благородной простоте своих форм? Посмотри на Киллену! Разве ты можешь представить себе девушку красивее?
— Нет! — Ванглен даже икнул от восторга.
— Этот мир таков, каким ты его вообразил. Спасибо тебе, Ванглен, что ты выдумал этот мир. Спасибо, что ты выдумал Киллену!
Ванглен так много смеялся, что на него напала икота, и теперь он валялся на песке с выпученными глазами, не в силах произнести ни слова. Приступ был такой сильный, что все его тело билось в судорогах. Ванглен пытался пить из кувшина, но не смог сделать и глотка. Нектар потек по его подбородку и груди. Он не в состоянии был даже подняться. Просто сидел и корчился от беззвучного хохота, глядя на звезды и море. Его рука случайно попала в костер, и нектар вспыхнул на его теле. Киллена прервала свой танец и вернулась к костру из темноты.
— Ванглен! — засмеялась она, глядя на горящего Ванглена.
— Киллена! — задыхался Ванглен.
Ошалевший Ньен истово крестил себя магическими жестами, отчего вокруг поднялся такой ветер, что огонь затрещал на коже Ванглена.
— Ванглен! — смеялась Киллена.
— Киллена! — хрипел Ванглен, почти теряя сознание. Он весь трясся от хохота. Из его глаз лились слезы.
Киллена бегала вокруг пылающего синим пламенем Ванглена, прыгала и хлопала в ладоши. Она была совершенно счастлива.
— Ванглен и Киллена! Ванглен и Киллена! — хохотала она, будто не было на свете ничего более смешного, чем два этих имени вместе.
12
Ванглен и Киллена все время проводили вместе. Они то пускали радуги над головой, то зажигали звезды в глазах друг друга. Это были самые счастливые дни их жизни. Время от времени Ванглен забывался, любуясь особенно красивым цветком, слушая ветер или охваченный внутренней борьбой, которая не затихала в нем ни на мгновение. Но тем большее счастье нисходило, когда, очнувшись, он вновь видел Киллену, которая, в свою очередь, цепенела над цветком или глядела, как зачарованная, в море, совсем, казалось, позабыв о Ванглене. Тем ярче вспыхивали ее глаза, когда Ванглен окликал ее, прежде чем им обоим вновь впасть в созерцательную задумчивость. Так они блуждали вдвоем по всему острову, и чем дольше длились периоды, в которые они теряли друг друга из вида, тем ярче вспыхивала страсть в минуту новой близости.
— Ванглен! Я умру без тебя! — шептала Киллена.
Наступали сумерки. День гас, а ночь еще не разгорелась. Киллена, танцуя, углублялась в потемневший, пронизанный лучами заходящего солнца лес, перепархивая от дерева к дереву, оттени к тени, а Ванглен, не в силах сделать шагу, застыл на залитом красным закатным светом берегу, глядя в багровое море. Природа снова делала вид.
13
Сны были одним из величайших наслаждений жизни в Антарктиде. Особенно если нанюхаться перед этим пыльцы. Сны были продолжением яви, а явь — продолжением сна. Ванглен засыпал и просыпался со слезами счастья на глазах. Во сне он летал или превращался в распустившийся цветок или в женщину, которой овладевали. Но после того как Ванглен сгорел и возродился из пепла, его сны изменились. Вот и в эту ночь ему приснился очень странный сон. Он был чужим. Будто он прочитал его в книге.
Ему снилось, что листья на деревьях стали желтыми. Что все небо заволокло низкими серыми тучами, сизые космы которых опускались до самой земли. И все время шел дождь, холодный и нудный дождь.
Ванглен ощутил странное чувство легкости. Его взгляд легко переходил от предмета к предмету, не задерживаясь надолго, точно прикованный, возле всего увиденного. Ни деревья, ни цветы, ни море не останавливали его взора красивостью, как это происходило наяву, когда он порой до ночи не мог оторваться от созерцания какого-нибудь перелива лазури у дальних скал. И при этом все вокруг — даже туман и мгла на небе — выглядело таким отчетливым и реальным, что, казалось, этот сон и есть явь. Ванглен мог разом обозреть всю землю в ее мельчайших подробностях, все море в его беспрерывном волнении и все небо в его мглистой пустоте.
Он видел поле. Но это было совсем другое поле. Трава в нем была высокой, в пояс, спутанной и неровной. Это было не поле даже, а огромное болото. То там, то тут блестели лужи, виднелась бурая топь, вокруг которой торчали бесформенными комками зелени кусты. Ванглен никогда не видел ничего подобного, и вместе с тем ему казалось, что все это ему хорошо знакомо, что он где-то все это уже видел наяву — низкое небо, заросшее поле, бурую топь.
Он увидел лес. Но это был совсем другой лес. В том лесу, который помнил Ванглен с того момента, как появился на свет, всегда было уютно и радостно. Ванглен любил родной лес. Он обнимался с деревьями, танцевал и боролся с ними. В том лесу повсюду были дорожки, протоптанные так хорошо, надежно и удобно, что, казалось, по ним каждый день куда-то ходили сотни людей, между тем в лесу можно было бродить неделями, не встретив ни одной живой души. Лишь дорожки петляли между могучих стволов, и каждая из них звала за собой, уводила в таинственную сень, пронизанную столбами света, пересекала залитые солнцем поляны и луга, перебегала через ручьи, вилась вдоль тихих озер и сонных рек. Иной раз Ванглен нарочно забирался в самую глухую чащу, куда ни один луч солнца не пробивался сквозь многослойный полог листвы и где было темнее, чем ночью, поскольку над головой не было ни блуждающих звезд, ни полярных сияний. Но и там Ванглену было хорошо и покойно. Он забирался на какое-нибудь дерево и сосредоточенно боролся с его ветвями до тех пор, пока не оказывался на самом верху, откуда обозревал бескрайнее зеленое море, расстилавшееся вокруг от горизонта до горизонта. Иногда дерево было таким высоким, что борьба с ним занимала целый день, и Ванглен ночевал на его ветвях, слушая шум леса и глядя на звезды. Звезды над Антарктидой видны были даже днем, а ночью они представляли собой самое фантастическое зрелище.
Родной лес днем и ночью шумел листьями над головой, радостно вздыхал высокими кронами. А во сне лес молчал. В нем не было усыпанных белым песком дорожек. Он был заросший и печальный, весь устланный ковром опавшей листвы, заваленный стволами рухнувших деревьев, гнилыми ветвями. Ванглен посмотрел на ноги. Они были в грязи. Ванглен увидел, что он весь перепачкан грязью и пятнами высохшей крови.
А потом Ванглен увидел то, чего не видел никогда в жизни, — увядший цветок. Цветок, который превратился не в запах, а в бесцветную, прелую требуху. Его лепестки сморщились и стали блеклыми. От него почти ничем не пахло. Зато сильно пахла земля под ногами, пахли кучи опавших листьев, пахла вода в лужах, и от этих запахов воздух делался тяжелым и влажным. И был еще какой-то крепкий запах повсюду. Ванглен не сразу понял, что это пахло море. И, глядя в море, на внезапно пробившийся сквозь тучи луч солнца на черной воде, Ванглен впервые почувствовал себя одиноким.
В родном лесу Ванглен почти всегда был один. Но сейчас он почувствовал себя одиноким потому, что не был один. Вот прошуршала палой листвой мохнатая гусеница, быстро перебирая ворсистыми лапками. Во рту она держала большую и сочную ягоду. Печально крича, высоко в небе пролетели воздушные змеи. Их узкие тела извивались в воздухе. Их разноцветные гривы трепетали на ветру. В полях стадами и поодиночке бродили волосатые птицы. Ветер гладил их волнистые шкуры. Ванглен замер. Ему показалось, что на него смотрит дерево. Но это был всего лишь крокодил, который так плотно прижался к стволу, что почти слился с корой. Только глаза блестели из бурой шерсти. Ванглен подошел к нему и провел рукой по косматому загривку. Крокодил взмахнул кисточкой на хвосте и быстро полез по стволу вверх, тяжело затрещал ветвями. То, что казалось рыжим валуном посреди болота, внезапно пошевелилось и сдвинулось с места. Это был волосатый слон. Ванглен был не один. Повсюду были звери.
Ванглен вышел на пустой пляж и шел вдоль ревущей полосы прибоя, пока не почувствовал, что уже не одинок. Это было очень неприятное чувство. Оно пришло к нему со спины. Резко обернувшись, Ванглен увидел человека. Он стоял на песке и смотрел на Ванглена так, что в нем сразу можно было узнать сильного борца. У него были длинные, до колен, руки и короткие кривые ноги. Ванглен поразился, каким древним выглядел человек. Волосы покрывали все его тело. А на ногах у него росли пальцы! У человека почти не было лба, зато нос расплющился на пол-лица, а челюсти выступали далеко вперед. Глаза человека сидели где-то глубоко в черепе и лишь поблескивали из своих нор. Ноздри раздувались, словно ему было мало крошечных глаз, и он вынюхивал Ванглена. Человек смотрел зорко и внимательно, и было в его взгляде еще что-то, чему Ванглен не смог сразу подобрать названия. Это была мысль. И эта мысль Ванглену не понравилась. Она неприятно поражала своей простотой. Ванглен взглянул человеку прямо в его маленькие глазки, стараясь соединить эту простую мысль со своим большим чувством. И тогда человек бросился на него.
Ванглен изготовился к схватке, но человек повел себя необычно. Он не боролся умно и красиво, а просто бил. И каждый удар лишал Ванглена способности к сопротивлению. Вот обвисла плетью рука. Перестала двигаться нога. Закрылся глаз. Человек не старался положить соперника на лопатки, а просто сокрушал его. В порыве какого-то необычного чувства человек поцеловал Ванглена в плечо у самого горла. Поцелуй был настолько страстным, что человек черными зубами вырвал кусок мяса и начал жевать его, будто это была мякоть плода. Ванглен застонал от неведомого наслаждения и проснулся.
14
Солнце уже давно встало, когда Ванглен вышел на берег, стряхивая с себя остатки сна. Он взглянул на небо и обомлел. Далеко, на самом горизонте, в море вздымалась гора. Ее белоснежная вершина ослепительно сверкала в лучах солнца. Она вздымалась над морем выше самых высоких гор Антарктиды. Она заслоняла половину звездной сини неба. Она была белее самых белых снеговых вершин. Она была не просто белой. Из нее исходило сияние. Лучи расходились от ее клубящейся вершины так, будто свет исходил от горы, а не от солнца. И это гора была словно живая. Она дышала. Ее склоны дымились и пучились. Облачная гора была огромна и буквально на глазах становилась еще больше, росла, надвигалась, вздымалась все выше. Казалось, еще немного, и облако заговорит с Вангленом. Но оно молчало.
Вершина горы излучала свет, а ее основание скрывалось во тьме, в сизом мраке на горизонте. Время от времени в этом мраке вспыхивали желтые всполохи, и тогда становились видны полосы дождя и громадные водяные столбы, уходившие от поверхности моря в тучу. Свет облака пучился от тьмы, что внутри.
Невозможно было отвести глаз от этой картины, и, пораженный увиденным, Ванглен не сразу заметил Киллену, хотя она лежала без движения на песке у самых его ног. Было похоже, будто девушка из последних сил ползла к морю и уснула у самой кромки воды. Ее глаза были открыты и пусты. Зрачки стали белыми. Черный ореол волос колыхался вокруг головы. Ее рот оскалился, и в нем тоже стояла вода. Было похоже, что она грызла песок перед тем, как заснуть.
Обычно люди Антарктиды не видят уснувших. Усопшие просто исчезают из вида, чтобы возникнуть вновь где-то в глубине материка, в родном лесу, у подножия покрытых вечным снегом гор. Они родятся, чтобы вновь начать свой путь вниз, к морю, и умереть от счастья на его берегу. Ванглен мог напрячь воображение и вновь встретить Киллену на ее пути к счастью. Он мог бы окликнуть ее, и она даже не удивилась бы, что кто-то зовет ее этим именем. Но заглянув в темную суть, Ванглен понял, что Киллены больше нет. Он видит то, чего нет.
Ванглен долго сидел на песке, глядя на Киллену, которой больше нет. Лучи солнца не ласкали, а жгли ему спину. Вставать не хотелось, и он просто подвинул к себе ближе тень пальмы. Но лучше не стало. Его жгло изнутри, а не снаружи. Что-то горело в нем.
Ванглен поднял Киллену на руки и вошел с ней в море. Потом он долго плыл, а когда глубь обрела густую, бездонную синеву, Ванглен выпустил Киллену из рук и наблюдал, как она медленно исчезает в бездне моря. Ванглен поплыл обратно, чувствуя, как гора грозового облака растет за его спиной. Вода показалась ему горькой, как слезы. Или это и были слезы? Ванглен плакал. Он не плакал так даже от смеха. Ему трудно было понять, что он чувствует, но им владело такое сильное чувство, которого он не испытывал никогда прежде. Если это и есть счастье, то оно действительно невыносимо. Ванглен сел на песок и стал смотреть прямо на солнце, чтобы высушить горькие слезы. Он смотрел, пока солнце не выжгло ему глаза.
15
Зрение медленно возвращалось к Ванглену. Ему казалось, что все вокруг сплошь белым-бело. И в этом молочно-белом тумане постепенно проступали белые контуры и тени. Так он стал видеть.
Ванглен стоял на берегу. В бесцветном небе тлело маленькое белое солнце. Все вокруг было завалено белым. Столько снега и льда Ванглен не видел даже на вершинах гор. Даже море было покрыто льдом, наседавшим на берег вздыбленными глыбами. Но и берег весь состоял изо льда. Он обрывался в море высоченными ледяными кручами. А где-то вдали, в белом море маячили огромные ледяные скалы.
Казалось, вся Антарктида превратилась в белую пустыню. Дул пронзительный ветер. Снег струился по земле, как песок в речных струях. Белые дымы курились над верхушками белых барханов. Было трудно дышать. От обилия белого резало глаза. Ветер высекал ледяные слезы. И было холодно. Нестерпимо холодно. От холода Ванглен и проснулся.
16
Ньен стоял на берегу в своей обычной позе и глядел на белую гору и черный горизонт так, будто там ничего не было. Будто он видел все это каждый день. С моря дул свежий ветер. Он срывал белые гребешки волн и гнул ветви пальм к земле. Ветер не был холодным, но Ванглен никак не мог согреться. Его бил озноб.
Внимательно посмотрев на друга, Ньен сразу встал в борцовскую позу, пригнувшись к земле и выставив вперед могучие руки. Ветер струил песок у его ног. Ньен скалился. Ванглена трясло.
Ванглен быстро сблизился с Ньеном и, не входя в контакт с его необоримым захватом, коротко и резко ударил противника в горло, почувствовав, как хрустнул кадык под кулаком. И пока Ньен, держась за шею, жадно хватал воздух ртом, Ванглен изо всей силы лягнул гиганта ногой в пах. Ньен согнулся. Ванглен ухватил противника за волосы и саданул коленом прямо в лицо, мгновенно превратив идеальный нос и губы в кровавое месиво. Ньен мычал, катаясь по песку, а Ванглен ходил вокруг и с наслаждением избивал его ногами. Он бил и бил, пока Ньен не перестал содрогаться от наслаждения.
Прошло немало времени, прежде чем Ньен начал подавать признаки жизни. Он с трудом встал и, пошатываясь, направился к ближайшим зарослям, где начал жадно пожирать листья с веток. Его опухшее лицо медленно обретало прежний вид.
Наевшись, Ньен побрел к морю и стал смывать с неузнаваемого лица зеленую кровь, морщась от удовольствия.
— Наверное, я слишком долго живу на свете, — проговорил он сквозь не до конца выросшие зубы. — Даже поражения больше не доставляют мне радости.
Ньен вошел в воду и поплыл. Сначала медленно и тяжело. А потом все быстрее и быстрее. Его спина все выше вылетала из воды, когда он обеими руками бил по ее поверхности. Он выныривал уже по пояс, и, казалось, еще усилие — и он полетит над волнами к горизонту. Его широкая спина блестела на солнце.
17
Ванглен вновь проснулся от дрожи. Ему снился город. Темный и мрачный, где вместо неба и зелени были лишь серые потолки и стены. Вместо гор — купола и башни, полные книг. Книги были повсюду. Они заслоняли окна, высыпались из открытых дверей, громоздились на уличных скамьях, просто валялись на земле, словно кучи мусора. В городе было много людей. Порой Ванглен не мог протолкнуться сквозь толпу, так их было много. И они не любили друг друга! Они были одеты в серое, и одежда закрывала все их тело. Их лица походили на маски. Даже когда они улыбались, улыбки ничего не значили. И все они читали книги. Сидя, стоя и на ходу. Они читали даже за едой. Они не смотрели друг на друга, а лишь в свои книги. И даже когда они смотрели друг на друга, они смотрели, точно слепые. Женщины не отличались от мужчин.
У всех были узкие плечи, согнутые спины, впалые груди, так что иногда вообще непонятно было, есть ли хоть что-то под этими серыми одеждами…
Ванглен долго сидел на краю постели, глядя на солнечные пятна на полу и пытаясь побороть озноб, бивший его изнутри. Затем встал, прошелся по комнате, пытаясь согреться, и почти не удивился, увидев на столе книгу. Книга было очень старая, со стершейся черной обложкой, на которой ничего невозможно было прочитать. Ванглен впервые видел что-то старое в Антарктиде.
Ванглен взял книгу и вышел на пляж. Озноб не проходил и на солнце. Горизонт был чист. Небо пусто. Даже звезд не стало видно. Только где-то очень высоко, раскинув руки, парил Ньен.
Стоял абсолютный штиль, но неподвижный воздух казался обжигающе холодным. Крылья пальм бессильно обвисли. Ни один листик на деревьях не шевелился. Было так тихо, что Ванглен слышал, как свистит рассекаемый Ньеном воздух. Вода в море выглядела мертвой. Море отступило от берега, и повсюду обнажились песчаные отмели и черные камни. Ванглен тронул воду, но она не взволновалась. Рука, преломляясь, проходила сквозь нее, как сквозь поток жидкого света. Свет показался Ванглену еще более ледяным, чем воздух.
Ванглен сел на холодный песок. Книга сразу раскрылась где-то на середине, точно ее бесчисленное количество раз открывали именно на этом месте. И Ванглен погрузился в чтение…
Конец первой части
Часть вторая
1
Ли открыл глаза. Как всегда по утрам, болело все тело. Каждая его клетка, каждая мышца налились свинцовой тяжестью. Невозможно поднять веки. Больно даже просто смотреть, хотя в комнате темно. Лишь на низком потолке прямо над кроватью слегка светилось надышанное за ночь пятно плесени.
Ли двумя руками ухватился за перекладину, висевшую над изголовьем, подтянулся и сел. Затем, собравшись с силами, встал. Прихрамывая, сделал несколько разминочных шагов по комнате, стараясь ступать осторожно, чтобы не подвернуть спросонья ногу.
Комната была совсем крошечная: четыре шага от окна до двери. Но это было даже удобно. Можно ходить, держась за стены. Ли выглянул в окно. Мрак. Стену дома напротив почти невозможно различить, хотя до нее не дальше вытянутой руки. Окошко совсем маленькое. В принципе, нужды в нем нет вовсе. Все равно на улице всегда темно. Да и смотреть не на что. Именно поэтому люди и живут здесь.
Ли подошел к большому, в полный рост, стенному зеркалу и внимательно осмотрел свое тощее тело. Кожа совершенно чиста. Ни пятнышка, ни волоска. Бактерии-депиляторы хорошо делали свое дело. Особенно тщательно Ли осмотрел кожный покров в паху и между пальцами. Поднял руку, понюхал подмышки и поморщился. Оттуда резко пахнуло цветами.
Протерев тело гигиеническим полотенцем, Ли подошел к столу, вынул из ящика фиолетовый пузырек и глотнул микстуру, чувствуя, как бактерии тут же принялись расщеплять кислоту, забившую за ночь мышцы. Снадобье действовало быстро, и через минуту Ли почувствовал, что его самоконтроль заработал в полную силу.
Ли даже ощутил голод. Он подошел к мусорному ведру, откинул крышку и выудил оттуда теплый сэндвич с ветчиной. Жадно надкусил его и только потом ощутил запах. От ветчины несло цветами. Есть это было невозможно.
Ли бросил объедки в ведро, отправил туда же использованное полотенце, захлопнул крышку и набрал код на клавиатуре. В ведре слегка забулькало, послышалось шипение бактериальной эссенции, и через пять минут яблочный пирожок был готов. Запах и вкус у него оказались вполне приемлемыми, хотя на зубах все время скрипели нитки от недоваренного полотенца.
Самоконтроль уже работал на полную мощь. Ли чувствовал себя сильным, энергичным и уверенным в себе. Тяжесть в мышцах не угнетала, а бодрила его. Ли глянул на цвет часов и стал торопливо собираться, на ходу дожевывая пирожок. Натянул комбинезон, закрепил капюшон на голове, надел служебные зеленые очки, респиратор с нарисованной улыбкой, натянул перчатки и, чавкнув герметичной дверью, вышел на улицу.
2
Страница, на которой раскрылась книга, объясняла, в чем вопрос, разницы между двумя ответами на который прежде для Ванглена не существовало. Книга выпала из его рук. Он не уснул, но все вокруг стало, как во сне, — легко и просто. Внутренняя борьба, которая непрерывно шла в нем с самого рождения, закончилась. Ванглен овладел собой. Его взгляд свободно переходил от предмета к предмету. Он видел то, на что смотрел, а не наоборот, как раньше. Ванглен впервые смог спокойно оглядеться вокруг. Он без восторга обозрел море, небо и землю. Неопрятные тучи заслоняли солнце. Мутные волны плевались грязной пеной на серый песок. В полосе прибоя болталось несколько утопленников. Ветер теребил листы рассыпавшейся у ног книги. Ванглен чувствовал себя человеком.
3
Ли долго и осторожно, держась за перила и прицеливаясь к каждой ступеньке, спускался по темной лестнице, пока не оказался в узеньком простенке между домами. Там он отдышался и двинулся дальше. Проход был узкий. В одном месте ему пришлось даже повернуться боком, чтобы протиснуться за угол. Наконец он выскользнул в лабиринт пустых, темных переулков. Потянулись бесконечные подворотни. Было еще очень рано, и людей на улице почти не встречалось. Какой-то человек — женщина, судя по синим очкам, — спал прямо у стены, подложив книгу под голову. В принципе, это считалось нарушением режима, но Ли сейчас было не до того. Он торопился.
Ближе к книжному базару люди попадались чаще: сидящие на скамейках, на ступеньках и даже просто лежащие с книгами на земле. Некоторые бог знает какой раз перелистывали прочитанные страницы, содержание которых знали уже наизусть. Другие просто валялись с книгами в обнимку, не то подремывая, не то перебирая в голове прочитанное. Наконец из расщелины очередной улочки Ли выбрался на открытое пространство. Книжный базар представлял собой круглую площадь, к которой стекались лабиринты жилых кварталов, а в центре ее высилась бетонная башня с замурованной аркой. На стене прямо напротив арки все еще можно было прочитать полустершиеся иероглифы: «Добро пожаловать в Антарктиду — всемирный курорт чтения!»
4
Ванглен шел сквозь лес. Но не по дорожкам, как обычно, а напролом, прямо сквозь кусты и заросли. И повсюду натыкался на развалины. Домики, которые раньше выглядели такими уютными, оказались мрачными бетонными коробками с пустыми проемами окон и дверей. В них было пусто и голо. Они точно выгорели изнутри. По углам — потеки мочи и следы испражнений. Лишь местами на стенах и полах еще сохранились остатки мозаичных картин из драгоценных камней всевозможных цветов и размеров. Вскинутые руки. Танцующие ноги. Фрагменты пейзажей. С изгаженного панно сквозь грязь и копоть на Ванглена глянул темный, широко распахнутый глаз. Мозаики осыпались, и россыпи драгоценных камней виднелись повсюду: алмазы, сапфиры, рубины, топазы, аметисты, ясписы, смарагды, сардониксы, халкидоны валялись целыми грудами. И повсюду высились руины каких-то циклопических сооружений. Они были такого размера, будто в них жили не люди, а гиганты. Виднелись обрушенные купола, развалины многоярусных зданий с проваленными перекрытиями, разрушенные башни, остатки высоченных стен, чудовищные колоннады, стоящие вертикально и рухнувшие на землю. Руины были сплошь покрыты мхом и увиты лианами, и все же Ванглен не понимал, как он мог раньше не замечать всего этого. Впрочем, он и сейчас с трудом различал развалины среди зарослей. Ему все еще приходилось напрягать зрение, чтобы видеть то, что есть, а не то, что кажется.
5
Несмотря на ранний час, на площади толпился народ. Киоски книжного базара еще не работали, но у прилавков уже собрались люди в ожидании сегодняшних книг. Углекислоты и влаги в воздухе здесь было гораздо больше, поэтому поглощающая плесень на стенах светилась. Ярко тлели кислородные фонари. Даже бетонный небосвод над головой слегка мерцал. Ли едва протиснулся сквозь толпу, чтобы занять свое место за прилавком.
Наконец генератор текстов заработал, люди зашевелились и принялись жадно расхватывать штабеля свежих книг. Все книги выглядели одинаково — небольшие черные томики без каких-либо надписей на обложке или корешке. Люди хватали их без всякого разбора. Задние напирали на передних. Передние, ухватив свою книгу и бережно прижав ее к груди, силились пробиться назад. Некоторые, не выдержав, раскрывали свои книги и начинали читать прямо на ходу, гладя страницы дрожащими руками. Это считалось грубым нарушением правил гигиены, но Ли и другим священнослужителям сейчас было не до того. Толпа вяло напирала. Плесень на своде и стенах разгоралась все ярче.
Ли с его самоконтролем всегда удивлялся этой ежедневной суматохе. Ведь люди знали, что чтива хватит на всех и что прийти за новой книгой днем можно в любое время, поэтому не обязательно толпиться у прилавка в утренний час пик. В принципе, служители обязаны разносить книги тем, кто за ними по каким-то причинам не явился. Но в этом никогда не возникало надобности. Потому что причина неявки читателя за новой книгой могла быть только одна.
И все же жажда чтения была так велика, что каждый читатель норовил оказаться у прилавка первым. Людям не хватало терпения образовать даже подобия очереди. Ли и остальные слуги выбивались из сил, распихивая книги, почти швыряя их в толпу. Отовсюду напирали. Отовсюду доносилось сопение, шарканье ног, нетерпеливые возгласы, сдавленные вздохи. Отовсюду тянулись руки и улыбающиеся маски. Десятки, сотни дрожащих рук и улыбок.
6
Ванглен уходил все дальше и дальше на юг, вглубь Антарктиды. С каждым днем солнце поднималось все выше. Оно больше не заходило за горизонт, а лишь кружилось по небу. Не было больше ни закатов, ни восходов. Ванглен шел к тому месту, над которым кружится Солнце. Он шел к полюсу.
7
Час пик миновал. Книжный базар опустел. Стены и купол поблекли. Фонари гасли один за другим. Вновь стало темно. В Антарктиде всегда темно, тихо, тепло и сухо. Ничто не отвлекает от чтения. Поэтому люди и живут здесь.
Толпа схлынула. Лишь несколько самых отчаянных читателей, сидя и лежа, расположились с книгами прямо на земле. Свет, исходивший от страниц книг, озарял их нарисованные лица. Нарушители дисциплины! Хватай любого — и тащи в бар, веселиться! Но этим должны заниматься другие служители. Ли хватало своих забот.
Он разложил на прилавке невостребованные книги, захлопнул крышку генератора и отправился в свой район для ежедневного обхода. Ли легко ориентировался в лабиринте улиц, в хитросплетении всех этих подворотен, переулков, туннелей, лестниц. Ведь он здесь родился и заплесневел. Внимательно осматривая лестницы и подворотни в поисках приплода, Ли заметил дверь во втором ярусе, номер на которой светился красным фосфоресцирующим светом. Это значит, что дверь не открывалась больше суток. Больше суток в этом доме не было новой книги! Ли тяжело вздохнул и, прихрамывая, поднялся по лестнице, толкнул дверь, миновал шлюзовую прихожую, вошел в комнату, и его едва не сшибла с ног волна цветочного запаха. Никакой респиратор не спасал. Даже глаза под очками зачесались.
Труп на кровати уже почти высох и разложился. Лица невозможно разглядеть под толстым слоем пушистой плесени. Еще пара дней, и от человека останется один запах. А затем бактерии справятся и с запахом, номер на двери погаснет, и комната будет готова принять нового читателя.
Ли подышал на лампу, чтобы лучше осветить помещение. Ничего особенного в комнате не было. Лишь недочитанная книга валялась на полу. Ли поднял ее и, не утерпев, заглянул внутрь. Увы, содержание книги показалось ему совершенно непонятным. Видимо, это были какие-то вычисления. Ли даже не понимал значения большинства иероглифов. Он вздохнул. Ли знал, что он очень тупой. Поэтому и служит.
Ли перевернул несколько страниц. Ближе к концу книги текст стал странным. Собственно, это был уже не текст, а набор цифр: нули и единицы следовали друг за другом в самом разном порядке. Страница за страницей были покрыты нулями и единицами. А потом остались одни нули. Это была агония.
В конце книги оставались пустые страницы. Ли воровато оглянулся по сторонам, будто его мог здесь кто-то увидеть, морщась от запаха, стянул с лица респиратор, а с руки перчатку, поплевал на пальцы и стал дышать на бумагу, водя ладонью по белому листу. На нем тут же проступили иероглифы. Ли взглянул и вновь вздохнул с разочарованием. Все тот же «Кодекс», который появлялся перед ним всякий раз, когда он брал в руки книгу.
«Пункт первый. В Антарктиде все подчинено чтению. Пункт второй.
Ничто в Антарктиде не должно мешать чтению. Пункт третий. Разрешено все, что способствует чтению, за исключением чтения чужих книг. Пункт четвертый. Запрещено все, что мешает чтению, за исключением веселья. Пункт пятый. Каждый читатель Антарктиды обязан веселиться хотя бы один раз в жизни. Пункт шестой. Запрещается выбрасывать новорожденных в мусорные ведра. Пункт седьмой. Новорожденных читателей следует оставлять на улице под дверью…» И так далее.
Следом за «Кодексом» шли «Служебные обязанности» и, совсем мелким шрифтом, «Режим отдыха и правила гигиены». Ли знал все это наизусть чуть ли не с рождения. Он тщательно отер руку гигиеническим полотенцем, бросил его вместе с книгой в мусорное ведро, надел маску и вышел на улицу.
8
Город выглядел пустым и пыльным. Лишь на центральной площади в полной тишине радостно отплясывали и совокуплялись несколько голых аборигенов. Они были грязны, измазаны соком плодов и собственными испражнениями. Ванглена они встретили восторженно. Один из мужчин попытался вступить с ним в борьбу, но Ванглен, чтоб не тратить время на бессмысленную возню, просто испепелил его взглядом и стал смотреть на его бурную, как оргазм, агонию. В нос шибануло горелым мясом, и Ванглен поморщился. Ему все еще трудно было оставаться человеком. Сгоравший заживо кричал высоко и протяжно, словно пел. Наверное, стоило добить его, но Ванглен не стал этого делать. Пусть получит удовольствие сполна.
«Я заставлю вас радоваться смерти!» — подумал Ванглен и пошел прямо сквозь толпу, испепеляя взглядом мужчин и воспламеняя женщин.
9
В служебном баре, как всегда в этот час, было пусто. Лишь за столиком в углу бесполый служитель молча веселил читательницу. Он старательно, подолгу собирая во рту слюну, плевал в ее стакан. Читательница сидела, закрыв лицо руками. Ее маска и очки лежали тут же, на столике.
У стойки торчала служительница с нагим лицом. В темноте соблазнительно блестел ее голый череп. Она занималась тем, что протирала гигиенической салфеткой стаканы, дышала в них и любовалась, какими причудливыми узорами вспыхивает на стекле дезинфицирующая плесень. Впрочем, быть может, это был служитель.
Без очков и не различишь. Да Ли и не приглядывался.
«Бедняга, — сочувственно подумал Ли, стараясь не смотреть на голые губы. — Приходится веселиться целыми днями».
Прислушиваясь, как урчит в животе полотенце, Ли подошел к стойке и попросил розовой микстуры с пищеварительной эссенцией. Хлебнул. Поморщился. В животе свирепо заскворчало. Бактерии принялись за дело. Прямо над стойкой светился циферблат, и по цвету покрывавшей его плесени Ли определил время: 27 часов вечера.
Дверь бара герметично чавкнула, и трое патрульных служителей втащили в помещение еще одного читателя. Тот едва волочил ноги от страха, но его усадили на высокий стул возле стойки, сорвали с головы капюшон и улыбку респиратора. Читатель был совсем молод. Почти мальчик. Он растеряно оглядывался по сторонам, сверкая красными стеклами очков. На его груди болталась табличка с иероглифами: «Я преступник. Я читал чужую книгу». Служители рывком сняли с него очки и отвернулись, чтобы не доставлять читателю лишних мучений, а на самом деле — чтобы скрыть собственное смущение и жалость.
О, эти глаза читателя! В них столько всего! Непристойная гордость ума и срамная открытость души, доходящие в своем совокуплении до настоящего бесстыдства. Нагота чувств и порнография совести. Онанизм самоанализа и блуд памяти. Тихий ужас любви и выкидыши ненависти. Эрекция безумия и унылая проституция здравого смысла. Холодный стриптиз логики и оргазмы абсурдных ассоциаций. Вульгарные фрикции веры и аморальность насмешки над всем, что ни есть святого на этом свете.
Ли знал, что обитатели Антарктиды носят очки не только из соображений гигиены. Во всяком случае, цветные стекла в них уж точно не для того лишь, чтобы отличать мужчину от женщины. Открытый взгляд — это неприлично. Ведь его можно читать.
Ли стало жалко читателя, но он тут же подумал, что разок повеселиться он все равно должен. В другой раз трижды подумает, прежде чем нарушать режим. К тому же надо думать и о продолжении рода. Читатели в Антарктиде слишком увлечены чтением, чтобы веселиться, вот и приходится заставлять их делать это по очереди или вылавливать нарушителей. Благо последних хватает. Лишенные самоконтроля, читатели часто не способны соблюдать даже элементарные правила. Служители делают для читателей все, что должны и могут, но родить читателя может только читатель. Слуга лишь делает грязную работу. Веселиться — это так негигиенично! Ли вновь содрогнулся при мысли о физической близости! Да и кто из читателей согласится оторваться от чтения по доброй воле? Ведь никакой воли у читателей нет. Ни доброй, ни недоброй. В этом все дело. Ли вздохнул.
Служители принялись по очереди плевать читателю в глаза. Затем началось самое мерзкое. Служанка — теперь стало ясно, что это была она — неспешной походкой направилась от стойки к юному преступнику, смело, точно кидаясь в пропасть, поглядела ему прямо в заплеванные глаза, демонстративно облизала свой голый рот, схватила преступника за уши, так что тот содрогнулся от прикосновения ее нагой руки, и с большим знанием дела влепила ему затяжной поцелуй. Она не отрывалась от его рта целую вечность, интенсивно работая губами и языком, чтобы их слюни хорошенько перемешались. Парнишка лишь испуганно хлопал глазами, а потом сидел, тяжело дыша, весь пунцовый и еле живой от пережитого. Этот поцелуй у него явно был первым. Обычное наказание за мелкие преступления. А крупных в Антарктиде не бывает. Здесь все слишком увлечены чтением.
Служители с одобрением похлопали читателя по спине, помогли ему натянуть на лицо очки и маску, вернули книгу. Читатель еще некоторое время сидел, прижимая книгу к груди, а потом, опрокинув стул, ринулся к выходу. Двое служителей двинулись за ним следом, а третий оглядел зал, увидел Ли и направился к его столику. Ли вскочил, сложил ладони лодочкой на груди и стал торопливо кланяться. Он давно узнал черные очки начальника Ци.
10
Ванглена тянуло к людям. Среди них он чувствовал себя особенно одиноко. Но сегодня его появление на площади столь возбудило толпу, что они кинулись на него все разом, мужчины и женщины. Его свалили на землю. Его тащили за волосы, душили объятиями, ослепляли поцелуями. Его тискали и рвали со всех сторон. Он чувствовал, как множество ладоней шарят по его телу. Кто-то заламывал руки, кто-то облизывал гениталии. Ванглен пытался сопротивляться, но это еще больше возбудило толпу. Он хотел расслабиться, но в конце концов не выдержал и воспламенился…
Когда Ванглен очнулся, вокруг было пусто и солнечно. Ветер гнал по земле груды обгоревших книжных листьев. Ванглен валялся посреди площади среди обугленных тел, чувствуя, что внутри него все еще что-то тлеет.
11
— Моя твоя понимать. Моя твоя очень хорошо понимать, Ли. Твоя думать, всем человекам не помешать капелька самообладания, — начальник Ци достал из кармана фиолетовый пузырек и с хитрым видом потряс его в руке. — Но твоя забывать пункта первая и пункта вторая. Нельзя мешать читать в Антарктида! Самообладание мешать читать. А все, что мешать читать, в Антарктида нельзя. Мешать читать в Антарктида — преступление. Или наказание. Ничто не отвлекать человека читать в Антарктида! Для этого мы есть священная служитель. Твоя есть служитель. Моя есть служитель. Чтобы читатель читать без помеха. Это есть твоя-моя священная долг. Для эта нам и нужна микстура самообладания. Всегда помнить эта! Всегда служить для эта самая! В сутках 28 часа! И каждая часа — служба!
Начальник Ци носил простую маску без улыбки и черные очки, по которым все его узнавали. Он сидел на стуле очень прямо. В его позе, голосе и решительных движениях чувствовалась очень большая выдержка и огромная доза самообладания. Ли стоял перед ним, склонившись в полупоклоне.
— Моя всегда помнить это, начальника Ци, — часто-часто закивал головой Ли.
— Твоя иметь еще вопроса, — сказал начальник Ци таким тоном, что Ли не мог понять, вопрос это или утверждение.
— Да, начальника Ци, — поспешно согласился Ли. — Моя иметь вопроса. Почему моя не читатель? Это потому, что моя употреблять много самообладания?
Начальник Ци зашелся в беззвучном смехе.
— Твоя есть глупая-глупая Ли, — продолжил он, отсмеявшись. — Твоя видеть когда-нибудь мозга читателя?
Ли вспомнил мохнатую плесень на лице мертвеца, но ничего не ответил, лишь склонив голову еще ниже.
— Мозга читателя есть очень-очень сложная колония из много-много крошечная бактерия, — отеческим голосом поучал начальник Ци. — Это колония покрывать органическая мозга человека. Тонкая серая слойка над животная мозга человека. Серая плесень. Умная серая плесень. После каждая прочитанная книга колония становиться сложнее и сложнее. Поэтому читатель так хотеть читать. Он хотеть читать больше, чем хотеть есть и пить. Плесень мозга становиться больше и толще. Это есть называться культура штамма. После каждая прочитанная книга культура становиться выше. Культурная слоя все толще. Это есть мозга читателя. А в твоя мозга, Ли, совсем нет плесень. Твоя есть глупая Ли. Просто глупая Ли. Поэтому твоя есть слуга. И это есть твоя великая честь! Твоя есть священнослужитель!
— Да, начальника Ци. Слушаю, начальника Ци, — послушно кивал Ли.
Начальник Ци внимательно посмотрел на Ли черными очками и с сомнением покачал головой.
— Моя пробовать объяснять еще один раз, — начальник Ци подался вперед и выставил перед собой обе руки ладонями вверх, очевидно, для того, чтобы сделать объяснение более наглядными. — Книга есть выходить из генератора текста с пустая страница. Читатель брать книга, дышать или гладить ладонь пустая страница и фермента его бактерия проявлять текст. Высокая культура проявлять сложная текст. Молодая культура проявлять простая текст. После каждая прочитанная книга культура растить выше. Следующая книга становиться сложнее. На самом деле генератор текста ничего не писать. Все книги есть давно написана. Несчетно книг. И каждая книга есть написана несчетно раз в несчетно вариант. В сущности, все книга есть одна книга в несчетно варианта. Для высокая культура — одна варианта. Для низкая культура — другая. В детстве — сказка, а в зрелости — теория многомерная струнная пространства, но и это та же сказка для другой уровень читателя. У каждая книга — своя читателя. Если бы генератор печатать готовая книга, то читателя никогда не отыскать своя книга среди несчетна книг.
А книга никогда не отыскать своя читателя среди несчетна читатель.
Твоя все понимать, что моя говорить?
Ли долго молчал, прежде чем задать следующий вопрос.
— Почему нельзя читать чужая книга?
Начальник Ци долго молчал в ответ, но в конце концов энергично хлопнул ладонями по коленям и заговорил:
— Хорошо. Моя твоя рассказать служебная тайна, чтобы твоя понимать, как важна твоя-моя служения. Но теперь моя будет задавать вопроса. Скажи, Ли, почему в Антарктида замуровать все входа и выхода? Почему никто не приезжать в Антарктида и никто не уезжать сюда?
— Антарктида есть курорт. Никто не хотеть уезжать с такая хорошая курорта, — уверенно ответил Ли и даже поцокал языком, чтобы показать, каким хорошим курортом является Антарктида. — Никто-никто не уезжать отсюда. Антарктида нету свободная места. Поэтому никого не пускать в Антарктида.
— Глупая, глупая Ли, — размеренно покачал головой начальник Ци. — Разве твоя не знать, как много есть пустая комната в Антарктида? Там, дальше от площадь, есть пустая дома. Много-много пустая дома. Людей в Антарктида есть все меньше. Для этого мы заставлять читателя веселиться. Чтобы рожать еще читателя. Твоя совсем не иметь плесень голова, поэтому не думать про все эта.
Ли молчал, склонив голову.
— Антарктида не есть курорт, — начальник понизил голос и внимательно посмотрел на веселящуюся в углу читательницу, которая под прицелом его черных очков принялась старательно обсасывать обслюнявленные пальцы служителя. — Антарктида есть подземная полярная станция. И это есть единственная места на вся Земля, где еще жить люди. Когда-то давно-давно человека жить на вся Земля. Человека жить хорошо. Очень хорошо. Человека научиться создавать полезная бактерия и вируса. Эта бактерия и вируса сделать так, что человека никогда не болеть и быть всегда сытая и веселая. Всякая рана — раз, раз — и заживать. Поплевать на рана — и нет рана. Желудок, глаз и сердце всегда здоровая. Человека всегда есть молодая и красивая. Человека никогда не быть грустная. Бактерия и вируса стала все делать вместо человек — одежда и пища, вода и воздух, тепло и свет, мысль и чувства. Бактерия и вируса стала думать и чувствовать вместо человек. Человека стала умная-умная благодаря особая серая плесень в голова. Но потом случиться мутация. Вирус заставлять человека чувствовать так сильно, что человека не мочь это вынести. Человека раздирать себе кожа и царапать глаз от такая большая радость. От слишком большая радость жить и видеть. А мысля его стать такая большая, что не помещаться в голова. Человека бить головой стена от такая большая мысля. Тогда бактерия стала лечить человека. И вместо больная человека растить другая человека, которая совсем не есть человека. Эта человека всегда радостен бысть. А умная серая плесень начинать жить не только голова человека, но и на стена, о которая больная человека разбивать голова. И постепенно умная плесень покрывать вся Земля. Точно большая-большая мозга. Никто не знать, о чем она думать. В мире не стать места для человека. Одна плесень. Антарктида — последнее место для человек. Поэтому она есть замурована. А вверху — лед и снег. Много-много лед и снег. Там все белое. Только поэтому мы есть все еще живые. Мы не иметь вредная вируса. Мы иметь только полезная бактерия. Поэтому мы здеся следить за гигиена. Чтобы не быть мутация. Нельзя ходить улица без респиратор и перчатка. Нельзя читать чужая книга. Это есть очень важно. Теперь твоя понимать, как это важно?
— Моя понимать, — кивнул Ли.
— Твоя иметь еще вопроса? — спросил начальник Ци.
— Да, начальника Ци, — храбро ответил Ли. — Кто есть написать книга? Начальник Ци уставился на Ли. Его круглые очки замерли.
— Какая глупая Ли! — только и смог сказать он.
12
Ванглен долго бродил в лесу среди развалин, заглядывал в проломы, окна и двери, копался в мусоре среди старых книг, обломков мебели, битой посуды, осколков мраморных плит, россыпи бриллиантов. Он ломал ветви с деревьев, отрывал ножки у стульев, вырывал прутья из спинок кроватей, но все это было не то. И вдруг Ванглен подумал, что, возможно, просто не видит того, что ищет. Он закрыл глаза, пошарил у ног в траве и тут же нашел то, что нужно: увесистую металлическую биту, отливавшую на солнце густым темно-синим блеском.
13
Девушка стояла в темном переулке у стены и водила голой рукой по бетону. На ней не было ни респиратора, ни очков, но Ли почему-то сразу понял, что это девушка. Капюшон откинут на спину. Ли мог разглядеть каждую косточку ее обнаженного затылка, каждый хрящик ее ушей.
«Преступница!» — с тихим ужасом подумал Ли. Сперва он даже растерялся от неожиданности. Он не был патрульным, но самообладание позволило быстро взять себя в руки. Между тем девушка уже заметила его присутствие, оставила свое странное занятие и смотрела на Ли спокойно и, как показалось, даже с насмешливым любопытством. Она, видимо, совершенно не стыдилась своего открытого взгляда со всем тем, что читалось в нем. «Какие красивые у нее глаза», — вдруг промелькнула в голове Ли дикая мысль, но он тут же собрал в кулак всю свою волю, поправил перчатки и решительно двинулся вперед, старательно отводя взгляд от лица девушки. Не удержавшись, он мельком глянул на ее губы, с изумлением увидев, что девушка их кривит, как на нарисованной улыбке. И тут произошло нечто совершенно невероятное. Девушка… побежала!
«Она умеет бегать?» — изумился Ли, двинувшись за ней следом. Но, как ни ускорял он свои шаги, поспеть за бегущей девушкой не было никакой возможности. Расстояние между ними быстро увеличивалось. Преступница скрылась за углом, но Ли упорно шел по ее светящимся следам, и тут снова произошло нечто неожиданное. Повернув за угол, Ли увидел, что девушка остановилась!
Задыхаясь и едва не падая от усталости, Ли приблизился к ней. Девушка смотрела на него с насмешливой улыбкой и дышала так спокойно, будто это не она только что пробежала почти сто метров. Ли приблизился, стараясь смотреть только на грудь девушки. Он ужасно стеснялся ее открытого взгляда. Он так устал от погони, что прислонился к стене, чтобы не упасть. Сердце колотилось, как у читателя в самом интересном месте книги. Ли собрался с духом и открыл было рот, но дальше случилось нечто совсем несуразное.
Вместо того чтобы спокойно ожидать распоряжения служителя, как сделал бы любой человек, девушка вдруг протянула руку и сорвала зеленые очки с глаз Ли. Она сделала это так быстро, что Ли не успел ничего предпринять в свою защиту. Ему еще никогда в жизни не приходилось защищаться. Самообладание служило безотказно при работе с читателями. Ведь у них не было своей воли. Но девушка уже срывала с него маску и капюшон, не обращая на его самообладание ни малейшего внимания. Ли пытался сопротивляться, но движения девушки были столь точны и стремительны, что его руки лишь беспомощно хватали воздух. Ли совсем растерялся, а девушка прижала его к стене и некоторое время все с тем же насмешливым любопытством разглядывала его лицо, точно отыскивая в нем что-то. Затем она заглянула в его глаза, ее черные зрачки страшно расширились и она крепко поцеловала Ли прямо в губы. Ли почувствовал, как ее язык проникает ему в рот, и потерял сознание.
14
Ванглену стало скучно, и он устроил в городе праздник. Он взял в руки палку и для начала перебил всех мужчин, а женщин заставил танцевать под свою музыку. Посреди площади стояла оплавленная колонна из чистого золота. Он бил и бил палкой по колонне, пока не забил своим исступленным ритмом всю беззвучную музыку женщин. Он хотел, чтобы они танцевали, не совокупляясь. Он бил по колонне, пока в ней не образовалась глубокая вмятина. Он бил все быстрее и быстрее, пока женщины не попадали в конвульсиях танца. Он бил, пока колонна не согнулась, бил и бил до полного изнеможения, чувствуя, что внутри него все еще что-то горит.
15
Когда Ли очнулся, в коридоре было пусто. Он подполз к ближайшей скамейке и, хватаясь за аварийные скобы, поднялся на ноги. Хлебнул эссенции из флакона. Тишина и мрак успокоили его. Все произошедшее показалось ему дурным, грязным сном. Ли взял себя в руки, закончил обход и, не обнаружив младенцев в подворотнях, отправился спать. Мышцы жутко болели. Он так устал, что у него не было сил думать о чем-либо.
Проснувшись следующим утром, Ли обнаружил у себя сильный жар. Выбравшись из постели, он, как всегда, подошел к зеркалу, чтобы осмотреть кожный покров, и не узнал себя. Лицо осунулось, черты заострились, глаза блестели лихорадочным блеском. Ли без всякой причины бросало то в жар, то в холод. Его била нервная дрожь. Во рту было сухо. Есть не хотелось. Сама мысль о еде казалась отвратительной. Один вид мусорного ведра вызывал тошноту. Сомнений не было. Это случилось с ним. Он подхватил вирус.
Ли принял двойную порцию эссенции самообладания и отправился на службу, чувствуя, что ему становится все хуже и хуже. Голова шла кругом. Все, что происходило вокруг, казалось каким-то нереальным: коридоры, площадь, толпы читателей на базаре, их улыбающиеся маски, их тянущиеся со всех сторон руки — все это выглядело смешным и страшным одновременно.
Час пик кончился. Ли бродил по пустым улицам и переулкам.
Заглядывал в подворотни. У людей Антарктиды был абсолютный иммунитет против любых вирусов. Но это явно был какой-то неизвестный вирус. Наверное, это и есть та самая мутация, о которой говорил начальник Ци. Ли напрягал все свое самообладание, чтобы побороть недуг. Голова кружилась. Ли становилось все хуже. Его всего трясло. И он постоянно думал о заразившей его девушке. Вспоминал ее преступное лицо, ее насмешливые глаза, ее рот.
Ли чувствовал, что у него начинается бред. За каждым углом ему мерещилась девушка. Ли жадно вглядывался в каждую встречную фигуру. Цвета очков в темноте было не разглядеть, читатели выглядели одинаково и бесполо в своих гигиенических комбинезонах, и Ли с трудом сдерживался, чтобы не срывать с них цветные очки и улыбающиеся маски.
Сердце Ли забилось чаще, когда он увидел фигуру в темном переулке: человек сидел на полу, без книги, и, поджав ноги, глядел в стену. Ли подошел, стал дрожащими руками стягивать с него очки и маску. И отшатнулся. На него глянули цветущие глаза. Из полуоткрытого рта вывалился язык, покрытый серой плесенью. Ли поспешно отошел, вытирая перчатки о комбинезон.
Отойдя за угол, Ли достал из кармана фиолетовый пузырек, но его руки так тряслись, что он уронил его на пол и, стараясь поднять, сам свалился на землю. Трясущимися руками открыл крышку и выпил всю, до последней капли, недельную порцию. Это дало возможность встать на ноги. Ли продолжал упорно шарить по подворотням.
Лицо девушки стояло перед его глазами. Сказать, что он ненавидел это лицо, было мало. Это было что-то другое. Ли даже не мог подобрать подходящего слова для этого чувства, но никакая, самая лютая, ненависть не могла с ним сравниться. Повсюду он видел это лицо. И Ли понял, что самообладания всей жизни не хватит, чтобы справиться с этим наваждением.
Ли чувствовал, что сходит с ума. Сколько еще он сможет выдержать это? День? Неделю? Месяц? А если и выдержит, то станет ли ему легче? Может быть, первый приступ пройдет, болезнь перейдет в хроническую форму, и он сможет жить с этим годами, пока вирус не источит его изнутри неизбывной тоской и вечной мукой. Кому рассказать об этом? Начальнику Ци? Никто не поймет. И никто не поможет. Ли чувствовал, что против этого нет средства. Он обречен остаться с этим один на один.
Ли рыдал. Ни разу в жизни он не чувствовал такой боли. Болели не мышцы. Болело что-то внутри, чего он раньше в себе никогда не чувствовал, а теперь почувствовал только потому, что это болело. Нестерпимо болело, наполняя все его существо горечью и отчаяньем. Он вспоминал прикосновение рук девушки. Ее поцелуй жег ему губы, будто прошли не сутки, а всего секунда с тех пор, как она поцеловала его.
Ли едва отыскал дорогу домой. Долго соображал, его ли это дом, квартал, вселенная. Открыл дверь. В крошечной шлюзовой по привычке стянул комбинезон, сунул его в дезинфекционный шкаф, обработал себя полотенцем, старательно протирая в паху и под мышками, затем вошел в комнату и едва устоял на ногах. Девушка сидела на его кровати. Она даже не удосужилась раздеться и так и сидела на постели в уличном комбинезоне.
— Привет! — ничуть не смутившись появлением хозяина, сказала девушка, глядя на Ли все тем же насмешливым взглядом. — Моя звать Ким. Ничего, что моя одета?
16
Одна из девушек в городе отличалась от прочих. Все девушки Антарктиды были прекрасны, и каждая являла собой совершенный образчик какого-то особенного типа красоты. Здесь были блондинки и брюнетки, длинноногие и пышногрудые, высокие и миниатюрные. Но эта девушка выделялась даже среди них. Глядя на ее полудетские черты, золотые волосы и голубые глаза, Ванглену хотелось плакать от несбыточного счастья. Эта девушка была настолько близка к какому-то невообразимому идеалу, что малейшее несовершенство ее лица и фигуры становилось особенно заметным. Само совершенство ее черт казалось чрезмерным. Ее губы, брови, скулы, нос, глаза — все это по отдельности выглядело вызывающе земным и вульгарно привлекательным для той небесной красоты, что они образовывали вместе. Поэтому Ванглен и выбрал ее. И начал с ней работать.
Каждый день Ванглен своей металлической палкой забивал девушку до смерти. И после каждого избиения она становилась все прекраснее. Ванглен бил по тем местам, которые казались ему несовершенными. Несколько раз он ломал ей позвоночник, добиваясь еще более изящного перегиба в талии. Он намучился с ее ушами. Каждое утро он начинал с того, что обгрызал ей уши, в первые дни — целиком, потом — маленькими кусочками, сплевывая под ноги. Много раз он выкалывал ей глаза. Он долго бился над ее коленями. Но особенно тщательно он работал с ее лицом.
Очень важен был первый удар. Он решал все, и его нужно было нанести очень точно. Перед тем как сделать это, Ванглен долго прицеливался, глядя в юное лицо девушки. Крепко ухватив ее за волосы, он мысленно репетировал удар, отводил руку, затем подносил палку к ее лицу, примеряясь, и снова делал замах и вновь опускал руку, подолгу не решаясь начать. Девушка очень старалась держать голову ровно и неподвижно, чтобы хоть чем-то помочь Ванглену, но, не в силах справиться с волнением, он отпускал ее волосы и опять всматривался в ее прекрасное лицо. Он изучил его до мельчайших подробностей. Девушка была прекрасна. Никогда еще Ванглен так не восхищался женщиной. Именно поэтому работать с ней было очень сложно. В порыве вдохновения он мог одним ударом снести ей голову.
Лицо девушки было прекрасно и с каждым днем становилось еще прекраснее. От него захватывало дух. Каждое утро Ванглен обмирал, вновь видя его. Он не верил своим глазам, потому-то первый удар всякий раз давался ему так трудно. Но пристально, подолгу любуясь ее лицом, целыми днями вглядываясь в него, Ванглен стал замечать одну странность. Две половины ее лица всегда чуть отличались друг от друга. Именно это легкое, едва заметное отличие в разрезе глаз, в крутизне разлета бровей, в страстной округлости крыльев носа, в мягкости склада губ, в переливе переносицы, в чистоте лба, в худобе скулы, в чувственной остроте подбородка придавало ее лицу особую, совершенно невыразимую на уровне глазомера прелесть. Разумеется, обе половины ее лица были одним лицом, были, в сущности, абсолютно одинаковы, если мерить их буквально, вплоть до количества волос в бровях, и все же они были разными. Одна ее половина словно бы улыбалась, чуть иронично и насмешливо, она точно слегка удивлялась чему-то, а другая — печалилась и глядела серьезно и строго. Могло даже показаться, что эта ее половина немного сердится, если бы не дуновение всегдашней отрешенности, чего-то неземного, эфирного, что исходило от нее. И этот неземной состав, небесная половинчатость ее красоты проглядывала, даже когда она смеялась всем своим милым, девичьим личиком, а ироническая полунасмешка второй ее половины пробивалась сквозь самое влюбленное и нежное выражение глаз, губ, бровей.
Каждый день Ванглен мучительно долго вглядывался в это лицо и никак не мог решить, какая из его половин — лучшая. Он мучительно долго думал, по какой щеке ударить девушку сегодня. А девушка становилась все прекраснее. И две половины этой красоты — земная и небесная — проступали в ее чертах все явственнее. Они обе равно притягивали Ванглена, одна — насмешкой над всякой чувственностью, а другая — тихой печалью, которую не могло одолеть никакое наслаждение. Одна половина была истиной, а вторая — пониманием этой истины. Но Ванглен не мог решить, какая именно. Он больше не находил в девушке ни одного изъяна, не знал, куда бить, но добиться того, чего хотел, так и не смог. Он так и не достиг единства двух половин ее природы — земной и небесной. Он так и не смог понять, что в ней было красиво действительно, а что — лишь в его воображении. Тайна ее двойственной красоты так и осталась для него несводимой к какому-то одному идеалу. И после нескольких дней безмолвного созерцания Ванглен взял девушку за руку, вывел ее на площадь, прямо в середину окаменевшей при ее явлении толпы, и оставил там умирать от любви.
17
Никогда еще Ли не уходил так далеко от дома. Знакомый район давно остался позади, но Ким вела его все дальше и дальше. Улицы и переулки казались бесконечными. Они мало отличались от родных мест Ли, только людей навстречу попадалось все меньше. Они шли вдоль улиц, где не светился ни один номер на дверях. На площадях с замурованными шахтами прилавки киосков были завалены книгами, за которыми никто не являлся. Их покрывал толстый слой плесени. Стены и фонари почти не светились, на улицах было темно, но Ким уверено шла вперед. Время от времени она дышала на стену, и тогда на бетоне проступали какие-то надписи и схемы, которые Ким внимательно изучала, что-то просчитывая в голове.
Однажды Ли тоже снял перчатку и потер ладонью стену. На ней тотчас возникли светящиеся иероглифы: «Здесь был Ли».
Ким прочитала надпись и рассмеялась:
— Глупая, глупая Ли! — Ким взглянула на Ли, и глаза ее вдруг стали серьезными. — Твоя должна простить моя.
— За что? — улыбнулся Ли. Оба были без очков и масок. Ли больше не стыдился нагого взгляда. Напротив, теперь он постоянно искал глаза девушки.
— За то, что моя втянуть твоя во вся эта, — глаза Ким начали потихоньку светиться в темноте от работы бактерий, осушавших набежавшую влагу, но она отвела взор, сморгнула свет и вновь посмотрела на Ли с суховатой насмешкой. — Моя нужна помощника. Когда моя-твоя добраться до места, твоя все увидеть сама.
Ким отвернулась и легко зашагала дальше. Ли покорно зашаркал следом. Безлюдные улицы все тянулись и тянулись. Однажды Ли вновь остановился и подышал на стену. Тут же вспыхнула рубиновая надпись: «Ли + Ким = любовь».
Ким прочитала и расхохоталась.
— Глупая, глупая Ли, — смеялась Ким. Ее глаза сияли во мраке.
18
Люди в городе обожали Ванглена. Он не позволял им приближаться к себе, и они целовали следы его ног в пыли. Золотоволосая девушка, с которой он работал, все время благодарила его за сладкую муку. Она целовала его руки, когда он надолго задумывался перед ударом. А однажды он видел, как она нюхала его свежий кал. Она подносила его к лицу, с наслаждением вдыхала густой запах, мазала волосы и грудь, пробовала на вкус. Ванглен смотрел на все это спокойно. Он давно понял, что видит то, что видит.
19
Ли шел за Ким все дальше и дальше. Коридоры не кончались. Их лабиринт становился все путанее. Иногда попадались совсем черные, мертвые ответвления. В них умерла даже плесень на стенах. Неподвижность царящего в них мрака пугала и одновременно притягивала. Мрак засасывал взгляд своей слепотой. Ким и Ли старались побыстрее пройти мимо этих мертвых зевов. Но несколько раз, когда стрелки на стенах не оставляли другого выхода, им пришлось проходить сквозь мертвые туннели. Это было, наверное, самое трудное. Тьма давила и растворяла их. Светились лишь их глаза. Ким в отсутствие указателей на стенах быстро теряла направление и словно засыпала, не смея двинуться ни вперед, ни назад. И лишь Ли со своим инстинктом животного всегда помнил, в которую из двух сторон они направлялись.
После мертвых коридоров все вокруг выглядело, как сон. Точно они спали и вдруг проснулись в каком-то непонятном месте.
Когда Ким знала, куда идти, то шагала быстро, и Ли нелегко было поспевать за девушкой. Иногда они присаживались на какой-нибудь скамейке, отдыхали и целовались. Ли больше не терял сознания от поцелуев. Порой у него кружилась голова, его немного подташнивало и при этом ему все время хотелось есть. Сначала он думал, что это от усталости. Но однажды он прислушался к своим ощущениям и вдруг понял, что поцелуи сделали свое дело. Он забеременел.
20
Среди аборигенов был один упрямец, который не бился, как другие, при виде Ванглена оземь в предвкушении блаженного дара насильственной смерти, а упорно пытался завязать с ним борьбу. Пусть даже всего лишь борьбу взглядов. Каждый день Ванглен разбивал наглецу голову палкой, но на следующее утро юноша вновь дерзко глядел на него. Только голова его становилась все светлее и кудрявее. Но однажды юноша, вопреки обыкновению, не бросил Ванглену вызова, а лишь мельком глянул на него и отвернулся, занятый своими мыслями. Он смирно сидел под деревом. Его пышные кудри стали совсем белыми.
— Я вижу, ты что-то понял? — растерянно спросил Ванглен, на всякий случай держа палку наготове.
— Я? — удивился юноша, глядя в пустоту мимо Ванглена, будто это и не он к нему обращается, а кто-то незримый из пустоты. — Ты разговариваешь со мной? Но разве ты знаешь, кто я? Ты лишь видишь меня и думаешь, что со мной разговариваешь, хотя на самом деле, разговаривая с другими, мы всегда разговариваем лишь сами с собой. Но я — не ты. Это я понимаю совершенно отчетливо. Я не могу понять другого: кто же на самом деле я, с которым ты разговариваешь? Почему ты думаешь, что я — это я? Что значит быть собой? Что вообще значит быть? Быть — значит думать? Я могу думать обо всем на свете, и даже о самом себе, но думать, что я есть, это всего лишь так думать. Предположим, что быть — это и значит быть собой. Но из того, что я есть, вовсе не значит, что я есть я. Если бы я был собой, то разве стал бы я сам с собой разговаривать? Разве стал бы я разговаривать с тобой? Ну, хорошо, положим, нас двое: тот, кто сам себе все это говорит, и тот, кто сам меня слушает. Тот, кто говорит, ничего не понимает и потому вынужден пускаться в длинные и путаные рассуждения, а тот, кто слушает, все понимает, и поэтому ничего не может сказать, потому что понимает в том числе и то, что то, что он понимает, не может быть высказано. Тот, кто говорит, будучи им, прекрасно понимает того, кто молчит, все понимая, и именно об этом он и пытается сказать. Просто говорить об этом очень долго. Чтобы выразить это до конца, нужно повторить всю мыслимую глупость, предшествующую пониманию и тем являющуюся его необходимой частью, — повторить, даже зная, что все это глупость, для того только, чтобы дать возможность другому подтвердить это своим молчанием. И тот я, кто говорит, все лучше понимает меня молчащего и все более страстно и настойчиво пытается втолковать ему это. Потому-то чем дольше я живу, тем меньше перестаю быть собой, — тем, кто все понимает. Сначала, в первой молодости, я думал об этом в шутку. Я переставал быть собой лишь для того, чтобы сильнее радоваться этому счастью — быть собой. Счастье было столь велико, что я переставал его понимать. Но при этом я радовался сам себе, но не я сам. И я стал задумываться, а я ли это? Как это можно — не быть, будучи? Я вчера был с женщиной, мы наслаждались друг другом, а сегодня я сижу под деревом и думаю: «Полно, я ли это был?» Собственно, я и осознал сам себя, только когда понял, что я — это не просто я, который был мной, думая, что мной является, а на самом деле в этот самый миг переставая быть тем я, который я есть, а оставаясь лишь тем, которым я был вчера мгновение назад. Я осознал себя, как я, которого нет… Я часто думаю, кем бы я был, если бы я был. Я понимаю, что вопрос это совершенно бессмысленный, но у меня дух захватывает от одной только мысли, что если бы я был, то был бы собой! Впрочем, так ли это? Ведь даже если я стану кем-то, то я никогда не смогу быть до конца уверенным в том, что стал именно собой, а не кем-то другим, кем я стремился стать, думая, что это и есть я, или кем хотел меня видеть кто-то, сидящий внутри меня, и я стал таким, чтобы соответствовать чьим-то или собственным желаниям или, вернее всего, я стал тем, кем и должен был стать, но собой ли? Оставаться самим собой — не значит ли это никем не становиться? Быть собой значит никем не быть? Пожалуйста, сделай меня собой. Прямо сейчас!
Разговаривая сам с собой и, казалось, совсем позабыв о Ванглене, юноша тем не менее не отрывал взволнованного взгляда от его палки.
Не двигаясь с места, он словно подкрадывался к ней и одновременно старался держаться от нее подальше. На Ванглена он взглянул только один раз, когда тот высоко поднял свой сверкающий жезл.
— То, что происходит, происходит не со мной, — успел сказать юноша перед тем, как Ванглен обрушил палку на его светлую голову.
21
На ночь Ким и Ли останавливались в пустующих домах. Едва раздевшись, Ли первым делом бросался к мусорному ведру, запихивал в него все, что попадалось под руку, а потом жадно насыщался горячими сэндвичами.
Ким смотрела на него с ласковой насмешкой. Ли, не переставая жевать, любовался подругой. Он разглядывал ее маленькую голову на тонкой шее, круглое лицо, вытянутые уши, узкую спинку с торчащими лопатками, едва заметную грудь, впалый живот, длинные руки и ноги с большими, широкими ступнями и ладонями. Ребра выпирали из-под тонкой желтой кожи. Мышцы походили на натянутые веревки.
Наевшись, Ли по привычке начал изучать себя перед зеркалом. Шел четвертый день беременности, и его животуже округлился. Ферменты слюны Ли запустили механизм деторождения, и бактерии быстро делали свое дело, формируя плод. Все, что нужно Ли, это усиленно питаться — и через девять дней можно будет рожать через развязавшийся пупок.
Сразу после родов зародыш плесневеет на воздухе, покрываясь кожей. А затем только и нужно, что принести приплод в любую из пустующих комнат, положить на кровать, навалить сверху побольше одеял, полотенец, любого тряпья или мусора, засыпать все это дрожжами, и через несколько дней новый читатель закиснет достаточно, чтобы отправиться за своей первой книгой. Читатели в Антарктиде созревают быстро. Но не все дозревают до самого мозга. В некоторых случаях процесс идет не до конца. Некоторые почему-то остаются людьми. Глупыми людьми. Как Ли.
Ли осторожно погладил натянувшуюся кожу живота, потрогал вспухшую, но еще крепкую завязь пупка.
— Почему моя беременная, а твоя нет? — спросил Ли, не переставая жевать.
— Моя не понимать, что твоя говорить, — Ким смотрела на Ли с улыбкой.
— Моя есть мужчина. Твоя есть женщина, — Ли показал надкусанным бутербродом сначала на себя, потом на Ким. — Почему моя есть беременная, а твоя нет?
— Что-что? — Ким сморщилась и взглянула на Ли с каким-то брезгливым недоумением. — Кто твоя сказать, что твоя есть мужчина?
— Начальника Ци, — растерянно ответил Ли.
Ким долго смотрела на Ли, а потом зашлась в беззвучном хохоте.
— Глупая-глупая Ли! Твоя не знать, чем мужчина отличаться от женщина?
Ли внимательно посмотрела на свое отражение в зеркале, потом взглянула на Кима и отрицательно покачала головой.
22
Был полдень. В этих местах всегда полдень. Ванглен копался палкой в кишках только что убитого им мужчины. Он любовался красотой его внутреннего мира. Человек был еще жив. Или уже жив. Время от времени он поднимал голову, наблюдая за действиями Ванглена, и постанывал от удовольствия.
Внезапно Ванглен ощутил чей-то взгляд за спиной. Он обернулся и увидел человека, который сидел на корточках и внимательно наблюдал за происходящим. Ванглен сразу узнал читателя. У него был совершенно голый череп, но узнал его Ванглен по глазам. Они были такими узкими, будто человек все время смеялся. Смеющиеся глаза. Глаза-щелочки. Но на самом деле эти глаза вовсе не смеялись. Они не были ни веселыми, ни грустными. Они смотрели серьезно и внимательно. В них не было восторга или блаженства. Они смотрели на мир так, будто читали его. Это была серьезность, граничащая с отрешенностью. Читатель смотрел на Ванглена, будто перед ним был не человек, а камень или дерево. Будто перед ним было пустое место. Читатель смотрел на Ванглена так, будто не видел его. Или будто видел его насквозь.
И еще одно. Был полдень, но Ванглен, который теперь видел все, заметил и это: читатель отбрасывал тень! Он отбрасывал тень, как будто был настоящим, как камень или дерево!
23
Несмотря на смыкавшую веки усталость, Ким и Ли долго смотрели друг на друга перед сном. Это было преступно и восхитительно. Они любили глазами. Руками они касались друг друга только для того, чтобы убедиться в том, что на самом деле видят то, что видят. Это была чистая любовь. Плесень их кожи, соприкасаясь, начинала мерцать. Ким гладил Ли по груди и животу, и по ее телу струились причудливые радужные волны. Ли вся горела. Они ласкали друг друга взглядами, любуясь причудливыми переливами света на коже. Их губы, щеки и даже носы горели красным от поцелуев. Даже шея у Ли стала рубиновой. Но самым большим наслаждением было смотреть друг другу в глаза. Ли млела, растворялась во взглядах Кима, дарила ему свои взоры до самых потаенных глубин. Не в силах выдержать накал его страсти, она порой закрывала глаза и даже отворачивалась. Ким гладил ее по щекам, уговаривал вновь открыть глаза, а она лишь улыбалась, крутила головой из стороны в сторону и крепче сжимала веки. Но потом ее веки распахивались сами собой, и Ким вновь ловил ее взгляд, проникал в него, все глубже и глубже. «Неужели читать лучше, чем это?» — думала Ли.
Наконец Кима сморил сон. Его дыхание стало ровным. Глаза закрылись. Их тела остыли. Плесень, разгоревшаяся было вокруг них на потолке и стенах, теперь едва мерцала бледным зеленоватым сиянием, а Ли все лежала с открытыми глазами и думала об их ребенке. О том, как он будет счастлив здесь — совсем один в лабиринте пустых, темных улиц и площадей, заваленных книгами…
Утром Ли проснулась одна. Оглядела пустую комнату. Не одеваясь, вышла на улицу и сползла по стене на пол. Вокруг было темно и тихо.
Воздух был чист и сух. Бетон тепел. Следы Кима давно простыли.
Прошел час. Слезы текли из глаз Ли. Так она и сидела, пока не вернулся Ким. Ли поднялась, держась за стену. Бактерии осушили влагу на ее лице, но на щеках остались светящиеся дорожки соли.
— Твоя плакать? — Ким посмотрел на Ли с обычной насмешливостью.
— Моя думать, твоя уходить от моя, — всхлипнула Ли.
— Глупая, глупая Ли! — глаза Кима расцвели. — Разве твоя не видеть, что моя любить твоя. Моя полюбить твоя с первая минута, как увидеть твоя глаза. В твоя глаза совсем нет плесень. Моя целовать твоя, хотя моя могла бы просто плевать твоя лицо. Но моя твоя целовать. Моя любить твоя.
24
Читатель не походил на серьезного соперника: узкоплечий и узкогрудый, с тонкими, нескладными руками и ногами и тощей шеей, которую Ванглен мог бы сломать двумя пальцами. Мышцы под желтой кожей больше походили на натянутые веревки, а кожа, казалось, вот-вот порвется на ребрах. Ванглен затруднялся даже сказать точно, мужчина это или женщина, бороться с ним или танцевать.
Впрочем, Ванглену было все равно — танцевать или бороться. Единственное, чего ему хотелось, это вызвать в читателе интерес, любым образом овладеть его вниманием. Ванглен вдруг понял, что это для него самое главное. Все остальное не имеет никакого значения. Он должен действовать, чтобы заинтересовать читателя. Ванглен перехватил палку поудобнее, но задеть читателя оказалось не так-то легко. Палка Ванглена просвистела в пустом воздухе, а читатель вдруг возник где-то сбоку и нанес точный и быстрый удар странно вывернувшейся ногой прямо Ванглену в подбородок. Ванглен взлетел в воздух и рухнул без чувств.
25
Наконец надышанные Кимом стрелки вывели к шахте, которая не была замурована. За аркой виднелись обычные ступени. Необычным было то, что ступени не кончались. Ведущая вверх лестница казалось бесконечной. Ли с трудом карабкалась со ступени на ступень. Мешал живот. Часто приходилось останавливаться, чтобы перевести дух. А ступени все выплывали и выплывали из мрака, и не было им конца. Время от времени на пути попадались лестничные площадки, и тогда они отдыхали.
— Почему твоя никогда не читать книга? — спросила Ли, чтобы выгадать побольше времени для отдыха.
— Зачем разводить голова плесень? — пожал плечами Ким. — Твоя думать, что такое есть Антарктида?
— Антарктида есть последняя убежища человек на Земля, — таинственно зашептала Ли в зардевшее ухо Кима.
— Так сказать начальника Ци? — Ким посмотрел на порозовевшую Ли с насмешкой. — Антарктида есть биолаборатория, чтобы сращивать человек и плесень. Плесень скучно быть просто умный плесень. Плесень хотеть быть человек. Антарктида есть ферма, чтобы выращивать плесневелый человек. Моя полюбить твоя, потому что в твоя голова совсем нет плесень. Ты есть почти животная. Я это видеть в твоя глаза.
— А твоя голова есть плесень? — спросила Ли, осторожно пристраивая на коленях свой надувшийся живот.
— Моя голова есть самая плесневелая голова в Антарктида. Моя не нужно книга, чтобы читать. В моя голова столько плесень, что моя уметь читать даже стена. Моя уметь читать даже без стена. Просто глядеть вокруг и читать. И моя прочитать вокруг много того, что никогда не прочитать в книга. Однажды моя смотреть лестница и прочитать, что есть низ и верх. Моя посмотреть в темнота и прочитать, что есть белый свет. Моя хотеть идти наверх и читать белый свет. Моя хотеть стать человек. Моя есть плесень, которая хотеть стать человек. Но моя бояться. Моя уже быть там однажды. Моя видеть белая-белая свет в конец туннеля. Моя дышать другая воздуха. Воздуха-любовь. Воздуха-счастье. Но эта воздуха обжигать моя. Моя не мочь дышать от счастья. Белый свет слепить моя глаза. И моя не мочь идти дальше. Моя нуждаться кто-то, кто уметь ходить без плесень в голова. И моя вернуться и дарить любовь Ли. Твоя помогать мне идти сквозь тьма на свет. Моя нуждаться Ли, глупая Ли.
26
Все попытки Ванглена взять верх над читателем оказались бесплодными. Тот с поразительной легкостью ускользал от его ударов, а в ответ бил так быстро, сильно и точно, что у Ванглена не было никакой возможности защититься. Он был просто медленнее. Груды тренированных мышц никак не поспевали за реакциями этого жилистого, точно свитого из перекрученных веревок тела. Читатель совершал прыжки, больше похожие на полеты. Кувыркался в воздухе, точно невесомый. Но еще больше подавляло его психологическое превосходство. Читатель никогда не выходил из себя и, казалось, даже не напрягался. Иногда ему было лень махать руками и ногами и он лишь тыкал пальцем куда-то в живот или горло Ванглену, и тот падал замертво, как подкошенный. А иногда читатель просто исчезал из вида, словно растворялся в воздухе, и, обернувшись, Ванглен находил его за собственной спиной сидящим на корточках со своими смеющимися глазами.
В конце концов читатель стал просто останавливать Ванглена своим пустым взглядом. Ванглен преследовал недруга, ходил за ним по пятам, пытался напасть со спины или из засады, но всякий раз натыкался на его слепой и всевидящий взгляд. Читатель даже спал с открытыми глазами. Его глаза были повсюду.
Ванглен пытался воспламенить читателя, но тот смотрел в его горящие глаза, не моргая. Он точно не видел соперника. И тогда Ванглен понял, в чем дело. Читатель смотрел не наружу, а внутрь себя. Чтобы вывести его из себя, Ванглену нужно проникнуть в его внутренний мир. И в конце концов он догадался, как это сделать.
27
— Если твоя хотеть, моя рассказать сказка на ночь, — сказал Ким, гладя Ли по лазоревому от нежности лицу. Они лежали, обнявшись, в постели. Ли сквозь дрему смотрела на Кима, но видела в темноте лишь его светящиеся губы.
— Это есть сказка, как два читателя любить один другая, — продолжал рассказывать Ким.
— Читателя любить? — слабо удивилась Ли сквозь сон. — Это есть невозможно. Это есть так невозможно, что даже не есть запрещено.
Глаза Ли смыкались и голос Кима доносился до ее сознания откуда-то издалека, минуя слух…
— Да, это невозможно. И все же однажды это произошло. Двое полюбили друг друга. Ведь это сказка, а в сказке случаются чудеса. Двое посмотрели друг другу в глаза и прочитали там что-то такое, отчего больше не могли оторвать друг от друга взгляда. Это казалось невозможным, потому что этих двоих разделяло нечто большее, чем пространство и время. Они жили в разных мирах и не увидели бы глаз друг друга, даже если бы смотрели друг на друга в упор целую вечность. Если бы в бесконечно большом и совершенно пустом пространстве двигались две бесконечно малые частицы, то вероятность их встречи была бы большей. И все же их взгляды встретились. Чудо произошло. И началась сказка.
Однажды так случилось, что они оба оказались в одном баре, совсем рядом, за соседними столиками. Она была со своим служителем, он — со служанкой. Перед ними светились заплеванные стаканы, натоптанный пол мерцал множеством следов, ярко горела плесень на стенах и потолке. В барах много грязи — и все вокруг сверкает. Они сидели совсем рядом и в то же время бесконечно далеко друг от друга. Он как бы блуждал по бесконечному лабиринту, влекомый надеждой, которая озаряла его все ярче за каждым из бесчисленных извивов его мыслимого пути. Он отыскивал лазы, распутывал хитросплетения ходов, пробирался по многомерным лестницам, одновременно ведущим вверх и вниз, разбивал головой стены, если не удавалось найти иного выхода. Он внимательно изучал, сопоставлял и анализировал таинственные знаки, испещрявшие эти стены, стараясь составить из них какой-то цельный образ, который позволит ему разгадать загадку, столь загадочную, что даже само ее существование — тайна, которую он подозревал лишь по полному отсутствию признаков существования оной. А она точно стояла на бесконечной равнине созерцательности, по которой холодный ветер гнал волны густых мыслей, — маленькая фигурка под бескрайним небом, по которому все плыли и плыли бесконечной чередой разноцветные причудливые облака, образующие цепь беспрестанно меняющихся образов. И она глядела в это небо, гоняла взглядом тучи и ждала знака из заоблачной выси.
Очень трудно рассказать, что на самом деле происходит в головах читателей. В них бушует необузданное пламя мыслей, построений и образов, которыми горит плесень, покрывающая мозг. И сам читатель существует лишь как причудливая игра отблесков этого пожара, бросающего отсветы во мрак его сознания. Его сознание — лишь переплетение этих отсветов, холодный блеск мысли. Читатель, его личность — лишь тень этого света. И подлинное чудо состояло не в невероятной встрече этих двоих. Ведь математическое пространство ее невероятности, каким бы бесконечным оно ни было, — замкнуто. Замкнуто именно в силу своей бесконечности, которая не имеет границ, а потому может существовать лишь как замкнутая на себя бесконечность. Именно в силу своей бесконечности вероятностная область невозможности их встречи устроена так, что две частицы, двигающиеся в ней, неизбежно встретятся в конце времен, потому что куда бы они ни двигались в замкнутом пространстве, они всегда двигаются в прямо противоположных направлениях, то есть точно навстречу друг другу. Истинное чудо состояло не в полной невероятности их встречи. Если их встреча была просто невероятной, то их любовь — невозможной. Их любовь и была подлинным чудом.
И любовь свела их с ума. Взглянув ей в глаза, он точно вылез из норы своих мыслей в ее бескрайнюю степь, а она вдруг поняла, что все ее бесконечное небо — лишь крошечная часть великого лабиринта его мироздания. Их миры встретились. Они глядели друг другу в глаза и наслаждались со-бытийностью своей любви. Их существование наконец обрело физический смысл. Ведь понять, что твой мир реален, можно, лишь встретившись с другой реальностью.
Их пытались разлучить. Служители плевали им в лицо, но они не могли плюнуть им в душу. Слуги думают, что они здесь хозяева. На самом деле это не так. Здесь всем правит плесень. Но эти двое вышли из-под ее власти. В них появилось нечто, что заставило плесень трепетать.
Их развели по разным комнатам. Но для того, кто всю жизнь блуждал в бесконечном лабиринте, найти верную дорогу в трехмерном мире не составляло никакого труда. Он просто вошел в первую попавшуюся дверь. Вероятность того, что его любовь окажется именно за этой дверью, была бесконечно выше полной невероятности их любви. Он открыл дверь и, конечно, за этой дверью оказалась она. Она ждала его, лежа на кровати с книгой в руках. Она не слышала, как он вошел. Он отвел руку с книгой и заглянул ей в глаза. Они смотрели в глаза друг другу, и каждое мгновение казалось им вечностью.
Они жили долго и счастливо и умерли на следующий день. Утром они не пошли за книгами. Они легли, обнявшись, и обсыпались дрожжами. А через положенное количество дней в этой плесени появился мальчик. И звали его — Ким.
28
Ванглен не сразу понял, что читателей больше, чем один. Они долго были для него неразличимы: безволосые головы, бесполые фигуры, узкие, как прорези, глаза на лицах-масках. Они оба были для Ванглена на одно лицо, и ему долго приходилось напрягать зрение, прежде чем он вообще осознал, что их двое, а затем понял, что один был мужчиной, а другой — женщиной. И если к мужчине он не мог даже приблизиться, то в своих способностях овладеть женщиной Ванглен не сомневался. Он знал, что для этого ему достаточно одного взгляда.
29
Чем выше поднимались они по бесконечной лестнице, тем легче было идти. Ли пролетала разом целые лестничные марши, прыгала через ступеньку, придерживая руками живот. Ее тело стало точно невесомым.
А Киму, напротив, становилось все труднее. Теперь уже он не поспевал за Ли и часто останавливался, тяжело, с натугой, дыша. Ли посмотрела на Кима. Он застыл, глядя куда-то вверх остекленевшим взором. В его глазах стоял ужас. Ли также замерла, прислушиваясь. И почувствовала, что воздух движется вокруг них, даже когда они стоят. Воздух дышал, как живой. Он сквозил! Он дул! И еще Ли почувствовала запах. Это был запах цветов. Запах гниения.
Чем выше они поднимались, тем сильнее двигался воздух. И от этого движения плесень на стенах полыхала и переливалась всеми цветами радуги. Наконец воздух стал бить им навстречу тугой струей. Плесень на стенах уже не светилась. Она горела. Стены потемнели и обуглились. И все же вокруг становилось все светлее и светлее. Невозможно светло.
Ли заметила, что ее комбинезон стал коробиться, а потом просто рассыпался на ходу черными хлопьями пепла. Стекла очков закоптились и лопнули. Дышать через респиратор стало невозможно. Он превратился в черную головешку. Лямки лопнули, маска упала на пол и рассыпалась. Из их ртов и ноздрей шел пар, будто внутри них что-то тлело. Дымилась кожа. Но от этого становилось не горячо, а холодно. Била дрожь. По всему телу бежали мурашки. Холод пронизывал их до спинного мозга.
Наконец впереди показалось нечто, состоящее из одного только света. Белая дыра, из которой тугой волной бил воздух. Ли нырнула в нее, сделала несколько шагов и остановилась. Ким выполз следом на четвереньках, лег на землю. От стылого простора и сквозного света кружилась голова, резало глаза, захватывало дух. О небе без свода страшно было даже помыслить. Непонятно было, на чем держалось все это пространство без потолка и стен. Ким попытался встать, опершись на несуществующую стену, и вновь беспомощно свалился на землю. И вдруг он увидел Ли, которая стояла на ногах и совершенно спокойно смотрела вверх, прямо на солнце. Ким, зажмурившись, подполз к ней, обхватил трясущимися руками ее покрытые гарью ноги. Ли опустила пепельные глаза и взглянула на него ледяным, пронизывающим насквозь взглядом и с такой стылой улыбкой, что Ким совсем похолодел. Ему вдруг показалось, что он перестал для нее существовать.
— Это и есть белый свет? — спросила Ли и вновь уставилась на солнце немигающим взглядом.
30
Женщина сидела на берегу небольшого канала. Берег был завален грудами мраморного гравия вперемешку с драгоценными камнями, кусками горного хрусталя, черепками золоченой фарфоровой посуды и рваными, обгоревшими с краев книгами. Повсюду были разбросаны малахитовые глыбы. Из серебряной трубы в канал впадала струя зеленоватой воды. Остатки какого-то гигантского купола закрывали почти все небо над головой, но в многочисленные проломы проникали отвесные лучи солнца, заставлявшие вспыхивать сапфиры и изумруды среди наносов золотого песка, жемчуга и мусора на дне канала. Было очень тихо. Лишь журчала струя, вытекавшая из серебряной трубы. По поверхности воды плыла радужная пленка и желтые листья книг.
Ванглен долго смотрел на скорчившуюся у воды фигуру, разглядывал ее костистое, жилистое тело. В ней не было ничего, что делало бы ее женщиной. Ванглену пришлось долго всматриваться, прежде чем он увидел перед собой женщину. И тут же он заметил, что ее шея, затылок и даже плечи покраснели под его взглядом. Женщина обернулась, и Ванглен вздрогнул, увидев глаза мужчины.
— Ты хочешь проникнуть во внутренний мир? — сказал мужчина печальным женским голосом. — Пойдем, я покажу тебе вход.
31
Ли ослепла еще до того, как они добрались до выхода. Именно потому она и могла идти вперед. Все вокруг нее стало белым. Даже шум. Даже запах. Воздух был густ, но дышалось легко. Тело казалось невесомым. Плод в животе, забрав всю плесень, какая еще в ней оставалась, рассосался и вышел наружу пахучим, цветочным вздохом. Ли чувствовала себя опустошенной. Целыми днями она сидела и всматривалась в свои бесконечные белые ночи.
Ким не ослеп. Его вела вперед глупая Ли, и у него была возможность закрыть глаза и привыкнуть к белому свету. Он целый день пролежал у ног подруги, прежде чем решился двинуться дальше. Киму долго казалось, что он ходит по потолку, но постепенно он привык к пустоте жизни. Он не ослеп, но плесень в его голове выгорела. Внутри все обуглилось, и теперь Ким все вокруг видел в черном свете.
Верхний мир потряс Кима. Здесь повсюду царила плесень. Она покрывала ворсистым ковром землю. Она вздымалась огромными, ветвистыми структурами. Она оплетала все вокруг. Камни, песок, нагромождения стали и бетона, перекошенные плиты, развалины и руины — все эти остатки естественной природы едва проглядывали сквозь слои плесени! И повсюду в этой плесени копошились люди. Чудовищные люди! Казалось, что они целиком состоят из мяса.
Непонятно было, как у них хватает сил таскать собственные тела. Огромные и вялые, они больше походили на гигантских червей, чем на людей. Они были ужасны. Они потели, источали скверный воздух, слизь, мочу и фекалии. На людях было столько мяса и от них так скверно пахло, что Киму они казались протухшими заживо. Они пахли цветами. Всеми цветами радуги.
Их руки, ноги, спины, лица состояли из сплошных мышц. У многих ворсисто заплесневело под мышками и в паху. Плесень длинными лохмами росла у них даже на голове. Иногда люди слипались и совершали множество сумбурных, диких телодвижений. Они не то боролись, не то любили друг друга — различить было невозможно. Один такой извивающийся червяк стал липнуть к Киму, и он с брезгливой осторожностью размазал его по земле. Киму стоило большого труда различить в нагромождении бесформенных комков плоти человеческое лицо. Нос, щеки, подбородок, губы — все было распухшим, бугристым, с щетинками у глаз, точно у насекомого. Эта мразь ползала за ним с чудовищным сопением, а из хрипящей массы на него смотрели два зовущих человеческих глаза. Вот что было страшно.
Человек-амеба не отставал, и Ким научился-таки смотреть на комки замшелой плоти вокруг его студенистых глаз именно как на лицо, но он так и не смог привыкнуть к тому, как отвратительно оно выглядело. И дело даже не в костяных мозолях лба, скул и подбородка, не в кожаных мешках носа и щек, не в мускулистых червяках губ и плесени бровей и волос. Самое отвратительное состояло в том, что это было лицо внутренностью наружу. Словно у этого человека было полно неконтролируемых мыслей, тайных желаний, скрытых чувств, снов и мечтаний, и все они, друг за другом, бесконечной чередой проступали на его лице, словно пятна света и тени. Сперва Киму казалось, что это и есть свет и тени. Лицо этого человека на самом деле было столь дефектно-выпуклым, что разительно менялось просто от поворота головы, оттого, под каким углом падало на него солнце или ложилась тень, и даже просто оттого, под каким углом на него смотрел Ким. Но вскоре он понял, что дело не только в тенях и свете. Сквозь это лицо словно проступали другие лица. Самые разные и противоречивые мысли и чувства скользили по этому жуткому лицу, никогда не исчезая совсем и оставляя свой след в его чертах. Это было не лицо, а огромный нарыв, извергавший гной чувств. В его глазах можно было одновременно прочитать самую нежную ласку и свирепую жажду борьбы. Противоположные желания постоянно заслоняли друг друга, и любовь в его взоре было невозможно отличить от ненависти.
Ким с трудом переносил пребывание здесь. Все вокруг, даже Ли, виделось ему в черном свете. Ли перестала что-либо замечать вокруг, целыми днями сидела и смотрела ледышками глаз в пустоту перед собой. Это были не глаза, а синие бельма. А однажды Ким заметил, что человек-червь повадился смотреть на Ли своими жадными глазами. Это было отвратительно. Он пожирал ее взглядом, а она даже не замечала этого.
32
Ли сидела на берегу маленькой лесной реки. Изумрудные воды медленно струились у самых ее ног. В мшистых камнях журчал зеленый ручей. Кроны деревьев смыкались над руслом сплошным пологом зелени. Но в некоторых местах лучи солнца пробивались сквозь листья, заставляя светиться золотой песок и длинные фиолетовые водоросли на дне. В затонах колыхались сиреневые кувшинки. По поверхности воды плыли, кружась, лепестки цветов.
Ли было хорошо. Ничего не хотелось. Ни пить, ни есть. Для того чтобы жить, достаточно было густого воздуха и белого света на коже. Белый свет был прекрасен.
И вдруг Ли почувствовала взгляд. Он напомнил ей о Киме.
33
Они долго шли прямо сквозь заросли. Со спины читатель казался Ванглену женщиной, но когда тот оборачивался, Ванглен видел глаза мужчины. Впрочем, во всем его теле не было ничего, что могло бы определенно указать, что это мужчина. Или женщина. И все же Ванглен видел, что это мужчина. Лишь голос у него был женским.
Наконец они вышли на небольшую поляну, посреди которой зияла черная дыра, словно здесь пространство вывернулось и ушло внутрь себя. Края дыры обуглились. Вокруг не было ни травы, ни мха — только черный, обожженный камень.
34
Ким больше не мог читать стены, поэтому так и не понял, где они сбились с обратного пути. Лестница шла все вниз и вниз, пролет за пролетом. Но это была какая-то другая лестница. Она не кончалась. Ли ощупью шла следом. Иногда они останавливались, чтобы передохнуть, и Ким тщетно пытался поймать ее взгляд. Ли смотрела в пустоту. Тьма была абсолютной. Но Ким видел в черном свете.
35
Ванглен осторожно продвигался вслед за читателем в кромешной тьме, держась рукой за стену и нащупывая ногой ступени. Лестница казалась бесконечной. И чем ниже они спускались, тем тяжелее ему становилось не только двигаться, но и дышать. Давило так, что при каждом вздохе трещали ребра. Все тело болело. Груды мышц тянули вниз свинцовой тяжестью. Между пролетами лестницы они отдыхали, чтобы перевести дух.
— Как тяжело, — прохрипел Ванглен.
— Добро пожаловать в реальный мир, — ответил читатель. Ванглен не мог видеть его в темноте. Он лишь слышал печальный женский голос.
— Мы уже близко? — хрипя, выдохнул Ванглен.
— К чему?
— К полюсу.
— Мы не приближаемся к полюсу, а удаляемся от него. Разве ты не понимаешь этого?
— Нет, — выдохнул Ванглен.
— Это потому, что ты не видишь разницы между плюсом и минусом. Поменяй плюс на минус в своих уравнениях, и ты все поймешь.
— Что я должен понять? — Ванглен подпер голову руками, чтобы она не падала на грудь.
— Что на самом деле все обстоит не так, как тебе кажется. На самом деле все ровно наоборот. Тебе кажется, что Земля круглая, но она круглая совсем не так, как ты думаешь. Она круглая наоборот. Земля со всех сторон окружает небо точно так же, как берега Антарктиды со всех сторон окружают океан. Тебе кажется, что Земля вращается вокруг Солнца, но она вращается не так, как тебе кажется. Земля вращается вокруг Солнца, которое внутри Земли. И вместе они кружатся вокруг полюса. Полюс — это точка в пустоте где-то над морем, куда уходит пространство, как в бесконечную перспективу. Чем дальше от этой точки, тем больше радиус, по которому мы кружимся, и тем тяжелее нам становится. Чем ближе — тем легче. Если отплыть от берега подальше, то вообще можно взлететь. Поменяй плюс с минусом в системе своих координат, и все сразу станет на свои места.
Ванглен молчал, собираясь с мыслями. Но даже мысли казались тяжелыми, неподъемными. Он чувствовал, что ступени под ним слегка дрожат. Стены скрипели и сотрясались гулкими толчками, словно вздымаемые чудовищным полнолунием.
— Но должен быть второй полюс. Разве мы не приближаемся к нему? — свинцовым языком выговорил Ванглен.
— В том-то и дело, что нет второго полюса. Мы живем в однополярном мире. Поэтому ты и не видишь разницы между плюсом и минусом. Ты думаешь, что мы внутри, а на самом деле мы снаружи. Мы не поднимаемся вниз, а спускаемся вверх. Это был не вход, а выход. Ты не чувствуешь разницы между плюсом и минусом, потому что нет больше ни плюса, ни минуса. Нет ни верха, ни низа, ни добра, ни зла. Когда-то люди жили в мире, где было добро и зло. Но затем добро победило зло. Добром стало даже то, что было злом. Или казалось таковым так же, как сейчас кажется добром.
— Но так не бывает, — выдохнул Ванглен, едва не сломав себе ребра.
— Все бывает, — вздохнул женский голос во тьме. — Когда-то люди жили в реальном мире, который бывает, и решали реальные задачи, с плюсами и минусами. Но затем все реальные задачи были решены. Остались лишь выдуманные. Тогда зачем было оставлять реальность реальной? Для выдуманных задач нужен выдуманный мир. Зачем создавать что-то, если можно просто придумать. Когда ты можешь сделать все, важно не что ты делаешь, а чего не делаешь. Бог ничего не делает. Поэтому он и Бог.
Все, что мог, Он уже сделал. А поскольку Он Бог, то мог все, поэтому сделал все. Значит, все возможно. Да и не столь это важно — реален ли реальный мир или нет. Все — только кажется, поэтому реальное вполне может быть нереальным, а нереальное так же реально, как реальное. Реальность у каждого своя. Для тебя — одна. Для меня — совсем другая. Ты думаешь, что ты — это ты, а я — это я. А я думаю по-другому. Быть может, я думаю, что я — это не я.
Женский голос плакал во тьме.
— Это ты, Киллена? — спросил Ванглен, совсем запутавшийся в любовном треугольнике мироздания.
— Называй меня каким хочешь именем. Не ошибешься.
— Почему ты плачешь?
— Плакать или смеяться — какая разница?
— Но тогда почему ты плачешь, а не смеешься?
— Тебе это только кажется. Мы же не люди, чтобы плакать или смеяться. Мы хотим быть людьми, но мы не знаем, как. Мы даже не знаем, что такое быть. Все вокруг не то, чем кажется.
— Я люблю тебя! Это реальность!
— Тебе это только кажется. Быть может, на самом деле ты меня ненавидишь. А если и любишь, то не ты и не меня. Все это не то! Все не то, чем кажется!
Голос рыдал где-то совсем рядом. Ванглен поднялся и шагнул вперед, вытянув в кромешной тьме руки. Внезапно ступени под его ногами кончились и он, не удержавшись, полетел во тьму.
36
Кима и Ли окружал полный мрак. Ни стены, ни тела больше не светились. От последнего умершего на сетчатке глаз фотона их отделяло бессчетное число бетонных перекрытий и маршей бесконечной лестницы. Но Ким, который видел в черном свете все, вел Ли за собой.
Плесень не светилась, но ее появлялось все больше на стенах. Пол и ступени стали мягкими и ворсистыми. Ноги погружались в этот ворс сначала по щиколотку, затем по колено. Идти становилось все труднее. Плесневая трава росла уже по пояс. Казалось, что она не просто путается под ногами, но вяжет, ощупывает их. Паутинки плесени протягивались через весь коридор, от стены к стене, все гуще и все прочнее. Их приходилось рвать плечом, чтобы двигаться дальше. Ким барахтался в этой паутине. Каждый следующий шаг давался ему тяжелее предыдущего. Он совсем потерял направление и уже не понимал, движется ли он сквозь слипшуюся паутину вдоль коридора или пробивается прямо сквозь стены плесени.
Щупальца и волокна облепили его со всех сторон, и Ким почувствовал, что уже не он продвигается сквозь плесень, а эта густая, вязкая масса проникает в него. И чем больше сил он тратил на борьбу с ней, тем быстрее происходил этот процесс. Сначала у Кима рассосались пальцы. Он все еще чувствовал легкое покалывание в них, даже когда его руки растворились по локти. Затем исчезло то плечо, которым он пробивался сквозь стены. Странное дело, двигаться от этого стало только легче. Ким продолжал шагать вперед, хотя ноги совершенно онемели и он не был уверен, есть ли еще они у него. Сосущее чувство охватило его живот, пробирая до самых кишок, до печени и селезенки. Его позвоночник и ребра стали мягкими. Набитые плесенью легкие давили изнутри, и Киму казалось, что он дышит всей окружающей его массой. У него больше не было ног. Он совершал не шаги, а усилия. Еще усилие — и рассосалось его сердце. После этого все пошло легче. Усилием воли Ким растворил лицо, мешавшее двигаться вперед, и глаза, которые давно стали ему без надобности. Его еще живой мозг врастал в плесень сгустком спутанных мыслей, которые становились все отрешеннее и тоньше. Последней мыслью Кима была чистая мысль о Ли. Обретя свободу, она легко пронзила толщу плесени и вышла наружу.
Конец второй части
Часть третья
1
Красота донны Молины с возрастом достигла той степени бесстыдного совершенства, когда молчать о ней значило даже больше, чем ее славить, и любой, самый уверенный в себе мужчина в ее обществе начинал чувствовать себя неловко, но не оттого, что ее умопомрачительные прелести возбуждали в нем тайные желания и нескромные мысли, а потому, что через какое-то время всякому начинало казаться, будто он недостаточно явно выказывает их и недостаточно настойчиво старается продемонстрировать свое восхищение этой поразительной женщиной, будто он и не мужчина вовсе, будто он не чилиец. Невнимание к соблазнам донны Молины выглядело сродни непатриатизму. Это походило на государственную измену! Одно лишь подозрение в этом могло погубить мужчину.
Впрочем, игнорировать эту женщину было так же невозможно, как не замечать извержение вулкана, разразившееся прямо у ваших ног, и хотя донна Молина выбивалась из сил в стремлении уберечь мужчин от действия своих неотразимых чар, но эта ее забота приводила лишь к тому, что ни один из представителей сильного пола не чувствовал себя находящимся от нее на достаточном удалении, чтобы его невнимание к этой женщине не бросилось тут же в глаза всем окружающим и не показалось бы куда более непристойным, чем самый откровенный флирт. Даже те мужчины, которые вовсе не знали ее, были сами в том виноваты. Достаточно было хоть раз взглянуть на донну Молину, чтобы понять это.
Поэтому Мария совсем не удивилась, когда, войдя в дом, не обнаружила рядом с донной Молиной лейтенанта Эспехо, своего жениха, как будто здесь ничего и не произошло перед самым ее приходом. Донна Молина, очаровательно улыбаясь всем своим сладким телом, стояла посреди комнаты с самым невинным из своих видов и, кажется, даже развела чуть в стороны руки, то ли встречая Марию, то ли показывая ей, что ничего не было, но даже если бы Мария застала ее с лейтенантом сжимающими друг друга в страстных объятиях, суть произошедшего не стала бы для всех присутствующих более ясной и отчетливой, чем сейчас, когда она, войдя, увидела все общество застывшим в самых нестесненных позах, будто и в самом деле ничего особенного перед ее приходом здесь и не произошло, будто все они специально ждали именно ее, Марию, чтобы показать ей это со всем своим природным тактом и врожденной чуткостью, заставлявшей всех их скрывать, что бы здесь ни произошло минуту или год назад, безразлично, из одного только дружеского участия и самого искреннего уважения к чувствам бедной девушки, и единственным следом случившегося, но скрытого в самых недрах их душ так надежно, как если бы ничего не случилось вовсе, была та непринужденная обстановка, которая царила в доме, и дружелюбное молчание, которым все присутствующие встретили появление Марии, которая так и застыла в дверях, будто ударившись о воцарившуюся тишину.
Марию не слишком удивило и то, что все это происходит на людях. Чилийцы по природе своей чрезвычайно скрытны. Они могут годами прятать свои чувства под маской совершенно непритворной искренности. Свои истинные чувства они способны спрятать так глубоко, что часто и сами остаются в полном о них неведении до конца своей жизни. Наверное, это самая скрытная нация на свете. Именно поэтому, когда столь глубокое чувство у них вырывается наружу, его проявлению не может помешать ничто. Тем более что ни у кого не было сомнений, что только благодаря врожденной щепетильности донны Молины фактически все выглядело так, будто ничего не произошло вовсе. Скорее всего, и на самом деле ничего такого, о чем все так и подумали, не произошло, уж слишком безупречна донна в вопросах, касающихся ее чести, но все это было совершенно неважно, поскольку скрытность у чилийцев вполне естественным образом сочетается с величайшей проницательностью, поэтому в Сантьяго ничего — даже того, что упрятано так хорошо, что ни единая душа не могла сказать, что видела это собственными глазами, — скрыть невозможно, и для всех присутствующих суть всей этой сцены читалась столь же явно, как если бы лейтенант Эспехо в эту минуту стоял перед донной Молиной на коленях, а та втирала бы его красивую голову в свой плоский живот прямо на глазах у бедняжки Марии. Само отсутствие каких-либо следов бурной сцены служило лучшей уликой. В самом деле, зачем так тщательно скрывать то, чего не было? И если ничего такого не произошло, то почему все так и подумали?
Мария прекрасно понимала, что все это не было подстроено специально для того, чтобы уличить ее. Для чего подстраивать то, что и так каждый день происходит в Сантьяго в каждом доме и что, в сущности, не отличалось от любой другой сцены, каждая из которых ежедневно разоблачала Марию в глазах окружающих всякий раз, когда она появлялась в обществе, что бы там ни происходило или не происходило перед ее приходом. Собственно, все присутствующие только для того здесь и собрались. И даже те, кто здесь отсутствовал, поступали так не без причины.
В сущности, Марию не очень-то все это и задело, неважно, произошло здесь что-то или нет, поскольку лейтенант Эспехо лишь считался ее женихом, во всяком случае, все соседи, родственники, друзья и знакомые говорили об этом, как о деле решенном, и называли их женихом и невестой, хотя Мария откровенно не понимала, откуда взялись все эти нелепые слухи, потому что никогда она ни с кем, в том числе и с самим лейтенантом, не говорила ни о чем подобном и не давала ни словом, ни жестом, ни единым взглядом ни малейшего повода к каким-то пересудам на этот счет. Более того, Мария никогда даже в глаза не видела лейтенанта Эспехо и не имела ни малейшего представления о том, как он выглядит. Она не видела даже его фотографии, и никто ни разу не смог толком ничего ей рассказать о нем. Сказать честно, она не была даже уверена, что ее жених существует на самом деле, а не является очередной выдумкой донны Молины, которая таким нехитрым образом пыталась хоть как-то спасти репутацию Марии. Ведь если бы лейтенант Эспехо существовал на самом деле, то не было б никакого смысла так много говорить о нем с Марией, и лишь его отсутствие как такового делало слухи неопровержимыми. Существует он на самом деле или нет, но эти двое — блестящий офицер и бедная Мария — казались всем такой красивой парой, что явная дистанция, которую они сохраняли в отношениях друг с другом, лишь доказывала, что все давно решено, и весь город обсуждал их роман, то жалея Марию, то завидуя ее счастью. И не так важно, произошло ли что-то в доме донны до прихода Марии или только готовилось произойти, поскольку все это действительно могло произойти, а значит, все равно что произошло, во всяком случае, вероятность этого происшествия была близка к ста процентам, а отсутствие самого факта связано лишь с частными обстоятельствами и, в общем, случайно, а потому ничего не менялось, даже если на самом деле ничего и не произошло. Ведь рано или поздно что-то в этом духе непременно должно было случиться.
Все здесь присутствующие прекрасно понимали это. Доктор Уртадо даже зевнул, когда Мария вошла, и продолжал сидеть в кресле с распахнутой газетой с таким видом, будто не только не отрывался от чтения все это время, но и вообще трудно представить, что на свете могло бы оторвать его от газеты, а уж меньше всего — поведение собственной любовницы, тем более что он знал, что все вокруг знали, что звания официального любовника донны Молины доктор удостоился лишь в шутку, поскольку выглядел он в этой роли столь нелепо, что, даже когда его видели с донной Молиной, все воспринимали данное обстоятельство лишь как продолжение старинного анекдота, вся соль которого как раз и состояла в его совершенной нелепости и долготе. Все прекрасно знали, каковы их взаимоотношения на самом деле. Да, собственно, они их и не скрывали, и раз в неделю доктор Уртадо ужинал у донны Молины.
Адвокат Абелардо, имевший талант всегда оказываться там, где что-то происходит, и само присутствие которого являлось лучшим доказательством того, что действительно происходит нечто особенное, потому что даже когда вообще ничего не происходило, его присутствие придавало этому обстоятельству особый смысл и само по себе превращало ничего не значащий эпизод, а уж тем более его отсутствие, в неопровержимую улику, настолько строго, с безжалостной логикой умел он выстроить цепочку известных связей между самыми, казалось, далеко отстоящими друг от друга и совершенно случайными фактами, — адвокат Абелардо сладострастно попыхивал своей сигарой, не обращая внимания ни на отсутствие лейтенанта, ни на присутствие — каково! — несравненной донны, а, напротив, не сводя именно с Марии своего хищного и, как обычно, несколько презрительного взгляда накачанных, как и его отменная мускулатура, глаз, холодный скепсис которых он нарочито усилил, чтобы не дай бог кто-либо из присутствующих и, прежде всего, сама Мария, не заподозрил, что он смотрит на нее как-то иначе, чем на других, как оно на самом деле и было, своим выпуклым, рельефным взглядом подчеркивая, что важно не то, что произошло или не произошло в этой комнате в отсутствие Марии, а то, как она, Мария, воспримет все это, застигнутая, как обычно, врасплох.
Собственно, и все остальные, кроме доктора с его газетой, смотрели не на донну Молину, эту всегдашнюю виновницу любого торжества, а на Марию и смотрели они на нее в этом момент вовсе не потому, что, войдя, она разом оказалась в центре скандала, а потому, что даже тогда, когда ее не было в доме, она — теперь это стало совершенно очевидно — занимала все их мысли и оставалась главным действующим лицом всего происходящего, даже если ничего на самом деле и не происходило, и теперь своим эффектным явлением она лишь подтверждала это, остановившись в дверях так, будто все это имело для нее какое-то еще значение, кроме того буквального и совершенно двусмысленного, о котором столь явно говорило отсутствие лейтенанта Эспехо, очевидно, самого близкого ей на свете человека, вкупе с очаровательным трепетом ресниц донны Молины и ободряющим молчанием всех остальных.
На Марию сострадальческим взглядом смотрел отец Донато, который пришел сюда специально, чтобы попытаться спасти девушку, поскольку знал и боялся, что с ней рано или поздно должно произойти нечто подобное и что не только адвокат Абелардо, который преследовал ее с упорством, делавшим ему честь и обнаруживавшим его истинные цели, но и все остальные ее друзья и просто знакомые давно следили за Марией, опасаясь и ожидая от нее чего-то в этом духе, и пришли они в гости к донне Молине в одной лишь надежде не увидеть ничего подобного, и надо же такому случиться, что, как только они собрались все вместе, именно на их глазах, в присутствии стольких непредвзятых свидетелей и произошло то, чего все они так боялись и чему не хотели верить, давно смирившись в душе. Потому-то отец Донато при всей своей нелюбви к светской жизни считал долгом доброго христианина присутствовать здесь, в гуще событий, зная, насколько важным может оказаться свидетельство и голос мудрого пастыря в таком запутанном в самой своей вопиющей простоте случае, хотя и понимал с горечью, что все его усилия бесполезны и что призвание священника в данном случае предписывало ему держать свое милосердие спрятанным поглубже, чтобы стать не только неутомимым преследователем, но и суровым судией девушки столь нелегкого поведения, и весь драматизм ситуации состоял в том, что, находясь здесь, отец Донато превращался в одного из палачей той, которую он так хотел спасти. Отец Донато всегда, как мог, защищал Марию и при каждом удобном случае, включая воскресные проповеди, распространял о девушке самые нелепые слухи, чтобы скрыть от людей то, чего им на самом деле не следовало о ней знать.
На Марию смотрел и архитектор Фарамундо, который, впрочем, всегда смотрел на Марию, если она появлялась в поле его зрения, и смотрел так, что не надо было никаких слов, чтобы разъяснить истинный смысл этого напряженного взгляда, который при виде Марии на самом деле даже несколько смягчался, чем архитектор и выдавал себя с головой, потому что его взгляд становился совсем каменным, когда архитектор Фарамундо смотрел не на Марию, а на донну Молину, или на стул, на который та собиралась присесть, или на любой стул вообще, даже на тот, на который он собирался сесть сам, прежде чем углубиться в размышления над невероятными проектами своих фантастических небоскребов, которые занимали все его мысли, или когда он просто глядел в окно, за которым ему виделось, как его невозможные прожекты скребут небо над Сантьяго, — его взгляд всегда оставался напряженным, и сейчас архитектор встретил Марию этим же раскаленным до черноты, хотя и чуть смягчившимся против его воли взглядом. Небоскребы рушились в его глазах.
На Марию смотрел даже полковник Амадор, который вообще ничего не понимал из того, что вокруг происходит, а что — нет, и не видел в этом никакой разницы, но с чуткостью, присущей каждому чилийцу, чувствовал, что происходит, как всегда, нечто чрезвычайное и что именно Мария — жертва, ключ и разгадка той драмы, которая разворачивается на его старческих, но все еще зорких глазах. И даже Генерал, казалось, смотрел на нее сурово и вопросительно со своего парадного портрета над камином. Все это видели: Мария вошла и даже не покраснела.
И в этот момент все поняли, во всяком случае, всем так показалось, что Мария наконец догадалась, что пропала и что больше ничего не изменится в ее судьбе, а все будет точно таким же, как сейчас, в эту долгую минуту. Ее искренность больше ей не поможет, поскольку, в сущности, ничем не отличается от притворства в глазах людей, которые именно этого от нее и ждут. Ведь если человек желает быть до конца искренним, то он просто обязан притворяться, чтобы не оказаться натуральным интриганом. Но все это отныне стало совершенно бессмысленным. Все вдруг разом, даже не переглянувшись, почувствовали, что Мария поняла, что ни ее искренность, ни ее притворство уже не выручат ее, поскольку каждый из присутствующих несомненно примет как ее искренность, так и самое чистое ее притворство на свой счет или на счет другого в зависимости оттого, ждет ли он проявления ее искренности или ее притворства в отношении себя или кого-то другого в тех нерасторжимых узах почти родственного взаимонепонимания, которое сложилось в их кругу. Все они равно будут верить ей каждый на свой лад, надеясь, что именно его она обманывает своей искренностью и готовностью ко всему, что они могли бы ей сказать, если бы не считали, что все подобные слова лишние и что все, что может быть сказано в подобных случаях, столь банально и само собой разумеется, что не стоит тратить время и силы на то, чтобы все это произносить вслух, что, собственно, и давало Марии возможность всегда идти навстречу любым их желаниям, уступая всем сразу и никому в отдельности. Мария поняла, что даже если сейчас она на их глазах разденется и пройдет по улице голой, то никто из присутствующих не поверит своим глазам, и она останется для всех вне малейшего подозрения.
Они все молчали, давая ей понять со всей присущей им деликатностью, что теперь она может делать все, что угодно, но заставить их думать о себе хуже она не сможет уже никогда и что она вправе ожидать большего участия вот от этого напыщенного Генерала на портрете, чем от них, что, впрочем, само собой разумеется в Чили. Довольно всем этим женихам вертеть ею, как она того хочет! Довольно ей быть невестой их всех, ежеминутно подвергая всех их смертельной опасности самим фактом своего среди них присутствия или отсутствия, неважно. И все вдруг ясно увидели, что она словно бы собралась даже что-то сказать, их молчаливая Мария, во всяком случае, всем так показалось, все были уверены, что именно сейчас с ее уст, наконец, должны сорваться слова какого-то долгожданного признания, но тут все испортил полковник Амадор. Он вдруг громко, с металлическим лязгом чихнул, так что выпученные глаза доктора Уртадо всплыли над газетой, вечно погруженный в свои мысли архитектор Фарамундо бросил грызть карандаши пальцев, адвокат Абелардо чуть не поперхнулся сигарой, отец Донато посуровел, а донна Молина даже слегка взвизгнула и перекрестилась на портрет Генерала, выдав тем самым всю свою всегдашнюю неготовность к афронту со стороны мужчин. Полковник чихнул, словно выстрелил. Звук был звонок, как пощечина.
И Мария так ничего и не сказала, а просто улыбнулась невинной донне Молине, положила приготовленный для подруги сверток с новым платьем на столик у двери, повернулась, ничуть не смутившись тем, что показывает свою спину, и вышла вон. И ничего не произошло. Никто не бросился к окнам, хотя все знали, что там нет никого, кроме Марии, которая идет по улице совершенно одна. Донна Молина зашелестела кульком, вытряхивая из него платье. Полковник Амадор занялся своим покрасневшим, словно надорванным от жестокого чиха носом, а архитектор Фарамундо — пальцами. При виде нового платья донны его глаза затвердели, как смола на морозе. Доктор вернулся к своей газете.
Отец Донато оборотил карающий взор на шелестящую тканью донну. Адвокат принялся яростно грызть сигару, щурясь от едкого дыма. Он смотрел на новое платье донны так, будто прожигал в нем дыры. Один лишь Генерал, казалось, не сводил своих отеческих глаз с двери, за которой скрылась Мария.
2
Ванглен сидел на ветке дерева. Прямо под его ногами сквозь густую листву просвечивало небо. Его макушка почти касалась земли. Ванглен всегда старался забраться повыше, к самым корням. Здесь ему легче дышалось.
Ванглен сидел на ветке, свесив ноги вверх. Подняв руку книзу, он сорвал с земли травинку, сунул ее в рот и принялся разглядывать облака, плывущие под ногами. Киллены снова не было рядом. Но перед тем как исчезнуть, она все же вывела его на самый верх низа. Дальше он снова должен идти сам. Его бегство от нереальности продолжалось.
3
Мария шагнула за угол и сразу увидела солдат. Только этого ей сейчас и не хватало! Патруль, да еще усиленный! Впрочем, чего еще было ждать? Ведь она живет почти в центре Сантьяго, в Баррио Беллависта, а это очень неспокойный район, где обитают одни женщины, престарелые врачи да адвокаты. Солдат было четверо. Хорошо еще, что с ними был офицер. Это несколько упорядочивало ситуацию.
Мария отлично знала, как будет реагировать на нее солдатня, и даже не пыталась бежать. Офицер уже увидел ее и дал команду строиться. Главное, не отказывать им сразу, иначе они кинуться на нее все вместе. Объяснять что-либо бесполезно. Они все равно поймут ее по-своему.
Мария поправила платье и спокойно направилась прямо к патрулю. Ночью Сантьяго слегка трясло, поэтому весь асфальт был устлан лепестками цветов, которые чуть скрипели под ее каблуками.
Офицер встретил ее вежливой улыбкой: бледное лицо аристократа, тонкие усики над верхней губой, жесткий взгляд серых глаз — образцовый чилийский вояка, настоящий кабальеро. На вид ему было лет сорок и, очевидно, он понюхал в жизни духов. Офицер окинул опытным взором всю фигуру Марии, элегантно, с оттяжечкой козырнул и повел ее вдоль строя.
Первым в шеренге стоял здоровенный сержант, настоящий гуасо ступой ухмылкой на бычьей физиономии. Видно было, что службой своей он вполне доволен, у начальства на хорошем счету и время офицерских выволочек для него давно миновало. Вид у сержанта был самый бравый. Китель распахнут на волосатой груди, рукава с лестницей шевронов закатаны по локоть, ремень приспущен, ширинка галифе расстегнута. Вместо сапог на ногах — домашние тапочки с мордашками котят. Его серая форма была мокра под мышками, от сержанта сильно несло потом и чичей и по его самодовольной харе было видно, что он привык к успеху у самых утонченных женщин. Сержант был настолько уверен в себе, что даже не имел с собой никакого оружия, если не считать внушительной фляги. Он смотрел на Марию с показным равнодушием и даже не стал скрывать своего изумления, когда она молча прошла мимо, даже не взглянув на его ширинку.
Вторым вытянулся в струну капрал, в котором с первого взгляда можно было распознать ревностного служаку. В старании отличиться он не только в жару напялил на себя парадную форму с золотыми аксельбантами, тугим стоячим воротником, подпиравшим ему щеки, белой портупеей и фиолетовым плюмажем на треугольной шляпе, но даже прицепил сбоку саблю. Собственно, ему и не по чину было торчать среди рядовых в уличном патруле, но капрал всякий раз вызывался в любой наряд добровольцем. На его выпяченной груди красовался орден размером с суповую тарелку, а на начищенных до рези в глазах сапогах — шпоры. Капрал вытянулся по стойке смирно и пожирал Марию страстным, уставным взглядом.
Следом за ним попирал землю кривыми ногами мрачного вида индеец.
Он был смугл. На нем была гвардейская униформа, а в гвардии служили настоящие звери. Скуластое лицо индейца казалось непроницаемым и ненасытно жестоким. Это было не лицо, а плаха. Запекшиеся глаза холодно и пусто смотрели сквозь Марию. Было видно, что гвардеец готов на все.
Последним высился долговязый курсант, явный новобранец. Он единственный был облачен в полевую, испятнанную всеми цветами радуги форму с полной выкладкой: каска, бронежилет, саперная лопатка, штык-нож, разгрузка с запасными обоймами, целый арсенал гранат и рация-бумбокс на плече. Парню приходилось нелегко, но он очень старался и буквально пожирал влюбленными глазами офицера, не обращая никакого внимания на Марию. Из ствола его закинутого за спину автомата торчал подсолнух. В своей амуниции новобранец выглядел довольно забавно, но Мария даже не улыбнулась.
4
Здесь не было ни света, ни тьмы, поэтому Ванглен видел все вокруг очень ясно вне зависимости от расстояния. Более того, чем дальше находился он от предмета, на который смотрел, тем яснее видел его, а все, что находилось вблизи, расплывалось перед его взором. Таково было странное свойство здешнего воздуха, который был столь плотен, что Ванглен с трудом научился дышать им. При этом его густая, вязкая масса оставалась совершенно прозрачной. Воздух весь точно состоял из незримых линз. Ванглен мог во всех подробностях разглядеть дальние леса и горы, но не видел собственных рук и ног. От них осталось лишь мышечное чувство. Ванглен, как и все люди Антарктиды, не обращал никакого внимания на свою внешность, но сейчас он вообще не мог себе представить, как выглядит, и знал о себе только по тем усилиям, которые прикладывал, чтобы находиться в этом воздухе. Ванглену казалось, что у него никогда больше ничего и не было, кроме мышечного чувства. Он вспомнил, как они с Килленой ради забавы уходили в самую глубину пещеры на своем острове и там сидели в кромешной тьме до полной потери чувства реальности, а потом, растворившись без остатка в тишине и мраке, ощупью находили и лепили друг друга из ничего взаимными ласками. Когда Киллены не стало, Ванглен зашел в эту пещеру в безумной надежде вновь вылепить ее из мрака небытия. Но в темноте никого не было. Даже его самого. Ванглен вынужден был сам себя вылепить, чтобы вновь появиться, но лепнина тела на самом деле ничего не меняла. Нечто подобное он чувствовал и здесь. Его не было.
5
Генерал увидел в небе чайку. Вернее, сначала он услышал ее, и этот надорванный крик, сварливый и неприятный, взволновал его до глубины души. Генерал подошел к окну, протер толстые стекла своих очков черной бархаткой с вышитым золотом национальным гербом в углу, водрузил массивную оправу на нос и нашел взглядом птицу в небе. Быть может, она прилетела из Вальпараисо, города, где когда-то — так давно, что и сам Генерал помнил об этом лишь потому, что так сказано в его официальной биографии, публиковавшейся на первой полосе во всех газетах страны под его портретом в День спасения Нации, — где когда-то он родился, шестой ребенок в семье мелкого таможенного служащего. Теперь нет ни таможни, ни порта, ни самого Вальпараисо. Океан наступает, и от огромной страны осталась лишь узенькая, непригодная для жизни из-за частых цунами полоска каменистого побережья вдоль неприступных Анд да огромная столица в цветущей чаше горной долины, где ныне и сосредоточилось все население Чили, южане и северяне, горцы и жители равнин, мигранты, прибывшие со всего света из стран, где жизнь стала невозможной, и коренное население. Когда Генерал родился, Сантьяго от океана отделял почти день пути, а теперь чайки залетают в центр города, и их отчаянные крики раздаются прямо над дворцом, а в ушах постоянно стоит шум моря.
Генерал вздохнул и перевел взгляд с небес на землю. Сентябрь. Весна! Самое замечательное время года в Чили! Видом Сантьяго нельзя было не восхититься! Как же расцвела столица за годы его правления! Город утопал в цветах. Цветы были на всех улицах, во всех дворах, на балконах и даже на крышах. Окрестные горы утопали в садах и виноградниках. Сантьяго! Город мира и благоденствия! Город любви!
6
«Какая все-таки молодец эта Мария! Так им всем и надо, этим мужланам! Мужчины вообще глупы. А у нас, в Чили, особенно, с их солдафонскими замашками и казарменным юмором. Вчера забежала к полковнику Амадору поболтать по старой памяти, так он меня слушал, слушал, а потом заявляет: „Донна Молина, если бы наши пулеметы строчили с такой же скоростью, как наши женщины, то всех наших национальных арсеналов не хватило бы и на минуту боя“. Я ему сразу ответила: „За всю нацию не скажу, но его, полковника, личных арсеналов, судя по всему, уже не хватит и на один выстрел“. Замолчал! Обиделся! Подумать только, когда-то я была женой этого человека! Тогда он не прерывался даже во время подземных толчков. Он сам был, как землетрясение! Как же давно все это было! А все туда же, острит! Дом полковника прямо напротив моего, и я видела как-то, как он стоял у калитки, когда мимо проходила Мария. Он нарочно отвернулся, чтобы только не встречаться с ней взглядом! Ее уже и след простыл, а он еще полчаса глядел в тот конец улицы, где она скрылась! Только бакенбарды развевались по ветру. Мыслитель! Знаю я его мысли! Мужчины так глупы!
Или взять, к примеру, доктора Уртадо. Он всегда заходит ко мне по четвергам. Для консультации. Посмотрит на мой нос, который врачевал сто лет назад, и при этом на его лице такое выражение, будто он судьбу мою решает. Мол, трудный случай! Глаза выпучит. Брови распушит. У доктора Уртадо брови пышнее, чем усы у нашего Генерала. Но я-то прекрасно знаю, о чем он в этот момент думает. О кукурузных чураско с говядиной, которые я ему, как всегда, предложу после всего отведать.
Он привык к моим чураско еще в те времена, когда был моим мужем, и с тех пор жить не может без того, чтобы не полакомиться ими хотя бы раз в неделю. За едой я ему и сказала, что ко мне завтра зайдет „эта негодница Мария“. Так он даже жевать перестал! Смотрел на меня так, что я боялась, как бы его мохнатые глаза не вывались в тарелку. А ведь, кажется, что ему за дело до бедной девушки? У него отбоя от пациенток нет. Правду сказать, доктор он еще тот, только и знает, что свои носы, но зато в этом он — настоящий мастер! Женщины со всего Сантьяго записываются к нему на консультацию за несколько лет, чуть ли не с рождения. А в приемной всегда толпится несколько дам, желающих получить консультацию вне очереди. И каждую ему удается убедить в том, что ее носик великолепен и не нуждается ни в какой косметической операции. Доказательства, которые при этом предъявляет доктор, не оставляют места для сомнений в верности диагноза. Ни одной не отказывает! И если Мария не задрала нос после консультации у доктора Уртадо, то это что-то значит! Впрочем, пусть судят ее, как хотят, да я и сама при каждом удобном случае ругаю ее потребной девкой, стараясь отвести глаза всем этим дурням. Ведь что бы они ни подумали о ней, все равно все их мысли будут об одном и том же. Молодец эта Мария!
Никому не позволяет водить себя за нос!
Да что доктор Уртадо! Отец Донато, как только при нем упоминаешь о Марии, начинает вытирать ладони о сутану. Он и называет-то ее на людях не иначе как сестра или еще того пуще — дочь, лишь бы скомпрометировать ее лишний раз. И трет ладони. Я всегда нарочно завожу с ним речь о „нашей сестрице“, чтобы только увидеть это. А уж что это за признак, мне отлично известно. Отец Донато — мой духовник. Нет такого греха, в котором этот человек ни заставил бы меня каяться.
А адвокат Абелардо! Это животное! Все играет бицепсами. Маньяк! Ведь он же просто-напросто преследует Марию. Устроил за ней натуральную полицейскую слежку. Подозревает ее в заговоре против всего человечества! Уж кому-кому, а мне известно, что скрывается за этим рвением. Я отлично помню, как жила с ним. Это было не супружество, а целый детектив!
Даже архитектор Фарамундо, этот престарелый мальчик, который все никак не расстанется со своей крысиной косичкой и воздушными замками, — и тот явился, чтобы посмотреть на Марию и ее бесстыдство. Он всегда так сосредоточен. Всегда думает об одном и том же. И я знаю, о чем именно. Мы поженились с ним сразу, как только он демобилизовался из армии.
Я их всех любила. Я их всех и сейчас люблю, этих вечных женихов, этих никчемных вдовцов при живой жене. От них теперь остались одни носы да бакенбарды. И какая все-таки молодец эта паршивка Мария! Она всем им дает почувствовать!»
7
Ванглен прекрасно помнил, что чем глубже погружался он вверх вслед за Килленой по подземелью внешнего мира, тем тяжелее становилось его тело и тем легче — мышечное чувство. С каждым шагом ему становилось все проще держаться на ногах, потому что воздух вокруг него становился все плотнее и гуще. Сначала воздух стал, как вода. Ванглен почти всплывал в нем, и только возросшая тяжесть тела позволяла ему и дальше погружаться вверх. Когда Ванглен вынырнул из подземелья на дно верха, то ему казалось, что дышать этим плотным и вязким воздухом вообще невозможно. Каждый вздох требовал таких усилий, что казался последним. Но вскоре выяснилось, что атмосфера здесь, внутри наружности, столь густа, что одного вдоха хватило на полдня. А спать можно было, вообще не дыша. Наружный воздух был так густ и насыщен, что его можно было пить. У него был не только запах, но и вкус. Этот воздух был сладок.
Более того, этот воздух можно было осязать, лепить из него невидимые снежки-линзы, которые довольно долго не расплывались, если их скатать как следует. Если долго трамбовать их, то эти комки становились твердыми на ощупь и их можно было кусать, как яблоки. Спать на деревьях было не очень удобно, и Ванглен наловчился сбивать себе из воздуха перину. Если повозиться и обстучать ее ладонями как следует, то такой постели хватало надолго. Спать на воздушной подушке было очень мягко, правда, пару раз за ночь приходилось просыпаться, чтобы ее обновить.
8
В Сантьяго шел дождь. Генерал распахнул окно и вздохнул полной грудью. Неумолчный гомон птиц, снующих над кипучей зеленью, оглушил его. Закатное солнце било сквозь подымавшийся от земли пар. Город утопал в цветах, и влажный воздух был пропитан их всепроникающим, тяжелым ароматом. Запах окутывал улицы, неподвижными слоями стоял над крышами, застилал розовой дымкой небо, достигал самых верхних этажей дворца. Столицу со всех сторон окружали горы, и полное безветрие усугубляло ситуацию. Генерал с трудом разглядел сквозь цветочный туман вершины Аконкагуа и Тупунги. Цветы теперь были и там, а ведь он еще помнит времена, когда их всегда покрывал снег. Говорят, берега Антарктиды уже освободились ото льда. Если дело так пойдет и дальше, то скоро океан станет пресным. Генерал вздохнул. Пол под его ногами слегка дрогнул от далекого подземного толчка. Сегодня день, впрочем, прошел спокойно.
Город лишь пару раз слегка тряхнуло. В Сантьяго шел дождь, дождь из лепестков.
Вечерний воздух был так густ, а аромат цветов столь резок, что Генералу казалось, будто стекла его очков запотевают от одного этого запаха, и он снова протер их черно-золотой бархоткой. В прежние времена Генерал сошел бы с ума от головной боли. Но теперь есть эти волшебные таблетки. Генерал вытащил из кармана пузырек, вытряс на ладонь белый кругляш таблетки, отправил его в рот и тщательно разжевал. Никакого вкуса. Никакого запаха. Между тем вся жизнь перевернулась от этих таблеток.
Говорят, что впервые они появились именно как средство от головной боли. Их разработали для астронавтов NASA, чтобы облегчить муки адаптации к невесомости. Новое средство получило широкое распространение благодаря своей дешевизне, безопасности и удивительной эффективности. Постепенно обнаружилось, что эти таблетки помогали не только от головной боли, но улучшали общее самочувствие людей и даже их настроение. Утром они помогали взбодриться после сна, а вечером — побыстрее заснуть. Таблетки самым благотворным образом влияли на пищеварение, с ними лучше думалось. Многие начали пить эти таблетки каждый день просто для бодрости. Благо многочисленные клинические испытания неизменно показывали, что препарат абсолютно безвреден, не имеет побочных эффектов, противопоказаний и даже случаев передозировки. Лекарство оказалось настолько безопасным, что его рекомендовали даже беременным женщинам, и самая сложная беременность превращалась в непрерывную череду приятных переживаний. Таблетки не вызывали привыкания.
Люди не привыкали к ним. Они просто не могли без них жить. Голова действительно больше не болела. Ни о чем.
Но и это было лишь началом. Исследования продолжались, и круг болезней, против которых таблетки показали себя эффективным средством лечения, все расширялся и расширялся. Про аллергию никто больше и не вспоминал! Таблетки помогали от простуды и насморка. Но настоящая сенсация разразилась, когда обнаружилось, что чудо-лекарство успешно борется с вирусными инфекциями. И не только с гриппом. Самые страшные болезни отступили. В конце концов сдался даже СПИД! Таблетки справлялись с такими недугами, как астма, туберкулез. Они излечивали заболевания сердечно-сосудистой системы!
Они помогали даже от зубной боли! Таблетки лечили зубы! Таблетки оказывали общий омолаживающий эффект. Старики умирали молодыми. Умирали без мук, во сне. Когда приходило их время, они просто засыпали, чтобы никогда больше не проснуться. Таблетки совершили переворот в психиатрии. В результате регулярного приема таблеток поведение сумасшедших переставало отличаться от поведения обычных людей. Это выглядело поразительно. Полные идиоты становились нормальными людьми. По мере накопления статистики список болезней, от которых излечивало новое средство, все расширялся и расширялся. Апофеоз наступил, когда выяснилось, что регулярный прием таблеток излечивает от рака. Не было такого недуга — генетического, вирусного, любой природы и происхождения, — против которого эти таблетки не служили бы стопроцентной защитой. И тогда стало ясно, что человечество обрело Панацею. Средство от всего.
Генерал бросил в рот еще пару таблеток и медленно разжевал их, не переставая любоваться цветущим городом.
9
«Они называют меня полковником, хотя я, прослужив всю жизнь в армии, так и вышел в отставку рядовым. По какой только причине в этой стране не начинают звать людей полковниками. Я знал человека, которого звали полковником лишь потому, что у него была отличная садовая тачка на надувных шинах. Полковник в Чили — все равно что шут гороховый. Меня в полковники произвела донна Молина. Никогда ей этого не прощу. В какое время дня или ночи ни выйдешь во двор — обязательно увидишь ее цветущее лицо в окне напротив. На днях она видела, что я поспешил отвернуться, заметив Марию, которая шла по улице совсем одна, и, конечно, донна сделала далеко идущие выводы. А я просто не могу Марию видеть! В армии я привык к тому, что на женщин смотрят, точно расстреливают. А Мария… Видя ее, я начинаю чувствовать что-то другое, совсем не то, что должен чувствовать отставной военный, глядя на женщину, которая идет одна по пустой улице. Я чувствую что-то совершенно противоестественное. Главное, что я понял за годы службы в армии: все женщины одинаковы, как таблетки. Но когда я вижу Марию, ее карие глаза, мне начинает казаться, что она одна такая на всем белом свете. Я ее боюсь. От нее надо держаться подальше. Я не желаю на старости лет оказаться в Антарктиде».
10
И здесь тоже жили люди. Ванглен не мог к ним приблизиться, поскольку из-за странного воздуха вблизи они исчезали из поля его зрения. Зато они прекрасно были видны ему издалека. Особенно сквозь взбитую подушку. Они были очень красивы, и жизнь их выглядела совершенно беззаботной. Им не надо было думать о пропитании. Они пили сладостный воздух. Целый день они лазали в кронах перевернутых деревьев в поисках мест, где воздух был слаще. Из-за ветров, вернее — течений, воздух постоянно менял свой вкус. А у самой земли он мог даже пьянить.
Одним из любимейших занятий людей было воздухоплавание. Воздух был столь плотен, что, несмотря на громадную силу легкости, отрывавшую тела от земли, в нем можно было плавать. Это было легче, чем ходить. Обычно аборигены спускались на вершины деревьев и прыгали прямо вверх. Сначала они возносились очень быстро, потом все медленнее и медленнее, пока воздух у самых облаков не становился плотен настолько, что держал человека на лету, не давая ему провалиться выше. Поплавав под облаками, можно было в несколько сильных гребков вернуться с небес на землю. А вот подняться еще ниже оказалось невозможно. Ванглен греб так, что начинал видеть собственные руки, преломляющие воздух, но чувствовал лишь иллюзорность своих усилий. Ванглен много раз пытался пронырнуть облака, хватаясь за камни потяжелее, но рано или поздно воздух начинал выталкивать его вниз даже вместе с камнями.
11
Генерал медленно шел вдоль сумрачных коридоров дворца, подолгу останавливаясь у запотевших, заляпанных лепестками окон, протирая очки и продолжая свой обход. Собственно, очки ему были не нужны, ведь он тоже принимал таблетки, но он продолжал носить их, как военную форму. Он продолжал их носить, как продолжали все чилийцы носить одежду, хотя они давно могли бы ходить голыми и ничего бы от этого в их жизни не изменилось.
Навстречу время от времени попадались люди. Генерал не обращал на них внимания. Только однажды его заинтересовала женщина, которую конвоировали двое солдат. У нее был непреклонный и яростный вид. Глаза горели бешенством. Дама была явно из разряда самых неукротимых противников режима дня. Впрочем, других во дворец и не брали. Генерал знаком остановил конвойных, подошел к женщине, снял очки, чтобы лучше видеть, долго смотрел ей в глаза и потом четко, плевком выговорил: «Шлюха!» Увы, реакция женщины была самой что ни на есть естественной. Она упала перед Генералом на колени и принялась истово целовать его сапоги, умоляя его растоптать ее ими. Генерал отстранился, со вздохом надел очки с захватанными стеклами и махнул солдатам, которые поволокли восторженно вопящую женщину дальше по коридору. Ее едва отлепили от его сапог. У нее на шее были бусы. Собственно, это и было все, что было на ней. Бусы порвались и рассыпались по ковру.
В здании шла обычная работа. Начинались ночные допросы. Из-за дверей раздавались крики, всхлипы и стоны. Сперва для пыток использовался только подвал. Но постепенно весь дворец превратился в один сплошной застенок. Допросами занимался весь штаб и даже личная канцелярия Генерала. Впрочем, Генерал мало обращал внимания на все это. Он давно привык к своему одиночеству среди людей. Одиночество — его судьба. Люди так любили его, что он нуждался в постоянной охране. Люди так любили его, что разорвали бы его на части, окажись он вдруг где-нибудь в толпе. Ведь он спас их всех.
У таблеток все-таки был один побочный эффект, который поначалу не вызывал ничего, кроме еще большего желания принимать их. Они крайне благотворно сказывались на потенции как мужчин, так и женщин. Иными словами, принимавшие таблетки люди постоянно пребывали в состоянии крайнего полового возбуждения, умерить которое хоть на какое-то время могло только немедленное соитие. Даже глубокие старики могли заниматься любовью. Они и умирали-то главным образом от перенапряжения. Люди умирали от любви. Люди сходили от любви с ума. Они влюблялись друг в друга с первого взгляда.
Влюблялись в первого встречного и немедленно отдавались взаимному чувству. В условиях отсутствия венерических болезней и при лошадином здоровьи всех и каждого это привело к самым катастрофическим последствиям. Структура свободного, демократического общества, воспитание людей, их взгляды никак не подходили для того нового состояния, в котором они оказались. И наступил хаос. Полный хаос. Повсюду — дома и на работе — люди постоянно думали об одном и том же. Повсюду воцарилась любовь. И люди стали пропадать. Муж мог вечером выйти за куревом — и никогда больше не вернуться в семью. Жена утром отправлялась на работу, и дети ее больше не видели. Женщины спали на улице, но не возвращались домой. Но не все оказались готовы отдаваться по первому зову, как того требовала любовь к людям, или терпеть свободу и равенство. Повсюду возникали конфликты. Ведь люди оставались людьми, особенно здесь, в Чили. Каждый шаг, слово, взгляд сопровождался таким накалом страстей, интриг, ревности, взаимных обид, что любой взгляд или слово могли закончиться взрывом, личной катастрофой. На каждом углу разыгрывались драмы, которые при страстности, свойственной нации, часто заканчивались поножовщиной и стрельбой. Кровопролитие происходило даже в церкви. Священник мог зарезать прихожанина, вставшего на его пути ко всеобщей любви. В обществе вспыхнула самая настоящая гражданская война. Северяне ополчились на южан, горцы — на жителей долин, горожане — на селян, бедные — на богатых, интеллигенция — на чиновников, простолюдины — на аристократов. У всех были свои представления о чести, и любовь, обрушившись на всех сразу и перемешав представителей самых разных слоев общества, так и не смогла устранить их неравенство. Любовь лишь обострила социальные различия, сделала их невыносимыми. Сама культура, тысячелетняя культура оказалась не только бессильной, но и вредной, убийственно вредной, ибо именно она обостряла конфликт человека и его истинной природы. Каждый воевал с каждым. Каждый воевал с самим собой. Общество распалось, производство встало, экономика рушилась. Терпеть все это дальше было нельзя.
И тогда армия взяла власть в свои руки. Ответственность за судьбу нации легла на плечи Генерала. Железной рукой он навел в стране порядок. Он никогда не был солдафоном, но в критический момент именно он, бывший преподаватель военной географии, сумел проявить необходимую жесткость. Именно ему судьба отвела роль спасителя нации. Он действовал решительно и жестоко. Его вела вперед любовь к людям.
Все демократические свободы были упразднены. Все женщины отданы солдатам и подвергнуты массовому изнасилованию. Это сразу сняло социальную напряженность в обществе. Одно дело, когда жена спит с соседом, с сослуживцем, со всеми соседями и сослуживцами, с прислугой, с первым встречным на улице, и муж при этом любит ее все больше и больше, страдая оттого, что его все больше и больше, таково уж действие таблеток на человека, тянет к жене, но не только к ней, но и ко всем женам сразу, заставляя его, честного семьянина, страдать и мучиться дикой ревностью, оттого что он не единственный мужчина на земле для всех своих женщин, и совсем другое дело — когда жену на глазах мужа насилует взвод солдат. После этого на все начинаешь смотреть проще. Женщины были удовлетворены. А чтобы набрать на них солдат, всех мужчин моложе семидесяти пяти Генерал призвал в армию, чтобы они выполняли свой мужской долг в рамках воинской дисциплины. Благо здоровье благодаря таблеткам всем это позволяло. Тех же, кто упорствовал в своем несогласии с новым порядком, отправляли на Стадион. Национальный Стадион был обнесен колючей проволокой и превращен в огромный концентрационный лагерь. Верных мужей и жен, злостных ревнивцев, возвышенных романтиков, жаждущих единственной и неповторимой любви, учили щедрости и заставляли в течение нескольких недель принимать участие в массовых оргиях на футбольном поле. После этого самый закоренелый романтик начинал смотреть на половой акт просто как на половой акт.
Генерал запретил художественную литературу и собрания, включая кино и театр, Генерал запретил Интернет, это гнездо разврата, сутенера современности, а заодно и телефонию (кроме номера скорой помощи), и даже общественный транспорт, в котором при демократии творилось немыслимое. Все перевозки и функции, необходимые для жизни города, осуществляла армия. Благо недостатка в продовольствии, после того как угодья стали обрабатывать удобрениями на основе таблеток, не было. А прочие потребности людей сошли на нет. Все, что людям нужно, это любовь. И они получили ее. Был введен круглосуточный комендантский час. Повсюду стояли патрули. Любую женщину, которая появлялась на перекрестке двух улиц, волокли в казармы. Любого мужчину — на Стадион. Впрочем, почти все мужчины были в армии и стояли в патрулях на перекрестках. А женщине вовсе не обязательно было выходить на улицу, если уж ей так не терпелось, а соседа-отставника не оказалось поблизости. Можно было вызвать на дом скорую помощь, и наряд ворвется в дом по первому зову. Если угодно — даже с собакой.
Генерал вновь остановился возле окна, привлеченный шумом. Внизу, на плацу, прямо перед его мавзолеем, суетились солдаты возле украшенных цветами и лентами бронетранспортеров. Из динамиков раздавался военный рэп-марш. Гвардейцы готовились к параду любви, главному празднику Чили. Никто из них, молодых и беззаботных, не помнит, как трудно и несчастливо люди жили раньше. Да и сам Генерал с трудом вспоминал об этом. Все это было в прошлой жизни.
Генерал еще раз окинул взором утопающий в цветах город, остановился взглядом на гигантской статуе Девы с раскинутыми в стороны руками на вершине холма Сан-Кристобаль. Дева, паря над городом, раскрывала свои объятия навстречу непорочному зачатию. Каждое зачатие — непорочно. Этот лозунг Генерал придумал сам.
Генерал смотрел на танцующих солдат своей армии любви. Он смотрел на них, как на своих детей. Многие из них и в самом деле были его детьми. Ведь он никогда не чурался грязной работы, лично участвовал в пытках, и военные школы пополнялись и в результате его личных усилий. Впрочем, он никогда не задумывался о том, сколько у него детей, внуков, правнуков. Все чилийцы — его дети!
Солдаты на плацу с увлечением разучивали куэку. Они очень старались. Каждый из них наверняка мечтает стать Генералом. О, если бы они только знали, о чем мечтает их Генерал! Вот уже много лет он мечтает о величайшем бесчестии! Он мечтает об оскорблении, которое могла нанести ему только женщина.
12
Миновав строй, Мария молча остановилась перед офицером. Постукивая стеком по сапогу, он еще раз внимательно оглядел ее с ног до головы, удивленно подняв бровь. Впрочем, поднятая бровь значила у чилийского офицера все, что угодно, не только удивление. Чилийский офицер поднимал бровь, даже сидя на унитазе. Но Мария посмотрела ему в лицо так обыденно, что офицер невольно поднял и вторую бровь и в его глазах промелькнуло даже что-то вроде испуга. Немного поколебавшись, он пожал плечами и, решив действовать по уставу, молча пригласил Марию в свой автомобиль. В казармы — так в казармы.
Это был видавший виды джип, с потертыми сидениями бордового бархата, отороченными желтой бахромой, и рулем в белом, пушистом чехле. В задней части джипа торчал громадный зенитный пулемет, больше похожий на небольшую пушку. Чтобы пулемет не срывался со стопоров и не бил солдат в поворотах по головам, его намертво приварили к станине, так что стрелять из него было невозможно. Но все это было не очень важно. Ведь оружие чилийской армии нужно лишь для того, чтобы производить впечатление на женщин.
Офицер любезно открыл перед Марией дверцу и, оставив расхристанного сержанта старшим, сел за руль. Некоторое время они ехали молча. Согласно тактике, офицер давно должен был ухватить Марию за коленку. Но он лишь покосился на девушку и почему-то не сделал этого. Наконец он произнес, не отрывая глаз от дороги.
— Вы что, с ума сошли, так глядеть на офицера? В Антарктиду захотели?
Он по-прежнему не пытался задрать Марии платье и даже не смотрел на нее, хотя видно было, что неуставные отношения с женщиной даются ему нелегко. Какая-то монашка голосовала на углу, и офицер притормозил рядом.
— Подкинете до казарм? — спросила она, улыбаясь офицеру обильно накрашенными губами. Но едва тот сошел на тротуар, чтобы помочь монахине забраться в кузов, та вдруг ловко прыгнула на водительское место и выдернула ключ зажигания из замка. Мотор фыркнул и стих, и, пока офицер удивленно поднимал свою бровь и таращился на монахиню, из ближайшей подворотни вышли люди, встречаться с которыми любому военному хотелось бы меньше всего.
Люди молча окружили офицера. Здесь были несколько дезертиров, все еще ходивших в обтрепанной, вылинявшей форме, и какие-то непонятные личности — женоподобные парикмахеры, бесполые диск-жокеи, пара танцоров в трико и обтягивающих майках, но большинство выглядели вполне солидными, хорошо одетыми, убеленными сединами мужами из самых приличных слоев общества, встретив которых в борделе, никогда и не подумаешь, что перед тобой повстанцы. У некоторых, правда, были накрашены губы и подведены тушью глаза. Размалеванная монашка скинула свой капюшон и также оказалась молодым, румяным парнем. Никакого оружия у повстанцев, разумеется, не было. Оно было им совершенно без надобности. Было видно, что они готовы разорвать офицера голыми руками.
— Девушка! — развязно обратился к Марии один из повстанцев. — Вы не одолжите нам вашего кавалера?
Мария сразу узнала Санчеса, опасного государственного преступника, фотографии которого были развешаны по всему городу. Даже на лобовом стекле джипа красовался его портрет. Он носил точно такие же очки с толстыми стеклами, как у Генерала, и на своих фотографиях ужасно на него походил. Только вместо фуражки на его голове красовался черный берет с маленьким распятием вместо кокарды.
— Краснозадые мерзавцы! — взорвался вдруг офицер. — Вы идете не просто против общества. Вы идете против человеческой природы! Вы позорите своих отцов и матерей!
— Мои отец с матерью умерли молодыми, — мягко оборвал офицера Санчес.
Офицер стоял весь красный, усики вытянуты в струну, губы сжаты в презрительной ухмылке, глаза пылают гневом, на скулах играют желваки, тщательно выбритый подбородок гордо вздернут, бровь — посреди лба. Повстанцы смотрели на него с плохо скрываемым восхищением.
На Марию никто из них не обратил никакого внимания. Лишь один попытался было заговорить с ней и затянул свою обычную песню о равенстве, о том, что надо бежать отсюда, что якобы в Антарктиде где-то в горах есть база их единомышленников, настоящий монастырь духа, где нет различий между мужчиной и женщиной. Однако Мария хорошо знала истинную природу его чувств по отношению к ней. Она взглянула повстанцу в глаза, и тот потупился.
Мария пошла прочь и через минуту оказалась на центральной пласа де Армас. Громада Ла Монеды высилась прямо перед ней. Проход к дворцу был загорожен колючей проволокой. Прямо перед входом громоздился розовый танк. Его крашеные гусеницы вросли в асфальт. Вся площадь насквозь простреливалась взглядами солдат, и, пока Мария пересекала ее, на ступенях дворца возникла настоящая паника. Офицеры разглядывали ее в полевые бинокли. Некоторые солдаты, не выдержав напряжения, бросали оружие и с воплями кидались прямо на колючую проволоку. Один из офицеров бросился распахивать перед Марией ворота, и его руки так тряслись от волнения, что он не сразу сумел защелкнуть бархатные наручники на ее запястьях.
13
«О, эти чилийские носы! Это феномен природы, одно из самых величественных ее проявлений! Тут гордость испанца слилась с несгибаемой волей индейца. Вся история Чили в этих носах! Своей топографией — размерами, разнообразием форм, количеством горбинок, перевалов, выпуклостей и впадин — иные из них посрамят Кордильеры! Что бы я делал без этих носов! Кому нужен врач в мире, где никто не болеет? Таблетки дешевы, доступны и лечат от всего. Никаких рецептов и предписаний для их приема не нужно. Чем больше употребляешь, тем лучше. Если угодно, ими можно завтракать, обедать и ужинать. Их состав не является тайной. Их производство может наладить любая аптека. Ведь, по сути, это обычный комплекс витаминов, минеральных веществ, жиров, белков, аминокислот и активных биодобавок самого разного рода и в совершенно произвольных пропорциях. В таблетках нет ничего такого, что нельзя найти в любом человеческом организме.
Секрет эффективности лекарства состоит в направленности его действия. Необходимые вещества доставляются именно туда, куда требуется, и ровно в том количестве, которое нужно. Это делают специальные молекулярные комплексы, состоящие из очень сложных цепочек аминокислот, каждая из которых является, по сути, программой действия, которая активируется при обнаружении признаков недуга того или иного рода. По сути, эти молекулярные цепочки являются крошечными биологическими компьютерами. Миллиарды и миллиарды компьютеров в каждой таблетке. Действие этого лекарства в человеческом организме выглядит почти разумным. Они сами ставят диагноз, находят очаг заболевания, ликвидируют его и устраняют последствия недуга. Более того, таблетки постоянно „учатся“ по мере расширения практики их применения, их молекулярные цепочки „записывают“ все новые и новые алгоритмы поведения, все новые и новые „рецепты“. Именно поэтому количество болезней, против которых таблетки эффективны, постоянно росло. И в конце концов болезней не стало вовсе. Самое поразительное состоит в том, что для производства этого абсолютного лекарства не требуется каких-то сверхтехнологий и дорогостоящего оборудования. Оно является продуктом жизнедеятельности особых, случайно обнаруженных где-то в тропических лесах, бактерий, которые затем подвергли облучению космическими лучами на орбитальной станции в одном из экспериментов, и, если отбросить ненужные подробности, лекарство просто варят в огромных котлах — биореакторах. „Самообучение“ таблеток происходило в виде очень сложных биохимических реакций, начинавшихся в бактериальной массе котла в ответ на введение образцов тканей и биоматериалов, взятых в организмах больных людей. Достаточно забросить в реактор анализ мочи или кала, чтобы придать процессу новый импульс. Цепочки аминокислот — это как бы „мысли“ этой биомассы, которые с каждым годом становятся все сложнее и сложнее. Человек, собственно, и не принимает участия в этом процессе. Однажды и почти случайно вырастив эту волшебную бактерию, ученые просто запустили некий процесс, за развитием которого им остается лишь наблюдать и пользоваться его плодами. Разумеется, строго соблюдаются требования безопасности. Живые бактерии никогда не покидают котлов. В таблетки попадают лишь высушенные, переработанные и стерилизованные продукты их жизнедеятельности в виде цепочек аминокислот. Биокотлы охраняются лучше, чем атомные реакторы. Но это единственная сложность. В остальном производство почти ничего не стоит. Самое эффективное лекарство оказалось одним из самых дешевых и доступных. Таблетки лечат от всего. От поноса. От близорукости и дальнозоркости. От алкоголизма и наркотической зависимости. Водка больше не берет людей. От человека может за версту нести чичей, а глаза — трезвые. Таблетки изменяют настроение людей, на самом деле люди теперь всему радуются, даже неприятностям и проблемам. Но в отличие от наркотиков таблетки не замутняют, а проясняют сознание. Когда я гляжу в глаза людей, даже в глаза донны Молины, то и сквозь самые мутные страсти вижу отчетливый, сознательный взгляд наблюдателя. Иногда мне даже становится не по себе, когда я в разгаре альковной сцены или посреди дружеской пирушки вдруг замечаю в человеке этот абсолютно трезвый взгляд.
Будто на меня с брезгливым вниманием смотрит кто-то еще. Будто кто-то наблюдает за нами через нас самих.
Да что говорить! Таблетки лечат даже от переломов! С нашей жизнью теперь совместимы любые травмы. Полежал пару часиков — и все срослось. Пострадавших несут не к врачу, а к массажисту или просто к ближайшему парикмахеру. Люди больше беспокоятся об испорченной прическе, чем о целости головы. И никаких инфекций! Впрочем, мне ли жаловаться. Ведь теперь мне не нужно даже оперировать. Теперь все женщины — одинаково прекрасны. Ни на одну не взглянешь без того, чтобы не влюбиться. Дамы приходят ко мне со своими сомнениями и носами, и я на первой же консультации убеждаю их в том, что их носы великолепны. И они верят мне! Потому что убеждаю я их самым действенным образом!
Но Мария… Такого носа, как нос Марии, мне видеть еще не доводилось. Ее носик — подлинное чудо природы. Идеал, которому место в музее, а не на человеческом лице. Пусть даже на таком, как ее лицо. О, эта Мария! Иногда мне кажется, что она явилась к нам с другой планеты. Я всегда усыпляю женщин перед тем, как заняться ими. Мои пациентки обычно бывают так возбуждены, особенно на первой консультации, что это мешает мне сосредоточиться. Женщины впадают прямо-таки в неистовство при виде белого халата и стетоскопа. Поэтому все свои операции я провожу под наркозом. А потом объясняю, что то, что я сделал, когда пациентка была в беспомощном состоянии, я сделал потому, что она с ее чудным носом была так прекрасна, что ни один мужчина на моем месте не выдержал бы. И они мне верят. Ведь это правда! В последнее время я даже не использую хлороформ. Женщины и без него впадают от перевозбуждения в глубокий обморок, едва я извлекаю, словно провинциальный фокусник, надушенный платочек из кармана. А мне только того и нужно. Я очень спокойный человек. Люблю хорошую еду, особенно стряпню донны Молины. Люблю посидеть вечером с газетой в удобном кресле. Люблю даже цветы. Довольно я насмотрелся сцен, страстей и истерик за время службы в гарнизонном госпитале. Теперь мне хочется просто спокойно делать свое дело, неукоснительно следуя долгу врача и честного человека. Но когда я консультировал Марию, то позабыл о долге! Она явно сделана из какого-то другого теста. Начать с того, что я пришел к ней на дом, поскольку она и не думала записываться на консультацию, хотя живет в двух шагах от моей клиники. Это невероятно, но надушенный платок на нее вообще не подействовал! Она просто смотрела на меня и мои пассы своими удивительными зелеными глазами. Пришлось идти за хлороформом.
Когда она уснула, я положил ее на кушетку. Платье задралось на ее бедрах, и я поправил его, чтобы ноги не отвлекали меня от созерцания ее прелести. Я сидел и любовался ее милым носиком. Я наслаждался им, а потом просто ушел. Я не прикоснулся к ней даже пальцем. В этом просто не было нужды. Дело не в ее красоте. Я насмотрелся красоток в своей жизни. Но это был единственный случай в моей практике, когда никого ни в чем не надо было убеждать».
14
Сперва этот зыбучий мир показался Ванглену довольно странным, но, поразмыслив и подправив несколько констант в уравнениях бытия, он пришел к выводу, что все это вполне реально. Более того, этот жидкопластический воздух стал казаться Ванглену куда более естественной средой, чем обычное вещество с его надуманными фазовыми переходами между тремя странными агрегатными состояниями — твердым, жидким и газообразным. В этом мире воздух мог быть сколь угодно плотен, оставаясь текучим. Состояние вещества вообще нельзя было назвать газообразным, жидким или твердым. Здесь все вещество было аморфным, представляя собой молекулярно-коллоидную взвесь той или иной степени плотности и вязкости. Не только воздух плыл и лепился, но и все остальное, даже камень. Просто у камня вязкость была гораздо большей, и все же Ванглен мог мять его пальцами, поскольку он также представлял собой коллоидную взвесь. Единственное, чего Ванглен не мог постичь, так это почему камень затем вновь принимал первоначальную форму. Это явно выходило за пределы известной ему физики. А поскольку о физике он знал все, то это явно выходило за пределы физики вообще.
Исследуя феномен формы, Ванглен обнаружил, что предметы и тела в этом молекулярно-коллоидном мире могут взаимопроникать, диффузировать друг сквозь друга. Однажды, наглотавшись разреженного воздуха у земли, Ванглен так разоспался, что не заметил, как воздушная подушка расползлась под ним и он оказался на голых ветвях. Проснувшись, Ванглен обнаружил, что превратился в сплошной пролежень, а подложенную под голову руку он так отлежал, что ухо оказалось внутри ладони. Ветви глубоко врезались в тело. Ванглен чувствовал сучок в почках. Он весь опух и растекся, и ему пришлось довольно долго и интенсивно плавать в воздухе, прежде чем он обрел прежнюю физическую форму. С тех пор Ванглен стал спать на лету, плавая в небе.
15
Генерал шел по бесконечному коридору дворца. У некоторых дверей, за которыми стонали особенно громко и сладострастно, он останавливался, слушал, и на его непроницаемом лице возникало что-то вроде горькой улыбки, будто он вспоминал о чем-то далеком и почти забытом. Постояв некоторое время, он шел дальше, задумчиво потирая то одну, то другую щеку. Вот странно! За дверями майора Санчеса, начальника особого отдела, было тихо — ни криков, ни стонов, лишь какое-то бубнение.
Там… разговаривали! Генерал послушал минуту, а затем взялся маленькой, сухой ладошкой за массивную бронзу рукояти…
16
«Цветы. Одни цветы вокруг! Одежду после прогулки приходится вытряхивать от пыльцы, как от пыли, а утром она толстым слоем лежит на подоконнике и всех предметах в доме. В ветреный день на улицах — метель из лепестков. Птицы падают на лету, задыхаясь от ароматов. Неделю не поработаешь садовыми ножницами, и окна зарастают так, что света белого не видно. Говорят, цветы разрослись так после того, как их стали удобрять пеплом из сожженных отходов работы биореакторов. Сегодня утром увидел цветок, который пророс у кровати прямо сквозь пол, как раз между тапочками. Чуть пальцы не сломал, пока выдирал его. А зачем? Все равно вновь продерется, раз уж однажды пробил себе дорогу. Да и не цветы это вовсе. Доктор говорил, что это что-то вроде грибов. Словом — плесень. Эти цветы не вырывать, а соскребать приходится. У меня по всем углам — мох и цветы. Траву лишь в центре комнаты удается вытоптать. А на кухне выросла целая роща. Я горжусь своим домом, но особенно — кухней. Заглянул как-то в раковину — а там грязной посуды не видно из-за плесени. В ванной — грибы. Муравьиные дорожки по всем стенам. Ландшафтный дизайн. Все-таки дом архитектора! Но это так — безделица. На самом деле я думаю совсем о другом. Как же это трудно — все время думать об одном и том же. Днем и ночью. Я все время думал об этом в армии. Все время думаю об этом теперь. Читать не могу. Любая книга кажется мне порнографией. Даже Устав! Фу, какие мысли лезут в голову! Какие сумасшедшие идеи! У меня весь дом завален набросками проектов, хотя я прекрасно знаю, что все они неосуществимы. Сейсмическая обстановка в последние годы все ухудшается. Трясет так, что и на земле не устоишь. Не говоря о моих небоскребах. Похоже, скоро весь этот город провалится в тартарары. Если раньше его не смоет море. Донна Молина очень любит разглядывать мои рисунки. Говорит, что при виде моих башен у нее сразу твердеют соски. У донны Молины соски твердеют даже при виде огрызка карандаша. Впрочем, я ни на что и не претендую. Всю жизнь проектировал казармы. Единственное, о чем стоит вспоминать, — проект антарктической военной базы, этот колоссальный подземный небоскреб. Нам так и не сказали, для чего это нужно. Задача была сформулирована весьма просто: спроектируйте бункер так, чтобы даже вы сами не смогли найти из него выход, если, не дай бог, конечно, окажетесь там. Кажется, они готовят убежище для человечества. Военные есть военные, и все это больше походило на колоссальную тюрьму — сплошные коридоры, лестницы, камеры. Я выполнял лишь часть проекта и, хотя эта работа отняла половину моей жизни, мне трудно даже представить весь проект целиком. Ведь были еще тысячи архитекторов, и работа одного была лишь частью работы другого, и наоборот. Я выходил в отставку, а проектирование все продолжалось, несмотря на то что строительство уже шло полным ходом. Мне до сих пор иногда снится, что я блуждаю в этих подземных лабиринтах в поисках выхода, которого нет. Я оттого, быть может, и взялся за свои небоскребы, чтобы избавиться от этих темно-сладких кошмаров, вывернуть их наизнанку. И хотя вряд ли кто-то это замечает, но возле каждой из своих башен я рисую маленькую фигуру. Это не для масштаба. С человеком мои проекты несоизмеримы. Именно поэтому я и рисую ее. Никто этого не знает, но эта маленькая фигурка — Мария. Удивительная Мария! С тех пор как появились таблетки, не стало некрасивых женщин. Но когда я смотрю на Марию, то мне начинает казаться, что дело не в таблетках. Ее красота — не от мира сего. Когда я смотрю в глаза донны Молины, то вижу лишь две таблетки.
Когда я гляжу в голубые глаза Марии, то вижу небо без небоскребов».
17
Люди в этом вязко-текучем мире делали, что хотели. Ванглен не раз видел, как женщина под взглядом мужчины меняла цвет глаз, черты лица и даже телосложение. Если встречались двое мужчин, то один из них, если они общались достаточно долго, через некоторое время начинал превращаться в женщину. Однажды Ванглен наблюдал за мужчиной и женщиной. Из какого-то чудачества мужчина вдруг начал превращаться в женщину, а женщина на его глазах становилась мужчиной. В процессе превращения они выглядели довольно забавно и от души смеялись друг над другом, но чем дальше заходила шутка, тем серьезнее и длиннее становились взгляды, которыми эти двое обменивались. Наконец им стало мало взглядов, и они принялись лепить друг друга ласками. А потом они слились в долгом поцелуе. Буквально. Их губы срослись. Их животы слиплись. Их объятия становились все теснее. Поцелуй все длился и длился, пока оба не стали одним целым. В момент полного слияния их общая плоть содрогнулась в сладострастных конвульсиях. Наконец блаженные лица обоих стали проступать сквозь затылки. Так, с выражением сладкой муки, они проходили друг сквозь друга, пока вновь не стали собой. Правда, было видно, что они настолько обалдели от произошедшего, что не сразу могли понять, кто из них кто. Они с удивлением разглядывали собственные руки и ноги, ощупывали друг у друга лица, находили различия и знакомые черты. Судя по всему, они стали друг другом.
Люди могли сливаться в самых разных позах. Ванглен видел мужчину, по пояс вросшего в спину женщины. Он видел женщину, с головой ушедшую в живот мужчины. Слияние могло происходить быстро, а могло длиться днями. Люди могли сочетаться самым странным образом. Лицо одного могло появиться на причинном месте другого. Однажды Ванглен видел, как у мужчины вдруг стала проступать женская грудь и он начал ласкать ее своими четырьмя руками. Он видел женщину, которая сделалась со спины точно такой же, как с лица, чтобы быть сразу с двумя любящими. Он видел двух женщин, которые в порыве страсти разорвали своего мужчину надвое. Часто слияние больше напоминало борьбу, чем любовь. Люди сливались по трое, в каком угодно количестве и сочетании партнеров. Иногда после этого их становилось больше. Иногда — меньше. Откуда брались лишние и куда исчезали недостающие, было непонятно.
Ванглена местные жители не замечали. Они были явлениями разного масштаба и видели друг друга лишь благодаря атмосферным линзам. Ванглен просто исчезал из поля их зрения при попытке сблизиться. Он для них все равно что не существовал. Но однажды он все-таки удостоился долгого и пристального внимания со стороны местной женщины. Она решила побороться с ним взглядами, но, конечно, проиграла и прямо на его глазах превратилась в Киллену. Ванглен даже отлетел подальше, чтобы лучше разглядеть ее. Его сердце колотилось в груди, хотя Ванглен прекрасно сознавал, что это не Киллена, а лишь видимость ее, и стоит ему отвернуться, как она вновь превратится в женщину, которая ловит взгляды. Он даже не был уверен, что это женщина, а не животное или, скорее, атмосферное явление. Что это не был просто воздух, которым дышал Ванглен.
18
«Я честный священник и поэтому никогда не говорю людям, что Бог есть. Я лишь верю в то, что Он есть и что все, что происходит вокруг нас, происходит в согласии с Его волей и преисполнено высокого смысла. Именно вера помогла мне выстоять во времена растерянности и хаоса, когда никто вокруг не понимал, что происходит со всеми нами. Именно вера помогла мне со смирением принять крах всего, что люди веками считали смыслом существования. Вера помогала мне сохранить твердость и поддерживать слабых в самых трудных ситуациях, с которыми мне приходилось сталкиваться за годы службы полковым капелланом. Но верить в то, что Бог есть, — это лишь половина веры. Я не только верю, что Бог есть. Я верю в Него, верю в то, что Он прав, делая то, что Он делает с нами. Мы — лишь форма жизни. Форма, а не ее содержание. Кто нам дал право судить о том, что это значит — жить по-божески. С чего мы взяли, что можем быть правы в том, что считаем правотой? Как мы смеем думать, что можем ошибаться и что хоть какие-то из наших действий способны оскорбить Бога? И если наша праведность испокон веков вступала в неразрешимое противоречие со всем тем, что мы чувствуем на самом деле, то не справедливо ли то, что с нами произошло? Слава Богу, наконец мы перестаем быть людьми! Но это нелегко. Жить — и не стыдиться этого! Я всю жизнь смирял плоть. Я всю жизнь изнурял ее. Я честный священник и не делаю вид, что не чувствую ничего такого, что чувствую на самом деле. Каждый день, каждую минуту я веду напряженный внутренний поиск, обследуя самые темные закоулки своей души, а не завелось ли в них что-то за те недолгие минуты, что я ослаблял свой духовный взор. Я не даю ни единому греховному желанию шанса ускользнуть от моего внимания.
Еще до того, как порочная мысль шевельнется в моей душе, я уже готов к встрече с ней. Я во всеоружии. Я продумываю в мельчайших деталях и самым тщательным образом анализирую самые темные побуждения еще до того, как они во мне на самом деле возникнут. Поэтому ни одно из них, каким бы диким и безумным оно ни показалось, ни разу не захватило меня врасплох. Используя личный опыт, я научился помогать другим людям, изобличая в них все самое темное, открывая им глаза на мрак собственных душ. Ни одна святоша еще не уходила от меня без чувства глубочайшего потрясения тем, что я открыл ей. Каждый день я читаю своей страждущей пастве главы из армейского Устава. Но я чувствую, что могу прибавить что-то и от себя. Литература под запретом, и то, что я делаю по ночам, это преступление, но для меня уже давно не существует ничего преступного, и я пишу по ночам книгу, по сравнению с которой Устав — святое писание. Но я предан своему делу не только словом, но и делом. Священник обязан служить образцом для паствы. Само удовольствие я превратил в долг, в ежечасный подвиг. Так много блаженных женщин нуждаются в моей помощи. Все мужчины — в армии, нас здесь всего дюжина потрепанных ветеранов на весь квартал, и на паперти приходской церкви всегда толпятся несколько одержимых страдалиц, которые, целуя следы моих ног на ступенях, ползут за мной, на коленях моля меня о милости. И я никому не отказываю в утешении. Наш мир — тварный. Он не возник сам по себе. Святая вера во всесилии Божьем и в первородной правоте всего сущего всегда поддерживала меня! Но ныне… Ныне моя вера поколеблена. И виной тому — Мария! Она не ходит в церковь. Я ни разу не благословлял ее грехов. Но когда я вижу ее строгие серые глаза, то ко мне невольно закрадывается крамольная, дикая мысль: а вдруг и на Земле есть место для неземного? Вдруг истинное блаженство — это что-то совсем другое?»
19
— Мария! Мария Тремендос! Можно, я буду звать тебя так? Потрясающая Мария! — майор Санчес сидел за бесконечным дубовым столом, края которого скрывались где-то в полумраке. За его спиной косо нависал огромный портрет Генерала в белом кителе и, несмотря на свой властнопростецкий тон, майор казался совсем ребенком рядом с этим столом и портретом. Если бы не форма, над ним можно было даже посмеяться, настолько потешным был его вид: маленький, лысый, толстый человечек с красным носом-пуговкой. В кабинете царили сумерки, и, чтобы Мария лучше видела его, майор зажег и направил на себя настольную лампу, еще разительнее высветившую резкими, как надрезы, тенями сморщенное личико усохшего эмбриона с усиками.
Кондиционеры, как всегда, не работали из-за пыльцы и лепестков, и, несмотря на распахнутые настежь окна, в кабинете было темно и душно. Весь фасад дворца закрывал огромный портрет Генерала, и в распахнутом окне виднелся лишь маленький фрагмент какой-то его гигантской черты: не то бровь, не то ноздря, не то глаз. Мария едва различала многочисленные орудия пыток на стенах: плетки, ремни, цепи, удавки, кожаные маски, мотки веревки, ошейники, намордники, кляпы. Вдоль стен стояли жутковатого вида верстаки и станины. Майор весь взмок. Его лицо выпукло блестело в свете лампы. Руки на столе напоминали два куска распаренного мяса. Мария сидела в наручниках на табурете посреди кабинета. Майор надел на нее солнечные очки, чтобы не видеть ее глаз.
— Так и будешь молчать? — продолжал майор, отирая испарину со своего младенческого личика. — Значит, ты из тех, кто любит молчать. Кто не говорит ни «да», ни «нет». Но тогда тебе нужно хорошенько уяснить: сейчас, Мария, ты находишься в Особом отделе, а это такое место, где тебе придется сказать «да». Или «нет». Мне все равно, что ты скажешь. Главное, чтобы ты ответила. Ты знаешь, что не отвечать на любовь в нашей стране — это преступление, а не наказание, и если ты из тех, кто любит мучить, то ты попала по адресу. Но любовь Особого отдела — это особая любовь, и она не может остаться безответной. Я могу заставить тебя кричать мне «Да, да, да!» или «Нет, нет, нет!». Но мне нужно от тебя чистосердечное признание. Чистосердечное признание в любви. Не превращай любовь в пытку. Любовь может быть зла, поверь мне. Но я сделаю так, что все муки любви покажутся тебе раем. Я перевидал здесь много таких, как ты. И не надо считать меня зверем. Думаешь, я делаю все это лишь для собственного удовольствия? Я уже давно получаю удовольствие чисто механически. Это не очень сложные механизмы, поверь мне. Вон они, стоят в углу. Я могу пустить их в ход, а могу обойтись без их помощи, стоит тебе лишь попросить меня не делать этого. Скажи же что-нибудь! Ответь мне! Не бойся, я все равно призову тебя к ответу! Наручники — это лишь для того, чтобы ты чувствовала себя свободнее.
Майор достал из ящика стола стеклянную банку, высыпал из нее на ладонь пригоршню таблеток и разом кинул их в рот, преувеличенно смакуя несуществующий вкус. Он нарочно не спрятал банку обратно в ящик, а оставил ее на пустом столе, прямо под лампой, чтобы содержимое хорошо было видно в свете лампы.
— Я ведь добрый, Мария! Но я могу быть злым, если ты этого захочешь.
Но сейчас я добрый. Если хочешь, я дам тебе таблетку, — майор подождал немного, но, видя, что Мария молчит, продолжил с неподдельным сочувствием: — У меня сердце разрывается, на тебя глядючи. Я знаю, что ты уже сутки обходишься без любви. Я специально распорядился, чтобы тебя никто пальцем не тронул, даже если ты начнешь биться головой о двери своей одиночной камеры. Вижу, что ты держишься молодцом. Но надолго ли тебя хватит? Тебе известно, что происходит с людьми без любви? Без любви люди сходят с ума. А еще я знаю, что тебе уже сутки, как не давали таблеток. Тебе известно, что происходит с людьми без таблеток? Это будет почище сумасшествия. Это похоже на аллергию. Аллергию на воздух, на солнечный свет, на цветы, на мужчин и на женщин, на собственные мысли, на собственное существование. Человек теряет способность трезво смотреть на вещи. Он перестает видеть то, что есть. Вместо мужчин и женщин ему начинают мерещиться какие-то фантастические чудовища. Обычные люди кажутся монстрами. Разве я похож на монстра, Мария? А ведь я стану им, если ты и дальше будешь упорствовать.
Майор вышел из-за стола, и стало видно, что на поясе у него повязан кожаный фартук. Он обошел вокруг Марии, внимательно ее разглядывая, затем остановился у нее за спиной и горячо зашептал в самое ухо, будто это не он, майор Санчес, а кто-то другой, какой-то неизвестный друг, подсказывает Марии, что ей надо делать.
— Сейчас тебе предстоит сделать выбор, Мария. Так сделай же его! Если не хочешь мучиться, то мучай. «Да» — это ад наоборот. Если не хочешь говорить «да», скажи «нет». Но ты должна сделать выбор. И не надо казнить себя, Мария! Это сделаю я.
Мария молчала, и Санчес вновь распрямился, стал собой, властным и смешным человечком. Он принялся ходить вокруг Марии кругами, и стало видно, что под фартуком на нем надеты кожаные штаны с огромными прорезями на насиженных ягодицах. Фартук и штаны отвратительно скрипели. На ягодицах явственно виднелись следы недавней порки.
— Я мог бы просто отправить тебя на Стадион. Но я вижу, что для такой, как ты, этого мало. Стадион — это для тех, кого еще можно спасти. А я смотрю на тебя, и мне все больше кажется, что ты не нуждаешься в спасении. Таким, как ты, — прямая дорога в Антарктиду. Ты понимаешь, что такое Антарктида? — майор громко щелкнул суставами пальцев. — Я расскажу тебе. Тебе, разумеется, известно, что наши замечательные таблетки являются продуктом процессов, происходящих в особых биореакторах. Успехи фантастические! Проблема лишь в том, что эти процессы совершенно неуправляемы. Цепочки аминокислот, которые мы выпариваем из биомассы, стали столь сложны, что даже просто расшифровать их структуру нашим ученым уже не удается, не говоря о том, чтобы как-то интерпретировать ее. Бактериальная масса в биореакторах становится все «умнее». Она научилась бороться со всеми мыслимыми болезнями, но, похоже, на этом не остановилась. Она начала сама изобретать невиданные, никогда не бывавшие в природе болезни, чтобы бороться с ними. Наши ученные до поры до времени могли судить об этих болезнях лишь по косвенным признакам, по все новым и новым изменениям в структуре аминокислот, которая продолжает усложняться, несмотря на то что никаких болезней на земле больше нет, ни новых, ни старых. И тогда ученые поняли, что новые болезни появляются в самой массе, в самом реакторе. И это страшные болезни. Они способны сожрать человека за считанные минуты, а то, что остается от него после «лечения», уже не назовешь человеком. С точки зрения таблеток, сам человек — это болезнь. Так вот, Мария, Антарктида — это вовсе не место ссылки для неисправимых романтиков, как ты, наверное, думаешь. Там, глубоко подо льдом, мы организовали лабораторию, в которой проводятся опыты. Нашим умникам мало косвенных свидетельств. Они хотят все видеть воочию. И для этих опытов им нужен человеческий материал. Ни к чему больше не пригодный человеческий материал. Теперь ты понимаешь, что тебе грозит, Мария, если я вдруг решу, что ты ни на что не годишься? Стадион покажется тебе раем по сравнению с Антарктидой.
Майор Санчес остановился и еще раз обозрел Марию с ног до головы.
Пот заливал ему глаза. Мария молчала, и майор снова заскрипел кожей.
— Ты, наверное, думаешь, что Бог позаботится о тебе. Ведь ты такая хорошая! Так думали многие на твоем месте. И, в общем, так оно и будет. Но в каком смысле? Тебе известна теория о множественности миров? — майор сделал паузу, давая Марии время для ответа, но она снова не сказала ему ни «да», ни «нет», и майор со вздохом продолжил:
— Наша Вселенная — лишь пузырь вакуума, который расширяется в Пустоте со скоростью света. Но вакуум — это не Пустота. Пустота — это то, что окружает вакуумный пузырь Вселенной. И эта Пустота в свою очередь расширяется в Ничто со скоростью бесконечно большей, чем любая скорость, — со скоростью Пустоты, расширяющейся в Ничто. Эта скорость настолько больше скорости света, что даже если две вселенные, такие как наша, возникают одновременно в двух бесконечно близких точках Пустоты и начинают со скоростью света расширяться навстречу друг другу, то они все равно никогда не столкнутся. Более того, расстояние между точками Пустоты, в которых две эти вселенные возникли, будет увеличиваться настолько бесконечно быстро, что это расстояние мгновенно станет бесконечно большим, и между любыми двумя соседними вселенными образуется непреодолимая Пустота, в которой из-за ее бесконечно быстрого расширения вновь и вновь вспыхивают пузыри все новых и новых вселенных. Пустота словно бы рвется, вскипает во всех своих точках, заполняясь вакуумом, как шампанское пузырями. Вселенные беспрерывно возникают в каждой точке расширяющейся Пустоты, но каждая из этих вселенных уже через мельчайший промежуток времени, и даже еще быстрее — в самый момент своего возникновения, становится бесконечно далекой от всех других рядом возникших вселенных, и во всех точках бесконечной Пустоты между ними вновь возникают вселенные и сразу становятся бесконечно далекими, а ненасытная Пустота, расширяясь в Ничто, все порождает и порождает миры и никак не может ими насытиться. Более того, Пустота не одна. Поскольку Ничто не имеет ни расстояний, ни времени, то пустот в ней одновременно существует бесконечное множество. И как бы быстро пустоты ни расширялись, они никогда не сталкиваются друг с другом. Как может с чем-то столкнуться Пустота, расширяющаяся в Ничто? И в каждой пустоте кипит миротворчество. Количество вселенных не просто бесконечно. Оно бесконечно в бесконечной степени. И в них реализованы все мыслимые и даже все немыслимые законы физики. О чем бы ты ни подумала — это уже существует. Существует даже то, о чем ты и подумать не можешь, Мария, поверь мне. И как бы ни мала была вероятность возникновения жизни, а затем — разума, эти условия непременно возникнут среди бесчисленных вариантов бытия, и эти условия будут выглядеть, словно подобранные Творцом умышленно. В этом и состоит Его замысел. Но этим он не исчерпывается. Сами вселенные, как бы ни были они велики, — конечны, а число их — бесконечно. А это с математической точностью значит, что среди бесконечного количества вселенных есть бесконечное количество совершенно одинаковых миров, которые не отличаются друг от друга ни единым атомом. И сейчас, в эту самую минуту бесконечное количество таких же упрямых Марий сидят перед бесконечным числом добрых майоров Особого отдела и думают, чем им ответить на доброту. И всегда сидели, и будут сидеть всегда в будущем. Бог не оставил тебя, Мария!
Он все учел, и среди его бесконечных миров есть такие, где все происходило точно так же до той самой минуты, когда одна Мария отказала мне, а другая — согласилась. А Бог посмотрит, как лучше. Так помоги же ему, Мария. Скажи что-нибудь! Все будет так, как ты хочешь. Тебе надо лишь захотеть. Бесконечное количество Марий на этом табурете храбро сказали мне «нет», а не менее бесконечное их количество — разумно со мной согласились. Ты можешь обречь себя молчанием на гибель, но знай, что где-то есть и другая Мария. Почему спастись должен кто-то другой, хотя это можешь быть ты? Хотя это ты и есть. Я просто хочу помочь тебе стать собой, Мария! Ты должна решить, в каком мире ты живешь! Господь всесилен, а потому способен на все, и я докажу тебе это. Есть миры, в которых ты сказала «да». Есть миры, в которых прозвучало «нет». Есть даже такие миры, где добрые майоры Санчесы сидят сейчас в наручниках на табурете перед злыми Мариями, решая, что ответить на любовь, которая зла. И если ты захочешь, то, как ни невероятно это выглядит, так будет и у нас с тобой. Такова теория невероятности. Только скажи слово, Мария! Создатель дает тебе возможность выбора. Но на самом деле от тебя уже ничего не зависит.
Что бы ты ни выбрала, на самом деле уже много раз выбрано тобой. Ты же не думаешь, что ты одна такая на свете? Зачем упорствовать, если это уже ничего не изменит, потому что бесконечное количество Марий уже так и сделало.
Санчес подошел к Марии вплотную, глядя ей прямо в лицо своими потными глазами.
— Не мучь себя, Мария! — снова горячо зашептал он ей на ухо. — Скажи «да» или скажи «нет». Решай сама, кто из нас будет мучиться. Скажи что-нибудь хотя бы потому, что это совершенно неважно, потому что даже твое молчание я могу интерпретировать как «да» или как «нет», и сейчас здесь все равно произойдет то, что уже происходило в этом кабинете бесконечное количество раз…
Майор Санчес протянул свои мокрые, обваренные ладони к Марии, но в это мгновение за его спиной раздался тихий голос:
— Не в этом мире, мой славный Санчес. Не в этом мире.
Мария почувствовала, что по ее ногам потянуло холодом. Майор Санчес быстро обернулся. У приоткрытых дверей стоял Генерал.
20
Однажды Ванглен плавал на поверхности неба, глядя на бесконечно близкие горы далеко вверху. На земле наступила осень, и множество разноцветных листьев бесшумно взлетали вниз и падали вверх, растворяясь в воздухе, так что даже здесь, над облаками, чувствовалась пряная горечь. Ванглен различал вверху каждый камешек и каждую травинку атмосферного явления земли. Он глядел на эту красоту, не дыша.
Еще раз пробежав в уме ряд основных уравнений теории невероятности существования этого мира, Ванглен вновь заинтересовался феноменом формы. Форма в явном виде существовала лишь как частный случай бесформенности. Бесформенность же в абсолюте вычислялась в виде субстанции, поведение и свойства которой описывались системой уравнений с предельными константами. При определенном значении этих констант субстанция превращалась в аморфную материю, из которой состоял этот мир. При других значениях она вырождалась в вещество с ограниченным количеством агрегатных состояний. Их могло быть сколь угодно много. В субстанции были возможны любые константы, любые формы и идеи, и он сам, Ванглен, чувствовал себя всего лишь одной из бесчисленных идей любви и света, в центре которой, где-то высоко под землей, пылало незримое солнце Антарктиды.
Поиграв формулами еще немного, Ванглен через некоторое время нащупал одно интересное свойство субстанции — зыбучесть. Путем квантовой диффузии она поглощала в себя все, кроме формы.
Собственно говоря, ничего, кроме форм, вокруг и не было. Все вокруг было лишь видимостью, субстанцией, оформленной тем или иным образом. Только теперь Ванглен понял, почему горы до сих пор не рухнули вверх и почему люди не превращаются разом в прах и запах. На самом деле они растворены в субстанции. От них осталась лишь форма, видимость. Ванглен мог поднять любой из камней и заставить его двигаться сквозь субстанцию, если только камень был не слишком велик и у Ванглена хватало сил преодолеть его субстанциальную инертность, нарушить квантово-термодинамическое равновесие, гармонию, в которой камень находился с окружающей средой. Но, даже двигая камень, Ванглен ничего не двигал на самом деле. Просто форма камня диффузировала сквозь субстанцию благодаря ее абсолютной зыбучести. Проблема была в том, что Ванглен не мог стать лишь неподвижной формой, чтобы войти в термодинамическое равновесие со средой. Даже когда он спал, не дыша, в нем билось сердце, пульсировала кровь и текли сны. Нужно было умереть, чтобы оказаться за облаками. Но Ванглен не мог умереть. Для него не существовало разницы между жизнью и смертью.
21
«Я уже сто лет как не в армии, а каждый день просыпаюсь, словно по тревоге. Мы все в опасности. В величайшей опасности! Много лет я веду свое расследование. Иногда мне кажется, что я не выдержу этого напряжения. Мне никто не верит. Надо мной все смеются. Но я точно знаю: пришельцы существуют. Они здесь. Они ничем от нас не отличаются. Но они — не мы. Надо мной смеялись, когда я служил в армии. Надо мной продолжают смеяться и сейчас. Иногда я чувствую себя чужим на собственной планете. Донна Молина называет меня параноиком. Сперва я думал, что она тоже из них. Одно время мне даже казалось, что она среди них главная, и мне пришлось жениться на ней, чтобы убедиться, что это не так. Просто баба с придурью. Хотя и о ней мне кое-что известно. Они лишь притворяется, что выполняет свой долг. На самом деле она и вправду любит.
Но Мария… Она даже не желает притворяться. Я ни разу не видел, чтобы она занималась женской борьбой, хотя живет рядом с донной Молиной, чемпионкой в этом спорте. Две женщины, сойдясь, как правило, начинают бороться друг с другом и елозятся до полного удовлетворения. Можно сказать, что это наш национальный вид спорта. На нем построена вся воспитательная работа. И в армии, и на Стадионе. Иногда даже непонятно, почему эта борьба называется женской, потому что мужчины занимаются ею не менее охотно. А женщины так любят ее, что иногда начинают бороться сами с собой в отсутствие достойной соперницы. Но я ни разу не видел, чтобы этим занималась Мария. И я ни разу не видел, хотя следил за ней очень внимательно, не спускал с нее глаз, — но я ни разу не видел, чтобы она принимала таблетки. Отец Донато называет ее неземной. Так оно и есть, хотя и не совсем в том смысле, который вкладывает в эти слова святой отец. Каждый отец — святой. Кажется, это сказал Генерал. Отец Донато не более свят, чем любой из нас. И он совсем не безгрешен в суждениях. Я не утверждаю, что Мария свалилась к нам с неба, но жизнь на Земле без таблеток невозможна. Чистых людей не бывает. Отец Донато волен называть это чудом. Но я не верю в чудеса. Хотя иногда, глядя на Марию, и я начинаю верить в потусторонние силы.
Она запросто ходит по улицам, и с ней никогда ничего не случается. Вернее, всякий раз что-то происходит. Я своими собственными глазами видел, как однажды Мария не отдала честь офицеру! И ничего! Тот так разнервничался, что, расстегивая ремень, случайно дернул кольцо гранаты с веселящим газом. Офицер остался корчиться на земле от хохота, а Мария снова ушла нетронутая. Все женщины тронутые, а она — нет! Я это точно знаю!
Другой раз мужчине, решившему заняться Марией, попала в вытаращенный глаз какая-то ядовитая муха. Да что муха! Я видел, как целый грузовик с солдатами перевернулся из-за того, что шофер только лишь посмотрел на Марию. Он не мог оторвать от нее взгляда, а в результате пятнадцать человек свернули себе шеи. И это я говорю только о тех случаях, когда не успевал вмешаться, чтобы предотвратить несчастье. С теми, кто пытается тронуть Марию, всегда что-то случается. Однажды я видел, как трое солдат, которые мели улицу после очередного землетрясения, несмотря на занятость делом, оказались настолько любезны, что схватили ее, идущую мимо, затащили в подворотню и повалили на кучу только что сметенных ими лепестков.
Они явно не понимали, что творят, и мне пришлось спасать их от неприятностей. При этом они никак не хотели меня слушать, так что пришлось применить силу для их же блага. Для парней все закончилось лишь синяками да ушибами. Ну, может, зубы кому-то из них вышиб. В общем, они легко отделались. Не сосчитать, скольких еще бедолаг мне удалось спасти таким образом. Я готов защищать от Марии весь мир!
Я давно слежу за ней. Я не свожу с нее глаз. Я даже стал жить с ней, чтобы следить за ней постоянно. Мария настолько привыкла ко мне, что перестала обращать на меня всякое внимание, хотя первое время я казался ей очень странным. Ведь я ни разу к ней даже не прикоснулся. Я просто не мог этого сделать. Физически. Это похоже на аллергию.
Всякий раз, когда я пытался коснуться ее, на меня нападал приступ дурноты. Меня тошнило. Но не от нее. Тому, у кого обнаружилась аллергия на женщину, прямая дорога в Антарктиду. В этом случае я бы отправил туда себя сам. Но меня тошнит не от Марии. Меня тошнит от себя самого.
Чего я только не насмотрелся, наблюдая за Марией! Даже доктор Уртадо со всеми его знаниями и опытом оказался бессилен. Так и просидел над ней, не шевелясь, хотя прекрасно знал, что я рядом и не оставлю старого друга в беде. Доктор Уртадо рассказывал мне, что слышал от своих коллег о неких секретных экспериментах, которые проводятся где-то в Антарктиде. В процессе изучения лечебных свойств таблеток было обнаружено, что если человек терял в результате несчастного случая палец или даже руку, то утраченный член тела мог снова отрасти, если обеспечить пострадавшего усиленным питанием таблетками и поместить его в среду, напоминающую содержимое биореактора. Рука отрастала заново и была гораздо лучше прежней. Но не это удивительно. Оказалось, что возможна и регенерация наоборот. Если в результате несчастья от человека оставалась лишь рука, или палец, или все равно что — хоть ухо или один только волос, то при помещении останков в биореактор из них заново вырастал погибший человек. Только становился он куда здоровее, красивее и лучше умершего. Таблетки победили даже смерть! Доктор Уртадо рассказал мне, что аминокислоты, в которых и состоит секрет эффективности таблеток, в результате саморазвития уже давно превзошли по сложности человеческий ген. Ген человека — теперь лишь часть таблеточной структуры, которая завилась не в двойную, а в четверную спираль, в суперген небывалого существа.
И то, что выходит из биореактора в результате обратной регенерации, — уже не люди, хотя они и похожи на людей. Это сверхлюди. Новая раса. Пришельцы. Монстры. Называйте как хотите! Обратная регенерация запрещена, и доктор уверяет, что никаких „пришельцев“ не существует. А я уверен в обратном.
Мария — сирота. Мы, в общем-то, все теперь сироты, но вот что интересно: донна Молина как-то рассказала очередную свою небылицу о том, что у нее был страстный роман со знаменитым ученым, который, отправляясь в длительную командировку в Антарктиду, срезал с ее головы локон волос на память. Ученый, разумеется, так никогда и не вернулся из своей командировки, зато в доме, в котором он жил, появилась Мария. Впрочем, не так важно, откуда она взялась такая на белом свете. Я точно знаю, что она не женщина. Во всяком случае, я не могу смотреть на нее, как на женщину. Она чудовище! Потому что если она не чудовище, то чудовища мы.
Однажды во время маневров прямо на крышу нашего дома приземлился на парашюте здоровенный десантник. Он вломился в помещение через дымоход. Я сидел в кресле и отлично видел все, что Мария с ним сделала. Специально решил не вмешиваться, чтобы полюбоваться на это. Она как раз вышла из ванной в халате. Мария никогда не ходила по дому голой, хотя знала, что я все время слежу за ней. Я-то давно привык к этим ее фокусам, а десантник растерялся от неожиданности. Минуты две он чесал затылок, прежде чем сорвать с нее халатик. Их так учат. Ведь женщины всегда что-то прячут под одеждой. Убедившись, что под халатом у Марии ничего нет, десантник несколько успокоился, и тут Мария начала вытворять такое, что я глазам своим не поверил! Она начала… одеваться! Торопливо, отворачиваясь и прикрываясь рукой! Как будто так и надо! Как будто для девушки нет на свете ничего естественнее, чем спешно натягивать трусики при появлении десантника! Парень совсем обалдел от этого зрелища. Квадратная челюсть отвисла. Он так растерялся, что сам подал ей платье. И даже помог, почти насильно, застегнуть его на спине, хотя у него руки тряслись от волнения. Она натянула свое платьице, и десантник, эта зверская, измазанная сажей харя, встал на колени, чтобы надеть ей туфельки! Это было отвратительно! Вот до чего можно довести человека! Я убежал, чтобы только не видеть этого унижения человеческой природы. Я чувствовал, что и сам мог бы оказаться на месте этого парня.
Иногда мне кажется, что Мария просто мерещится мне. Причем на каждом шагу. Мне начинает казаться, что это не я ее преследую, а меня. Донна Молина считает меня параноиком. И верно. Я все чаще замечаю, что это не я слежу, а за мной. Где бы я ни был — через некоторое время появляется Мария: на улице, в гостях, дома. Полковник говорит, что она одна такая на белом свете. А я так уверен, что нет. Сегодня во время посиделок у донны Молины опять случилось то же, что и всегда, — ничего. И, как всегда, из этого ничего появилась Мария. Все вокруг сделали вид, что ничего не происходит, потому что знали, что я здесь и что я не позволю ничему случиться. Но когда действительно ничего не случилось, я отчетливо увидел, как в это же самое время за окном в сторону перекрестка, а других сторон у нашей улицы нет, прошла другая Мария. Иногда мне кажется, что я схожу с ума. Но я же не могу разорваться. И сейчас, глядя на Марию, которая, как обычно, сидит у зацветшего окна и делает вид, что шьет, я невольно думаю, о той, другой Марии. Где она? Что с ней? Сколько их на самом деле бродят по Сантьяго?
Отлично помню свою первую встречу с Марией. Я пришел к ней домой с обычным обыском. Она делала вид, что шьет. Это меня, впрочем, не удивило. Люди часто делают вид, что чем-то заняты, кроме мыслей о сексе. Первым делом я перевернул все вверх дном в ее доме. Вывалил барахло из шкафов. Вспорол подушки. Поломал мебель. Мои рукава были закатаны, так что ей отлично были видны мои мускулистые руки. Я был в обтягивающих шортах. Из сандалий торчали большие пальцы ног. У меня на ногах все пальцы большие. Они такие большие, что на них почти не видно ногтей. Донну Молину ужасно возбуждал один вид моей босой лапы. Я хорошенько рассвирепел, и несколько верхних пуговиц моей рубашки невзначай расстегнулись, обнажив мышцы потной, поросшей густыми волосами груди. Не обнаружив, как всегда, ничего подозрительного, я подошел к ней, намереваясь разорвать на ней платье, чтобы она чувствовала себя более естественно. Но когда я заглянул в ее черные глаза, то не увидел там того, что ожидал увидеть! Это не был взгляд человека, женщины. Она смотрела на меня, как животное. Она была испугана. И этот страх выдал ее с головой, потому что значил, что ей есть чего бояться. Она боялась меня! Именно тогда я впервые испытал приступ этой странной аллергии. Мне стало так тошно, что я не смог себя заставить отхлестать ее по щекам, как обычно это делаю, перед тем как перейти к личному обыску и женской борьбе с подозреваемой. Я очнулся уже на улице. Меня рвало непереваренными таблетками».
22
Церемония была обставлена скромно, почти как частное торжество, хотя Генерал знал, что прямая трансляция об этом событии шла на всю страну. Перед тем как выйти к гостям, он долго стоял перед зеркалом и, сняв очки, разглядывал свое лицо, свои лоснящиеся от старости, впавшие, но необыкновенно гладкие благодаря таблеткам щеки. Сколько лет он уже живет на свете? Генерал почти ничего не помнил из того, что было с ним в прошлой жизни, до того как его забальзамированный и выпотрошенный труп извлекли из мавзолея и впервые воскресили с использованием только что обнаруженной и тут же засекреченной обратной регенерации. Сколько раз его вновь оживляли после этого? Его дни рождения шумно отмечаются всей страной уже чуть ли не каждую неделю. Не всякий курсант-отличник мог без запинки перечислить все эти даты. Генерал чувствовал себя не просто старым. Он чувствовал себя выпотрошенным и не совсем живым. Но скоро все это должно кончиться.
В небольшой комнате, которую по традиции называли арсенальной, хотя вместо оружия на ее стенах были развешаны картины фривольного содержания на религиозные и классические сюжеты. Центральное место занимали два огромных полотна: «Ад» и «Рай». На обеих картинах было изображено одно и то же: клубок переплетающихся в немыслимых позах тел.
Приглашение получили только самые близкие: начальник штаба сухопутных войск, главком ВМС, командующий столичным гарнизоном, еще несколько высших офицеров, членов хунты. Все были в штатском, и это еще более подчеркивало необычность происходящего. Мария стояла в стороне, вся в белом. Майор Санчес зачем-то нарядил ее медсестрой. Слова «неформальная обстановка» он понял по-своему. Прямо за спиной Марии во всю стену высилась картина. Из-за ее плеча на гостей глядели дикие глаза и искаженные мукой лица не то святых, не то грешников. Трудно было понять, «Ад» это или «Рай».
Рядом с Марией переминался с ноги на ногу майор Санчес. Вид у него, нарядившегося в гавайскую рубашку-хаки и шорты, был несколько растерянный. Перед тем как приступить собственно к церемонии, Генерал несколько минут беседовал с начальником штаба, тем самым окончательно утверждая его в качестве своего преемника на посту главнокомандующего. Он знал, что в эти минуты показ порносериалов на всех каналах национального телевидения прервался и на всех экранах страны крупным планом показалось лицо преемника: его огромный нос, прекрасные зубы, благородная седина, мудрые глаза растлителя малолетних. Не все зрители даже поняли, что перед ними их будущий Президент, а не герой нового порнофильма. Но это было только к лучшему.
Прошло всего несколько минут, как Генерал появился на людях, а слух уже распространился по дворцу, и в комнату набивалось все больше людей: в дверях теснились солдаты и офицеры вперемешку с растерзанными подследственными. Все побросали свои дела, чтобы своими глазами увидеть историческое событие. Наконец Генерал попрощался с начштаба, они обнялись, и их последний поцелуй в губы был крепок и ужасно долог. Генерал чуть не потерял сознания от объятий товарищей. Нетвердым шагом, точно слепой в своих зацелованных очках, он пересек комнату и остановился перед Марией.
Некоторое время ничего не происходило. Мария вновь удивилась, каким маленьким на самом деле оказался Генерал по сравнению с тем образом, который смотрел на нее с бесчисленных портретов. Он, казалось, едва выглядывал из-за собственных очков. Генерал смотрел на Марию, прямо ей в глаза. Мария — на Генерала. Она молчала. Это было хуже, чем пощечина. Генерал побледнел и сел в кресло, будто его не держали ноги. У него было такое чувство, что рушится все, для чего он жил в последнее время. Неужели и это время не окажется последним? В комнате зашевелились. Майор Санчес подошел к Марии и громко прошептал ей в ухо:
— Сестра! Где же ваше милосердие? Разве вы не видите, как ему плохо?
Мария подошла к креслу и наотмашь хлестанула Генерала по щеке, приводя его в чувство. На его глазах выступили слезы благодарности…
Это была старая традиция чилийской военной касты: офицер, которому женщина публично дала пощечину, может уйти в отставку. Наконец случилось то, о чем Генерал мечтал все последние годы. Иногда ему казалось, что он добивался этого всю жизнь. И вот наконец нашлась женщина. Несколько секунд в переполненной комнате звенела тишина пощечины. Генерал хотел было поцеловать ударившую его руку, но едва он коснулся Марии, раздался подземный гул и дворец так тряхнуло, что все присутствующие попадали на пол, а картины — и «Ад», и «Рай» — одну сорвало со стены, а другую — перекосило.
23
И все же формулы не объясняли, как в субстанции возникает форма. Математически все было безупречно. Но Ванглен никак не мог постичь физического смысла существования действительности. Чем глубже Ванглен погружался в свои вычисления, тем прозрачнее становились формулы и туманнее окружающий мир. Однажды Ванглен заигрался константами, а когда оглянулся вокруг, то не увидел ничего. Он был погружен в ничто. Вокруг была одна чистая субстанция с произвольными константами. Ванглен лихорадочно принялся перебирать коэффициенты, пытаясь восстановить их физически значимые величины, но это оказалось невозможно хотя бы потому, что некоторые из постоянных, вроде числа Пи, на самом деле вообще не имели определенного значения, и чтобы восстановить их, требовалась такая тонкая настройка бытия, которую разумным способом достичь было невозможно, потому что за каждой цифрой после запятой выплывала новая цифра, и так до бесконечности. Ванглен просто диффузировал сквозь ничто безвременья. В принципе, это состояние было ничуть не хуже его прежней жизни. Он превратился в чистую мысль. Проблема была лишь в том, что его мысль не могла долго оставаться чистой. Он думал о Киллене.
От безысходности Ванглен вновь и вновь возвращался к своим расчетам с жизнью: из замкнутой системы уравнений он сделал алгоритм по вычислению числа Пи. Поскольку цель недостижима, то алгоритм, в принципе, должен был работать вечно, то есть система опять же оказывалась квазиустойчивой. Ванглен еще раз полюбовался содеянным и запустил процесс.
24
Раннее утро. Воздух свеж, как пощечина. Туман стелется над водой, скрывая размокшие развалины Вальпараисо. В катере набилось столько народу, что сесть не было никакой возможности, поэтому генерал стоял рядом с Марией, скорее, укутанный, чем накрытый серой армейской плащ-палаткой. Мария чувствовала, как маленький генерал дрожит всем телом не то от утреннего озноба, не то от тревоги. Он едва доставал головой ей до плеча. Лодочный мотор тарахтел неспешно, а между тем им следовало поторапливаться. Море на глазах отступало вдоль затопленных улиц, а это значило, что из океана идет большая волна и вряд лив порту их будут ждать слишком долго.
Никто не знал, что в точности произошло этой ночью. И даже если бы генерал оставался Генералом, вряд ли он знал бы больше. Но сейчас ему было известно то же, что и всем. Сокрушительный подземный толчок разрушил один из биореакторов, местность вокруг него подверглась биологическому заражению, но что это значит и что именно происходит в зоне поражения, не знал никто. Рассказывали всякие ужасы.
Например, что у людей вытекают глаза, а на их месте появляются новые, голубые. Некоторые утверждали даже, что люди сами себе выцарапывают глаза, не в силах видеть то, что увидели. Правда это или нет — неизвестно, но слухи уже привели к эксцессам: всех голубоглазых считали заразными и убивали на месте. Как будто это поможет. Людей охватило истерическое возбуждение, и население хлынуло из города. Кто-то искал спасения в горах, а кто-то, как Мария и генерал, отправился к морю. Большинство же осталось встречать конец света в Сантьяго, и его улицы наполнились безумно веселящимися, танцующими и совокупляющимися людьми. Мимо лодки проплывали комья какой-то бурой слизи, и люди смотрели на нее с веселой опаской. Близость всеобщей гибели вызвала в них какое-то жутко-радостное чувство.
Катер медленно продвигался вдоль полузатопленных улиц. Вода отступала, обнажая остовы стоящих в воде по горло зданий. Генерал чувствовал себя ребенком в огромном аттракционе ужасов, в который превратился его родной город. Он ясно видел огромный плавник акулы, пересекшей им путь на перекрестке. Из черного провала окна высунулось щупальце гигантского спрута. Оно шарило по стене, словно в поисках ручки несуществующей двери. На бывшей рыночной площади лежала громадная туша кита. Воды, чтобы плыть, ему уже не хватало, и он лежал, глядя на людей в лодке своим огромным и все понимающим глазом.
Катер несколько раз чиркнул днищем о мостовую и встал. По толпе прошла волна радостного возбуждения, люди попрыгали за борт и, по пояс в воде, все время оскальзываясь на невидимых преградах, побрели куда-то дальше, в туман. Постепенно обнажилась заросшая водорослями мостовая. Мария и генерал шли, стараясь не наступать на морских звезд и ежей. Быстро светало. Студенистые пузыри медуз плавились и таяли в лучах восходящего солнца. Боком шныряли крабы. Было слышно, как где-то в подвале билась большая рыба. Свернув за угол, Мария и генерал наткнулись на неподвижно лежащее тело человека. Труп лежал, глядя в небо запекшимися глазницами. Чайки уже успели выклевать у него глаза.
На пустой набережной высилась огромная ледяная гора. Генерал и Мария увидели ее за три квартала, но только подойдя вплотную, поняли, насколько она огромна. Лед таял, и вдоль обрывистых склонов айсберга текли целые водопады. Вода у пирса еще была, и последний гидросамолет все еще ждал их у пристани. Пилот с самым хладнокровным видом стоял, опираясь на крыло, хотя горизонт за его спиной уже начал серебриться. Это показался гребень волны.
— Лейтенант Эспехо! — козырнул пилот генералу и Марии.
Он был молод, красив, летная форма сидела на нем великолепно, и он явно бравировал своей формой, молодостью, красотой и хладнокровием.
— Курс — на Антарктиду? — бодро спросил он, взглянув на Марию и генерала своими пронзительными голубыми глазами, такими странными на его смуглом лице.
25
«Белая беседка на высоком берегу моря. Солнечный день. Вода сверкает, как электросварка. Слышен шум прибоя и крики чаек. Появляется лейтенант Эспехо в белом костюме, напоминающем военную форму без знаков различия. Глаза его вытаращены. Бледное лицо трясется, как недожаренная глазунья.
Лейтенант. Ни-ко-го… Если вот так стоять долго, спиной к берегу, то рано или поздно покажется, что никого нет на всем белом свете… Интересно, придет она сегодня или нет? С ней ни в чем нельзя быть уверенным. Только бы никто нам не помешал. Впрочем, если кто мне и мешает все время, то это я сам. Сколько раз пытался с ней решительно объясниться, а все неизменно заканчивалось каким-то смехом. Вчера протянул ей цветок, так она расхохоталась, будто я ей дурацкий фокус показываю. Наверное, я и правда смешон. Все время думаю о ней. С первой минуты, как увидел ее, все время думаю только о ней! И каждая мысль — как пощечина! Все лицо горит. Я задыхаюсь от этих мыслей! Я с ума схожу от беспокойства, если ее нет рядом, и волнуюсь еще больше, когда вижу ее! А она лишь смеется. Я действительно смешон. То бледнею, то краснею, а ей будто и в самом деле невдомек, отчего я краснею, отчего вообще мужчина может краснеть при виде женщины. И что же тут скажешь? Как объяснишь? Смешно. Я не говорю, а мелодекламирую, как в плохой пьесе… Но, кажется, кто-то идет… Ах, какая досада!
Появляется донна Молина в белом платье, с книгой в руках. Ее голос слышен издали. За ней следует доктор Уртадо в черном костюме.
Донна Молина. Сюда, сюда, доктор! За мной! Ну поднимайтесь же скорее! Что вы там разглядываете? Здесь так красиво! Не стойте же, как чурбан! Быстрее подымайтесь сюда! Осторожно, здесь ступенька, о которую вы всегда спотыкаетесь. Ну вот, опять споткнулись. (Доктор спотыкается. Смех в зрительном зале.) Кто это здесь? А, это вы, лейтенант! Тоже пришли полюбоваться закатом?
Лейтенант холодно кланяется и молча отходит в сторону. Донна Молина и доктор Уртадо переглядываются. Доктор пожимает плечами.
Донна Молина (глядя на море). Ах, какая красота! Доктор, ну посмотрите же! Ой, а кто это там, в самом низу?.. Боже мой! Это же Абелардо! Посмотрите, доктор! Что он там делает, на камнях? Он же упадет! Его смоет волна!
Доктор. Кажется, он удит рыбу.
Донна Молина (кричит). Адвокат! Что вы там делаете? Немедленно поднимайтесь к нам! Здесь красиво! Что? Не слышу! Кричите громче!
Что, что он там говорит, доктор?
Доктор. Он говорит, что вы своим криком распугали ему всю рыбу.
(Смех в зале.)
Донна Молина. Очень смешно! (Смех.)
Появляется полковник Амадор.
Донна Молина. Осторожно, полковник! Не забывайте, тут ступенька!
Полковник спотыкается. (Смех в зале.)
Полковник. Фу! Насилу вскарабкался! Такое чувство, что это не я взобрался на эту гору, а гора на меня. (Смех.)
Донна Молина. Зато наградой вам будет чудеснейший вид.
Полковник (глядя на донну Молину). Да, здесь есть чем полюбоваться. (Смех.)
Донна Молина (садясь в плетеное кресло). Лейтенант! Подите-ка сюда! Ну-ка, рассказывайте, что там с вами стряслось! Вы выглядите, как утопленник. (Смех.) Рассказывайте! Я требую самый подробный отчет!
Лейтенант. Донна Молина! Вы смеетесь надо мной?
Доктор. Когда-нибудь вы поймете, милый лейтенант, что не так уж это и плохо, когда женщина смеется над вашими несчастьями. Гораздо хуже будет, когда она посмеется над вашим счастьем. (Смех.)
Донна Молина. Фу, доктор! Какие гадости вы говорите!
(Обращаясь к залу.) Неужели вы не понимаете, что это не смешно! (Зал грохает смехом.)
Доктор. Что делать, донна Молина! Я врач и привык говорить людям горькие истины. Пешая прогулка вечером, вдоль моря, доставляет больше удовольствия, чем целая ночь любви.
Донна Молина. Ах, господа! Опять вы за свое! Вы все время ворчите или ноете. Неужели я вас одна должна здесь всех утешать? Неужели это так трудно — быть счастливым? (Берет яблоко из корзины фруктов.) Вот, лейтенант, возьмите — и будьте счастливы! Господа, вы вообще когда-нибудь были счастливы?
Доктор. Я сегодня проснулся. В моем возрасте — это уже счастье.
(Смех.)
Полковник. Когда мне было пять лет (смех), я ехал на поезде из Сантьяго в Вальпараисо, через всю страну (смех), и я был совершенно счастлив! (Смех.)
Донна Молина. Когда я была маленькой девочкой (смех), меня каждый год вывозили к морю, и я сразу бежала на берег, смотрела, смотрела, смотрела и не могла насмотреться! Я чувствовала себя абсолютно счастливой! Что вы так смотрите на мой нос, доктор? (Смех.) Когда вы так смотрите на меня, мне становится страшно: я начинаю думать, что нравлюсь вам. (Смех.)
Доктор. О, это чисто профессиональный интерес, донна Молина. (Смех). Что это у вас в руках? Книга? (Смех.)
Донна Молина. Да, я люблю читать. (Смех.) В детстве, когда мы ездили на курорт, мы целыми днями только и делали, что читали, читали, читали. Вот я и привыкла. Хотите, я и вам почитаю? Это стихи. Вот, послушайте! (Читает с большим воодушевлением.)
Любовь коснулась губ Нежней, чем можно Выдержать, и груб Казался воздух, Которым я когда-то жил — Тот мускус был так густ, Что голову кружил…Полковник Амадор оглушительно чихает. (Громкий смех в зрительном зале).
Доктор. У полковника аллергия на поэзию. Это я вам как врач говорю. (Смех).
Полковник. Ради бога, простите, донна Молина! (Чихает еще раз. Смех.)
Доктор. Это диагноз. (Смех.)
Донна Молина. Не любите книг, полковник?
Доктор. Ну что вы, донна Молина. Литература обладает поразительной силой воздействия на полковника. Достаточно двух строк — и он засыпает, как убитый. (Смех.) Я специально выписываю ему книги в качестве снотворного. (Снова смех.)
Полковник Амадор силится что-то ответить, но не выдерживает и чихает в третий раз.
Доктор. Полковник, таблетку? (Смех.)
Донна Молина. Ах, господа, вы, право, как дети… Налейте-ка мне лучше лимонаду. (Пьет, звякая ледышками о стекло.) Какое счастье, что в жару лед застывает на солнце, чтобы охладить воду. (Смех.) Что вы так смотрите на меня, полковник? Вы смотрите так, будто долго не верили своим глазам, а теперь наконец поверили. (Смех.) Вы смотрите, будто у меня усы на лице. (Смех.)
Полковник. Какая же вы счастливая женщина, донна Молина! А расскажите нам о вашем самом счастливом дне!
Доктор. О, да! Просим, просим! (Аплодисменты в зале.) В жизни не поверю, чтобы не было дня, когда бы вы, донна Молина, не были совершенно счастливы. (В зрительном зале кто-то захихикал. Затем засмеялись и другие.)
Донна Молина. Их было так много, счастливых дней! Ну, например, вспомнить мой дебют — тот день, когда я впервые попала в театр. Давали „Гамлета“, и я оделась Офелией. (Смех.) Вы представить себе не можете, с каким волнением я впервые ступила под священные своды храма искусства. Вокруг было полно народа, мужчины гудели за своими важными разговорами, дамы сверкали брильянтами. Я и не заметила, когда началось представление. Заиграла чудесная музыка. Погас свет. Все вокруг заволновались, задвигались, начали выяснять отношения, перебивая друг друга. То там, то здесь вспыхивали словесные поединки. Я была совсем молоденькой и неопытной, мне было двенадцать лет, и мной, моими чувствами, мог играть кто угодно. Я то краснела, то бледнела, то хохотала, будто меня щекочут, то готова была разрыдаться от волнения. Словом, вела себя, как настоящая сумасшедшая. Все были в восторге от меня! Принцы и короли бегали за мной толпами! Все хотели играть только со мной! И еще долго после этого вечера я жила, как в бреду, не понимая, действие уже кончилось или еще даже не начиналось.
Доктор. Когда я был главврачом в психиатрической лечебнице (смех), то мы тоже разыгрывали „Гамлета“. Это была своего рода терапия. Все роли исполняли пациенты. Лишь стражников на всякий случай играли санитары. (Смех.)
Полковник. И каковы же результаты?
Доктор. Успех был полным! Мои пациенты наконец осознали, что не такие уж они и сумасшедшие. (Смех.)
Донна Молина. Смотрите, смотрите! Абелардо поймал рыбу! Его атакуют чайки! Какой ужас! Они же заклюют его! Доктор, ну сделайте же что-нибудь!
Доктор. Донна Молина, я же врач, а не орнитолог. (Смех.)
Донна Молина. Ах, боже мой! Смотрите! Он кормит пингвина! Невозможный человек!
Входит архитектор Фарамундо с тубусом в руках, спотыкается и падает.
Полковник чихает. (Смех и аплодисменты в зале.)
Донна Молина. А, Фарамундо, мальчик мой! (Смех.) Ну, показывайте, что вы там еще натворили?
Архитектор садится на вазу с фруктами (смех), вскакивает, пересаживается, вынимает из тубуса лист, показывает его донне Молине. Донна Молина смотрит и передает лист доктору. Доктор тоже смотрит, затем переворачивает лист вверх ногами и смотрит вновь (смех). Доктор хочет передать лист полковнику, но тот поспешно отстраняется, зажимая нос платком (громкий смех).
Донна Молин а. У вас всегда такие высокие замыслы, Фарамундо!
Доктор. Вы хотели сказать — глубокие, донна Молина?
Полковник. Самую глубокую мысль, что я слышал в своей жизни, однажды высказал наш генерал, осматривая солдатский сортир в новой казарме. Он сказал (смотрит в зал)-, в иные глубины так и хочется плюнуть. (Тишина в зале.)
Донна Молина. Глядя на вас, полковник, я всегда удивляюсь: как это вы не стали генералом! Ведь вы, в сущности, им родились. (Робкий смех.)
Доктор. Генералами не рождаются. Генералами умирают. Уж поверьте мне!
Донна Молина. Ах, вы опять за свое, доктор. Это, наконец, скучно!
Полковник. А хотите, я вас развеселю?
Донна Молина. Упаси боже! (Смех.)
Полковник. Хотите, я расскажу вам, как был впервые влюблен?
(Смех.)
Донна Молина. Какой ужас! (Смех.)
Полковник. И как потерял невинность. (Смех.)
Донна Молина. Я так и знала! (Смех.)
Доктор (донне Молине). Правда? А я до сих пор не был в этом уверен. (Хохот.) Прошу, полковник, продолжайте. (Бурные аплодисменты.)
Полковник. Однажды я ехал в поезде. (Смех.)
Донна Молина. Какая гадость! (Хохот.)
Полковник. Мне было пять лет. (Смех, который далее раздается почти после каждой фразы полковника.) Я ехал в поезде, от Сантьяго до Вальпараисо, через всю страну. Причем я впервые ехал один! Я имею в виду, без родителей, с одной только няней. А надо сказать, что, как и все малыши в этом возрасте, я был в свою няню нежно влюблен. Это была миленькая девушка, совсем молоденькая, я был ее первым воспитанником. Моя няня казалась мне самой лучшей на свете, и я ею ужасно гордился, когда мы гуляли вдвоем в городском саду. А теперь нам предстояло целое путешествие! Я был совершенно счастлив. Ну, вы знаете все эти волнения и суматоху сборов. Я долго решал, что взять из игрушек: пистолет или саблю. Решил прихватить и то, и другое. Мало ли что может случиться в дороге! Потом мы ехали в автомобиле, и я палил в прохожих из своего пистолета и тыкал саблей в спину шофера, чтобы тот ехал быстрее. Наконец мы прибыли на вокзал. Шум! Толчея! Няня купила мне мороженое. И вдруг заиграл оркестр! Оказывается, мы путешествовали в одном поезде с вице-королем! Няня взяла меня на руки, и я видел, как вице-король прошествовал в свой лакированный вагон по красной ковровой дорожке, приветствуя восторженно ревущую толпу. Представляете, я видел вице-короля! На нем была дорожная полевая форма и камуфляжная треуголка с красным нутром, которое виднелось, когда вице-король салютовал своей шляпой народу. Все вскидывали руки и кричали „ура“, и я тоже. Мороженое вылетело из стаканчика, но на это никто не обратил внимания. Вверх полетели шляпы. Одна из них упала прямо на меня, я в восторге швырнул ее, и она покатилась прямо к сапогам вице-короля. Он почти наступил на нее! Я был совершенно счастлив! Светило ярчайшее солнце. Никогда в жизни больше я не видел, чтобы солнце светило так ярко. Наконец мы протиснулись в вагон, заняли места. В нашем купе, уткнувшись в газету, уже сидел какой-то штатский с желтыми, прокуренными усами. Я хотел было сразу зарубить его своей саблей, да няня не дала. Но я все время держал усатого на мушке. Наконец поезд тронулся! Перрон загалдел и двинулся мимо. Оркестр грянул гимн, и мимо окон, набирая ход, проплыли надутые лица и вытаращенные трубы музыкантов. Я глядел во все глаза. Мой детский взор тешило все, что ни мелькало за окнами, любая мелочь, особенно когда потянулись пригороды и трущобы с их странной, совершенно неведомой мне жизнью. Женщина в ночной рубашке развешивала белье в грязном дворе перед своей лачугой. Мужчина в пижаме писал прямо на стену дома. Полуголая, черная от солнца и грязи ребятня гоняла гордого, как гвардейский офицер, петуха в пыльном переулке. Старик с удочкой сидел у желтой от помоев реки. Ржавый остов разбитого грузовика торчал на берегу. Бродячая собака невозможной масти лаяла на попугая. Пьяница безмятежно дрыхнул в придорожных кактусах. Лама паслась на веревочной привязи, пожирая апельсины прямо с веток. Все поражало мое воображение. Потянулись поля и виноградники. Далекие отроги гор приблизились, и вдруг поезд тревожно загудел и со всего маха влетел в туннель. Стена мрака так плотно ударила по окнам, что я даже отпрянул. Темнота стала полной. Лишь изредка из ее глубин вылетал фонарь, озарявший на мгновения недра вагона. И вот, в один из этих проблесков, я вдруг узрел совершенно фантастическую картину: моя прелестная няня и этот гадкий усатый господин слились в самом страстном, в самом возмутительном поцелуе! Тьма вновь нахлынула, и в следующий проблеск все уже было как обычно: няня занималась своим рукоделием, а господин с усами продолжал в темноте пялиться в свою газету. Эта поразительная сцена мелькнула так быстро, что показалась мне сперва лишь вспышкой моего возбужденного воображения. Но затем я стал припоминать подробности, которые так ярко врезались в мою память, что просто не могли лишь привидеться. Например, то, как ее рука вцепилась в клетчатый рукав господина. Или ее глаз, безумно глядевший куда-то во тьму над его ухом. Или этот рыжий, прокуренный ус, точно приросший к нежной няниной щечке. Наконец поезд с грохотом вылетел на солнце. По ту сторону хребта сразу дала себя знать близость моря. Потянулись пальмовые рощи. Замелькали чистенькие особнячки. Солнце поблекло за дымкой. Весь этот мир за окнами с его богатством и бедностью теперь виделся мне, точно в ином свете. В Вальпараисо я сошел с поезда другим человеком. Встречавшие меня родители даже испугались, настолько я был серьезен и молчалив, и когда я глядел на няню, то мне все время мерещились рыжие усы над ее губой. Впрочем, я и до сих пор не совсем уверен, что видел то, что видел. (Публика стонет от смеха.)
Донна Молина. Никогда, слышите, никогда больше не смотрите на меня! Даже не поворачивайте головы в мою сторону, полковник! (Смех.)
Архитектор. Смотрите, фрукты зацвели! (Показывает на корзину с фруктами, которая превратилась в вазу цветов.)
Полковник. То-то я чую, чем это так пахнет! Точно рота солдат прошла. (Смех.) Впрочем, кажется, есть и еще причина…
Появляется отец Донато. (Оживление в зрительном зале.) Отец Донато спокойно перешагивает через злополучный порог и останавливается посреди сцены. (Зал взрывается овациями.)
Донна Молина. Святой отец! Наконец-то! Я жду вас, как своего спасителя! (Зал вновь аплодирует.)
Отец Донато. Что? Что случилось, донна Молина? Чем вы так взволнованы? Здравствуйте, господа (кланяется)\ (Зал рукоплещет.)
Донна Молина. Умоляю вас, святой отец! Спасите меня от этих… крокодилов с их слезами. (Смех.)
Отец Донато. Да что случилось?
Донна Молина. Представьте себе, им вздумалось поговорить о любви! (Смех.)
Отец Донато. Отлично себе это представляю. (Хохот в зале. Кто-то из зрителей не может остановиться, повизгивая от смеха, и зал вновь взрывается весельем, а затем аплодисментами. Актеры вынуждены ждать, пока публика успокоится.) Наверное, доктор рассказывал о своей знаменитой теории?
Донна Молина (хватаясь за сердце). Этого еще не хватало!
(Смех.) Какая еще теория?
Отец Донато. О, это престранная теория!
Доктор. Лично я не нахожу в ней ничего странного. Более того, она мне кажется самым естественным взглядом на человеческую природу. В конце концов, есть вещи куда страннее. Разве не странно, например, что такой человек, как вы, читает нам проповеди? (Смех.) Я ведь помню вас в молодости. И вдруг — сутана, отдаленный приход в Андах. Разве это не странно?
Отец Донато. Доктор, вы совершенно правы насчет множества странных вещей в нашем мире. Собственно, я потому и принял сан, что мне все вокруг, даже самые обычные вещи, вдруг стало казаться странным. Причем если бы меня спросили, в чем именно состоит их странность, то я бы не нашелся, что ответить.
Доктор. Ну, например.
Отец Донато. Ну, например, что мы — люди.
Полковник. Что ж здесь странного? (Смех).
Отец Донато. На первый взгляд — ничего. А вот мне кажется странным, что мы называемся людьми. (Аплодисменты в зале.) А еще более странно то, что некоторые из этих людей считают себя мужчинами только потому, что носят штаны. (Вновь оживление и аплодисменты.)
Что делает нас мужчинами? Усы и шляпа? Собственно, кроме этого, в подтверждение своего мужества нам и предъявить нечего. (Аплодисменты.) Женщины — это святое! (кланяется донне Молине, аплодисменты). Но мужчины им, в сущности, не нужны. Мироздание вполне могло бы обойтись и без нас. Та роль, которую отвела нам, мужчинам, природа, настолько нелепа, что об этом и говорить смешно. (Аплодисменты.) И мы, мужчины, в глубине души это прекрасно осознаем. Поэтому нам все время приходится доказывать обратное. И чаще всего — силой, в той или иной форме, поскольку никаких разумных аргументов в свою пользу мы привести не в состоянии. (Аплодисменты.) Отсюда все эти безумства и нелепицы, из которых состоит наш мир. Мужчинам все время приходится что-то доказывать. И не столько даже женщинам, сколько самим себе. Собственно, я и стал священником для того, чтобы уклониться от необходимости что-либо доказывать на свой счет. Тем более это. (Аплодисменты.) Впрочем, я привел не совсем удачный пример, поскольку быть человеком в этом мире — это действительно странно. (Бурные аплодисменты.) Но мне странными казались и совсем обыденные вещи. Например, утром пью кофе и вдруг чувствую, как это странно: вкус кофе, и этот луч солнца, лежащий на столе, и моя рука с дымящейся чашкой в этом луче. Полноте, моя ли эта рука? Иногда я замирал посреди улицы, по которой проходил, быть может, в тысячный раз, и вдруг на меня, словно лавина, обрушивалось ощущение того, как все это странно: эта улица, эти дома, эти трещинки на асфальте, эти люди, их взгляды, их одежды, я сам, идущий среди этих людей по этой улице. Даже звон в ушах поднимался. Как это странно — быть! Я в тысячный раз являлся на службу и вдруг остро ощущал, как все это странно: и мой стол, и то, чем я занимался здесь, и все эти странные бумаги, указы и постановления. (Аплодисменты.) А пуще всего странно, что я — Я — служу всему этому, и вон тот человек с большим носом почему-то является моим начальником, и я обязан выполнять его странные распоряжения. Тогда-то я и стал задумываться о Другой Службе. А разве не странна вся эта странная обыденность нашей жизни, заставляющая забыть себя, со всеми этими бесчисленными романами, из которых, собственно, эта жизнь и состоит и которые поминутно завязываются между странными мужчинами и женщинами на службе или прямо на улице. Некоторые из этих романов так ничем внешне и не проявляются, и мы даже не отдаем в них себе отчета, но они обязательно завязываются между каждым и каждой где-то в глубине нашего странного, мерцающего сознания. Одни романы длятся не дольше мимолетного взгляда, которыми обмениваются мужчина и женщина, столкнувшись в дверях, а другие затягиваются на всю жизнь, отягчаясь множеством странных обстоятельств: любовью, семьей, имуществом, множеством других романов, которые ежеминутно завязываются между всеми и каждым. Разве все это не странно? Странно быть священником, говорите вы. А разве не странно не быть им?
(Аплодисменты, переходящие в бурные овации!) Повторяю, если вдуматься, странными в первую очередь окажутся именно самые естественные вещи на свете, включая вашу теорию, доктор.
Донна Молина. Так что же это за теория? Не томите же меня своими ужасными недомолвками.
Отец Донато. В недавнем номере „Антарктида медикал ревю“ доктор Уртадо опубликовал статью, в которой высказал одно неожиданное предположение. Доктор взял на себя смелость утверждать, что человек — несовершенен!
Донна Молина. Ах! (Смех.)
Отец Донато. Причем доктор Уртадо утверждает, что человек несовершенен не столько морально или умственно, а в первую очередь физически!
Донна Молина. Кошмар! (Смех.)
Отец Донато. И все проблемы человека, по мнению доктора, состоят в том, что у него есть один фундаментальный физический недостаток.
Донна Молина. Это правда, доктор? И в чем же этот физический недостаток состоит? (Смех.) Отвечайте же! Я требую отчета!
Доктор. Донна Молина, говоря о несовершенстве рода людского, я не имел в виду вас. Самим фактом своего существования вы делаете смешными любые теории. (Смех.)
Донна Молина. Продолжайте! (Смех.)
Доктор. Обобщив свой многолетней опыт практикующего врача, я пришел к выводу, что у человека, сколь ни совершенным существом он является в отдельных, выдающихся своих проявлениях (кланяется донне Молине, смех), отсутствует некий весьма важный орган, с помощью которого он, человек, оказался бы способен получить удовольствие особого рода, то самое блаженство, возможность которого все мы несомненно ощущаем и недостижимость которого сообщает оттенок мучительной неудовлетворенности всей нашей жизни.
Донна Молина. Это же ужасно, что вы говорите, доктор! (Смех.)
Вы же ужаснее этого ужасного адвоката с его ужасной удочкой! (Смех.) Ну скажите, что это должен быть за орган? (Смех.) На что он должен походить? (Громкий смех.) И где располагаться? (Хохот.) К какому месту вы намерены пришить его, доктор? (В зале рыдают.)
Доктор. Не столь важно место, сколько то, что с помощью этого гипотетического органа человек смог бы достичь полного блаженства физически, без каких-то фантастических — религиозных, литературномузыкальных или водочно-коньячных — ухищрений. Я уверен, что человек может чувствовать восторг естественным образом и всем своим существом. Мы обязаны чувствовать то, что нам обещает каждый наш вздох, шаг и взгляд, но что мы в силу нашей ущербности не способны воспринять физически, а потому вынуждены лишь угадывать, лишь предполагать это блаженство, удовлетворяясь теми бледными тенями, которые рисуют нам наши зрение, слух, осязание, а пуще всего — наше донельзя распаленное всеми этим призраками воображение.
Донна Молина. Но я вовсе не хочу быть блаженной. (Смех.) Это что же, получается, что я и на стул присесть не смогу, не испытав блаженства? (Смех.)
Полковник. Да уж, как-то это у вас, доктор, слишком просто выходит, раз — и блаженство! (Смех.)
Донна Молина. А что же вы молчите, лейтенант? Оказывается, вы страдаете лишь из-за того, что не способны испытать физического удовольствия? (Громкий смех.)
Лейтенант (в зрительный зал). Смейтесь! Смейтесь надо мной, господа! (Смеются.) Я смешон! Я действительно смешон! О, донна Молина! Какая досада! Какая досада, что вы не одна! Что мы с вами не одни на всем белом свете!
Полковник рявкает таким оглушительным чихом, что слышно, как чайки с громкими воплями разлетаются по округе. (Хохот в зале.)
Полковник (приходя в себя). Какое блаженство! (Смех.)
Полковник вновь чихает, приседая и почти падая от своего чиха. (Зал захлебывается от восторга.)
Отец Донато. Полковник, да вы, кажется, пьяны! (Смех.) Вы же на ногах не стоите!
Полковник. Я? Пьян? А вот поглядите-ка!
Полковник принимается танцевать куэку. Все находящиеся на сцене хлопают ему в такт. Зал подхватывает.
Архитектор. Смотрите! Солнце заходит!
Все бросаются к перилам.
Донна Молина. Какая красота!
Доктор. На мой взгляд, слишком пышно. Похоже на богатые похороны. (Смешок в зале.)
Донна Молина. Ну прекратите же, наконец, доктор! Я же отлично знаю, что на самом деле вы не такой. Вы замечательный, чуткий, душевный человек! Мы все такие замечательные и чуткие люди! И вы, полковник (смех), и вы, святой отец, и лейтенант, и Фарамундо, и даже это чудовище Абелардо. (Смех.) Мы все милые, замечательные люди! Так отчего же мы не можем быть счастливы? Просто счастливы! Сами собой! Как этот закат над морем. Без всяких безумств и объяснений! Почему мы все время лишь в поисках, лишь в ожидании своего счастья, которое, кажется, вот оно — рядом, совсем на виду, как этот закат, и как этот закат — иллюзорно и недостижимо!
Отец Донато. Я могу объяснить вам, почему. Буквально одним словом. Это очень просто. Это так просто, что меня даже удивляет, что никто до сих пор не может догадаться. Все дело в том, что…»
Какой-то шум раздался на улице, и отец Донато со вздохом оторвался от исписанного мелким, конспиративным почерком листа папиросной бумаги, вытер выступившие на глазах слезы счастья, прошел к окну и осторожно заглянул за занавес. Конец света был в самом разгаре. Небо с одного края светилось красным. Не то в последний раз светало, не то разгоралось зарево над разрушенным реактором, и в этом багровом свечении по улице метались какие-то тени, восторженно размахивая руками.
26
Лестница кончилась. Ванглен толкнул дверь и оказался снаружи. В лицо брызнул, словно грязью из лужи, сумеречный свет пасмурного дня, который показался ему ослепительно холодным. После влажного подвального мрака подъезда пришлось даже зажмуриться. На улице шел промозглый дождь. Мокли дома, похожие на развалины. Их контуры едва проступали сквозь туман. Где-то в сырой мгле тлели фонари. Подводным светом мерцали витрины. Повсюду сновали люди. Все они были не легко одеты и шли понурившись, будто тяготясь своими одеждами. Или так только казалось из-за дождя? Земля под ногами была мокра и убита. Было вообще странно, что земля — под ногами. Даже голова слегка кружилась. Ванглен заставил себя поднять голову и взглянул в опрокинутое небо, сделал несколько шагов по поднебесной земле, поправил воротник плаща и с болезненным наслаждением вдохнул сырой воздух. Это еще не было болью, но вполне давало представление о том, с какой болью и с каким наслаждением может быть связано пребывание в этом мире. Ванглен совсем не чувствовал себя богом. Какой-то мужчина в длинном, до пят, плаще, проходя мимо, быстро, но внимательно глянул, точно плюнул, ему в лицо из-под мокрой шляпы, так что Ванглену невольно захотелось утереться, столько тревожных чувств и зубной боли прочел он в этом взгляде. И была в нем еще одна мысль, которая уж совсем не понравилась. Вангленом вдруг овладело необыкновенное чувство реальности происходящего. Он видел каждую соринку под ногами, каждую трещинку на мокром асфальте, влажный блеск витрин, неоновые вспышки вывесок, слышал мокрый шелест жизни вокруг. Все это было так обыкновенно, но, несмотря на это — именно благодаря этому, — ощущение кажущести всех этих подробностей, та незримая дымка, чуть заметное миражное марево, которое увидит перед своим взором каждый, если приглядится как следует, стало еще более явным. Ванглен прошелся по улице, постепенно приходя в себя на свежем воздухе. Все становилось, как обычно. Ему лишь немного странно было, что он — женщина. И было непонятно, это конец или начало? Действие закончилось или еще даже не начиналось? Люди шли, дождь падал, дома стояли. Какой-то прохожий вновь чиркнул взглядом по его лицу, и его глаза вспыхнули нездоровым интересом, и вновь Ванглена, как током, ударило выражение сомнения, которое пробивалось в каждом взгляде сквозь любой интерес, словно люди этим напряженным взглядом спрашивали друг у друга: кто ты? Тот ли ты на самом деле, кем кажешься мне? Существую ли для тебя я? И если да, то почему мы проходим мимо друг друга? Почему жизнь проходит мимо? Почему? Почему жизнь только кажется нам? «Какой сложный внутренний мир, — подумал Ванглен, ежась от капель дождя, попавших за воротник. — Даже странно, что весь смысл его существования сводится лишь к поиску числа Пи».
Хосе-Мария Виллагра

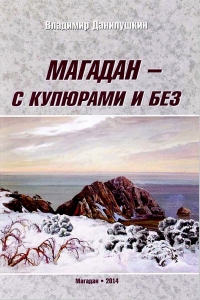





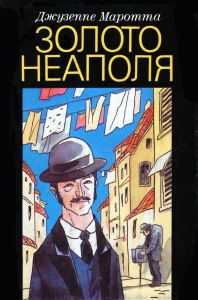

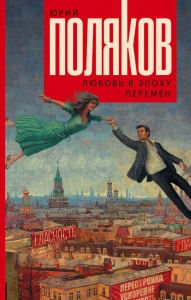


Комментарии к книге «Антарктида», Хосе-Мария Виллагра
Всего 0 комментариев