Антон Тарасов Сказки PRO…
Письма к Лиде
I
Солнце светило в глаза, заставляя зажмуриться или закрыть глаза руками. Блошиный рынок был похож на муравейник: кипела торговля, что-то приносили и уносили, бесконечно торговались, приветствовали друг друга, прощались. Вся эта возня прекращалась лишь на ничтожные мгновения, когда рядом закрывался автомобильный переезд, и по железнодорожному полотну с ревом проносились электрички или товарные поезда.
Железная дорога была метрах в тридцати, не больше. Тогда продавцы, покупатели и случайные зеваки замирали, как знатные артиллеристы, открыв широко рты, и в таком состоянии пребывали до тех пор, пока поезд не скрывался вдали. Звук поезда хоть и временами оглушал, это быстро проходило. Расположенные с другой стороны железной дороги дома и гаражи, несомненно, усиливали звук и отражали его сюда, на толкучку. Хотя, без железной дороги под боком она была бы уже не та, что есть сейчас.
Часть очарования была бы потеряна, и, кто знает, возникла бы она вообще на этом месте или стихийно родилась где-нибудь еще.
— Сашечка, какая удача, что ты пришел! Здравствуй, мой дорогой! — меня окликнул давно знавший меня продавец, дядя Сема.
Дядю Сему знают, наверное, здесь все. Он торгует старыми книгами, но для него эта торговля сродни высокому искусству, требующему отдачи и даже жертвенности. Он работает лишь по будням, и по понятным причинам в субботу и воскресенье, в пору самого стремительного наплыва народа — на рынке его нет. Зимой и летом в своем полуистлевшем ватнике, с бородой, напоминающей только что вытащенные из воды морские водоросли, он заметно выделяется среди других продавцов. Да и товаром тоже, надо сказать. Где он берет свои книги, я не знаю, но я не раз покупал у него за сущие копейки столь редкие издания, что один лишь их поиск в библиотечных каталогах занял бы без малого неделю. Дядя Сема был знаком с моим отцом, но где и при каких обстоятельствах они познакомились, я рассказать не берусь. И не потому, что не хочу загромождать повествование, а просто не имею понятия.
— Добрый день, дядя Сема, — ответил я ему, натянуто улыбнувшись после перенесенного на ногах гриппа, ругая себя за то, что выбрался на рынок вместо того, чтобы сидеть дома и выздоравливать. — Спасибо за книжку про ботанические экскурсии. Вы были правы, отличная книга, прочел с удовольствием и решил оставить себе.
— Ну, право твое, не спорю, — дядя Сема с укором посмотрел на меня.
Он был в курсе того, что некоторые купленные у него книги я затем перепродаю за гораздо более серьезные деньги, но на это у меня были свои причины, главная из которых заключалась в отсутствии места в комнате.
— Ты даже не представляешь, Сашечка, что я тебе покажу сейчас!
Он произносил слово «сейчас» довольно старомодно, у него оно звучало как «сейтчас». Однажды я отправил своего знакомого на толкучку только затем, чтобы он послушал, как говорит дядя Сема. Но погода в тот день выдалась неважная, дядя Сема решил отсидеться дома, мой знакомый попал под сильнейший ливень, схватил пневмонию и долго точил на меня зуб.
— Та книга, которую ты меня просил найти, из списка — из твоего, — уточнил дядя Сема и принялся рыться в какой-то на редкость грязной коробке, набитой хламом и старыми газетами. — Вот, держи.
Я не верил своим глазам. Это был Трояновский. Я долго его разыскивал и, в конце концов, отчаялся, понимая, что невозможно найти того, чего в принципе нет. Оказалось, я ошибался. Мои руки в радости затряслись, перелистывая страницы. «Да, это он, конечно же, он! — волнуясь, думал про себя я. — Интересно, сколько он за нее спросит? Сейчас как загнет цену такую, что никаких денег не хватит. И что?»
Но и здесь я ошибся. Цена оказалась смехотворной. По обыкновению, чтобы не смущать зевак и не давать повода для зависти продавцам соседних точек, дядя Сема, щелкнув пальцами, набирал цену на большом калькуляторе, а потом поворачивал его дисплеем к покупателю и важно добавлял: «Рублей». Церемония повторилась и на этот раз, после чего я вынул бумажник, достал две перегнутые пополам купюры и передал дяде Семе. Он с довольным видом сунул их себе в карман. Но наивно было бы считать, что дядя Сема остается внакладе. Уж он-то такому никогда не позволит случиться.
— Да, и еще там, в книге, мой дорогой, обрати внимание, сзади приклеен конверт, вроде как потайной, а там письма, — добавил дядя Сема. — Я не стал его отрывать и выбрасывать, вдруг пригодится, и чего интересного почерпнешь.
Дядя Сема действительно ничего не выбрасывал из книг: ни закладок, ни разложенных между страницами для сушки листьев гербария, ни вышедших из обихода купюр, ни газетных вырезок. Последние были интересны, особенно если были как-то связаны с книгой, в которую вложены. Я открыл задний форзац книги. Конверт — только он не приклеен, а слежался, легко отклеивается. Конверт слегка пожелтел, а в нем какие-то то ли письма, то ли просто записки. Они были написаны на тетрадных листках в линейку синими расплывшимися чернилами. Из уважения к дяде Семе я решил не выбрасывать конверт тут же. Я захлопнул книгу, убрал ее в сумку и, попрощавшись, медленно пошел дальше.
— Будь здоров, Сашечка, заглядывай чаще, не забывай старика, — крикнул мне вслед дядя Сема, а я, не оборачиваясь, лишь утвердительно мотнул в ответ головой.
Есть коллекционеры, которые с маниакальным упорством разыскивают предметы своей страсти, а когда достают, то, не замечая ничего вокруг, бегут довольные домой, в самое укромное местечко. Там они с упоением разглядывают находку. А через час, а быть может спустя пару дней, здесь все индивидуально, им приобретенная вещь уже не кажется чем-то нереальным. Это просто вещь. Все, игра окончена, нужно искать новую, ту, которой еще нет. И чем сложнее ее отыскать, тем интереснее будет игра.
Но я не такой. Не спорю, мне интересны редкости, у меня есть свои цели, которых я пытаюсь достичь, собрать все книги определенных авторов. Но это всего лишь игра — и я это четко понимаю. Я не бегу с найденной книгой отсиживаться в чулане, разглядывая при свете фонарика каждую страницу. Не перетряхиваю переплеты толстых томов в поисках запрятанных в них царских червонцев. Это не по моей части. Вот и тогда безо всякого пиетета убрал книгу в сумку и пошел дальше, своей дорогой.
Ноги вязли в грязи пополам с почти растаявшим снегом. Обычная питерская весенняя слякоть. Я слегка подкашливал, давал о себе знать грипп. Но чувство того, что весна наступает, заставляло забыть о болячках. Я прошел мимо рядов с книгами, старыми игрушками, мебелью. Потом начались автозапчасти, какие-то электроприборы. Их продавцы считаются элитой толкучки, они смотрят на остальных свысока. В отсутствие покупателей одни из них переминались с ноги на ногу, другие сидели на своих складных стульчиках и попивали горячий чай из маленьких металлических термосов. Они не проявляли ко мне никакого интереса. Похоже, их безошибочная способность определять в толпе автомобилистов, радиолюбителей и прочий обеспеченный, а, главное, заинтересованный контингент работала без сбоев.
Последними шли вещевые ряды, где на раскладушках были навалены горы поношенной одежды. Я всегда проходил это место стороной. Мне оно казалось немного жутковатым. Откуда взята эта одежда, с чьего она плеча, почему от нее избавились — леший знает.
Я шел, куда глядят глаза. Мне было до того хорошо, что я не заметил, как стал приближаться вечер. Опомнился я где-то в Шувалово, на размокшей от весенней влаги грунтовой дороге, быстро вышел через поселок в город, сел на трамвай и через полчаса был уже дома. Предчувствие меня не обмануло: грипп снова обострился. Суставы крутило, першило в горле. Соседка по коммуналке за обещание поменять в кране на кухне прокладки дала мне банку малинового варенья. Помывшись кое-как под душем, я укутался в теплый свитер, натянул шерстяные носки и долго пил горячий чай, уплетая варенье. А уже еще через час лежал под одеялом и не мог преодолеть озноб. Конечно, мне было не до книги, как и не до учебы, и не до работы.
— Прививку нужно было сделать вовремя, — просвистел в трубку мой начальник. — А вообще все равно работы нет, и неизвестно когда будет, так что отболей, чтобы свои сопли не разносить.
Вообще-то он добрый и во многом прав. Какие заказы я мог комплектовать в таком состоянии? Вместо коробки скрепок положил бы коробку кнопок, а экспедиторам потом пререкаться с секретаршами, упорно доказывающими, что они заказывали совсем другое. Слушая рассказы о таких стычках, я стал ненавидеть секретарш и весь офисный планктон вместе взятый.
Я как следует выспался и весь следующий день нежился в кровати, глядя за окно, где качалась от ветра макушка дерева. Конечно, времяпрепровождение не самое продуктивное, но иногда можно позволить себе и такое. Я забыл и про книгу, и про остальные дела. Просто лежал, целиком предоставленный своим мыслям, и не сопротивлялся им. В голову лезла какая-то ерунда о недоделанных курсовиках, немытой посуде на кухне и обо всем прочем, что мне предстояло сделать, причем срочно. И эти мысли почти испортили мне настроение. И испортили бы окончательно и бесповоротно, если бы я не вспомнил о приобретенной книге. Сумка лежала рядом, нужно было просто протянуть руку и взять ее. Я это сделал с великим трудом, в суставе что-то болело и сильно отдавало в пальцы.
Вот же он, Трояновский. Весь в умилениях цветочками и букашками, в попытках донести до наивного читателя всю красоту первозданной, такой близкой природы. Я невольно зачитался и задремал. Должно быть, кто-то из соседей что-то уронил или просто громко хлопнул дверью. Я вздрогнул и проснулся. Книга выпорхнула у меня из рук и покатилась по одеялу. Где-то на полпути до пола она раскрылась — и из нее выпал конверт, про который я не вспоминал с того самого момента, как распрощался с дядей Семой на толкучке.
— Чуть не забыл! — сказал я сам себе, — Посмотрим, что там пишут.
Тянуться до пола было во сто крат тяжелее, чем до сумки. Это поймет каждый, кто хоть раз запускал болезнь, переносил грипп на ногах, но, будучи не в силах больше сопротивляться, падал в постель дня на два, а, может, и три. Но я все же дотянулся, хоть для этого и пришлось вылезти из-под одеяла и позволить ознобу вновь пробежаться по моему телу.
Конверт когда-то был зеленым, он был из такой бумаги, из которой делают обложки для школьных тетрадей. Но выцвел, особенно по краям. Внутри оказалось три обыкновенных тетрадных листа. Почему-то, рассматривая конверт на толкучке, я посчитал, что содержимое его гораздо внушительнее. Сверху на листках такими же расплывшимися и выцветшими чернилами, что и сам текст, были надписаны даты. Старомодная привычка, что уж говорить.
Я взял то, что было помечено самой ранней датой, маем 1963 года, и принялся разбирать.
«Здравствуйте, Лидия!
Я решил Вам написать. И да простите Вы меня за эту слабость. Как знать, решился бы я написать Вам, если бы не вторая встреча с Вами. Помните, в «Севере»? Вы там часто выступаете и, должно быть, не помните меня. Да, я один из многих, из десятков, сотен и тысяч — я не шучу — Ваших, Лида, поклонников. Вы поете прекрасно. В первый раз я услышал Вас давно, пару лет тому назад. Кстати, у нас есть много общего. Вы, оказывается, тоже оканчивали инженерно-строительный. Отчего-то не видел Вас тогда. И даже на развеселых посиделках с лэтишниками Вы не появлялись. Должно быть, шумные компании не для Вас. Понимаю.
Преклоняюсь перед Вашим, Лида, обаянием. И не один я. Простите, что письмо сбивчивое. Так просто, улыбаясь, целый час удерживать внимание, петь. Пишу и волнуюсь. Думаю о Вас, представляю, что увижу Ваше имя на афише. Вы ведь теперь часто выступаете в ДК Промкооперации. Это для меня праздник. Или когда слышу Вас по радио. Я очень надеюсь, что буду немного смелее и подойду к Вам после Вашего выступления хотя бы с букетом гвоздик. Заговорить вряд ли решусь. Не сердитесь.
Искренне Ваш, Валерий»Дата в верхнем правом углу письма была будто бы поставлена после. Тот, кто писал это письмо, но так и не отправил, решил, очевидно, сделать пометку уже после, чтобы не забыть. Только о чем?
«Письмо, как письмо, — подумал я. — Ничего примечательного. Как будто копаешься в чьем-то белье. Бр-р-р, неприятно даже. У кого из нас нет личной переписки».
Я торопливо спрятал письмо обратно в конверт и, не поленившись встать, положил этот конверт поверх старых газет, кипа которых у меня периодически накапливалась. Если бы в один момент перестали печатать все эти дешевых газетенки и бесконечную рекламу, которую раздают возле метро, то упал бы спрос на бумагу, вырубали бы меньше деревьев, и воздух стал бы намного чище. Не знаю, может быть, это исключительно мое субъективное мнение, но я бы предпочел остаться при нем. Если кого и интересует вся эта бесконечная реклама, то только не меня. Лучше бы печатали книги, интересные и как можно больше, на хорошей бумаге и с прочным переплетом.
Температура к моему огромному облегчению спала. Снова захотелось радоваться жизни. Да и просто пойти на кухню и подкрепиться стало возможным благодаря тому, что еда снова просилась в мой организм. Жизнь раскрашивалась в привычные краски, обрастала утраченными, было, на какое-то время заботами и тревогами.
Книга была действительно ничего. Я читал ее на кухне, подстелив на стол газету. Днем в коммуналке никого на кухне не было, все разошлись на работу или тихо сидели в комнатах. Почитать на кухне было роскошью, которую я редко себе мог позволить. Я восхищался неведомым слогом столетней давности, манерой изъясняться, объяснять сложное, научное или псевдонаучное простым языком с претензией на элегантность. Меня увлекала в старых книгах их убедительность, весомость, до которой современным изданиям еще очень далеко.
«Нет, эту книгу я точно никому не продам», — пообещал себе я и вспомнил, что не проверял электронную почту уже третий день. Размеренность моей жизни, метание между учебой, работой и книгами подчас делали меня рассеянным и забывчивым. Это не необязательность, а стечение обстоятельств, когда ничто не заставляет быть обязательным тебя, да и ты сам стараешься никого не упрекать в необязательности.
На электронной почте скопилось с десяток писем. Одно из них заставило мое сердце колотиться, я прокричал: «Ага!» и принялся потирать руки. Писал человек, который был готов купить сразу несколько моих антикварных книг. Купленные по дешевке у дяди Семы и еще где-то, они не пригодились мне. В них не было ничего из того, что представляло бы для меня интерес. И я решил их продать, запросив цену откровенно немаленькую, такую, какую мне позволила запросить моя совесть. А она в этот раз оказалась довольно терпимой к такому импровизированному бизнесу. Если быть точным, то за три неприглядных книги мой знакомый был готов выложить сумму, которую я не без труда зарабатываю за пару месяцев.
Мы договорились встретиться на следующий день, когда я закончу учебу и смогу без спешки дойти до конторы этого моего знакомого. Поражают меня иной раз люди. Да, человек успешный, при деньгах, шикарная машина и шикарная квартира где-то в центре. Статус, привилегии, даже охранник на входе в офис, интересующийся, с какой целью к Сергею Ивановичу я следую.
Этот самый Сергей Иванович, с которым я познакомился случайно на почве продажи книг, был молодым щеголеватым типом. Про таких говорят: «На понтах». Он брезгливо осмотрел книги. Я просто уверен, что красивые корешки его интересовали гораздо больше, чем само содержание. Впрочем, какое мне до того дело? Он, не моргнув, выложил кругленькую сумму. Я взял деньги — и совсем скоро забыл и про Сергея Ивановича, и про эти книги, и про остальное. Меня радовало то, что на полке освободилось место под новые находки — состояние, знакомое каждому коллекционеру и вообще таким увлекающимся людям, к которым причисляю себя я.
Так вот, поражают меня порой люди. Вроде и при деньгах, что-то страстно собирают, а лишают себя радости поисков и открытий. Им подавай все готовенькое, на блюдечке с голубой каемочкой. Их интересует состояние и цена. Они игнорируют детали и события — то, откуда взялась книга, какой путь проделала, кто ее бывшие владельцы. Дядя Сема таких собирателей чувствует за пару километров, конечно, если они преодолевают в себе отвращение и появляются на блошином рынке. И, конечно, дядя Сема не упускает возможность продать такому искателю приглянувшееся втридорога. Хотя, сбить в таких ситуациях цену ему, по его же словам, никогда еще не предлагали. Одним словом, мало. Мало ставить цену втридорога, нужно сразу раз в десять, не меньше.
Мой молодой и, в общем и целом, крепкий организм победил грипп окончательно. Это была и радостная новость, и одновременно не очень.
Повод не ходить на учебу и удобная отговорка от работы действовать перестали. Впрочем, не очень-то они мне были и нужны. Ненавижу лентяев. Самому быть лентяем — это совсем скверно. Будто тебя прокрутили через мясорубку, и ты не можешь собрать фарш из себя в одну маленькую ровную кучку, все время норовишь растечься в лужу, похожее на что-то не совсем приличное.
Лень и покой — не родственные понятия. Лень — это когда ты просто не делаешь то, что мог бы делать при каких-то других обстоятельствах. Покой — это когда ты делаешь то, что можешь делать и на что способен, просто при этом тебя никто не подгоняет, не действует на нервы. Вот так было у меня. Полусонное состояние на лекциях, неторопливая работа, заключавшаяся в раскладывании незамысловатых канцтоваров по коробкам и пакетам и в приклеивании к ним номерков с заказами. Да, это по мне. И так бы продолжалось бесконечно, если бы я сам больше заботился о своем здоровье и не поднялся бы с постели после первого же облегчения гриппа для того, чтобы сходить неведомо куда за какой-то книгой.
Поздно вечером, вернувшись домой, я узнал, что меня ждут. Об этом мне шепнула соседка, та самая, что угощала меня малиновым вареньем и за это была вознаграждена починкой крана, посвистывание которого ее раздражало. При этом она как-то странно подмигнула. Кто мог меня ждать? Кто-то из родных смело прошел бы в комнату, даже устроил бы там уборку, не напрашиваясь ни на какую аудиенцию. За столом на общей кухне сидела девушка. Сидела прямо в одежде. Расстегнутый плащ, сдвинутый на бок шарф. Разве что из обуви на ней были огромные вязаные тапки, которые у нас в коммуналке предлагали нежданным гостям вроде врачей, участковых и слесарей, чинивших не так давно текущие батареи.
— Простите, Александр, это, должно быть, вы, — смущенно спросила она, увидев меня. — Я решила вас, во что бы то ни стало дождаться. Понимаете, приходить второй раз как-то неудобно. Лучше уж сразу рассказать все как есть.
— Ну, я — Александр, и что? — меня, если честно, в тот момент дико разозлил визит совершенно незнакомого мне человека в столь поздний час, без предупреждения, когда единственное, о чем я думал, так это о том, как поскорее мне привести себя в порядок и завалиться спать, — Откуда вы взяли мой адрес? И по какому вы поводу? Знаете, я очень устал и могу наговорить всяких глупостей, так что не обращайте внимания.
Она смутилась. Я разглядел, как она опустила глаза, как поправила шарф, чуть не свалившийся на пол.
— Так, — твердо сказала она, пытаясь взять себя в руки. — Мне ваш адрес дал продавец с рынка, который за железной дорогой…
— С толкучки что ли? — удивился я. — Дядя Сема, что ли? Да, он, кажется, должен был знать. Какая у него хорошая память.
— Да, с толкучки, — по-моему, ее покоробило само это слово, толкучка. — Тут вышло одно недоразумение. Мы разбирали книги с дедушкиной квартиры, и эти книги продали этому торговцу. Почти все они уже разошлись, но…
Я вспылил. Я готов был тотчас же показать на дверь и еще прикрикнуть. Конечно, я бы этого не сделал, а если бы и сделал, то не в такой откровенно грубой форме. Но вместо этого я просто подошел, уселся рядом на стул, сложил руки на груди и сказал:
— Последнее, что я у него на рынке купил, это Трояновский. Но назад его я не верну. Если хотите, то идите в милицию, делайте все официально.
Меня взбесило то, что книга, которую я искал без малого год, вот так легко и без лишних сложностей может перекочевать в другие руки.
— Вы не поняли меня, — оправдывалась она. — Возникло небольшое недоразумение, и я уверена, вернее, я на это очень надеюсь, что вы меня поймете, и все разрешится. Тем более, зачем вам…
— А вот это уже мне решать, нужна мне книга или нет, — отрезал я, не дослушав.
Вообще-то перебивать нехорошо, я не люблю, когда так делают, когда говорю я. И с этим я погрешил немного. Но девушка это была, по всей видимости, отнюдь не из робких. Она снова поправила шарфик.
— Давайте не будем друг у друга отнимать время, — она говорила и смотрела мне в глаза так, что я принялся моргать, а потом и вовсе постарался сосредоточить взгляд на чем-нибудь другом, благо на кухне хватало всяких интересных предметов. — Я вообще не о книгах. Я о письмах. Тот продавец с толкучки сказал мне, что он нашел эти письма, вложенными в книгу, которую купили как раз вы. И он знает вас. И под честное слово, что я больше никому не передам ваш адрес, сказал, где вы живете. Так что я не о книгах, мы как раз от книг избавлялись, нам они совершенно не нужны. А вот письма. Это совсем другое. Мы их искали, но случайно просмотрели. И так получилось.
— И теперь вы просите меня вернуть вам эти письма? — должно быть от усталости все происходящее меня начинало дико раздражать. — На каком, интересно, основании?
Она замолчала, только слегка опустила голову и посмотрела куда-то в пол. Так делают, когда не знают ответа на вопрос, но судорожно пытаются его отыскать где-то в окружающей обстановке. Как школьник, стоящий у доски и ищущий по сторонам плаката шпаргалки, хоть какой-нибудь подсказки, чтобы избежать почти неминуемого провала в виде двойки. Впрочем, и я в тот момент был озадачен не меньше и не мог сообразить, что же мне делать.
— На том основании, что… — она запнулась. — Что… это наша семейная реликвия, и она попала к вам случайно, по ошибке, и вы как здравомыслящий, надеюсь, человек должны, просто обязаны войти в положение и вернуть нам письма.
— И это все, что вы можете сказать? — я повысил голос.
— Пожалуйста, — добавила она и встала. — Если вы еще не выбросили наши письма, то дайте их мне, прошу вас, они нам очень дороги. Да, я понимаю, мы виноваты, сами просмотрели, сами выбросили. Знаете, хотите, я куплю у вас письма. Да, точно, куплю! Сколько вы за них хотите? У меня есть немного денег и…
Она принялась лазать по карманам, дрожащими от волнения руками раскрывать большой дамский кошелек. И как только такие можно носить с собой? Это же не кошелек, это целый склад всего нужного и ненужного.
— Нет, не надо мне никаких денег. Эти письма не продаются. Все, точка.
Зачем я такое сказал? Нужно было видеть ее лицо. Она побледнела. А я почему-то был доволен. Внутри меня сидел какой-то рабовладелец, феодал, надсмотрщик. Я вдруг стал считать деньги, чужие деньги, которые могли бы стоить эти письма. Почему их выбрасывают чуть ли не на помойку, а потом вытворяют практически невозможное, прослеживают их путь, находят дядю Сему, расспрашивают у него обо мне? Нет, это точно неспроста.
«Письма, возможно, стоят гораздо дороже, за них можно выручить большие деньги. А я сейчас получу копейки. Она просто пытается меня развести, взять на жалость», — подумал я. Если честно, то тогда, на кухне, я даже не мог припомнить, где именно у меня в комнате лежат эти письма. И если бы вдруг сорвался и помчался их разыскивать, то, честное слово, не нашел бы так сразу.
— Пожалуйста, подумайте, может, мы как-нибудь договоримся? Говорю же, я готова вам заплатить.
— Я же сказал, что не нужны мне ваши деньги, и письма я продавать не собираюсь. Откуда вы знаете, может я их давно выбросил в мусор, еще там, на толкучке.
— Но все же, если вдруг надумаете… Черт, у меня вчера украли мобильник, к сожалению, номер я вам сказать не могу, его менять придется, — девушка снова покопалась в кошельке и вытащила огрызок карандаша и чек из какого-то магазина. — Я вам напишу свой адрес. Все-таки чудеса случаются, и, может, вы передумаете. Сейчас уже вечер, почти ночь, трудно на чем-то сосредоточиться.
Она на весу набросала несколько строк, всучила бумажку мне и, не проронив ни слова, направилась по коридору к двери. Слышно было, как она надевала обувь, как сама открывала дверь. И почему я не вышел ее проводить? Дурак, просто дурак. Вышло все очень неудобно. Я не предложил ей чаю, хотя видно было, что она прождала меня как минимум пару часов. Говорил грубо, с вызовом. Потом еще и с письмами уперся. Зачем мне они, эти письма? Я даже не знаю от кого они и кому. Правильно считается, что читать чужие письма нехорошо. Видимо, на меня это и подействовало.
Я вернулся к себе в комнату в скверном настроении. Я так увлекся поддержкой своей принципиальности, что плохо запомнил эту девушку. Уже спустя полчаса я не помнил черт ее лица, роста, цвета волос. И себя я обманул. Конверт с письмами лежал на самом видном месте. Снова сработал закон подлости: когда меньше всего ожидаешь что-то найти, то оно непременно находится. А когда упорно ищешь, то длиться это может очень долго, причем без гарантированного результата.
Была уже ночь, когда я устроился за столом, включив настольную лампу и решил прочитать два оставшихся письма. «Семейная реликвия, — ворчал я про себя. — Тоже нашла реликвию! С реликвиями так не обращаются, их берегут, хранят, всегда знают, где они находятся». У того письма, что было вторым, а узнал я это по дате, был оторван правый нижний угол, сразу после подписи. Сам лист был чуть смят, будто один человек держал его в руке за тот самый уголок, а кто-то другой подошел и с силой вырвал письмо.
«II/64 г.
Здравствуйте, уважаемая Лидия!
Как Вы поняли, тот скромный тип в большущих очках, который подарил Вам букет на концерте неделю назад, был я. Вы так заулыбались, что я не смог ничего Вам сказать. А потом подошли еще товарищи с цветами.
Вы очень выделяетесь в концерте, даже в такой большой программе. Жду именно Вас. Меня не интересуют все эти хохмачи и артисты разговорного жанра. Не понимаю, как Вы уживаетесь с ними в одном концерте.
Но речь не о них, а о Вас. Не устаю повторять, что вы прекрасны. Вы совсем не похожи на тех певиц, что уже набили оскомину своей важностью, какой-то вычурной манерой держаться. И мне всегда кажется, что Вы поете именно для меня. Так думает каждый, кто приходит на Ваши выступления. Со мной рядом сидел товарищ из райкома, только запамятовал, как его зовут.
Он аплодировал Вам, наверное, громче всех. По радио часто передают Ваши песни. Товарищи в конторах знают и любят Ваши песни.
Счастья Вам, Лидия, здоровья и новых выступлений. Радуйте нас еще! Пишу, наверное, от имени всех ленинградцев.
С уважением, Валерий»Внизу, там, где был оторван уголок, было написано еще что-то. Я разглядел только хвостик от какой-то буквы. Наверное, это была подпись, размашистая, с не менее размашистыми закорючками. Ничего интересного я не нашел и в этом письме. Письмо как письмо. Подумаешь, что странного в том, что какой-то мужчина пишет письмо с благодарностью приглянувшейся певице из ДК? Возможно, это были записки, которые он хотел ей передать, но по каким-то причинам не передал. Влюбиться в артистку, в этом нет ничего странного. Семейная реликвия! Да какая это семейная реликвия? Здесь ни фамилий, ни других подробностей, из которых можно понять, кто и кому писал. Хотя, что если этот Валерий и эта Лидия потом встретились, полюбили друг друга и поженились? Тогда эти письма могут быть им дороги как память. Но кто была та девушка? Родственница? Дочка?
Я ничего не понимал. В голову лезли лишь догадки, но мне вдруг захотелось все понять. Что заставило ту девушку, мою гостью, сначала избавиться от писем, а потом унижаться, просить, разыскивая их. Наконец, приехать ко мне, в мое отсутствие напроситься на ожидание и получить от меня такой грубый отпор. Она восприняла его на редкость спокойно, даже не предприняв попытки ответить мне тем же. Я вдруг сообразил, что все это может указывать лишь на одно обстоятельство: письма для нее действительно дороги. И вопрос совсем не в деньгах, раз она, не задумавшись, стала предлагать их мне.
Развернув лист с третьим письмом, я обратил внимание на то, что почерк заметно изменился. Писали явно не второпях, а спокойно, обстоятельно. Буквы не прыгали, чернила не расплывались. Даты на письме не было, но, взглянув на письма еще тогда, в первый раз, я сразу решил, что это последнее. Прочитав его, я понял, что не ошибся.
«Здравствуйте, Лидия, Лидочка!
Теперь Вы, конечно, не будете возражать, что Вас так называет совершенно посторонний человек. Но все равно надеюсь, что Вы мне это позволили бы.
Я не хочу верить в то, что произошло, что больше я Вас никогда не увижу и не услышу. Это огромная несправедливость, чудовищная. Теперь до боли жалко мне, что так и не передал Вам те записки, понадеявшись на то, что скажу все на словах. Но какие мне найти слова? Говорить — это не мое.
Я буду помнить Вас всегда, что бы ни случилось. Такие люди, как Вы, не забываются. Лучи света, гении. У меня больше нет слов. Этого не должно было произойти»
И подписи под письмом тоже не стояло. Я погрузился в раздумья. Что с ними могло случиться? Они расстались? Разошлись? Разъехались? Развелись? Ее или его родные были против, и они были вынуждены разорвать отношения?
Три письма лежали передо мной. Первое, с сильно расплывшимися буквами и пожелтевшей бумагой. Второе, с оторванным уголком, тоже с расплывшимися буквами и на той же пожелтевшей бумаге, тетрадном листке в линейку. И третье, на заметно менее пожелтевшем тетрадном листке, показавшееся мне тревожным и даже источающем боль.
Раскладывать мозаику чужих судеб вслепую и не обознаться, не натворить домыслов почти невозможно. Я прекрасно это понимал, но все равно принялся строить гипотезы. Итак, что получается. Она — певичка, не очень известная, но ее песни крутят по радио. Он — молодой закомплексованный инженер или служащий, человек явно интеллектуального труда. Он увидел ее на сцене. В следующий раз он пришел с букетом, подарил ей цветы. Так они и познакомились. А потом разошлись. Или просто обстоятельства сложились так, что они больше не были вместе.
Как страстному игроку, как историку или археологу, который пытается проверить свои догадки, мне вдруг стало жизненно необходимо докопаться до истины. Да и правда, какое право я имею на эти письма? Никакого. С формальной точки зрения все чисто, они продавались, я их купил вместе с книгой. Но с моральной все было отнюдь не так гладко.
Я полез в карман и достал бумажку с адресом той девушки. На чеке из магазина значилось: «Яблоки гольден», «Консервы рыбные скумбрия в/м», «Картофель, кг». Ничего примечательного. Это не визитка, где все и сразу, по крайней мере — имя, фамилия и телефон. На другой стороне был адрес, другой конец города.
Я лег, но успокоиться и погрузиться в сон не удавалось. Казалось, девушка никуда не уехала, она так и сидит на лестнице, стережет меня, чтобы я никуда не ушел с ее письмами. Она будет следовать за мной по пятам, предлагать деньги, умолять. А что мне останется сделать? Сдаться и вернуть письма? Я слаб, слишком слаб характером, чтобы успешно и безболезненно разрешать такие ситуации. Но она все равно просит, настаивает. И я почти уже согласился, протягиваю ей конверт с письмами — и проснулся в поту. Оказывается, засидевшись, я забыл открыть на ночь форточку из опасений, что меня после гриппа снова продует.
II
На учебе мне не сиделось. Дошло до того, что, забыв про лектора и про наукообразное сотрясение им воздуха, я разложил на столе перед собой письма и принялся их перечитывать и разглядывать. Хоть и сидел я на самом дальнем ряду, но все равно мои манипуляции были замечены преподавателем:
— Александр, на вашем месте я бы не любовными записочками занимался, а слушал внимательно и по учебнику разбирался. Курсовичок-то ваш тоже я еще не видел. Как говорится, а был ли мальчик?
Это был удар ниже пояса. По аудитории прокатился хохот, но я невозмутимо и не торопясь аккуратно сложил письма и убрал их в конверт. Этот старый скот доцент Федоренко был омерзителен, другого слова не найти. Слушать его внимательно! Ага, встрепенулся и слушаю. Если бы он сам себя послушал со стороны, то и ему захотелось бы закрыть уши и не слышать этого бреда. Мало того, что нес всякую чепуху, не относящуюся к делу, так, написав дрожащей старческой рукой на доске тему лекции, дойдя до своего стола, умудрялся эту тему забыть. Тогда он начинал рассуждать на общие темы до тех пор, пока не вспоминал тему лекции или, надев очки и обернувшись, не увидел ее на доске. Такие вот преподаватели отбивают всю охоту учиться.
Да и еще курсовик нужно было сдавать именно ему.
Промолчав, я про себя тогда подумал: «Плевать, сдам курсовик заведующему кафедрой, пусть и получу за него на балл ниже».
Едва дождавшись конца лекции, я вышел в коридор, забрался на подоконник, уселся на него и, зажав в руке бумажку с адресом, стал гадать. Дилемма была банальна: ехать или нет. Впрочем, было и еще одно — ехать сегодня же или отложить до лучших времен. Нетрудно догадаться, что я решил по всем этим пунктам. Все равно в таком состоянии для меня учебу трудно было назвать результативной.
Пожалуй, зря каникулы устраивают летом. По мне так самое время для этого — весна. Точнее, лето тоже нужно, можно позагорать, погреться на солнце, а сидеть в душных аудиториях и вовсе невыносимо. Но именно весна может дать молодым растущим организмам то, чего не дает лето или другое время года — чувство свободы и обновления, чувство надежды на лучшее и, наконец, влюбленности. Я не шучу, без влюбленности никак. Да и погулять под первыми солнечными лучами после затяжной зимы — это тоже любят многие, хоть и не всегда под гнетом дел могут себе это позволить.
Солнце играло на моем лице сквозь грязное стекло маршрутки. Хлопанье двери и крики водителя не давали погрузиться в дремотное состояние. Моя полубессонная ночь сыграла не последнюю роль в том, что я никак не мог сосредоточиться на чем-то действительно важном, например, о том, как не заехать дальше, чем это нужно, и не заблудиться в той части города, которую я почти не знаю.
Я уже совсем отчетливо представлял эту певицу и несчастного влюбленного инженера, который все не может найти в себе сил для того, чтобы просто подойти и подарить букет цветов. Гвоздики — сейчас это выглядит и звучит просто смешно. Интересно, какого цвета гвоздики тогда было принято дарить артистам после выступления? Пожалуй, белые. Красные — слишком пафосно. Он — худой, неуклюжий, в очках, нелепом мешковатом костюме, в стоптанных ботинках-тракторах. Она — с огромным начесом на голове, в платье-декольте. Хотя, нет, не в декольте, а в целомудренном, совершенно закрытом, без намека на откровенные разрезы где-либо. У нее поставленный голос, поет она либо оперетту, либо что-то подчеркнуто патриотическое, раз на ее выступления ходят товарищи из райкома и награждают ее бурными продолжительными аплодисментами. Эпоха молодости наших бабушек и дедушек представлялась мне неким фарсом, сотканным из идеологических штампов, пережитков культа личности и очередей за колбасой, шампунем и югославской обувью.
С чего-то взяв, что еду не туда, я вновь развернул бумажку с адресом. «Все верно, ошибиться не должен», — конечно, я подумал и о другой ошибке, но сразу же постарался эти мысли в себе убить. Никакой ошибки в том, чтобы вернуть письма, не было и быть не могло. Нужно было и как-то извиниться за свое поведение, но я решил, что эта девушка так обрадуется тому, что получит письма, что наша стычка у меня дома забудется и больше не вспомнится.
Сомнения — такая штука, которую трудно победить самовнушением и здравым смыслом. Трудно, но все же возможно. Отыскав нужный дом, я немного постоял перед ним на улице, вглядываясь в окна. Дом, как дом. Я рассматривал его, а сам думал о том, что сейчас, спустя несколько минут, все закончится. Сейчас я войду в дом, найду квартиру с тем номером, что указан на бумажке, позвоню в нее. Выйдет она, обрадуется тому, что я одумался и принес письма, волнуясь, у меня их возьмет, сошлется на занятость. И передо мной захлопнется не только дверь. Вся эта история, которая пока что как раскрытая книга, тоже захлопнется, и я так ничего и не узнаю.
Да, не хочу скрывать, да и ничего в этом страшного нет. Мной двигал азарт, любопытство, желание проверить, прав ли я, верны ли мои догадки. А желание извиниться за свое поведение, восстановить справедливость — было вторично. Но все же было, так что корить себя мне тогда было не за что.
И я принял решение, казавшееся мне единственно верным: отдать письма лишь в том случае, если она расскажет мне все как есть. В конце концов, это были мои письма, я заплатил за них деньги, купив вместе с книгой. А то, что они были написаны не мной, не моими родственниками и никакого отношения ко мне не имели, для меня значения не имело. Письма в пожелтевшем конверте — товар, вещь, которую я купил, а теперь хочу отдать, и это мое право.
Я долго звонил в дверь. Лишь когда я позвонил в третий раз и уже собирался спуститься вниз, к подъезду и посидеть на скамейке, за дверью послышались шаги, и кто-то крикнул: «Сейчас, иду, подождите». Я не понял, она ли эта или кто-то другой, но терпеливо ждал. За дверью что-то щелкнуло, меня разглядывали в глазок.
— Это вы, — удивленно сказала она, открыв дверь. — Я и не думала, что вы придете. Вы с письмами? Хотя, без них вы бы и не пришли.
— С письмами, — немного грубовато ответил я. — И хочу выяснить все, что меня интересует. Только потом я смогу вам их отдать, так сказать, обратно.
Она раскрыла дверь и сделала шаг назад.
— Проходите, — спокойно произнесла девушка, будто была уверена, что если я и решусь вернуть письма, то ей придется рассказать о них все.
На ней были темные джинсы и белая футболка с какими-то надписями. По дому она ходила босиком. Квартира была маленькой, однокомнатной, прекрасно отремонтированной, с новой мебелью. Повсюду в прихожей были маленькие безделушки вроде фарфоровых слоников и гравированных картинок с осенними пейзажами. Потолки высокие, я слышал эхо от своего же шороха и своих слов. На стене в рамке под стеклом висела небольшая бабочка. Было темно, и я толком так и не разглядел ее. Пока я снимал обувь и скидывал куртку, девушка торопливо закрыла дверь в комнату, очевидно не желая, чтобы я, гость явно нежданный, стал свидетелем беспорядка.
Мы прошли на кухню — крошечную, но уютную. На столике рядом с плитой стояла стеклянная кастрюля, а за ней в рамке фотография — моя новая знакомая рядом с немного грузным мужчиной и улыбающейся худенькой, коротко подстриженной женщиной. «Родители», — догадался я, взглянув на нее почти в упор. Она сидела рядом и, очевидно, уже приготовилась отвечать на мои вопросы.
— Зачем вам это все?
— Что именно? — не понял я.
— Знать всю нашу семейную историю? Зачем?
— Просто хочу проверить свои догадки, те гипотезы, которые я построил, пока читал письма. Знаете, все-таки хочется убедиться в своем умении разбираться в людях, — не без гордости заявил я.
Она несколько смутилась. Это было видно по ее рукам. Она перебирала пальцами быстро и нервно, а, заметив, что за этим наблюдаю я, просто сжала руки в кулаки. У нее были голубые глаза, светлые, чуть вьющиеся волосы и нос, слегка вздернутый кверху.
— И что вы там накопали? Как Шерлок Холмс, ей богу. Неужели из этих писем можно сделать какие-то выводы? Понять, кто и кому их написал?
Сомневаюсь.
— Ну, и зря, — невозмутимо ответил я, держа на коленях сумку, на дне которой, вложенные в какую-то из моих тетрадей с конспектами лежали письма в конверте.
Не скрывая своей гордости за построенные и логичные, как мне казалось умозаключения, я изложил свою версию. Девушка удивленно слушала. Когда я закончил, она улыбнулась и спросила:
— Чаю хотите? Да, вижу, что хотите, тем более что разговор предстоит долгий, — она встала и спокойно стала набирать воду в чайник. — Видите, я же говорила, что ничего вы не знаете и не понимаете из истории нашей семьи.
— Неужели я совсем не прав?
— Совсем не правы.
— А то, что они расстались? — почему-то мне казалось, что это место в моей гипотезе самое очевидное.
— И с этим тоже, — она вновь села напротив меня, облокотилась на стол и подперла голову руками. — Все в жизни гораздо сложнее, а вы воспринимаете все поверхностно. Я же еще тогда вам говорила, вчера, когда была у вас, что письма эти очень личные. А вы пытаетесь воспринимать все буквально. Но я рада, что вы пришли и вообще простите меня за вчерашнее вторжение. Понимаю, это было уже поздно вечером, не самое лучшее время для того, чтобы ходить в гости и к тому же что-то требовать.
Я поставил на колени сумку, открыл ее, отыскал конверт с письмами и положил на стол так, как будто это был счет, подаваемый официанту в каком-нибудь третьесортном кафе. Я терпеть не могу свой эгоизм, но с ним, к большому моему сожалению, мне так просто не совладать. Иногда он берет верх, обнажая мое альтер эго, которое я тщательным образом скрываю.
Она с осторожностью взяла конверт, вынула письма, развернула, рассмотрела и убрала обратно. Засвистел чайник, она встала. Загремели чашки, блюдца и ложки. А во мне вновь проснулось желание не отдавать письма даже за рассказ о том, как обстояли дела на самом деле. Но это желание я в себе подавил, растоптал его к чертовой матери, потому что это было бы уже верхом подлости — дать надежду, согласиться, и тут же передумать.
— Вы не стесняйтесь, это пахлава, я сама пекла, — она подвинула ко мне чашку с чаем и вазочку с аккуратно сложенным башенкой печеньем. — Ваши выводы, может, и логичны, но с жизнью имеют мало общего. Вы думаете, что отношения между людьми просты? Нет, это далеко не так. Вроде как встретились, понравились друг другу, побыли вместе, друг другу надоели и разошлись? Это в сериалах так, а не в жизни.
— Тогда рассказывайте, — сказал я. — Все как было рассказывайте, раз я такой дурак и ничего не понимаю в колбасных обрезках.
— Зачем вы так себя? Я и не собиралась в вас сомневаться, в том, что вы умеете разбираться во всяких таких историях. Просто это история не совсем обычная, этим все и объясняется.
— Я весь во внимании.
Откинувшись на спинку стула, я жаждал рассказа. Мне казалось, что это будет нечто из ряда вон выходящее, триллер с продолжением, с острыми поворотами и мелодраматической начинкой. Поэтому я посматривал на свою собеседницу так, будто в любой момент расхохочусь. Но этого не случилось. Мне даже больно вспоминать этот свой эгоистичный настрой, осознавать свою наивность. Но лучше поздно, чем никогда понять это, чтобы больше не повторять никогда. Она пропустила мимо ушей все мои издевательские намеки и, вздохнув, стала рассказывать, неторопливо, вспоминая детали, услышанные с чужих слов. Очень может быть, что она впервые собирала всю эту историю воедино и сама удивлялась ей.
— Моего дедушки не стало полтора года назад. Он был необыкновенным человеком, был знаком со многими известными людьми, интересовался театром, музыкой, хотя сам всю жизнь, почти до последних дней проработал учителем в школе, а параллельно еще и в институте. Учил детей биологии.
— Так вот откуда у него Трояновский! — воскликнул я и ударил себя рукой по лбу. — Как же я не догадался! Конечно, у кого еще может быть Трояновский!
— Кто? — переспросила моя собеседница.
— Неважно, — отдышавшись, ответил я. — Автор той книги, которую я купил, в которую были вложены письма.
— А-а-а, — понимающе протянула она и продолжила. — Он был увлекающимся человеком. Ну, знаете, бывают такие, которые чем-то увлекутся и все, считай, пропало, не оттащить и не отвлечь чем-то другим. Так было и с ним. Он помнил Лиду совсем маленькой девочкой, они здесь жили, совсем недалеко, на Подольской улице. Правда, мне так говорил дедушка. Прошла война, блокада. Ее семья дедушки провела в городе. А потом все закрутилось очень стремительно. У него были друзья в электротехническом институте, они вместе устраивали всякие вечера, посиделки. Дед участвовал, хотя потом перестал, приходил только смотреть. Просто времени не хватало.
Когда вернулся после армии, то пошел навестить друзей, стал снова ходить на все эти капустники.
— Вы говорите, что ваш дедушка был учителем биологии. Но как? В письме он пишет, что тоже учился в ЛЭТИ. Или я снова что-то напутал? — мои руки потянулись к конверту, чтобы достать письмо и еще раз перечитать, но я сделал над собой усилие и вместо этого потянулся к чашке с чаем.
— Надо же, — удивилась она. — Вы запомнили такие детали. Он туда поступил, были какие-то проблемы со здоровьем, лечился. Как долечился, почти ушел в армию, а когда вернулся, то передумал, и как-то сдав экзамены, поступил на биологический, сразу на второй курс. Так вот, на одном из вечеров он увидел Лиду. Он не строил никаких иллюзий, она уже была замужем и ждала ребенка, работала то ли на заводе, то ли в какой-то строительной организации, собиралась в декрет. Короче говоря, обычная биография обычной девушки. В послевоенном Ленинграде таких девушек были не то, что десятки, наверное, сотни. Днем где-то работали, кое-как сводили концы с концами, тянули семьи, а по вечерам пели, танцевали, ставили спектакли. Нам с вами этого не понять.
Я одобрительно покачал головой, мол, не понять. Хотя, чего тут непонятного? Сейчас многие занимаются тем же. Просто все поменялось, как-то ускорилось, усложнилось. Мы оставляем простые человеческие радости, находя их банальными, даже в чем-то вульгарными. Их место занимают другие увлечения. Одни прыгают с парашютом, другие играют в политику и стоят с одиночными пикетами вдоль трасс, по которым из аэропорта в своих кортежах должны пронестись сильные мира сего. Кто-то покупает пива, сигарет и весь вечер играет в какую-нибудь стрелялку на компьютере. Каждому свое.
— Мой дедушка совсем потерял голову, хотя и сам только-только женился. Человек он был крайне порядочный и не дал этому своему увлечению разрушить семью. Только стал следить за выступлениями Лиды, старался не пропускать ее концерты, когда она, выйдя из декрета, стала выступать уже довольно часто.
— И в кафе «Север»? — спросил я. — Даже не знаю, где оно находится.
— На Невском. Оно и сейчас есть, только уже совсем не то. Мы с дедушкой ходили туда, пили кофе с пирожными, он мне рассказывал всю эту историю по второму или третьему разу, я не помню. Дедушка был прекрасным рассказчиком, я его заслушивалась. А, может, просто маленькая еще была. Так что мой дедушка был фанатом Лидии, если это можно так назвать. Тогда не было принято фанатеть. Свой восторг выражали аплодисментами, открытками, цветами. Все было как-то совсем уж сдержанно. Я бы так не смогла жить, наверное.
— И что было дальше?
— Дальше? Да ничего особенного. Работал себе, читал, ходил по концертам и по выставкам. В основном один, бабушка моя совсем другая, она домоседка.
В конце концов, дедушка решил написать Лиде небольшую записку и передать ее на очередном концерте. По своей скромности записку он, конечно, не передал, она так и осталась лежать дома.
— А как фамилия этой самой певицы, этой Лидии? — я вдруг опомнился, что не знаю самого главного. Мне стало обидно, что я, сам того не замечая, заслушался. «Вот растяпа, уже забыл, зачем пришел», — упрекнул я себя где-то в глубине души.
— Ой, а я не сказала разве? — моя собеседница даже немного покраснела, — Клемент, Лидия Клемент. Может, слышали?
— Неа, — огорченно процедил я сквозь зубы и отглотнул чаю.
— Жаль, — вздохнула она, — впрочем, откуда вы бы о ней услышали, сейчас ее уже мало кто помнит. Даже моего дедушки уже нет, чего уж там говорить о других.
— Сочувствую, — мне было действительно жаль, тут уже безо всякого притворства, — А зачем ваш дедушка написал второе письмо, раз первое так и осталось неотправленным?
— Не знаю. Наверное, решил, что уж на этот-то раз он обязательно передаст записку вместе с букетом цветов после очередного ее выступления. Но так и не передал. А, может, не пошел на концерт. Моя бабушка тогда, кажется, ждала мою маму. Им нужны были деньги, и дедушка подрабатывал, давал частные уроки. Тогда ведь это запрещено было, но ничего не поделаешь. И вот когда однажды дедушки не было дома, а бабушка делала уборку, она наткнулась на письма. Когда дедушка вернулся домой, то бабушка закатила ему такой скандал, что даже страшно себе представить! Дедушка рассказывал, что она в ярости трясла у него перед носом этими письмами. А он прикрикнул на нее и с силой вырвал эти письма у нее из рук.
— И именно поэтому у одного из писем оторван уголок? — предчувствуя положительный ответ на свой вопрос, я щелкнул пальцами. — Да, про Шерлока Холмса вы не зря вспомнили, это один из моих учителей!
— Не сомневаюсь! Все именно так и было.
— Интересно, а как ваша бабушка позволила ему написать третье письмо? — я спрашивал, улыбаясь, предвкушая, что услышу что-то комическое.
Но она почти сразу сделалась серьезной, такой, какой была, когда выслушивала от меня всякие нелицеприятные вещи, сидя на стуле на кухне. Наверное, я буду всю жизнь себя ругать за тот случай и свое поведение. Но что было, то было, назад не воротишь.
— Позволила, — грустно ответила моя собеседница, — потому что уже ничего было не изменить и, кроме того, бабушка чувствовала себя немного виноватой.
— За что? — воскликнул я.
— За то, все за то. Знаете, эта история тогда шокировала Ленинград. Бабушка рассказывала, что отойти не могли месяц, если не больше. И бабушка сама просила у дедушки прощения за скандал, за то, что она отругала его за письма. Наверное, вы слышали…
— О чем? — спросил я.
Она явно рассчитывала на то, что я знаю подробности, и ей не придется их мне пересказывать, что каким-то образом удастся перешагнуть этот эпизод. Но я не знал ничего. Впрочем, я даже не представлял, что я могу знать такого, что бы касалось истории этой семьи. Мозаика из обрывочных фактов никак не складывалась у меня в цепочку причинно-следственных связей, в которых было бы легко разобраться. Я не искал легких путей, не рассчитывал, что мне не придется приложить каких-то умственных усилий, чтобы понять причины появления этих трех писем. Но даже с таким настроем я не ожидал, что то, что скажет мне эта едва знакомая мне девушка, произведет на меня такое впечатление.
— О том, все о том… — чувствовалось, что она не знает, с чего начать рассказ и восстанавливает в памяти отдельные его детали. — Лидия выступала совсем недолго, год или полтора. Прошло совсем немного времени после того скандала с письмами. Было лето, концертный сезон закончился. Мне дедушка не говорил некоторых вещей, о многом я лишь догадываться могу. У Лидии были на ногах родинки, и одну из них она случайно повредила, расковыряла. Кто-то рассказывал дедушке, что она сразу поняла, что случится нечто страшное, что она заболеет. Поначалу болезнь тянулась, никак себя не проявляла. Но это было только внешне. В начале шестьдесят четвертого Лиде стало хуже, ее положили в больницу. В то лето была дикая жара, все веселились, гуляли, отдыхали. А в это время она умирала, ее силы таяли. Это была скоротечная саркома. Она даже не боролась, плакала, когда никто не видел, потому что знала, что это конец. Она еще пела, старалась успеть на какие-то съемки. Но обострение продолжалось недолго, совсем недолго. И она сдалась.
Я почувствовал в горле комок. Пытался что-то спросить, как-то поддержать беседу, но не мог. Комок подступал, становилось тяжело дышать. И если бы я не откашлялся, то точно бы поддался эмоциям.
«Нет, этого не может быть, они просто расстались. И каждый из них жил долго и счастливо. Нет! Такого не бывает. Как это могло случиться? Почему ей не помогли? Не помогли… Не спасли… Ясно… Что-то нужно сказать. Я не могу так сидеть и молчать».
— Сколько ей было?
— Двадцать шесть, — грустно ответила она и подняла глаза в потолок, должно быть, и у нее выступили слезы, и она просто не хотела мне их показывать. — Дедушка ходил на прощание с ней в Театр эстрады, потом на похороны. Цветов было море. Все просто молчали и плакали. Не потому, что это была горечь утраты, когда умирает близкий и родной человек и происходит это внезапно, так, что никто не успевает морально подготовиться и что-то осознать. Так получается, что уходят самые молодые и самые талантливые. Те, которым еще жить и жить, у которых потрясающие перспективы, признание. Дедушка сокрушался, что Лида не дала ни одного собственного концерта или отделения. Это были одна или две песни в программах и вечерах. И все. Но вы понимаете, надеюсь, как она пела, раз мой дедушка, да и не только он, не мог забыть ее всю жизнь. Даже бабушка смирилась. Кстати, все то, о чем я вам постаралась рассказать как можно более подробно, у нашей семьи, что называется, в крови, ведь через два месяца после того, как умерла Лидия, родилась моя мама.
— И ее назвали Лидией? — наивно спросил я.
Это была моя новая догадка, появившаяся буквально с ходу и казавшаяся мне абсолютно верной, если то, о чем мне рассказала Лида, действительно имело место.
— Нет, совсем нет, — она, наконец, улыбнулась. — Мою маму зовут Татьяна, Татьяна Валерьевна.
— Простите, простите меня, пожалуйста, — спохватился я и занервничал, даже пытался встать из-за стола, но задел скатерть, она сдвинулась, и ложка чуть не упала на пол. — Я же даже не спросил, как вас зовут. Общаемся все это время не по-человечески. И нет, чтобы вам мне замечание сделать. Вы же знаете мое имя, меня зовут Александр.
— Очень приятно, — она протянула руку и пожала мою. — И давай будем на ты. Сама сижу и только и думаю, как бы случайно не назвать тебя на ты без разрешения. Идет?
— Идет, — улыбнулся я.
— А меня зовут Лидией. Можно просто Лида.
Я плохо помню, что было со мной после того, как она произнесла вслух свое имя и я медленно, будто боясь позабыть, проговорил его про себя: «Лидия, можно просто Лида». Вся история ее семьи, вся трагедия и сила духа, победа жизни над смертью стали для меня очевидными, теперь они касались и меня. Я даже подумал, что никогда ни в какой книге и ни в каком фильме не прочел бы и не увидел бы такой истории, таких судеб.
В очередной раз я подивился проницательности и предусмотрительности дяди Семы и книги были здесь совершенно не причем. Ведь если бы он просто взял и выбросил конверт с письмами как ненужный мусор, то ничего бы не случилось — ни со мной, ни с Лидой. Может, он где-то в глубине своего подсознания, бегло проглядев письма, понял их истинную ценность, такой вариант тоже исключать было нельзя. Кто знает, может быть, поэтому он так хитро улыбался и так настойчиво говорил об этих письмах, когда я дрожавшими от радости и волнения руками пролистывал страницы книги, пропуская часть его слов мимо ушей. Все-таки опыт торговли на рынке, да и еще таким специфическим товаром, как старые книги, не потеряешь и не пропьешь, если дядя Сема вообще питал слабость к алкоголю.
Промямлив что-то о том, что уже поздно и мне нужно идти, я засобирался. Лида заулыбалась.
— Я сегодня утром сходила и сделала-таки новый номер для телефона. Давай запишу в твой телефон, мало ли что, — сказала она.
— Мне негде записать, — признался я. Мне было как-то неловко, душно, что-то тянуло побыстрее вырваться из этой квартиры на свежий воздух и немного прогуляться. Тяжело было и ощущать на себе взгляд Лиды после всего того, что я устроил накануне и всех моих едких фразочек перед тем, как я узнал всю историю.
— Тогда диктуй свой номер, я тебя наберу, и у тебя останется мой номер, — Лида совсем по-простецки достала из кармана телефон, и мне не оставалось ничего, как, сбиваясь, продиктовать свой номер. Из моей сумки донеслось противное жужжание. — Ну вот, если что, звони, может, я еще что-нибудь вспомню и расскажу тебе. Вижу, что ты удивлен. Мне и бабушка моя говорит, что по истории нашей семьи когда-нибудь обязательно кино снимут. Саша, может, режиссером фильма будешь именно ты?
— Я? Да я совсем не гуманитарий, я книжный червяк, страшный зануда, измученный формальной логикой! Какое кино, ты смеешься?
— Значит и кино будет занудным, каким-нибудь документальным, — Лида, видя, что я уже стою в прихожей и натягиваю ботинки, спохватилась. — Так, я тебя никуда не отпущу без своей пахлавы. И не думай отказываться, никаких отказов я не принимаю. Будешь вечером пить чай и вспоминать обо мне. И соседку свою угости, такую прекрасную женщину, которая пустила меня посидеть, дождаться тебя.
— Но ты пекла ее для себя!
— Себе я еще напеку, Саша. А это пусть тебе будет за тот путь, который ты проделал сюда с другого конца города. А соседке привет.
— Передам, — вздохнул я, беря в руки бумажный сверток с ароматным печеньем. Оно было еще теплым. Сверток никак не хотел помещаться в сумку. Лида всплеснула руками, сбегала на кухню и вернулась с белым пакетом. В это время, вытянув шею, изогнувшись, чтобы не натоптать своими пыльными кроссовками, я в последний раз бросил взгляд на конверт с письмами, оставшийся на кухонном столе.
Наконец, я собрался и стоял в дверях. Это было нелепо. Я не знал, что сказать Лиде. Скажи я прощай — и это означало бы, что я продолжаю ерничать, что мне не понравилось ее общество, эти несколько часов, ее вкуснейшее печенье. Сказать: «До свидания»? И тем признать то, что надеюсь на новую встречу? Что эта встреча будет иметь какое-то продолжение? Должно быть, Лида поняла, к чему было мое молчание.
— Береги себя, — сказала мне она и пожала мне руку. — Звони обязательно. И спасибо за письма. Оказывается, есть еще порядочные люди.
— Угу, — пробурчал я.
Едва за мной закрылась дверь — и мне вновь захотелось вернуться обратно и побыть рядом еще с Лидой… Почему-то мне казалось, что та Лида, певица, и Лида, которой я вернул письма, были во многом похожи. И даже больше — были одним и тем же человеком.
«Сколько Лиде? Она старше меня, это видно и чувствуется. Лет двадцать пять, наверное, почти столько же, сколько было Лиде, от которой сходил с ума ее дед. Интересно, будь такое сейчас, в наши дни, ее дед не бросил бы жену ради нового романа? Сложно сказать. Это ведь от людей во многом зависит. Да и ее бабушка, она же не выгнала тогда его из дома, а поняла, смирилась. Ничего не понимаю во всем этом. Чем больше думаю, тем более фантастической все это мне представляется. Не напридумывала ли эта девчонка чего, чтобы просто удивить и разжалобить меня? Может, считала, что иначе я письма бы не вернул? Вернул бы, на кой мне они сдались. Вспомнить бы, как была фамилия той певицы… Клемент. Да, точно, Клемент».
Спешить было некуда. Это перед Лидой я разыгрывал спектакль о том, что я тороплюсь. Наверное, она все поняла и не обиделась. Теплый вечерний воздух приятно щекотал лицо. После душной квартиры ощущать простор и свободу было опьяняюще заманчивым. Я просто шел — по той дороге, где меньше народа, чтобы не мешать прохожим и не раздражать их своей медлительностью и шатанием из стороны в сторону. Мой стиль ходьбы явно не подходит для больших улиц и магистралей. По ним лучше уж ездить в транспорте, чем ходить пешком.
Надпись «Подольская улица» на указателе заставила меня встрепенуться. Вокруг меня были старые дома, узкие проезды с потрескавшимся асфальтом. Три дома позади меня и через улицу, напротив были какие-то затрапезные магазины с еще советскими деревянными витринами. А может это были кафе? Наверное, окажись я там лет тридцать или сорок назад, то застал бы все ту же картину. Только было бы меньше мусора, да и белые исполинские ящики кондиционеров не выглядывали бы и не свисали бы со стен, напоминая о том, какая на дворе эпоха.
«Я хочу зайти, сейчас же, зайти и посмотреть, что там, — решил я и дернул на себя дверь первой же парадной, которая оказалась открытой, несмотря на кодовый замок. — Никогда не был в таких местах».
Я поднялся по лестнице на второй этаж. Стены были выкрашены в грязно-зеленый цвет. Пахло кошками. Я зажмурил глаза: послышались задорные голоса, приглушенно звучала музыка, какой-то военный марш. На площадке вокруг меня стояли детские трехколесные велосипеды, большие коляски, какие-то сумки. Пахло жареной картошкой, щедро приправленной луком.
— Чего надо? — грубый мужской оклик заставил меня выйти из дремотного состояния. — Если срать, то это к нам. Выходите и идите в сквер. Там и выпить можно, и кусты рядом. Слышите меня? Участковый живет этажом выше. Слышите? Я видел в глазок, вы тут стоите уже пятнадцать минут. Наркоманам мы тоже не рады. Слышите вы меня или нет?
Конечно, я все слышал, только мне хотелось постоять еще недолго, чуть-чуть. В тот момент, когда на меня стали орать, все исчезло, испарилось — и голоса, и музыка, и коляски с велосипедами. Жареной с луком картошкой пахло уже не так аппетитно, а, напротив, тяжело и тошнотворно. Чуть приоткрыв дверь, на меня смотрел небритый тощий старик в растянутой майке. Одной рукой он держался за косяк двери, другой — за замок, чтобы в случае чего быстро ретироваться. Что поделать, наш народ научен горьким опытом ведения самообороны со всякими асоциальными типами. Спасение утопающих — дело самих утопающих.
— Извините, — сказал я, зачем-то ощупывая пакет с печеньем. — Я просто зашел сюда… посмотреть. Я не собирался гадить, или еще чего-то тут делать. Просто посмотреть.
— Наводчик, значит. Да если я тебя еще раз увижу, то сразу позову участкового! Да ты даже не представляешь, что…
Я не стал дослушивать старческие бредни, просто быстро, почти бегом скользнул по ступеням лестницы, открыл скрипучую тяжелую дверь и, выскочив, чуть не сбил какую-то девочку, которая заходила в подъезд. Вряд ли я выглядел наркоманом или тем, кто может зайти и сделать свое черное дело под чьей-то дверью на коврике. Просто так повелось в последнее время — если кто-нибудь долго стоит в чужом подъезде, не собираясь идти к кому-то в гости, то это почти стопроцентно подозрительный тип, которого нужно выпроводить и как можно скорее.
Что осталось в Петербурге от Ленинграда? Очень немногое, до боли немногое. Ушла чистота, интеллигентность, необъяснимый человеческий оптимизм, который и дал возможность случиться той истории, что не выходила у меня из головы. Это были люди, то поколение, которого сейчас уже нет. Судьбы, которые корнями вросли в судьбу города. Что видели люди? Сложности, тяжелую работу, нищету, из которой и по сей день не могут вырваться. Но они были счастливы, счастливы настолько, что готовы были делиться этим счастьем и не обращать на остальное внимания. Они были любимы и любили, умели прощать ради любви. И находили способы забыть про суету и проблемы, пойти в кафе или в театр, на спектакль или на концерт. Удивительные люди. Что-то подобное я чувствовал и в общении с Лидой. Она прощала мне все мои резкости на протяжении всего вечера. И не потому, что я принес письма. Даже если бы я пришел без них, меня ждал бы такой же добродушный прием, в этом я нисколько не сомневаюсь.
Если совсем честно, то я застал от Ленинграда крупицы. Это было мое неосознанное детство. Зато осознанная петербургская юность почему-то заставила меня утвердиться в мысли, что так — а имею в виду я все то, что окружает и сопровождает каждый день — жить совсем не радостно.
Я снова шел, высоко запрокидывая голову и осматривая дома с покосившимися балконами, из углов которых тут и там прорастали маленькие березки и ивы. Стены местами были покрыты лишайником и, зная, насколько долго он растет и покрывает столь обширные площади, я заключил, что, вероятно, только он из всего живого был свидетелем событий, о которых рассказала мне Лида.
Какая она была, эта Лидия… все время забываю ее фамилию… Клемент? Она не могла быть яркой и эффектной, это просто исключено — такое могло быть где угодно, только не в Ленинграде. И вряд ли она была зазнавшейся звездой. С зазнавшимися, замешанными в чем-то грязном, копающимися в чужом грязном белье и не замечающим за этим своей ничтожности, такого никогда не происходит. Я не про смерть, я про другое.
На стихийном рынке у метро, несмотря на поздний вечер, было много народу. Сколько таких стихийных рынков с непонятными продуктами и непонятными продавцами. Это не тот, что за железной дорогой, где дядя Сема колдует, словно джинн, над своими коробками с книгами. Торговали турецкой клубникой, огромной, перезревшей, выдавая ее за местную. Тут же на лотке были ананасы, здоровенные, кормовые. Продавали даже не на вес, а поштучно, причем цена не за штуку, а сразу за три. Грязная продавщица громко сморкалась в рукав, не обращая внимания на собравшуюся у лотка толпу.
«Как это все противно, — подумал я, — неужели люди сами не видят, что все то же самое можно купить в соседнем большом магазине, в относительной чистоте и не на весах с кривой стрелкой, без чихающих и кашляющих, грязных, словно дорожные рабочие, продавцов?»
Мне вдруг захотелось стать чище — во всех смыслах этого слова, и внешне, и внутренне. Та Лидия, в честь которой назвали Лиду, и которая свела с ума ее дедушку, просто не могла… Нет, она была из другого города, которого уже нет. Из Ленинграда.
«Теперь я понимаю, что такое исчезнувшие цивилизации, которые оставляют после себя пласты материальной культуры и культуру духовную».
Я снова подумал о Лиде и принялся ощупывать пакет с печеньем. Все было в порядке, печенье оказалось на месте. Пахнуло корюшкой, пьянящим огуречным ароматом. Я вдохнул его полной грудью. Пожалуй, это одно, что осталось в Петербурге от Ленинграда. Подошла моя маршрутка. Она долго стояла на остановке. Водитель по обыкновению ожидал, что в салон набьется побольше людей — каждый думает о кошельке, ничего в том странного. Но садиться в маршрутку никто не спешил. Мы так и поехали: водитель, размышлявший о чем-то своем и поглядывавший, нет ли на остановках потенциальных пассажиров, и я, прислонившийся лицом к стеклу и представляющий себя рядом с Лидой. Я боялся признаться себе в том, что влюбился. Я это понял сразу, со мной уже такое бывало, только чтобы все складывалось столь стремительно — никогда. Вот и я тогда взял и забыл об этом, усилием воли, холодным расчетливым рассудком.
Оставшаяся часть вечера и половина ночи прошли за курсовиком. Я хорошо понимал, что пока я его не доделаю и не сдам, Федоренко так и будет надо мной издеваться при всех. И все будут смеяться, несмотря на то, что половина из них и сами не сдали курсовики и даже не собираются до конца семестра это делать. Почему всегда так получается, что с тех, кто хоть что-то делает, двойной спрос, а лентяи так и продолжают себе жить припеваючи. Или рыбак рыбака видит издалека: Федоренко и сам такой?
Как и обещал Лиде, я передал привет и благодарность соседке. Соседка ехидно улыбнулась и ничего мне не сказала. «И не надо, — решил я. — Промолчать иногда тоже бывает хорошо, во всяком случае, это не наговорить гадостей, как Федоренко».
Единственное, что напоминало мне о Лиде, это запах печенья. Сверток лежал на столе, но я решил, что пока не допишу курсовик, к нему не притронусь.
Не поставив перед собой такого условия, я рисковал удариться в раздумья и потратить время совершенно нерационально. Через три часа копания в книгах, бумагах и ксерокопиях журнальных статей все было готово. От бешеной партии, сыгранной на клавиатуре компьютера, побаливали косточки на пальцах.
Поглощая испеченное Лидой печенье, я с гордостью заметил, что за день сделал три важных дела: вернул письма, узнал для себя много нового и закончил этот чертов курсовик. Пожалуй, тот день был одним из самых продуктивных в моей жизни. Пафосные слова, но других на ум как ни странно не пришло.
III
С утра я распечатал курсовую работу, подшил ее в первую попавшуюся под руку папку и перед лекцией демонстративно положил на стол перед Федоренко. Он посмотрел на меня, но промолчал, видимо, сказать было нечего. Разыграв эту сцену, я уже беспрепятственно мог пребывать в своих делах и раздумьях, упрекнуть меня было не в чем. Кто знает, может, в такой же ситуации был и дедушка Лиды, в мыслях у которого была не одна только учеба.
Умереть в двадцать шесть. Нет, этого не может быть просто потому, что не может. Я задавался вопросом, почему тогда это не возведено в культ, не воспето, не пересказано в псевдолегендах на западный манер? Я слышал о «Клубе 27». Заблудившийся в порошках и таблетках Курт Кобейн, не рассчитавшая дозу в попытках заглушить депрессию Дженис Джоплин, героически захлебнувшийся в собственной блевотине Джимми Хендрикс. Их пороки стали способом прославления, творчество и гениальность подчас перед ними отступают. А Лида? С ней совсем другое. Чем тише умираешь, тем меньше шансов, что о тебе вспомнят, что тебя будут обожествлять последующие поколения, бунтарские и совсем непохожие на предыдущие. Покойся с миром, мир о тебе забыл.
Все эти не совсем здоровые мысли мной завладели настолько сильно, что я не услышал, как в моей сумке зазвонил телефон. Все слышали, даже Федоренко, а я не слышал. Закон подлости: все из ряда вон выходящие происшествия со мной случаются как раз в тот момент, когда он ведет занятие, и, напрягая память, пытается изложить хоть что-нибудь дельное.
— Ну, что на этот раз? — под общий гогот смачно процедил Федоренко, улыбаясь и демонстрируя блеск серебряных зубных коронок.
— Извините, — это единственное, что я мог сказать, открывая сумку и отыскивая в ней телефон.
Я сбросил звонок. Все стихло. Федоренко успокоился и углубился в свои пустые размышления о наследственности.
«Незнакомый номер, кто это мог быть? — спросил я у себя и машинально хлопнул себя ладонью по лбу. Согласен, привычка, с которой нужно бороться, — Лида!»
— Что? Уже хлещешь себя? Стыдно стало? — Федоренко будто следил за мной, за каждым моим движением. — Или сдал курсовик и радуешься? Ну, посмотрим, и не таких обламывали.
«Пошел ты…», — мысленно послал я его, а сам заулыбался. Говорят, если на тебя орет и не может остановиться какой-нибудь шизофреник, то нужно прореагировать тоже как-нибудь не совсем адекватно, по-идиотски улыбнуться или показать язык.
«Привет. Я на лекции, потом на работу», — настрочил я в смс-сообщении.
«А я песни Лидии Клемент хотела тебе дать послушать», — почти сразу пришел ответ.
«Освобожусь в 7. Наверное, поздно».
«Нет, не поздно. Вчера надо было тебе песни поставить, не сообразила. Приходи».
Я поспешил спрятать телефон обратно в сумку, пока Федоренко снова не выкинул что-нибудь.
«А ведь действительно я сглупил, что не спросил у нее вчера про песни и сам не поискал. Да и фотографии. А ведь собирался, пока ехал домой. Какая глупость! Это лучше, чем шляться по парадным, где тебя принимают за конченого наркомана. О чем угодно думаю, только не о том, что нужно. Хотя, зачем к ней идти только за этим? Ехать далеко. Но… нет, не могу отказать, она же сама позвонила, написала, попросила. Буду на рынке, дяде Семе пирожок или пиццу в ларьке куплю, а пока будем поедать, расскажу, что приключилось со мной благодаря письмам. Не поверит, точно не поверит. Решит, что придумываю».
В тот вечер работал я усерднее обычного, управился за полтора часа с тем, что не разгребал и за все три. Заказов было на удивление мало. Или офисы перестали закупать канцтовары и ушли в виртуальное пространство, или та контора, в которой я подрабатывал, дышала на ладан. Впрочем, одно другому вряд ли могло мешать. Ничего личного, меня интересовали только деньги. Пока на меня не жаловались и исправно платили, меня все устраивало. Упаковав два десятка заказов в большие пакеты и прикрепив к ним ярлыки с номерами, суммами и адресами, я попросил разрешения уйти пораньше.
— Иди, Саша, не буду тебя держать. Завтра можешь не приходить. Жду тебя в субботу с утра, у нас наконец-то большие заказы, за завтрашний день оплатят, будем комплектовать, — начальник вертел в руках разогнутую канцелярскую скрепку. — Заказы есть, а работать некому.
— Ничего, справимся, — уверенно сказал я. — Меньше народа, больше кислорода.
Мысль о том, что я услышу как пела Лидия и пойму, наконец, в чем ее секрет, подстегивала меня. Я мечтал посмотреть и на ее фотографии, которые поленился разыскать сам. Или просто не подумал, что это возможно проверить — все, о чем мне говорила Лида, и что я воспринимал совсем не разумом. Для меня это уже был вопрос веры — верить или нет. И я верил. Как не верить в простые и понятные письма, короткие, искренние. Тем более после того как Лида просветила меня насчет них. Занятное ощущение: чувствовать, что ты причастен к семейной почти что тайне. Только Лида, ее семья и я. Тогда это чувство не давало мне покоя. Оно воодушевляло настолько, что я не замечал ни своей усталости, ни проблем, ничего того, что могло бы мне помешать.
— Здравствуй! — Лида открыла дверь, держа в руках какое-то кухонное полотенце. — А ты раньше, чем писал.
— Я не вовремя?
— Я этого не говорила, — немного обиделась она, отступила назад и спешно осмотрела себя в зеркало. — Как раз у меня все готово.
— Не голоден я, — конечно, я упрямился, и, снимая обувь, пытался выглядеть как можно более сурово и уверенно, но на нее, казалось, это не действовало.
— Я пришел песни послушать.
— Не верю, что не голоден. Раз не голоден, то и я пошутила насчет песен. И не знаю ничего. И фотографий не покажу. И не расскажу тебе ничего.
Она говорила весело, явно стараясь меня раззадорить и рассмешить. Я не понимал таких шуток, они меня раздражали не меньше, чем выходки и колкости от Федоренко, преследовавшего меня второй год подряд. Хорошо, что Лида вовремя это поняла. У меня не хватило бы сил это объяснить человеку, которого я видел в третий раз в жизни. Зачем я упрямился, грубил и все это устраивал? Сложно сказать, такой характер, и сам себе удивляюсь. Причем это у меня в основном по отношению к людям, которые никоим образом не желают мне зла. Одна надежда на их понимание и терпение.
У стены вздрагивал холодильник, высокий, почти до потолка, утыканный, как новогодняя елка, магнитиками. Мы почему-то какое-то время просто сидели и молчали. Закончилось все тем, что она поставила передо мной чашку с чаем, а сама отправилась в комнату и вернулась с маленьким ноутбуком — белым, с наклейками в виде серебряных цветочков, типично женская игрушка. Вместе с ноутбуком ею была принесена и сложенная вчетверо газета. Лида аккуратно развернула ее и достала две черно-белых фотографии.
— Вот таким был мой дедушка в молодости, — сказала она. — Хотя и в старости он был ничего себе такой и изменился мало, разве что поседел немного.
Тот, кого я представлял себе закомплексованным интеллигентом, неожиданно оказался щеголеватым типом с зачесанными назад волосами, прямым носом и большими глазами, под которыми даже на старых фотографиях можно было разглядеть едва наметившиеся мешки. Меня уже не задевало то, что мои умозаключения оказались мало что имеющими общего с действительностью.
— Нет, у тебя точно глаза дедушкины, — сказал я Лиде, возвращая фотографии. — И нос похож. А ее фото…
— Смотри, — она открыла ноутбук и пару раз ткнула пальцем по клавиатуре. — Вот Лидия Клемент, по-моему, она была очень симпатичной девушкой. И моего дедушку ты должен понять, потому что мне это сложно сделать.
На монитор падал блик, мне пришлось развернуть его к себе. Снова получилось как-то грубо, будто бы я вырываю у Лиды из рук ее компьютер и нагло тяну к себе. Хотя, она никакого внимания на это не обратила. Я сидел и всматривался в экран. На черно-белой фотографии была запечатлена совершенно обычная девушка, улыбчивая, с открытым, приветливым лицом и немного старомодной стрижкой. Впрочем, если бы фотография была не черно-белой, а цветной, то ни о какой старомодности у меня мысль и не мелькнула бы.
— Вот еще, — Лида повернула ноутбук к себе, ткнула клавишу и повернула его обратно. — Фотографий мало, у дедушки была страничка из какого-то журнала, но она давно потерялась, когда мы перебирали его книги и вещи, то не нашли. Как она тебе?
— Симпатичная, — ответил я и это единственное, что пришло мне на ум из честного и искреннего.
— И все? — Лида повернула ноутбук обратно к себе. — Я думала, она на тебя произведет впечатление. Все-таки ты не просто так вчера приехал и вернул письма. Значит, тебя зацепило, а если зацепило, то…
— Знаешь, цепляет-то не внешность. То есть внешность тоже важна. Но и остальное. Вот подумай, какая-нибудь супермодель, все мужики на нее пялятся и не могут ничего с собой поделать. А в жизни она матерится и озабочена только тем, куда ей положить новую шубу из кенгуру, ну и куда деть старых штук сто. И курит какую-нибудь дрянь, или булимичка и на таблетках.
Лида рассмеялась, фыркнула на себя и принялась снова что-то отыскивать в компьютере.
— Ну, у тебя и представления! Интересно, а что ты обо мне тогда подумал позавчера, когда пришел домой, а на кухне тебя дожидается нечто и требует вернуть ей письма, которые ты купил за свои кровные вместе с книгой. Я, правда, была не в шубе и без сигареты, и таблетки куда-то потеряла. Но ты ведь мог подумать все что угодно. А мы с тобой сдружились, и это случилось очень быстро, несмотря на твою привычку строить из себя грубияна и отвратительного типа.
— Это я-то грубиян? — взорвался я.
— А кто же еще, как не ты? Ладно, не обижайся, лучше слушай. Я сделаю погромче.
И мы стали слушать. Вернее, стал слушать я. Лида то и дело на что-то отвлекалась. А я даже боялся пошевелиться, чтобы не шуметь. Мои представления, догадки и гипотезы окончательно и бесповоротно рушились.
Я ожидал, что у Лидии Клемент окажется напыщенный поставленный голос, как у какой-нибудь артистки оперетты, громкий, даже резкий. А как я еще должен был представлять? А оказался нежный, чуть вкрадчивый, как будто она не поет, а разговаривает, улыбается. Я зажмурил глаза. Передо мной был образ, черно-белая фотография ожила, и Лидия Клемент пела для меня, смотрела мне в глаза и улыбалась. Никакого нажима, давления, неприятного чувства превосходства — думаю, что многие его испытывали, когда слушаешь, как поет кто-то, и с болью понимаешь, что твои вокальные данные и рядом не стояли. Я прослушал, затаив дыхание, одну песню, затем вторую, третью. Одна из них мне показалась знакомой, «Карелия» — ее часто поют под гитару. Затем еще песня и еще. И так с десяток, не меньше.
Лида кивнула мне, это означало: «Все? Наслушался?»
Мне бы такую тактичность! Я бы просто спросил, а потом краснел от стыда. Я отрицательно покачал головой. Звук на ноутбуке был, конечно, совсем неважный. Но разве это имеет какое-то значение, когда в восхищении слушаешь музыку? Причем слушаешь в первый раз, открываешь ее для себя, пытаешься понять, прочувствовать, сделать частичкой себя. Это потом, когда музыка становится любимой, нам хочется уловить все ее нюансы и на такое прослушивание, через слегка присвистывающий динамик ноутбука мы посмотрим свысока.
Когда песни заиграли уже по третьему разу, Лида закрыла ноутбук. От тишины стало не по себе. Я даже не сразу заметил, что музыка прекратилась, еще какие-то секунды я мысленно в себе ее проигрывал дальше.
— Ты слушал больше часа, — Лида вздохнула и протерла ноутбук салфеткой.
— Батарея села, нужно зарядить, а то завтра останусь с носом.
— За сегодня еще сто раз успеет зарядиться, — уверенно сказал я. — Он быстро заряжается.
— За сегодня? — Лида посмотрела на меня, нахмурившись. — Ты на часы смотрел? Времени почти одиннадцать вечера.
— Ой, — я вскочил с места, и нелепо отряхиваясь от крошек, стоял посередине кухни. — Мне пора.
— Ты уже не успеешь на маршрутку, а от метро тебе идти очень далеко. Не отмахивайся, я же была у тебя, меня не обманешь. И, к тому же, я тебе еще кое-что о Лидии хотела рассказать. Или тебе неинтересно? Иссякло твое любопытство? Знаешь, я вчера звонила маме, порадовала тем, что письма нашли, упомянула и о тебе, что тебя зацепила Лидия Клемент. И она мне сказала, чтобы я не погубила твое любопытство. Вот я и стараюсь!
— Знаешь, оставаться на ночь у малознакомого человека, напрашиваться… — я направился в прихожую, но Лида меня остановила, положив руку мне на плечо, и договаривал я уже, возвращаясь обратно. — …Это, конечно, не в моих правилах, но ради тебя я готов сделать исключение. И ради Лидии Клемент. Удивляюсь, что раньше о ней ничего не слышал. Нет, я серьезно, я бы запомнил, у меня на фамилии память отличная.
— Не слышал, потому что его поспешили забыть, замылить, так часто случается, особенно почему-то в нашей стране, — на лбу Лиды появилась складка. — Обидно даже получается.
— Да, но мы-то с тобой слышали, еще кто-нибудь слышал, так что кому надо, тот помнит и знает, а кому не надо, так не запомнит даже с десятого раза.
— Когда я еще интересовалась Лидией, была одержима ей, как ты сейчас, то где-то читала или от однокурсников узнала, что на вокзале Петрозаводска фирменные поезда провожали «Карелией» в ее исполнении. А потом так получилось, что песню заменили, сейчас ставят запись Марии Пахоменко, — Лида продолжала хмуриться.
— И все равно, кому надо, тот будет помнить. Как в отношениях насильно мил не будешь, так и с музыкой, и с остальным. Представь, что ты видишь какую-то рекламу. Рекламируют какую-нибудь ерунду, но рекламируют так, что ты пойдешь и обязательно ее купишь.
— Ты прав, — после некоторых колебаний ответила Лида. — Заставить привлечь к себе внимание невозможно. Это происходит само, непроизвольно. Но знаешь, мне кажется иногда, что Лидию Клемент помнит поколение бабушек и дедушек, моих родителей и все. Так устроена история…
— Так устроен шоу-бизнес, — оборвал ее я и принялся стягивать с себя свитер. Я сидел, прислонившись к батарее спиной, Лида сидела рядом, не давая мне выбраться и убежать. Было довольно душно.
Она посмотрела на меня, покрутила пальцем у виска и улыбнулась. Ясно, что выглядело это не совсем прилично, с вызовом или даже недвусмысленным намеком, но терпеть у меня больше не получалось.
— Как? Ты уже раздеваешься? Значит, так у вас принято? — она, конечно же, решила отыграться за все услышанные от меня колкости, и старалась меня смутить, даже закрыла лицо руками, будто никогда не видела, как перед ней мужчины снимают с себя теплые вещи. — Как не стыдно! При дамах! Ах, я сейчас просто умру от стыда и смущения!
— Да жарко мне! Прекрати! Посадила меня у батареи, а она шпарит так, как, наверное, не шпарила зимой. И в этом свитере я просто в гамбургер, в сосиску в тесте превращаюсь!
Лида встала и подошла вплотную к батарее, уперлась в нее коленями и положила на нее руки, но тут же их в ужасе отдернула.
— Да, действительно, отопление включили, просто обжигающие батареи. А на прошлой неделе его ослабили, и я тут мерзла. А ты говоришь что-то про шоу-бизнес! У нас и с отоплением беда. Какое дело людям до какой-то Лидии Клемент, когда батареи чуть теплые и приходится греться духовкой.
Она повернулась и показала пальцем на газовую плиту, белоснежно белую, с намытыми до блеска металлическими ручками.
— Вот этот чудо-агрегат. Наверное, те, кто его придумывали, и китайцы, которые сделали, никогда бы не подумали, что с ее помощью можно не только готовить еду, но и обогреваться зимой. И это в культурной столице Европы!
— Видишь, ты все понимаешь сама, — я похлопал Лиду по плечу, от чего она почему-то в первое мгновение встрепенулась. — Просто недоросли мы еще до того момента, когда вся эта бытовуха будет налажена, мы перестанем от нее зависеть. И тогда, может быть, и на другие, более важные вещи будем обращать внимание, искать что-то именно для души.
— Ты смешной, — сказала мне она.
— Ты тоже не промах, — бодро ответил я и, наконец, освободился от свитера.
Мы смотрели друг на друга. Я сомневался в том, влюблен ли я. Она, вероятно, была озадачена теми же самыми мыслями. Но беда в том, что за три дня ничего серьезного между нами вспыхнуть не могло. Пожалуй, это вранье, когда говорят, что люди встретились, никогда не знали друг друга, и сиюминутно возникло между ними большущее чувство. Может, оно и так, но люди искали друг друга, мечтали, предчувствовали, даже что-то планировали, были в ожидании, даже вглядывались в окружающих, в прохожих, в тех, с кем работают, едут в транспорте или проводят свободное время. Все это было не про меня. Несколько раз обжегшись, я ничего не ждал и не искал, а просто плыл по течению и не верил чувствам. Даже дедушка Лиды присматривался к певице, которая ему безумно понравилась и, как оказалось, которую он знал с детства простой соседней девчонкой.
По некоторым признакам мне удалось понять, что и Лида не ждала со стороны меня какой-то пылкости. Заносчивый, себе на уме мальчишка, младше ее лет на пять — что можно было ждать от меня? То, что я был в тот момент с ней, не означало, что я проявляю интерес именно к ней. Если бы это было так, то я бы и письма отдал сразу, не устраивал бы сцен, спросил бы номер телефона, пригласил куда-нибудь, да и просто предложил бы чашку чая, как она предложила мне. Конечно, все эти мелочи не могли демонстрировать несерьезность моих намерений, но и ни о чем серьезном речь тоже не шла.
Неожиданно я сообразил, что мы с ней похожи на ее дедушку и Лидию Клемент. Что у них было общего? Очень многое. Но могло ли быть из этого продолжение? Исключено, однозначно исключено. Если бы это было не так, то потерялась бы вся прелесть этой истории. Вся непредсказуемость и недосказанность. Конечно, то, что ее не стало в двадцать шесть, и все произошло так трагично, к этому не относится — хотелось бы, чтобы Лидия Клемент жила, пела, радовала и радовалась сама. Но что мы в силах изменить? Ничего. Точно так же, как не в силах была что-то изменить сама Лидия и Валерий.
— Иногда бывает, что образ человека не совместить с голосом. Ты замечал такое когда-нибудь?
— Замечал, — ответил я. — Только если ты намекаешь на то, что это про Лидию Клемент, то нет, это не про нее.
— Вот и я о том же, — Лида нахмурилась. — Да дай ты мне этот свитер, еще валять его по полу начни!
Она вырвала у меня из рук свитер, аккуратно сложила и повесила на спинку моего стула. Я чувствовал себя каким-то неумелым и непослушным ребенком. С чего она тогда так раскричалась на меня? Вспомнила о чем-нибудь?
— Ты все время отвлекаешь меня, а я пытаюсь сосредоточиться и вспомнить еще что-нибудь о Лидии Клемент из того, что знаю, — Лида щелкнула пальцами. — Ты слышал о такой певице, о Майе Кристалинской?
— Слышал, конечно! За кого ты меня принимаешь! «Опустела без тебя земля» ведь она пела?
— Все верно, — Лида вновь была спокойна и даже улыбалась, видимо, не терзая себя мыслями о том, что она может отвлечься и что-то забыть. — Между прочим, она должна была вместо Лиды петь некоторые ее песни. Так тогда решило начальство на ленинградском радио. Кристалинская-то уже была довольно популярной, а Клемент всего лишь местечковой звездочкой, не более.
— И чем все закончилось? — спросил я, удивляясь глупости своего вопроса, ведь если песни спела все-таки Лидия Клемент, то все разрешилось именно в ее пользу. — Неужели Кристалинская пыталась забрать себе какие-то ее песни? Не верю!
Лида немного нахмурилась. Такой поворот моей мысли несколько ошеломил ее, она искала в себе ответ, анализировала «за» и «против», даже прикусила губу.
— Нет, не думаю, Кристалинская и сама, возможно, была не в курсе. Кстати, когда Лидии не стало, Кристалинская впала в депрессию и думала даже покончить с собой, это мне рассказывал дедушка. У нее ведь тоже был рак, она с ним долго боролась. Наверное, то, что случилось с Лидией, повлияло и на нее в том плане, что она решила для себя бороться до конца, полгода ездила на гастроли, а полгода лежала в больнице, проходила бесконечные химиотерапии. Она носила платок на шее, он как раз следы химиотерапии и прикрывал.
— Видел по телевизору, — тихо признался я. — Хотя телевизор почти не смотрю, коробка с блохами и горой негатива.
— Понимаю, — Лида одобрительно покачала головой. — Я смотрю только новости и что-нибудь про театр, про музыку. Я ведь культуролог по образованию.
— Теперь ясно, откуда ты…
Я еще хотел спросить, где и кем она работает, но вдруг понял, что это совершенно неуместно и будет уже больше смахивать на допрос, чем на любопытство. А если она нигде не работает, то это для нее будет еще и больно, так, если бы я наступил на нее любимую мозоль. Я говорю образно, потому что Лида ходила по квартире босиком и ее ноги были идеально ухожены, ногти поблескивали бесцветным лаком.
— Откуда я, что? Ты хотел спросить, откуда я столько всего знаю? Да, представляешь себе, я про ленинградскую эстраду даже курсовую работу в университете писала. Давно, правда, это было, многое уже забылось. Дедушка мне очень тогда помогал.
Лида взглянула на часы, висевшие на стене и, нехотя, шаркая босыми ногами по линолеуму, поплелась в комнату. Послышался шорох, что-то упало. Вернулась Лида, держа в руках огромное махровое полотенце.
— Держи, — сказала она и кинула полотенце мне как баскетбольный мяч.
Я, честно говоря, не ожидал такого от нее и был совершенно не готов. Полотенце пролетело над моей головой, ударилось об окно, и только после этого я сумел его поймать. Лида засмеялась, но это было не со зла, а искренне. Должно быть, я выглядел действительно смешно. Мне и самому безумно захотелось рассмеяться, что я и сделал.
— Ванная вон там, иди и приведи себя в порядок, раз на ночь останешься у меня. Шампунь бери из большой бутылки. И телефон не утопи в ванной, не бери его с собой, оставь где-нибудь или положи на стиральную машину сверху. Это я, наученная горьким опытом, тебе говорю. У меня телефоны долго не живут. То утоплю, то оставлю где-нибудь, то украдут.
Мне было немного неловко. Девушка, с которой мы знакомы всего три дня, оставляет меня ночевать у себя, да и еще намекает на то, что я грязнющий и отправляет в ванную. Впрочем, к себе домой я мог уже попасть только на такси, которое я себе позволить, конечно, не мог. В другой ситуации я совершенно спокойно пошел бы пешком по ночному городу и часа за два или три дошел бы, но разве мог я заикнуться об этом?
Присев на край стула на кухне и, держа полотенце на коленях, я выложил по совету Лиды все из карманов, снял футболку и начал снимать носки. Законы Мерфи — это больше, чем просто законы. Вот и носки начинают вонять именно тогда, когда этого меньше всего ждешь. Нет, даже больше — когда им вонять совершенно недопустимо. Я стянул их с себя и стыдливо скомкал, положив рядом с футболкой и вещами на стул.
— Твою мать… — ругалась Лида, когда я вышел из ванной, спешно вытирая волосы полотенцем. Я и не предполагал, что она в открытую может так ругаться.
Она стояла, держа мои носки на вытянутой руке. Впервые за три дня я почувствовал себя проигравшим. Мне хотелось тотчас же провалиться сквозь пол вниз, в подвал, чтобы меня никто не видел и не слышал. Даже в тот момент, когда она мне рассказывала историю о том, как и почему не стало Лидии Клемент, а я сидел, нахохлившись, и подхихикивал, так стыдно не было. С ума сойти, ну и ситуация! Ты знаком с девушкой три дня, за которые успеваешь ее выгнать из своей квартиры, а спросить, как ее зовут, удосужился лишь через день. Дальше она предлагает остаться у нее на ночь, а потом все портят твои носки, которые по неведомым причинам начали вонять. Безумие какое-то, не иначе! Это также, наверное, если бы Валерий подошел к Лидии на концерте подарить цветы, а у него спадали бы штаны или случилось что-нибудь еще более нелепое.
— Прости, — сказал я, понимая, что уже поздно оправдываться.
— Да, конечно, у всех мужиков воняют носки, это закономерность…
— Это исключение из правил, Лида, — я даже немного испугался того, что она разъярится и выгонит меня. — У меня такого никогда не было.
— Не перебивай. У всех воняют, но умные всегда что-то предпринимают по этому поводу. Мог и сказать, чтобы я не бегала и не искала, откуда несет таким… Иди в комнату, там я тебе диван разложила.
— А ты?
— Обо мне беспокоишься? Я тоже в ванную хочу, — Лида взмахнула носками в воздухе и поморщилась. — Ужас какой! Все, иди в комнату.
В комнате было чисто и уютно. Небольшая, со шкафом-купе и письменным столом в углу, с высоким шкафом с зеркалом у самой двери, ковром на полу и диваном. Я не успел ничего толком рассмотреть. Во-первых, было уже довольно темно. А, во-вторых, я прилег на диван, укрылся каким-то довольно жестким покрывалом, опустил голову на подушку, думая, что полежу немного, а потом мы с Лидой немного поболтаем и, кто знает…
Я лежал, а она все не шла и не шла. Я даже позвал ее: «Лида, ты там?». Она показалась из-за двери. Но это была не она. Точнее, она, Лидия, Лидия Клемент, такая, какой я ее видел с черно-белой фотографии с экрана монитора. Я отвернулся, потому что мне хотелось заплакать. И тут я сообразил, что сплю и это сон.
— Саша, а ты на работу не опоздаешь? — я открыл глаза, было светло и пахло чем-то очень вкусным. — Или куда там тебе нужно? На учебу?
Лида чем-то гремела на кухне и напевала себе под нос: «Та-та-тата-та-та».
— На учебу, — лениво ответил я, стараясь восстановить в памяти события вчерашнего дня и понять, как и почему я оказался там, где оказался. — Ко второй паре, часам к одиннадцати.
— Давай, подъем, уже девять. Как раз хватит времени, чтобы нормально позавтракать, поболтать и собраться. Еще и дорога.
На спинке дивана аккуратно висели мои носки, выстиранные, высушенные на батарее — это было видно по следу, образовавшемуся примерно посередине.
«Как меня угораздило отключиться так не вовремя? Интересно, а Лида была здесь, со мной? Или еще где-то? Хотя где можно быть в этой квартире, если тут всего один диван».
Я привстал и осматривал с любопытством комнату. Мне показалось, что она слишком аккуратная, слишком чистая. Не было ни книг на покосившихся полках, ни каких-то личных вещей, фотографий, картинок. Даже за шторами были плотные жалюзи, приоткрытые явно утром и рукой Лиды — шторы были при этом аккуратно отдернуты к стенам. Я старался ничем не нарушить этот порядок. Посмотрев в сторону зеркала, я увидел стоявшее там кресло, которое явно раскладывалось, так как на ковре примерно в метре были два ровных следа от ножек.
— Прости, Лида, что заставил тебя спать на кресле, — крикнул я. — Лучше бы меня туда положила.
— Когда я тебе хотела это предложить, ты уже спал, — ответила она из кухни.
— И вообще здесь командую парадом я. Надеюсь, ты не думал воспользоваться ситуацией? Даже если и думал, тебе бы этого никто и не позволил бы.
— Ага, — протянул я и зевнул.
— Кстати, твою футболку я погладила, но она была слегка влажная, поэтому снимешь в ванной с батареи сам, а то у меня блинчики подгорят.
Для меня никто никогда не готовил с утра блинчики. Я читал про эту буржуйскую роскошь, видевшуюся мне каким-то экзотическим излишеством. Когда я увидел Лиду со спины, как она колдует у плиты и что-то напевает, ко мне закрались странные сомнения. Просто не могло быть так, что все это она делает ради меня. Было еще что-то. Уже одеваясь и приводя себя в порядок, я неожиданно для себя понял возможную причину всех этих приключений, ее расположения и, как ни странно, блинчиков тоже. В комнате не было никаких личных вещей. Шкаф, конечно, я раскрывать постеснялся — и один, и второй. А в прихожей у двери появилась большая сумка, которой не было накануне.
— Ты куда-то уезжаешь? — спросил я за завтраком. — Ты молодец, спасибо, блинчики действительно вкусные, никогда не представлял, что кто-то для меня их будет готовить.
— Не обольщайся, Саша. Я просто извела все продукты, чтобы не пропадали.
— Ты уезжаешь? — повторил я свой вопрос, уже предчувствуя ответ Лиды.
Она старалась не смотреть мне в глаза. Это было не чувство вины, винить себя ей было совершенно не за что, скорее мне было стыдно за некоторые моменты.
— Уезжаю.
— Отдыхать?
— Домой возвращаюсь, — она улыбнулась и, напрягая пальцы, сломала пополам деревянную зубочистку. — Здесь я все дела закончила, все уладила. Два месяца пробыла и хватит. Я люблю Петербург, но не настолько, чтобы оставаться надолго. Дома все-таки лучше. Привычная обстановка, работа, друзья. Здесь я чужая.
— Для меня уже не чужая.
— Хорошо, для тебя не чужая, но это не меняет ничего. Мне нужно возвращаться…
— А откуда ты? — согласен, спросить такое было верхом бестактности после того, как Лида на блюдечке выложила передо мной всю подноготную своего семейства. — Я почему-то считал, что ты из Питера.
— Не скажу, откуда я, — она напряглась. — У нас, по-моему, был негласный уговор друг друга ни о чем не расспрашивать. Мы и так узнали друг о друге слишком много из того, чего знать не следовало. Скоро приедет хозяйка, мне нужно сдать ключи и заплатить, я здесь прожила лишнюю неделю.
— Подожди! А это не квартира твоего дедушки разве?
— Нет, она здесь недалеко, там теперь живут наши родственники, — Лида гладила рукой по обоям. — А эту квартиру я снимала на то время, пока выяснялось все с документами. Ты же понимаешь, пока получишь все эти бумажки, отстоишь в очередях — с ума можно сойти.
— А когда уезжаешь?
— Тоже вопрос, на который я не могу тебе ответить, — Лида снова заулыбалась, но это выглядело как-то жалко, неестественно. — Просто мы больше не увидимся. И не потому, что ты плохой или я какая-то не такая. Просто не увидимся и все. Я не верю в случайности, в случайные встречи и все, что из них потом получается. На примере деда я многому научилась и его ошибки, ошибки нашей семьи я копировать не хочу.
Мне было бесполезно что-то говорить. Хотелось помолчать, насмотреться на нее как следует, чтобы запомнить каждую черту лица, каждую небрежно лежащую прядь волос, то, как она смотрит, как держится. Снова я заметил в ней что-то от Лидии Клемент с той фотографии: открытый взгляд, который никуда не спрячешь, слегка опущенный подбородок. Я слышал однажды о том, что все, что происходит с нами в жизни, отпечатывается в нас. Информация накапливается и начинает влиять, ежедневно и ежечасно на то, что происходит с нами, на наше поведение. Кажется, это называли памятью поля, но шут ногу сломит в этих туманных околонаучных теориях. Не было ли с Лидой так? Не передается ли это от поколения к поколению? Я даже не про внешность, а про манеры, интересы, приоритеты, потребности.
Благодаря Лиде я впервые задумался о том, что мои знания однобоки, что я совсем не ориентируюсь в музыке, в театре. Конечно, от меня трудно ждать, что я тут же сделаюсь заядлым театралом или не буду вылезать из филармонии, накупив абонементов. Но уже одни мои сомнения и пошатнувшееся эго стоили дорого.
— Хочешь, я подарю тебе ту книгу, твоего дедушки, в которую были вложены письма? — неожиданно предложил я.
— Спасибо, ни к чему это, — ее улыбка была все более и более вымученной. — Она тебе пригодится больше. Я же говорила тебе, мы распродавали и пристраивали дедушкины вещи и книги. Ты вернул мне письма, это уже очень много, поверь. По-моему, тебе пора.
Мне не хотелось надоедать, действовать на нервы и мозолить глаза, напрашиваясь на продолжение разговора. Лида наблюдала за тем, как я собираюсь, прислонившись к стене и скрестив руки на груди. Это, несомненно, была защитная реакция, известный психологический прием. Пустив меня в свою жизнь, она столь же стремительно меня из нее прогоняла. Хотя, прогоняла — это не совсем правильное слово. Скорее, она не пускала меня дальше, не позволяла чувствам и эмоциям одержать даже первую маленькую победу.
— Спасибо тебе за все, — Лида говорила тихо, неожиданно обняв меня уже в дверях. — Ты молодец, ты хороший человек. Не забывай радоваться каждому дню в своей жизни.
— И тебе спасибо.
Я снова расчувствовался, но не показал этого. Это бы только все усложнило, сделала тягостным и даже невыносимым. Я просто вышел и пошел, не оборачиваясь. А когда все-таки решил обернуться и взглянул вверх, Лида стояла в окне и приветливо махала мне рукой на прощание. Я тоже помахал ей рукой, вздохнул, перебежал через дорогу, прошел еще немного и остановился. Идти дальше не хотелось. С каждым моим шагом Лида становилась все дальше. Но я сделал над собой усилие и снова побежал. К счастью, маршрутка подошла практически сразу и лишила меня искушения никуда не ехать, а остаться, чтобы хотя бы издалека еще раз увидеть Лиду.
Погрузившись в суету, я не скоро из нее вырвался. На мой телефонный звонок никто не ответил, Лида просто не брала трубку.
«Неужели ты уже уехала? Или больше просто не хочешь со мной общаться? Да, в эти три дня меня было слишком много, нужно от меня отдохнуть. Но почему ты не хочешь сказать, куда уезжаешь? Но почему?»
Лида ответила с четвертого или с пятого раза. У нее было очень шумно, она едва разбирала то, о чем я ее спрашивал. А я волновался и спрашивал все и сразу, она даже не могла вставить слово в ответ.
— Саша, я уезжаю, через двадцать минут у меня автобус, — наконец, ответила она. — Не обижайся на меня. Может, мы когда-нибудь и увидимся, может, и нет. Не знаю. Сейчас я ничего не знаю и ничего обещать не могу. Прости, мне нужно решить еще пару вопросов. Береги себя. Пока.
«Шум, автобус, она уезжает, — во мне включился Шерлок Холмс, чувства куда-то пропали, внутри по мне полосовала логика, расчетливость. — Откуда? И куда? Автовокзал? Большой? На Обводном? Наверняка, процентов на девяносто. Бежать, быстро бежать туда, еще должен успеть. Хотя, полчаса до него, не меньше. Что делать? Все равно бежать, другого выхода нет. Беги, потом будешь жалеть, что не предпринял ничего даже из того, что мог предпринять. Беги сейчас же. Автобус, она уезжает с автовокзала. Ты должен это сделать, беги».
И я побежал, помчался до ближайшей станции метро. Две станции, пересадка и еще одна. Времени оставалось очень мало. Поднимаясь по эскалатору, я снова пытался дозвониться до Лиды, но она не отвечала. Расталкивая людей, я побежал по эскалатору наверх. Мне мешала сумка, она раскачивалась из стороны в сторону и била по ногам, лямка от нее больно врезалась в шею. Я придерживал ее рукой, наконец, просто зажал в подмышке. Бежать стало чуточку легче.
Я бежал вдоль набережной, одновременно пытаясь дозвониться до Лиды. Двадцать минут, о которых говорила она, истекли. Шла уже двадцать шестая минута, если я ничего не напутал. Еще метров пятьдесят — и автовокзал. Я промчался через зал, на меня косо посмотрел охранник в черной рубашке с какими-то желтыми нашивками. В зале Лиды не было. Я пробежал на платформы. Стояли несколько автобусов, среди них не было отправляющихся. Судя по всему, не так давно ушли два или три автобуса, потому что платформы не были заняты.
Вернувшись в зал, я сел на скамейку и, опустив голову, зажал ее руками. Было трудно отдышаться, сердце колотилось как бешеное, по шее сзади струились капли пота. Они сползали и по лбу. Вид у меня в тот момент был совсем неприглядный.
— Опасдаль! Ай-ай, — протиравший пол уборщик, выходец откуда-то из Средней Азии, сочувствовал мне почти на автомате, наверняка сочувствовать опоздавшим на автобус ему приходилось ежедневного и по много раз. — Билет сдаль, сдаль билет.
Я махнул в ответ рукой. Мне не хотелось, чтобы меня кто-то беспокоил в тот момент. Я не знал ничего: ни когда уехала Лида, ни куда, ни то, почему она не хочет больше общаться. Почти наугад я достал телефон и еще раз набрал ее.
— А я уже еду! — весело сказала мне она.
— И даже не хочешь сказать мне, куда?
— Не хочу.
— Почему?
— Чтобы ты ломал голову над тем, как меня найти? Чтобы это произошло в самый неподходящий момент? Чтобы усложнить жизнь тебе и мне?
— Ты ничего не усложняешь, — ответил я, утирая рукавом со лба пот.
— Это тебе сейчас так кажется. Пройдет время, ты все поймешь и скажешь, что я была права. У меня перед глазами дедушка и его пример, он страдал всю жизнь. Зачем это нам с тобой, скажи? Будем жить себе спокойно, знать, что где-то есть ты, есть я. Но других перспектив у нас нет.
На это мне было нечего возразить. Что я мог предложить? Ничего. Я даже не знал, что ответить. Все слова будто испарились из моей головы. Я ловил ртом воздух, старался вымолвить хоть что-нибудь, потому что от молчания становилось немного страшно.
— Все, будь хорошим мальчиком и читай только хорошие книжки. Телефон ловить перестает, а там у меня дома будет другой номер. Не проси, я его тебе не скажу.
— Пока, — сказал я и сразу пошли короткие гудки.
IV
Я шел домой пешком. Я всегда так делал, когда переживал или когда мне нужно было привести мысли в порядок. Немного пройдя по свежему воздуху, я снова безумно захотел услышать Лиду. «Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети», — услышал я, и чуть было с размаху не разбил телефон о стену ближайшего дома.
Небо затягивало, начался дождь. Стремительной сменой погоды, тем более по весне, никого не удивишь. Дождь накрапывал, а я все шел, не обращая на него никакого внимания. Даже когда крупные капли дождя стали больно бить по голове, по рукам и по плечам, я все продолжал идти. Ноги были мокрыми, вода довольно громко хлюпала внутри кроссовок. Она попадала в них в основном тогда, когда я проходил по тротуару у домов, на углах которых были водосточные трубы. Через их раструб дождевая вода вырывалась бурлящими как гейзеры потоками. «Не изменяя доброй традиции, дождиком встретил меня Ленинград», — невольно вспомнилось мне пение Лидии, но мое настроение совсем не располагало к тому, чтобы с иронией относиться к происходящему.
Дождь почти прекратился, когда я уже подходил к дому. На меня косо смотрели прохожие, шагавшие под зонтиками. Должно быть, выглядел я действительно неважно. Или жалко, с взъерошенными волосами, промокшим насквозь свитером, мокрыми тяжелыми штанами и разбухшими кроссовками, в которых было тяжело идти.
В квартире уже почти все спали. Я пробрался в ванную, разделся, выжал штаны и свитер — вода полилась с них рекой, штаны даже стали линять. Простиранные и прополоснутые вещи висели у меня в комнате на куске телефонного шнура, который я использовал вместо веревки. Сам я отогревался горячим чаем, но, несмотря на это, ко мне стремительно подступал озноб. Я с удивлением осматривал сумку. Ее содержимое просыхало на столе. На дне сумки оказалось сантиметра полтора, не меньше, дождевой воды. Я встал на табурет, открыл форточку, просунул в нее сумку и вылил воду прямо за окно.
Под двумя одеялами было никак не согреться. Я почти без сил опустился на подушку, протянул руку, чтобы взять телефон. Телефон с грохотом упал на пол. Задняя крышка открылась, выпал аккумулятор. Пришлось тянуться, собирать части телефона с пола и составлять их воедино. Когда мне удалось это сделать, и я набрал номер Лиды, то услышал почти привычное «Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети».
Озноб подступал. Пересиливая себя, я встал и выключил свет. Обратно до кровати мне было уже не дойти. Я больно ударился ногой об угол шкафа и чуть не упал.
«Вот тебе и дождь, так тебе и надо, — говорил себе я. — Что, думал после всех твоих острот она останется с тобой? Лида уже далеко. Успокойся, остынь, ты ее уже не вернешь. Забудь и живи дальше. Просто помни о ней.
Даже если ты о ней забудешь, все равно с тобой останется что-то от нее. И теперь ты знаешь, кто такая Лидия Клемент. Ты причастен к этому, ты почувствовал всю силу этой истории. А сейчас спи, просто спи. И старайся согреться. Это тебе без нее холодно. Просто забудь о ней и сразу согреешься».
Было безумно холодно, я как будто все еще шел под дождем, смело ступая по лужам и смахивая со лба намокшие волосы. Не знаю, каким образом, но мне удалось сообразить, что это не капли дождя, а пот. Меня знобило.
Ничего более неразумного я еще в своей жизни не делал — перенеся на ногах грипп и пролежав после него всего день, спустя совсем непродолжительное время совершить полуторачасовую прогулку под холодным весенним проливным дождем. Форменное безобразие — самому хотелось себя хорошенько наказать.
Принятая через силу таблетка была невыносимо горькой и никак не хотела проглатываться. Меня стало знобить еще сильнее, но почти сразу я отключился, заснул, укутанный в два одеяла — и это при пышущих в полную силу батареях и вполне теплой погоде за окном.
В ту ночь я был на каком-то шумном концерте. Было много народу, совершенно разношерстной публики. Объявили антракт. Я обернулся, чтобы выйти в буфет, куда уже ринулась толпа. Обстановка казалась мне знакомой. Я осмотрелся. Тонкие крашеные колонны, потолок зала будто прозрачный. Это был Театр эстрады, во всяком случае, так я с чего-то решил. В буфете на стойке возвышалась большая металлическая бочка с кофе. В руках у меня оказалась чашка с кофе, горячая, ужасно неудобная, и бутерброд с колбасой. Кто-то мне о чем-то рассказывал, я смеялся и тоже шутил в ответ.
Все направились обратно в зал. От духоты разрывалось горло, и было очень жарко, как у большого масляного обогревателя, если прислониться к нему вплотную. Шум и гогот стих, когда на сцену вышла девушка, показавшаяся мне очень знакомой. Я даже знал ее имя. Она держалась очень легко. Она не пела песню, как поют многие певцы, напрягая до хрипоты голосовые связки и считая, что сразив наповал, шокировав силой звука, они произведут нужный эффект. Она рассказывала, напевала, двигалась совершенно просто, безо всякой вычурности. Я ей аплодировал, как и все. Следующую песню пела тоже она. Ее пение успокаивало и заставляло расплыться в улыбке, подпевать, не зная слова. Песня прошла на одном дыхании, я ждал продолжения. Но на сцене были уже другие артисты. Они только начали выступать, а я почувствовал невероятную духоту и тут же собрался уходить.
Я протискивался по залу, извинялся, но все равно шел под цыканья и недовольные взгляды. Но я не вышел из зала. Происходящее на сцене показалось мне невероятно громким, я закрыл уши, все вокруг поплыло — и я видел только потолок театра, светлый, почти прозрачный.
— Больше не могу, — прошептал я. — Верните Лиду сейчас же, иначе я пожалуюсь, куда следует.
Меня вряд ли кто слышал, кроме меня самого. Я смотрел в потолок своей комнаты. Было уже утро, светло. Я потрогал свой лоб. Он был сухой. Я потянулся за градусником и к удивлению понял, что во мне есть силы сделать это. Температуры не было, все как обычно — тридцать шесть и семь.
Пошевелившись, я ощутил дикую боль в левой ноге. Отвернув одеяло и подняв ногу, я разглядел на ней огромный синяк, лиловый, с красными прожилками, зеленоватый по краям.
— Лежал простуженный, а оказался хромой. Чудеса исцеления творятся.
«А Лида, наверное, уже дома, — думал я, отпаиваясь чаем и составляя планы на день. — Уехать она могла куда угодно. Ушли четыре или пять автобусов. Попробуй, подгадай направление. Да и сойти она могла где-нибудь на полпути. Все, отпусти ее, Саша, отпусти. Она права, нужно обо всем забыть и радоваться тому, что у меня есть».
Несмотря на это, вернувшись в комнату, я набрал ее номер — тот единственный, который был мне известен. «Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети» — снова, ничего удивительного.
Когда тебе дико хочется, скажем, шоколада, то лучший способ избавиться от этого навязчивого состояния — купить шоколада много-много и съесть столько, сколько в тебя вообще может влезть. И даже больше. Тогда в следующий раз ты подумаешь, а нужен ли тебе этот шоколад вообще. Так было и со мной. Я, как одержимый, пытался узнать больше о Лидии Клемент, хотя никогда прежде о ней не слышал. Поиски в сети меня мало к чему привели. Единственный плюс в поисках заключался в том, что я скачал с десяток песен в ее исполнении — все, что мне встретилось. Пересказы одних и тех же фактов, порой довольно вольные, вызывали недоумение. Интернет — не печатная книга, в нем нет редакторов и корректоров, консультантов и рецензентов, всех тех, кто за соответствие информации действительности отвечает если не головой, то именем. Или на худой конец некоторой частью заработной платы.
В какой-то момент я вдруг начал сомневаться в правдивости истории, которую рассказала мне Лида. Разумом я понимал, что все это именно так, все факты сходятся. Но сердцем… Трудно было поверить, что она умерла так рано. Некоторые и сейчас говорят про Элвиса Пресли: «Элвис жив». И я их понимаю.
Обо всем этом я думал бесконечными вечерами на работе. После стагнации длиной в пару месяцев мой начальник к всеобщему облегчению набрел на золотую жилу. Мы расфасовывали канцтовары в шесть рук и все равно не успевали, приходилось оставаться на ночь и заглядывать в наш милый подвальчик по выходным, чтобы принять машину и с ней же отправить укомплектованные заказы. Будто все офисы вдруг на радостях вспомнили о том, что у них закончились бумага и прочие орудия бюрократического производства и решили доверить их подбор именно нам.
Лида наверняка сразу же осадила бы мой скептицизм и посоветовала что-то вроде: «Радуйся каждой мелочи, тем более, если случаются приятные мелочи не так и часто». Впрочем, свой скептицизм я осаживал самостоятельно, и чье-то стороннее вмешательство мне было не нужно. Я каждый день звонил ей, чтобы удостовериться, что ее телефон выключен. Если честно, то я делал это из желания услышать Лиду лишь поначалу. Потом это превратилось для меня в некую традицию, точнее, обряд.
Перечитывая в очередной раз биографию Лидии Клемент, я вдруг сосредоточился на одной фразе, которая до того не казалась мне сколько-нибудь значимой. Похоронена на Богословском кладбище. Я не знал, что это за место. Пришлось искать и вспоминать. Я с нетерпением ждал выходного и мужественно отсиживал занятия у Федоренко, чтобы в один прекрасный день с них сбежать. Просто выйдя во время перемены подышать воздухом, я твердо решил, что время настало, и одних только фактов мне мало, я все должен увидеть сам.
Было ветрено и довольно пыльно. Я с трудом нашел белые гвоздики — продавались в основном красные или причудливых цветов и оттенков, от красноватых до розовых и даже синеватых. А мне хотелось именно белые и никакие другие. Я терпеливо ждал в большом цветочном магазине, пока продавщица для стоявшего передо мной парня как следует завернет в полипропиленовую пленку двадцать пять красных роз. Такая огромная колючая красно-зеленая охапка. Парень явно куда-то очень торопился, мне же спешить было некуда. На кладбище не спешат. Удивленно на меня посмотрев и покачав головой, продавщица завернула выбранные мной две белые гвоздики в газету. Дешево и сердито.
Никуда не спешил и троллейбус. Мы были на конечной остановке. Водитель долго курил, рядом стоял кондуктор и щелкал семечки. Ехали мы тоже, не спеша, подолгу пропуская машины и пешеходов на светофорах. Я просил у кондуктора Богословское кладбище.
— К Цою? — спросил он.
— Что? — не понял я.
— На могилу к Цою едешь? В основном летом ездят к нему, — кондуктор, еще не старый мужчина с явными проблемами с алкоголем, отвернулся от меня и посмотрел на остановку, к которой мы подъезжали. На остановке не было ни души, и троллейбус пошел дальше, не останавливаясь и не открывая двери.
— Нет, к родственникам, — соврал я, чтобы закончить этот неприятный допрос.
— Еще четыре остановки, увидишь обязательно, не пропустишь, — ответил кондуктор и принялся пересчитывать мелочь.
Богословское кладбище оказалось довольно большим, не таким крошечным, как выглядело на карте. Зимой в нем было бы, наверное, проще ориентироваться. Деревья и кусты делали его похожим на оазис, проходимый лишь по узким дорожкам. Я нашел вход и прошел через калитку, ища глазами хоть кого-то, кто помог бы найти мне могилу Лидии Клемент или показал направление, в котором нужно двигаться.
Старушка в лохмотьях просила милостыню. Я покопался в карманах и нашел немного мелочи: сдачу от гвоздик и те монеты, что я приготовил себе на обратный проезд.
— Храни тебя Господь, — прошептала она.
— Скажите, а как найти могилу Лидии Клемент, может, вы знаете?
— Туда, — она быстро махнула сморщенной рукой. — Там табличка — Петропавловская дорога, где-то там. Давно не видела. Может, уже и нет ее.
«То есть, как это нет?», — подумал я, с трудом улавливая направление, которое показала мне старушка. Она тем временем уже разговаривала с какими-то людьми, зашедшими на кладбище вслед за мной. Я медленно шел и осматривался по сторонам. Я прошел вглубь кладбища. За большинством могил давно не ухаживали — не был убран даже мусор, оставшийся от зимы и прошлогодние листья. На многих оградках были привязаны венки из искусственных цветов, выцветших, пришедших в негодность. Если бы не похожие на часовые стрелки листья поздних нарциссов, то, наверное, все окружающее вогнало бы меня в депрессивное состояние.
Наверху, в деревьях резвились птицы. Так птицы не резвятся даже в парках, где их подкармливают и ставят скворечники. А там, на кладбище творился настоящий птичий театр. Я даже останавливался, чтобы взглянуть вверх, но тут же вспоминал, для чего пришел, и, поникнув головой, продолжал осматривать могилы. В Интернете мне попалось упоминание о том, что памятник над могилой Лидии Клемент сделан в форме грампластинки, над которой грузно нависла рука-тонарм.
Я дошел до самого конца дорожки и повернул обратно, осматривая могилы по другую сторону, мысленно продумывая, под каким предлогом у той старушки разузнать все поподробнее. Но этого не потребовалось. Пройдя еще немного, в стороне от дорожки я увидел то, что искал. Круглое, напоминающее пластинку надгробие, каменная полоска поверх него, изображающая тонарм, и простая надпись — «Лидия Ричардовна Клемент». Я осторожно прошел к могиле, на ходу разворачивая гвоздики. У могилы стояла грязная пластиковая бутылка, на дне которой было немного дождевой воды. Я поставил бутылку поближе к памятнику и поставил гвоздики в нее.
Скомкав газету и отойдя на несколько шагов, я стоял и смотрел на могилу.
«Если все это правда, то почему о тебе так быстро забыли? Или все-таки не забыли? Спасибо тебе за Лиду. И за те песни, которые я для себя открыл. И за дедушку Лиды. И за все, что со мной случилось благодаря тебе. О тебе не забудут. Никогда».
Птицы над моей головой игрались в листве деревьев так, как будто белки перепрыгивают с ветки на ветку. Стало совсем тепло, и почти стих ветер, и уже кроме птиц никто и ничто не нарушало покой той, которой Валерий адресовал три своих письма, дошедшие именно до меня, но вернувшиеся обратно в руки его внучки. Той, которая очаровала меня, несмотря на давно ушедшую эпоху, устаревшие вкусы, иные пристрастия и интересы. Я помахал рукой на прощание, точно так же, как махала мне из окна Лида, когда я видел ее в последний раз. Трудно сказать, с кем мне хотелось попрощаться больше — с Лидией Клемент, сказав ей: «До свидания». Или с Лидой, сказав ей все то же самое, но добавив: «Знай, что я помню о тебе, даже если тебе этого и не хочется».
Прогулки по кладбищу, конечно, не лучшая идея для того, чтобы разобраться в себе. Невольно отвлекаешься на воспоминания и размышления, не имеющие отношения к делу, заглядываешься по сторонам, читаешь надписи на памятниках. Потому логично предположить, куда я отправился сразу после. Хотелось подышать весной и не думать о житейских заботах там, где об этом думается меньше всего.
— Да, Лидия Клемент, слышал о ней, популярна была, — невозмутимо сказал дядя Сема, сидя на коробке с книгами и вдохновенно поедая принесенный мной пирог. — Только давно это было, тебя еще и в планах не было. Так, Сашечка, вот сейчас заболтаемся, и я, конечно, забуду тебе сказать и показать. Надо доесть, и я тебе покажу Герда, может, заинтересует, отдам недорого. Даже корешок цел. Сейчас, погоди.
Дядя Сема был в своем репертуаре. Если когда-нибудь на поляну, разделяющую толкучку и железную дорогу, приземлится космический корабль с инопланетянами, зелеными человечками, то дядя Сема, не моргнув глазом, предложит им поковыряться в коробках и даст скидку, если купят сразу две или три книги.
Наговорившись с дядей Семой и вдоволь покопавшись в груде старых книг, я дошел до ближайшей скамейки, туда, где мне никто не мог помешать. Я стал сентиментальным, с этим бороться нет сил. «И пускай в твоем сердце звучит эта песенка слишком нежная, слишком нежная для мужчин», — голос Лидии Клемент навсегда с каждым, кто не просто слышал, но и услышал ее.
«Привет. Если ты когда-нибудь включишь этот номер, то напиши мне, пожалуйста. Просто напиши, как у тебя дела и не узнала ли что-нибудь новое о Лидии Клемент. Я исполнил желание твоего деда и отнес ей цветы, белые гвоздики. У меня все хорошо. Саша»
Настрочив сообщение и, отправив его, я загадал желание, чтобы моя Лида все-таки получила это письмо.
Мое желание скрепил протяжный гудок и грохот товарного состава. Дети, игравшие возле соседней скамейки в прятки, замерли и долго стояли, удивленно глядя поезду вслед. А я уже шел, куда глаза глядят, зажмуриваясь от всепроникающего весеннего солнца.
Сказка PRO шаверму
Жил-был Костя.
Так началась бы любая мало-мальски сказочная история. В принципе, так начинается и эта, но с одной лишь оговоркой: Костя вот уже два дня как не Костя, а Константин Сергеевич. Таковым он стал после устройства на новую работу, решив для себя, что хватит искать счастья и заработка в маленьких никчемных конторках, не имеющих возможности купить даже приличные жалюзи на окна и корзины для бумаг. Нет, с ними однозначно покончено! Долой каторжную работу, от которой нет никакого удовлетворения. Здравствуй, новые возможности!
В крупном издательском доме, куда поступил на работу Костя — простите, теперь уже Константин Сергеевич — было несколько отделов, располагавшихся на двух этажах бизнес-центра, уродливого здания из стекла и бетона, впихнутого горе-архитекторами между двух старых, но со вкусом построенных жилых домов. Костя второй день трудился в рекламном отделе. Работа его заключалась в том, чтобы водить пальцем по странице телефонного справочника, выбирать понравившуюся фирму, обводить карандашом номер ее телефона, а затем начиналось все самое интересное. Зажав плечом телефонную трубку и откинувшись на стуле, Костя неторопливо набирал номер, тыкая по кнопкам кончиком карандаша, и терпеливо слушал гудки.
— Алло, добрый день, — он говорил спокойно поставленным голосом один и тот же заученный текст, меняя в нем лишь название фирмы. — Это компания «Стройдеталь»? Отлично. Я представляю издательский дом «Прорыв». Могу я переговорить с сотрудником, отвечающим за рекламу в вашей фирме? Нет? Но, быть может, вашу фирму интересует возможность размещения рекламы в наших журналах? Сейчас нет, я понимаю, а в будущем? Ваша компания же развивается? Ясно, извините за беспокойство. До свидания.
Костя оптимистично подмигивал сам себе, и рядом с названием фирмы в телефонном справочнике появлялась жирная черточка. Так было установлено в рекламном отделе, и Костя перенял эту установку: если фирма не проявляла никакого интереса, то рядом с ее названием появлялась черточка. Если же наживка была схвачена и потенциальный рекламодатель найден, рядом с названием организации появлялась победоносная галочка.
За два дня Костя поставил в телефонном справочнике без малого две сотни черточек и ни одной галочки. Он не отрывался ни на минуту, даже обеденный перерыв провел на рабочем месте, стараясь хотя бы за эти лишние полчаса как-то продвинуться и показать результат своей деятельности. Но результат появляться не спешил. Часть фирм из тех, что были указаны в справочнике, сменили профиль деятельности, другие и вовсе закрылись или съехали с прежних адресов.
— Алло, добрый день, — голос был уверенный и спокойный. — Я позвонил в компанию «Суперзапчасть»? Прекрасно. Могу я переговорить с сотрудником, который у вас занимается рекламой?
На том конце провода звучала музыка, звонок переводили по внутреннему коммутатору.
— Я слушаю, менеджер Петров Иван, — наконец ответили Косте.
— Здравствуйте, Иван. Я представляю издательский дом «Прорыв». У нас отличное предложение по рекламе в наших изданиях, — Костя воодушевился.
— Имеются и пакетные предложения, различные варианты размещения.
— Издательский дом? Как вы сказали?
— «Прорыв», — ответил Костя.
— Никогда не слышал о таком, — с легкой издевкой ответил менеджер. — Наверное, это такие бесплатные журнальчики, которые нам кидают каждую неделю в стойку на проходной?
— Нет, у нас серьезные издания на глянцевой бумаге, распространяются по подписке и по рассылке в ряд организаций попадают.
Костя понимал, что начал оправдываться, что его просто хотят развести на эти самые оправдания. Но все разговоры с телефонной линии рекламного отдела фиксировались, и Костю предупредили, что в случае подозрительно часто случающихся неудач и неэффективной его работы эти записи будут изучаться начальством в первую очередь. Потому Костя и не думал повышать голос и говорить что-то такое, что бы помогло именно ему стать хозяином ситуации.
— Серьезные, говорите? — продолжал менеджер. — И о чем ваши журналы? Давайте, убедите меня, что я не зря трачу время на беседу с вами.
— Журналы? — Костя начал колебаться. — Журналы о разном. О строительстве один журнал, о промышленном оборудовании другой, о рынке недвижимости, об автомобилях. Есть еще про шоу-бизнес, но, наверное, он вам не очень подходит.
— Почему же не подходит? Информацию о резиновых шлангах и гофрах для соединений труб мы бы разместили, с фотографиями. У нас как раз сейчас распродажа… как это в модных журналах пишут, коллекций предыдущего сезона.
В трубке раздался противный смех, Костя даже отвел ее от уха.
— Ну, так что, уважаемый, — менеджер вошел в раж. — Втирайте мне про свои журналы. Как идея про распродажу гофр? Сойдет? У вас есть креативщики? Или вы и креативщик еще? Ну, креативьте тогда!
«Какие еще гофры? — у Кости от обиды задрожали руки, впервые за два дня появилось желание взять и бросить трубку, сделать вид, что связь случайно прервалась. — Нет, здесь я терпеть издевательств над собой не буду!»
— У вас будут какие-нибудь конкретные идеи и пожелания? — осторожно спросил Костя.
— Нам хочется, чтобы наши замечательные манжеты для трубопроводов рекламировали девушки в бикини…
Костя не дослушал, огляделся по сторонам, чтобы удостовериться, что за ним никто не наблюдает из-за спины, и положил трубку. Напротив названия фирмы «Суперзапчасть» появился жирный прочерк. Костя рисовал его с особым рвением, вымещая на этом несчастном карандашном штрихе все свои обиды от непонятной для него череды неудач.
Зашумели коллеги по офису, целой гурьбой после обеда ввалившиеся в отдел. Они занимали свои места — однотипные столы и стулья, отделенные друг от друга перегородками из чуть помутневшего органического стекла. Закипела работа. Зазвучали все те же самые заученные наизусть тексты для общения по телефону, застучали карандаши, зашелестели страницы телефонных справочников.
— Да, конечно, мы свяжемся с вашей компанией! — довольно произнес коллега Кости за перегородкой слева и поставил в телефонном справочнике галочку. — Всего доброго!
Это было минутное помешательство, оцепенение. Костя смотрел с завистью. «Галочка, он продал рекламу! Но как? Может, я не с тех страниц справочника обзваниваю фирмы? Да нет, страницы поделены равным образом», — Костя прижался к перегородке и наблюдал за действиями коллеги. Все то же самое, ничего кроме справочника, карандаша и телефона. Те же фразы, даже интонация похожа. Коллега подмигнул Косте, разговаривая по телефону. Костя видел, как менялось выражение его лица в процессе разговора. От приветливого до немного безумного, когда он махнул в воздухе сжатым кулаком. Само собой разумеется, что в телефонном справочнике появилась очередная галочка.
Костя откинулся обратно в кресло.
— Что, Станиславский, не клеится? — коллега перегнулся через стекло и смотрел на Костю с искренним желанием помочь.
За два дня Костя уже успел привыкнуть к новому прозвищу. Действительно, если Константин Сергеевич, то почему не Станиславский? В офисе все звали друг друга по имени и отчеству, таковы были суровые корпоративные правила, за нарушение которых были обещаны разные взыскания. Тем не менее, правила нарушались сплошь и рядом, правда сам Костя делать этого не спешил.
— Не клеится, Павел Витальевич, никак не клеится уже второй день, — взгрустнул Костя. — Просто, как будто мне какой-то проклятый телефонный справочник попался. Звоню, а попадаю или на каких-то уродов, или вообще ноль интереса. За два дня вообще ничего не продал и даже не заинтересовал.
Павел Витальевич был невысокого роста, пухлый и румяный. Он слушал Костю и улыбался. Из него так и били энергия, оптимизм, позитив и много чего еще.
— А ты относись к этому проще, — Павел Витальевич облокотился на перегородку так, что она заскрипела. — Ты звонишь в фирму и ждешь, что тебя там встретят хлебом-солью, разносолами. Типа заходи, мы тебя давно уже ждем. А ты представь на минуту, сколько таких как ты им звонит ежедневно. И твоя заинтересованность здесь мало что может поделать. Воспринимай это как игру. Я так и делаю.
— Да уж, видел я, как ты играешь, — с горечью в голосе сказал Костя. — Позвонил, сказал примерно то же самое, что и я, и у тебя все получилось. И много ты продал?
— За сегодня?
— Хотя бы за сегодня.
— За сегодня у меня заинтересовались три фирмы, одной Ирка… Ирина Федоровна уже звонила, они прислали макет и реквизиты, чтобы мы выставили счет. В ближайший номер реклама пойдет, успеваем. Правда, рекламный модуль небольшой, но с нас же не размер требуют! Но это так, по мелочи, самое интересное сейчас начнется, обычно после обеда работается как-то приятнее, да и продуктивнее тоже.
— Обед, — вздохнул Костя, — Я думал, что пока вы все ушли на обед, я смогу хотя бы немного наверстать упущенное. А так я в этом месяце ничего не заработаю, и меня выкинут отсюда к чертовой бабушке. И правильно сделают, раз не выходит из меня менеджера по рекламе.
— Проще, будь проще, сказал же тебе, Константин Сергеевич, — Павел Витальевич перешел на шепот. — Ты меньше о плохом думай, оно материализуется, если о нем думаешь слишком много. Чего-то вид у тебя замученный. Обедать-то собираешься? Или так и будешь в обед здесь как шпион высиживать, стараться что-то урвать?
— Почему как шпион? Я же не секреты компании разглашал, а работал, озванивал. Успел позвонить в две фирмы. В одной меня послали, в другой попал на какого-то менеджера по рекламе, который мне вынес мозг так, что и вспоминать не хочется.
— А ты и не вспоминай, — Павел Витальевич хихикнул, но тут же сделал серьезное лицо и стал строже. — Ты это брось!
— Что именно? — не понял Костя и зачем-то огляделся по сторонам.
Но никто к их разговору с Павлом Витальевичем не питал ни малейшего интереса. Все были заняты своим делом, менеджеры за двумя соседними перегородками невозмутимо вели телефонные переговоры и постукивали по столам карандашами.
— Не обедать, делать из себя страдальца-стахановца. Думаешь, за тридцать-сорок минут перерыва можно много продать рекламы? Да ничего ты не продашь с таким отношением! Ты уже выдохся, посмотри на себя в зеркало. Это же тень, а не ты.
Павел Витальевич закатил глаза, сжал щеки и напряг лоб, изображая некоего типа, похожего больше не на Костю, а то ли на пациента психиатрической лечебницы, то ли на экспонат из Кунсткамеры.
— Очень смешно, — обиделся Костя.
— Да ты не расстраивайся, все обязательно наладится. А обедать обязательно нужно, иначе сил дотянуть до вечера и до конца работы совершенно не останется. Это ты два дня только здесь, а представляешь, что будет дальше? Ты выдохнешься через неделю и ничего не заработаешь. Это не дело. Мы с ребятами ходим здесь недалеко в шаверму, дешево и вкусно.
— Шаверму? — удивился Костя. — Гадость какая. Из чего ее делают подумать даже страшно.
— Вот не скажи, все наши очень довольны. Просто, сытно, никаких нареканий не было. Всегда свежая, ее разбирают довольно бойко. Завтра пойдешь с нами?
— Ну, не знаю, как-то…
— Значит, идешь, — заключил Павел Витальевич. — А сейчас за работу.
Пробуй, прощупывай почву, но сильно не перетруждайся. Не в этом успех, Станиславский, не в этом.
И почему это Костя назвал шаверму гадостью? Конечно, гадость-то она гадость, но не на вкус, а для фигуры. Правда, сама шаверма в этом совсем не виновата. Изобрели ее кулинары где-то в незапамятные времена на Ближнем Востоке. В отсутствие холодильников и, в мягко говоря, не самых комфортных условиях трудно было готовить часто и с фантазией. Этому факту шаверма и обязана своим появлением. Ведь стояла задача приготовить блюдо, чтобы оно было сытное и полезное, причем сделать это быстро и накормить целую ораву голодных.
Что самое главное в шаверме? Некоторые считают, что мясо. Другие уверены, что соус, без которого шаверма была бы просто безумным нагромождением мелко нарубленных продуктов. И, наконец, есть те, кто готов биться насмерть, утверждая, что самое главное в шаверме — это тонкая лепешка, лаваш, в который вся вкуснятина и заворачивается. Конечно, все это не считая тех, кто не собирается ни с кем спорить, потому что знает, что в шаверме важны все ее компоненты.
Берется мясо, пожирнее, и непременно наисвежайшее. Режется, нанизывается на вертикальный вертел, который вращается относительно расположенной сбоку горелки. Поверхностные слои мяса быстро прожариваются и их срезают специальным ножом. Это намного быстрее, чем жарить целые огромные куски мяса. Срезанные куски мяса мелко нарубаются и кладутся в свернутый лаваш вместе с нарубленными овощами и зеленью. И последний штрих — соус. Он может быть чуть сладковатым, кисловатым, даже острым. Сладковатый прекрасно сочетается с шавермой из куры, острый — с шавермой из баранины. Но все это, как говорится, дело вкуса и прерогатива повара, шаверма мейкера или, по-нашему, шавермера.
Как все восточное, шаверма в последние десятилетия совершила умопомрачительную экспансию в Старый и Новый свет. Да и у нас даже в самой захудалой глуши, на обочине разбитой трассы всегда отыщется нехитрое заведение без водопровода и прочих удобств, где в невероятных условиях доморощенные шавермеры колдуют и кормят народ.
Если хотите отведать настоящей шавермы, то отправляйтесь в Петербург. В Москве вас накормят разве что шаурмой, хотя истинные ценители утверждают, что существенной разницы между ними нет. В принципе, шаверма мало чем отличается от кебаба, который предлагают во всех европейских столицах с одной лишь оговоркой: у кебаба порция заметно больше, а риск отравиться стремится к нулю.
У нас же поедание шавермы где-нибудь у вокзала или посреди оживленной улицы — своего рода лотерея, русская рулетка. Отсюда понятна и нечеловеческая страсть именно нашего населения к шаверме. Мы не спрашиваем, из чего она сделана, сколько часов назад эта кура каркала на заборе или ворковала у лужи на площади, правильно ли приготовлена. Не интересуемся, какое время в миске простоял этот странный белый соус, до того странный, что на него очевидно из инстинкта самосохранения боятся садиться мухи и всяческая мошкара.
О шаверме можно говорить бесконечно. Но что примечательно: если, скажем, плову или русской водке посвящены целые исследования, монографии, то шаверма вниманием ученых мужей совершенно обделена. Это несправедливость, но она шавермерам даже на руку. Если бы существовали определенные четко сформулированные каноны шавермы, то вариации в ее исполнении были бы недопустимы. В наших реалиях это означало бы крах многих доблестных предприятий. Нет перца или томатов — и все, можно сворачивать лавочку. Или продавать уже не под названием шаверма. Но кто ее в таком случае возьмет, отважится попробовать? Ответ очевиден. Никто. Впрочем, если об исследовании феномена шавермы серьезно, то наука начинается там, где начинаются измерения. Не изобретен еще тот шавермометр, который позволит превратить шавермологию в точную науку со своей терминологией и единицами измерения, со своими кандидатами шавермологических наук и специализированными изданиями, симпозиумами, конференциями. Но исключать появление таковых в самом ближайшем будущем, естественно, нельзя.
Случаи отравления шавермой в наших широтах, в отличие от южных, нередки. Но это нисколько не уменьшает поток страждущих к заветному ларьку. «Есть ли жизнь после шавермы?» — этот вопрос только подогревает интерес. Тысячи порций шавермы ежедневно расходятся по рукам и животам, и поднимают настроение настолько же сильно, как и портят фигуру. Но это уже совсем другая история, которая голодного и неудовлетворенного своими производственными достижениями Костю вряд ли касается.
Весь остаток рабочего дня он напрягался только вполсилы, все внимание свое тратя на наблюдение за Павлом Витальевичем. Павел Витальевич творил что-то невообразимое. Он разулся, закинул ноги на стол и раскачивался на стуле. Учитывая его плотную комплекцию, это выглядело устрашающе. Дозваниваясь по телефону до фирмы, название которой он предварительно обводил карандашом, Павел Витальевич выдавливал из себя все тот же заученный текст, но делал это игриво, даже жеманно. Все заканчивалось полной и сокрушительной победой.
— Отлично, сейчас мы по факсу забросим в вашу контору все требования к макету, а обратно ждем гарантийное письмо на оплату. Если прокрутим все сегодня или завтра, то успеваете в текущий номер, его сдают в понедельник, — Павел Витальевич сиял и от радости даже слегка вздрагивал. — Всего доброго! Приятно познакомиться! И работать тоже!
Костя от зависти приоткрыл рот. Павел Витальевич не положил, а бросил трубку, поставил напротив названия фирмы галочку и, с трудом натянув носки и ботинки, поплелся по коридору хвастаться в бухгалтерию.
«Какая у него уже фирма за сегодня? — гадал Костя, — пятая или шестая?
Может, седьмая? Все равно не понимаю, как ему удается так работать и справляться».
В этот момент Костя окинул взглядом офис и к своему удивлению увидел, что за перегородками из оргстекла происходит почти то же самое, что творилось с Павлом Витальевичем. У менеджеров были такие счастливые лица, что, казалось, продают они не страницы журналов под размещение рекламы, а самое настоящее добро, на худой конец, удовольствие или нирвану килограммами. Или пачками. Или литрами.
— Окей, будем сотрудничать, — доносилось с одной стороны.
— Рад, что вас заинтересовали наши предложения, — звучало с другой. — Это здорово, что оплата будет вперед, мы сможем дать скидку.
Костя схватился за голову и запрыгнул верхом на стул. С этой высоты открывался потрясающий вид не только на офис, но и на собственный рабочий стол, на котором, как бельмо на глазу, был раскрыт телефонный справочник, а напротив названий всех организаций сияли прочерки. Для Кости было непостижимо, как он, старательный, трудолюбивый и искренне стремившийся принести пользу как себе в виде зарплаты, так и издательскому дому в виде новых и новых клиентов, терпит стопроцентное, ничем не объяснимое фиаско.
Павел Витальевич в то же самое время в соседнем помещении шептался с Ириной Федоровной, пока принтер ее компьютера лениво распечатывал бумаги лишь для того, чтобы тут же сунуть их в факс. Работа факса тоже не мгновенная. Павел Витальевич успел за это время похлопать Ирину Федоровну по ее откровенно худосочному заду и пригласить на шаверму.
— Ой, Павел Витальевич, знаете, я на диете, это сейчас жутко модно, и вообще я как-то склоняюсь к вегетарианству, — не без удовольствия пролепетала Ирина Федоровна, даже не собираясь мешать лапам Павла Витальевича гулять по ее ягодицам. — Да и там, в мужской компании, да еще и с шавермой, я буду чувствовать себя потерянной и обделенной. Уж лучше вы заглядывайте почаще, с хорошими новостями.
— Обещаю, что приду снова, — Павел Витальевич с сожалением заметил, что факс давно как отправлен, и у него за спиной стоит еще один менеджер, пришедший с бумагами. — Может даже сегодня, Ирина Федоровна.
— Да что вы говорите, Павел Витальевич! Какой вы, однако, производительный!
— Ради вас стараюсь, Ирина Федоровна, — Павел Витальевич подмигнул. — Ну, так может, по шаверме после работы? А? Поедим, погуляем, поболтаем?
— Я подумаю, — кривляясь, ответила Ирина Федоровна и, переключившись на новую рабочую задачу, поправила платье и сделала серьезное лицо. — Ну, давайте бумаги. Это что, платежка? Кто так готовит платежки…
Павел Витальевич возвращался в отдел, довольный собой и пританцовывая на ходу. Увидев Костю в нелепой позе, готового разреветься или начать все вокруг ломать и крушить, Павел Витальевич бросился его спасать. Зайдя в отгороженную оргстеклом кабинку, он с силой пнул ногой по стулу, от чего Костя подскочил на нем и сполз по спинке вниз.
— Остановись, Станиславский, хватит сходить с ума, иди выпей чашку кофе, взбодрись и приведи себя в порядок. Тебе еще час работать, а ты уже никуда не годишься.
— Я и по жизни ни на что не гожусь, — сокрушался Костя. — За два дня ни единой надежды на то, что я продам хотя бы маленькое объявление, хотя бы четвертушечку страницы под рекламу. Я неудачник и ни на что не способен.
— Успокойся, Станиславский, не нужно так себя ругать, — ласково ответил Павел Витальевич. — Ты просто устал за эти два дня, не рассчитал сил. Знаешь, я сейчас поговорю с директором, и тебя на сегодня отпустят, пойдешь домой и отдохнешь, выспишься нормально. А с завтрашнего дня я за тебя берусь. Посмотрю, как ты работаешь, разберем твою стратегию, твои ошибки. Как следует пообедаем, и после обеда у тебя попрет так, что мама не горюй!
Отнекиваясь, Костя вдруг понял, что другого выбора у него нет. Либо уходить, теряя и эту работу, либо довериться и попытаться выяснить, что у него не получается. А не получалось абсолютно все — от самого разговора с потенциальным клиентом до результата звонка и, собственно, работы.
Дома Костю ждала жена, пристально глядевшая в телевизор и находившая в этом занятии высший смысл в жизни. Она пыталась проводить параллели между своей судьбой и тем, о чем рассказывали в бесконечных ток-шоу.
— Ты представляешь, врач в течение полугода насиловал свою пациентку, находившуюся в коме, и заразил ее триппером, — заявления жены для Кости уже стали привычными. — Она его обвиняет, мол, все чувствовала, только сделать с этим ничего не могла. А он утверждает, что все было по обоюдному согласию.
— Как мне все это надоело, — прошептал Костя, с трудом и из последних сил переодеваясь в домашнюю одежду. — Как надоело!
— Что это тебе там надоело? — строго переспросила жена. Несмотря на орущий во всю глотку телевизор, она прекрасно слышала каждое слово. — Что опять не устраивает? Я тут загибаюсь на хозяйстве, а ты даже заработать толком не можешь. Приходишь домой на все готовенькое, а еще чем-то недоволен! Ужин на плите!
Ужин был действительно на плите — треть кастрюли сухих, слегка недоваренных макарон. И полбанки шпрот в холодильнике. А Косте вдруг так захотелось мяса. Он даже кастрюлю открывал в ожидании, что там будет нечто мясное. Но ожидание это было весьма условным и имело место лишь потому, что без него история была бы слишком скучной.
А Павел Витальевич, дождавшись, пока освободится Ирина Федоровна, повел ее под ручку на прогулку. Он взял бутылку пива, она мороженое. И превратились они на целый вечер в самых обычных Пашка и Ирку, не знавших, как подступиться друг к другу, чтобы замутить а-ля из категории для взрослых. Костя, в отличие от Павла Витальевича, вот уже три года как был женат и подобного не мог себе позволить даже в самых смелых фантазиях.
Утром Костя вскочил по будильнику и, стараясь взбодриться, улыбался, пока приводил себя в порядок и завтракал. У него появилось ощущение, что вот-вот все изменится, и его неудачи практически одномоментно обернутся успехом, шумным, впечатляющим, таким, какого у него никогда не было. Он твердо решил для себя следовать советам коллег, чтобы научиться работать как они — легко, непринужденно, с изрядной долей здорового пофигизма.
— Я на работу, — прошептал он жене.
Жена накануне на ночь влила в себя лишний стаканчик и вряд ли слышала, что говорил Костя, а если и слышала, то ей было совершенно все равно. Начало дня выдалось у Кости таким же, как и в два предыдущих: настойчивые звонки, не менее настойчивые отказы, насмехательства и появившиеся на страницах телефонного справочника прочерки. Время обеда неумолимо приближалась, и Костя стал поглядывать на часы, чего не делал никогда, даже на предыдущих, довольно скучных местах работы.
— Что, Станиславский, проголодался? Ничего, потерпи, — за стеклянную перегородку заглянул Павел Витальевич. — Я еще один звонок сделаю, да и ты давай, попробуй еще раз.
— Да что толку-то? — Костя отодвинулся от стола и принялся разминать руки, вытягивая их перед собой. — Позавчера ни одного клиента, вчера ни одного.
И сейчас, сколько с утра ни звоню, ничего не выходит. Не представляю, как ты все это делаешь? Я не выдержу этой испытательной недели, мне просто отчитаться нечем! Как будто я не работал вообще, а сидел и ковырял в носу или еще где-то.
— Успокойся, еще не вечер, пообедаешь, отдохнешь, силы появятся. И каааак запоешь! — Павел Витальевич грузно плюхнулся в свое кресло и принялся набирать очередной номер телефона, положив справочник к себе на колени.
Костя принялся тоже звонить в очередную фирму. Закончилось все вполне предсказуемо. Впрочем, и у Павла Витальевича этот звонок вышел холостым и не привел к какой-либо договоренности и тем паче к принятию рекламы к опубликованию. Костя стал успокаивать себя, что у всех случается черная полоса, и он просто еще отдельные моменты недопонимает.
— Ну-с, идемте, — скомандовал Павел Витальевич и, словно Гагарин, махнул рукой куда-то по направлению к выходу.
Они спустились вниз, перешли улицу и нырнули в узкий и на редкость ароматный переулок. Пройдя еще немного, они вышли на широкий проспект, на углу которого виднелись два ларька. На одном была прикреплена огромная табличка «Шаверма», на другом — «Лучшая шаверма в городе».
— Ого, конкуренты, — Павел Витальевич кивнул в сторону «Лучшей шавермы в городе». — Они тут и недели не продержатся, потому что лучшая шаверма у Гасана, им его не переплюнуть.
Действительно, Костя обратил внимание, что, несмотря на то, что ларек с надписью «Шаверма» был куда невзрачней, в него стояла очередь. Очередь состояла преимущественно из работников издательского дома. Они оживленно обсуждали цены, рекламодателей и начальство, естественно, не стесняясь в выражениях. Начальство, как ни странно, стояло тут же, в общей очереди, и гоготало вместе с рядовыми сотрудниками в предвкушении трапезы. За стойкой виднелся огромный столб с нанизанными на него кусками мяса, который крутил рослый и ухоженный парень в фартуке, накинутом поверх дорогой рубашки. Из-под расстегнутого ее воротничка выглядывала массивная золотая цепь.
«Да, везет жителям этого дома, — думал Костя, осматривая ларек снаружи, а затем и изнутри. — Весь день нюхать, как готовится шаверма, слюни пускать. И почему я никогда раньше не пробовал шаверму? Век живи, век учись. Дай бог выживу после ее поедания, и реально все наладится на сытый желудок».
— Здравствуй, Гасан, — сказал Павел Витальевич, когда подошла их очередь.
— Нам как обычно. Вот, тебе новенького привел на откорм, оголодавшего там у нас, в офисе.
— Здравствуй, здравствуй, — Гасан засуетился, срезая широким ножом мясо, от которого струился то ли пар, то ли легкий дымок. — Вот тебе самый лучший шаверма, только самый лучший.
— Благодарю, — Павел Витальевич протянул купюру, и Костя последовал его примеру.
Едва отойдя от ларька, Павел Витальевич развернул завернутую в бумагу шаверму и принялся жадно ее поедать. Костя смотрел на свой сверток, не понимая, что он с ним может сделать то же самое. Наконец, когда Павел Витальевич съел уже половину своей порции, Костя брезгливо развернул шаверму и боязливо надкусил.
Шаверма отдавала какими-то пряностями, от которых даже слегка захватывало дыхание. Что-то терпкое и одновременно сладковатое. Костя откусывал смелее и смелее, быстро пережевывал и глотал. Голод делал свое дело. После первых нескольких кусков немного закружилась голова, так бывает с теми, кто склонен к сахарному диабету и не соблюдает режим дня и питания. Костя ел шаверму с жадностью, чувствуя, как тело наполняется силами. Да, это совсем не метафора: Костя находился в трезвом уме и явственно ощущал прилив сил, желания жить и, само собой, работать.
Это было забавно: двое мужчин в костюмах и при галстуках, называющие друг друга на «вы» поедают шаверму, зайдя за ларек в каком-то грязном переулке. Причем делают это настолько сосредоточенно и серьезно, что даже не хочется улыбаться.
Обратный путь Костя и Павел Витальевич проделали молча. О чем было говорить на сытый желудок? Порция шавермы составляет примерно четверть суточной потребности человека в жирах и в энергии, конечно, если вас не обманули и положили в шаверму все, что требуется. Офисный планктон относится к категории лиц, обремененных относительно легким трудом. Для них поедание таких порций сродни натуральному обжорству.
Сидя в комнате отдыха, Костя и Павел Витальевич отпивались чаем. Вскоре подошли и остальные сотрудники, у которых перерыв тоже заканчивался. Костя с ужасом думал о том, что через пять минут нужно будет снова сесть в кресло, открыть справочник и звонить, звонить, звонить только для того, чтобы услышать отказ или какое-нибудь издевательство, чтобы от него отмахнулись как от жирной зеленой назойливой мухи.
— Чего грустишь, Станиславский? — Павел Витальевич не скрывал своей радости, как казалось Косте, она была совершенно беспричинной. — Чувствуешь прилив сил? Бери и работай, все обязательно пойдет как по маслу, а если не пойдет, то… Впрочем, такого даже быть не может! Понимаешь? Не может! Ты сейчас сядешь, будешь работать, и все будет получаться, вот увидишь.
Костя с недоверием покачал головой, но, конечно, внешне это выглядело так, будто он со всем сказанным полностью согласен. Показывать свое недоверие в данной ситуации было бы неверным шагом. Ссориться с Павлом Витальевичем не было никакого резона. Потому Костя повиновался. Отчего-то и вправду ему происходящее вдруг начало казаться лишь маленькой игрой, приключением, в котором себя нужно показать с лучшей стороны, действуя играючи.
— Алло, добрый день, — привычно произнес Костя, — Это фирма «Севзапсантехкомплектгидромонтаж»? Очень приятно. Я представляю издательский дом «Прорыв». С кем я могу поговорить по поводу рекламы?
Костю неожиданно переключили на кого-то из руководства.
— Слушаю, — ответил Косте высокий женский голос, — Заместитель директора, меня зовут Ирина. Это вы из журналов? Как хорошо. Мы как раз думали запускать рекламу оптовых поставок для строительных фирм и мастерских.
— Да, Ирина, — Костя говорил взволнованно. — Мы можем вам предложить рекламную кампанию сразу в нескольких наших изданиях, как тексты, так и модули. Это выйдет дешевле, так как на крупные заказы у нас действует система скидок. Единственным условием является предоплата. Но, думаю, что для такой крупной… ээ… как… ваша…
Костя заволновался оттого, что забыл название фирмы, в которую звонил и с заместителем директора которой так мило беседовал. Он принялся судорожно разыскивать название фирмы в справочнике, то самое, что полминуты назад обвел карандашом, но справочник как назло захлопнулся, а закладки на нужной странице не осталось. Карандаш, который играл роль закладки, выкатился и лежал рядом на столе.
— … как ваша… контора… — выдавил из себя Костя.
«Все, финиш, — по спине Косте заструился холодный пот. — Все напортил. Неужели не запомнить название фирмы? Сейчас она скажет типа «Да за кого вы меня принимаете?» и бросит трубку или отправит темным лесом. Вечно мне не везет».
Но на другом конце раздался заразительный смех, заставивший тихонько рассмеяться и Костю. Смех и зевота — самые страшные эпидемии на Земле, но в данном случае слово «страшные», пожалуй, было совершенно неуместно.
— Какой вы, однако, забавный, — произнесла Ирина, стараясь подавить смех, — Многие забывают название нашей фирмы «Севзапсантехкомплектгидромонтаж», перевирают ее по-всякому, извращают даже в публикациях и в рекламе. А вы, простите, забыла, как вас зовут…
— Костя, Константин Сергеевич.
— Вы, Константин Сергеевич, так элегантно выпутались из этой неловкой ситуации, что, знаете, мне хочется с вами сотрудничать, — Ирина сделалась строже. — Предоплату мы готовы обеспечить, и макеты рекламы у нас готовы. И мы бы хотели запустить рекламу как можно быстрее. Это возможно?
— Конечно, — Костя ощутил, как холодный пот на спине сменился горячим, и как у него стало пылать лицо и чесаться руки. — У нас вот-вот выходит номер журнала, там еще есть место. Правда, я не помню, какой именно журнал мы сдаем в печать следующим, но по тематике и профилю вам подходят все наши четыре издания.
— Отлично, Константин Сергеевич, я готова выслать макеты, наши пожелания к объему размещения рекламы и реквизиты для выставления счета. Вы сами-то готовы все сделать оперативно? Я могу рассчитывать на вашу расторопность?
У Кости пересохло в горле. Он не знал, что ответить, и, прижав трубку к уху плечом, беспомощно размахивал руками.
— Факс работает? — еле выдавил из себя Костя и поперхнулся.
— Да, вы можете отправить все необходимые документы и коммерческое предложение нам на факс, у нас он запараллелен с телефоном, так что номером вы не ошибетесь. Сможете сделать это прямо сейчас, чтобы не откладывать на потом?
— Ммм… могу, — простонал Костя.
— Тогда спасибо и жду коммерческое предложение, у вас полчаса, — Ирина заулыбалась, и Костя это почувствовал, ему стало совсем не по себе.
После того как разговор был завершен, Костя вскочил со стула, задевая и сметая все на своем пути, он побежал в самый дальний кабинет, скрытый за картонной перегородкой. В том кабинете стоял кулер с водой и стойка с пластиковыми стаканчиками. Костя выдернул самый нижний стаканчик и, не обращая внимания на то, что остальные несколько сотен стаканчиков посыпались из держателя и покатились по полу, набрал холодной воды и залпом выпил.
— Что, Станиславский, понеслось? Так продаешь, что жажда замучила? — откуда-то появился Павел Витальевич. — Выглядишь ты неважно. Ну-ка сделай лицо попроще!
— Не могу, — признался Костя. — Слушай, где у нас коммерческие предложения? И мне какую-то таблицу нужно, наверное, им выслать. Ничего не могу сообразить, в голове все перемешалось. Даже название их фирмы забыл.
— Расслабься и толком скажи, что и кому продал!
Костя отглотнул воды, сделал глубокий вдох и громко отрыгнул.
— Извини, вырвалось, — Костя швырнул стаканчик в мусорную корзину, но не попал. — Забыл, как называется фирма, но они готовы выкупить рекламную кампанию и не одну, и хотят это сделать сегодня, так как у них вроде как есть рекламный бюджет, который нужно срочно потратить.
— Ничего себе! — Павел Витальевич почесал затылок.
— И, представляешь, все документы они хотели получить по факсу в течение получаса, а я ничего не могу сообразить, не знаю, где брать бумаги, что именно им отправлять. Павел Витальевич, дорогой, я сейчас сойду с ума! У меня получилось каким-то невероятным образом все провернуть, но на остальное…
Павел Витальевич подошел к кулеру, набрал воды в стаканчик и жадно выпил, как будто и он не может найти себе места, успокоиться и делать свою работу.
— Идем, я дам тебе все бумаги, — строго сказал он. — Ты ведь с ними по факсу договорился связаться?
— По факсу, — испуганно ответил Костя. — А что?
— А то, что старайся не связываться с электронной почтой, особенно когда только начинаешь работать с фирмой. Бывало так: договариваемся мы на какую-то крупную рекламную кампанию, и предоплату обещают. Отправляем все реквизиты и требования электронной почтой и ждем. А они все не отвечают и не отвечают. Потом, когда все сроки проходят, звоним, а оказывается, что они и сами нас проклинают, на чем свет стоит. Да, душно в офисе. За первую половину дня весь кислород вынюхиваем, а проветривать ленимся, вот после обеда каждый день и чахнем здесь от духотищи.
Набрав еще стакан воды, с жадностью выпив ее, Павел Витальевич вернулся к себе, к письменному столу за перегородкой из органического стекла. Он долго копался в нижнем ящике стола, отыскивая нужную папку.
— Вот, держи, — наконец сказал Павел Витальевич, вытер со лба пот, и этой же влажной от пота рукой протянул Косте потертую картонную папку-скоросшиватель. — Там внутри диск с образцами документов. Только называние фирмы впиши, поставь даты, распечатай и забрасывай им по факсу. Понял, Станиславский?
— Понял, — вздохнул Костя, сделал пару шагов, опустился на стул, раскрыл папку и принялся изучать бумаги.
Строчки прыгали перед глазами, какие-то буквы, цифры, суммы, адреса, реквизиты. Костя напрягся, вставил диск в компьютер, открыл нужные файлы и каким-то совершенно неведомым для себя образом вписал недостающие данные в бланки и отправил на печать. Принтер, стоявший у стены, которым пользовался весь офис, был настолько потрепан жизнью, что скрипел, извергая распечатанные листы документов. Скрип уже не казался Косте чем-то противным: он записал на ладони номер факса фирмы «Севзапсантехкомплектгидромонтаж», выхватил из лотка принтера еще теплые листы и направился в комнату бухгалтерии.
Возвращался оттуда Костя, пританцовывая и присвистывая так, что даже Павел Витальевич, не обращавший за работой никакого внимания на то, что происходит вокруг, отвлекся от телефонного разговора, и чуть было не потерял его нить. Он нахмурил брови и демонстративно отвернулся, делая вид, будто телефонный разговор настолько занятный, что ни на что другое отвлекаться просто нет причин. Впрочем, по его поведению и нервному постукиванию карандашом по столу Костя заключил, что все поведение Павла Витальевича является чистой воды притворством, так как контора, в которую он звонил, судя по всему, была звонку не рада и сотрудничать не собиралась.
Костя позвонил еще в две фирмы. Первая организация уже успела куда-то съехать, напротив ее названия в справочнике появился прочерк. А вторая взяла — да и заказала рекламу, прямо в текущий номер. Костя уже знал, что делать и все провернул довольно быстро. В конце рабочего дня он почувствовал дичайшую усталость и голод.
— Может, еще по шаверме? — предложил Костя Павлу Витальевичу.
— Ого, Станиславский, да ты подсел на шаверму от Гасана! — Павел Витальевич засмеялсяи все остальные в офисе обернулись и принялись смотреть на Костю. — Нет, Станиславский, вторую шаверму есть сегодня не советую. Передоз у тебя с непривычки случится. Она, зараза, калорийная больно.
— Какой еще передоз? — встрепенулся Костя.
Павел Витальевич похлопал себя по животу и снова засмеялся.
— Хорошего понемножку, а то наешь такое брюхо, что за ним не рассмотришь самого главного, и даже забудешь, что оно у тебя есть.
Понимая, что он сказал на весь офис что-то очень неприличное, Павел Витальевич хрюкнул от удовольствия.
— Не обижайся, Станиславский, завтра пятница, в обед скушаешь шаверму, отработаешь, как следует, зато с каким чувством выполненного долга проведешь выходные!
— Ага, — буркнул Костя и засобирался домой.
Дома его ждала жена, как обычно распластанная на диване перед телевизором, показывающем очередное бестолковое ток-шоу, в котором лицом к лицу сходятся насильник, его жертва и еще уйма народу, которые держали при том безобразном процессе свечки. Костю такие программы раздражали, но, чтобы не обидеть жену, он лишь мило улыбался и изображал, насколько ему интересно происходящее на экране.
— Пришел? — простонала жена. — Наотдыхался? А я здесь одна, как лошадь, весь день пахала. Небось, пожрал, не голодный?
— Почему же, голодный, — признался Костя, — Есть что-нибудь заморить червячка?
— Ты меня уже заморил, червячок не понадобится. И вообще, нужно если, то возьми и сготовь. Я не каторжная здесь на все дела распыляться. А ты на приличную кормежку еще не заработал.
— Сегодня я очень приличные заказы на рекламные кампании провернул… — боязливо начал говорить Костя. — В конце месяца еще и премиальные получу, свой процент…
— Сначала получи, а потом мотай мне нервы. Все, свободен, иди на кухню и не отвлекай меня.
«Что происходит? Ради кого и ради чего я работаю? Так долго искать нормальную работу, так долго стремиться к тому, чтобы что-то начало получаться, а это, выходит, никому не нужно. Хотя, раз это нужно мне, то это уже что-то, а все остальное обязательно приложится. Жена, ты ничего не понимаешь. Как было бы здорово сейчас шавермы!»
Костю на кухне встретила гора немытой посуды, стол, заваленный крошками, полуфабрикаты в холодильнике. Он с вожделением думал о новой работе, где все зависело исключительно от него, а не от поворотов разворачивавшейся в телевизоре сальной истории, влиявшей на настроение и поступки всех тех, кто прилип для ее поглощения к экрану.
В животе разразилась настоящая война, которую Костя всеми силами пытался подавить. Чтобы забыться, он убрал со стола и перемыл всю грязную посуду, какую только смог отыскать на кухне. Всю ночь он ворочался, справляясь с коктейлем из голода и обиды. Трудоголиками становятся тогда, когда вся остальная жизнь меркнет перед ее величеством работой, когда уже не может дать тех красок, тех ощущений, что достаются нам в цеху, в офисе или еще где-то. В случае Кости шаверма была неотъемлемым атрибутом этих ощущений.
В то время как калории давали силы, питали энергией серые клеточки головного мозга, а белки расщеплялись всемогущими пептидазами до аминокислот, вкус и запах шавермы дарили ощущение сопричастности к происходящему. Будь она безвкусной — и ничего бы этого не было. Ничто не дразнило бы обоняние, не ласкало бы язык. Конечно, есть еще один фактор — внешний вид, но шаверма может выглядеть по-разному и не всегда приглядно, так что его приходится упускать из рассмотрения. Статистики, которым верить вряд ли приходится, утверждают, что чуть ли не в сорока процентах случаев шавермой перебиваются именно трудоголики, которые стремятся хорошо подкрепиться, но не могут выкроить время на полноценный обед или поход в магазин за кефиром и булочками. В таком случае все работники офиса, в котором трудился Костя, могли бы быть трудоголиками, пусть и анонимными, не выдававшими свою страсть к шаверме, сидевшими на диете или просто вегетарианцами. Но это маловероятно, иначе бы себя и свою организацию они давно бы уже озолотили.
Вскочив по будильнику, Костя наспех оделся и, не завтракая, побежал на работу. Да, не завтракая, потому что завтракать было нечем. И именно побежал, потому что это была, во-первых, работа, в которой он неожиданно для себя накануне добился успеха, а, во-вторых, в офисе можно было выпить сладкого чая и это лишь отчасти, но заменило бы завтрак. Но сладкий чай лишь раззадорил аппетит. Сделав пару неудачных звонков, выслушав сонные голоса секретарш и сообразив, что до обеда работа снова будет буксовать, если не принять срочных мер, Костя прошел в бухгалтерию и робко попросился на перерыв, минут на пятнадцать.
— Идите, Константин Сергеевич, вчера вы, конечно, дали жару, у нас давно таких рекламных кампаний не заказывали, и сразу во всех изданиях, по максимуму, — ответила Ирина Федоровна, которая хоть и не относилась к начальствующим персонам, но, тем не менее, ведала всякими внеплановыми перерывами, отгулами и «домой на полчасика пораньше».
— А что, они уже перевели деньги? — удивленно спросил Костя.
— Конечно, перевели! Пришла утром, посмотрела, все целиком оплачено. Так что ликуйте! Ладно, но только пятнадцать минут, ни минутой больше. Идите на перерыв, нечего в дверях стоять, мешать работать!
— Ой, простите, Ирина Федоровна, — Костя шмыгнул на лестницу, оттуда бегом на улицу, в проход между домами.
Ларек с шавермой только открылся. Гасан, которого Костя хорошо запомнил, срезал первые куски мяса с пластов, нанизанных на вертикальный вертел.
— Мне шаверму, — тихо попросил Костя.
— А, уже голодный, накормим сейчас, — заголосил Гасан, ловко орудуя ножом, поджаривая кусочки мяса и заворачивая их в лаваш, — На здоровье, кушай, еще приходи. Я тебя знать, всегда вкусный шаверма здесь.
Гасан неестественно улыбался и моргал глазами, но какая разница, как выглядит шаверма мейкер, главное, какой шавермой он кормит народ. Пахло жареным мясом и каким-то растворителем вроде бензина. «Должно быть, на бензиновом примусе поджаривают, — смекнул Костя. — Или от жира отмывались бензином. Никогда бы не подумал, что так можно делать там, где продают еду. Но, раз делают, то значит можно».
Костя дрожащими руками взял сверток, протянул купюру, с трудом заставил себя дождаться сдачи, а когда ее получил, то буквально выбежал из ларька. Благоухание теплой шавермы сбивало Костю с ног. Он остановился, прислонился к стене дома и принялся есть с остервенением шакала. Из соседнего ларька с шавермой, возле которого, в отличие от заведения Гасана, не было ни души, через стекло на Костю глядело несколько удивленных лиц. Не обращая на них внимания, Костя трапезничал и когда, наконец, последний кусочек шавермы был поглощен, Костя погрозил зрителям кулаком.
Костя возвращался в офис в приподнятом настроении, сил заметно прибавилось. И появилась тяга к жизни, необъяснимая и восхитительная, как сама жизнь. Косте хотелось каждую минуту проживать как последнюю, не тратить время на пустяки и сосредоточиться на главном. А этим главным была работа.
— Доброе утро, — довольно вальяжно начал он разговор с очередной фирмой из справочника. — Это компания «Запчастьпром»? Я представляю издательский дом «Прорыв» и у меня есть предложение по рекламе, от которого трудно отказаться. С кем я мог бы это обсудить?
В трубке послышалась суета — не наигранная, а вполне реальная. Вместо того чтобы перевести звонок по внутреннему коммутатору секретарша сорвалась со своего места и куда-то побежала, спотыкаясь и перед кем-то бесконечно извиняясь. Наконец сквозь звук прикрываемой ладонью трубки Костя различил: «Алла Сергеевна, это «Прорыв», они сами позвонили, это срочно».
— Слушаю, руководитель отдела маркетинга Алла.
— Издательский дом «Прорыв», Константин Сергеевич, менеджер по рекламе. Мы формируем новые номера наших изданий, есть возможность разместить рекламу оперативно и со скидкой, если размещаться сразу в нескольких журналах, — Костя приглушил голос. — Вас заинтересовало мое предложение?
— Заинтересовало, Константин Сергеевич, — кокетливо ответила Алла. — Вы умеете заинтересовать и как раз в нужный момент, когда мы провели совещание и выяснили, что по части рекламы у нас полный блэк аут.
— Что-что?
— Блэк аут, Константин Сергеевич, — вежливо произнесла Алла, и Костя почувствовал, что успех, а значит, и деньги, уже где-то близко. — Это такая ситуация, когда без вас нам совсем никак не обойтись. Так, сегодня пятница. Как думаете, успеем все сделать за сегодня?
— Почему же нет? Успеем, конечно, — ответил Костя, но тут же испугался, вдруг за день не получится переправить все документы и получить гарантийное письмо на оплату. — Вернее, надо подсуетиться. А как насчет денег? Как будете оплачивать?
Костя ощутил рядом с собой чье-то тяжелое и довольно зловонное дыхание: слева, заступив за стеклянную перегородку, стоял Павел Витальевич и, вытянув свою толстую, как у бегемота, шею, внимательно слушал. Махнув рукой перед самым носом Павла Витальевича, Костя заставил его отступить.
— Оплачивать будем оперативно, как только получим все реквизиты, прайс и медиаплан. Ой, секундочку, — Алла принялась рыться в каких-то бумагах, шелест которых через телефонную трубку отдаленно напоминал шорох занавеса в каком-нибудь средней руки театре. — Смотрю на наши макеты. Ваши издания нам смогут выделить по целой полосе? Мы не хотим, чтобы рядом с нами, с нашей рекламой на одной странице размещались конкуренты! Этого нельзя допустить, Константин Сергеевич!
«Не смешите меня, Алла, какие конкуренты? Тот болван, который резиновые гофры хотел натягивать на девушек в бикини?» — подумал про себя Костя, но озвучить подобное он не мог даже несмотря на потрясающее настроение и бодрость.
— Окей, Алла, я понял про полосы. Это не вопрос, выделим отдельную. У меня есть номер факса, все бумаги перешлю в течение получаса. И составлю договор и счет на оплату. По полосе в свежих номерах наших четырех журналах, считайте, уже за вами. Договорились?
— Договорились, — соблазнительно ответила Алла. — А чтобы мы не потеряли друг друга, ближе к концу дня я пришлю в ваш офис курьера со всеми бумагами и гарантийным письмом на оплату, если, конечно, оплата не пройдет раньше. Сейчас пну нашу бухгалтершу, старую клушу, чтобы поторапливалась, как только получит документы.
Косте стало бесконечно приятно, что ради него начальство совершенно посторонней организации не просто готово пошевелиться, а даже как следует встряхнуть планктон у себя в офисе. Необъяснимая штука — когда ругают одних менеджеров за нерасторопность и лень, другие редко когда вступаются. Их согревает мысль, что ругают не их, а кого-то другого, что выдает в планктоне отсутствие какой-либо внутренней организации, синергетических факторов, характерных для социальных групп. Планктон — он и в Африке планктон.
— Отлично, до связи! — сказал Костя и повесил трубку.
— Вы поглядите на него! Станиславский, да от тебя за километр разит шавермой! А так сопротивлялся вначале, не хотел идти. А теперь и обедает шавермой, и завтракает.
— Да, завтракаю, потому что другого завтрака, Павел Витальевич, у меня просто не было, — Костя ударил рукой по столу, но попал по телефонному справочнику.
Напротив названия фирмы, в которую звонил только что, Костя демонстративно, так, чтобы Павел Витальевич это видел, нарисовал огромных размеров крестик.
— Что, дело клеится?
— Понемножку, — Костя суетился, открывая на компьютере файлы с бланками документов и вписывая в них то, что было необходимо для их дальнейшего движения по бюрократическому механизму. — Спасибо за совет с шавермой.
И давай до обеда не будем друг друга отвлекать, работы полно.
— Ого! — удивился Павел Витальевич, возвращаясь за свой стол и открывая телефонный справочник. — У всех до обеда тишина, а у него работы полно!
Костя же носился, как заведенный. К принтеру, обратно за стол, в бухгалтерию, снова к принтеру. За несколько часов он успел обзвонить и подготовить документы сразу для нескольких фирм. Дело явно спорилось, сил не убавлялось, и пока сонный офисный планктон лишь разминал косточки, Костя успел не только наверстать упущенное, но и сделать двухнедельную норму по продаже рекламных площадей в журналах. Он улыбался сам себе — до того ему нравилась эта работа, череда производственных забот и чувство радости оттого, что получается все, за что бы он ни брался.
Неумолимо подходило время обеда. В первые дни работы Кости в издательском доме оно тянулось, и ничто не могло хотя бы немного ускорить его течение. А здесь — всего лишь порция шавермы.
— Идешь? — за перегородку с некоторой опаской перегнулся Павел Витальевич. — Мы обедать, да и тебе неплохо было бы проветриться. Иначе всех клиентов успеешь окучить за время обеда.
Из-за соседней перегородки послышался смех. Тезка Кости, Константин Александрович, поправлял галстук в силу своей дешевизны больше похожий на цветную тряпочку, подхихикивал и, решив, что с галстуком поделать он что-либо не в состоянии, просто снял его, распустив узел.
— Ага, без зарплаты нас оставит, голодранцами помоечными, только шавермой и будем питаться, — голосом евнуха пропищал Константин Александрович и пулей выбежал в коридор, а затем и на лестницу, желая, очевидно, опередить коллег в очереди к заветному ларьку.
«Не представляю, как бы я отреагировал, если бы такой менеджер с таким голосом позвонил мне и начал бы втирать про какую-то рекламу, — подумал Костя, которому голос Константина Александровича до этого разговора казался ниже и приятнее, очевидно, благодаря спасительной перегородке. — Хоть бы фильтровали как-то народ при приеме на работу».
Когда перед взором Кости и Павла Витальевича появились вывески «Шаверма» и «Лучшая шаверма в городе», то у ларька с первой уже стояла огромная очередь, а шавермеры из второго ларька стояли и смотрели на все это, эмоционально перекрикивая друг друга на каком-то непонятном языке.
— Может, там попробуем? — предложил Костя, которому не хотелось выстаивать огромную очередь. — Смотри, никого.
— Ты что, сдурел? — лицо Павла Витальевича побагровело так, как будто очередной потенциальный рекламодатель по телефону отправил его лизать бананы в субтропиках. — Во-первых, там дороже и намного, а, во-вторых, мы же идем к Гасану, у него проверено, не отравишься.
— А там что, можно отравиться? — Костя кивнул в сторону ларька-конкурента, не видя особой разницы ни во внешнем виде персонала, ни в мясе, поблескивавшем каплями жира.
— Так, Станиславский, даже не смотри туда! — Павел Витальевич толкнул Костю в спину, так как очередь подвинулась. — Мы как-то раз попробовали с ребятами шаверму в другом ларьке, он стоял здесь до этого. Тут много конкурентов объявлялось. Думали, если к Гасану стоит целая толпа, значит, ее можно переманить и к себе. И что из этого получалось? Да ничего!
Сходили разок, не понравилось, потом траванулись и решили, что больше ни ногой к кому-то другому.
— И сильно отравились? — поинтересовался Костя, копаясь в бумажнике.
— Ты у Ирки спроси, ну, которая Ирина Федоровна. Мы-то легко отделались, парни водкой расстройство живота лечили. А она, видать, чувствительная, в больницу попала, два дня промывали, потом еще неделю отлежала.
Вернулась к нам похудевшая килограммов на десять, помолодевшая, но довольная, что одиннадцать сантиметров в талии гудбай. Только синяя она была какая-то, бледнющая.
Павел Витальевич заржал так громко, что очередь на него невольно обернулась.
— Это наши, — раздалось в толпе.
Нервно поглядывая на часы, Костя, как и утром, схватил сверток с шавермой, расплатился и, выйдя из ларька и отойдя к стене дома, принялся трапезничать. Должно быть, любопытная картина открывалась жителям дома напротив: в течение всего дня к невзрачному и в чем-то даже отталкивающему ларьку с шавермой приходили хорошо одетые менеджеры — и далеко не самого низшего звена — покупали, облизываясь, шаверму, и поедали ее тут же, в грязной подворотне, нагнувшись вперед, чтобы не испачкать просачивающимся сквозь оберточную бумагу жиром дорогие сорочки и галстуки. Это смахивало на помешательство, на массовый психоз, причиной которого была шаверма, самая обыкновенная шаверма, шавермос вульгарис. Зрелище впечатляющее, сродни флеш-мобу, правда, не разовому, а повторяющемуся изо дня в день в течение многих лет.
Возвращался в офис Костя вприпрыжку. Вдобавок к любви к жизни и нахлынувшему оптимизму в нем проснулась страсть: ему хотелось обнимать каждого просто улыбнувшегося ему, хотелось кричать, как все здорово и какие все вокруг молодцы. Наконец, даже Ирина Федоровна, до того не казавшаяся Косте даже симпатичной, не то, чтобы красавицей, в одно мгновение сделалась идеалом. Костя даже потер глаза, как и любой приличный человек, думая, что это какой-то оптический обман, что не бывает такой короткой юбки и столь зауженной сверху и откровенно прозрачной блузки.
— Ирина Федоровна, да вы мой ангел-хранитель! — заявил Костя, зачем-то положив руку на ее левую ягодицу.
— Константин Сергеевич, держите себя в руках, — сквозь зубы процедила, озираясь по сторонам, Ирина Федоровна. — У вас полно работы, и, насколько я помню из личного дела, который я лично заводила, в графе о семейном положении у вас написано, что вы…
В этот момент Костя положил вторую руку на вторую ягодицу Ирины Федоровны, за что получил звонкую пощечину.
— Так, Константин Сергеевич, давайте-ка полегче. И, между прочим, обеденный перерыв уже закончился. Марш на рабочее место!
Руки Кости как-то сами собой перестали держаться за чужие ягодицы. Через полминуты он уже не помнил об этом происшествии. А силы все прибывали и прибывали: Костя пел себе под нос, улыбался и раздавал направо и налево воздушные поцелуи. Такой легкости в теле у него не было никогда. Руки и ноги ничего не весили, они как будто плыли по воздуху.
— Что-то ты разошелся, Станиславский, — заметил Павел Витальевич. — Ты случайно шаверму пивом не запивал? Смотри, если поймают за этим делом, то у нас с этим очень строго, начальство терпеть не может пьяных в офисе.
При слове «начальство» Павел Витальевич недвусмысленно кивнул в сторону бухгалтерии, но, казалось, что Ирина Федоровна только довольна таким вниманием к своей персоне.
— Неа, никакого пива, — бросил Костя и сел за свой стол.
Он открыл справочник на нужной странице и стал водить по ней пальцем — пренебрежительно, слегка манерно, и при этом продолжая улыбаться. Только к улыбке прибавился едва заметный тик: Костя начинал дрожать, но не от холода, так как в офисе было душно. Найдя фирму, название которой Косте приглянулось больше, чем все остальные, он набрал номер. Трубку долго не снимали, наконец, ответил равнодушный женский голос:
— Компания «Ремсвязьнадзор», добрый день.
— Здравствуй, красотка. Я представляю издательский дом «Прорыв» и у меня очень мало времени, так как через несколько часов четыре наших журнала отправятся в верстку.
— Ой, — испуганно взвизгнула секретарша. — Подождите, соединю с директором.
Костя терпеливо ждал, пока в трубке играет музыка. Он покачивался на стуле, дергался и улыбался. Ждать пришлось долго: либо секретарша объясняла своему начальству, в чем состоит дело, либо начальство было занято. Впрочем, обычно в таких ситуациях бывает и то, и другое.
— Слушаю вас, — ответил хриплый мужской голос, и Костя от неожиданности даже подпрыгнул. — Мне сказали, что у вас предложение по рекламе, и оно очень горящее?
— Горящее некуда, — ответил Костя.
Теперь уже он издевался над потенциальными рекламодателями, а не они над ним. Уже он мог себе позволить предлагать натягивать в рекламных целях резиновые гофры для канализационных труб на манекенщиц и просить креативить, причем здесь и сейчас. Шаверма делает из голодного сытого, из неуверенного в себе уверенного, из скромного раскрепощенного — да, все это было про Костю. Он и сам ожидал, что все это непременно будет, что на этот раз успех его не минут, но чтобы в таких масштабах.
— Мы уже размещались у вас, а потом мы уволили человека, который за это отвечал, все контакты как-то затерялись, — продолжал хриплый голос. — У нас все готово, рекламный модуль на половину полосы, готовы выслать его хоть сейчас. И прямо сейчас хочется получить документики на оплату, на все четыре журнала, пожалуйста, на ближайшие номера. Все-таки пятница-развратница, сами понимаете, хочется сбежать с работы пораньше. А погоды-то какие стоят!
Внутренне Костя соглашался и с погодой, и со спешкой. Но только когда хриплый голос говорил про половину полосы — всего-навсего! — Костя поморщился. Почему-то это показалось ему мелочным после рекламной кампании, которую он сумел продать накануне и своими утренними подвигами.
— Уже высылаю, — лениво ответил Костя. — Все по факсу, оформите, назад пришлете с курьером и пообщаетесь с бухгалтерией. Да и что я вам тут рассказываю, если все уже знаете.
Костя не стал дожидаться ответа и бросил трубку. Конечно, он помнил слова Павла Витальевича о том, что все разговоры по телефону записываются и при всех подозрительных ситуациях начальство их прослушивает. Но им обуревала легкость, желание что-то делать, двигаться вперед и еще раз вперед. Как и все, Костя в детстве мечтал стать летчиком — и если бы ему сказали, что он станет микрочастичкой офисного планктона, будет носить неудобные брюки, жмущие в пятках ботинки, чудовищного цвета галстук и зваться Константином Сергеевичем, то он просто плюнул бы вслед тому, кто это сказал. Вокруг все летело, как и Костя по офису. Казалось, мечта сбывается в каких-то локальных масштабах, в отдельно взятом офисе.
Наступление на производственном фронте продолжалось. Костя шел в атаку.
— Компания «Мегакардан»? Это издательский дом «Прорыв». Слушайте внимательно и ничего не упустите…
— Алло, фирма «Снабантифриз»? Издательский дом «Прорыв» на проводе. Реклама горит, но вы еще успеете, если сейчас не прозеваете…
— Слушайте внимательно, если это фирма «Клаксон плюс», если нет, то считайте, что повезло вам, а не им. Это издательский дом «Прорыв», сейчас мы должны договориться о размещении рекламы, но мы очень спешим…
Костя с воплями прошмыгнул с бумагами в бухгалтерию, до смерти напугав Ирину Федоровну. Все были заняты своими делами, и никто ничего не заметил — в послеобеденное время работа кипела, реклама продавалась, телефоны раскалялись докрасна. Костя вернулся обратно к своему столу, но неожиданно, вместо того, чтобы присесть на стул и продолжать работать, запрыгнул на стол и прокричал что-то нечленораздельное:
— Его-егу-егу-гу!
При этом он бил себя кулаками в грудь, словно Тарзан в старом голливудском фильме. Поначалу на него не обращали внимания, такова офисная привычка дистанцироваться и ограждаться от всего, что происходит вокруг, ради усилий, сулящих процент к зарплате в конце месяца. Но ничто человеческое, в том числе и любопытство, офисному планктону не чуждо, и удивленные взоры устремились, в конце концов, к Косте и его столу. Это был уже не стол, а настоящая сцена какого-нибудь захолустного варьете. А Костя был его звездой. Костю трясло, он продолжал кричать и колотить себя в грудь.
— Станиславский, ты в своем уме? Ты что, рекламу в Кремль продал что ли? Или весь номер журнала распродал? — боязливо поднимая голову, интересовался Павел Витальевич.
Костя не отвечал. Ирина Федоровна наблюдала за представлением недолго: ее рука потянулась к телефону. В этот момент Костя хлопнул в ладоши и засвистел как Соловей-разбойник. Будь у него метла или ступа, и он бы полетел на них — единственный вопрос куда. В офисе было тихо: никто не говорил по телефону, кроме Ирины Федоровны, никто не шелестел документами, не отматывал скотч, не гремел папками, не стучал по компьютерной клавиатуре.
— Помешательство нервное у него, — пропищал Константин Александрович. — Я такое в интернете видел, сначала срываются, а потом громят все подряд.
Слова оказались пророческими: Костя спрыгнул со стола, перевернул его и принялся топтать рассыпавшиеся бумаги и разбившийся телефонный аппарат.
— Ох, — простонала Ирина Федоровна. — Остановите его!
Четверо менеджеров с опаской подошли к столу Кости и, не решаясь приблизиться, стояли за перегородкой и наблюдали за тем, что будет дальше.
— Реклама, мать вашу! Да кто вы такие! А я, я продал за два дня все! И что мне за это будет? Жалкий процент! А я и не такое могу! Да они сами умоляют меня, чтобы я высылал документы. Да они без меня не могут. И вы все тоже не можете! Рожденный ползать летать не может! Оно и понятно, слышите? Не может! Это я про вас, что уставились?
Неожиданно для всех Костя упал навзничь. По офису прокатилось эхо испуга. Рекламный отдел замер в испуге. Павел Витальевич даже покрылся испариной и медленно стек на стул. Ирина Федоровна в нетерпении теребила массивный золотой кулон, раскачивавшийся на ее немного кривой шее на не менее массивной золотой цепочке.
— Смотрите, — сказала она подошедшему высокому седому старцу в дорогом лоснящемся костюме. — Константин Сергеевич, там…
Константин Сергеевич уже бился в конвульсиях, продолжая пытаться что-то кричать.
— Врача бы кто-нибудь вызвал, — робко произнес Павел Витальевич.
Но тут Костя вскочил, как ни в чем не бывало отряхнулся, поставил перевернутый стол на место, собрал разлетевшиеся листы бумаг и принялся прилаживать к телефону отвалившуюся при падении переднюю панель и выскочившие кнопки.
— Работаем, цирк закончен, — громко скомандовала Ирина Федоровна, и офис снова загудел, зашелестели документы, застучали клавиатуры компьютеров, затарахтели принтеры и защелкали скоросшиватели в папках.
Что с ним произошло, Костя до конца не осознавал. Для него это было сродни мигу ликования, когда само ликование, само его содержание оказывается гораздо важнее формы выражения. Кто-то пишет смс-ки любимым и хвастается успехами, кто-то делает то же самое в кабинете у начальства, тайком, во время совещания. Кто-то никак не выражает переполняющие его производственные эмоции. А у Кости, благодаря съеденной шаверме, отыскались силы сотворить нечто более выразительное. «Верю», — сказал он сам себе. Чем не Станиславский?
— Константин Сергеевич, по-моему, сегодня вам можно идти домой и как следует отдохнуть, а в понедельник на свежую голову мы пообщаемся по поводу ваших… — сказал седой старик в костюме и запнулся, видя спокойную реакцию Кости.
— Конечно, поговорим! — согласился Костя. — За два дня я продал столько, что мне полагается чуть большая премия. Так в договоре написано. И хотя я только на испытательном сроке и понимаю, что просить что-либо неэтично, но все же попрошу подумать. Я ведь старался.
Старик покачал головой, как показалось Косте, вполне одобрительно и дружелюбно. Выходя из офисного здания на улицу, Костя впервые ощутил, что значит выложиться по полной: вслед за дикой энергией, истраченной на общение с рекламодателями, беготню по офису, оформление бумаг, пришло истощение сил. Ему снова дико захотелось шавермы, но как бы она ни была дешева у Гасана, третью за день он позволить себе не мог. Костя зашел за дом, увидел очередь, стоявшую в ларек к Гасану и полное отсутствие народа у ларька конкурентов, вздохнул, облизнулся и поспешил по своим делам.
Костя шел домой и из последних сил старался бодриться. Грустить было нечего. Успехи в рекламном отделе воодушевляли его. «Такое не снилось даже этому Павлу Витальевичу, да и Константину Александровичу тоже», — ухмыльнулся про себя Костя.
— Чего так рано? — заскрипела жена, не отрывавшая взгляд от телевизора. — А, сегодня же пятница. Ты помнишь, Костик, что сегодня пятница?
Конечно, Костя помнил, что пятница — это тот день, когда его жена обычно делает телевизор вечером потише для того, чтобы они могли уделить друг другу немного времени. Совсем немного, потому что по одному из каналов вот уже полгода по пятницам поздно вечером идет сериал про маньяков, и она ни в коем случае не должна пропустить очередную серию. Отношения Кости с женой были, мягко говоря, неформатными, и лишь каждую пятницу вечером входили в какую-никакую, но привычную стезю.
Стараясь угодить жене, Костя собирал оставшиеся силы. Возможно ли до нее было донести, что день выдался настолько горячим и изничтожающим, что их супружескую пятницу было бы лучше перенести на субботу или сразу на воскресенье? Костя понимал, что это столь же нереально, как и изобрести вечный двигатель, потому повиновался. Но это повиновение оборачивалось против него.
— Ах ты тварь, кобель проклятый! — заорала жена. — И дернуло же меня, глупую, выйти за тебя. Теперь ясно, на какую работу ты устроился! Меня уже полчаса мурыжишь, а результата никакого. Ясно, уже порадовал какую-нибудь красотку на работе, да? Быстро говори, кто она!
— Да… ты что, нету у меня никого, кроме тебя, — опешил Костя. — Просто я поел шавермы на завтрак и на обед, и потом много работал, силы израсходовались. Так же нельзя жить, даже не завтракая и все время на нервах. Нельзя. Ты слышишь меня, любимая?
— Силы? Я тебе покажу! Быстро говори, кто она! Блондинка или брюнетка? Старше тебя? Или молоденькую подцепил, тварь?
Жена грозила кулаком перед самым Костиным носом. Костя не знал, что ответить. Факты были налицо, но как объяснить, оправдаться, дать понять, что ничего такого и близко не было? Костя получил удар по лицу и ножом в сердце — первый самый что ни на есть реальный, даже в переносице что-то хрустнуло, второй не более чем моральный, но от этого не менее болезненный.
Свое горе Костя запил горькой, а когда утром проснулся — впрочем, это было уже далеко не утро — в квартире ни жены, ни большей половины вещей не было. Осталась кровать, на которой Костя лежал почему-то поперек и со связанными полотенцем руками. На голом полу стоял телевизор, в углу на полу свалены книги, с кухни исчезла почти вся посуда, микроволновка, пылесос и все остальные мелочи, представлявшие хоть малейшую ценность. Одежда Кости была тоже выброшена на пол. Как удалось все это вынести из квартиры всего за ночь и за утро, для Кости было полнейшей загадкой.
На холодильнике, который уцелел, наверное, только потому, что не проходил в дверной проем, прижатая магнитом висела записка.
«Этого я тебе не прощу никогда. Ты не смел со мной так поступить. Я лучше, чем эта молодая швабра. Не ищи меня. Будьте счастливы. Бумаги на развод пришлю по почте. Я»
Костя открыл холодильник. В нем было абсолютно пусто. «Не холодильник унесли, так жратву, что за…», — выругался Костя. Под сводами кухни звучало эхо: шторы на окне, тяжелые, коричневые, с причудливым узором тоже отсутствовали. Сесть было не на что: Костя мысленно попрощался с любимыми скрипучими табуретками, на которых так хорошо было коротать долгие зимние вечера.
С трудом понимая, что происходит, Костя сел прямо на пыльный пол и зарыдал. События предыдущего дня для него были как в тумане. Работа, работа и еще раз работа, какая-то беготня, суета вокруг него. Уход с работы домой пораньше, слабость и жена со своими претензиями. Желание заснуть поскорее, забыться, провалиться в пасть морфея и не выныривать оттуда до утра, а в результате до середины дня. Голова болела. Обида сжимала горло. Решив, что уход жены нужно принять мужественно, как есть, Костя встал, открыл кран и долго пил холодную, пахнущую ржавым железом водопроводную воду. Он даже улыбнулся, что все так вышло.
— Что ж, начну жизнь с начала, с чистого листа, как в книжках пишут, — Костя бубнил себе под нос. — Квартира есть, моя, ее никто не отнимет. Это раз. Второе. Работа. Она у меня прекрасная, все получается и жаловаться не на что. Третье…
Третьего Костя припомнить не смог, но это нисколько не испортило созданное им же самим хорошее настроение. Все выходные он просидел дома, лежа на кровати и уставившись в телевизор. Впервые в жизни он мог позволить себе все выходные нежиться в постели перед телевизором! Стоило ли для этого пахать столько лет на разных работах, ругаться, встречаться, жениться, снова ругаться, переходить с работы на работу, чтобы прокормить жену? Наверное, не стоило. И не потому, что мещанство так проводить выходные. А потому, что это стоило сделать еще задолго до всех этих перипетий.
Утром в понедельник, вскочив по чудом не унесенному женой будильнику, Костя так и не нашел утюга, чтобы погладить рубашку, и надел ее во всем ее естестве — такую, какой она сделалась на полотенцесушителе в ванной. Завтракал Костя остатками печенья, чаем без сахара и тушенкой, это было последнее из съестного в квартире.
Рекламный отдел отходил от выходных. Менеджеры перелистывали за перегородками телефонные справочники, нехотя общались по телефону, постукивали карандашами, рисовали напротив названия фирм прочерки и все повторялось. Едва Костя появился на рабочем месте, открыл свой справочник и потянулся к телефону, на горизонте появилась Ирина Федоровна.
— Константин Сергеевич, у меня к вам разговор. Выйдем?
— Разговор? — удивился Костя, — Может, в обеденный перерыв? Мне нужно обзвонить несколько фирм, лучше это сделать сейчас, утром. По графику мы ведь уже в следующие номера журналов собираем рекламу?
Ирина Федоровна ничего не ответила, только нахмурилась и недовольная ушла к себе в бухгалтерию. Через минуту она вернулась с седым стариком, тем, что в пятницу запомнился Косте по лоснящемуся дорогому костюму. На этот раз, правда, он был в серой водолазке и джинсах. То, как он на ходу щелкал пальцами, не предвещало ничего хорошего.
— Константин Сергеевич, может, вы сами сделаете нужные выводы, и мы избежим этого неприятного для всех для нас разговора?
— Какого такого разговора? — спросил Костя, не оборачиваясь и разглядывая старика и стоявшую позади него Ирину Федоровну в отражении на органическом стекле перегородки соседнего рабочего места. — Вы про рекламные кампании? Так у меня все документы от фирм получены и макеты тоже. Все еще в пятницу сделано.
— Я понимаю, что сделано, — сказал старик, опираясь на перегородку так, как это обычно делал Павел Витальевич. — Мы вполне щедро вам за все заплатим, Константин Сергеевич, все по-честному. Только после того, что вы творили здесь в пятницу, вам больше у нас не работать. Вы уволены, Константин Сергеевич. Вопросы есть?
Костю передернуло. Он огляделся по сторонам, но другие менеджеры будто не замечали того, что происходило совсем рядом. Одни разговаривали по телефону, другие рылись в бумагах, третьи что-то искали в справочниках, четвертые стучали по клавиатуре, пятые лишь изображали, что они чем-то заняты. Но все они были слепы, немы и глухи. «Авторитет давит, все боятся пошевелиться и посмотреть сюда, — догадался Костя. — Видимо, это и есть великий и ужасный Арсений Владиленович, владелец издательского дома. Уволен! Это шутка?»
— Есть вопрос, — смело возразил Костя. — За что я уволен? Потрудитесь мне объяснить.
— Вопросы здесь задаю я, поэтому будем считать — вопросов нет, — старик щелкнул пальцами. — Видели бы вы, Константин Сергеевич, себя в пятницу со стороны! Жаль, у нас камера еще не установлена, и этого никто не заснял! Очень жаль!
— А что было со мной в пятницу? Я работал! — воскликнул Константин Сергеевич. — Проверьте, все документы на месте. Восемь, нет, девять фирм. Две рекламные кампании. Люди вперед деньги заплатили. И этого всего я добился!
Старик заулыбался, наклонился к нему так, что Костя почувствовал запах какого-то очень дорогого парфюма и чего-то очень приторного:
— Ты был обдолбанный в дерьмо, в настоящее дерьмо, братан. Я таких обдолбанных по самое не балуй в жизни не видел! Думаешь, приятно было твой шустряк наблюдать? Ты же сам чуть себя тут не уделал!
— Я? — почти прокричал Костя.
— Ты! — прокричал над самым Костиным ухом старик и добавил, снова понизив голос. — Так что ты уволен, убирайся отсюда и показывай свои наркоманские пляски в другом месте, но только не здесь.
— Да как вы смеете! Какой я наркоман? — закричал Костя и осекся.
Одно только подозрение в подобном мгновенно изничтожило его. Ирина Федоровна ликовала. Она хоть и не подавала виду, но простить Косте издевательство над собственными ягодицами, которые если и могли кому-то принадлежать, то только Павлу Витальевичу или просто Пашке, она не могла. Костя собрал свои нехитрые пожитки, состоявшие из подставки под мобильный телефон в форме руки и большой стирательной резинки и поплелся в бухгалтерию вслед за стариком и Ириной Федоровной. Старик сидел и смотрел, а Ирина Федоровна отсчитала деньги, дала подписать какие-то бумаги и затем показала на дверь. Костя даже не задумывался о том, что он подписывает: у него за плечами был большой опыт споров с начальством и увольнений, из которого он вынес главное — когда увольняют, сопротивление и лишние телодвижения бессмысленны.
Костя пересчитал деньги, долго и нервно засовывал их в бумажник — плевое ли дело, сумма немаленькая, с процентами с продаж и премиальными, да и заработок за четыре дня. Конечно, немаленькой сумма была как раз-таки из-за процентов. Старик в водолазке не обманул Костю, даже округлил получившуюся сумму в большую сторону: видимо, копеечная возня была не в его порядках.
На прощание Костя поклонился Ирине Федоровне, как делают артисты, уходящие со сцены за кулисы под жалкие жидкие аплодисменты.
— Эй, Константин Сергеевич, зонт забыл! — крикнул Косте вслед Арсений Владиленович, — Ты еще не настолько богат, чтобы разбрасываться такими вещами.
Что правда, то правда. Костя зашел обратно и принял из рук Арсения Владиленовича свой любимый зонт с массивной светлой рукояткой. По такому случаю Арсений Владиленович пожал ему руку и хрипло, совершенно безразличным тоном сказал:
— Удачи.
— И вам не хворать, — расплывшись в улыбке, искренне ответил Костя. — Чтобы контора процветала и конца и края этому процветанию не было.
Он шел к ларьку с шавермой, чтобы отметить это событие и впервые запивать полюбившееся лакомство не чаем из пластиковой одноразовой кружки, а пивом. Костя предвкушал, как он будет впервые есть шаверму не на бегу, а пристроившись у стойки, сделанной из какого-то притащенного явно с помойки деревянного подоконника.
Костя перешел через дорогу, затем между домов — и вот уже виднеются вывески «Шаверма» и «Лучшая шаверма в городе». Со своей близорукостью Костя не сразу сообразил, что мечты о шаверме так и останутся мечтами. Наоборот, сначала ему показалось, что у заветного ларька ни души. «Отлично, даже в очереди стоять не придется», — Костя потирал руки и даже зачем-то заскрипел зубами.
Но, как известно, бутерброд всегда шлепается на пол маслом вниз, да еще и в самое грязное место на полу, на какую-нибудь убитую муху или на следы от чьих-то подошв. Подойдя к ларьку, он увидел, что ларек разгромлен, вокруг все обтянуто красной полиэтиленовой лентой, как на местах преступления, а за ларьком, там, где он примыкал к стене дома, стоит машина милиции. Внутри ларька не было ни Гасана, ни шавермы. Даже обоняние обмануло Костю: ему казалось, что рядом скворчит аппетитное мясо, томится кисловатый соус, нарезаны овощи. Но это был лишь мираж.
— А что здесь случилось? Почему закрыли шаверму? — поинтересовался Костя у скучавшего в машине милиционера.
Милиционер взглянул на него как охотничий пес на дворового кота.
— Что, тоже ломает? Пришел к своему поставщику? Можешь идти обратно, здесь точку прикрыли.
— В каком смысле? — спросил Костя, — Я тут работаю… вернее, работал недалеко, всегда шаверму брал в этом ларьке. Вкусная, пальчики оближешь.
— Дооблизывался, — заржал милиционер. — Вон как подсел на эту шаверму, сам не свой. Некогда мне с тобой болтать, вали отсюда, а то сейчас оформлю как клиента этой точки, всю ночь просидишь с бомжаками в зассанной клетке в отделении, подумаешь там о своей шаверме.
Костя попятился назад, но все же еще раз решил осторожно спросить:
— Так что случилось-то? Когда шаверма заработает?
— Вали, по телевизору увидишь, — милиционер сплюнул на асфальт и поправил фуражку. — Журналюг тут было сегодня видимо-невидимо. Все спрашивали, сколько нужно было съесть, чтобы передоз случился. Идиоты, ей богу!
Испытывать терпение милиционера Костя не хотел, а потому ретировался. Вечером, кое-как устроившись на табуретке перед телевизором со своим холостяцким ужином, он смотрел все подряд новости. Что могло случиться в любимой им точке питания? На нее напали хулиганы? Кто-то не заплатил за шаверму и разгромил весь ларек? Что-то взорвалось? А как же Гасан? И почему тот милиционер сказал, что все можно будет увидеть по телевизору?
По телевизору же, как назло, показывали то осмотр корейской делегацией античных скульптур в Эрмитаже, то открытие новой водоочистной станции, то рассказывали о курсе доллара, который ползет куда-то не туда. И ни слова про ларек с шавермой.
«Вот, болтун», — уже было подумал Костя про милиционера, как увидел на экране знакомое лицо и знакомое место. Дрожащими руками Костя тряс пульт, пытаясь сделать звук громче. Шла криминальная хроника.
«Сегодня была пресечена деятельность точки по торговле наркотиками, ловко замаскированная под заведение общественного питания, — с плохо скрываемым восторгом рассказывал прыщавый и слегка картавый корреспондент. — Посетителям здесь предлагали не только перекусить, но утолить тягу к более тяжелой во всех смыслах пище. Наркоточку удалось ликвидировать благодаря жалобам жителей дома, рядом с которой она располагалась. Люди жаловались на запах растворителя, головные боли и тошноту. Не исключено, что вредная приправа попадала и в шаверму, которой перекусывали случайные прохожие и служащие из окрестных офисов. Задержанному организатору наркоточки грозит до десяти лет лишения свободы».
На экране замаячило лицо Гасана: оно было столь же невозмутимым, как в те моменты, когда он спрашивал, обычную или двойную шаверму делать, заворачивать ее в пакет или в бумагу.
Костя грустно вздохнул. Шаверма была действительно хороша. И если в ней и были те самые наркотики, о которых говорили в сюжете, то Косте на них было плевать. И даже если они были причиной его плохого поведения на работе, о котором он ничего не помнил, то тоже плевать. Плевать и на милиционера, который принял его за обыкновенного наркомана.
«Что ни делается, все к лучшему, — решил Костя. — А самое главное в жизни это все-таки еда».
Следующим же утром Костя поплелся к тому самому ларьку, рассчитывая, что хотя бы в соседнем, в котором предлагали «Лучшую шаверму в городе», он сможет как следует подкрепиться и отпраздновать свое освобождение из душных застенок рекламного отдела. А заодно и от жены, бесследно исчезнувшей со всем нажитым имуществом и с хламом, выбросить который рука не поднималась. Накрапывал противный дождь. «Лучшая шаверма в городе» спешно съезжала: из ларька выносили какие-то коробки и посуду.
«С ума сойти, сколько много всего может уместиться в маленьком ларьке!» — Костя покачал головой и встряхнул зонт, с которого стекали потоки воды.
Оцепление с ларька Гасана было снято. За ночь кто-то заменил в ларьке все разбитые стекла и даже вымел все осколки. Ларек был закрыт. К его двери была прицеплена какая-то бумажка. Костя прищурил глаза, но все же не мог прочесть, что на ней написано. Пришлось подойти вплотную и немного нагнуться. «Требуется продавец. Стучитесь».
На этом месте повествования мы можем поспорить, постучится ли Костя в ларек или нет. У тех, кто говорит, что не постучится, есть весомый аргумент: будет ли человек, неплохо и даже весьма успешно работавший менеджером в рекламном отделе крупного издательского дома, так низко падать. Хотя, падение ли это? У тех, кто утверждает, что постучится безо всяких колебаний, есть козыри: во-первых, Костя безработный и лишний заработок ему не помешает. Во-вторых же, учитывая вдруг открывшуюся страсть Кости к восточной кухне, исключать его стремление ознакомиться с ней поближе нельзя.
И, поколебавшись пару минут и поняв, что ботинки промокли насквозь, а сам бы он с большой радостью где-нибудь погрелся и что-нибудь съел, Костя взял и постучал. Стучать пришлось долго. Но оно того стоило: нужно было видеть лица Павла Витальевича, Ирины Федоровны и даже не гнушавшегося шавермы Арсения Владиленовича и прочих персонажей из «Прорыва», когда они пришли через день, а им, улыбаясь, подавал заветные свертки не кто иной, как Константин Сергеевич.
— Ну, ты даешь, Станиславский! Вот уж не думал, — только и смог сказать Павел Витальевич. — Теперь и здесь за четыре дня сделаешь месячную норму.
— Приятного аппетита, приходите к нам еще, — весело крикнул ему вслед Костя.
Константин Сергеевич снова был Костей. Таковым он стал после того как сбежал из душного офиса в не менее душный ларек, решив для себя, что лучше уж работать шаверма мейкером, чем гладить каждое утро себе рубашку и перекрывать себе доступ кислорода наспех завязанным галстуком. Нет, с галстуками однозначно покончено! Долой нервную работу на голодный желудок. Здравствуй, сытость и живое общение.
Тут и сказке конец. Вряд ли эту историю можно назвать сказочной. Впрочем, все дело заключается в том, какими глазами на нее смотреть. Широко открытыми или прищуренными, или со зрачком, суженым до микроскопического состояния. Правда, в последнем случае вы вряд ли сможете что-то воспринимать адекватно, и каждая, даже самая пустяковая, история будет казаться сказочной.
Исповедь хомяка
I
Господи, прости меня грешного, прости мою ненависть — даже не знаю, к чему больше. Вернее, не знаю совсем, к чему. С недавних пор я стал ненавидеть детей и детский смех, чужое веселье, чужое хорошее настроение, смех, праздник, сахарную вату, шашлыки и попкорн. Даже их запах приводит меня в бешенство, которое я боюсь, не решаюсь выдавать, особенно при ребятишках. При них я счастлив под маской. Господи, только не надо смеяться — под маской хомяка. Прости, Господи, что докатился до такой жизни. Впрочем, иногда она мне все-таки нравится, особенно когда нувориши приводят развлекать своих барчуков, а сами отдыхают под сенью зонтиков бара. Набегаешься с ними, умаешься, а родители хотят спокойно посидеть еще часок-другой и просят развлечь их чадо, не безвозмездно, конечно.
— Вот, возьми, — заплывший жиром дядечка, лысый, с десятками шрамов на лбу и затылке, сунул мне в лапу свернутую купюру. — Займи чем-нибудь мою малышку, нам с братанами нужно перетереть кое-что.
Купюра тут же отправилась в кассу — просто потому, что в моем костюме карманы вообще не предусмотрены. Братаны, такие же лысые, в шрамах и с татуировками, в накинутых поверх тренировочных костюмов кожаных куртках, мирно сидели, исходили потом под навесом и потягивали пиво.
— Хомяк, — истошно завопила девочка лет пяти. — Я хочу с тобой играть в догонялки!
«В догонялки так в догонялки, — меркантильно подумал я. — За деньги я буду играть во что угодно».
— Догоняй меня! — крикнул я и помчался по парку.
За нами увязались и другие дети. В какой-то момент я оглянулся: за мной мчалась целая толпа ребятишек, грозившихся наброситься на меня и устроить что-то вроде кучи-малы. Бежать летом, почти в тридцатиградусную жару в костюме, который весит без малого десять килограммов, это безумие, вернее, это работа такая — аниматор. Все дети норовят потрогать меня, подернуть за лапу, но есть и такие, кто норовит истязать. Для них я такой же зверь, что и дома, в клетке или трехлитровой банке, которого можно отпускать бегать по полу и дразнить фантиком от конфеты, привязанным на нитке.
Пока я бежал и раздумывал о своей жестянке-жизни, какой-то проворный мальчишка схватил с газона палку — и откуда она только там взялась? — и устремился ко мне быстрее всех. «Хомяк-хомяк!», — орали дети. А мальчик этот настиг меня и ткнул палкой сзади, прямо под хвост хомяка, представлявший собой огромный коричневый помпон.
Я взревел: для того, чтобы выдержать летнее пекло, под костюм я не надевал практически ничего. Мне ясно послышалось, как затрещали сзади на костюме швы. Затрещали, но выдержали. Господи, дай здоровьичка китайским гастарбайтерам, сшившим этот дурацкий наряд где-то в Подмосковье! Благодаря их стараниям и крепким ниткам я не был изнасилован грязной, покрытой лишайником, но довольно крепкой палкой, зажатой в руке пятилетнего изверга на глазах других детей и их родителей в воскресный летний день прямо посреди парка развлечений. Большего позора и придумать сложно. Мальчик продолжал размахивать палкой, а я, изогнувшись, внимательно исследовал заднюю часть своего костюма. Дети попритихли, должно быть, сообразили, что чуть было не случилось что-то страшное.
— Я убил тебя, хомяк, — глотая буквы и шмыгая носом, заявил сорванец. — Мама, смотри, я убил хомяка! Я убил его! Это моя добыча.
— Это мой омяк, — уверенно сказала девочка, дочка того самого братана, что заплатил мне за состоявшееся сафари. — Мне его купил папа.
Она топнула ножкой, чтобы показать свою значимость, свое превосходство. Мол, у него родители непонятно какой породы, а у нее папа вполне презентабелен, украшен наколками и шрамами на голове, говорит хрипловатым голосом и такое чувство, что во внутреннем кармане кожаной куртки носит с собой заточку с рукояткой, перемотанной синей изоляционной лентой.
— А я его убил и теперь это мой хомяк, отвали, ищи другого хомяка, — не унимался мой мучитель.
Девочка подошла и схватила меня за руку, которой я, чуть отвернувшись, чтобы не особо смущать народ, в панике обследовал швы под помпоном.
— Мой хомяк, я сказала! Сейчас позову своего папу, и он пошлет тебя на х*й!
Господи, истина глаголет устами младенца. Мат подействовал магическим образом. Вдобавок девочка показала пальцем в сторону крайнего столика кафе, где сидели братаны. Мальчик заплакал, бросил палку и с криком «Мама!» убежал. Мне даже стало немного жаль его: вот вырастет эта девочка и представить трудно, как будет она себя вести, если в свои лет пять со знанием дела уже кроет матом.
Девочка смотрела вслед убежавшему мальчику с некоторым злорадством, затем повернулась ко мне и скомандовала:
— В догонялки, хомяк! Я буду тебя догонять, а ты убегай.
Я бежал, а сзади гурьбой меня преследовали дети под предводительством той самой девочки. Я постоянно оборачивался и не мог бежать спокойно и смотреть вперед, чтобы не наткнуться на какое-нибудь препятствие в виде дерева или ограды клумбы. Мне казалось, что обязательно найдется в толпе кто-то проворный, кто продолжит начатое и, подобрав с земли какую-нибудь очередную палку, в размаху всадит мне ее прямо под помпон. Тело в том районе стало вмиг каким-то гиперчувствительным, по спине заструился пот. Мы сделали большой круг по парку, промчались мимо аттракционов, мимо кафе, мимо толпы торговцев мороженым, поп-корном и сахарной ватой, снова вернулись к аттракционам, а оттуда на лужайку.
Мои силы были на исходе, температура внутри костюма поднялась до какой-то совершенно запредельной. Все это напоминало то ли солярий, то ли интенсивное похудение, когда в поисках лучшей фигуры люди обматывают себя садовой пленкой для парников, сверху напяливают что-нибудь шерстяное и, виляя задницей, часами деловито бегают где-нибудь в парке, изображая из себя спортсменов.
Мое тяжелое, хрипящее дыхание только раззадоривало ребятню.
— Это мой хомяк, — продолжала твердить девочка. — Если кто-то обидит моего хомяка, то я скажу папе, и он пошлет всех на х*й!
«Господи, да она тут всех детей научит сейчас ругаться матом, — подумал я.
— Хотя, лучше уж здесь и от смышленой сверстницы, чем дома от полупьяных дядь и теть».
— На х*й! — словно услышав мои мысли, грозно повторила девочка.
Дети попритихли, и это дало мне пару минут передышки. Они принялись водить вокруг меня что-то вроде хоровода: чувствуя себя загнанным зверем, я просто сидел на траве и пытался прийти в себя. Развязка наступила сама собой. Издалека вдруг послышались резкие сдавленные крики.
— Марьяна, ты чего, совсем не слышишь ничего? Тебя, бл**ь, зову. Сколько можно? Подойди, когда батя зовет, а не бегай за этим уе**щем. Оставь его, идем, мама ждет.
Господи, прости меня, но мне хотелось в тот момент разреветься. Что я мог поделать? Все происходившее казалось мне почти идеальной семейной идиллией: папа с бурным криминальным прошлым, да и, судя по всему, настоящим решает провести выходные с семьей, приводит любимую дочку в парк развлечений, нанимает ей личного аниматора, а сам с друзьями интеллигентно беседует в расположенном неподалеку кафе. Но вся идиллия рухнула так, будто ее и не было вовсе. И правильно, нечего строить догадки на пустом месте, там, где их и вовсе не должно было быть.
По парку меня гоняли дети по жаре до самого вечера. Директор парка, экзальтированная дама бальзаковского возраста, изредка выглядывала из окна своего разрисованного зайчиками и мишками вагончика, приподняв нависающие жалюзи. Видимо, проверяла, жив ли я еще.
Так получилось, что я оказался единственным аниматором на весь парк. Был еще Супермен, но у него родила жена, и он отпросился на пару недель, чтобы сделать ремонт дома, приготовиться к переезду жены с ребенком, а заодно и тещи с одной квартиры на другую. Заяц был в очередном запое, а тот, который бегал в костюме Винни-Пуха, в один прекрасный вечер, еще задолго до моего повышения по службе до аниматора, замученный детьми, послал директрису туда же, куда девочка по имени Марьяна угрожала послать всех тех, кто мешал ей играть с ее хомяком.
Вечера в парке развлечений — самая страшная картина из всех, что мне когда-либо приходилось видеть. Останавливаются аттракционы, клоуны смывают грим и становятся обыкновенными, весьма спитыми людишками, нисколечко не смешными, раздраженными, спешащими по своим неотложным делам и не находящими в себе сил даже попрощаться, сказать «До встречи!», пожелать приятного вечера. Стихает гремящая музыка, выпроваживаются последние запоздавшие посетители, почти всегда нетрезвые, требующие продолжения праздника и прокатиться на колесе обозрения «еще один разочек». Господи, если бы ты видел их, этих потных, немытых, издающих запах перегара на многие километры вокруг! И ради них мы работаем? И их мы развлекаем? Развлекаем, прости, Господи. Развлекаем, как умеем.
— Костюм не порвал еще? — спросила директриса, когда я в конце дня сидел на полянке под деревом и пытался перевести дух. — С такой беготней и недалеко до этого.
Она протянула мне чашку с водой и бумажную тарелку, на которой на салфетке лежали две сосиски в тесте: в конце дня вся нераспроданная выпечка из кафе раздавалась персоналу с собой или съедалась прямо в парке. Я только и смог, что кивнуть в благодарность, и с яростью набросился на еду.
— Я видела из конторы, как тебя ткнул палкой мальчик, — призналась директриса и пожала плечами. — Да, негодяй, но что поделать, контингенту нас такой и другого не предвидится.
— Ткнул так, что…
Мне не хотелось ругаться, а без ругани было никак невозможно объяснить, что же на самом деле произошло, и что я почувствовал. Прости, Господи, нельзя думать о других плохо, тем более о детях, но в тот момент я подумал.
— Терпи, — директриса посмотрела на меня понимающе. — На тебя у нас вся надежда сейчас, хорошую кассу делаешь, да и дети довольны.
— Угу, — я чуть не подавился.
— Ничего, это еще ничего. У нас работал Капитан Врунгель, наняли крепкого такого мужчину, с усами, купили костюм с тельняшкой, синими штанами, бескозыркой. Все как полагается. Детям нравился безумно, просто звездой парка был.
— Был? А что с ним случилось? — поинтересовался я.
— Да сама не знаю, что случилось. Снимали парк целиком и кафе на мероприятие, арендовали на вечер, уже после закрытия. Солидная фирма, ко мне приходила целая делегация. В день корпоратива приехало народу три автобуса. До самой ночи народ веселился, отмечал, катался на аттракционах, орали так, что далеко было слышно. И аниматора они, между прочим, тоже заказали. Капитана Врунгеля заставили развлекать народ, бегать вприпрыжку, участвовать в конкурсах. Короче, издевались над ним, как только могли. А совсем уже ночью, когда все напились до поросячьего визга, девахи из этой фирмы, вроде с виду приличные, в платьях, с брильянтами, с криком: «У нас за все заплачено!» потащили Капитана Врунгеля в один из своих автобусов. Не знаю, что они там с ним делали, только он на следующий день на работу не вышел, а еще через день пришел и без лишних церемоний уволился.
Директриса поднялась с детского стульчика, стоявшего под деревом, и уже возвращаясь к себе в вагончик, на ходу бросила:
— Да отымели там нашего Капитана Врунгеля по первое число. Так что теперь мы аниматоров наших бережем, заботимся о них.
Она улыбнулась. Улыбка была какой-то неестественно натянутой, сосредоточенной, должно быть, от усталости.
II
Господи, и зачем я только ввязался в эту историю? Согласился на такую авантюру, из которой теперь сложно выпутаться. Дети любят хомяка, куда им без меня?
Вообще-то я был в парке подсобным рабочим, зимой убирал снег, весной приводил в порядок газоны, помогал разбивать цветники, мыл законсервированные на зиму аттракционы. Как только сходил снег, начиналась горячая пора. Начинали действовать аттракционы и первые робкие посетители, не пугавшиеся пронзающего ветра и не установившейся еще погоды, приходили в парк покататься на колесе обозрения или на горках. Я устроился работать осенью, и первая весна произвела на меня впечатление. Вернее, слово «впечатление» лишь отчасти передает испытанное мной тогда.
Накануне открытия парка весь персонал был созван на утреннее собрание. Директриса долго и доходчиво объясняла нам, что от этого сезона многое зависит, что нужно быть доброжелательнее к посетителям, делать так, чтобы им было хорошо и всенепременнейше комфортно. А, главное, чтобы они вернулись к нам снова вместе с туго набитыми кошелечками.
— Вот ты, Игоречек, — обратилась директриса к грузному парню в рваных джинсах и клетчатой рубашке. — Только и делаешь, что сидишь и грызешь семечки, вместо того, чтобы улыбаться людям. Про «спасибо» и «пожалуйста» я уже и не говорю!
Парень был дежурным на одном из аттракционов. Он покраснел и явно обиделся.
— Не надо ля-ля, — через секунду к нему вернулся дар речи, и он решил если не дать отпор начальству, то, как минимум, оправдаться. — Они у меня там вертятся четыре минуты. Чем мне себя занять? Нервы-то шалят. Попробуйте каждого урода уговорить не заходить туда с пивом! Да они же сами ругаться начинают, обзывать по-всякому.
— Приветливее нужно, Игоречек, приветливее! — директриса сообразила, что нужно как-то отразить ответный удар, — Это же люди, не кто-нибудь. Попроси, мол, оставьте, пожалуйста, пиво здесь…
— Да кто его оставит-то? — оборвал ее Игорек и всплеснул руками.
— А ты попроси!
— А если мне в рожу дадут? С таким подходом точно дадут. Вы знаете, на что наш народ готов ради пива? Тем более, Нина Павловна, будет вам известно, что пиво люди покупают для того, чтобы пить. Еще и в нашем кафе, где его втридорога лохам втюхивают.
— Давай без намеков, Игоречек, будто мы здесь деньги гребем…
— Кто-то гребет, а мы огребаем! — послышалось с задних рядов.
Господи, как мне хотелось в тот момент вскочить с места и закричать: «Прекратите все сейчас же! Прекратите эти разговоры, эти проклятия! Давайте успокоимся и поговорим нормально, это все-таки собрание, здесь все свои». Но уже через минуту я возрадовался, что сдержал себя и не наделал глупостей. Новичкам в таких беседах места нет. Это был разговор двух суровых, прожженных жизнью профессионалов.
— Игоречек, я все прекрасно понимаю, — продолжала директриса, — Но когда ты откровенно отталкиваешь посетителей с пивом от аттракциона, это ни в какие ворота не лезет! Люди приходят к нам, приводят друзей, целые семьи. А ты!
— А что я, Нина Павловна? Пришел с пивом, так пусть стоит и допивает.
Детей с сахарной ватой и попкорном не пускаю, но это проще.
— А что тебе мешает и со взрослыми говорить столь же ласково и убедительно, как с детьми, Игоречек?
— Нет, мне хватило прошлогоднего представления! — Игорьку явно захотелось закончить этот разговор. — Больше такого не хочу. Да и вы не хотите, ведь так?
Я, конечно, не был в курсе того, что произошло в прошлом году, но спрашивать об этом было бы нетактично. Да и у кого спрашивать? У Игорька, чтобы он послал меня куда подальше и записал в черный список лиц, с кем он не разговаривает. На мое счастье рядом сидел аниматор, изображавший Супермена.
— Прошлым летом Игорек случайно пустил на свой аттракцион мужика с пивом, да и еще ужратого в хлам, — Супермен наклонился ко мне и старался шептать на ухо так, чтобы никто ничего не услышал. — Все было нормально, а когда карусель поднялась высоко-высоко и начала покачиваться из стороны в сторону, мужик начал буянить. Соображаешь? Там ему приспичило. Прямо там, на высоте приспичило!
— И что? — стараясь не привлекать внимания, шепотом спросил я, — Не потерпеть было, что ли?
— Ну и то, что видать, не потерпеть, — у Супермена от возмущения даже появилась одышка. — Мужик встал в кабинке, держался за перила одной рукой, а другой расстегнул штаны и ссал вниз. А в этот момент кабина качнулась, мужик заорал. Так висел на перилах, держался за свои причиндалы и орал, пока карусель не спустилась вниз. Оказалось, мужик струей попал на какой-то провод то ли от подсветки, то ли еще от чего. Слегка только долбануло. Хорошо еще жив остался. И ток был небольшой, обошлось без членовредительства.
Супермен, очевидно подивившись своему остроумию, загоготал, прикрывая рот рукой. История, рассказанная им, не вызвала у меня ничего кроме недоверия. Прости, Господи, но в наше время доверять каждому слову, которое говорят люди — одно из самых бестолковых занятий из тех, какие только можно придумать. Да и что можно сказать об историях, рассказанных человеком, основное занятие которого — бегать весь день по парку развлечений в красном плаще, маске и обтягивающем черном трико, поверх которого нацеплены красные плавки? Пожалуй, ничего хорошего. Тем более тогда, во время собрания, я был еще обыкновенным подсобным рабочим, ни о какой эксплуатации меня в качестве аниматора и речи не шло.
— Что там такое? Я сказала что-то очень смешное? — директриса покосилась в нашу сторону, — Лично мне не смешно, совсем не смешно.
Супермен принялся извиняться. Без костюма он был до неприличия жалким, совсем не мужественным. Он как-то скукожился, видимо, вдруг подумав о чем-то очень страшном, о том, что пугало его, заставляло покрываться холодным потом. О том, что предстояло вытерпеть, и от чего нельзя было отвертеться.
— Подожди, скоро настанет п***ец, — прошептал он, вновь наклонившись ко мне. — Сейчас она поболтает тут и дружно погонит нас испытывать аттракционы! А я высоты боюсь! А этой мадам попробуй, объясни. Бл**ь, что же будет!
Господи, спаси и сохрани! «А сейчас у нас фиеста!», — под общий гогот проскандировала директриса и маленькой группкой, похожей на группу детей из детского сада, мы проследовали в направлении аттракционов. Никто не сопротивлялся, не пытался возражать — по всем признакам было видно, что это было бесполезно.
Первым на очереди было колесо обозрения. Весь персонал уместился в четырех кабинках. Супермена трясло, но он старался сохранять внешнее спокойствие и даже улыбался. По его бегающим глазам и беспорядочно двигающимся пальцам было понятно, что он готов провалиться сквозь землю, лишь бы не садиться в эту кабинку. «Ну, давай, старушка», — оставшийся на земле парень, оператор колеса обозрения, дернул рычаг. Супермен перекрестился. «Отче наш, иже еси…», — начал он, но тут же осекся.
Колесо обозрения задрожало и заскрипело. Кабинки, покачиваясь, стали медленно подниматься наверх. Горизонт поплыл куда-то вдаль. Деревья, крыши аттракционов и киосков стали, не спеша, уменьшаться в размерах. В лицо ударил свежий ветер, весенний, с легкими нотками зимы, талого снега и сырой земли. Супермен сидел бледный, вцепившись руками в перила. В те моменты, когда в конструкции кабинки что-нибудь скрипело, он вздрагивал. Господи, как же мне было жаль его. Это неправда, что нет в нас человеческого соучастия к бедам других людей. Оно есть. Никто не смеялся над Суперменом, никто не бросил ни единого упрека. И на том спасибо.
Скрип колеса обозрения сопровождался его едва заметным покачиванием. Вопреки ожиданиям, вид с колеса открывался не то чтобы не живописный — такой, какой есть, со всеми кучами мусора, помойками, вытоптанными газонами и старым ржавым грузовиком, припрятанным за шатром, в котором располагался тир.
Мы сделали круг, и Супермен уже привстал, чтобы первым выпрыгнуть из кабинки на землю, но раздался грозный крик директрисы: «Уважаемые товарищи пассажиры, всем оставаться на местах, мы идем на второй заход». Лицо Супермена побледнело, он снова вцепился в перила, причем вцепился с остервенением.
«Е**ть-копать! Е**ть-копать!», — причитал, глотая воздух и стараясь успокоиться, Супермен, когда мы, сделав второй круг и сойдя на землю, направились к следующему аттракциону.
Настоящих американских горок, какими их показывают в кино, в парке не было. Вместо них под аналогичным названием было нечто невообразимое: представьте, вас сажают в кресла, больше похожие в коляски от старых мотоциклов, крепко пристегивают к ним ремнями. После этого кресла начинают двигаться по рельсам. Но это только вам кажется, что они движутся по рельсам, потому что под ними, скрытый ярким пластмассовым кожухом скрывается обыкновенный промышленный транспортер, под который подложены старые автомобильные покрышки. Чем больше покрышка, тем выше подскакивала, проходя через нее коляска: покрышка от «Оки», скажем, изображала небольшой бугорок, а от «КамАЗа» — кочку, преодоление которой было связано с капитальным перетряхиванием содержимого желудка. И так — ровно десять кругов.
С таким же успехом можно было ночью промчаться на раздолбанном изделии отечественного автопрома по набережной Невы, там, где в нее впадает Лебяжья канавка. Когда проезжаешь этот участок на большой скорости, то на долю мгновения появляется чувство невесомости. Инстинктивно хочется охнуть или выругаться, или захлопать в ладоши — каждому свое. У иностранных туристов, колесящих по Северной столице в автобусах, при прохождении, а, точнее, пролетании данного участка расплескиваются из бутылок лимонады, непроизвольно выплевываются жвачки и устремляются в шевелюры сидящих впереди, а мороженое и начинка из пирожков совершают головокружительные пируэты и приземляются в самых неподходящих для того местах. «Oh, what a shit, — со знанием дела переговариваются туристы. — That f**kin' Russian roads, I know!»
Но то — среди достопримечательностей, в месте, где концентрация культуры на квадратный метр превышает все мыслимые пределы. А это — в затрапезном парке аттракционов, на липовых американских горках, сооруженных из старого транспортера и покрышек. Знали бы люди, за что выкладывают свои кровные.
«Е**ть-копать! Е**ть-копать!», — пролетая очередную кочку, причитал Супермен, с опаской поглядывая в сторону ракеты и катапульты.
III
Господи, как бывает мало нужно для того, чтобы чувствовать душевное равновесие, гармонию — называть это можно разными словами, но смысл от этого измениться не должен. По парку гуляли родители с детьми, похрустывая попкорном и размахивая палками с накрученной на них розоватой сахарной ватой. С каруселей и аттракционов доносились веселые крики. Персонал собирал плату за вход, за аттракционы, и млел на палящем солнце. Не только в выходной в парке аттракционов не протолкнуться.
Бывают такие будние дни, которые как выходные, только хуже. Хуже в том плане, что в выходные в парки развлечений люди идут семьями и целенаправленно, а в будние дни полным-полно залетных пташек, выскочивших на больничный или отпросившихся с работы. И из лучших побуждений стремящихся провести время со своими чадами. Господи, как похвально!
— Пап, пойдем сюда, я хотел сюда, — мальчик лет восьми дергал за рукав отца и готов был расплакаться оттого, что отец был погружен в свои мысли и не реагировал. — Ну, папа!
Я смотрел на все происходящее, стоя за одним из аттракционов и выдергивая лебеду и крапиву, возвышавшуюся выше шиповника. Что удивительно — на специально закупленном дорогущем грунте для кустарников растет все что угодно, только не сами кустарники. Шиповником было засажено все пространство за аттракционами из тех соображений, чтобы туда никто не ходил — ни из любопытства, ни по малой нужде, тем более что рядом располагалось более комфортабельное для того заведение, вносившее немалую часть в дневную выручку парка.
Лебеда маскировала шиповник, и частенько это играло злую шутку с посетителями. Потому было принято единственное верное решение — убрать сорняк. И естественно это миссию доверили мне, выдав плотную рабочую куртку и несколько пар перчаток сродни тем, в которых работают сварщики. Из кустов наблюдать за тем, что происходит в парке, было одно удовольствие.
— Да, я все понял, подписывайте документы, а завтра утром я приму решение. Да, отлично, — не обращая внимания на попытки сына привлечь внимание, папа решал какие-то дела по телефону. — Все понял…
— Ну, папа, пойдем на вон тот аттракцион, смотри, папа!
«Вон тем аттракционом» была катапульта. Вышка высотой метров в двадцать пять-тридцать, больше напоминающая фонарный столб, по которой двигалась скамейка. Скамейка медленно поднималась наверх, через секунду с ускорением падала вниз, и, не долетев до земли метр, не больше, снова взмывала с ускорением наверх. Знающая публика обходила этот аттракцион стороной. Для поддавшихся искушению все выглядело довольно невинно. Впрочем, так оно всегда бывает, когда стоишь внизу и смотришь наверх, как меняются лица в процессе действа.
— На этот? — переспросил папа, спрятав телефон в карман, — Ты уверен? А что это?
— Катапульта, папа, — довольно ответил мальчик, — Помнишь, я тебе говорил, что Вовка из нашего класса рассказывал, как на ней клево. Как будто летишь! Он уже два раза тут катался. Пап, давай прокатимся! Пап, ну, пожалуйста, ты обещал!
Папа был в аккуратном костюме, при галстуке и маленьком кожаном портфеле, в котором носят документы. Он был молод, гладко выбрит, причесан, его начищенные до блеска ботинки с острыми носами отпускали по сторонам солнечных зайчиков.
— Катапульта, малыш? — пожал плечами папа и посмотрел наверх. — По-моему, она не работает, видишь, никто на ней не катается. Пойдем лучше в тир! Я тебе покажу, как стрелять, и ты там кучу игрушек себе навыигрываешь. Давай?
— А давай сначала катапульта, а потом в тир! — не растерялся мальчик.
«Аттракцион работает, подходите, не стесняйтесь, — монотонно пробубнил Павел, оператор катапульты, лелеявший надежду в будний день все-таки сделать план по выручке, — Подходим, не стесняемся. Невероятные ощущения! Полет на катапульте!»
— Давай, — согласился папа и поинтересовался у Павла, — подскажите, любезнейший, а она очень?..
— He-а, ничего страшного, у нас дети катаются, — Павел грыз зубочистку. — Видите, написано, что для детей от пяти лет.
Он показал пальцем на табличку, висевшую над кассой. Над всеми кассами висели такие таблички. Но интересно то, что на них чаще внимание обращали взрослые, чем дети. Именно взрослых приходилось уговаривать — и фраза про детей от пяти лет была своего рода средством психологического убеждения, которое подействовало и на этот раз. Папа нехотя отсчитывал деньги.
— И еще позвольте поинтересоваться, нужно ли нам ждать, пока наберется группа или вы нас?..
— А мы вас и так запустим, нам не жалко, — по-идиотски улыбаясь, ответил Павел.
Господи, ну как можно быть таким злорадным и жестоким к людям? Прости, Господи, что не вмешался и не объяснил. Только, что бы я сказал? «Папаша, забирай свое бабло и катись к чертовой бабушке в свой тир?». Но это только усугубило бы ситуацию.
Папа с сыном сели на скамейку аттракциона. Папа долго искал, куда деть портфель с документами и, в конце концов, зажал его между ног. Не самый лучший вариант, но все же. Сын не мог сдержать своего нетерпения, а отец — недоумения. Он все еще продолжал боязливо поглядывать наверх, где на конце столба располагалась небольшая платформа, предназначенная для того, чтобы скамейка ненароком не вылетела туда, куда не требуется.
— Будьте добры, пристегните нас покрепче, — попросил отец оператора. — У меня костюм из гладкой ткани, а у сына свитер из синтетики. Мало ли, выскользнем, когда вы запустите аттракцион.
— У нас еще никто не выскальзывал, — отнюдь не дружелюбно буркнул оператор. — Если выскользнете, то будете первыми, войдете в Книгу рекордов Гиннеса. Ну, готовы?
В ответ закивали головой: сын — с улыбкой, папа — с интеллигентной ухмылкой, мол, ничего особенно не происходит, и не такое видали, и этот ваш затрапезный парк аттракционов далеко не Диснейленд, но цены все равно зашкаливают.
Все шло своим чередом.
«Х*якс», — по обыкновению прошептал сам себе оператор, дергая рычаг и нажимая кнопку.
Раздался гул двигателя, что-то засвистело, скамейка начала медленно подниматься наверх.
— Круто, папа! — кричал сын.
Папа молчал. По его лицу было видно, что ничего крутого лично для него в происходящем нет. Более того, он был уже готов заплатить за то, чтобы аттракцион остановили, скамейку опустили вниз и сняли его, заплатить немало — в два, три, четыре, пять, десять, пятнадцать раз больше, чем за билет. Но даже если бы он решился попросить об этом, то не успел бы и слова вымолвить — скамейка с самого верха со свистом рухнула вниз. Мгновение — все происходит стремительно. Стоя внизу, кажется, что ничего страшного, что совсем не высоко. Даже не понятно, за что дерут деньги и где они, эти самые острые ощущения. Обычные самые ощущения: чувство высоты, скорости, невесомости, полета, скрип механизмов и оголтелые вопли детей, доносящиеся с соседнего аттракциона.
— Ааа, круто! — кричал сын.
— Бл*дь, бл*дь, бл*дь, — орал отец. — Е**ные в рот, бл*дь! Бл*-бл*-бл*!
Его интеллигентность и внешняя невозмутимость вдруг бесследно испарились, будто их и не было вовсе. Господи, как меняются люди, попадая в несвойственную им среду, условия, ситуации. Все переворачивается с ног на голову: слабые становятся сильными, сильные — слабыми, умные — глупыми, тупые — интеллектуалами, застенчивые — решительными.
Скамейка ненадолго задержалась внизу, перед тем как снова взмыть наверх.
— Круто, папа, круто, а-а-а! — продолжал кричать сын. — Как же это круто!
— Бл*-бл*-бл*, — вторил ему отец, выкатив глаза, тяжело дыша, дрожа и стараясь не выронить свой несчастный бесценный портфель.
Спокойствие было недолгим: скамейка с ускорением рванула наверх и задержалась там.
— Снимите меня, бл*дь, отсюда! — в безумии орал отец. — Ох**ли совсем? Кому, бл*дь, сказал? О-о-о-о! Бл*-бл*-бл*!
Скамейка с ускорением рванула теперь уже вниз, засвистели тормоза. Скамейка слегка дернулась, гул двигателя смолк, раздался негромкий щелчок — разблокировались крепления.
— Бл*дь… — с облегчением выдохнул отец.
— Папа, папа, так круто! А-аа! Давай еще разок, папа, ну, пожалуйста, давай еще разок! Ну, я очень тебя прошу, папочка, ну, пожалуйста!
— Х*ли я еще в жизни сяду на это… — поймав себя на том, что содержание его речи не совсем гармонирует с внешним образом и присутствием вокруг несовершеннолетних, отец громко откашлялся. — Сынок, пойдем в тир. Мы же собирались туда. Я научу тебя стрелять по мишеням. Или хочешь мороженого? Быть может, хочешь мороженого?
Господи, признаюсь честно: я бы от мороженого в тот момент не отказался.
Как и оттого, чтобы пострелять в тире. Ничего кровожадного, просто интересно. Пиф-паф. Но моим уделом была крапива и лебеда. За аттракционом-катапультой была уже целая гора надерганных сорняков. Она наверняка была видна оттуда, сверху, и пейзаж отнюдь не украшала.
— Это еще ничего, — видя мое удивление, лениво прокряхтел Павел, когда отец и сын ушли дальше, к тиру. — Самое страшное, когда бабы на аттракцион залезают. Тяпнут малость в кафе и сюда, типа смелые они, нах*й. Сядут в раскоряку, подлетают наверх, орут, аж страшно становится, и матом, и просто дерут горло. Орут, что юбки задираются, руками держат, а нужно за перила держаться, кому говорят. Пару раз по морде получал от них.
— За что?
— За то, что якобы о чем-то не предупреждал.
Мои глаза вновь скользнули по табличке, гласившей: «Аттракцион предназначен для детей старше пяти лет».
IV
— И нах*ра ты расх*рачил эту х*ровину? — мама мальчика лет трех или четырех курила, прислонившись к ограждению и с недоумением смотрела, как ее сын разбирает по частям игрушку, большую бабочку, которую нужно было везти за собой, как тележку, тогда бабочка махала крыльями и издавала какие-то нечеловеческие стоны.
То, что капля никотина убивает лошадь — чистейшей воды правда. Но эту мамашу с цигаркой, судя по ее габаритам, никакой никотин в жизнь не взял бы. Ребенок изредка поднимал голову и глядел на то, как мама делает очередную нервную затяжку и выпускает из носа колечками дым.
Я стоял и тоже на это смотрел. Это был мой второй день в костюме хомяка. Первый день прошел в каком-то безумном водовороте — наверное, был я не хомяком, а белкой в колесе. А еще за день до этого директриса вызвала меня к себе и поставила перед фактом: мол, не нужно им столько разнорабочих в сезон — сколько столько, если я был один-одинешенек в парке? — и выхода другого нет, как увольнение по собственному желанию, причем, сейчас же, незамедлительно. Мгновенно пропало желание думать о выдернутых сорняках, высаженных кустарниках, убранном мусоре, прочищенных канавках в парке. На первый план вышли эмоции.
— Как это по собственному желанию, если такового желания не имею, и в ближайшее время иметь не планировал? — возмутился я.
Директриса призадумалась. Видимо, такая простая мысль ей в голову по совершенно неизвестной причине не приходила.
— Есть выход! — вдруг удивленно заметила она. — У нас не хватает аниматоров. А ты представляешь, как важны аниматоры для такого парка, как наш? Это совсем другой уровень, я бы сказала, что даже европейский.
«Да, европейский, — с грустью подумал я. — Только запах от синих кабинок и стоимость их посещения отнюдь не европейские. На американских горках кататься невозможно, люди носы затыкают».
— Я — аниматор?
— Между прочим, главное не внешность, главное душа, правильный настрой, желание развлечь детей, да и взрослых тоже, подарить им отличное настроение!
Господи, прости, но о хорошем настроении мне говорила та, которая секунд за пятнадцать до этого предлагала мне найти в себе собственное желание для того, чтобы уволиться. Господи, как быстро меняются люди, если в них просыпаются финансовые интересы. Не это ли продажа совести? Впрочем, прости, Господи, даже думать о таком грешно. Не мое дело судить. И не судим буду.
— Ну? — директриса смотрела в глаза, как будто стараясь загипнотизировать, — аниматором?
Господи, что за привычка у людей любое покачивание головой, демонстрирующее скорее волнение или сомнение, принимать за согласие, окончательное и бесповоротное. Вот так, из простого разнорабочего одним неверным движением я сделался аниматором. Потрясающая трансформация, не так ли?
Женщина докурила сигарету, небрежно бросила окурок в урну. Окурок до урны не долетел и упал на дорожку. Женщина поморщилась.
— Мама, кататься, — осторожно сказал мальчик, осматривая обломки от игрушки.
— Кататься он хочет! Ага, так и побежала! Кататься! — она поправила юбку, нелепо выглядевшую на ее арбузовидном теле, и крикнула. — Вон, с белкой побегаешь, а я отдохну.
Наклевывалась работа, упускать ее было ни в коем случае нельзя.
— Женщина, я не белка, я хомяк. Оплата почасовая. Займу вашего ребенка, пока вы отдыхаете, присмотрю за ним.
Ничего не отвечая мне и ничем не выдавая свою во мне заинтересованность, дама нехотя поплелась к кассе.
— Мне вон того хомяка, — она показала на меня пальцем, что выглядело малоэстетично и презрительно. — Я его беру на два часа вон для того мальчика. Надеюсь, мне не придется волноваться за своего ребенка? Дайте, в конце концов, отдохнуть, у меня один выходной. И если вы чем-нибудь мне его изгадите, то, ей богу, я нажалуюсь на вас куда следует.
В кассе произошла какая-то заминка. Кассирша взяла купюру, но чек пробивала долго, очевидно, рассчитывая сдачу.
— Я не поняла, есть какие-то проблемы? Только я пришла, а уже проблемы? Я сказала, что беру хомяка на два часа. Что еще нужно? Паспортные данные?
Получив, наконец, квитанцию — обыкновенный приходно-расходный ордер, на котором красным фломастером было написано «Хомяк 2 ч.» — она подошла и брезгливо вручила его мне.
— Андрюша, поиграй с хомяком, а мама отдохнет. Твоя мама устала.
Мальчик боязливо подошел. Сломанная игрушка перестала его интересовать. Он нашел новую, куда более привлекательную для него, очевидно потому, что живую и говорящую. Мать же ретировалась почти сразу, продолжая возмущаться непонятно на что и обвинять кого-то непонятно в чем. Господи, спаси и направь на путь истинный вечно недовольных!
— Хомяк, — тихо сказал мальчик.
— А тебя как зовут?
— Андлей. А ты хомяк.
— Да, хомяк, — улыбаясь, подтвердил я, — будем в догонялки или в прятки? Только, чур, за площадку не убегать, а то твоя мама нас накажет.
Мальчик при упоминании о наказании начал переминаться с ноги на ногу.
— Плятки, — очень тихо сказал он.
— Хорошо, прятки. Я считаю до пяти, а ты прячься, я буду тебя искать.
Только прячься на площадке, никуда не уходи. Я подглядывать не буду, обещаю. Итак, раз, два…
По правде говоря, на площадке прятаться было особо некуда. Небольшая поляна, кусты, качели, две скамейки, несколько деревьев да большая горка с крутым подъемом наверх и длинным спуском в виде двух вставленных друг в друга широких пластиковых труб. Конечно, я подглядывал: во-первых, ребенка нельзя было терять из виду, а, во-вторых, плюшевые лапы хомяка пропускали свет, и сквозь них было видно почти все.
— …три, четыре, четыре с половиной, четыре с половиной и четвертью. Пять!
Я иду искать, кто не спрятался, я не виноват!
Сквозь свои плюшевые лапы я отчетливо видел, как мальчик промчался по площадке, попытался спрятаться за одном из деревьев, но, сообразив, что его ствол слишком тонкий, юркнул в кусты. В отличие от всех других мест в парке, на площадке в качестве кустарника был высажен не шиповник. Изображая деловитый поиск, я обошел несколько раз вокруг деревьев, заглянул под горку, развел руками в недоумении. Должно быть, это получилось у меня весьма артистично — из кустов послышался сдавленный тихий смех.
— Куда же он делся? — громко спросил я. — Никак не найти, никак! Какие кошмарики! Никак не найти!
Смех усилился. За происходящим со стороны аттракционов наблюдали и другие дети. Какая-то девочка буквально замерла, уцепившись в ограду и ожидая развязки игры.
— Никак не найти! Вот это надо спрятаться так! Ничего, сейчас найду! Где же он может быть? За деревьями нет, на горке нет, на качелях нет. Должно быть, в кустах. Ага, я догадался! Надо проверить в кустах! Иду искать! Иду-иду! Сейчас найду!
Мальчик с криком выбежал из кустов и направился туда, где мы начинали игру.
— Хомяк!
— Вот как же это так? — наигранно сокрушался я. — Уже почти нашел, почти поймал, а все равно проиграл! Ай-ай-ай!
Мальчик ликовал. Он радовался совершенно искренне тому, что какой-то хомяк, веселый и безбашенный снаружи и довольно грустный под костюмом, проиграл, а он выиграл. Хомяк такой большой и неуклюжий, а он такой маленький, проворный. И одержал победу. Господи, такие минуты радости, детской, безо всякой задней мысли, правдивой, искренней — это самое лучшее изо всей этой работы, из пребывания на жаре в плюшевом костюме, изо всей беготни, суеты, выходных дней и трудовых будней парка развлечений. Господи, положа руку на сердце, честно могу сказать, что хотя бы ради этого стоит жить и работать.
— Хомяк, далай исо, исо, хомяк! — весело сказал мальчик и запрыгал на месте.
— Раз, два, три, четыре, — принялся я считать довольно бодро, сквозь хомячьи лапы наблюдая, как Андрей снова залезает в кусты, — Пять! Я иду искать! И на этот раз обязательно найду.
Настало время побеждать и мне. Если второй раз поддаться, то игра становится неинтересной: дети вскрывают любой обман очень быстро, гораздо быстрее, чем взрослые. И если взрослых — и особенно тех, что под градусом — можно долго водить за нос, изображая кипучую игру, деятельность. С детьми на такое рассчитывать не приходится.
— Я иду искать Андрея и сейчас его поймаю! — грозно произнес я.
Мальчик с криком выбежал из кустов и побежал по площадке. С чего бы ни начиналась игра, она почти всегда оканчивается догонялками. Дети любят догонялки. Даже Супермен и тот, запыхавшись, все равно всегда продолжал бежать, когда дети гнались за ним. Останавливаться нельзя ни в коем случае. Через какое-то время дети сами устанут и сбавят темп погони. Но когда ими движет азарт, останавливаться нельзя. Весь смак-то в азарте. Прости, Господи, азарт этот не тот, что в азартных играх, в казино или в предчувствии того, что вот-вот сломишь огромный куш. Нет. Он совсем другой, непорочный.
— Догоню!
— Хомяк! — кричал мальчик и убегал от меня.
Я делал вид, что мне его никак не догнать. Он бежал, оглядываясь на меня, гогоча и улыбаясь. Ему было весело, впрочем, как и мне. Забылись жажда, бегущий по спине пот, трущий в плечах тяжеленный костюм, отекшие за день ноги.
— Поймал, — крикнул я, схватив его за руку.
— Паймаль, — улыбнулся мальчик.
Господи, мне казалось, что в ту минуту на него снизошло абсолютное счастье и этим счастьем был я, потный голодный мужик в идиотском костюме хомяка, который купили на распродаже на каком-то рынке. За неимением перманентного счастья, за которым все охотятся, такое вот мимолетное, простое особенно ценно. Господи, делай нас счастливыми почаще. Господи, услышь нас.
— Хомяк! — весело закричал мальчик и снова побежал, на этот раз по направлению к качелям.
Мы оба, наверное, не заметили, как к нам присоединились еще ребятишки. Они убегали от меня, догоняли, снова убегали, цеплялись за мою шею, стараясь прокатиться верхом. Самые смелые пытались стянуть плюшевые лапы или оторвать хвост для того, чтобы убедиться, что хомяк не настоящий. Но плюшевые лапы, хвост и другие части костюма были пришиты как следует. Время летело незаметно. Так всегда — самые приятные мгновения пролетают со свистом, самые тягостные длятся целую вечность.
Я съехал с горки вслед за мальчиком. Глядя, как я протискиваюсь в узкое отверстие пластиковой трубы, Андрей смеялся. Другие дети отвлеклись на что-то другое, кажется, на клоунов у соседнего аттракциона. Смех Андрея отдавался в трубе так, как бывает, когда кричишь в какую-то очень большую кастрюлю — голос становится забавным, металлическим.
Уже съехав, я услышал какой-то странный звук, но не придал ему значения — такой, какой бывает, когда слишком густой йогурт выливается из узкого горлышка пластиковой бутылки. Мальчик перестал смеяться. Я вылез из трубы, отряхнулся и потянул спину. Обычно дети смеются, когда я это делаю. Но он молчал и, замерев на месте, сосредоточенно смотрел на меня. Звук снова повторился, на этот раз он был каким-то чавкающим. Я огляделся по сторонам, но не нашел его источника. Тут мальчик, по-прежнему стоя неподвижно, боязливо, почти шепотом сказал:
— Хомяк, памаги, я обослался.
Господи, в тот момент мне захотелось либо провалиться, либо улететь куда-нибудь на Марс. То, почему мальчик просил меня о помощи, я понял спустя какие-то минуты: два часа истекли и к нам по дорожке, переваливаясь и дымя сигаретой, приближалась мамаша. Мальчик стоял, не двигаясь. Сзади шорты у него отвисли ниже колен и, если не вглядываться, то Андрей вполне смахивал на начинающего рэпера. Впрочем, так начинают не только рэперы, но и все не только музыканты — банкиры, сантехники, учителя, столяры, художники и все-все-все.
— Ну, наигрался? Что молчишь? Или мать уже не узнаешь?
Дама сплюнула на дорожку, бросила окурок и растерла его носком сандалии. Жест явно свидетельствовал о ее высокой культуре.
— Молчишь чего, спрашиваю тебя? — она подошла и дернула мальчика за руку так, словно пыталась ее оторвать с корнем. — Чего недовольный такой? Два часа носился тут как угорелый, а еще недовольный.
Мальчик тихо заплакал. Он смотрел, молча, на меня, умоляя о помощи, о спасении. Но, как известно, никакими известными науке способами грозовую тучу не удастся направить куда-то в сторону, особенно когда уже слышен гром и сверкают молнии.
— Послушайте, — вмешался я. — Может, как-нибудь полегче с ребенком? Случилась маленькая…
Господи, лучше бы я этого не делал, не вмешивался и не задавал лишних вопросов, тем более не учил ее жить — думаю, именно так она все и истолковала. Она смотрела настолько злобным, озверевшим взглядом, что, казалось, одно неверное движение, и она вцепится мертвой хваткой мне в горло, чтобы пережать его, а если не получится, то перекусить.
— Маленькая что? Что ты хочешь мне сказать? Слышь ты, хомяк, сделал дело, гуляй смело! Два часа отработал, сделай перекур.
«А ведь она еще не поняла, что он обосрался», — мелькнула у меня мысль и, очевидно, она эту самую мысль прочла.
— Ну, нах*й, посмотрите-ка! А я как дура стою тут и гадаю, чем воняет! Обосрался! Опять обосрался!
Она взмахнула рукой и отвесила мальчику знатный подзатыльник, затем еще и еще. Прости, Господи, но если бы я вмешался, то досталось бы и мне, а мальчику еще больше. Что ж, за все в жизни нужно платить, в том числе и за удовольствие побегать летом по парку вместе с хомяком.
Мамаша отвела мальчика в сторону, за ларьки с сахарной ватой и кафе. Она о чем-то ему в ярости говорила, продолжая отвешивать подзатыльники.
— Говна-то! Дерьма-то! — доносилось до меня. — Кому говорила больше так не делать? А?
Мальчик плакал. Дама порылась в сумочке и достала какой-то сверток.
Держа в одной руке сверток, а другой волоча за собой сына, мамаша направилась прямиком ко мне. Господи, как мне хотелось в тот момент стать Карлсоном, включить на полную катушку свой пропеллер и взмыть в небеса. А еще лучше — гордой чайкой по имени Джонатан Ливингстон, чтобы взмыть ввысь под всеобщее восхищение и исчезнуть где-то в пучине. Прости, Господи, за грешные мысли. Но и в самом деле мне стоило быть чуточку черствей и ретироваться раньше.
— Вот, слушайте вы, хомяк, — она подошла и всучила мне сверток, в котором оказалась сменная одежда. — Он обосрался при вас, так что идите, подмойте и переоденьте моего ребенка. Сейчас же! А у меня выходной. Вы поняли меня? Если что, я вам заплачу.
Она дожидалась нас в кафе, нервно покуривая и пуская из носа дым колечками.
— Мамочка! — бежал к ней через десять минут Андрей.
V
Никто не отрицает, Господи, что дети — это наше все. Им должно доставаться все самое лучшее. И чаще всего достается. Если не считать пары мелочей, исключений из этого вселенских масштабов правила, то так оно в парке развлечений и было. И есть. И будет.
Мамаши и папаши, меняющиеся в характере после получаса, проведенного в кафе, с виду интеллигентные люди после полета на катапульте превращающиеся в отборных матершильников; аниматоры, внешне смешные и жизнерадостные, под маской оказываются теми же самыми, но с точностью до наоборот.
Господи, есть ли хоть малейшая возможность, можно ли в этом заколдованном кругу что-то изменить? А, быть может, оно уже изменено и было изначально гораздо хуже, гораздо суровее и печальнее?
— Ты не боишься? — спрашивает молодой человек у своей девушки.
Они держатся за руки и не сводят друг с друга глаз. Перед ними аттракцион «Ракета». Небольшая кабинка на пять-десять человек. Кабинка закрывается и, словно космический корабль, взлетает. Не выше деревьев, но все же достаточно высоко для того, чтобы уровень адреналина в организме заметно подскочил.
— Мне с тобой ничего не страшно, — отвечает ему девушка и, увидев неподалеку меня, показывает на меня пальцем. — Смотри, какая симпатичная белочка! Просто прелесть! Смотри!
— Я не белочка, я хомяк, — бурчу я, но они не обращают на меня никакого внимания. — Меня постоянно принимают за белку. А по костюму не видно, что я хомяк? Что, хвост как следует не разглядеть? У белки он большой, а у меня….
— Полетим на ракете? Ты не испугаешься? — парень посмотрел на меня, прищурив глаза, и снова сосредоточился на девушке. — Или все-таки испугаешься?
— Говорю же, что не испугаюсь! — смеется девушка. — Незачем переспрашивать по столько раз. Ты говорил, что на американских горках тоже будет страшно. А оказалось совсем не страшно, а очень даже смешно.
Она рассмеялась громко, так, как смеются только в юности, не зная еще серьезных забот и не познав тягость жизни. Господи, если бы изобрели машину времени, то я обязательно устремился бы туда, в самое беззаботное время, полное надежд, когда деревья были уже не большими, но еще не маленькими, когда вкусы не были напрочь испорчены, а чувства не истоптаны в пыли.
Аттракцион запускается. Они по-прежнему держат друг друга за руки. Улыбаются, смотрят и не могут налюбоваться друг другом.
— Если я и полечу в космос, то только с тобой, — признается парень.
— А что мне за это будет? — игриво спрашивает девушка. — Ты же знаешь, что в космос парочками не летают, иначе мы будем думать совсем не о том, как взлететь и приземлиться, как какие-то эксперименты на орбите проделать.
— О чем же?
— Догадайся сам.
— Извини дурачка, не могу никак сообразить, о чем ты говоришь.
— Какой ты душный! — возмущается девушка.
— Какого встретила и полюбила, такой и есть. Родители слепили из того, что было. Извини, в военном городке, где они жили после свадьбы, другого ничего не было. Никакой развлекухи. И они сидели и лепили все дни и вечера.
— Фу, как пошло! Как так можно? Вокруг дети, а ты о таких… — девушка дернула парня за руку так, что он чуть не вывалился из кабинки. — Что-то мы не взлетаем. Кина не будет, электричество кончилось, что ли?
— Не гони паровоз, сейчас взлетим. Кстати, в космос первыми летали всякие обезьяны и белки. Не хочешь ту белку с собой затащить, а? Веселее будет. Всем потом сможешь рассказать, что ты летала на ракете с белкой.
Но тут же вспомнив, что я не белка, а хомяк, парень с этой идеей поутих. Заскрипел механизм, кабина взмыла вверх, там перевернулась вокруг своей оси и дальше пошла вбок.
— А-а-а, страшно! — кричала девушка.
— Ох*енно! Просто ох*енно! — твердил парень, не понимая толком, что она пытается до него донести, и не обращая внимания на сидевших рядом в кабинке детишек. — С ума сойти!
Спустя минуту кабина опустилась обратно. Парень продолжал держать девушку за руку. Он был весь в эмоциях, в возбуждении от почти что настоящего полета на ракете. Девушка прилипла к креслу и никак не хотела выходить из кабинки.
— Ох*енно ему! А обо мне ты подумал?
— Но это же ты предложила… — начал оправдываться парень, но тут же замолк.
Девушка была бледная, ее лицо имело синевато-зеленоватый оттенок и, судя по всему, она вот-вот готова была расплакаться. Он взял ее за руку и буквально силой потащил за собой.
— Эй, хомяк, где тут у вас туалет? — почти шепотом спросил меня парень.
— Там, за тиром, — столь же тихо ответил я.
Они направились туда. Господи, если бы я только мог, то я бы обязательно предупредил: «Не катайся на этой «Ракете», посиди, отдохни, съешь мороженое, поиграй со мной, а твой парень пусть покатается. Послушай меня, старика».
Я отвлекся на детей. Пока их родители заседали в кафе, дети резвились на поляне, качались на качелях и скатывались с горки. В первые дни своей работы я тоже любил скатиться с горки под всеобщий смех. Потом по совету Супермена я перестал это делать, он мне по секрету сказал, что детей регулярно тошнит в этой горке, и когда съезжаешь, есть риск с разгону вляпаться куда-то не туда. Тем более что горку моют лишь раз в неделю и вся надежда лишь на дождь, лучше даже на ливень.
Его волнение было понятно: на нем тонкое трико, красный плащ и красные плавки. На мне же костюм довольно толстый, из коричневатого с белым искусственного меха. И если Супермен имеет право пахнуть лишь хорошим одеколоном, то какой спрос с Хомяка? Животный аромат — чем животнее, естественнее, ближе к природе, тем лучше. На свой страх и риск я скатился с горки вместе с ребятней — на этот раз пронесло.
Парень с девушкой вернулись. Она умыла лицо и снова выглядела свежей и улыбающейся. Они долго уговаривали меня сфотографироваться с ними вместе — я предлагал сфотографироваться лишь с девушкой. Странная фотография для парня: мол, поглядите сюда, это я, моя девушка и Хомяк.
При чем тут Хомяк?
Нас сфотографировал кто-то из посетителей. На экране фотоаппарата получилась смешная картинка: и действительно я выгляжу неплохо в этом костюме, Господи. Хоть и не в своей шкуре, а как приятно дарить людям незабываемые мгновения. В том смысле, что такие костюмы как у меня оставляют неизгладимый след в памяти. Девушка рассматривала получившийся снимок и хохотала. Хохотал и я. Должно быть, мой хохот из недр костюма звучал приглушенно, как будто из подземелья.
Господи, и в самом деле нужно быть, а не казаться. Быть веселым, жизнерадостным, а не казаться им, спрятавшись за маску Хомяка, упрятавшись в костюм и застегнув молнию на животе. Когда вот так запросто смеешься и сам не знаешь от чего, то на второй план уходят все неприятности, вся подковерная возня, директриса с ее стремлением меня уволить, пьянствующие в кафе посетители парка, другие аниматоры, разбежавшиеся кто куда, за которых я отдуваюсь. Я не держу на них зла, Господи, в самом деле не держу. И если и думаю о ненависти, то это быстро проходит. Сам рассказываю и сам же ловлю себя на этой мысли.
Господи, спаси нас и сохрани. Директрису — от прокола в документах и общении с бесчисленными проверяющими, после мнимых проверок получающими абонементы на бесплатные катания на аттракционах. Директрису первую, просто на ней весь парк держится, я не шучу. Спаси и сохрани всех детишек и их родителей, не оскудеет рука дающего, тем более, когда дает она по строгому прейскуранту, вывешенному на фанерных стендах у каждой из касс. Парней, которые запускают и останавливают аттракционы, потому что без них аттракционы давным-давно бы уже оккупировали злачные типы, каждый из которых держал бы в руке по бутылке пива, купленного втридорога в нашем кафе. Кафе тоже береги, Господи, потому что каждый вечер оттуда нам приносят нераскупленные за день пирожки. Спаси и сохрани тех, кто делает сахарную вату, шашлыки и попкорн, хотя бы потому, что если бы эту славную миссию возложили на аниматоров, то мы бы точно не справились. И аниматоров спаси и сохрани, Господи.
И для себя попрошу того же. Спаси и сохрани, особенно в тридцатиградусную жару в этом меховом костюме. И костюм сохрани, он у нас за инвентарным номером числится.





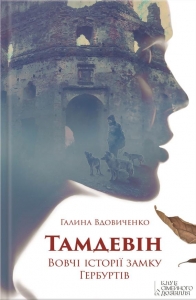


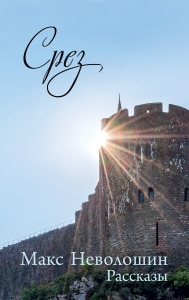



Комментарии к книге «Сказки PRO…», Антон Юрьевич Тарасов
Всего 0 комментариев