Сергей Самарин
Вступительная статья
Сергей (Серж) Самарин
Сергей Сергеевич Самарин родился в Москве в 1924 г. в старинной именитой семье, продолжавшей своё служение России более шести веков. Известно, что один из его предков участвовал ещё в Куликовской битве.
Двоюродный дедушка Сержа, философ-славянофил Юрий Фёдорович Самарин, активно участвовал в подготовке Манифеста 1861 г. об отмене крепостного права; в семье до сих пор хранится перо, с которым он работал над черновиком этого документа.
Александр Дмитриевич Самарин, младший брат отца Сержа, некоторое время служил прокурором при Святейшем Синоде, и его пребывание на этом посту совпало с конфликтом в обществе, который возник вокруг личности Распутина.
После революции родители Сержа, как и многие другие, потеряли свой кров и имущество и жили у приютивших их родственников. Серж родился в феврале 1924 г. во флигеле особняка Гагариных на Новинском бульваре. Сам особняк не сохранился: в 1941 г. он был уничтожен авиабомбой.
В 1929 г., когда не стало отца Сержа, Сергея Дмитриевича Самарина, семья переселилась к родственникам по линии матери, Осоргиным, на дачу рядом с бывшим имением Самариных Измалково, недалеко от Переделкино. Там они жили до отъезда из России в 1931 г., когда Сержу исполнилось семь лет.
Благодаря помощи Екатерины Пешковой, мать Сергея смогла получить визы для 13 членов своей большой семьи, включая вдову и двоих детей её брата Георгия Осоргина, который был расстрелян в 1928 г. на Соловках. Визы давали им возможность отправиться в Швейцарию «на лечение»; но поехали они прямо в Париж. Отъезд деда Сержа, Михаила Михайловича Осоргина, вызвал переполох в газетах. До революции Михаил Михайлович был губернатором Харькова и считался политическим беженцем.
В Париже у них оказалось немало родных — большая семья объединилась в приходе скромной деревянной церкви в Кламаре, построенной кузенами Трубецкими. Позже дед Сержа был посвящён в сан и стал настоятелем семейной церкви.
Там же, в Кламаре, для семьи нашёлся небольшой живописный дом. Вскоре там же поселилась незамужняя сестра бабушки Сержа, княгиня Ольга Трубецкая. Некоторых детей пришлось отдать в пансион, и Серж оказался в кадетском корпусе, перенесённом из Санкт-Петербурга на север Парижа (недалеко от нынешнего аэропорта имени Шарля де Голля). Там служили бывшие генералы Белой армии, поддерживавшие в их воспитаннике любовь к России; обстановка кадетского корпуса стала фоном для романа «Крушение». Но постепенно Сержу стало ясно, что уровень академических знаний в этом заведении не отвечает уровню французского образования: в возрасте тринадцати лет он вернулся в семью и поступил в лицей Мишле.
Денег было мало, так что когда его мать, Юлиану Михайловну, братьев Николая, Петю, Мишу и сестру Юлиану родственники пригласили провести лето в Нормандии, они остались там на пять лет. По счастливому совпадению, лицей Мишле тоже эвакуировали в Нормандию — там Серж и сдал экзамены на бакалавра. О Нормандии у него всегда были самые тёплые воспоминания, он говорил, что его эстетическое чувство воспитывалось в тени прекрасного средневекового собора в Кутансе.
Сергей Самарин со своим дедом Михаилом Михайловичем Осоргиным и бабушкой Елизаветой Николаевной, урождённой княгиней Трубецкой. Переделкино, 1928
Сергей со своей кузиной Мариной Розеншильд (Осоргиной)
Семья Осоргиных в Кламаре, под Парижем, 1935. Сергей Самарин в шинели, третий справа в переднем ряду
Сергей Самарин. Женева, мост Пон дю Мон-Блан, 1947
С. Самарин в Австрии, 1984
В 1942 году семья вернулась в Париж. Серж поступил в Сорбонну, где изучал философию; среди его наставников были самые именитые французские философы того времени. Однако учёбу он не закончил, поскольку ему предложили место переводчика в новом отделении Организации Объединённых Наций во Флашинг-Мадоуз, в Нью-Йорке.
Затем его направили работать в Балканскую комиссию ООН, а позже он стал одним из первых переводчиков, попавших в Женевскую штаб-квартиру.
Между тем по примеру других членов семьи, эмигрировавших в «первую волну», он получил советский паспорт, намереваясь вернуться в Россию. Серж даже побывал в СССР — но не как репатриант, а как переводчик делегации ООН. При этом с новым паспортом он оказался «заперт» в Женеве, что сильно осложняло его существование. В 1956 г., во время советского вторжения в Венгрию, он вернул паспорт и во второй раз оказался в статусе эмигранта. Позже ему дадут ирландское гражданство. Свою профессиональную карьеру он завершит в качестве руководителя переводческой службы в Международном агентстве по атомной энергии в Вене.
Многие годы жизнь Сержа Самарина была также сопряжена с творчеством. Правда его ранние стихотворения, в основном написанные на русском языке, по большей части оказались утрачены. Его авторству принадлежит несколько неопубликованных философских работ и произведений в жанре художественной прозы. Роман «Крушение», глубокое, пронзительное аллегорическое повествование, в котором без прикрас создан образ эмиграции на фоне реальных исторических событий XX века, был написан на французском языке и в 1978 г. опубликован издательством «Галлимар», удостоившись премии Французской академии. Серж Самарин продолжал писать прозу и стихи на французском и русском языках до конца своих дней.
Серж женился на ирландке Мэри О’Лири и стал отцом двоих детей: Ивана в 1964 г. и Анны в 1967 г.
Отойдя от дел, он жил на северо-западе Ирландии, где и скончался в 1995 г.
Иван Самарин. При участии Мэри Самариной. (Перевод с английского).
КРУШЕНИЕ роман
Посвящается Мэри
Глава 1
1
Вот он — в эту самую минуту зажигает лампу и выдвигает в круг света пачку линованной бумаги. Плавное волнение спины — надо устроиться поудобнее, а пальцы уже снимают колпачок с ручки; затем он опирается локтем о стол и в левую ладонь, уютно сложенную, кладёт красивое задумчивое лицо. Без помарок струится быстрый серпантин ловко закрученных фраз.
Мне, Кретей, знаком этот прекрасный миг. В доме все улеглись, посуда после ужина убрана; капли из плохо закрытого крана стучат по эмали раковины; а перед вами — распахнутое окно, за которым пригородные сады, окрестные леса, пустынные улицы. Ночь доносит до вас обрывки звуков и запахов, похожих на тот пёстрый мусор, который скапливается, образуя непроницаемую пелену на водной глади в порту: тут и куски пробки, и тлеющие водоросли, и мелкие фрагменты перемолотых морем неизвестных предметов, и солома, тонкая, блёклая, в которой иногда, если вдруг свет упадёт, вспыхивает яркое пятно или мерцает осколок стекла.
Внутри вас всё приходит в движение: образы и слова рвутся наружу и выплёскиваются так быстро, что вы не можете не то что их упорядочить — даже ухватить; между ними возникают странные связи, образуются нелепые сочетания, перед которыми вы бессильны, и на экране, которым служат освещённые лампой стол и бумага, отражается лишь беспорядочная борьба, проносятся и исчезают тени. Вы встаёте, ходите, затягиваетесь папиросой. И вдруг, сами того не замечая, уже пишете, папироса погасла, грудь упёрлась в стол, и этот стол теперь существует отдельно от всего, он сам по себе, освёщенный прямоугольник в ночи́; вы медленно выходите из порта и дрейфуете по чёрным водам ночи, свежая волна аромата пригородных пионов несёт вас мимо хибар и огородов, вдоль бульвара Родена, где спят армянки с антрацитовыми глазами и чарующими волосами; вы плывёте над холмами, которые спускаются в долину, — её черноту разрывают синие раны заводских огней; проплываете над петляющей дорогой, по которой поднимается к вам сошедший с кроваво-красного парижского неба освещённый автобус — неповоротливое насекомое, сложившее жёсткие крылья. Вы, единственный хозяин, единоличный властитель спящего мира, парите в чёрном небе Исси-ле-Мулино, точно спутник, задумчиво плывущий изменчивым курсом, но вас уже сопровождают в поклоне двое: справа — блистательный, в доспехах из чистого серебра и шлеме с огненным султаном, Ангел Правды, а слева — Ангел Вымысла, у которого мягкий густой плюмаж с сиреневыми прожилками. Вслушиваясь в хрустальный голос одного и глубокий голос другого, соединяя флейту и виолончель, вы пишете, пока от большого пальца левой ноги мурашки не пробегают по коже, добираясь до онемевшей правой лопатки, пока в судороге не кольнёт большой палец руки, прижатый к ручке, пока вы не очнётесь, почувствовав щекотание сна в утомлённых светом глазах.
Как заманчивы те ночи, когда упорядочиваются тени и сбываются желания; но что за правду нашёптывает вам Ангел с огненным султаном, Кретей? Вы ищете красок и страсти. Вам подходит лишь правда, похожая на калейдоскоп, где бесцветные осколки битого стекла играют тысячами огней, преломляя и отражая свет. Ваша правда облачена в цвета места и времени; вам легко дышать, только ощущая тепло конечного и малого. Вы терпеливо обтёсываете фрагменты, сколотые с мощной скалы прошлого; вышлифовываете грани, со знанием дела соотносите наклон гладких поверхностей; придаёте драгоценный блеск простым кристаллам соли. Сколько терпения нужно, чтобы выплавить из невзрачной массы совпадений, стечений обстоятельств точный образ, в котором раскроется их тайная красота! А ещё я почти люблю наивную улыбку, преображающую ваше лицо, когда вы, перечитав страницу, переставляете в конце всего одно слово, находите несколько неожиданное и очень точное прилагательное, заставляющее всю массу абзаца всколыхнуться; движение передаётся дальше и дальше, поднимается по руслу фразы — и вдруг она начинает завораживать. Вам кажется, что теперь правда в ваших руках; но она, как вода, Кретей, как свет: разожмите пальцы — видите, что осталось?.. Ваш Ангел Правды — фокусник.
А что внушает вам Ангел Вымысла? С ним меньше сюрпризов? Он населяет ваш разум беснующимися тенями; и от этого у вас отсутствующий взгляд. В вашей голове пустое гулкое пространство, как театральная сцена, открывающаяся из-за кулис, где происходит непонятное действие, бесконечная трагедия, за которой если и можно следить, то только сбоку, отрывками, начиная с третьего акта; рваное пламя факелов, борющееся с ветром, словно окрашивает парад оружия и бархата на подмостках в тона подозрительности и нерешительности. Сколько скорби в стихах, которые читают фантастические тени: тяжёлые волны разбиваются, пенясь на рифмах, и с приближением ночи слышится придыхание ветра. Понимаю, что вы робеете перед ними. Но как мне смириться с тем, что вы пытаетесь очертить их силуэты, показать при свете дня драму, где вы — ночной зритель, придать разумную завершённость и стройность этому неистовству, неизвестно чем порождённому? Наконец, подправляя правду вымыслом, а вымысел правдой, выравнивая их по вашим смехотворным осям координат, не чувствуете ли вы, что уступаете времени? В чём смысл клятвы, которую мы сообща принесли, если теперь вы собираетесь нам описать по жалким правилам последовательности и правдоподобия, как мы пытались её сдержать и потерпели крах? Мы обручились с небытием и вечностью — зачем нам историограф?
Ваше лукавство налицо: в упорядоченной прозе, которая в эту минуту выходит из-под вашего пера, вы надеетесь обрести средство и путь к спасению, так что если течение времени будет побеждено ритмом фразы, вы единственный из нас достигнете незыблемых берегов; а мы, хоть и соединяли руки, сообща освящая этот замысел, но останемся лишь персонажами действия, которое будет развиваться по вашей воле; вы наполните наши поступки мотивами и объясните их; мы плоть, от которой вы будете отнимать по кусочку, материализуя созданные вами тени, мы дух, который озарит толикой смысла ваши осколки правды.
Но я уже вижу: как только вы возьмётесь за дело, вас осадят со всех сторон и захлестнут слова, которые вы выбрали, чтобы вещать. В конце концов, кто вы такой, Кретей? Кого мы слышим, когда звучит ваш голос? Кто-то наблюдает за вами, кто-то вас выбирает и с явной поспешностью делится содержанием и цельным замыслом. Так, может, вы пассивное орудие, жертва внезапной стихии слова, которое через вас проявляется, стремится к связности, но то и дело выходит за ясные ориентиры, расстраивая весь план? Не тонете ли вы в этом чёрном потоке, в этом безликом кишении слов и образов? И я не только о навязанных ритмах, о заученной мелодике фраз — всё это мутный осадок после ваших попыток покопаться в памяти, где, как в пещере, всюду эхо. Вами овладела тьма-тьмущая слов-демонов и держит вас, заставляя бессильно наблюдать, как гибнет то, что вы задумали. Вы хоть знаете, куда влекут вас неуправляемые слова? Не боясь быть нелепым, как те пылкие ораторы, которые не получают оплеух, вовремя поняв, что у них «слова опережают мысль», вы превращаете эту словесную гонку в особенность стиля; когда вы пишете, мысль живёт отдельно от вас, а вы — на полях, в ореоле межстрочных интервалов, в эфемерном свечении, которое тускло озаряет бурлящую речь, но размывает контуры значений в магических разноцветных переливах — такими переливами обрамляются предметы, если смотреть на них через ненастроенную зрительную трубу.
Коварный Кретей! Какое тёмное дело вы затеяли у себя в пригороде в этот тихий вечер: вы слагаете с себя клятву, предав и её, и своих товарищей; вы позволяете безымянным бесам устроить шабаш в вашем сердце, рычать вашим голосом, и считаете себя творцом мира, который готовы из себя изжить; оставаясь рабом слова, однажды данного и неизменного для всех, вы в то же время хотите единолично править бал и быть всемогущим зодчим своих речей. Кстати, вы не уходите из повествования, пока на свой манер сплетаете его нити и перипетии, но и не остаётесь в нём — вы держитесь в стороне, заставляя нас, своих персонажей и товарищей, мириться с вашей иронией и бесцеремонностью, и просто обещаете появиться в конце, выскочить из романа, как чёрт из табакерки; но в этой табакерке он, лукавый, похоже, сам сделал стенки и вставил пружину, а потом спрятался внутри и захлопнул крышку. Знайте хотя бы, что я буду следить за каждым вашим шагом, я позволю вам говорить, только чтобы ловить вас на каждом неверном слове, при каждой попытке исказить суть рассказа и направить его к обманному завершению; я буду восстанавливать правду вместо правдоподобия, и вы сами попадёте в плен вымысла, в котором собираетесь нас запереть. Смотрите, как бы не остаться голым, когда ваше лукавство откроется, а вымысел смешается с прахом вашего убогого честолюбия.
Но он мне не отвечает; не слышит; он продолжает писать.
2
Империя рухнула десять лет назад; большинство из нас едва застали её. Остров на обратной стороне земли, куда подались некоторые из наших отцов, сначала продолжал хранить имя нашего народа и земли, из которой нас изгнали; но сегодня всех разметало по свету, а имя потонуло в забвении, на которое обрёк его декрет Верховной Ложи.
Впрочем, мы сначала смеялись, когда газеты принесли эту весть: можно было уничтожить упоминания обо всём, что предшествовало Большой смуте, но мыслимо ли, чтобы из тех дней ничто не запечатлелось в памяти? Как забыть само имя, которым называлась страна? А этот «Бадуббах» — название, утверждённое декретом взамен, мерзкая отрыжка поэта-футуриста; хотели посмеяться над привязанностью к родной земле, а сами оказались в дураках!
Но мы недооценили Ложу; обычай голодных времён, обязанность доносить с рвением исполнялась в течение десяти лет, занимая все мысли, не давая перевести дух, — откуда тут взяться критике и неповиновению? Святой Аспид, бывший покровитель Империи, избавивший страну от пресмыкающихся, мирился с мрачной сектой палеонтологов.
Мы живём на севере Парижа в большой несуразной постройке в окружении свекольных полей. Мы очень молоды.
3
Когда трубят подъём, мы сразу смотрим на свои руки: они должны лежать сверху на перекинутой через одеяло простыне. Дежурный офицер часто проходит аккурат перед раскатистым сигналом горна; берегитесь, если увлекательный сон или просто потребность в тепле увлекут ваши руки под одеяло.
Склизкая заря заволакивает окна туманом; окончательно нас будит холодный душ: мы принимаем его втроём или вчетвером, переминаясь на прогнивших деревянных решётках, к которым липнут пальцы ног. Одевшись, мы помогаем друг другу привести в порядок форму; каждая складка, каждая пуговица будет по всей строгости осмотрена после переклички. Озноб от холодной воды ещё ощущается под гимнастёрками, когда мы строем входим в часовню для утренней молитвы. В гимне, который выводят наши прозрачные голоса, меланхолия ночных грёз и бодрость утреннего горна; наши сердца — сплав чистых металлов; из таких выплавляли колокола во времена, когда в Империи были церкви: серебро — в невинных голосах малышей, бронза резонирует в глотках кадетов первого отделения. Затем будет чай, почти бесцветный кипяток в эмалированных металлических кружках; мы пьём его так, словно это эликсир мужественности; для нас очень горячее, как и очень холодное символизирует мощь. Воинская честь — стимул как для наших душ, так и тел; потому мы и не помним, пытался ли кто-нибудь в Крепости вдолбить в нас, помимо техники фехтования и парадного шага, таблицу умножения.
Зимой по утрам в гимнастическом зале ледник. Синеватый свет словно впитал в себя холод и спускается широкими струями сквозь квадраты окон с разбитыми стёклами. С тёмно-красных ковров, так сильно потрёпанных, что местами видно узловатое пожелтевшее плетение, поднимаются клубы пыли, когда мы падаем на них с высокой трапеции или колец; колорит литографий в рамках из простой древесины мрачный и резкий, здесь прославляются самые жестокие эпизоды нашей истории: мы должны помнить, что наши взлёты и достижения — лишь подготовка к более опасной борьбе. Император Матиас Медведь целиком съедает тушу барана, сидя под дубом, ветви которого увешаны казнёнными; внутренности животного с трудом можно отличить от пятна кирпичного цвета — бороды монарха; но особенно бросаются в глаза прикрытые лохмотьями крепкие мышцы повешенных, синяя жилка, бегущая вдоль шеи одного из них, и голые широко растопыренные пальцы ног. Виночерпий держит обеими руками украшенный золотом рог, из которого струится пиво. С другой стороны отряд пехотинцев в форме восемнадцатого века опускает штыки к яме, где копошится лохматая перепуганная толпа; офицер взмахивает в воздухе треуголкой: нам кажется, он скорее приветствует наши подвиги у турника, чем отмеряет последний для этих несчастных миг; но мы видим суровые взгляды солдат, частокол опущенных штыков, ненависть на грубом лице высокого крестьянина в распахнутой на груди рубахе, который стоит среди жертв в первом ряду, простирая вперёд обе руки, видим его раскрытый рот, вопящий, проклинающий, и вспоминаем, что жизнь, в сущности, жестока. Плохо было врагам Империи в те времена. Мы готовимся так же сурово карать сегодняшних бунтарей.
Надо прищурить глаза, чтобы под фехтовальной маской не узнавались тонкие и злые черты лица малыша Гиаса [1], нашего товарища; эта гибкая и быстрая фигура, представшая во всём белом, эти руки в перчатках могли бы принадлежать врагу, который вспорет вам брюхо, если вы первым с ним не расправитесь. Вперёд, в атаку — невероятное напряжение в ногах и в запястье превращает рапиру то в стальной щит, прикрывающий вас снизу доверху, то в таран невероятной пробивной силы; но вдруг оружие, вновь став утончённым, словно игла в дырку пришиваемой пуговицы, устремляется в мельчайшую брешь в обороне, найденную остриём. С радостным облегчением вы вбираете лёгкими воздух, когда Гиас, сорвав маску, отворачивается и опускает чёрные глаза, в его взгляде насмешка и ярость.
Но самый завораживающий предмет в этом большом обшарпанном зале — гимнастический конь, поставленный в центре, между окнами, параллельно снарядам. Нет ничего уродливее этого гладкого туловища, обтянутого почерневшей рваной кожей, — животное без головы и хвоста, опирающееся на деревянные негнущиеся ноги. Зато эта голая заготовка, неотёсанная, недоделанная штуковина открывает такой простор для фантазии! Мы взлетаем в прыжке над конём, тянем носки широко в стороны, и когда руки, на миг прикоснувшись к гладкой коже, подобно отпущенной пружине, ловким движением подхватывают и швыряют дальше наши тела, нас несёт не на пыльный ковёр у стены, где сверху в кринолинах, в корсаже, из которого вот-вот выпрыгнет алая грудь, наблюдает за нами императрица Фелиция, а выше и дальше, где нет облупившейся штукатурки, в бескрайние долины, в бесконечное белёсое небо, по которому беспорядочно бегут облака. Но ещё сильнее возбуждение, если прыжок не удался, ведь иногда бывает плюхаешься верхом и чувствуешь, как боль медленно поднимается от таза к горлу и постепенно перерождается в странное сладострастное отупение. Всего несколько секунд — ведь надо уступить место кадету, который прыгает следом, — но в эти секунды всё вокруг ускоряется, вы оказываетесь игрушкой, жертвой неуловимых метаморфоз: примитивное тулово, зажатое у вас между ног — это и конь, и товарищ, которого вы давно мечтали победить в драке, и сама императрица, которая дразнит нас своим круглящимся бюстом. Взгляд затуманивается, и зал расплывается пятнами: красное линялое пятно ковра, синева в пятнах больших окон, белое пятно — группа фехтовальщиков в пяти шагах от вас: только что метались, как одержимые, вдруг уменьшились — и тишина.
Днём маршируем по большому пустому двору: отрядами, ротами, парадный шаг, мерный шаг, разворот, команды «шагом марш» и «стой» повторяются до предела совершенства; гордостью и уверенностью полны наши сердца. Ровный строй, чёткий ритм, в котором тысячи «я» неожиданно упорядочиваются вокруг невидимого каркаса, — всё это заставляет нас ликовать: возможно, мы лучше других научились принимать жизнь как она есть.
Иногда мы выходим на улицу, тоже строем: жёсткая дисциплина — наш щит в распутные времена, напирающие на стены Крепости. Мы быстро идём через деревню; выражение сосредоточенного безразличия, которое придаёт нашим лицам строевой шаг, кажется, огорчает лавочников. Начинаются тихие места: большие свекольные поля под широким влажным небосводом, красные глинистые овраги, где в самый раз устраивать засады и играть в войну, обширные леса, где, распластавшись на животе, сдерживая дыхание и чувствуя аромат прелых мёртвых листьев, мы выслеживаем барсуков и косуль, безлюдье, где наша речь перестаёт быть иностранной, — всё это затерянные островки Империи, возникшие на реке времени.
В субботу вечером молодой генерал ведёт нас в кино; он единственный из наших офицеров, кому хватает знания французского, чтобы объясниться с кассиршей. Мы занимаем три первых ряда, деревянные кресла прямо перед экраном, и сидим, задрав головы, упёршись затылком в спинку. Кадры тех вечеров нам не забыть: парусники, кавалькады, бега быков. И конечно, нас будут преследовать образы женщин: их короткие платья, мерцание стразов, причёски «под мальчика» и нечто роковое в больших глазах, подчёркнутых чёрной тушью. Они начинают говорить, но мы недостаточно хорошо понимаем французский, чтобы следить за диалогами, поэтому авторское изложение событий подменяется вольной интерпретацией, в которой ребяческое представление о героизме сочетается с ужасной похабщиной.
Нам нравится возвращаться ночью через поля, уже увлажнённые росой; в это время в строю разрешено разговаривать. Мы выясняем друг у друга, правильно ли поняли суть, но ещё больше нам нравится смотреть продолжение во сне; вернувшись в дортуар, где уже спят наши товарищи, мы быстро раздеваемся при синеватом свете ночника, падаем на набитые конским волосом подушки-валики, и перед нами опять, только в более быстром и свободном ритме, недавние объятия и кавалькады.
4
Три лампочки, кое-как покрашенные синей краской, рисуют на стенах спальни нечёткие круги. Стены пористые; на их пожелтевшей поверхности кроме застывших капель и следов кисти, оставленных малярами, чёткая сеть трещин и углублений — каждый из нас знает наизусть эту дорогую сердцу географию у изголовья.
Вот напасть! По холодной плитке коридора, где навстречу проплывает ещё одна безмолвная белая тень, босиком — до туалета. На трёх унитазах уже восседают кадеты, очень важные в своих широких ночных рубашках. Рядом, прислонившись к стене, ждёт своей очереди Мнесфей; он подогнул одну ногу и поддерживает её руками за спиной: красная плитка мокрая. Лица в темноте поворачиваются к пришедшему; прерванный разговор продолжится только через несколько секунд, но Клоанф уже достаёт зажжённую сигарету, спрятанную под рубашкой; маленький пылающий круг на мгновение увеличивается, перемещается и снова увеличивается, освещая снизу чёрные брови и орлиный нос Гиаса, который тоже затягивается. Молча входят и мочатся, не открывая глаз, предусмотрительно задрав рубахи, сонные малыши. Ароматная змейка дыма парит в полутьме и медленно растягивается в туманное облако посередине между полом и потолком большого холодного помещения.
— Мероэ приедет на праздник?
Они продолжают разговаривать; лучше молчать, чтобы не вызвать подозрений.
— Не знаю. Возможно, — отвечает малыш Гиас.
Он снова затягивается сигаретой; видно, как у него играет кадык. Своим кадыком необычайных размеров он гордится ещё больше, чем красотой сестры. Алькандр притворяется, что внимательно изучает свои икры, зацепившись голенями за края унитаза. Сколько времени он может пробыть в такой позе, как птица на ветке? Столько, сколько будут говорить о Мероэ. Между репликами повисают длинные паузы. Каждый представляет своё, и о некоторых фантазиях просто так не расскажешь.
— Ты видел её грудь? — спрашивает Мнесфей; он по-прежнему стоит на одной ноге.
Алькандр сразу осекает:
— Отстань, она его сестра.
— И что? — отзывается малыш Гиас. — Буду я стесняться! Видел я и грудь, и всё видел.
В трубах слышится бульканье; затем Клоанф затягивается в последний раз, встаёт и бросает хабарик в унитаз; табак гаснет в воде со слабым потрескиванием.
— Продай мне сестру, — еле слышным шёпотом говорит Клоанф. — За это год убираю посуду в обед и ужин и каждый день натираю тебе ботинки.
— Не могу. Не продаётся, — отвечает Гиас, не поворачивая головы.
Хоть и темно, видно, как горят его злые глаза.
— Продай её волосы, — предлагает Мнесфей, — снова вырастут.
В воздухе, пропитанном мочой, смутно видны парящие чёрные волосы Мероэ.
— А затылок у неё! А ямка под затылком и плечи. Так и впился бы, — выпаливает Клоанф, покачивая торсом; его мускулы читаются даже под широкой ночной рубашкой.
Он прищурил глаза, его светловолосая вьющаяся башка мельтешит туда-сюда.
— А грудь, — сдавленно шепчет он. — Соски фиолетовые. Так и впился бы.
Волшебство продолжается. Заметно, как блестят глаза Гиаса. Все смотрят в ту точку в пространстве, куда только что тянулся сигаретный дым. Там, посередине между полом и потолком, медленно возникает и разрастается змеящийся силуэт. Можно различить волосы, спадающие на плечи, высокую грудь под ночной рубашкой, похожей на рубашки кадетов, долгий впалый изгиб спины, и вот уже вся Мероэ в позе купальщицы медленно плывёт по волнам сумрака.
— Хватит, — произносит Алькандр.
Он встаёт и тянет за ручку слива. Под грохот обрушившейся воды мы возвращаемся в реальность. Плитки очень холодные. Белые тени скользят по коридору в тепло постелей.
— Сигарета. У кого сигарета? — слышен голос Мнесфея.
5
Большой парадный шаг назад выполняется так: гренадёр стоит по стойке «смирно», вытянув руки вдоль туловища, ладони прижаты к бёдрам, четыре пальца плотно сжаты, но большой отходит от указательного под углом тридцать шесть градусов, подбородок параллелен полу и строго перпендикулярен воображаемой оси, которая соединяет затылок и каблуки, касаясь ягодичных округлостей; глаза вытаращены в сторону горизонта или, за неимением горизонта, в любую другую подходящую точку, её выбирает дежурный офицер; в этой позе гренадёр по команде на счёт «раз» сгибает правую ногу, чтобы ступня оказалась на уровне левого колена; затем на счёт «два» он резко выбрасывает правую ногу назад, выпрямляет её и опускает ступню на землю…
Описание включает ещё две страницы; в нём указано, что большой парадный шаг назад предназначен для проведения ономастических[2] праздников монарших особ мужского пола и факельных шествий, если их почтит своим присутствием Инфанта; честь выполнять этот шаг принадлежит только гренадёрам пехотных войск Империи, и они проходят для этого специальную подготовку.
Но Империи больше нет, а значит, нет и гренадёров, и в Париже только барон де Н. ещё умеет мало-мальски достойно шагать назад.
Так появляется барон; с таким же успехом его можно было бы спустить с небес, куда он, вероятно, вознесётся в конце книги, будет сидеть на облаке или управлять колесницей, запряжённой крылатыми конями; ещё можно заставить его высунуться из люка, откуда вырываются языки серного пламени; в появлениях и исчезновениях барона всегда есть что-то неожиданное и торжественное; вот он приближается, точнее, пятится к нам, никого не замечая. Он совсем ненамного старше нас, и у него нет других официальных обязанностей, кроме как заниматься с нами строевой подготовкой и физкультурой; зато по сравнению с другими офицерами, даже с самим молодым генералом, плечами которого, украшенными следом сабли, довелось, кстати, любоваться нескольким кадетам, барон особенно старается увлечь нас, подмастерьев военного дела. Он никогда не рассказывал нам о своих приключениях; но наше разгорячённое воображение, освещая затемнённую оборотную сторону памяти, мало-помалу выплавило в единое целое отрывочные признания, восклицания, реплику, услышанную кем-нибудь из нас от отца, чтобы легендарный образ засиял во всём блеске. Известные события оторвали барона от военного училища и бросили среди развалин Империи, он был тогда нашим ровесником; но мы не знаем, за какой выдающийся поступок наградил его, сделав последним кавалером ордена Святого Аспида, старый император и умер через несколько дней; мы бы и не подозревали об этом, если бы несколько смельчаков, проскользнувших в комнату барона в его отсутствие, не застыли от изумления перед мерцающим над железной кроватью бриллиантовым крестом, который обвила изумрудная змея. Кое-кто попытался спросить барона; но ответ сбил нас с толку: «Господа, — сказал он, — не пристало побеждённому в самой роковой для нашей истории войне носить самую высокую награду Империи, которая в течение всего девятнадцатого века вручалась только раз; я могу лишь догадываться о ходе мыслей императора; несомненно, он пожелал наградить предстоящие подвиги; и ждал он их не только от меня, но и от вас».
За обещание будущих подвигов мы и обожаем барона; он олицетворяет наш пыл. Что ни говори, на побеждённого он не похож; а поскольку нам ещё не выпало случая испытать свои силы, его пример для нас куда заразительнее, чем вид старых меланхоличных офицеров, которые будто постоянно упрекают нас за то, что мы не видели расцвета Империи. Вместо того чтобы поддержать наши мечты, они погружаются в собственные мечты о прошлом. Навязывают нам груз своего поражения и разочарования. Лысый полковник, которого особенно боялись в замке, был другом отца Мнесфея; наш товарищ однажды рассказал, что, придя в гости, старик назвал его по имени и обмакивал сухарь в чашке, чтобы размягчить. Мы сначала объявили Мнесфею бойкот за то, что он клевещет на армию; но было ясно, что он и сам потрясён. После этого мы стали замечать и другие штрихи, каждый про себя, не решаясь особо об этом говорить: полное смятение за внешней бодростью духа, за жестокостью безутешную тоску, а за видимым вояческим напором и лихостью ползучие признаки разложения. И только барон открывает нам путь в будущее, на которое мы имеем право, и одновременно в прошлое, более славное, чем то время поражений, которые пережили наши отцы.
В Крепости прошлое окружает нас повсюду; не случайно внизу у парадной лестницы, перед входом в столовую, можно видеть раскрашенную гравюру, где, как нам кажется, сам барон (он, живущий среди нас!) изображён в блеске этих героических и наивных минувших дней, и наше воображение, настолько сужая настоящее, что в нём просто ничего не остаётся, озаряет этим блеском обещанное будущее. Сначала различаются только алые пятна на тусклом нечётком фоне; нужно подойти, чтобы разглядеть лошадь с развороченным брюхом: она тащила полевую пушку, а теперь два усатых и бородатых персонажа пытаются её распрячь; пушка завязла на дне речки, небесная синева которой рвётся из тесных извилистых берегов, на заднем плане окатывает рощу на склоне и смешивается с грозовым небом, где изображено множество молний; справа бревенчатый мост захватывает разгорячённая толпа: на головах у всех одинаковые красные фески, и взгляд сразу падает на это кричащее пятно; с той стороны моста, которая ближе к зрителю, всадник в чёрном на вздыбленном коне рискованно откинулся назад всем телом и взмахивает, задевая молнии, огромной саблей; он сражается с двумя мусульманами, заметно более рослыми, чем их единоверцы, — войско явно выставило их вперёд навстречу большому всаднику; один из них, на кого вот-вот обрушится грозное оружие, пытается в оставшиеся мгновения воткнуть в грудь коня нечто, напоминающее пику; другой, которого уже настигла судьба, ждущая его товарища, падает с разрубленной пополам головой, причём клинок настолько точно рассёк по вертикали его лицо, что глаза, разделённые фрагментом пейзажа, смотрят друг на друга жалостливо, как у страдающего косоглазием; в противоположном углу на переднем плане, не замечая войны и даже грозы, пастух разлёгся под деревом и играет на свирели в окружении овец, сильно смахивающих на котов. Нам, конечно, известно, что лейтенант барон де Н., который, как сообщает потрёпанная временем неровная надпись, «один в течение двух часов не давал неверным перейти мост через реку 3.», это даже не предок, а просто однофамилец барона, которого мы знаем, но барон молод и при этом он из пехоты, и мы всё равно связываем с ним эпизод более чем вековой давности, когда всадник в одиночку защищал бревенчатый мост. В конце абзаца нам предстоит на время проститься с бароном, но мы не удивимся, что когда прозвучит команда гасить свет, он удалится не в голую комнатёнку, которую занимает на верхнем этаже замка между спальней малышей и нашей и куда никого из нас он ни разу не приглашал, — он перешагнёт через рамку литографии, сделанную из простых деревянных реек, там вскочит в седло и всю ночь проведёт на вздыбленном коне один на один с грозой и с толпой в алых фесках.
6
Лазарет на втором этаже — это большая прямоугольная палата, её окна без ставен и занавесок выходят во двор. По обеим сторонам друг против друга — по пять кроватей; белый крашеный шкаф, поставленный у входа напротив окна, — это всё, что есть из мебели. Здесь царит стойкий запах йодного раствора, единственного средства, которым пользуются в Крепости, не считая весьма широкого ассортимента слабительных. В лазарете больные — редкость, там остаются только те, кого не отправить к родителям. Если мы появляемся там, то это чаще всего симуляция: во время экзаменов или когда одолеет лень и придёт охота помечтать, ведь это привносит в суровую жизнь монастырей и казарм хоть немного простора и неопределённости; а некоторые, ясное дело, ищут повод продемонстрировать свою наготу фельдшерице, круглой спелой бабёнке, для которой первый этап любого лечения и впрямь состоит в том, чтобы полностью раздеть больного. Она только что прошла и раздала градусники; через четверть часа проверит температуру, выключит свет и молча удалится своей вальяжной походкой, закрыв дверь в лазарет, где в последних отблесках сумерек, в полутьме, а вскоре и в лунном сиянии воцаряется пьянящая и волнующая свобода. Сегодня у окна лежит настоящий больной: кудрявая голова малыша вдавлена в валик подушки, щёки в красных пятнах, к потному лбу прилип завиток волос, слабая рука лежит на одеяле, вялые пальчики сложены, словно хватают невидимую щепотку, но без усилия, без напряжения, отсутствующий взгляд неподвижных глаз провожает тени и последние лучи света во дворе — по всему видно, что у него и правда жар, и как только фельдшерица выходит, двое кадетов соскакивают с коек, стоящих в том же ряду, и суют свои градусники ему подмышки — чтобы «поделился» температурой. Мы называем этих кадетов Персами, они наши соотечественники, их семьи эмигрировали в Персию после Большой смуты; приехав сюда, они разговаривали между собой на ласкающем слух и нечленораздельном языке; они богаче нас и деньгами, и опытом, и, кажется, даже физический облик их изменился: более жёсткие волосы, лазуритовые глаза, на которые падает тень длинных ресниц, оливково-молочная кожа, облагороженная всеми солнцами Востока.
Серестий подобрался к больному слишком поздно: в горячих впадинках маленького лихорадящего тельца для его градусника места уже нет; он бежит назад и, сложив ноги вместе, запрыгивает на кровать; её пружины издают сдавленный металлический стон; широкая ночная рубашка на долю секунды раздувается, как балетная пачка, он падает на скомканную простыню, и последний луч в сумерках словно замедляет на миг его падение.
— Чёрт, разбил.
Скрипучий голос Серестия диссонирует с его изящным прыжком. Градусник, который он держал в руке, при приземлении разбился; Серестий снова встаёт и собирает в углублении на ладони мелкие осколки стекла, рассыпанные по простыне.
— Помоги, быстрее, пока не пришла.
Алькандр, которому приказ адресован, лениво потягивается на соседней койке. Не любит он этот командирский тон, но и отшить не может; подчиняется, и его тотчас передёргивает от гордости и самодовольства; он вспоминает, какая пропасть лежит между ним, потомком основателей Империи, и этим дворянчиковым сынком; вспоминает большие чёрные глаза, которыми он иногда любуется в зеркале, мягкие каштановые волосы с золотым отливом, прекрасную кожу смуглых розоватых щёк — всё своё телесное изящество, которое так приятно ощущать и которое, как день и ночь, смотрится в сравнении с исхудалым лицом и угловатостью Серестия. Явное превосходство позволяет ему снизойти до повиновения.
Вернувшаяся фельдшерица застанет их над смятой постелью, когда они, согнувшись, бок о бок будут собирать осколки стекла и охотиться в продольных серых складках покрывала за неуловимыми капельками ртути. Потом они лежат молча. Серестий, которому фельдшерица принесла из шкафа другой градусник, трёт пальцами кончик, отливающий металлическим блеском; сухая кожа слегка поскрипывает. Его сосед полусидит в кровати, не двигаясь, широко открыв глаза, и видит перед собой только серую краску стены. На столике у кровати осталась открытой книга, которую он читал, с фотографиями аэропланов и первых асов военной авиации. Ему видятся парашюты, архангелы, веснушки на шероховатой коже друга. Вдоль стенок стакана с минеральной водой больше не бегут к поверхности пузырьки газа. Маленький больной дышит медленно; кажется, температура спала, и он погрузился в более глубокий сон. Серестий опять поднимается и тянется с градусником к окну; когда трёшь в темноте, температура может заползти неправдоподобно высоко. Тем временем один из Персов в три лёгких прыжка оказывается у кровати второго и проскальзывает под одеяло; они натянули его себе на головы; думают, что Серестий ничего не видел. Он и правда молчит: сидит, тоже прислонившись к спинке кровати; согнул ноги, натянул на колени простыню и почти касается ими подбородка. Ночь так сильно отдаёт едким запахом йодного раствора, что, кажется, окрасилась в его цвет. Слышно поочерёдное перешёптывание, учащённое дыхание, смешки и поцелуйчики Персов.
— Заткнитесь! — кричит Серестий.
В ответ квохтанье, потом снова тишина. «Заткнитесь!» Если бы Серестий предложил устроить им «тёмную», помочь ему было бы одно удовольствие — искры бы из-под кулаков посыпались. Надо заставить себя не думать о том, что происходит в темноте той постели; возникает странное ощущение чего-то омерзительного и интимного. Лучше спать; попадая в лазарет, пьянеешь, заполучив свободу, но Алькандр в который раз не может вкусить её до последней капли. Нечто давящее разрастается и мешает уснуть, и всё же он знает: стоит вспомнить об этом, и он вернётся сюда, и снова будет томиться в нём беспредметное желание. Зато Серестий уже спит; или притворяется, чтобы сохранить хорошую мину, ведь кое-кто продолжает свои игры. Закрыть глаза и неустанно следить, как в переливах на чёрном фоне медленно опускаются светлые пятна, плывущие по диагонали слева направо: платки, надутые ветром, парашюты, рубашка Серестия, расправленная в прыжке. Отец Серестия был одним из героев-авиаторов эпохи парусиновых птиц. Нет, Серестий не спит, слышно, как поскрипывает сухая кожа его быстрых пальцев: он томится, его распирает. Ему бы тоже успокоиться, укротить свои мысли, заглушить волнующие звуки, доносящиеся из кровати напротив. Надо показать ему, что не он один начеку, стать его сообщником, но так, чтобы не вообразил себя главным. Заискивание Серестий чувствует тонко и отвечает резкостью; надо, чтобы он первым заговорил. И он заговорил:
— Ртуть у тебя?
Здоровую каплю ртути, которую удалось восстановить из мелких брызг, размётанных по простыне, Алькандр действительно поместил в стакан для полоскания зубов на ночном столике.
— Покажи.
Серестий зажигает свечу, которую хранит в ящике. Пускать шустрые капли по мрамору столика — развлечение не по возрасту; случайно прикоснёшься пальцами — неприятно; и пол под босыми ногами холодный.
— Надо бы ещё ртути.
Мгновение они стоят в темноте, свеча выделяет складки на их ночных рубашках. Нежности Персов выливаются в странное насекомье гудение.
— Достали меня эти выродки.
Нечто интимное начинало густеть вокруг, как кисель, и враз рассеялось от решительного тона Серестия. Идея сорвать одеяла, которые укрывают Персов, утопить их поцелуи под градом кулаков на мгновение повисает в темноте цвета йодного раствора; Алькандр вдруг слышит, как бьётся его сердце. Нападут они вместе на эту разоблачённую наготу, а вдруг из этого родится что-то тайное и влекущее, так хорошо уживающееся с темнотой?
— Может, разбить все градусники? — предлагает Алькандр.
Приблизившись к кровати Персов, Серестий всё же швыряет туда вслепую свой башмак.
— Эй, вы, там! Вы ничего не видели. А вообще, скажете, что это вы, иначе вас вся рота отлупит.
Десяток градусников, хранившихся в шкафу, разложены на кровати Серестия. Разбиваются они легко, надо обмотать пальцы простынёй; градусник — деликатный предмет, и обращение с ним очень осторожное: оно поглощает восторг, переходящий в раж, — неожиданный подарок этой ночи; осколком стекла Алькандр всё-таки ранит кожу прямо над ногтем. Маленькая капелька крови, такая же круглая и густая, такая же непроницаемая, как капли ртути, понемногу набухает, потом лопается и расплывается по гладкой роговой поверхности.
— Ты смотри, шутки ради бельё мне не замарай. Дай-ка.
У Серестия всё тот же резкий тон, такой же властный — никуда не денешься. Но есть что-то большее в уверенном и аккуратном движении худых пальцев, бинтующих указательный перст товарища.
Сон, безжалостный и дивный, сваливает Алькандра на подушку. Ртуть собрали, а он и не вспомнил про игру, которая привела к этой маленькой сечи. Но когда он закрывает глаза, то в сладком ужасе перед наказанием, которое сулит обоим сообщникам завтрашний день, ему снова видятся обезглавленные трупики градусников, лежащих на продавленной кровати, капелька крови на ногте и веснушки на руках Серестия, который бинтует ему палец.
7
Мероэ воплощается в тесном пространстве карцера — грубо побелённой клетушке под парадной лестницей, маршем которой задан наклон потолка; встать во весь рост здесь получается только с более высокой стороны, где к стене приставлена скамья, на которой можно ещё и сидеть, а в одиночестве — даже растянуться. О чём говорить здесь целые сутки? Подогревать в себе новое кипение души, не позволяя ему выплеснуться через край и опошлиться в жестах или затухнуть от низменного пресыщения? Мероэ во плоти разделяет их плоти, заполняет опасное пространство между ними на некрашеной скамье, отдаляет и соединяет их. Окошко под потолком выходит во двор: он здесь замощён, и во время перемен или в часы строевых занятий, заменяя друг другу низкую стремянку, они будут смотреть, как бегают или маршируют их товарищи, которые вдруг оказались так далеко, словно живут в другом мире. Но сейчас двор пуст, и редкие шаги на лестнице у них над головами звучат совсем близко, но безразлично, как будто это живые попирают обитель мёртвых. Ничто больше не связывает двух узников с миром, от которого они отрезаны. В этом погребальном пространстве, сумеречном и причудливо наклонённом, в этом независимом одиночестве им надлежит установить для себя новые правила игры.
— Хорошо, что до праздника ещё две недели, — говорит Серестий. — А то с них сталось бы не пустить нас на бал.
Балом каждый год завершается праздник Крепости. К нему готовятся так же тщательно, как к параду перед эрцгерцогом.
— Раз, два, три… — считает барон де Н.; странно видеть, как он ведёт счёт для вальсирующих: совсем так же, как командует в физкультурном зале.
Алькандр несмело обнимает рукой тонкую талию Фоанта, чья кудрявая голова достаёт ему до плеча, а тот смеётся, кривляется, вовлекает его в глупую игру: нужно с наскока попытаться сцепить два кольца портупеи. Ах, как тянет повалять дурака, но страшно прижать товарища слишком сильно, когда, закрыв глаза и представив себя в гусарской венгерке с настоящей партнёршей, выводишь тур вальса под звуки расстроенного пианино.
— Сестра Гиаса будет?
Вопрос, описав кривую, рисует чёрный завиток волос Мероэ. Алькандр опускает взгляд на свою руку, на скамью между его рукой и рукой товарища. Протяжённость доски сродни тишине; от овального узелка на древесине, который наполовину прикрывает большой палец Серестия, отходят долгие прожилки цвета воска; они чуть выступают над сероватой поверхностью и выделяются почти металлическим блеском — тут потрудилась не одна пара форменных штанов; между прожилками пролегают почерневшие местами борозды. Сколько почти прямых дорожек ведёт к сухощавым пальцам Серестия, которые обнимают край доски, прижавшись к нему вторыми фалангами. По соседству с этим царством симметрии кончиком перочинного ножа выцарапана дата. Но прожилки и борозды преодолевают препятствие, словно реки, бегущие сквозь прорванную плотину, не меняя пути, и рисуют между двумя ладонями силовые линии магнитного поля. Между двумя полюсами воплощается Мероэ.
— Если и придёт, тебе-то что? — сухо отвечает Серестий. — Танцевать с ней весь вечер буду я.
— И поцелуешь её?
Резкая вспышка — образ Серестия: сильной рукой он обхватывает Мероэ, заставляя её покорно и беспомощно выгнуться; тело его товарища обдаёт жаркой тревогой, словно это ему предназначался поцелуй, приоткрывающий её губы, сладострастный и почти невыносимый оттого, что достался Серестию и проник в нутро его друга вздымающейся волной.
— Тебя на подмогу не позову.
У Серестия опять резкие нотки в голосе, но теперь что-то смягчилось в его лице, нечто едва заметное — в уголках рта и над верхней губой. На помощь он не позовёт, но уже готов разделить с другом ещё не завоёванный трофей. Длинные волосы и вытянутая гибкая фигура Мероэ наполнили напряжённое пространство между их телами; теперь они могут смотреть друг на друга.
В стекло ударяется камешек; слышно, как громко и ритмично марширует отряд. Кадеты шагают вдоль стены, направляясь на прогулку. Усевшись на плечи друга, Алькандр умудрился открыть форточку. Удары сапог, дружно молотящих землю, тут же становятся громче, и к ним добавляется скрип гравия; Алькандр вздрагивает, ощутив прилив свежего воздуха; он на лету хватает коричневый бумажный кулёк, из него выпадают несколько вишен, — Мнесфей запустил передачу для узников по идеальной траектории, даже не повернув головы. И тут же на пол карцера грохается другой пакет, более тяжёлый: книга и журналы, но на этот раз неизвестно, из какой шеренги он вылетел, как по волшебству. Форточка захлопывается, надо прятать добычу: во время прогулки узникам всегда приносят суп и хлеб. Потом дверь за слугой, не проронившим ни слова, закроется, звяканье ключей в замке поглотит тишина, и время вновь замедлится.
Страсти улеглись, но как возобновить прежний разговор, если он чудом не вспыхнет сам? Осталось уйти в себя, углубиться в чтение, а точнее, в рассматривание фотографий обнажённых женщин; их снимки дают пищу для бурных и подробных фантазий, которые смешиваются с запахами из нужника и витают в глубине всякого карцера. Мы скупаем такие журналы пачками — тайком, вечером накануне первого дня занятий, когда собираемся вместе и со смутным волнением угадываем, как после нашего расставания на каникулы изменились дружеские связи, авторитеты и субординации, словом, те тонкие отношения, которые установились между нами за время совместного затворнического существования. Один за другим и почти все намного раньше срока мы появляемся на Гар дю Нор[3], где капитан, ещё не взявший нас под крыло, расхаживает туда-сюда или почтительно разговаривает с родственниками малышей, которых боятся отпускать в путешествие по Парижу одних. А у нас всего-то час без родни и без офицеров, и мы возбуждены от предвкушения встречи и от оживления на вечернем бульваре, где мы задержались, чтобы немного пройтись среди ослепительных огней и суеты, вдыхая аромат женщин, совсем не похожих на тех, которых встречаешь у нас в пригороде; мы входим в гудящий мир вокзала, как в пещеру Али-Бабы, следим за большой стрелкой на часах, которая через несколько минут обозначит наше возвращение в лоно порядка, и разрываемся — соблазны здесь один похлеще другого: и монетный автомат, и буфет, и продавцы сигарет и газет; на дне кармана мы сжимаем в кулаке несколько франков, выделенных на этот триместр из нищенства наших семей и дающих нам право приобщиться ко всей этой роскоши. Стрелка двигается рывками, и на большом циферблате с витиеватым орнаментом, который с трудом различим под слоем копоти, словно сжимается промежуток от той отметки, где она встала, до другой, где будет отмерен последний миг нашей свободы, и чем короче этот отрезок времени, тем больше в нём напряжения. И вот, как будто в предчувствии долгой зимы, мы запасёмся запретными журналами, которые будут подпитывать наши фантазии, и американскими сигаретами, в голубом дыме которых смягчается невыносимая острота нашего сластолюбия, окутанного завитками его облаков. Если порочные глаза с обложки шлют нам завлекающую и продажную улыбку, если влажные губы приоткрываются в неуловимом движении и будят в нас подавленное дикарство, то странное слово «magazine»[4], напечатанное огненными буквами — как будто «для взрослых», — уводит нас из реальности. Непонятные магические слоги воспринимаются почти как «сезам» тайного ночного мира: надпись «Magazine» и особенно буква «z», расположенная по центру, символизируют для нас извилистые пути, зашифрованный язык и в то же время рисунок молнии и даже судороги оргазма. Но когда пройден пылающий рубеж под защитой этих пугающих и столь же обольстительных знаков, за ним открывается мир теней, лишённый красок; на глянцевых страницах, горьковатый запах которых долго будет для нас ароматом сладострастия, беспорядочно, как в наших беспокойных снах, перед глазами предстают и тут же исчезают обнажённые торсы, облачённые лишь в лоскуты облегающих теней под грудью, в складках живота, на фактурных неровностях кожи, прокалённой вспышкой фотографической лампы. И вовсе не текст, который нам был непонятен, и не сами фотографии, а глянцевая бумага, на которой всё это воспроизвели, по сей день вызывает в нашей памяти щемящее волнение, которое мы испытывали, не столько читая или рассматривая журналы, сколько прикасаясь к ним. Только осязаемый глянец создаёт реальность этих магических атрибутов, но он же и разрушает её, поскольку наши пальцы ласкают не плотские объёмы, а вставшую между ними невидимую преграду — лощёную поверхность; и эта бумага, не имея ничего общего с жёсткой шероховатой материей повседневности, воплощает роскошь; роскошь, которую мы ассоциируем с минутами свободы, со странными мимолётными ароматами, с мелькающими огнями бульваров; её текучее и скользящее вещество наполняет наши сны. Безжалостное контрастное фотографическое освещение, срывая с обнажённой женщины покрывало из телесного цвета и тепла, передаёт в чёрно-белом изображении лишь призрачность её истинной природы; потому нам и нравится этот ложный цвет — «пепельный блондин», который в чувственном мире ни с чем не связан для нас, но ассоциируется с огнём и с небытием и через причудливую несочетаемость двух странным образом сросшихся в своей несхожести слов отсылает, точно оксюморон в устах поэтов-мистиков, за пределы чувственного и окрашивает оттенками невидимого волосы наших ночных лжеподруг.
Про себя-то мы знаем, что это спектральное пространство замкнуто, и запретили себе сравнивать иллюстрации с образчиками «из жизни», пошлость которой они преображают, ведь нам в наказание бесконечная игра отражений может сойти на нет.
Впрочем, мы знаем, что один кадет, имя которого и даже лицо преданы забвенью, на это осмелился. Как-то раз вместо того, чтобы встретиться с нами на Гар дю Нор, он с деньгами, полученными на пансион, провёл ночь в борделе, а через день вернулся к нам в сопровождении двух жандармов. Мы помним барабанный бой, непроницаемое почерневшее лицо молодого генерала, сорвавшего эполеты с отступника; ножницы никак не могли прокусить толстую ткань, и мы уже начали думать, как бы вместо эполет генерал не принялся кромсать всё подряд. Стоя напротив виновного по стойке «смирно», мы не могли отвернуться, но старались не смотреть ему в глаза; это был новенький; мы ещё не успели вовлечь его в нашу систему дружеских связей и субординаций. Надо полагать, что именно в этот момент он навсегда стал безликим. Один только Гиас, снискавший среди нас авторитет своей дерзостью, осмелился, несмотря на строгий запрет, о котором всем сообщили, пообщаться с Кадетом без лица. Картина, оставшаяся в нашей памяти от его неудачного приключения, была одновременно отрывочной и чёткой: рыхлые телеса движутся в свете рампы, утыканной цветными электрическими лампочками, запах дешёвого бриллиантина и пивных паров.
Журнал выпал из рук Серестия и шлёпнулся на пол.
— Дрянь это всё.
Его черты смягчаются, на лице появляются признаки улыбки: так же, наверное, улыбается горняк, который после взрыва метана долго оставался в плену темноты, а теперь, измождённый, вновь видит свет. Серестий достаёт из коричневого кулька, зажатого между ступнями, вишню и медленно съедает её, заставляя все лицевые мускулы работать с усилием, явно несоразмерным предмету, а затем, зажав косточку между подушкой большого пальца и второй фалангой указательного, метко запускает её в висок Алькандра.
— Возьми вишенку.
Он ногой подталкивает кулёк, который скользит по полу и останавливается на равном расстоянии от них обоих.
Вишни как раз едят в романе, который передали им товарищи; Алькандр, вырвавшись в свой черёд из плена задумчивости, открывает книгу на шестьдесят седьмой странице и находит эпизод, на котором ещё несколько недель назад ему пришлось прервать чтение: заведённый порядок требует, чтобы запрещённые книги переходили из рук в руки; порядок этот продуман до мелочей, и очерёдность может быть нарушена только ради временных обитателей карцера. Таких фальшиво-благодушных романов о сельской жизни в последние годы Империи навыходило немало, и близорукая агонизирующая цензура усматривала за их невинными сюжетами намёки на врождённую доброту народа и несправедливость феодализма. Молодой офицер из улан проводит отпуск в имении дяди и в первой главе всё мечется между своей кузиной и служаночкой; на шестьдесят седьмой странице он усаживается на ветку вишни рядом с одной из этих юных особ и угощает её ягодами; шестьдесят восьмая страница ещё не перевёрнута, но оттуда уже доносится сухой треск ломающейся ветки; это оправдает объятия в конце главы и на время определит выбор нестойкого молодого героя.
— Будешь читать?
В карцере, где уж точно ни одна ветка не сломается, к сближению призывает голос Алькандра; сам он слышит свои слова, словно они долетают извне, откуда-то из другого конца помещения, хотя в груди ещё чувствуется усилие, которое потребовалось, чтобы их произнести. Придвинувшись друг к другу, они кладут книгу на колени; сосредоточенно читают и жуют вишни, а значит, молчать позволительно и оправдано. Ветка, и правда, ломается. Громко стучит сердечко милой кузины, прижавшейся к груди молодого офицера; колени соприкасаются.
— Я обниму её вот так.
Костлявая рука Серестия ложится на плечи друга. Невидимая Мероэ сжалась в комочек между их торсами. После танца в золотистых глазах незнакомый блеск. На втором этаже, в тёмном коридоре, ведущем в апартаменты командира роты, она позволит сорвать поцелуй; внизу ещё будут раздаваться музыка и шаги вальсирующих — одни увлечены танцем, другие суетятся возле эрцгерцога, который к одиннадцати потребует свой экипаж, — никто не прервёт этих пылких минут. В вишнёвых зарослях выпачканные красным губы соединились.
— Волшебно будет, правда? — говорит Алькандр.
Сила романтического вымысла позволяет им вслед за многими другими — если судить по чернильным кляксам и следам пальцев, которыми вымарана страница, — отведать невинный вкус волшебного ягодного поцелуя, доставшегося молодому улану; и так же, один устами другого, один через другого, оба они предвкушают этот сказочный дар — губы Мероэ.
Но вторая глава начинается скучным описанием пейзажа.
— Осторожно, пальцы, — говорит Серестий, — мундир мне испачкаешь.
8
Язык, на котором мы говорим, у нас один, и нас мало волнует, что он много ближе всех других языков к древнему индоевропейскому, как утверждает на бесконечно долгих уроках грамматики лысый полковник, наш учитель, у которого о индоевропейском, похоже, не менее туманное представление, чем у нас. Шесть склонений, пять косвенных падежей с неудобоваримыми названиями, правила спряжения глагольных форм двойственного числа (факультативные, если подлежащее — неодушевлённое существительное) — сколько досадных ловушек расставляют нам старшие, чтобы утвердить своё сомнительное превосходство. Но мы даже ради них не откажемся от этих нечистых, «с шёпотком», полугласных, картавых согласных, гортанных звуков, от этих режущих ухо «х» и «ж», которые разрывают текстуру самых нежных слов и делают по-настоящему мужскими наши ругательства, от ядовитых и клейких не то «в», не то «у», которые иностранцу ни за что не произнести: всё это прах Империи, наше единственное наследие. Пусть несчастный грамматист вязнет в сонном болоте класса: прозвенит звонок, и он исчезнет, а на смену ему придёт старый генерал, дослужившийся до историка.
На уроках истории мы доходим до роковой войны, которую проиграли наши отцы; впрочем, нам описывают только самое начало: стычки на границах, патрулирование и разведка, неизменный успех наших сил; мы можем лишь домысливать, что за катаклизм открыл врагу путь в сердце Долиноземья, привёл к чудовищной и необъяснимой Большой смуте, повлекшей за собой Крушение и наше изгнание. Этот непостижимый рок, который путём просто побед и побед блистательных привёл нас к распаду и краху, мы мысленно олицетворяем в сцене, изображающей последнее утро императора во дворце; пропуская мимо ушей монотонный рассказ старого генерала о былых походах, каждый из нас воссоздаёт эту душераздирающую картину в воображении из лоскутов истины, предположений и легенд, услышанных от учителей и родителей.
В окна стучит дождь; низкие облака, свинцовые лужи, слабый полусвет осеннего утра. Он тоже поднялся однажды ноябрьским утром; без десяти шесть, как обычно, слуга поставил на низкий столик, украшенный драконами, поднос с завтраком.
Император с удивлением обнаружил вместо мутного кофе, которым он уже привык угощать подданных, восхитительно густой шоколад, как бывало до Большой смуты. Ему не оставили выбора, его пытались унизить даже в желании быть как все и принести себя в жертву. Он сам раздвинул тяжёлые шторы янтарного цвета; в глубине аллеи вставало солнце — пламенеющее пятно среди платанов на холодном ветру.
Накануне он выпроводил верховного канцлера, который явился просить об отречении. Доводы министра, как всегда, были убедительны: оказавшись заложником смутьянов, император сделался помехой в восстановлении порядка и монархии; эрцгерцог собрал бы на границах остатки здоровых сил армии; Внешние Силы тоже пришли бы на помощь. В кармане у верховного канцлера помимо акта об отречении была нота, обращённая к союзникам династии, — само достоинство и дерзость: он по-прежнему знал толк в стиле.
Подавшись всей своей гигантской массой вперёд, император, будто в порыве гнева, оттеснил канцлера к двери, но на пороге удержал и молча обнял; в коридоре замер от удивления ходивший взад-вперёд часовой.
Вот он сидит на краю так и не застеленной кровати с балдахином, во власти образов прошлого: они выплёскиваются друг за другом лихорадочным потоком, не подчиняясь его воле, как пейзаж в окне вагона. Влажный пейзаж ранней весны, весь в грязном снегу, пересечённый большими свинцовыми реками, в меандрах которых отражаются низкие тучи; покрытая бесконечной гризайлью равнина, плоская, как географическая карта; отъезд на великую императорскую охоту накануне войны и Большой смуты. Раз в пять лет — ритуальная схватка один на один с вонючим медведем, вылезшим из разорённой берлоги, дабы народ увидел: император-то ещё огурец! И такую тоску ощутил он последний раз в поезде, везущем его к северо-восточным лесам, аж затылок и плечи затряслись и ноги от слабости подкосились. А чего стоило красивое бледное лицо эрцгерцога, склонённое к нему, пока он, опершись на рогатину, обматывал бицепсы, чтобы выдержать натиск зверя: сколько надежды на поражение было в недобрых расширившихся глазах! Варварский обряд был учреждён в тринадцатом веке Матиасом Медведем, и с тех пор двух побеждённых монархов свергли с престола, а у многих остались раны; хорошо ещё отказались от обычая перерезать им горло после отречения. Зверь, поддетый зубьями рогатины за подмышки, прёт всей своей массой; на таком расстоянии ощущается жар его дыхания и смрад всклокоченной шерсти: местами выцветшая, она покрыта рыжими пятнами; время от времени передние лапы, до которых всего несколько дюймов, яростно молотят воздух. Стоит медведю дрогнуть, сделать один шаг в сторону, чтобы высвободиться, и он неминуемо отступит назад под натиском рогатины, на которую навалился государь, и главный ловчий спустит наконец курок; но упёртый, как влюблённая женщина, ревущий, как разъярённая толпа, медведь прёт и прёт.
А на обратном пути — ледоход и паводок, внезапно разбушевавшиеся ветра и воды; совсем рядом с полотном железной дороги ещё заснеженный островок рассекает волны, как нос корабля, а на его оконечности — чёрная приземистая полузатопленная ива, упорствующую неподвижность которой только подчёркивает стремительный поток; огромные просторы — вода, ветер и грязь; и кажется, будто парят подобно огромным птицам почерневшие распятия на перекрёстках ведущих в никуда дорог.
С огромным усилием вырвался он из пут этих зримых воспоминаний, когда умолять его об отречении пришёл в свою очередь князь-епископ: «во имя гражданского порядка и согласия» этот деятель закорешился со смутьянами. Император поднял его на смех, предложив ввести противоположный коронованию обряд декоронации.
— Фарс? Буффонада? — отвечал он на возражения прелата. — Да мы и так в этом по уши. Только одно и видим. А вы пытаетесь помешать мне смеяться, не хотите, чтобы я оценил по заслугам ваши ужимки и прыжки? Смешно, монсеньор, невероятно смешно; никогда бы не подумал, что профанация вызывает такой смех. Я вижу своих солдат, переодетых в разбойников, самых верных своих подданных в масках и плащах опереточных изменников, представляю лавочников, которые изображают Брутов и Демосфенов, и епископов, которые развлекают чернь, демонстрируя ей зады; на маленьком семейном празднике не хватает только меня; дайте же мне поучаствовать в общем веселье.
Когда миниатюрный силуэт исчезнет в мерцании сутаны, император сам закроет дверь; он окинет беглым взглядом просторную переднюю, оставшуюся без части мебели, грязный паркет, где раздавлено несколько папирос, бесстрастно марширующего часового, заметит подмигивания и скрытые жесты каких-то неизвестных людей у окон в конце коридора, ведущего к парадной лестнице, газету, которой прикрывается военный, полулёжа на банкетке, карты, разложенные на паркете игроками. Затем император сядет на кровать с балдахином, к которой с утра никто не притронулся. Пройдёт некоторое время; останутся только сумбурные видения, причудливое и медленное колыхание хоругвей и пламени факелов; подвижные отражения на двухслойном витраже окна, которое он видит сбоку; приглушённые звуки, которые, иссякнув и обесцветившись к концу пути, долетают из парка; перешёптывания и изредка чей-нибудь возглас из передней, а ещё знакомый ход часов со стальным механизмом на рабочем столе.
В семь вечера его пришли задушить подушками. Трёх добровольцев сопровождал врач; он констатировал смерть от естественных причин. Потом слуга, рыская глазами, принёс ужин, который забыли отменить. Вместе с ним вошёл высокий человек в почтовой форме цвета морской волны; на правой руке у него была повязка с ромбом, перечёркнутым стрелами, плотно затянутая на форменном сукне: обычно так накладывают бинты. Он долго сортировал папки, оставшиеся на рабочем столе, распределял их по министерствам и ответственным департаментам, а между делом спрятал в карман брюк часы со стальным механизмом и небольшую фотографию императрицы.
9
Звенит колокольчик, старого генерала сменяет лейтенант, который, поскрипывая мелом, объясняет нам «Начала» Эвклида; от Крушения наши мысли переносятся к легендарным Истокам.
Нам рассказывали, что боги-прародители, которых почитали наши предки, Шурун и Бурун, пузатые колоссы, в результате противного природе соития положили начало нации, в основе своей сугубо мужской. Были у них неистовые охоты на гигантских зверей, поединки, гротескные и мощные; горы и тучи служили им метательными снарядами, а под конец богобратья потрошили друг друга голыми руками, оплодотворяя землю своими внутренностями, из которых вырос первый урожай овса и гречихи; была наконец попойка, во время которой моча великанов превратилась в наши реки, а потом, обнявшись и спутавшись косматыми бородами, они впервые танцевали хулак, который до сих пор в дни церковных праздников отплясывают пьяные старики; затем на ходящей ходуном земле был совершён первый и самый неестественный акт совокупления; эту картину недосотворённого мира, беспорядочно несущегося навстречу своей судьбе, комичную ярость и каннибальский юмор — всё, что Лееб, последний музыкант Империи, пойдя дальше пресных описаний в школьных учебниках и гекзаметров наших поэтов-классиков, воспроизвёл в грандиозном многоголосье своей «Поэмы Сотворения», мы пытаемся смутно представить, позабыв треугольники и параллелограммы лейтенанта и обратив взгляды во двор, где, переполняя лужи водой, дождь словно подготавливает размокшую ноябрьскую землю к новым посевам, к рождению новой жизни.
От величественных истоков к грозовым раскатам крушения факты, изложенные в наших учебниках, мельчают, теряют яркость и наполненность. Нам говорили, что Византийская империя вдохновила нас, стала нашим образцом; знаем мы и рассказ о наших первых послах: босые, взъерошенные, они явились ко двору Палеологов[5] с пенькой и мёдом — традиционными дарами наших степей; а назад вернулись, как нас уверяют, с хищным пернатым, который стал с тех пор нашим символом. Всё это, увы, лишь плод фантазии дедов; в византийской хронике об этом не упоминается. Впрочем, вот было бы смеху, когда б какой-нибудь министр-шутник и впрямь вздумал представить императору дипломатов-дикарей! Тем более, что эти смельчаки умудрились добраться до Константинополя, шагая туда несколько лет, но таверны и публичные дома на окраине города стали для них непреодолимой преградой. Нет у нас истории, и географии толком нет. Мы варвары, которых разметало по ухабистой равнине, нас разделяют изгибы наших медленных рек, мы сумели возвести к чёрному небу лишь поросшие травой курганы да рыхлые насыпи, а грозы и ветра подтачивают их и сравнивают с землёй. Украшения, выкованные нашими ремесленниками, сплошь топорны, а при литье кубков вес и блеск золота заботили мастеров больше, чем форма и ритм линий; какая там утончённость материала — мы воспели его первозданную грубость. И на неверной почве наших невнятных традиций мы наспех возвели постройки из кирпича, хрупкие театральные декорации: из-за Большой смуты наша история бесследно стёрлась — не потому ли, что создавалась она на болотах и всегда была лишь длинным барочным фасадом, обманной росписью на картоне? Если мы не объединим усилия, то скоро от неё вообще ничего не останется, даже руин; снова будет бескрайняя равнина и блуждающий по ней народ.
В полдень колокольчик напоминает нам о геройском долге; на мокром дворе вот-вот продолжится строевая подготовка.
10
Алые эполеты, украшенные императорским вензелем, вышитым серебряной нитью, выровнялись в почти идеальную бесконечную прямую.
— Вольно!
Руки скрещены за спиной, правую ногу — вперёд, но каблук должен находиться ровно на высоте левой лодыжки: столь филигранное движение без шероховатостей выполнить непросто.
— Смирно!
Мы не перестанем любить безжалостную отточенность строевых упражнений. Но эрцгерцог опаздывает, под солнцем в зените блестят носы наших яростно навощённых башмаков, и молодой генерал, который ходит взад-вперёд вдоль наших рядов и иногда яростно хлещет стеком себя по икре, не заставляет нас выполнять эти движения лишь потому, что сам нервничает в ожидании.
— Командиры отделений, вперёд!
Сделать два шага вперёд, щёлкнуть каблуками — и не смотреть по сторонам; столько месяцев репетировали, что продолжать уже не имеет смысла; Серестий может быть уверен, что окажется на одной линии с другими командирами отделений, которые синхронно с ним, за ту же десятую долю секунды, преодолели точно такое же расстояние.
— Встать в строй. Вольно!
Молодой генерал снова ходит туда-сюда, похлопывая себя тростью. Пробор, почти ровно посередине разделяющий от затылка его бесцветные волосы, приклеенные гелем к заострённому черепу, напоминает след от точного удара сабли, нанесённого всадником, который, однако, недооценил твёрдость потылицы. Зной тяжёлыми волнами льётся с неба. Стоя в дальней правой части двора, возле крепостной стены, Алькандр видит на противоположной стороне рослую фигуру барона де Н., который вышел на широкое возвышение перед входом, направился к генералу, силясь придать своему шагу подобающее достоинство, и теперь, стоя навытяжку перед невысоким человеком, отбивающим на своей лодыжке эдакую барабанную дробь, сообщает новость, которая немедленно пронесётся по рядам и за несколько секунд дойдёт до Алькандра: эрцгерцог предупредил, что опоздает больше, чем на час.
— Тишина в строю! Смирно! Вольно! — кричит молодой генерал, его голос звучит вдруг невероятно мощно; он берёг силы до прибытия эрцгерцога, но преждевременно выплеснул их, будто хотел убедиться, что, несмотря на волнение в наших рядах, он не утратил способность нас гипнотизировать.
После этого ему остаётся только изображать безразличие и прерывисто чеканить шаг с тростью под мышкой — подальше от строя, где снова начали переговариваться.
За каменной стеной под неподвижным и жарким синим небом раскинулись огороды и сады, где летом томятся зрелые фрукты. Знак, поданный Серестием, едва заметный кивок, понят мгновенно, словно улизнуть договорились заранее, и вот они уже карабкаются на стену — её надо преодолеть, пока генерал, дойдя до противоположного конца строя, не сделает резкий разворот, ударив себя тростью по икре; Серестий первым усаживается верхом на серые камни, мерцающие хрупкими неровными чешуйками слюды, и сверху пытается помочь товарищу, протягивая ему длинные худющие руки; тот тоже вскарабкался наверх и теперь сползает с другой стороны, напрягая живот, перекатываясь и болтаясь туда-сюда; здесь можно мягко упасть, оказавшись в тенистой канаве, гораздо ниже, чем со стороны двора, и утонуть в запылённых листьях мяты и ромашки. Некоторое время они сидят молча, искоса поглядывая друг на друга, и тихонько улыбаются; Серестий растирает ушибленную коленку. Тишина небывало прозрачна; ряды за стеной, наверное, уже перестроились; если бы генерал что-нибудь заметил, были бы слышны его вопли. Алькандр прыскает со смеху, прижав ладонь к непослушному рту.
— Возле церкви есть сад, там полно клубники.
Они лежат на животе, бок о бок, среди поросших травой грядок, и вовсе не из желания посмаковать этот миг не спешат срывать спрятавшиеся среди матовых листьев с зубчатыми краями и клубничных побегов нежные, чуть кисловатые ягоды; солнце лучами щекочет им затылки, в горле и в желудке слабое потягивание; их лица совсем близко друг к другу, и так хорошо, что приходится молчать: всё это обостряет дивный вкус грабежа и опасности. Отражаясь от густо сплетённых стеблей и листьев, от оголённых корешков, торчащих из комочков раскуроченной земли, от неярко окрашенных обломков раковин, покинутых мелкими моллюсками, солнце шлёт им в лицо запахи свежей земли. Так пахли вспаханные поля той кровавой весной, когда Алькандр впервые восхитился пронзительностью света, пахла плодородная земля, от черноты которой исходил горький летучий аромат, — такой неповторимо-воздушный, словно это был сам свет; плоть, щедро рождающая жизнь, впитав столько смертей; плоть Империи. При соединении органического и неорганического, соли и кислоты долгим и кропотливым трудом сплавляют отдельные формы, воссоздавая единство истоков. Подставляя себя солнцу, чтобы впитать его энергию, подобно белёсым росткам, исполненным жажды жизни, друзья простирают руки, прикасаются, притягиваются друг к другу, освобождаясь от натиска сил, переполняющих их тела, и борются долго, беспорядочно, молча. А потом лежат бок о бок в наступившем изнеможении: затылки прижаты к земле, рассеянный взгляд погружается в прозрачность неба, которое время от времени прорезает стремительная циклоида, нарисованная в полёте синицей; трава и кремний колют шею и руки; мятые штаны кажутся совсем короткими и упираются в задранные носы башмаков, которые в необычной близости словно изображают немного забавную фигуру. Перед беглецами смутно вырисовываются черты земляной Мероэ с антрацитовыми глазами, с волосами из спутанных корешков; её тело, в котором едва заметно плавное волнение жизни, создано из ароматов земли и муарового гумуса; её тёмное полупрозрачное лицо, как подточенная временем мозаика, состоит из крошечных камешков нежных оттенков, сланцевых блёсток, переливающихся всеми цветами радуги, из головок с семенами и фрагментов растений, прилипших по контурам лба и рта к высохшей блестящей плёнке, — это след, оставленный слизняком. Возглас ребёнка на дороге, тень облака, быстро бегущего наискосок через сад, тотчас рассеет минутный образ; смутная тревога едва заметно всколыхнёт тени и растения, а потом уляжется, скристаллизуется внутри них; пора возвращаться.
По ту сторону стены, во дворе, который Алькандр рассматривает, стоя на плечах товарища, ничего не изменилось: молодой генерал покачивает заострённой головой, удаляясь вдоль недрогнувшего строя, где Мнесфей занял место Серестия во главе их отделения; эрцгерцог заставляет себя ждать. Но Алькандру после того, как он, подтянувшись, улёгся плашмя на стену и цепляется за камни, которые крошатся и царапают кожу, никак не удаётся в этом месте ограды, где перепад высот ещё более ощутим, затащить наверх товарища. Они попробуют ещё раз, поменявшись ролями; но Серестию, пусть он выше и сильнее, везёт не больше, и он даже рвёт мундир. В строю их заметили, некоторые идиоты уже начали оборачиваться. Остаётся сделать крюк по улице, попасть внутрь через парадный вход и захорониться где-нибудь — в классных комнатах будет пусто — в расчёте на то, что в суматохе первого вальса можно будет проскользнуть к товарищам. Вот они перед фасадом прячутся за воротами дома в ста шагах от входа и ловят момент, когда капитан, поставленный там встречать эрцгерцога, повернётся спиной. Наилучшая возможность представится сразу по прибытии августейшего, когда после рапорта старого генерала все направятся во двор; дневальный наверняка пойдёт поглазеть, как проходит смотр; вот тут-то и надо брать ноги в руки; в бёдрах, в плечах уже чувствуется подвижность, предвосхищающая бег на ту сторону улицы, дальше направо через главный вход, затем по парадной лестнице в классную комнату на втором этаже, где перед тем, как устроиться у окна и смотреть парад, они отдышатся и приведут в порядок мундиры.
И тут они одновременно видят, как подстриженная «ёжиком» башка капитана исчезает под сводом, и перед ними, мучительно чихая мотором и потряхивая железом, медленно останавливается напоминающий профиль римского носа капот такси попугаисто-зелёного цвета. Из-за дверцы высовывается длинная нога в полосатой брючине; щиколотка обтянута гетрой, большая ступня нерешительно выбирает место, чтобы прикоснуться к булыжной мостовой; затем с помощью шофёра появляется и весь этот неуклюжий комод, массивная бесчувственная масса с водружённой на неё фактурной львиноподобной головой, чьи застывшие черты, подчёркнутые копотью теней, придают ей сходство с маской, которую члены династии не переставали носить веками и почтение к которой нам внушают многочисленные портреты в зале славы; эрцгерцог в странном облачении: на нём цилиндр жемчужно-серого цвета, на ремешке — бинокль; тяжёлый взгляд, едва встретившись с дневным светом, останавливается на мундирах и эполетах двух кадетов.
— Кадеты! Дорогие мои друзья! — выпевает августейший голос, театрально-плавнозвучный, поставленный, обречённый в натянутой тишине перед падением занавеса огласить бесповоротный вердикт, знаменующий развязку трагедии. Серестий и Алькандр замерли навытяжку, словно желают превратиться в безответный камень, и чувствуют, как на их плечи ложатся руки эрцгерцога: он и не подозревает, какие последствия сулит им этот жест благосклонности, от которого мурашки по коже. Они идут справа и слева от этого исполина, августейшие пальцы больно сжимают им ключицы; перейдя улицу, они вышагивают под сводом навстречу старому генералу и слышат словно им самим адресованный рапорт, который генерал произнёс без запинки, и хотя лицо его перекосил страх, пальцы у козырька фуражки даже не дрогнули; приближается великий момент, когда эрцгерцог, забыв о присутствии двух кадетов, но ещё сильнее сжимая их плечи, поведёт воспитанников во двор осматривать строй товарищей; однако в последнюю секунду, воспользовавшись тем, что под сумрачным сводом вплоть до солнечной бреши двора всё происходит на ходу, сзади к ним подкрадывается капитан, хватает одного за ворот, другого за пояс, и пинок, полученный Алькандром по крестцу, в аккурат совпадает с громким и хриплым приветственным криком, который раздаётся, когда эрцгерцог выходит во двор.
11
Небольшой класс, в котором они успели изучить всю скудную обстановку, перечитывая до потери сил названия городов и рек на настенной карте Империи, расшифровывая тайные надписи, вырезанные ножичком на партах, постепенно наполняется сумраком, преображающим все цветные плоскости. С нижнего этажа, выплывая из волн такого же приглушённого шума голосов, пересекая всё погружённое в темноту пространство, до них долетают тихие отголоски вальса. Приходится прислушиваться, чтобы воссоздать движущуюся картину, сосредоточившись всеми силами, всем существом так, чтобы впечатления, рождённые другими чувствами, меркли; в какой-то момент вечера двое друзей даже не подумают, что можно развеять мрак, в который скоро полностью погрузится тесная классная комната, если зажечь лампочку без абажура, висящую на конце перекрученного шнура; но в удвоенной неопределённости очертаний и звуков они будут угадывать ещё более яркое и волнующее, чем показалось бы им в гуще событий, кружение платьев и форменных мундиров, радужные переливы хрусталя на большой люстре и зачарованный трепет скрипок. Всего несколько тактов вальса долетает до них, но в интервалах, разрывающих череду далёких приглушённых звуков, напряжение ожидания и настойчивое постоянство ритма подсказывают ноты, неуловимые слухом, и от того ещё более красочные и пронзительные. Так, проникая к ним сквозь сумрак и расстояние, прерывистый вальс, словно в сказке, мерцает своими фалдами, глубокими и выпуклыми, и им мерещится, будто, обрамляя обнажённые плечи Мероэ, бедные мундиры наших товарищей украсились галунами, эполетами с золотой бахромой, самыми невероятными брандебурами, как в старинных полках Империи, будто отсыревшие стены в нашем тесном парадном зале и столовой украшают золочёная роспись под мрамор и порфировые колонны, и гигантские зеркала в вычурных рамах, где вместо обанкротившегося на скачках игрока, которого все только что видели, отражается эрцгерцог в белом мундире дворянской гвардии, и его торс пересечён зелёной лентой ордена Святого Аспида. Облокотившись на парту и обхватив голову руками, Алькандр закрывает глаза, чтобы яснее слышать эту музыку и видеть эти химерические картины. Расстояние и ключ, который, уходя, повернул капитан, придали, наконец, пусть даже эфемерный, но истинный блеск балу, на котором ему не бывать, и потому Мероэ, которую он не заключит в объятия, обретает настоящую невидимую красоту и неосязаемое платье этой красоте под стать.
На улице зажгли фонари; у главного входа слышны возгласы: значит, все уже разъезжаются; праздничная атмосфера, наполнявшая стены Крепости, рассеивается и, смешавшись с флёром таинственности, её материя становится более изысканной и помпезной. Внутри тоже беспорядочная суета, хотя, казалось бы, сколько строгого напряжения было в первых танцах; с парадной лестницы доносятся шаги и неразборчивые голоса. Какая-то компания устремляется в темноту коридора, где сразу же загорается свет и, проникнув в щель под дверью, стелется по потёртому паркету, озаряя маленький класс; это малыши, они вскоре уходят, что-то утащив с собой, и коридор остаётся во власти ночи. Кто-то ещё пробирается на ощупь и раздражённо пытается сорвать замок, висящий на задвижке; в темноте растворяется воркующее персидское ругательство. Вот и девичьи голоса, но вдалеке, — наверное, на парадной лестнице — разбиваются на тонкие осколки, подобные клочкам водорослей, которые блеснут на миг в набежавшей волне и поблекнут, оставшись на песке. И вдруг — гортанный голос Мероэ, который они сначала узнают по внезапной тяжести в руках и ногах, и в груди, где долгим и непрерывным эхом звучит музыка вопроса «неужели?», который она обронила, проходя мимо запертой двери, и он тянется шлейфом и медленно тает, высвобождая по одному слабеющие обертона, смешанные с затихающим звуком шагов. С кем она говорила? Кто исхитрился увести её наверх, а она при этом ничуть не насторожилась, не заволновалась ни в пустынном коридоре, где они даже не подумали включить свет, ни в классной комнате напротив той, откуда их подслушивают двое друзей, и почему, повернув ключ в замке, они даже не заметили свет в замочной скважине, к которой, смешивая дыхания, поочерёдно льнут Серестий и Алькандр? До них едва доносится неразборчивый шёпот, в котором всё же различимо гортанное «нет, только не это!», и в зияющую неопределённость её слов мгновенно устремляется вихрь образов, обрывочных воображаемых картин; слова растушёвываются звучащим в ответ мужским голосом и смехом, и теперь уже назойливым уханьем музыки. Алькандр так страстно ждал этого вечера в совершенном и столь невинном единстве со своим товарищем, что ни на секунду не задумывался, смогут ли они действительно поделить Мероэ, как разделяют связывающую их дружбу; он чувствует, как необъятная ненависть скручивает его, сушит ему горло — слишком явственная, чтобы он довольствовался столь неопределённой жертвой, как незримый соперник напротив.
— Отныне каждый за себя, барончик, — произносит он, не размыкая губ.
И в свете фонаря, проникающем через незакрытое окно, в тот момент, когда, сжав зубы, он отворачивается от замочной скважины и в упор глядит на Серестия, ему видно, как тот точно так же сжимает зубы, и гнев его словно отражается в зеркале.
— В лазарете есть зеркало, — чётко слышен голос Гиаса, — я тебя отведу.
Они могли бы подраться — молча, как тогда, в саду, где растёт клубника, но яростно, не разними их эта фраза. Мероэ была с братом; они уходят, почти не таясь, как и пришли. Об этой Мероэ из сумрака, Мероэ в калейдоскопе платьев и мундиров Империи, о недоступной и настоящей Мероэ может мечтать только один. Каждый за себя, барончик.
12
Мероэ одна на двоих, но уже не та прозрачная, изначально ирреальная, чей смутный образ возникал между силовых линий поля, полюсами которого были Серестий и Алькандр; Мероэ, напичканная влажной землёй, освещённая всеми огнями и позаимствовавшая у всех теней вещественный объём, Мероэ, раздвоившаяся на фигуры-близнецы, каждая из которых отвергает и стремится вычеркнуть другую, Мероэ настоящая, которая говорит собственным голосом, также вычёркивает ставший ненужным персонаж Серестия, сводя его сущность к чистой симметрии, и никто не удивится, если скоро, предположительно во время плавания на лодке, его не станет, зато потом он возродится — правдоподобия ради — после нескольких далёких и пока что непредсказуемых поворотов сюжета.
13
Бывшие солдаты Империи — портные, повара, отчасти колдуны и распространители небылиц и таинственных историй — пели во всех деревнях эту монотонную песнь, услышанную в праздности биваков на поросших травой рубежах страны.
Три чёрных лебедя поднялись из камышей и смешанных с кровью топей Быстрова болота; тая в пороховом дыму и миазмах стоячих вод, души героев медленно улетучивались, поднимаясь к синему небу. Накануне старый маршал осматривал местность, открытую всем ветрам, с пригорка, изрешечённого кротовыми норами; план города и ручья был разложен на спине согнувшегося молодого капрала; телескопические очки поворачивались на все четыре стороны света, лошади били копытом, ветер срывал треуголки. Начальник штаба рисовал на плане длинные изогнутые стрелки, до победы было рукой подать; пленные, когда их пощекотали калёным железом, не стали скрывать, что силы врага малочисленны и припасы кончаются. Склонившись над своим невысоким штативом, старик ничего не сказал; он втянул ноздрями воздух, выпустил несколько облаков из пеньковой трубки; когда он выпрямился, указывая трубкой на восток, все разговоры прекратились; трое возлюбленных императрицы, спорившие о том, какими наступательными колоннами каждый из них будет командовать, посмотрели друг на друга, словно петухи, которых разняли в разгар боя; начальник штаба выпустил карту, которую разрисовывал, и она улетела, а капрал-пюпитр ощутил пробежавшую по его спине лёгкую волну, когда, продолжая махать трубкой на восток, старый маршал гнусаво прокричал:
— Атакуем вон там!
В широко открытом глазу, на который падала тень его орлиного клюва, заискрились зарницы Браннберга, Виколо, Высокой и других блестящих побед — то были искры его военного гения.
Но вечером, когда над разбросанными по полю огнями поднимался приятный аромат манных клёцок, начальник штаба почувствовал, что атаковать на восток, где не было врага, зато ручей терялся в необъятных болотах, — решение неожиданное с точки зрения теории. Он разыскал палатку старого маршала, неравномерно освещённую с помощью грузных серебряных подсвечников, один из которых стоял непосредственно на большом рыжем ковре из Хума, а другой — над аналоем, где краснолицый монашек с редкой бородкой раскладывал листы с нотами. Сухонькое тело самого старика, полностью оголённое и жёлтое, как воск, за исключением обрубка — синюшного — его бывшей руки, покоилось подле аналоя на брошенных в кучу роскошных шёлковых коврах, сопровождавших его в самых тяжёлых кампаниях. В глубине палатки молодой лейтенант с обнажённым торсом суетился вокруг бочки: маршал, по обычаю наших крестьян, собирался совершить купание в кипящей воде. Наполненные до краёв кубки были расставлены на ковре так, чтобы старик мог до них дотянуться; как человек, выслужившийся из рядовых, он сохранил верность народной свекольной водке; на большом серебряном блюде была сооружена пирамида из сырых луковиц; время от времени молодой монах чистил луковицу, макал её в солонку и отправлял целиком в открытый рот маршала, и тот начинал жевать, не поднимая головы; монашек наклонялся над хозяином с пьяной, глупой и порочной улыбкой. Начальник штаба долго простоял у входа в палатку: когда Старик погружался в себя, его не принято было тревожить. Он отхлёбывал ледяной водки, глотал луковицу, икал и между делом пел; он исполнял трогательный гимн Деве, самое чистое и проникнутое верой творение старого маршала — одно из тех, которые позже звучали во всех церквях. Периодически, по кивку головы, монашек ему подпевал; из его мясистого масляного рта звучал тонкий девичий голос; затем он поворачивался к аналою и гусиным пером записывал, напевая, несколько тактов, сочинённых неграмотным. Воспользовавшись минутной остановкой, начальник штаба шагнул внутрь палатки; его продолговатый ссутулившийся силуэт выступил из тени; но тут он увидел приподнятую в тишине руку маршала: указательный палец резко захлестнул средний, приказывая немедленно повернуться «кругом»; старик был в плену у неги и благоговения. Пробираясь в темноте среди костров и составленных в козлы ружей, начальник штаба миновал освещённую палатку, откуда доносились радостные возгласы, звуки скрипки, гитарные аккорды; фавориты императрицы, временно помирившись, заранее праздновали победу; искры шампанского уже, видно, напоминали им блеск бриллиантов, которые им, увенчанным лаврами, скоро вновь предстоит находить меж монарших бёдер.
14
Мы поём и улыбаемся друг другу, стоя на большом дворе, на пороге ночи, и локтями подталкиваем Гиаса, нашего товарища, потомка одного из чёрных лебедей.
15
Показав на восток, трубка определила исход сражения. На рассвете в затуманенной долине разнеслась барабанная дробь; пронесли прославленные боевые штандарты; монахи свитой окружили золочёную хоругвь со Святым Аспидом; трава, усыпанная росой, была зеленее зелёного. Старого маршала встретили громкими победными возгласами; его фиолетовая жилка набухла; локоны седых волос, выбившиеся из-под треуголки, развевались на висках, подхваченные влажным утренним ветром; его глаза блестели; никогда ещё он столь явственно не воплощал образ гения. Первой выступила кавалерия; разделившись на три параллельных колонны, каждую из которых вёл один из фаворитов, войска быстро заполнили долину; солнце начало разгонять туман; под громовое «ура» и тяжёлый топот сапог по влажной земле оно осветило зубцы сабель, разноцветные плюмажи. Маршал стал во главе пехоты; он сам был пехотинцем и верил только в штык; а эта крестьянская масса шла на бой, как идут во время сенокоса на барщину. И, наконец, следом за артиллерией волы тянули повозки с провиантом и фургончики шлюх.
Когда первая конная колонна, двигавшаяся вдоль ручья, добралась до мостика, над Крепостью начали подниматься клубы дыма; и почти сразу громыхнула пушка. Фаворит, который вёл колонну, велел своим всадникам остановиться; к маршалу направился офицер — испрашивать приказ о переправе на левый берег; пока он говорил, спешившись, с трудом удерживая взвинченную лошадь, начальник штаба не сводил со старого маршала умоляющий и робкий взгляд; переправа была даже проще, чем он думал: вражеской артиллерии было не дотянуться до моста. Но в ответ — молчание; гений неумолимым орлиным взором пристально глядел на восток. Солнце развеяло туман, ворота Крепости открылись; по долине рассредоточился целый гарнизон пуритан; их синие мундиры и шлемы в форме митры красиво смотрелись на изумрудном фоне лугов. Императорская армия, последние соединения которой в эту минуту достигли моста, замедлила ход: в трёх льё впереди, среди болот, ручей изгибался к югу. Левая колонна всадников затерялась в камышах — таких высоких, что они скрыли её от остальной армии, — и начала спускаться вдоль русла; правая колонна, дойдя до излучины, направилась по течению вверх. Вместе они взяли в «клещи» центральную колонну, завязшую в грязи в самой топкой части болота; на пятки ей начинал наступать авангард пехотинцев. Между тем командующий артиллерией, германский наёмник, понимая, что враг приближается и уже слышны его «ура», самоуправно приказал остановить пушки и направил их на квадраты из синих мундиров; несколько ядер вылетели и упали, здорово не дотянув до врага. Даже те, кому было не привыкать к гневу старого маршала, вздрогнули, когда он узнал о самоуправстве; с самого утра он молчал; фиолетовая жилка набухла так, что казалось, вот-вот лопнет от его гнусавого голоса, когда на немедленно разжалованного виновника обрушились самые непристойные и многосоставные ругательства нашей речи. Командовать артиллерией был послан более послушный офицер; канониры ещё раз поменяли позицию и повернулись спиной к врагу. Между тем на болоте зажатая в самой вершине излучины, которую огибал ручей, кавалерия рубилась вовсю: каждый из фаворитов проклинал двух других соперников и намеревался не упустить момент, чтобы от них избавиться. Впрочем, в камышах сумятица была такая, что друг друга убивали даже конники одного полка, не говоря о пехотинцах, влившихся в самую гущу сражения. Попав между штыками пехотинцев и палашами драгун, знаменосцы вместе с церковниками сгрудились на холме вокруг хоругви со Святым Аспидом; всё время, пока шла резня и пока прославленные штандарты не оказались в руках пуритан, монаший хор оглашал поле битвы звуками священных гимнов. Двигаясь плотными рядами и стреляя с колена через каждые десять шагов, синие в конце концов добрались до нашего арьергарда; в первую очередь они завладели водкой и шлюхами, но, увы, сразу добычей не воспользовались. Превосходство имперской армии было таково, что сражение ещё можно было выиграть, и грозный старик, хотя тоже угодил в давку, не утратил самообладания; дар импровизации обеспечивал ему самые громкие победы, и он вдруг приказал кавалерии отойти к западу и атаковать врага. Несмотря на то, что для этого пришлось прошагать по спинам нескольких наших лучших пехотных полков, которые не могли расступиться на вязком и тесном пятачке, кавалерия, возможно, осуществила бы этот сложный манёвр, если бы от избытка усердия новый командир артиллерии, которому только что было приказано вести огонь, в ту самую минуту не принялся поливать ядрами беспорядочное месиво из конных и пехотинцев. На холме золочёная хоругвь со Святым Аспидом и прославленные штандарты возвышались над дымом, переливаясь на солнце; священные гимны летели в ясное небо; но сквозь канонаду и треск ружей уже слышны были хриплые приказы и победные крики еретиков. И тогда над болотом взлетели три чёрных лебедя, любимцы государыни, и полетели к столице; семь дней и семь ночей обгоняли они друг друга, каждый хотел первым доставить весть, что армия погибла, а старый маршал и штандарты — в руках врага; но когда, миновав бескрайнюю равнину, достигли они городских ворот, колокола всех церквей отбивали поминальный звон: императрица скончалась, послы поспешили выкупить мир ценой всех царственных побед. Трёхлетняя война подходила к концу, а с ней и восемнадцатый век: просвещённые и скорбные умы, увлёкшись уравнительными идеями и палеонтологией, уже начинали подтачивать священные основы Монархии.
16
Мы поём, выводя грустную старомодную мелодию, и наше воображение расцвечивает её наивные слова. Слева, у кирпичной стены, замыкающей наш двор, вечерний ветер осторожно колышет кусты сирени. Впятером или вшестером мы продавливаем деревянную скамью, придвинутую к стене; кто-то стоит, опершись локтями о наши плечи, как будто мы фотографируемся; кто-то сидит, как будто мы фотографируемся; кто-то сидит как придётся, скрестив ноги по-турецки, прямо на гравии. Удлиняющиеся тени обрисовывают нечёткие очертания старинных биваков. Ветер истории стихает, пресытившись ароматом сирени.
17
Но ещё он дует по ночам, осаждая Крепость, как воды поднимающейся реки наступают на остров, оказавшийся у них на пути; непогода шквальными натисками штурмует наши железные кровати и тревожные сны. Надёжно ли наше укрытие? Стены выдержат; но разве в наших сердцах, в самом веществе нашего воображения не сохранили мы отголоски потрясений Империи, покидая дома, разорённые пожарами и убийствами? Днём этот глухой рокот подавляется дисциплиной и силой воли; зато ночью разве не пробуждает его в нас темнота? Каждый из нас ощущает волнение Большой смуты, и мы мучительно чувствуем, что и в нас самих прячется враг, который откроет ворота цитадели. В самом грунте осаждённого острова подземные воды, пленники глинистых почв, тайно устремляются навстречу поднимающейся реке.
День всё расставляет по местам. С этой частью суток, не относящейся ни к славному прошлому Империи, ни к будущему, которое подобно прошлому и которое мы храним в себе, нам удаётся совладать с помощью неукоснительного расписания и дисциплины. В надёжной обители нашей Крепости с её двором, гимнастическим залом, с рядами железных кроватей в дортуаре и узкими столами в столовой текучее настоящее обретает границы, застывает, становясь вечностью, которая припаивает прошлое к будущему, сплавляет их в единое целое без зазоров. Всю ночь над нами словно кто-то потихоньку ворожит: это охватывают нас тревоги Большой смуты; при ровном свете дня, разграфлённого сеткой расписания и требованиями дисциплины, возводится в нас прочное здание решимости.
Но разве от напряжения, которое мы не ослабляем ни на секунду, чтобы под нашими ногами не разверзлась пропасть, отделяющая прошлое от будущего, по цельной поверхности этой произвольной вечности не могут побежать едва заметные трещинки? Мы не движемся к будущему, для которого между тем предназначены. Мы видим, как теряют надежду и опускаются наши офицеры.
18
Однажды утром, ещё до построения и молитвы, пропадает лысый полковник; в этот день густой туман заволакивает местность, поглощая всякого, кто выходит из Крепости, и человек тут же бесследно исчезает. Мы боимся его за крутой нрав (Алькандр и Серестий знают об этом не понаслышке: когда они были друзьями, полковник застал их на чердаке, где они сцеживали настойку); и всё же мы скорее им восхищаемся, хотя без содрогания не можем вспоминать ту деревню, которая переметнулась на сторону смутьянов: говорили, что он собственными руками повесил всех её жителей. Накануне исчезновения мы слышали, как в его кабинете орал старый генерал; полковник в очередной раз приложил кулак к носу какого-то малыша. Как же грустно было несколько дней спустя, когда очередной субботний поезд заскользил в сторону Северного вокзала, увидеть в группе путевых рабочих лысину полковника и его коричневый пиджак в белый рубчик, странно выделяющийся на фоне синих роб его новых товарищей.
Если, как сегодняшним вечером, дежурит лейтенант, то мы ждём (и редко бываем разочарованы), что перед тем, как препроводить нас ко сну, он сделает несколько глотков той самой водки, бутылку которой прячет в тумбочке между фетровыми тапочками и ночным горшком. Тогда хотя бы одна из покрытых синей краской лампочек в спальне останется гореть до полуночи, и, усевшись на чью-нибудь кровать, лейтенант примется расцвечивать мрак меняющимися красками алкоголя и странствий.
Лёжа на спине, мы видим, как мерцают звёзды в ясном тропическом небе, обрамлённом синеватыми с изнанки листьями баньяна[6]. Откуда среди всеобщей неподвижности, чуждой грубым и простым формам толстых стволов и незатейливости контуров этого прорванного окна, словно нарисованного ребёнком, чуждой ровному рассеянному свету луны над этим величественным неподвижным пейзажем, слышится сначала едва различимый, почти призрачный, а затем словно идущий из нас, смешиваясь с эхом, которым пульсация нашей крови и органов отдаётся в ушах, этот прозрачный гул, сначала подобный тончайшему звону встретившихся бокалов, но теперь, усиленный нашим вниманием и тишиной, превратившийся в ужасный грохот, разом накрывший всё вокруг, в том числе и нас, внимающих ему со страхом и преклонением? Голые мы лежим лицом к звёздам и слышим, как движется земля, несущая нас в пространстве вселенной. Душистая и безвкусная плоть экзотических плодов, в которые мы жадно впились зубами, на заре вновь станет жёсткой и обретёт слегка солоноватый вкус наших подушек. Под душем и потом, одеваясь в спешке, некоторые из нас вспомнят ночные рассказы и, возможно, обменяются взглядами, в которых смущение смешано с иронией, — так смотрят на вчерашних собутыльников, чтобы намёком выразить то, что не решаются сказать словами: что было, то было, но кто бы что ни сказал, за этим ничего не последует, сон сделал своё дело, и мы по-прежнему довольны собой. Почему же, проснувшись, мы чувствуем какое-то нетерпение, горечь, которая откладывается, словно накипь? Ослабла в нас невидимая струна — так же, как по прошествии месяцев и лет распадаются ловко сплетённые изначально интриги, теряется правдоподобие и нарушается хронология ночных рассказов, и близок день, когда эти ночи разобьются вдребезги, и в этот миг лопнет опухшая печень лейтенанта.
19
В нашем прежнем распорядке допущено послабление: теперь по воскресеньям, когда мы не в увольнении, приходят матери, и наша суровая обитель тонет в приливе их скорбной нежности. Уж лучше бы они не высовывались из своих квартирок в пригороде! Парадный зал наполняется их осторожными перешёптываниями; заканчивая завтракать в столовой, мы пытаемся различить среди этих нервных голосов тот, который скажет нам «ты».
Иногда приходят и отцы: по правде говоря, рядом с нами им хочется вновь пережить мгновения военного прошлого; отцов мало, и оттого с ещё большей жалостью мы смотрим на их бородёнки, лысины, изношенные кители, украшенные продетыми в петлицы лентами; как же повезло, — думаем мы, — тем, кто застыл, будто на фотоснимке, в разрывах пушечных снарядов, кто навечно остался молодым в форме, пробитой пулями, так и не узнав исхода сражения.
К вдовству нашим матерям не привыкать. Глаза у них вечно в пол, любезности — шёпотом; серые или чёрные платья тщательно выглажены. Кремовая лента подчёркивает худобу шеи, а от фиалки теплее печальная улыбка. Алькандру хорошо знаком этот полевой цветок, эпибола, который на нашем языке в просторечии называют «вдовушкой», и цвет этой фиалки, как и её скромно наклонённый венчик, всегда будут напоминать ему знакомые безропотность и хлопотливость.
Тем не менее его мать, Сенатриса, входит в Крепость с высоко поднятой головой. Поверх шумной толпы посетителей и вышедших к родителям кадетов в парадном зале она посылает отсутствующий и одновременно властный взгляд. Прокладывая себе дорогу, она ударяет тростью по паркету, как швейцарец во главе процессии; вместо сладостей, которые приносят другие родичи, чтобы наши товарищи лопали их украдкой, мучаясь то стыдом, то жадностью, она извлекает из полотняной сумки, с которой не расстаётся, пачку пожелтевших писем, мундштук, принадлежавший покойному сенатору и непонятно в честь чего вверенный теперь на сохранение Алькандру, а также счета за месяц, которые просит его растолковать и рассортировать.
Рядом с матерью Алькандр, как и другие его товарищи, жертвы родительских визитов, отрывается от нашего общества; семейный круг — замкнутая фигура, самые нежные узы стыдливо оберегаются, ведь мы пытаемся скрыть от наших товарищей своё детство, которое предстаёт здесь в убогости до боли знакомых платьев, домашних манных клёцок, каракулей сестрёнки, вспомнившей, что вам здесь одиноко. В просветах окон и под безразличными портретами монархов возникают небольшие группы; здесь никто и не подумал бы представить друга родителям. В зале, где в другие дни раздаётся громозвучие наших голосов, мы тоже начинаем шептать; гордясь тем, с каким безразличием мать встречает жизненные обстоятельства и людей, которые ей не представлены, Алькандр тем не менее пытается сделать так, чтобы тучная фигура Сенатрисы выглядела менее заметной, пока она невозмутимо продвигается сквозь толпу и время от времени, словно из рассеянной милости, позволяет походя поцеловать свою руку отцу какого-то кадета, одному из наших офицеров, а затем спрашивает хорошо поставленным голосом, от которого прекращаются все перешёптывания:
— Ты этого знаешь, Алькандр?
Все мы чувствуем смутное облегчение после отъезда родных, которых, однако, ждали. Последние крошки слизаны языком с ладоней; невольно вздрагиваешь, когда лейтенант, пришедший проводить вашу матушку, лицемерно кладёт при ней руку вам на плечо и произносит: «За него не беспокойтесь, он далеко пойдёт». Мы оглядываемся, дабы увериться в том, что никто не подсмотрел невинный и неприличный материнский поцелуй, и вот опять схватывается, твердеет, цементируется наш союз.
И всё же вечером, прижавшись щекой к подушке, мы вновь воскрешаем на миг эту картину — влажные квартиры в пригороде и сто раз переглаженные платья неброской расцветки с полевыми цветами.
20
Нигде нет такого ощущения утраты пространства, как на свекольных полях осенью. Отрезки меридианов и параллелей, сетью которых опутаны на географических картах участки суши и океанов, обозначенные названиями или цифрами, разъединяются на подступах к этим глинистым и размытым далям, усаженным безымянными кустиками, ряды которых сходятся к горизонту, навевая тайную тревогу, как это свойственно одинаковым и безликим местам. Мы идём в ногу по каменистой дороге. Заострённый затылок молодого генерала покачивается слева от первой шеренги, рисуя своеобразную синусоиду, местами прерывистую, и в этом молчаливом марше многим из нас кажется, будто мы движемся по равнине верхом. Уж не ждёт ли нас в засаде за тем холмом, который угадывается сквозь брешь в пелене тумана, всклокоченное войско неверных, устроивших набег на границы Империи, или банда смутьянов, которые, вооружившись косами и охотничьими ружьями, поднялись за равенство и бесплатный спирт под предводительством какого-нибудь студента, доморощенного командира в кожанке, подпоясанной пулемётными лентами? Но за последними шеренгами нашего строя слышен шум, скрип велосипедных шин по гравию и яростное дребезжанье звонка: сельский рабочий привстал на педалях и, задевая наши ряды, выписывает зигзаги на узкой полосе дороги, оставшейся слева свободной; он толкает в спину молодого генерала, который делает короткий прыжок в сторону, пристыженно, словно пёс, пойманный на краже.
— Ты что, глухой?
Инцидент исчерпан. По крайней мере, был бы исчерпан, если бы вечером в столовой раздосадованного генерала не осенило:
— Надо было ответить «да».
21
Тайное общество образуется за одни сутки; кто был зачинщиком, мы так и не поймём; впрочем, ничто в этот день не нарушает внешнюю церемонность нашего расписания; занятия, посещения столовой, военные упражнения сменяют друг друга согласно распорядку; но ещё до того, как к каждому из нас успеют подойти и с загадочным видом отведут в сторонку, а двое других кадетов шёпотом объяснят суть дела, мы начинаем ощущать какое-то брожение, замечать живость в глазах и в жестах, улавливать напряжение в голосе, даже если речь идёт о самых заурядных вещах, словно, когда мы открываем рот, чтобы о них сказать, мы боимся выдать тайну: её нам ещё не доверили, но мы чувствуем, что она есть.
Новые несчастья обрушились на Крепость. Не иначе, как по настоянию некоторых матерей, которые, окопавшись в пригороде со своими несбывшимися надеждами, привили сыновьям бесполезную нынче склонность к щегольству, старый генерал, вопреки традициям и военным порядкам, разрешил кадетам отпускать волосы. Хуже всего, что нам самим не хватило духу вернуть строгий обычай брить череп, и даже малыш Гиас, хоть он и не любит излишеств, выливает на чёрную как смоль шевелюру содержимое флакона с украшенной фиалками этикеткой, чтобы пригладить вдоль проложенного чуть наискосок пробора кудри, по очертанию напоминающие рога, с которыми художники изображают Моисея. Другие послабления в уставе нашего сообщества тоже были неизбежны, рассматривалась даже возможность выпустить нас из Крепости, чтобы мы, смешавшись с юными обывателями, сдавали экзамены по общеобразовательным предметам. Как влага в сыром климате постепенно просачивается сквозь камни и в конце концов проступает внутри помещения ленивыми каплями, вызывая пузыри на холстах и залегая в трещинах краски, так же мирные времена тайно проникали в наше незыблемое бытие. Охватившая нас горячность не попытка ли побороть этот яд? В пику дряхлым старикам, которые втолковывали нам устав, но сами не сохранили его, у нас будет свой устав — куда суровее, — уроки предков породили его в наших сердцах. Внешнюю, искусственную военную иерархию мы опутаем невидимой, но тугой сетью естественных субординаций, действующих по непреложным законам, которые подобно массе и расстоянию в системе физических тел определяют наши авторитет и права, влечения и антипатии.
В трёх классах, забаррикадированных с помощью парт, которые мы придвинули к дверям, и охраняемых часовыми, выставленными в коридоре, странное волнение воцаряется после вечерней молитвы, когда наступает восхитительный час полной свободы, подаренный нам перед последним построением и отбоем. Одни вырезают из картона и цветной бумаги символы нового общества — звёзды, полумесяцы и кресты всех мастей, которые мы будем носить под мундирами или на шнурке вокруг шеи, или на внутренней стороне портупеи; в соседнем классе Мнесфей, Клоанф, Эмафионт, Гиас и Укалегонт окончательно распределяют между собой штабные должности, которые так и останутся тайной для других членов общества, поскольку не успели они нарисовать схему на листе, вырванном из тетради Алькандра по математике, как Эмафионт тут же комкает его, после чего тщательно прожёвывает и проглатывает; затем образуются группы, ячейки; даже малышей не исключили: два резервных батальона под началом Ородия и Фоанта; Персы, забыв, к какому подразделению относятся в дневной иерархии, выделяются в самостоятельную единицу — у них свои знаки отличия с надписями на их загадочном языке и командир, личность которого останется загадкой даже для нашего командования. Ни один нюанс правил дисциплины и системы субординаций не был забыт при тщательной подготовке, происходившей в тот вечер, и всеобщее воодушевление не помешало новому штабу строго продумать все детали устава, который каждый тут же выучил наизусть. О целях и принципах вопрос не стоит: отвоевать Империю, восстановить поруганную монархию — эти задачи начертаны глубоко в наших сердцах, так что излагать их не нужно; словам мы не доверяем. Но субординация, безусловное подчинение, решимость и преданность — это то, что мы будем отстаивать всеми силами. При свете ночников в спальнях и в классах, где после отбоя пока ещё тайно стягиваются в группы фигуры в ночных рубашках, в эту ночь мы обращаем друг к другу сбивчивые и взволнованные речи; горячие слёзы выступают в глазах Хромиса и Амастрия; мы клянёмся хранить тайну нового общества и верность ему; никому и в голову не приходит, что без цели, пусть даже священной, нашему братству не обойтись. Великая клятва будет дана только через несколько дней.
22
Предплечье капитана расширилось в три раза, его пальцы, сжимающие трость, которой он пользуется при объяснении, периодически целиком захватывают экран; водружённый на этажерку громадный аппарат — полупушка, полулокомотив — направляет в темноту большой гостиной туманный конус, в котором переливаются всеми цветами радуги летучие пылинки, а на влажной простыне, натянутой поверх большой карты Империи, как по волшебству, возникают усатые драгуны, скачущие навстречу смерти верхом на конях в увесистой упряжи. От звуков рояля дрожит люстра и балконные двери.
Внезапно отключают электричество; ещё секунду, три музыкальных такта, кони продолжают скакать по радужной оболочке наших глаз. Раздаётся персидское ругательство и рёв малышни.
В темноте кончается сфера разумного, где царит официальный порядок: вместо него у нас действует другой, тайный механизм, запущенный аварией. Дарес и Медонт, которых капитан послал проверить пробки рядом с карцером под парадной лестницей, по пути получают секретный приказ вырвать их и встать на посту, чтобы свет не вернули. Прямо в большой гостиной, изображая голос капитана, Мимас приказывает всем разойтись по классам и там забаррикадироваться. Вскоре тёмные коридоры наполняются яростными криками; наши часовые героически защищают пробки от дневального, который пришёл их менять. Молодой генерал остался без света в своей келье на третьем этаже и теперь в ночной рубашке сражается плечом к плечу с дневальным. Группа кадетов бросается на помощь часовым; опьянённые свободой и болью, с окровавленными лицами, мы наконец заталкиваем молодого генерала и дневального в карцер, где они напрасно колотят в дверь; ключи отобрали у капитана, которого Персы умудрились упрятать в рояль; наконец, когда внизу наступает полная тишина, мы тесными рядами направляемся к коридору второго этажа, где находятся апартаменты директора и большинства офицеров. Они не выходили, а может, предусмотрительно спрятались, осознав размах мятежа. Лейтенант храпит или притворяется, что храпит, в своей постели: мы просто поворачиваем ключ в двери. Капеллан зажёг свечу и молится; Ферсилокий и Ферий, босые, с головой накрылись простынёй и машут ею со зловещим «У! У!», изображая дьявольское видение, потом задувают свечу и утаскивают сутану. Напротив, в лазарете, опередившие нас двое Персов разогнали больных, забаррикадировались с кудахчущей фельдшерицей и отказываются открывать. Комната барона де Н., к счастью, пуста; перед ним мы бы оробели, но он часто уходит по вечерам, когда нет дежурства. Желтоватый свет мерцает под дверью директорской гостиной; мы следим через замочную скважину за старым генералом, который прячется там в окружении всего своего семейства; решено обследовать комнаты, оставленные дочерьми директора; Линкей и Алетий отличились особо и тащат наваленные вперемешку украшения, бельё, письма и фотографии. Слаженным движением вышибив обе двери, мы врываемся в директорскую гостиную. Идас и Сидоний, натянув на голову мундиры, распахивают дверь, ведущую в спальню, и — глазом никто моргнуть не успел — разбивают две керосиновые лампы, освещавшие тесный семейный круг. Из темноты коридора подтягивается весь отряд, и малыш Гиас со свойственными ему дерзкими нотками выдаёт распоряжение, которое до глубины души потрясает и нас, и наших жертв:
— Мы, волей Божией тайные коменданты, приказываем вам всем встать на четвереньки.
После этого, заперев двери, мы разглядываем в замочную скважину их скрюченные тени, различимые в свете уличного фонаря.
Большая пятёрка заперлась в пустой комнате капитана на совещание. По традиции имперской армии, во взятом штурмом городе солдаты получают полную свободу и власть над жителями и их добром, пока на заре не протрубят сбор. Каждая рота по очереди будет обеспечивать охрану пленников, которым запрещено разговаривать; после сигнала к поверке дневной порядок будет немедленно восстановлен.
В тревожной темноте Алькандр обходит взбунтовавшуюся Крепость. Его путь лежит по спирали с верхнего этажа вниз через все помещения замка; он мысленно рисует смутную картину естественного движения: ползучее растение терпеливо опутывает решётку.
В маленькой спальне ни души, в душе — тоже. Но в большом дортуаре Алькандр становится свидетелем странного оживления. По примеру Ферсилокия, дюжина кадетов, накрывшись простынями, сорванными с кроватей, с улюлюканьем исполняет танец призраков; некоторые зажгли карманные фонари, у других есть улиткообразные свистки, звучание которых начинается и заканчивается на низкой ноте, а в промежутке достигает предела зловещей пронзительности. Алькандр вынужден сорвать простыню с Ферия, обменявшись с ним тумаками, чтобы показать звезду из серебристой бумаги, которую носит на груди, и передать приказ командования. Он выясняет, что войско призраков собирается совершить обход замка и спуститься во двор. Надо срочно предотвратить всеобщий сыр-бор. На парадной лестнице он сталкивается с вопящим кадетом, которого тащат под руки ещё двое и заставляют подниматься ступенька за ступенькой, молотя его ногами по икрам; когда Алькандр проходит мимо, они останавливаются и прижимают жертву лбом к перилам. «Приказ командования третьей тайной роты», — объясняет Бут (которого Алькандр узнал), но больше не добавляет ни слова. С лестницы скатывается малыш и чуть не сбивает Алькандра с ног; в его воплях слышен скорее страх. Алькандр с трудом взламывает дверь в класс № 1, освещённый керосиновой лампой. Парты там сдвинуты к задней стене и навалены друг на друга, так что в сумерках вырастают фантастические театральные подмостки. Гидасп, Астирий, Ретей и ещё несколько кадетов сидят вокруг лампы на полу; за пределами образованного ими круга в полном беспорядке валяется куча книг и журналов; они молча берут их экземпляр за экземпляром и при свете лампы изучают. Это запрещённые книги, за многие годы конфискованные из личных шкафов и из-под подушек в спальне; после ночного победоносного штурма их удалось извлечь из надёжно запертого чулана, куда их складывал старый генерал. Обретя на последней странице печать нашей организации (перекрещённые пушки, увенчанные императорской короной, поверх которых изображён знак вопроса), они лягут в основу нашей тайной библиотеки: это приключенческие и любовные романы с цветными кричащими обложками, журналы с обнажёнными женщинами, тетради, в которых старательным почерком записаны казарменные песенки и стихи; их надо перебрать, чтобы исключить некоторые вредные сочинения, неизвестно как попавшие в Крепость, — офицерам следовало сразу их уничтожить. Мы позаботимся об этом в ту же ночь, сожжём их на праздничном костре: его разведут во дворе, и ему в пищу пойдёт дьявольская плоть опалённых страниц из книг по дарвинизму и парламентской системе. В другую, ещё более хаотичную кучу, свалена добыча, похищенная из апартаментов старого генерала; это письма и бумаги, большинство из которых после публичного прочтения старательно разорваны Гидаспом на мелкие квадратики; с немногих уцелевших конвертов содраны марки — специально для коллекционеров; письма, в которых особо извращённый ум позволяет нам за банальными фразами обнаружить бог знает какие намёки и пикантные смыслы, отмечены, сохранены и учтены нашим казначейством; то же самое касается и большинства очень старых фотографий, где изображены молодые женщины в подвенечных и бальных платьях по моде начала века, усатые юноши, гордо демонстрирующие новую форму и глядящие в объектив решительным и глупым взглядом; они опираются на огромные кресла на фоне тяжёлых складчатых штор, меж зелёных растений в лжегостиной, где так и ждёшь увидеть штатив, чёрный платок и бородку фотографа, и кажется, что это персонажи неправдоподобного поэтического романа, у которых нет ничего общего с нашими сегодняшними жалкими учителями. В казначейство поступают также более волнующие предметы: шёлковые чулки, бельё, пара чёрных невероятно длинных перчаток, все пальчики которых один за другим, расстегнув ширинку, примерит с молчаливым хихиканьем Ретей. На стене, по которой скользит красноватый свет лампы, во весь рост изображён старый император; на нём парадная форма гвардейского генерала: он покорно и устало скрючился, демонстрируя телосложение неандертальца.
Напротив — класс № 2, там темно и тихо; две тени выделяются на фоне окна без штор; профили, которые видит Алькандр, обращены друг к другу: взгляд у этих двоих одновременно пронзающий и незрячий; пухлый рот Меропса выпячен и шевелится: он что-то говорит, но слышно только едва уловимое шлёпанье мякоти губ, смыкающихся и размыкающихся через плёнку слюны. Алькандр подаёт голос, но третье лицо выходит из тени и свистом требует тишины — Лир, которого Алькандр не заметил, полулёжа на парте, не сводит глаз с молчащей пары. Эрихетий наконец произносит шёпотом: «Конь „эф“ на „Харитон“ пять» и подаётся назад, избавившись от груза слов.
Струя лунного света льётся со двора, выбеливая длинные ночные рубашки и прорисовывая в контражуре очертания неподвижных профилей; слышно, как тихонько шлёпают негроидные губы Меропса. Алькандр оставляет двух лучших игроков Крепости в яростной схватке.
Коридор буквой «Г» ведёт к классу малышей; там темно, даже когда удаётся зажечь неудобно приделанную лампочку при входе, и Алькандр, привычным жестом вытянув в стороны руки, на ощупь минует прямой угол в середине пути. В классе озабоченные фигурки малышей образуют плотный подвижный сгусток; они толпятся вокруг кафедры, на ступенях, и нависают над столом, где есть слабый свет. Через головы Алькандр видит их товарища, тучного рыхлого мальчика, на трогательные и безутешные глаза которого он ещё раньше обратил внимание; мальчик лежит на спине, ему скрутили руки и привязали их к преподавательскому столу. Пламя свечи, которую держат на расстоянии двух пальцев от его лица, освещает открытый рот и закатившиеся огромные эмалево-белые глаза.
— Признавайся, — шепчет кадет со свечой.
Красивый, немного вялый рот искажается, сжимается, бормочет:
— Но в чём?.. В ч-чём?
— Признавайся… во всём!
Алькандр замечает, что на пленнике нет ботинок; два инквизитора перьями колют ему ступни; другие не дают согнуть колени, которые он судорожно пытается задрать. Мундир наполовину задёрнут, и из-под него виден гладкий живот и глубокая впадина пупка, в которую налили воск свечи.
— Кто это? — спрашивает Алькандр. — Что он сделал?
— Это Ферий. Что он сделал? Ничего. То есть мы хотим выяснить. Чтобы всё рассказал — всё, что думает, — всё, о чём не говорят, в общем… это интересно.
Они отвечают все разом, пихая друг друга, а заодно и Алькандра; захлёбываются от предельного возбуждения, и в мерцании свечи их глаза, жадно нацеленные на лицо пленника, обретают необычный блеск. Алькандр идёт в обратном направлении по коридору с поворотом, и ему кажется, будто в темноте он видит отливающую синим эмаль больших глаз Ферия под пыткой.
Движение по бесформенному пространству затемнённой Крепости похоже на штопор. На лестничной площадке мечутся тени; тёмная масса сваливается на него чуть ли не на ходу: какой-то кадет, вскочив верхом на перила парадной лестницы, со свистом скользит по ним вниз. Перед комнатами офицеров по-прежнему выставлены часовые; там царит полнейшая тишина; через открытую дверь Алькандр бросает взгляд в комнату молодого генерала: простыни и одежда вперемешку свалены на кровати и на ковре; ящики бюро обшарили, разбросанные бумаги тянутся до самого коридора. Возле электрического счётчика в начале небольшого аппендикса, ведущего к лазарету, часовой при виде Алькандра встаёт навытяжку; украденные пробки спрятаны в надёжном месте. Через запертую дверь лазарета Алькандр вступает в переговоры с Персами. Слышны смешки, приглушённые возгласы, нежные странноватые голоса, быстрый топот босых ног по паркету, скрип кроватных пружин. Алькандр представляет большой чёрный шиньон и дородные белые телеса фельдшерицы. Сквозь замочную скважину до него долетает лишь смесь ароматов спермы и бриллиантина.
Большая гостиная со стеклянными балконными дверьми, за которыми висит луна, — наименее тёмное помещение замка. Тени только усугубляют беспорядок, в котором под люстрой свалены стулья и скамьи, принесённые из столовой для демонстрации волшебного фонаря.
— Где капитан? — спрашивает Алькандр, подходя к роялю.
Галид поднимает к нему измождённое лицо с орлиным носом и широкими пугающе-неподвижными глазами. Под прядью волос, закрывающей правую половину лба, можно заметить капельки пота. Даже после того, как он снимает с клавиш свои хищные когти, анданте из большой сонаты Лееба с тонко выбранной фальшивой нотой в самом патетичном месте продолжает призрачное существование в эхе, в тенях и реверберациях.
— Он бежал. Персы ушли. Зато вот, у меня есть рояль.
В столовой, которая кажется больше, когда в ней нет мебели, начинают собираться призраки. Алькандр останавливает нескольких товарищей и конфискует карманный фонарь: надо найти бежавшего капитана. У парадного входа выставлены часовые; Алькандр сам возглавляет погоню. На кухне, которая освещается горящим газом, они походя прихватят с собой кое-какие продукты и бутылки водки; открытое окно ведёт на улицу: вот где удалось проскочить капитану. Разбуженный повар клянётся, что ничего не видел. Перед тем, как уйти, Алькандр просовывает руку за клетчатую штору под умывальником — там спрятаны тряпки и мусорное ведро. Уколов ладонь, — щёткой? — внезапно вздрагивает: он чувствует череп капитана, свернувшегося в клубок среди мусора. Алькандр не сразу убирает руку. Он глубоко дышит. Даже при синем газовом свете он не хочет встречаться с капитаном лицом к лицу; с сильным взбешённым капитаном — куда ни шло, но не с этим, униженным. Алькандр поворачивается к окну, ведущему на улицу.
— Он проскочил здесь. Уходим.
Двор наполняется призраками. В стремительном хороводе вокруг костра, где вместе с вредными книгами горят несколько стульев и парта, пляшут белые фигуры, свистя и улюлюкая в темноте. Кое-кто зажёг украденные в часовне свечи и медленно вышагивает вокруг тополей, трепещущих в глубине двора, изображая процессию кающихся грешников; одни превратили ночные рубашки в рясы с капюшоном; другие намотали на голову полотенца в форме тюрбанов. Суровые и мужественные песнопения, подражание траурной литургии, долетают клочками, которые нарвал ветер. Затем некоторые участники процессии встают на колени, словно что-то возлагают на землю. Свечи дрожат на ветру. От их неровного пламени, от их белизны, обнаруживающейся в темноте, исходит чуть удлиняющее прозрачный влажный ореол, окутавший процессию, едва заметное предчувствие зари.
Алькандр смотрит на похоронное кружение теней вокруг бледнеющего и затухающего костра. Потом он встаёт под сводом ворот, его обступает собранный им небольшой отряд. В усталых телах коварно пробуждается озноб; зажигаются сигареты, их так здорово курить в этот час безвременья и пустоты в этом неузнаваемом месте. Часовые курят молча. Булыжники мостовой уже выделяются из мрака, каждый обретает собственные краски с розоватыми и синеватыми оттенками серого, облагороженного темнотой. Алькандр хотя и знает, что капитан спрятался на кухне (и при этом действительно мог уйти через открытое окно, когда патруль удалился), с непонятным возбуждением прислушивается к шумам: к бдительному напряжению примешивается некое чувство радости. Если капитан появится с подкреплением, надо запереть ворота и бежать в штаб; если придёт один — задержать его и препроводить в комнату; в неотяжелённом сознании Алькандра этот план вычерчен с точностью геометрической фигуры. В рассеивающейся ночи красные точки сигарет поочерёдно расширяются и гаснут; на углу улицы вдруг раздаются торопливые шаги.
Вместо капитана крупная фигура барона де Н. внезапно возникает на тротуаре с противоположной стороны; его монокль блестит, несмотря на сумрак, металлический наконечник трости в бравурном ритме ударяет по мостовой. Барон направляется прямо к курящим; несколько сигарет немедленно будут раздавлены: они летят на тротуар, и за ними тянется сноп искр. Никому и в голову не приходит закрыть ворота; никто не произносит ни слова. Барон хватает Алькандра и одного из его товарищей, сомкнув свои железные пальцы на воротниках их мундиров; обведя взглядом остальных, он превращает отряд в стадо и гонит его перед собой. Возможно, он проревел:
— В мою комнату!
Мы часто фантазировали по поводу ночных отлучек барона де Н. В ту ночь мы твёрдо знали, что его комната была пуста; в его возвращении на заре нет ничего необычного. И всё же, хоть Алькандр и не догадался преградить барону путь в Крепость, он не винит себя за эту тактическую оплошность. После тягостной свободы, которую принесла эта ночь, возращение барона кажется облегчением.
У входа в столовую барон и его пленники приостанавливаются, чтобы взглянуть на двор. На месте костра валит густой дым и в медленных судорогах поднимается в синее небо; брошенные простыни и ночные рубашки в беспорядке валяются на гравие. Многие кадеты покинули двор; под слабые звуки рояля, доносящиеся через открытые окна гостиной, отчаянно порхает в вальсе обнявшаяся парочка. Остальные сидят или лежат группами или по одному на скамьях и под кустами сирени, листва которой постепенно окрашивается в тёмно-зелёный цвет. Несколько голов повернулись к барону; глаза смотрят ошалело; на скамьях и подоконниках выстроились стаканы и бутылки; какой-то кадет, лёжа на спине совсем близко к огню, опрокидывает себе в глотку последний стакан водки.
— Ко мне в комнату! — глухо приказывает барон.
Он крепко держит за воротники двух своих пленников. Остаток небольшого отряда — впереди; они движутся, как сомнамбулы.
23
Когда закрывается дверь, барон садится на железную кровать. Из правой руки он не выпускает трость с набалдашником; он похож на епископа, проводящего обряд.
Сбившись в тесном пространстве, пленники отводят друг от друга взгляд; дюжина пар глаз пытается в полумраке расшифровать выражение лица барона. От криков, периодически доносящихся снаружи, тишина в маленькой комнате давит ещё сильнее.
— Кто это сделал? — спрашивает барон. Синеватый рассвет понемногу окрашивает предметы.
24
— Кто это сделал? — слабым голосом повторяет Сидоний, стоящий в первом ряду виновников; и отвечает: — Укалегонт передал Рипею, Рипей — Меропсу, Меропс — Линкею, Линкей — Ферсилокию, Ферсилокий — Клоанфу, Клоанф сказал Алетию, а Алетий — Лиру, Диманту и Коринею; Димант сказал Хлорею, Хлорей — Даресу, Дарес — Гиасу, Гиас — Мнесфею, Офелту и Фалерию; Мнесфей сказал Фоанту, Фоант — Алькандру, Алькандр — Сидонию и Персам; Сидоний сказал Мимасу, а Мимас — Мисению, Мисений — Гидаспу, а Гидасп — Демофонту, который и так всё знал; Демофонт сказал Ладесу и братьям Ассаракиям, а они сказали Гиртакию и Эбисию; Гиртакий сказал Эмафионту, Эмафионт — Галиду, Галид — Ородию, Ородий — Ферию; наконец, Ферий, узнав новость от Ородия, рассказал о ней Укалегонту.
— Выйдите все, — говорит барон. — Чтобы через пять минут здесь было ваше высшее командование в полном составе.
Пленники молча уходят; в дверях их движения неестественно плавные: как бы не толкнуть друг друга; они словно парят в воздухе. На пороге Алькандр украдкой оглядывается, чтобы взглянуть на барона; тот по-прежнему сидит на железной кровати, но теперь зажал трость между колен и опёрся подбородком о набалдашник; монокль, только что выпавший из его правой глазницы, медленно покачивается на конце чёрной ленты.
25
— Господа, — начал барон, — желая порядка, вы впустили в Крепость чуму Большой смуты. И всё же вы лучшие; хотя делами можно исказить даже собственные принципы. Реакционеры, революционеры суть одно и то же; нам дано или не дано счастье жить по законам порядка; но к помощи порядка не прибегают, когда его коснулось увядание мысли. Защищать его — значит ставить его под сомнение, признавать, что он хрупок и преходящ. Словом, либо он неизбывен, либо уже изжил себя в ту минуту, когда возник сей замысел. Невинность безвозвратна.
Пятёрка стоит навытяжку напротив железной кровати, глядя на барона и на изумрудный крест у него за спиной, висящий на стене под статуэткой Девы. Они не прячут картонные знаки. Вместо тени смущения на их лицах свет; пока барон говорит, они узнают себя в его речи, они признают в нём вождя; они слышат приказы, а не внушения. Разве могут они чувствовать себя пленниками, когда барон освобождает их от груза свободы?
— Вы были сбиты с толку, — говорит он. — Я, как и вы, тоже был сбит с толку, когда отчаянно защищал Империю. Вдумывались ли вы в ужасающий смысл этих слов: гражданская война? Мы считали себя героями, когда рубили смутьянов; вам известны наши успехи в Западноземье. Мы наивно считали своей заслугой восстановление на этих территориях принципов верности, но, читая газету, восхваляющую наши подвиги, я вдруг обнаружил, что представляю в этой войне мнение, отличное от других, что я дворовый хулиган, выразитель гражданской позиции или даже гражданский, взявшийся за оружие. В городке, которым мы овладели, для нашей встречи собрали целый «комитет», который устроил шествие во главе с церковниками, они несли полотнища с лозунгами и портреты императорской семьи. Я приказал стрелять в этих обывателей. Был скандал: один лишь император тогда… — тут барон оглядывается и коротким кивком указывает на загадочный изумрудный крест, — один лишь император тогда всё понял.
«Сегодня Империи больше нет. Мы худо-бедно хранили её отражение в стенах этой Крепости, чтобы уберечь вас на какое-то время от лап скверны; игра теней рассеивает утренний сумрак. И нечего больше защищать или отвоёвывать. За этими стенами вас ждут жестокие времена: всюду готовятся к войне, но это не наша война, это новые гражданские войны, хоть и в масштабе наций. Отныне орудием баталий станут книги; и потоки крови от этого не иссякнут. Всюду готовятся заговоры, появляются партии, организации. Хотите стать одной из них? Ещё немного, и у вас появится своя программа, идеология; мне кажется, мир уже достаточно замусорен идеями, как грязной бумагой. Вы сделали себе картонные знаки, причудливые звёзды и кресты; храните их, не стыдясь; они ценнее моих, поскольку ни в какой реальности и даже в воспоминаниях не померкнет их блистательная никчёмность. Пусть они будут знаками изгнания; ведь для нас, обездоленных, изгнание — единственное богатство. Вам достаточно приходилось слышать в семьях, на беспомощных посиделках, которые устраивают наши отцы, и даже в этих стенах об изгнании, о его невзгодах и лишениях? Не думайте, будто я призываю вас ныть и жаловаться. Прекрати Империя своё существование, как бы мы стали её изгнанниками? Я не оскорблю вас предположением, будто вы тоскуете по рощице на равнине, угрюмой такой, которую едва заметил ваш детский взгляд; я объявляю абсолютное изгнание. Вам будет чем гордиться в это бесцельное время. Научитесь существовать вне места. Не стройте внутренних укреплений, — не обороняться я вас учу: безграничную силу обороной не одолеть. Уходите смело, растворитесь в абсурдной бесконечности пространства и времени; никаких приоритетов. Объединившись накануне вечером, вы дали пылкие обеты и искренние клятвы; сейчас я прошу вас поклясться мне в безразличии. Вам будет несложно отказаться от того, чем вы и так собирались пожертвовать: личными целями и тем, что обыватели обозначают словом „счастье“. Берегитесь тщеславия: оно думает, что у мира есть право на совершенство. У чувства гордости и достоинства более глубокие корни. Но и его сумейте задавить в себе и уничтожить, после чего переходите к более тяжёлой задаче: вы должны вырвать из своих сердец любовь и даже образ Империи. Свет зари, ровный и холодный, безразлично скользит по поверхности предметов; я жду от вас великой клятвы прозрачности и пустоты».
Наступает утро. Наши руки, вытянутые в чувственном порыве, встречаются; мы обнимаемся и плачем; правда, некоторые были пьяны, и мы всю ночь не спали.
26
Скажете ли вы мне спасибо, Кретей, если на припеве я дам вам перевести дух? Вы начали выдыхаться, какая-то вялость появилась в вашем стиле и выдаёт усталость. И всё же поверьте, что я успел мимоходом восхититься вашими волютами, пируэтами и кренделями. Но от собственного восхищения начинаю испытывать неловкость: в развитии сюжета нет правды, а фальшивое изящество, сотканное из сослагательных наклонений, разве не маска неискренности? Когда в пещеристом пространстве памяти вы пытались соединить витиеватые периоды с текучими очертаниями мысли или далёких событий, которые я вслед за вами воссоздавал, я ещё мог оправдать ваше фокусничество. Но на некоторых поворотах рассказа фраза исчерпывает себя, эхом повторяет собственную мелодию и, увлёкшись выписыванием словесной арабески, вы переходите от одного её отражения к другому, постепенно отдаваясь наслаждению чистой симметрией и повторами. Может, дело в том, что вы перестали писать на нашем языке, слова которого, вероятно, в силу их непритязательности, но, скорее, естественной обманчивости, благодаря самой своей текстуре, звучанию и даже сочетанию букв, образующих эти слова на бумаге, тому, кто впитал их одновременно с чувствами и красками, кажутся частью чувствительной материи вещей. Но вы пишете на языке, усвоенном из ваших правильных книг, вместо того, чтобы познавать его на школьном дворе или в полях, и отрываетесь от земли, Кретей; вас бросает в воздушные сферы абстракции; слова, которые вы выводите, связаны с предметами лишь условно и, отделившись от них, теряют всякую наполненность и вес, стремятся друг к другу и отталкиваются по особым законам, часто заданным навыком и инерцией. Вы парите в воздухе, грациозно приподнимаясь на носках, словно канатоходец, ваше тело, изогнувшись, принимает позу, которой чужды принципы равновесия, и ваша натянутая улыбка на освещённом прожекторами лице силится бросить нам вызов; так что я по крайней мере вижу ваши воздушные сальто, поскольку — и это вовсе не безобидно — вы видны всегда, Кретей; на вас трико в разноцветных ромбах, вы подпрыгиваете, распрямляетесь, проноситесь сквозь магическое пространство между куполами цирка и под барабанную дробь вдруг зависаете вниз головой на противоположной трапеции, с точностью пущенной навстречу вашему прыжку. И дело не в одной фразе, таков весь рассказ: взаимная слаженность его частей и сам характер их движения восходят к магии цирка. Появления и исчезновения, когда вам это нужно, манипуляции в темноте и резкий свет, который направляет взгляд в ту точку на манеже, где вы проделываете свои трюки, махинации с воспоминаниями, которые вы даже не пытаетесь скрыть, — не надоедает ли всё это в конце концов, не отталкивает ли? Вон как ваш рассказ представил события, которые мы вместе пережили, и наших товарищей: будь у них даже терпение вас прочесть, они, конечно, не узнали бы себя в тех пёстрых лохмотьях, в которые вы их нарядили.
Вы берёте отрывки воспоминаний в том виде, в каком они уцелели, достаёте покалеченными из мрака памяти или даже намеренно обтёсываете, чтобы сохранить только нужный вам ракурс, оттенок тревоги или желания; вы, не брезгуя, примешиваете краски, заимствованные как из хороших, так и из плохих книг; вы мешаете всё это, как стёклышки в калейдоскопе, и в противоестественном соединении растерзанных частей рождаются новые существа и события, рождается атмосфера сродни благородным газам, губительным для лёгких смертного. Вот бесследно исчез эпизод нашего совместного бытия: обычное дело, когда судьбе угодно, попросту говоря, пустить чью-то жизнь «псу под хвост»; вот несовершённый поступок, который вначале, казалось, обещал принести щедрые плоды, теперь растворился в тщете намерений, а вы пытаетесь проделать коварный трюк, прицепив к этому призрачному пёсьему хвосту павлиньи перья, окрашенные всеми цветами радуги, заманиваете нас пустыми обещаниями и намечаете в нереальном пространстве вашей прозы букет воображаемых продолжений.
Неужели вы скажете, что таким образом выполняете наш обет верности абсолюту? И что стремлением выхватить все драгоценные крупицы, рассеянные там и тут, собрать их, соединить в сфере ирреального, где они наконец обретут смысл и цвет, вы следуете клятве? Мне ясно, что абсолютный текст, то есть такой, который включил бы в себя столько внутренних связей, столько смыслов, столько сил, соединяющих его части, отличался бы полной независимостью от мира, своего рода тягой к самостоятельной жизни, — такой текст, конечно, если бы он мог быть написан, бросил бы вызов миру своей полнотой, навязал бы себя ему, высмеял бы самим своим существованием, своим весом, насыщенностью и, будучи законченным, ярче воплотил бы своё немыслимое тяготение к реальности; в крайнем случае он поглотил бы мир, оставив адептам истории и географии лишь нелепое верчение атомов и частиц в бесконечном безмолвии повторяемости. Какой прекрасный сон, Кретей: плод ваших ночных бдений отделяется и летит прочь, как тончайший переливчатый мыльный пузырь вылетает из глиняной трубочки, в которую дует ребёнок! Вы точно так же на глазах у всех выдуваете пузыри — и при этом пытаетесь скрыть надутые щёки? Я отлично знаю: то, что вы не отвели себе роли в этом рассказе, — уловка, которую я никогда не приму за скромность. Но не будь ваш стиль столь щедрым на эффекты, вы всё равно продолжали бы присутствовать среди наших теней, дёргали бы за ниточки в этой игре и оживляли бы её, повинуясь настроению и фантазии. Иногда вы походя бросаете «мы» и как будто украдкой растворяетесь в этом «мы», самом трусливом из местоимений, вы изображаете невидимку, как герой фильмов нашего детства, чья прозрачность была достигнута вполне материальным и даже, как нам говорили, «научным» способом, однако не позволила ему подняться до состояния чистого духа, и он заявлял о своём беспокойном присутствии на экране неловкими шагами, задавал предметам, на которые натыкался, необычное и немного забавное движение или заставлял скрипеть под своим вполне человеческим весом злополучную половицу; невидимый, но зрячий, вы стали бы, так сказать, провидцем, поскольку и за семью печатями нам не спрятаться от вашего взгляда, и вы обнажаете даже самые тёмные движения мысли; вы всюду и нигде, как то вездесущее и нематериальное пространство, в котором вы действуете.
Если бы только вы ограничились тем, что поместили бы среди нас своё безликое «я», то, возможно, приятно было бы угадать на пожелтевшей фотографии в группе мальчишек, несмотря на их форменные мундиры и одинаковые стрижки, немного задумчивый взгляд и бледный лоб, которым зрелость наделила бы знаменитого писателя. Но вы выходите за рамки вашей деланной объективности; рассуждаете in petto[7], объясняете что-то под сурдинку, отправляете свою тень бродить по руинам прошлого, заделавшись археологом и диалектиком. Как вы понимаете, меня подмывает совершить то, что можно назвать святотатством, и киркой разворотить ещё более древний фундамент, заставить обломки, давным-давно осевшие в памяти, расшататься, и чует моё сердце, это покажется мне упоительно болезненным.
27
Кстати, в каких красках вы нарисовали наше детство? Ведь мы всё-таки были детьми. Я понимаю, что в увертюре этой опере-буфф о наших разочарованиях и грехах вам понадобился воинственный голос трубы и хтонические вздохи виолончели; вам бы только гармонию в главах соблюсти. Но другого детства у нас не было, и вы хотите, чтобы мы позволили его отнять, скрыть его первые вёсны, изначальную живость его картин и, наконец, неувядающий вкус его конфет? Мы действительно грезили войной и героизмом; и в нашей виртуальной двуполой плоти бродили дрожжи неоформившегося и беспредметного желания. Но довольно ли этого, чтобы, как в старинной картине на мифологический сюжет, представить всё наше детство двойным посвящением Марсу и Венере? Вы пошли дальше и исказили наш возраст; в вашей двусмысленной прозе спешное созревание превращает нас из детей, которыми мы, собственно, были, в гибридов-монстров, одержимых старческими фантазиями. Вы показали, как наш батальон строем шагает по деревенским улицам; наверное, мы и правда пытались изобразить суровость на лицах; но как бы я хотел благодаря вашему, Кретей, таланту ещё разок остановиться в тени маленькой, приземистой, причудливо покосившейся церкви, которая выпятила посреди улицы внушительный угол прямоугольной башни, пройти по мостовой, нащупывая в кармане длиннющего пальто несколько дырявых су, терпеливо скопленных, чтобы купить в бакалейной лавке, покрашенной в оливковый цвет, скромные лакомства: кокосовую пудру, лакричный сироп, леденцы, ячменный сахар — эти непривычные и старые названия напоминают мне тишину и выцветшие краски деревни, где мы недоверчиво и робко, но увлечённо, с любопытством юных дикарей, вступали в диалог с этой неприветливой почвой, в которую нас пересадили. Как жаль, что в пристрастии к героизму и скабрёзностям вы преминули сохранить в числе детских ценностей каплю едко-зелёного или электрически-красного цвета, застывшую в конусе из древесной стружки, и подарить вечность леденцу.
28
Но вы, я знаю, не из тех, кто изо всех сил старается спасти от времени мелкую добычу, превратив её в окаменевший кристалл прозы. Вы хулитель времени, и что бы в нём ни происходило, всё кажется вам недостойным вечности. Вот почему в вашей мнимой отстранённости есть доля правды. Ведь вы, Кретей, были писателем ещё с тех далёких времён, картину которых перед нами так исказили; но не тем писателем, который наблюдает, фиксирует, сохраняет сцены нашего детства; вы были среди нас, но при этом всегда в стороне.
Кажется, я даже помню тот момент (позвольте мне описать его, ибо сами вы упорно пытаетесь уйти в тень), когда вам открылось писательство. Зря вы упустили возможность сами подарить нам эту картину! Вы заставили бы сойти с небес венценосную музу, потрескавшийся потолок классной комнаты раскрылся бы над нашими головами, и сквозь небольшой просвет на фоне сернистого неба, испещрённого молниями, мы увидели бы трагическую фигуру Орфея. Но поскольку запечатлеть этот образ теперь выпало мне, я прежде избавлюсь от теней и метафор. Мы читали одно патриотическое стихотворение — их очень много в нашей литературе; вереница ямбов навевала тоску размеренностью подъёмов и спусков. Лейтенант, наш учитель, кемарил за кафедрой. Когда очередь дошла до вас, вы монотонно прочли несколько строк: так читают, когда, стараясь правильно выговорить все звуки, не понимают сути; вы передали только скудный стихотворный ритм и чёткостью произношения разрушили и без того туманный смысл слов; и вдруг некоторые из нас заметили, как вы оторвали глаза от книги, и слова, исходящие из ваших уст, оказались другими, от первоначального стихотворения осталось только лёгкое движение волн. Торжествующая и глупая улыбка озарила ваше лицо; вы даже стали слегка раскачиваться в четырёхстопном ритме. Конечно, это была шутка, и, кажется, вас за неё наказали; но истинные последствия этого эпизода проявились намного позже: в тот момент вам открылась литература.
Начались тайные ночные бдения, были тетради, измаранные кляксами и помарками, усыпанные инициалами, росчерками подписей, каракулями на полях, которые говорили, что вдохновение пошло на спад; у вас та же беда, Кретей, что и у всех ваших собратьев: вы пытаетесь угнаться за литературой, минуя тот предел, за которым она превращается в мычание. Зачем, обособив ритмы и модуляции фраз, которые сами по себе прекрасно отвечают движениям души и служат ей столь ценным утешением в минуты слабости, вы ищете им соответствия в образах, чувствах и даже в нечистой сфере идей? Вы соскальзывали ночью с кровати, оставив под одеялом скомканную одежду, чтобы казалось, будто это ваш спящий силуэт; запирались в классной комнате, опускали висячую лампу над головой; парта была завалена словарями, учебниками истории, какими-то книгами по генеалогии и геральдике, которые кроме вас никто не спрашивал в библиотеке; вы были далеко от нас, в Испании, в Швеции; в трагедиях, в героических поэмах из двенадцати песен с битвами и колдовством, в романах о пиратах и вечной любви. Когда в продолжении вашего литературного пути случилось вам пожаловаться на утрату вдохновения, разве не оглянулись вы с удивлением на те тайные ночи в маленькой классной комнате, изобильные, плодотворные, с которых всё начиналось? Ведь несмотря на ваши попытки пленить романный вымысел, несмотря на бархат, галеры, гружённые золотом, луну над Толедо, вы были в самом начале, в непосредственной близости от того мычания, из которого рождается литература и к которому она снова должна прийти. Но каждый раз, когда вы на свою беду замечали, — и это открытие обрушивалось на вас подобно внезапной череде молний, — что ваши подержанные инструменты совсем обветшали и слились с тем общим безымянным наследием, из которого вы также заимствуете размер и ритмические модуляции своей поэзии, вы в порыве отчаяния рвали стихи, которые с победным ликованием читали нам накануне, и тотчас же снова принимались за работу, чтобы после нескольких ночей появиться бледным, с покрасневшими белками и представить на наш суд произведение, из которого, как вам казалось, исчезла всякая поверхностность, детскость, и которое несколько недель спустя вы опять сожжёте со слезами на глазах.
29
Теперь, когда вы уже не пользуетесь родным языком, первые плоды вашего гения, наверное, кажутся вам особенно жалкими; я оказался более верным, чем вы, и сберёг некоторую нежность к тем крупицам, которые осели в моей памяти из окружающего сора. Вы отчасти олицетворяли наше будущее, Кретей, поэт и пророк восстановленной Империи, а мы были её солдатами-освободителями; но если время и место воплощения наших подвигов всегда были в будущем, и потому мы были обречены на вечный бег на месте в собственном воображении, ваши произведения, для которых воображение по праву было родной территорией, воплощались hie et nunc[8], позволяя нам заранее радоваться победе. Вот почему я был не единственным среди наших товарищей, надо сказать, мало склонных к «интеллектуальным штукам», кто следил за тем, как складывается ваш стиль.
Прежде всего, преодолевая первые искушения выйти за границы дозволенного, мы искали положительные примеры и подражали им; не без уважения мы уже представляли ваше имя в почётном списке наших классиков. Мы не подозревали вас в тщеславии, ведь только оно могло оттолкнуть нас от литератора; в остальном никакого презрения к писательству у нас не было. Империя не знала профессиональных писателей; литература всегда была делом чудаков, опальных министров, карточных шулеров, революционеров, военных, коротающих дни гарнизонной жизни и время от повышения к повышению, а также кое-кого из наших императоров и бродяг.
В отрывках, выбранных сначала во время занятий, а затем случайно, при исследовании развалов библиотеки, где наши семьи в беспорядке сохранили некоторые обломки Империи, вы обнаружили невероятные вещи: стихи, в которых наш неповоротливый язык с его непомерно длинными словами, сгибающимися под гнётом тонических ударений и побочных интонаций, с тяжёлыми флексиями, включающими столько однообразных слогов для выражения бесцветных понятий времени, числа, подчинённости, с примитивным синтаксисом, придающим странице прозы характер стены с циклопической кладкой[9], язык нашей холодной и сырой земли, похожей на него вязкостью, терпким и тяжёлым запахом пашни под дождём, благодаря всего лишь абсолютно точному употреблению слов вдруг становится более упругим, лёгким и окрашивается незнакомыми оттенками.
Был Платон Буко, странствующий поэт; слепые певцы из Нижнеземья с восемнадцатого века и до сих пор передают из уст в уста его наивные и остроумные гимны, посвящённые растениям, святым, источникам и звёздам; в этих гимнах высокомерие и отчаяние романтизма и пошлое уныние века железных дорог — от хрустальной зари, когда смешавшись с толпой посетителей трактиров и паломников, Буко первым превратил в чистую песнь нескладные речитативы наших считалок и плачей, до грозовых душных сумерек, когда в предчувствии тишины эта песнь достигает наивысшего очищения, преходящего равновесия, а потом в пронзительных и резких стихах Марко Врана звучит мимолётное эхо её варварских истоков — все эти сокровища, которые в вашем воображении казались ещё ценнее, поскольку вы знали, что являетесь едва ли не единственным и, возможно, последним их хранителем, вы тайно носили в себе, сгибаясь под их непосильным грузом: ведь мы встречали насмешками ваши редкие попытки заставить нас восхититься — нас, неспособных узреть великолепие тропов и глухих к изыскам метрики, — этим непомерно ярким сокровищем, чтобы вы в своём одиночестве могли вынести его блеск. Что касается последнего из ваших поэтов, футуриста-самоубийцы, тут, кажется, вы даже потерпели поражение — вас заподозрили в сочувствии эгалитарным взглядам, обнаружив в глубине вашей парты потрёпанный экземпляр «Внутреннего сгорания»: нам рассказывали, что Марко Вран пил по-чёрному, примкнул к смутьянам и сыграл свою роль в рождении рокового имени Бадуббах.
Сколько раз во время ночных бдений обращались вы к вашим поэтам, перечитывая вполголоса какую-нибудь строку, обрушившуюся на вас ударом молнии после долгих и трудных слепых поисков, и ждали от них, от своих безмолвных товарищей, одобрения, ободрения, критики? Вы оглядывались на них, выбирая прилагательное, которое, как вам казалось, лучше всего подчинится ямбическому ритму, неожиданную рифму, которой хотелось гордиться, вы прислушивались к биению своего сердца, когда в структуре вполне классического десятистишия перестановка всего одной цезуры в седьмом стихе потрясала заурядное развитие мелодии, придавая ей восхитительное придыхание. Вас также привлекало таинство ночного общения с тенями; темы этих бесед были слишком замысловатыми и вряд ли могли нас заинтересовать, но вы засыпали своих собеседников вопросами и порой, казалось, слышали их ответы; но сколько раз ваши страстные обращения поглощала тишина, и вы сами начинали тонуть в небытии, из которого силились вызволить тех, к кому обращались. И написанная вами строфа уже не была тем твёрдым сияющим кристаллом идеальной геометрии, она рассыпалась, теряла форму, бесплотные силы притяжения, стягивавшие одни слова вокруг других, ослабевали, и на бумаге оставались разрозненные знаки, начертанные вашей рукой и разделённые сомнениями; их рыхлая бесформенная масса вот-вот могла поглотить штрихи на полях и кляксы, оставленные вашим пером. Тут-то вы и замечали, что дрожите от холода и что уже четыре часа утра.
30
Вот каким ядом, Кретей, пропиталось ваше отрочество. Но не сопутствовало ли безобидным, несмотря ни на что, поэтическим фантазиям, интеллектуальным играм метрики и катахрез менее явное и более коварное стремление отмежеваться? Сначала бегство в воображаемое, магия выразительного текста, обесценивающая немоту протяжённости, затем лёгкая, пока ещё неосознанная отстранённость от своих более приземлённых товарищей, которые не последовали за вами, и вот вы уже отделились от нас и скоро станете нашим тайным хулителем. Писателю свойственна такая неоднозначность взгляда: он открыто ни во что не ввязывается, а если участвует, то не без задней мысли; он умеет оказаться лицом к лицу с самим собой, не совпадая со вторым «я»; и в этом изначально прозрачном пространстве, которое представляет собой расстояние от предмета до зеркала, постепенно сгущаются коварные тени. Разве не в Крепости вы бросили тайный вызов нашей невинной дружбе и, прикрывшись таким же, как у нас, мундиром с пурпурными эполетами, украшенными изображениями орла и змеи, занялись губительной алхимией, выделяя дух лжи и сарказма, которым сегодня вы окружили наше начинание? Судя по вашему отсутствующему виду, можно было подумать, будто вы ищете свои рифмы где-то в Неаполе или в Бенгалии; но, возможно, ваш взгляд был обращён только в себя, и вы чутко улавливали брожение флюидов в тайном дистилляторе, который разогревали у себя в груди.
Но я также догадываюсь — как иначе объяснить то, о чём осталось рассказать: ваше странное поведение в ночь клятвы? — что это медленное кипение причиняло вам боль, и порой разлившиеся в вас горькие и едкие соки тайно обжигали вашу плоть. Кроме того, чтобы насладиться вкусом измены, вам нужно было с одинаковой искренностью воспринять и всем своим существом проникнуться как нашими восторженными порывами, так и горечью унижений. Мы действительно предаём только друзей и, по правде говоря, предаём самих себя. Вы собирались изменить себе, и, пожалуй, жизнь ваша протекала более интенсивно, чем у любого из тех, кто следовал духу нашего братства. Я знаю, что эта двойственность хоть и была тогда почти неосознанной, тяготила вас: отсюда печать меланхолии — она была особенно яркой вашей чертой, как и некоторые странности поведения.
31
Молодой генерал останавливается перед приоткрытой дверью в классную комнату. Освещение непривычное: вы всегда опускали лампу, чтобы она висела прямо у вашей наклонённой над партой головы. В тёмном коридоре едва угадываются изящный силуэт генерала в наезднических рейтузах и его заострённый череп. Он остановился, и ночная тишина показалась вам ещё глубже. Вы так сильно напуганы, что забываете встать, как положено по уставу; в голову вдруг приходит оправдание быстрое и смехотворное: в ночной рубашке навытяжку стоять нельзя. Но ваши движения странным образом замедлены: вы отрываете взгляд от незаконченного стихотворения, поднимаете голову, не спеша поворачиваетесь к прямоугольнику двери, где молча застыл едва читаемый силуэт. Миг, когда ваши взгляды встречаются, превращается в пугающую вечность: нависшая угроза неизбывна и всё более ощутима в своей протяжённости. Густые брови, которые вам теперь прекрасно видны, выгибаются вокруг маленьких бесцветных буравящих глаз, удивление в них сменяется презрением и жалостью. Затем генерал удаляется, не сказав ни слова. Внезапно вас осеняет догадка, глупая и смехотворная. Уже несколько дней в Крепости происходят кражи: из личных шкафчиков, где, по снисходительности старших, которую лучшие из нас не одобряют, нам разрешено хранить среди прочих сокровищ гостинцы, принесённые роднёй, чтобы разнообразить гарнизонный провиант, исчезли банки с вареньем. Одни малыши попросту обокрали других. И вот, застав вас в неурочный час, молодой генерал, который отправил бы вас спать, предварительно отчитав, если бы понял, что к чему, заподозрил вас — вас, Кретей! — в одиночных разговеньях, в поедании того, что вы подло стащили. Покраснев, как от пощёчины, вы даже хотели догнать генерала, объяснить ему, что он ошибся; вы вскочили и снова сели: в конце коридора ключ уже клацнул в замке и луч света под дверью погас, прежде чем вы успели сделать шаг. Но не это помешало вам всё-таки пойти и постучать в ту дверь, и нелепость объяснения тут тоже ни при чём: вы не могли ни подтвердить, ни даже точно выразить ту мучительную убеждённость, которая поселилась в глубине вашей души, будто вы в каком-то смысле и правда виновны и презрение генерала обрушилось на вас по праву.
В последующие дни вы с нетерпением ждали если не объяснения, то хотя бы широкой огласки позорного преступления, в котором вас заподозрили; вам, должно быть, казалось, что наказание за поступок, которого вы не совершали, таинственным образом очистит вас от более серьёзного греха, не облечённого в слова, и мучающего вас, что вы избавитесь от необходимости хранить на совести эту тайну, в которой предпочли бы не сознаваться. Но, стоя в строю, и потом, во время перемен, вы напрасно посылали генералу полные раскаяния и одновременно заговорщические взгляды, пытались привлечь его внимание едва заметными жестами, нелепость которых мучает вас по сей день: презрение словно одержало победу над обычными законами восприятия, и бесцветная радужная оболочка генерала становилась непроницаемой, а сетчатка поглощала, не отражая, ваш жалкий образ.
32
Так, по крайней мере, я пытаюсь представить себе то, что творилось в вашей душе в ночь клятвы; поскольку мне остаётся кое-что добавить к описанию, которое вы дали, убрав из него все намёки на ваше собственное участие, — я оценил бы вашу скромность, если бы с другими нашими товарищами вы поступили так же. Я, как и все мы, был слишком занят и опьянён свалившейся на нас избыточной свободой и не обращал внимания на то, чем вы занимаетесь; помню, я сталкивался с вами в темноте лестниц и коридоров, и вы каждый раз шли один куда глаза глядят, хоть и уверяли, что выполняете поручение нашего подпольного командования; вы натыкались на группы кадетов, которые были так заняты, что не замечали вас; на вашем лице ярче обычного была заметна печать меланхолии — она одна выделяет вас на размытой картине лиц той поры. Возможно, вы единственный, кто хотел придать смысл потрясению, которое вдохновило нас именно тем, что в нём есть абсурдного; но я уверен, что мои товарищи, будь у них в ту ночь время рассмотреть ваше лицо, точно так же испытали бы безотчётное отвращение, подобное чувству, которое остаётся от стремительно исчезающих образов из ночного кошмара. Никогда прежде вы не казались мне таким одиноким и столь явно отверженным в нашем братстве.
Первый раз я заметил вас в одной из спален на четвёртом этаже; кадеты собирались играть там в привидения, и при свете карманного фонаря я на миг разглядел ваши черты; потом мы сталкивались на лестнице, в одной из классных комнат и, наконец, во дворе, и мне казалось, что события этой ночи словно пунктиром прочерчены появлениями вашего лица, которое медленно опускается с высот ночного неба и на каждом витке этого призрачного штопора освещается немного ярче, словно направленный на вас луч фонаря обрёл под вашей прозрачной кожей собственную жизнь; когда индиго ночи уступило место незабываемой полумгле, в которой мы произнесли клятву, я не удивился, заметив на вашем возбуждённом и усталом, как и у нас, лице слабые признаки свечения.
Барон де Н. закончил свою странную речь; мы подняли руки, и из наших дружных глоток вырвался клятвенный клич; напряжение этой ночи было таково, что казалось, нужен всплеск ярости, чтобы оно улеглось, и тогда случилась эта неловкая сцена, неожиданная кульминация абсурда, о котором никто из нас не может вспоминать, не содрогнувшись от чувства постыдного сладострастия. На глазах у всех вы, Кретей, решительным шагом направились к барону; вид у вас был озверелый, все ждали, что вы сейчас упадёте возле кровати и станете биться в яростных истеричных конвульсиях; но вы произнесли твёрдым трагическим голосом слова, которые я не могу скрыть от последующих поколений:
— Это я украл варенье. Чтобы быть достойным нашей клятвы и всех вас, я прошу немедленно меня наказать.
Помню, раздались протестующие возгласы; вы получили несколько тумаков; разумный Мнесфей попытался вытолкать вас за дверь; вам посылали ругательства. Но вы уже легли грудью на рабочий стол барона и стягивали штаны; помню, как вы неловко брыкались, чтобы спустить сложенные, как аккордеон, штанины до лодыжек. Вы услышали крик:
— Раз он так хочет, идиот!
Барон молча отвёл глаза. Вы лежали неподвижно, стиснув зубы, и изредка издавали невнятное мычание. Между тем неуверенная заря начинала придавать всему очертания и краски. Не знаю, почему мягкий оттенок вашего зада, выступившего из сумрака, напомнил мне обшивку барабана; этот двусмысленный финал, которым увенчалась наша клятва и завершилось отрочество, с тех пор предстаёт предо мной в виде литографии, подобных которой немало висело в стенах Крепости: на ней, готовясь к бою, гренадеры и драгуны диктуют прощальные письма старому капралу, которому барабан служит столом, а вокруг составленные снопами ружья, шлемы и гусарские шапки освещаются первыми лучами зари.
Глава 2
1
С криком петуха на заре рассеиваются туманы детства. Я жду вас на повороте вашей поэмы, Кретей: возникнув из размытого временем прошлого и описывая события, твердь которых ещё не размягчена и не расцвечена памятью, вы сталкиваетесь с сопротивлением случая. Как заронить зерно реальности в полированную гладь вашей прозы?
Отныне Ангел Правды чаще будет вторить сладкозвучной флейте Ангела Вымысла. Придётся вам учитывать неровности почвы, бороться с низменными тяготами жизни; не могу не улыбнуться, наблюдая за вашим рвением, хотя меньше опасаюсь достойного поражения, чем эдакой постыдной полупобеды: есть опасность, что именно к ней приведут вас поспешность, честолюбие и способность к компромиссам, — посмотрим, как отразятся на вас эти «мелочи жизни»; теперь ваш рассказ переходит в настоящее: поддадитесь ли вы соблазну воссоздать реальность?
Представляю вас в образе акварелиста: воскресный день, на вас панама, рядом мольберт и треножник, а вокруг в траве множество разных предметов, в том числе принадлежности для пикника; щуря глаз, вы берёте на прицел деревенскую церковь и сгибаете большой палец, ведя им по карандашу, который держите в вытянутой руке. Когда работаешь с натуры, утешает одно: получилось или нет, можно судить сразу, достаточно отвести карандаш. Но подумайте, сколько низменного придётся вам впустить в свою прозу: настоящие даты, настоящие имена — обывательские, Кретей!
Не сомневаюсь, что будь у вас возможность расширить рамки панорамы до размеров вселенной, начертать в бесконечном масштабе реальных пространства и времени её точное и безбрежное отображение, то вам удалось бы создать задуманное издевательское произведение: но только при этом условии. Вы выбираете из изображаемой картины фрагменты, соотнося их с вашим суженным горизонтом и ограниченной перспективой, и из вашего конечного мира во все стороны выбивается сорная бесконечность; вы и есть акварелист: фиксируете на бумаге именно эту деревенскую колокольню, тень этой группы деревьев длиной столько-то сантиметров ровно без десяти четыре, эту корову с вытянутой шеей, прозванную Рузеттой и появившуюся из капли сепии, — всё это называется «Нормандский пейзаж» и этим названием возводится в ранг, отнятый у универсума; вырвавшись из тесного пространства картины, преодолев границы времени, которое показывают часы на колокольне, много позже, чем живодёр измельчит, истолчёт и растворит, превратив в столярный клей или в пищевой желатин её рога и копыта, долго ещё (но не бесконечно) будет звучать вдохновенное мычание Рузетты.
Представьте, Кретей, что на следующий день художник перенесёт свой мольберт и принадлежности для пикника; с непостоянством, свойственным реалисту, подчиняясь неумолимому разнообразию, он изобразит ещё тысячи коров и колоколен и к концу жизни даже сумеет добиться довольно близкого сходства. Вы же дали клятву верности неповторимому и вечному — и вы смиритесь с этим триумфом множества?
Пройдёт время, которое вам больше не дано очертить и измерить, и на кончике вашего пера станет возникать только то, что послужит созданию мира, где могли бы свободно жить и дышать ваши вымышленные герои; но разве это самое время, вырвавшись на свободу и хлынув на ваши страницы со всей необузданностью своего парадоксального и неизмеримого существа, не растреплет, не ослабит узел, тонко свитый воображением, не порвёт связи, сплетённые рассудком, не обесцветит и не заставит увянуть метафоры? Решитесь ли вы, Кретей, во имя хронологи заполнить счастливые лакуны памяти, выправить по законам логики и причинности иллюзорные цепочки и поэтические нагромождения творящего вымысла, обрисовать чёткой линией контуры, которые память намеренно изображает полупрозрачными и размытыми в некоторых особо близких к жизни частях картины? Соотнесёте ли вы число своих страниц с количеством дней в оборванном некогда календаре, если само время, затеряв листки в безучастном прошлом, лишило их ничтожного правдоподобия?
Я говорю с вами, а вы отворачиваетесь, склоняетесь над рукописью и нетерпеливо покусываете колпачок ручки.
2
На четырёх листах прекрасной крафтовой бумаги с синьковым отливом, которую Сенатрисе не приходилось держать в руках после Большой смуты, были строки, оставленные размашистым уверенным почерком с резким наклоном вправо, и подпись: «Ваша любезная покойница».
— Откуда это? — спросил Алькандр, заглянув через плечо матери.
— Из замогилья.
Сто лет назад влиятельные семейства Империи утратили привычку к хорошим новостям. К тому же в Париже почта, недавно перешедшая к врагу, теперь вперемешку со счетами и повестками в префектуру приносит только извещения о смерти, которые дальняя родня, чьё существование никогда не давало Сенатрисе повода для утешения, засылает, умирая, дабы ей горше стало на старости лет. С недоверием, смешанным с обречённостью, достала она из кармана кухонного передника позолоченный лорнет, стёкол которого уже не хватало при её близорукости, и разложила на клетчатой клеёнке содержимое пухлого конверта. Чего там только ни было — и от руки, и на машинке, и отпечатанное в типографии. Им понадобится добрых два часа, чтобы между слезами и благодарениями восстановить цепь событий, от которых будущее наполняется нежданными надеждами, а к прошлому добавляется призраков: оказывается, покойный Сенатор, до Большой смуты подолгу находясь во Франции с поручениями, времени не терял, охмурил актриску и «устроил её в своих апартаментах»; от совестливости и по широте души актриска завещанием передавала законной семье присвоенную и тем самым сохранённую ею малую часть имущества; справка нотариуса и несколько бланков, расшифровка которых была отложена, подтверждали, что действительно свершилось чудо.
Сенатриса никогда в этом не сомневалась: молитвы и упрёки, которые она посылала небу с тех пор, как овдовела, не могли остаться без ответа; вот Провидение и воздало ей должное при тройном содействии фантома-изменщика, некой особы и законника. Кое-какие нюансы всё же её покоробили, и отнюдь не количество орфографических ошибок, которые красивым старательным почерком налепила «любезная покойница», и не то, что покойный сенатор, меланхоличный и благопристойный человек, в чужих объятиях позволял называть себя «любимым пупсиком»; но дом, где ему назначено было закончить свои дни, находился в провинциальной дыре, названия которой он даже не знал, и это несколько уязвляло благопристойную натуру Сенатрисы. Зато не будет больше этой чёрной лестницы, наглой консьержки, бакалейщиков из пятнадцатого квартала; она благодарила Всевышнего и благодарила усопшего, который всегда отличался предусмотрительностью и так удачно её подстраховал. В газете, которую Алькандр принёс вместе с синьковым письмом, сообщалось, что в тот день началась война.
3
Вилла в помпейском стиле весьма странно, и даже чудно, расположена по отношению к небольшому городку; кажется, будто увлечённый вращением вокруг шпилей собора холм, ощетинившись старыми шиферными крышами, словно движущаяся центрифуга отшвырнул во влажную лощину, к своему подножию это инородное тело, показывая всё своё презрение к нескладному существу, которое среди готических церквей и традиционных домов из тёсаного камня заявляло о себе псевдоизяществом эклектичной архитектуры и полыхало на фоне нормандских полутонов искрящимися красками кладки и черепицы в обманном сиянии Помпей эпохи рубежа веков.
Вилла, запрятанная в лощине, не обращена лицом к городку, но и не повернулась к нему спиной; она встала боком, и одна из её граней угрожающим остриём выпячена в сторону бульваров. Не вписывается она ни в поворот какой-нибудь дороги, ни в излучину реки: можно подумать, будто Любезной Покойнице, которая решила, что золото разврата даёт ей право не обращать внимания на лицемерный городок, в детстве наставлявший её на путь истинный, не хватило куража идти до конца, и она, пасуя перед своими бывшими земляками, держалась одновременно вызывающе и нерешительно.
В качестве реванша, удивительным образом подаренного местным рельефом, небрежностью или утончённостью вкуса архитектора, а скорее, таинственной мощью некоторых пейзажей, которые, словно зыбучие пески, обволакивают и поглощают все инородные тела, именно это неопределённое и наклонное положение позволяет Вилле слиться с нижненормандскими окрестностями. В этом краю, на что ни взгляни в отдельности, — во всём прослеживается определённое назначение, но так уж всё организовано между собой, с таким ироничным согласием соединяется невзначай, всегда сохраняя при этом определённую взаимную насторожённость, или скорее пугливость, готовность в любой момент замкнуться в себе, остаться для чужих глаз только в своей непосредственной роли, что лаконичность, которая ощущается в сочетании дорог, деревьев, колоколен и речек, призвана внушать мысль о чудесной незавершённости всего видимого.
За городом начинается лабиринт; в других краях пространства полей и лесов, речек и деревень принято разделять, противопоставлять друг другу, а здесь — нет; но поскольку небо над этими местами — смесь воздуха и воды в серых, плавно переходящих в лазурные, тонах, то земля в зависимости от того, с какой на неё смотришь высоты, это или бескрайний луг, захваченный деревьями и кустами ежевики, или необъятный лес с праздничными полянами, журчащий потайными ручьями и прячущий в своих морщинах кладки ферм и колоколен; а вообще, небо здесь практически не отличается от земли и, отражая изобилие трав и изгородей, до бесконечности повторяет в барашковой кудрявости своих облаков сглаженный рельеф холмов и лощин, а его прозрачность чуть насыщается хлорофиллом; жаждущая тени и тайн земля в свою очередь заимствует у неба бегущие облака и окрашивается синими пятнами вокруг изгородей и рощ.
Овраги опутывают этот подвижный пейзаж неровной сетью, создавая разрозненные ячейки и причудливые сочленения. Они, как заброшенные каналы какого-нибудь северного города, канва которых редеет на карте оттого, что на протяжении веков исчезают соединения, определявшие их рисунок, засыпаются водоёмы, которые они соединяли, уходят в трубы речки; теперь, став улицами и площадями, они не дают разлиться мёртвым водам, плещущимся в тупиках тоннелей, в которые упирается их обессмысленное течение. Дороги в оврагах, где скоро будет появляться Алькандр, отправляясь в смятенные странствия вокруг городка, надёжно связывают фермы с лугами, а луга между собой; но случайность — запись в кадастре, делёж или наследование — в результате магических манипуляций, которые, прежде чем совершиться, долго вызревают в конторах нижненормандских нотариусов, заставляет некоторые пути сообщаться, хотя заданное им направление, казалось бы, должно их навсегда развести; другие, заброшенные, тропы покрываются непроходимыми зарослями ежевики: Алькандр будет проскальзывать туда в поисках неведомого, не боясь царапин, но в конце обнаружит — и в этом самая волнующая сторона тайны — только очередные овраги, по которым он уже сотню раз проходил, не замечая зазор, открывшийся в изгороди между деревьями; всё замирает в неровных границах своих владений, подобных жилкам листа, если только, сдвинув ржавую защёлку, не пройти, как это сделал Алькандр, через луг, не перелезть через изгородь, чтобы очутиться на другой дороге, а то и на грязном дворе фермы нарваться на лай пса, который рад показать, что бдит, и встретить взгляды детей, уставившихся на него во все глаза, а подозрительный крестьянин покажет ему, как со двора попасть на ближайшую просеку — в двух шагах от того места, где он с неё сошёл.
Так и дрейфуешь, не видя пути, почти как субмарина — ведь снизу, с дороги, виден лишь клочок неба между ветвями, а ещё иногда за оградой, там, где позволяет перепад высот, но непременно в самом неожиданном направлении — шпили собора; восстановить потом свой путь так же трудно, как и предугадать, куда он приведёт; даже в ближайших окрестностях Алькандр уверенно будет знать всего несколько маршрутов; но чем дальше он попытается уходить от города, тем глубже начнёт постигать упрямо закручивающееся лабиринтообразное естество нижненормандского пейзажа.
По этой неправильной спирали, местами стёршейся или усложнённой неожиданными соединениями и внезапными возвращениями назад, всё устроено не только за городом. Воинствующие монахи, строившие собор и укрепления, горожане, забившие тесное пространство маленького городка домами, за плотно прижатыми друг к другу фасадами которых скрывалась тайная спокойная глубина, дворянчики, выстроившие там свои полуразвалившиеся нынче особняки с крошечными мощёными дворами, с высокими окнами в глициниях, и даже чиновники, муниципальные и государственные, унаследовавшие всё это, как будто позаимствовали план — не каждой из построек, но их взаимного расположения — у оккультной композиции местного бокажа[10]. Сегодня засаженные липами бульвары, частично ставшие отрезком национального шоссе, защищают городок от непрошеных гостей так же, как во времена, когда здесь были укрепления; вглубь можно попасть только по проложенным наискось улочкам, тесным и незаметным для случайных гостей. Но и сами бульвары заманивают тех, кто решил просто прогуляться вокруг города, в увлекательную ловушку: с южной стороны они раздваиваются и у подножия словно берут холм в кольцо; если на этом месте повернуть направо, то даже удачно проскочив улицу, ведущую к вокзалу, где тут же оказываешься вне игры, как на некоторых злополучных клетках «гуська»[11], всё равно встретишь довольно высокий подъём, и там границы дороги незаметно расширяются и растушёвываются, образуя уже на склоне холма, а не у подножия, своеобразную слегка наклонную насыпь, покрытую щебёнкой, широкую и голую, по которой после базаров и ярмарок вечно раскидан мусор. Дальше вокруг города не пройти — дорога кончилась, остаётся только воровски проникнуть в его пределы: по задним дворам и узким тропам, проторённым между заборами вокруг огородов, по заброшенным садам лицея или дворца правосудия, если только не захочешь направиться прямо и, отдалившись, попасть в мрачноватый пригород, где оценивающе, с подозрением, смотрят на пришельца жители низких домишек и где с одной стороны — тюрьма, а с другой — вонь кожевен. Когда Алькандр с его любовью к сомнительным местам и начинающим ветшать фабрикам, попав сюда, расфантазируется, представляя тайную жизнь тюрем, рано или поздно его охватит чувство необъяснимой тоски под звучный скрип закрывающегося окна или при встрече на металлическом мосту с девочкой, которая посмотрит на него в упор; тогда он обернётся и, подняв глаза вверх, будет искать над пыльными садами апсиду собора, застывшего в скольжении облаков.
Но стоит вернуться в город по одному из переулков между двух глухих стен, которые словно поднимаются к паперти, и вот он снова среди ловушек, созданных незаметными изменениями направлений и обманными неровностями рельефа. Выветренная пирамида холма, форма которого издалека кажется такой простой, на самом деле — этажи и террасы: из них образованы улицы или вытянутые площади нечёткой и неправильной формы, связанные друг с другом лишь крутыми спусками тесных кишок с отверстиями, спрятанными между домов. Вскарабкавшись в сторону паперти по одной из улочек, где небо, как из оврага, наблюдать можно только в зените, Алькандр выходит на более широкую улицу или на площадь, которая своими неопределёнными, как будто незавершёнными границами напоминает луга бокажа, и едва ощутимый наклон мостовой увлекает его на край террасы, откуда внезапно в расселине между домами виден зыбкий фрагмент синеватого загородного пейзажа и обращённый к нему фасадом (хотя он думал, что подойдёт со стороны апсиды и епископских садов) сияющий стан собора. Оказываясь наконец на паперти, Алькандр не перестаёт восхищаться тем, как этот неправильный четырёхугольник — нет чтобы ему ровно вытянуться перед главным порталом — отходит от фасада под едва заметным углом, как ковёр, который немного сдвинули, спрыгивая с кровати, и с какой стороны ни направляйся в собор, всегда кажется, будто он поставлен чуть наискось.
Но приходится сойти с паперти, пересечь позади музея нависший над бульварами общественный сад, пропитанный горьким запахом герани, чтобы лицезреть забавное произведение, обобщающее уклончивый, лабиринтообразный дух нижненормандского пейзажа. В стороне от парадных аллей и двух симметричных прудов, на бугре, после которого начинается крутой склон, а сад, спускаясь с вершины холма, внезапно превращается в лес с пролегающими одна над другой тропами, а затем смыкается с липами на бульваре, выросла, глядя в сторону бокажа и по-своему обобщённо копируя его, Улитка. Провинциальный садовник, слегка обуржуазившийся ученик Ле Нотра[12], прокладывая эту восходящую спираль между двумя рядами стриженого самшита, не изменил рациональным и строгим методам учителя и не поддался буйству воображения. Нет ничего более правильного, чем растительная спираль, ведущая к обзорной точке, где зависаешь над окрестностями; но есть много разных входов; и на каждом повороте, как повод для сомнений, гуляющему открываются два пути, один из которых ведёт вверх под более открытым углом и обманно сулит скорейшее восхождение, однако заставит вернуться назад; так что геометрия линейки и циркуля с её разумностью и простодушием тоже отдаёт дань неосмысленному и случайному.
В этом таинственном запутанном пространстве Вилла в помпейском стиле на дне лощины, зловеще выпятившая грань в сторону города, причём прямо на Улитку, невольно обрела здесь своё место и гармонирует с окрестностями. Дерзкий вызов, брошенный её странной архитектурой, гасится безмятежным лукавством пейзажа. Неизвестно, каковы были намерения архитектора и декоратора, которого Любезная Покойница выписала из Парижа, но главным, причём пародийным свойством внутреннего убранства этой экстравагантной обители, стало тайное соглашательство с ландшафтом, которому следовало бросить вызов. Расположение комнат, предельная контрастность их размеров, невозможность попасть из комнаты в комнату, не преодолев несколько ступенек из-за разницы уровней, наконец, появление в центральном зале, который освещается через стеклянный потолок и окружён галереей с балюстрадой, винтовой лестницы, заполнившей пространство в глубине, — всё это в изменчивом и словно эластичном пространстве Виллы открывает возможность для самых неожиданных маршрутов.
Интерьер, не особо загромождённый мебелью к моменту, когда Сенатриса стала здесь хозяйкой, немало озадачил бы обывательскую чету, когда пришлось бы выбирать назначение комнат. Но с тех пор, как Большая смута уничтожила племя слуг, знатные фамилии Империи в своих грязных и, как правило, тесных жилищах в изгнании не имели возможности практиковать привитое им некогда «искусство жить», но и другими искусствами не овладели, так что заполняли своё жильё чем придётся и кое-как.
Сенатриса выбрала себе по прибытии комнату на южной стороне — из-за ревматизма; но то ли память у неё слабая, то ли просто выступают пружины на единственной софе, оказавшейся в этой комнате, которую никто не догадался заменить, но ей довольно часто случается спать в какой-нибудь другой части Виллы — в кресле, в украшенной колоннами кровати Любезной Покойницы, даже на кухне или в другом уголке, где сразит её усталость минувшего дня и заботы дня грядущего. Алькандр будет кочевать вволю по этому пространству, которое так подходит его внутреннему разброду; и когда подышать загородным воздухом толпой примчится родня, а следом и друзья родни, никто из них не найдёт на Вилле постоянного места: полевые койки, обязательный атрибут изгнания и вечно временного жилья, войдя в обиход, обеспечили манёвренность. Большая центральная «студия» (так она обозначена в бумагах нотариуса) в иные вечера будет напоминать восточный лепрозорий с расставленными на скорую руку лежанками, беспорядочной суетой и простынями, свисающими даже с верхней площадки винтовой лестницы.
Но хоть и не богата Вилла постоянной меблировкой, даже до прибытия новых владельцев заброшенной она не была: Любезная Покойница здесь повсюду, даром что похоронена на соседнем кладбище, куда Сенатриса придёт пролить слезу и посадить розовый куст. По фотографиям в рамках или просто приколотым булавкой к стене можно судить о преображениях фигуры, заметной на фоне всемирной истории оперетты. Перчатки, театральные программки, пудреницы и даже порванное платье, усыпанное стразами, которое Сенатриса попытается использовать с толком, — всем этим набиты шкафы, своей мрачной массой придающие Вилле ещё большую глубину; веер, украшенный жемчужинами, висит на стене студии над выцветшим пятном ковра, увековечившим силуэт исчезнувшего секретера; и тот же веер в белых пухлых пальцах усопшей наполовину прикрывает пышную грудь, рвущуюся из муслинового неглиже, на портрете, который выставлен на мольберте, и видно, что кончик её вздёрнутого носа такого же цвета, что и букет сирени, лежащий рядом с утренним шоколадом на столе в саду. А разве не блистательная плоть усопшей нескромно стремится за пределы витражей, расположенных при входе, по всей длине большой мраморной лестницы, в ванной с огромными кранами — застывшими в латуни тигриными лапами, вода из которых, правда, больше не течёт, так что в стенах с мерцающей майоликой, где изображён сад Гесперид, свалены в кучу самые бесполезные предметы, образуя своеобразный камерный хаос как часть большого хаоса, которым является Вилла, разве не в этих полумифических витражах, где нагота в сиреневых бликах пышно цветёт среди буйства оплетающей её растительности, вездесущие нимфы и аллегорические фигуры, по очереди заимствуя внушительный торс и бюст усопшей, преследуют обитателя Виллы и придают ей одновременное сходство с мавзолеем и с домом терпимости? Ведь так сложилось — и в этом, возможно, истинная причина странного разворота постройки, — что весь свет, попадающий в лощину, искусно притягивается и преображается полупрозрачной поверхностью листьев на райских деревьях и бёдрами божественных фемин, и только после этого — отсветами, в которых фиолетовый сочетается с тёмно-зелёным, ложится на мраморные ступени, на паркет и даже на стены уборной, где Алькандр будет запираться, чтобы помечтать. Подобно ярмарочным балаганам с петляющими коридорами, где полно зеркал, назначение которых обманывать чувства и запутывать разум, Вилла, где скоро поселятся наши герои, тоже запутавшиеся и обманутые, своим внутренним лабиринтом продолжает и делает более сложным лабиринтное естество бокажа.
4
Сенатриса решительным хозяйским шагом входит первой, за ней — Алькандр, неуверенно, озираясь; ручная тележка, взятая напрокат на вокзале, везёт старые кожаные чемоданы, обхваченный железным обручем дорожный сундук, который забудут открыть, и холщёвые тюки, откуда торчат разнообразные сокровища. Длинная благодарственная молитва произнесена у подъезда; чтобы затребовать плату, толкавший тележку посыльный звучно сплёвывает на гравий.
Вскоре война толпой приведёт сюда родню; малыш Гиас приедет, чтобы от случая к случаю и кое-как посещать занятия в лицее; он доберётся из Парижа на велосипеде, будет ночевать на фермах и в канавах; так же на колёсах свежая, словно только что из спальни, прибывает дерзкая и прекрасная Мероэ; она спрыгивает на землю, бросив велосипед, заднее колесо которого ещё долго крутится с негромким стрекотом; сентябрьский свет озаряет всеми цветами радуги хромированные спицы.
5
Вы тоже вскоре появитесь, Кретей, витая в облаках, с отсутствующим взглядом и школьным Вергилием под мышкой.
6
Противостоящая городу в немом и нерешительном напряжении Вилла обращена к землям, границы которых сначала кажутся неопределёнными, но устанавливаются сами собой для тех, кто как Алькандр раз-другой отправится туда погулять или, скорее, по какой-нибудь практической надобности. На севере вниз от бульваров пролегла просёлочная дорога; она описывает широкую вогнутую дугу, которую через две трети пути прерывает горбатый мост с примкнувшей к нему низкой серой постройкой кафе-бакалеи, где в ароматах прогорклого сидра, в утвари, которая связывается с кустарничеством и скукой деревенских вечеров, плесневеют запасы почти на все случаи жизни. Переходишь через едва заметный в траве ручеёк, который, разделяя местность на две соединённые вершинами трапеции, несёт к реке толику влаги из лощины, и вскоре там, где дуга под ногами становится твёрже и начинается склон холма, оказываешься на перепутье, откуда можно дойти до решётки замка. На юге отчётливо вырисовывается разлом полузаброшенного карьера; прямо по центру его разделяет скудная струя ручейка; карьер осаждают ежевичные кусты с проторёнными через них тропами — Алькандр с друзьями будет водить туда девочек, а ещё устраивать драки, распугивая школьников, рвущих ежевику, или сборщиков улиток, и пуская вприпрыжку коз, которых пасут молчаливые старухи. Небольшая каменистая дорога, окаймляющая парк вокруг Виллы, на востоке от водопада уходит к той части карьера, которую заняла городская свалка; там Сенатриса будет оспаривать свои находки у старьёвщика Лафлёра. Грохочущие грузовики с карьера или со свалки до того, как исчезнуть в кустах ежевики и облаках пыли, также вынуждены миновать хижину Лафлёра, где водители будут притормаживать, обмениваясь окриками и ругательствами с сыновьями и скабрёзностями с дочками старьёвщика. Вот границы территории, к которой относится Вилла, и она же на востоке, со стороны города, стала одной из её оконечностей, в то время как со стороны холмов, сразу за ручьём, под двумя деревьями влачит своё существование ферма, и её дети с угрюмыми лицами, худые куры-бродяжки и столб зеленоватого дыма оказываются в географическом центре лощины, а противоположную оконечность и одновременно самую высокую и самую значимую точку представляет собой окружённое каменными стенами в венце из бутылочных осколков, богатое, устойчивое, воплощающее уверенность, но не надменность, сооружение — Замок.
Вот так, расположившись на разных полюсах лощины и едва отличаясь друг от друга лёгкой возвышенностью рельефа, позволяющего одному утверждать своё спокойное превосходство над другой, Вилла и Замок, который тоже был бы обыкновенной виллой, если бы не благородство белого камня, не симметрия гравиевых дорожек и туй, стоят лицом к лицу, возвышаясь над общими владениями, и на собственном пространстве каждый демонстрирует своё: она — изобилие сверкающих декораций, где сочетание эротических и кладбищенских мотивов наводит на мысль о нереальной роскоши упавших в руки богатств, но также о том, что у неправедных денег есть оборотная сторона, он — осязаемую основательность богатства земли, воплощённую в простоте его упорядоченной и шероховатой архитектуры.
Недвусмысленность этих связей, в которых, однако, столько нюансов, Сенатриса интуитивно переносит на отношения, которые сразу по прибытии она завязывает с достопочтенной вдовой Ле Мерзон, владелицей сверху, и когда их наконец приглашают в Замок на чай, Алькандр получает от матери приказ навощить ботинки и уделить внимание узлу галстука, который после десяти лет в кадетском мундире он так и не научится оформлять с ловкостью юного буржуа. Приняв наследство, Сенатриса не то чтобы согласилась с положением, которое делает её преемницей женщины лёгкого поведения и распутника; как раз наоборот, подобно старинным монархическим правительствам, которые, поднявшись над заботами о насущном и над пристрастиями поколений, олицетворяли в веках преемственность тайных страстей нации и принимались мстить за давнее оскорбление или возвращать утраченную провинцию, а то, напротив, уничтожали всю память о преступлениях, которые им пришлось совершить, прибирая к рукам вожделенную пограничную переправу или торговый город, Сенатриса в глубине души вынашивает план, который поможет восстановить условности, возвести то, что относилось к сфере греха и распутства, в род тайн Провидения, направляющего всё на осуществление своих замыслов, и облагородить расточительное любострастие усопшего святостью цели, орудием достижения которой она сочла достойным стать.
Вот почему с вкрадчивой, но вполне обдуманной решимостью, изобразив на ходу поклон, который начинается со шляпки, украшенной сиреневой фиалкой, а затем подхватывается всем её тучным и дрябловатым телом, оживлённо трепещущим подобно тому, как трепетали плавники чудовищных, анормальных рыб, выведенных из Carassius auratus[13]терпеливыми и жестокими мастерами аквариумных дел при дворе древних китайских императоров, Сенатриса входит в переливающееся оттенками морской волны свечение гостиной Ле Мерзонов, где между двумя зелёными растениями её встречает едва уловимое дыхание и неподвижный, свирепый и одновременно боязливый взгляд выпученных глаз достопочтенной вдовы Ле Мерзон, которая маленьким шариком выпрыгнет навстречу, но прыжок будет выверенным и упругим — такие иногда выделывают обитатели аквариума, если их вспугнуть.
И вот обмен любезностями, выписывание кругов и мельтешение плавников, за которым молча наблюдает Алькандр: рот у него набит печеньем, и от всех этих нежностей его тошнит; иногда Ле Мерзон-сын, который станет его однокашником, приоткрывает дверь, но тут же, неопределённо кивнув, убегает.
А вот уже на Вилле между стоящей в беспорядке немногочисленной мебелью Сенатриса энергично машет веником и вокруг того места, где он прошёлся, наметает крошечные укрепления из пыли; и вот наконец подаются манные клёцки, национальное блюдо Империи, которые целиком, даже не примявшись, спускаются по горлу достопочтенной вдовы Ле Мерзон.
— Дорогая мадам…
— О, мадам…
— Сущие пустяки, мадам, хвостик петрушки да манная крупа — вот и весь секрет.
Их слова изящны, как и сдержанные прыжки, и боксёрские движения туда-сюда; вот так, с настойчивой вежливостью, существуют они один на один со своим вдовством, смиренными надеждами и неизменно шатким здоровьем.
7
Не потому ли Сенатриса тайком отправляется иногда по утрам на свалку, что боится, хотя из Замка её не видно, потерять лицо? На ней тот же наряд, что и во время замковых чаепитий: других у неё нет; а если и есть, то все заперты в чемоданах, в забытых богом шкафах, от которых потерян ключ; но умение по-особому приминать своё тело, складываться или, наоборот, распрямляться, чтобы струились полотнище платья и накидка, откидывать вуаль на шляпке с победно колышущимся султаном — всё это позволяло Сенатрисе предъявлять свою единственную одежду как лицо, черты которого не меняются, но попеременно выражают то грусть, то радость и в прихотливом бытии под знаком дипломатии и нужды наполняются богатым разнообразием эмоций. На все случаи жизни она носит полотняную сумку, синюю с большими белыми цветами, походную кладовую, где разнообразные вещи, находки и реликты уходящей жизни — письма, предметы туалета, ключи, которые ничего не открывают, квитанции и пустые флаконы, как трава в желудке у коровы, пережидают время, отведённое на размышление: отвергнет их Сенатриса или прибережёт на своём дальнем пути в тайниках, о которых тут же забудет, но однажды, может, найдёт, и тогда эти предметы снова исчезнут в сумке с цветами. Алькандр не перестанет удивляться, глядя, как эта женщина, которая моментально теряет любую вещь, попадающую к ней в руки, и находит только то, что ей без надобности, которая, даже прикасаясь к домашней утвари, передаёт ей лёгкую хандру, вечно её бередящую; оказавшись в сердце городской свалки, вдруг действует с такой ловкостью, какой у неё напрочь не увидишь, когда надо заниматься хозяйством. Древком метлы с крюком, специально приделанным для таких вылазок, она орудует так сноровисто, что, можно подумать, долго этому училась; она бросается на мусорные завалы, ворошит их, раскапывает и закапывает, хитрыми способами устраивает обрушения и оползни, сортирует, перебирает, тащит, подцепляет, устраняет препятствия и быстрым движением рыбака с удочкой вытаскивает ботинки, которые починит для Алькандра, или свитер, который заштопает, ещё больше растянет и так и не наденет, забудет. Быть может, сосредоточенный и весёлый азарт, который Алькандр видит сейчас на лице матери, наблюдая за ней издалека, злость, вспыхивающая, если эту безответную тетёху в такую минуту отвлечь, — результат давнишней страсти к охоте и азартным играм, которая тайно делает своё дело в густой крови этих старинных семейств и которую Сенатриса по-прежнему подавляла бы и даже не чувствовала бы её, если бы крушение Империи не привело её на мусорные завалы? Сам выбор находок, которые приносит Сенатриса и добрая доля которых, покинув сумку с цветами, через некоторое время лишится остатков своих скромных достоинств и окончательно обретёт покой на свалке, а также почти религиозная таинственность, сопровождающая эти вылазки украдкой, убеждают, что скудость гардероба и колючее безденежье не умалят в её адрес похвал. Глядя из укрытия, как она возвышается над этим полем нечистот, как победно втыкает в него свой гарпун, как широко раздувается от ветра её платье, и вдыхая в сиреневом свете сумерек кислые запахи брожения, Алькандр постигает наивную и печальную поэзию мусора. Свидетельствуя о хрупкости материи и непостоянстве моды, изгнанные, как сама Сенатриса, из естественной среды, придававшей им смысл, выброшенные вещи хаотично громоздятся друг на друга, и каждая упорно старается сохранить ничтожный остаток своего «я»; точно так же грубо подогнаны между собой детали раздробленной после Крушения картины мира, начиная с того момента, когда Большая смута уничтожила разумную стройность порядка, и заканчивая будущим как иллюзорным оправданием.
Возможно, Сенатриса в глубине души наслаждается неким таинством единения, покоем, словно во время вечерни, и одиночеством, но одиночество вдруг нарушает свист осколка кремния, который со всей силы швырнули из-за кустов ежевики; он ударяется о дырявое дно кастрюли у её ног, и в тишине по карьеру разносится эхо. Пора Алькандру выходить на сцену, брать мать под руку и защищать её от камней и проклятий, которые посылают старьёвщик Лафлёр и его шайка.
— Я гуляла, — заявляет Сенатриса.
С каким достоинством вышагивают они по пыльной дороге, периодически обмениваясь впечатлениями от сумеречного пейзажа! А за ними на расстоянии, прячась на поворотах, идут пацаны Лафлёра. Только мелкий беспородный пёс, лохматый, как и вся остальная семейка, отваживается лаять прямо у них под ногами. Алькандр восхищается матерью: она никогда не оглядывается и даже вида не подаёт, что их преследуют; иногда он наклоняется — плавно, несмотря на высокий рост, — поднимает камень и запускает его назад, продолжая говорить.
Но когда приходится идти мимо хижины Лафлёра, откуда доносится особо грязная брань в адрес гинекея, его смущает младшенькая: она сидит на ступеньках у входа и при их приближении вдруг раздвигает ноги, едва прикрытые короткой юбкой, шлёпает ими друг о друга и пронзительно кудахчет. Алькандр услышит хриплый возглас матери: «Резеда!», но потом, продолжая рассеянно откликаться на возвышенные рассуждения Сенатрисы, шагая по тёмной тропинке, чувствуя влажную свежесть сада, и позже, в кровати, засыпая, он будет ломать голову, как ему понимать жест маленькой старьёвщицы: как знак презрения к тем, кто нарушил их монополию, или как бесхитростный намёк, попытку обольщения?
8
Переждём пару мгновений, Кретей, чтобы как следует посмаковать такой финал; вы постарались придать ему форму штопора. Только, уважаемый автор, после всех петляний и поворотов далеко ли вы, собственно, продвинулись в своём начинании? Удовлетворены ли вы тем, как складывается поэма? Ведь теперь непонятно, к чему всё это.
Вы по-прежнему тревожите тишину скрипом своего самонадеянного пера, но с каждой страницей, хоть вы нам в этом и не признаётесь, ваш честолюбивый замысел меркнет. Завоёванная Италия уменьшилась до почти невидимого лоскута земли. Может, Рим, который нам предстоит основать, хотя бы замаячил на горизонте? Вы обещали нам роман-абсолют: такой, у которого, как у вселенной, не будет ни фундамента, ни опоры, который не позволит задать ему границы или поглотить извне. Вы посмеялись над нами: с самого начала вы опирались на горькие истины, привязанные к их случайному положению во времени и в пространстве; уж не надеялись ли вы, преобразив эти жалостливые воспоминания красноречием и иронией, вырвать их из невыразительного окружения? Несчастный ловкач! Вместо королевского полёта орла — скачки́ лягушки, которая то и дело шлёпается на землю.
Ничтожный доморощенный творец, вы собирались одному миру противопоставить другой; но — первый попятный шаг — описали Государство; затем ваше честолюбие ограничилось группой персонажей; с каждой главой вы становились скромнее, и вот уже у вас остался всего один главный герой, да ещё несколько второстепенных, увиденных его глазами. Заглядываю вам через плечо и, пока сохнут чернила, читаю незаконченную фразу: нужно быть начеку, держать себя в руках, как психоаналитик, которого усыпляет скучное бормотанье невротика, нужно постоянно быть рядом, чтобы подстёгивать вас, поправлять, разоблачать ваши хитрости и мелкую ложь, напоминать о ваших честолюбивых замыслах и о клятве. Иначе вы быстро ускользнёте от меня, превратите эпопею небытия в романчик, в портрет молодого человека в плену обстоятельств времени и среды, каковых уже не счесть. И всё-таки моё внимание ослабевает, меня дурманит монотонное журчание вашего рассказа, хуже того — презренное подражание вынуждает меня копировать заплетённость вашего стиля. Надо встряхнуться, вспомнить строгий облик барона: я должен быть вашим цензором и вашим поводырём, герменевтом и схолиастом.
9
Море в этих краях повсюду — в крошечных серебряных кляксах, которые различаются в ясный день с высоты башен собора и трепещут в расщелинах потускнело-изумрудных холмов, как чешуйки живой рыбы; такова сила ветра, чей шум раздаётся в траве и ветвях, и прозрачность неба, отбрасывающего на краски бокажа серебристый отблеск волн; зримо и незримо море пропитывает все прилегающие земли, где звучат голоса его приливов и отливов, отражаясь от дерева к дереву, от изгороди к изгороди, как голос Мероэ, летящий по комнатам Виллы и наполняющий эхом пещерное пространство, которое Алькандр теперь делит с ней, и где ему то и дело чудится — при том, что он даже не может сказать, какого цвета у неё глаза, — будто ему под силу остановить полёт её платья и волос или их скользящие отражения в зеркалах и на натёртом воском паркете.
Нужно обладать беспечностью и предприимчивостью Сенатрисы, чтобы затеять эту поездку к морю; она изучила карты, всё распланировала, приготовила пакеты с бутербродами и кислыми яблоками; и воскресным утром, когда на дорогах встретишь только одетых в чёрное крестьян с требниками в руках, а холодный шквалистый ветер расчищает сентябрьское небо и разносит лоскуты далёких колокольных звонов, задумчивый покой нормандских пейзажей оглашается криками под натиском молодых варваров.
На всех три велосипеда: два — те самые, на которых Гиас и Мероэ проделали путь из Парижа, и старая жестянка, женская модель, которую Сенатрисе удалось одолжить у какого-то ремонтника под предлогом, что она опробует его перед покупкой. Сама Сенатриса в любом случае будет идти пешком: праведное чувство собственного достоинства и собственной неловкости запрещает ей садиться на велосипед. Для пяти молодых людей она со знанием дела, не хуже, чем в военном штабе, где разрабатывают план кампании, составила маршрут и разметила остановки для передачи велосипедов: три велосипедиста будут дожидаться двух пешеходов, чтобы пользоваться транспортом по очереди, согласно умному плану, на соблюдение которого она одна по наивности надеялась. К часу дня весь личный состав войска должен был собраться в точке, которую на дорожной карте Сенатриса пометила, поставив крестик красным карандашом: в двенадцати километрах от города, там море ближе всего. Сама она окажется на месте последней — к обеду, который предполагался на пляже.
Она действительно появится в назначенный час, бессильно опустится на песчаную насыпь и блуждающим взглядом голубых глаз тщетно будет отыскивать в широком пространстве, где сливаются вода, земля и небо, разбежавшихся юных солдат, припасы для пикника, которые Гиас с сестрой умяли на двоих задолго до конца пути, и само море, от которого отлив в день равноденствия сохранил только узкую светящуюся серую полосу на горизонте.
Вначале Алькандр шёл пешком с матерью. Проводил взглядом Гиаса и Мероэ, которые уезжали с радостными возгласами и, встав на педалях, то сближались, чтобы обнять друг друга за плечи, то опять разъезжались, изображая акробатику, а отставший Мнесфей ругал на чём свет стоит велосипед ремонтника, упирал ногу в землю и поправлял плохо посаженную цепь, которая, крякнув, тут же снова сваливалась. Затем бодрым шагом взобрался на Ослиную кручу, восхищаясь материнскими лёгкими: опершись на трость с серебряным наконечником, найденную на Вилле мужскую вещь, забытую каким-то любовником Покойницы, и высоко подняв голову, она молча и сосредоточенно смотрит вперёд, как рыцарь, которому предстоит сокрушить преграду.
На первой остановке они обнаруживают, что велосипеды приставлены к указательному столбу, Мнесфей спит, лёжа на спине, а в канаве хохочет и что-то выкрикивает малыш Гиас: сестра не даёт ему подняться с земли, а он отбивается и пытается спрятать лицо от ветки ежевики, которой Мероэ размахивает над ним. Ничто так не смущает Алькандра, как этот неиссякаемый источник смеха, радости, который начинает бить, как только эта обычно хмурая и молчаливая молодёжь оказывается вместе. Выбравшись из канавы, они больше не произнесут ни слова за время передышки, и даже малыш Гиас будет неподвижен настолько, что в самый раз сказать — мертвец, если бы Алькандр не видел, как под расстёгнутой рубахой широко, размашисто вздымается атлетическая грудь. А вот Мероэ: огонь, пылающий на её щеках, и нетерпеливое движение, которым она откидывает спутавшиеся волосы, не оставляют сомнения в том, что она живая, но она и не здесь, и не в грёзы свои ушла: её просто нет — об этом говорит её слепой взгляд; по подбородку и вытянутой шее бежит царапина, за рисунком которой Алькандр следит с умильной заворожённостью; справа, прямо под уголком губ, тонкая царапина затронула только поверхность кожи, и под глянцевой минерально-белой гладью открылась более плотная и тёплая белизна, как будто в ней само существо Мероэ; бегущая ниточкой к горлу царапина незаметно утолщается, а после нескольких прерывистых резких штрихов завершается свернувшейся капелькой крови, принявшей ежевичный окрас. Они снова выдвигаются в путь, и теперь очередь Алькандра садиться на раздолбанный велосипед ремонтника; он воюет с цепью и видит, как отдаляется от него Мероэ, стоя на педалях и слегка покачиваясь из стороны в сторону на подъёме.
После первой остановки исполнение плана генерального штаба было сорвано из-за отсутствия дисциплины и всеобщей неразберихи. Алькандр увидит своих товарищей только под конец, после тщетного ожидания на перепутье, где надо сойти с асфальта на гравий просёлочной дороги. Соблазнившись более ровным покрытием и, конечно же, завтраком, который едет в багажниках, малыш Гиас и его сестра не поехали коротким путём, который Сенатриса предполагала дальше: они сделали крюк по асфальтовой дороге и перед тем, как добраться до побережья, остановились в местечке, затерянном в последних деревьях бокажа. Присев на краю фонтана, они вдвоём слопали всё, что предназначалось для пикника.
10
Вы искажаете правду, Кретей, едва ли ваша мелочность простительна. Вы по привычке пытаетесь оставаться невидимым, а ещё сбиваете читателя со счёта. Между тем мне кажется, что один из рюкзаков с провизией оказался именно у вас за спиной, а в шестнадцать лет у юноши с обликом стихотворца был недюжинный аппетит.
11
Это место — углубление на гребне дюны, оно возвышается над пляжем, но укрыто от ветра и чужих глаз. Алькандр лежит плашмя на животе, приподняв голову и подперев руками подбородок. Он натянул на голову воротник куртки: ветер, который шлифует песок и заставляет дрожать большие лужи, оставленные отливом, у земли ледяной. Вокруг трепещут под его вздохами проросшие на дюне низкие и редкие травы; поднятые вверх песчинки опускаются, словно по тонко рассчитанной траектории, создавая лёгкую рябь, напоминающую следы, вылепленные волнами на оголившемся сейчас морском дне. Краски репея и прочих колючих и крепких растений поблекли и как будто вытравились морским ветром: сине-зелёный стал почти белым, красный обесцветился, всё пропиталось солью; да ещё и песчинки колют лицо. Через узкую зазубрину в кромке дюны Алькандру открывается вид на пляж: он подставляет небу зеркало из мокрого песка, и его потускневшее отражение, в котором иногда пробегают быстрые тени облаков, простирается до той тонкой дрожащей полосы — в ней угадывается отошедшее море. При суженном обзоре далеко-далеко обозначаются и против света кажутся чёрными крошечные фигуры Гиаса и Мероэ, которые играют в чехарду; в полном безлюдье холодный ветер доносит обрывки возгласов.
Зависит ли это расстояние, эта невидимая преграда, которая по-прежнему отделяет его от Мероэ, от исключительной замкнутости того мира, в котором она укрывается вместе с братом? Но ведь другие общаются с ней непринуждённо, даже если со времён Крепости, как Мнесфей, в неё влюблены. И всё же эти шушуканья вдвоём, беспричинные смешки, которые они не трудятся объяснять, привычка в любом месте держаться в стороне, а в любом обществе создавать собственное маленькое закрытое общество — всё это мимоходом приводит Алькандра в ярость. Зачем вообще им было приезжать в эти края, с которыми их ничто не связывает, и жить в доме Алькандра, общаясь только между собой? У других был предлог — лицей, нужно закончить учёбу. Но малыш Гиас, которого выгоняли из всех дорогих пансионов, куда засовывал его опекун после того, как закрыли Крепость, вообще-то не собирается в восемнадцать лет снова идти в третий класс[14]. Зато Мероэ на курсах танца и стенографии усвоила обширный запас грязных словечек и просторечный выговор, такой пикантный в устах принцессы. Значит, в деревне во время войны безопаснее, поскольку толком нечего опасаться? Всё ради крова и пропитания, которым Сенатриса щедро делится с родственникам и друзьями родственников? Ничто не заставляло сирот бежать из Парижа: известно, кстати, что там у них ещё остались кое-какие деньги.
Он отворачивается, прижимает щёку к холодному песку и лупит песок ногой — яростно и беспорядочно: так же он делал, наверное, когда его пеленали; он много раз зажмуривает и открывает глаза, надеясь, что потекут слёзы, жёсткая трава, о которую он трётся лицом, колет его, испуская тонкий, но стойкий запах чеснока. С пронзительными глупыми криками низко пролетают две чайки, которых ветер заставил изменить курс полёта. Алькандр разучился плакать; но теперь, с закрытыми глазами, передав тонкому песку немного тепла от своего живота, прижавшись к нему так, что послушная сыпучая масса приняла форму его тела, он может призвать к себе настоящую Мероэ — Мероэ из грёз. Напрягшись, сжав кулаки, стараясь зажмуриться так, чтобы сквозь веки не пробивался свет, он видит, как на чернильном фоне несутся с умопомрачительной быстротой светящиеся фигуры: они движутся по правильной траектории, являя собой маленький цветной фейерверк, падающие звёзды и трассирующие кометы размером с булавочную головку, чаще оранжевые или изумрудные; но когда усилием воли, внутренним напряжением всего тела он пытается вызвать образ Мероэ, то снова видит только движение фигур, откликнувшихся на его зов, тянущиеся следы, волны, а ещё отражения и тени, гагатовый блеск на более матовом чёрном фоне, который, возможно, напоминает капризно струящиеся и парящие в воздухе чёрные волосы Мероэ. Но движением в камере-обскуре создаётся только пустотелая форма, невидимая, предполагаемая, подобная тем небесным телам, которые скрыты от глаз, и существование которых выявляется в незначительных пертурбациях, вызванных ими в строении ночного неба. Вот и Мероэ, настоящая ночная Мероэ, также остаётся невидимой, и дабы её не настигла даже грёза, укутывается в покрывала другой, сокровенной, ночи. Когда, продрогнув, Алькандр поднимается, он замечает, что слёзы всё-таки потекли у него из глаз.
Но обратном пути Сенатриса совсем обессилела, да ещё не учла, что стемнеет, так что она решает ехать на автобусе и, к большому удивлению Алькандра, которому всё не привыкнуть к сварливому и властному тону, позволяющему матери урезонивать торговцев и кредиторов — весь этот «люд», как она выражается, ей удалось добиться от кондуктора, чтобы тот выдал ей билет «в кредит»; правда, ей пришлось намекнуть, что она «близкая подруга» вдовы Ле Мерзон, и даже упомянуть о своём дворянском титуле, хотя она учила Алькандра никогда не вспоминать о нём на людях. Она недоверчиво изучает билет через пенсне в золочёной оправе, затем тростью прокладывает себе путь между чемоданами и ивовыми корзинами пассажиров, оплативших проезд.
Алькандр едет, поровнявшись с Мероэ, и твёрдо намерен заговорить с ней, как только что говорил Мнесфей — запросто, обо всём подряд. Но янтарные краски, которыми расцвечиваются последние часы дня, создают в кустах и во впалостях утёсниковых и терновых плетней дрожащие тени, будоражащие воображение. Он впервые видит полосу суши из песка и гальки, вытянувшуюся от подножия прибрежных скал к дюнам и пляжу: её покрывают низкие шершавые растения, все в колючках, и редкие деревья, сгорбленные, перекрученные ветром; глядя на эти чёткие насыщенные краски, такие не похожие на цвета бокажа, начинаешь думать, что и живность там обитает под стать — враждебная и кусачая: ежи, гадюки и наверняка какие-нибудь другие твари, более странные, более фантастичные. Вечером дрожащие на холодном морском ветру и время от времени озаряемые косыми лучами закатного солнца Ланды предстают широким жёстким неухоженным ковром, в размашистом, причудливом рисунке которого перетекают друг в друга пятна зеленоватых, золотистых, фиолетовых и ржаво-рыжих оттенков. И пока вдвоём они едут по тропе и велосипеды невыносимо скрипят от песка, приносимого ветром, и пока поднимаются, встав на педали, по петляющей дороге, которая ползёт вверх по утёсу, и откуда в последний раз, но во всю ширь, открывается перед глазами Алькандра вид на Ланды, он не раз будет вспоминать о том, что хотел поговорить с Мероэ; но каждый раз мысль эта будет сиюминутной, смутной и болезненной одновременно — так в разгар увеселения некстати вспоминаешь, что надо выполнить какую-нибудь тяжкую работу. И всё же Мероэ — вот она, и больше нет никого; она всего на колесо впереди; синяя в белую полоску юбка надувается ветром. Алькандру достаточно чуть резче нажать на педаль, и он за ней подтянется, достаточно сказать слово, чтобы к нему обернулось прекрасное незнакомое лицо. Он вовсе не отказывается от этого плана сознательно и в волнующей близости не утратил ощущения его неотложности и заманчивости, но каждый раз в минуты особого напряжения, когда мечтатель хочет схватить мечту в охапку, что-то всегда вмешивается и останавливает его, отвлекает, мягко отводит; как сейчас картина Ланд в сумерках и неотделимое от неё зрелище — надутая ветром юбка Мероэ.
12
Кости в кровавых крапинах с голубовато-эмалевыми шишками — Сенатриса выцыганила их у мясника авансом в качестве подарка к мясу, которое гипотетически ещё будет куплено; соль грубого помола, перец, лавровый лист — их запах наполняет Виллу, словно дым ладана, разлетающийся под церковным нефом раньше, чем первые слова службы, и позволяет предугадать таинство, святилищем для которого станет эта пещера; овощи, очищенные и крупно порезанные юными хористами; собравшись вокруг большого стола в студии, под припевы воинственных маршей и крестьянских плачей в едином порыве они размахивают целым арсеналом режущих инструментов, кухонных и десертных ножей, топориков и даже ножницами для ногтей, которыми они вооружились для этой церемонии; тесто на том же столе, присыпанном мукой, — его месит и раскатывает Алькандр, и периодически, под хоровое «ура», огревает деревянной скалкой, от чего взлетают некоторые фрагменты мозаики — тонкие бесконечно длинные ломтики, на которые Сенатриса разрезает раскатанный лист, зависнув над ним всем телом: все эти ингредиенты соединяются в огромном котле по случаю праздника лапши, весёлого обряда молодого племени, прожорливого и как всегда до смерти голодного. Вокруг стола и плиты, для удобства перенесённую в студию вместе с газовым баллоном, кружится хоровод; Мероэ снимает пенку с бульона и вытирает деревянную лопатку о волосы мальчишек, которые корчат ей рожи и показывают нос. Золочёное пенсне Сенатрисы обретает сакральность жреческого атрибута: в руках Алькандра, который размахивает им в воздухе, оно задаёт ритм хороводу, а затем, когда его отбирает хозяйка, служит ей, чтобы следить за приготовлением супа, и густой пар, поднимающийся из котелка, а также неосведомлённость Сенатрисы в кулинарных делах придают этому действу символический, церемониальный смысл. Зато когда в сумраке большой студии, где некому заменить перегоревшие лампочки на люстре, они хлебают обжигающий суп, наступает момент многозначительной сосредоточенности, гастрономические атрибуты которого, освящённые тишиной, превращают происходящее в трапезу единоверцев. За витражами Виллы, которые отдельными фиолетовыми отблесками теперь отражает только свет люстры, на сад опустилась ночь, и слабо освещённый стол остался один в центре мира. Закончится ужин, и начнутся танцы: под звуки валикового граммофона, из которого будет рваться голос Благочестивой Наследодательницы с игривой песенкой, или под повторяющиеся до бесконечности аккорды «Вальса конькобежцев», и от этого повторения начнёт казаться, будто Сенатриса так глубоко проникла в душу расстроенного пианино, что теперь оно заиграло само, и пожелтевшие клавиши прыгают сами по себе с одной и той же фальшивой нотой и с аккордом, пропущенным в одних и тех же пассажах; кажется, что кружение вальсирующих, которых Сенатриса подбадривает, восклицая: «Кавалеры, поклон дамам!», обретает свойства прозрачности и невесомости, что это завораживающее повторение па рисует в полутьме тесный магический круг, сосредоточивший в себе всю реальность и отвергнувший мир, отдав его ночи и небытию.
13
В центре светящегося круга, по краю которого из-за нехватки партнёрш Алькандр движется в вальсе один, в точке, где сходятся все взгляды, далёкой и словно невидимой остаётся Мероэ. Или, скорее, сила тяготения, влекущая его по орбите, рождает ощущение двойственной связи с центральным светилом: притяжение заставляет его неизменно повторять свой путь по краю магического круга, а другая, столь же неумолимая сила, удерживает его на положенном расстоянии. И вдруг Алькандр, который по-прежнему вальсирует один и смеётся в ответ на аплодисменты и остроты товарищей, с некоторым облегчением понимает, что на самом деле он скорее источник второй из этих сил, чем первой. Он с пылающим лицом падает на табурет перед пианино, оттеснив задом Сенатрису, и теперь видит только своё взлохмаченное отражение на полировке деревянного инструмента, и даже когда наступает глубокая ночь и уставшие танцовщики садятся, а затем начинают разбредаться, продолжает играть самые шальные и самые щемящие джазовые мотивы. Мероэ под конец танцевала только со своим братом Гиасом и давно ушла с ним под руку; но подобно тому, как ночная земля и затихшая после праздника Вилла, и сам Алькандр за пианино, покинутые солнцем, продолжают вращаться вокруг светила, подобно тому, как уничтоженная Империя, не существующая на карте, исчезнувшая из их разговоров и почти исчезнувшая из мыслей, остаётся в центре их жизни незримым очагом, невидимая и безмолвная Мероэ втайне наполняет собой опустевшую большую студию и витает в её сумеречном пространстве вместе с едва слышными звуками музыки. И силуэт в ночной рубашке, который на миг появляется на внутренней лестнице, наверху, и тут же исчезает, когда следом показывается и что-то выкрикивает Гиас, — это не Мероэ, а одно из её воплощений, эмблема — такая же, как краснолицые солнца с бровями-дугами, которые школьники рисуют цветными карандашами на своих пейзажах: пусть светит; ни на миг эта белая малышка Мероэ, которая сейчас завернулась с Гиасом в штору на галерее, чтобы опять о чём-то пошушукаться среди ночи, не займёт в мыслях Алькандра место настоящей невидимой Мероэ. Поэтому не чувствует он ни капли зависти к Гиасу, её неизменному товарищу по играм, спутнику в путешествиях по дорогам и городам, а также по лестницам Виллы и комнатам, ни в одной из которых они не живут постоянно, отчего утром порой их находят спящими в креслах или даже на полу, на площадке лестницы. «Сироты» — называют их с какой-то умильной жалостливостью, к которой добавляется некоторая опаска: настолько они закрытые и необщительные, непокорные в том, что касается необременительных в общем-то ограничений, которые накладывает совместная жизнь на Вилле, поэтому ждёшь, когда им в голову взбредёт какое-нибудь неожиданное чудачество и тут же осуществится, когда затеют они нечто дерзкое, своенравное, и не только не подумают о последствиях, но даже не будут знать, что их на это сподвигло. А поскольку в сознании сирот желание и его воплощение не могут соотноситься с разными временем и местом, то ограничений извне они не выносят; когда Гиас принялся опустошать обойму пистолета, привезённого им из Парижа, паля по портрету Усопшей, Сенатриса предпочла запереться на кухне, а остальные исчезли или передвигались по большой студии, превращённой в тир, на четвереньках; только когда Гиас, набив руку, решил поиграть с сестрой «в Вильгельма Телля» и слегка оцарапал ей ухо, Алькандр и его товарищи уступили мольбам Сенатрисы и тайной зависти, которую внушала им его игрушка. Гиаса окружили и обезоружили, несмотря на невероятную силу мышц этого молодого бычка и несколько выстрелов, попавших, правда, в потолок; несмотря на когти и укусы Мероэ. Тогда, сбежав на скамейку в саду, недоверчивые и надутые, как наказанные зверьки, сироты долго сидели, обнявшись; Алькандр молча смотрел из окна на кудрявую голову малыша Гиаса, смотрел, как гладит её Мероэ и как сотрясается от рыданий его спина, пока он лежит на коленях у сестры.
Однажды утром, явно очень рано, Алькандра разбудит солнечный луч, вобравший в себя весь свет предстоящего дня. Со двора до него донесётся скрип гравия. Приоткрыв ставни, он еле успеет увидеть, как сироты выезжают из ворот на велосипедах, слегка раскачиваясь из стороны в сторону, чуть петляя и не оглядываясь. Они никого не предупредили. Накануне, нагрузившись книгами и тетрадями, явился Ле Мерзон-сын. Алькандру показалась сомнительной эта новая идея вместе заниматься математикой. Ле Мерзон слишком уж часто отвлекается от дифференциалов и, кривляясь, строит глазки Мероэ. Они прощались у подъезда, когда мимо прошли «Сироты»; Ле Мерзон ничего не сказал, разве что едва заметно кивнул — поздоровался, но было в его взгляде нечто такое, что Алькандру тоже не понравилось. И вдруг Ле Мерзон уже на земле, книги разбросаны, малыш Гиас нанёс ему два молниеносных удара: правой рукой — оригинальный горизонтальный свинг, как будто лезвием по лицу полоснул, и одновременно левой — хук в сердце.
— У твоего приятеля не все дома?
Ле Мерзон-сын поправляет очки.
— Да, не все дома, — растерянно отвечает Алькандр. — Не все дома.
Сироты умчались с хохотом.
Под гомон птичьих распевок, в оставшиеся несколько часов покоя, после мучительных ночных видений хорошо вновь уснуть при свете, сочащемся сквозь захлопнутые ставни, за которыми пробуждается земля. Теперь мысли Алькандра трогательны и немного глупы: бабочки-капустницы, которых он наблюдал, пока одна кружились вокруг другой, смех Мероэ, скрип гравия, расстояние, благословенная отдалённость. Затем образы становятся более настойчивыми и жаркими: поцелуи, веснушки, имя — дикорастущий цветок, и вдруг, в забытьи утреннего сна — чуть раздвинутые бёдра маленькой старьёвщицы. Проспав, он будет в спешке умываться, и вместе с обрывками из урока по матанализу, продолжение которого он вот-вот услышит, ему вдруг придёт в голову мысль, что он никогда не смог бы взглянуть на Мероэ так, как смотрел на неё Жан Ле Мерзон.
14
А ведь ему стоило бы поучиться у однокашника, перенять секрет, который тот не может изложить, но, пользуясь им, неплохо вписывается в обстоятельства, в то, что он называет «жизнью». У Ле Мерзона-сына прямой подбородок и прямой взгляд из-под железных очков (старой оправе дали ещё послужить). Однажды Алькандр несколько удивит его, сказав, что он олицетворяет совершенство; и, чтобы мысль была нагляднее, уточнит с ещё более загадочным видом, что у Ле Мерзона «всего в меру»: его размеренные движения обдуманны, учится он чётко по программе экзамена, а ещё всегда опрятно одет, и его слегка вьющиеся коротко стриженые волосы не нужно обильно поливать гелем, чтобы не лохматились, как это делает Алькандр со своей гривой. Даже жизнь Ле Мерзона подчиняется разумному и строгому порядку, и редкие вмешательства случая не только не нарушают, но даже упрочивают его, как, например, эта война, из-за которой подготовительные курсы по математике, на которых он сдружился с Алькандром, были перенесены из Парижа, и он может готовиться к поступлению в Политех[15], не покидая городок, где родился. Но за рамками повседневных банальных разговоров о совместной учёбе им трудно поначалу найти общий язык: в голове Ле Мерзона сплошные даты, разграничения и ограничения; части сравнений, референции и единицы измерения чужды Алькандру; куча совершенно абстрактных понятий, как «статус» или «ведомство», мешает ему проследить логичную, кстати, последовательность взаимовытекающих явлений, которые лишены для него всякого содержания. Но, несмотря ни на что, между ними всё же возникает симпатия, основанная прежде всего на общей нелюбви к парижанам, которых в классе большинство, на одинаковом неприятии их словоблудия и ужасного жаргона (хотя Ле Мерзон легко его копирует); и тогда они в конце концов понимают, что разница между ними в самом образе мыслей или, лучше сказать, в том, чего они от этих мыслей ждут. Рассуждения Ле Мерзона всегда похожи на таблицу, где можно сортировать, распределять, упорядочивать по отношению друг к другу вещи, по-настоящему существующие для него только в ячейках, которые они занимают в схеме рассуждения; Алькандр от этого теряет терпение и ругает товарища за то, что тот вечно отклоняется от сути, а сам по-настоящему усвоил только единственное число и хочет возвысить до разумной ясности краски, звуки и порывы так, чтобы они при этом не утратили своей содержательности. Лоб Ле Мерзона-сына стягивается в преждевременные складки; взгляд маленьких глаз цвета «перванш» под очками в железной оправе становится острым лезвием и вот-вот разорвёт и превратит в ошмётки ворох невразумительной словесной материи, который Алькандр противопоставляет ясному ви́дению вещей; но в ответ у него неизменно — референция, сложноподчинённость и сложносочинённость. У пруда с рубиновой водой в общественном саду, в писсуаре на школьном дворе они будут обмениваться пламенными и глубокомысленными тирадами об очевидности в математике и рациональности конкретного. Но сама математика, — рассуждает Ле Мерзон, — это машина, которая интегрирует и дифференцирует; когда он зубрит, его глаза, уши и даже поры как будто широко отворяются, втягивая понятия, умозаключения и формулы, которые откладываются в его мозгу, в нервных окончаниях, становятся механизмами, стимулирующими реакцию, чтобы всегда выдавать готовые ответы на экзаменационные задания; впрочем, не столько эта способность к усвоению восхищает Алькандра, сколько то, как ум Ле Мерзона исключает в процессе учёбы ставшие ненужными элементы курса, тяжеловесные или частные приёмы, помогавшие ввести какую-нибудь тему, показать её ответвления, ведущие в тупик, или аспекты, не входящие в программу, вехи и стыки, которые существуют только ради логики изложения; посредством мудро устроенного метаболизма организм усваивает то, что его питает, и отторгает неперевариваемую оболочку: так же и память Ле Мерзона естественным образом избавляется от всего, что может её загромоздить. А для Алькандра именно эти манящие отступления, с помощью которых влюблённый в знания профессор решил раздвинуть горизонты своей книги и показать существование неизведанных сфер, эти сжатые рассуждения, порой приведённые в примечаниях мелким шрифтом, по которым, разбирая какое-нибудь определение или новое понятие, можно догадаться, что торный путь от формулы к формуле опасно возвышается над головокружительными пропастями, все эти искушения на полях прямолинейной и утилитарной дисциплины и составляют прелесть и даже саму суть учёбы. Ему повезло, он к экзаменам не готовится, да и работает с лёгкостью, но при этом, в отличие от своих товарищей, увлечённо исследует все тропы, дальше и дальше уводящие юного математика-лодыря, все скромные, но верные приметы математической изнанки. При его любви к частному и индивидуальному он всё равно охотно блуждает по этим тропам, даже когда видит, что они никуда не приведут, берёт в библиотеке неудобоваримые древние труды, изучает терминологию и увесистые примечания старинных авторов, восторгаясь — возможно, благодаря изысканным наименованиям: лемниската, трансцендентная кривая, эпициклоида, — старой аналитической геометрией, исследуя тупики и самые заброшенные улицы математики. О бесполезности его усилий говорит едва уловимая гримаса на обычно неподвижном лице Ле Мерзона-сына, в которой презрение смешивается с восхищением.
— Ну, а потом, — спрашивает он, — кем ты станешь?
В вопрос как будто подмешана капля жалости. Алькандр сражён; но Ле Мерзон не из тех, кто оставляет проблему без решения; исходные данные — бедность, ум, некоторую склонность к выспренности и авторитетности — он быстро комбинирует в голове согласно своим представлениям, и Алькандру кажется, будто он даже видит, как они отражаются и тотчас исчезают в его перваншевом взгляде, как цифры слагаемых скользят в ячейках автоматической кассы, пока окончательно и бесповоротно не явится искомый результат.
— Тебе следует стать епископом. Хороший статус.
И добавляет:
— По сути ты художник. Надо тебе пообщаться с моим дядей.
15
Дядя Ле Мерзона носит на шее бант. Он церемонно ставит на бюро поднос с печеньем, стаканами и бутылкой вина без этикетки. Дядя любит молодёжь и желает наставлять её на примере того, что сам профукал. Он тоже хотел стать супрефектом или кем-нибудь в этом роде; не получилось.
— Из-за моих взглядов, — говорит он, подмигивая племяннику; отыскивает на полках застеклённого книжного шкафа труд Дрюмона[16] и вручает его Алькандру — пусть обмозгует. — Они — сила, — добавляет он, пока Алькандр перелистывает скудно иллюстрированные страницы этой детской и немного грустной книги, которую благоговение дядюшки Ле Мерзона наградило сафьяновым переплётом.
Это они заставили его отказаться от места супрефекта, а то и от депутатства — кто знает; низвели его до положения холостяка-рантье, занятого обдумыванием своих книг и идей, сидя в небольшом доме чуть в стороне от города, который словно перенесли со всей обстановкой и угрюмым палисадником с какой-нибудь парижской окраины; теперь он отшельник с бантом — всё их происки; или это из-за его взглядов? Есть тут некий порочный круг, запутанный клубок причин и следствий, замутнённое и неисправимое положение вещей.
— Но всё изменится, вот увидите.
Достаточно взглянуть на прямой нос, волевой подбородок, светлые глаза Ле Мерзона-сына, чтобы в этом убедиться. В отличие от Алькандра, которого разморило от вина, в нём закрутили какую-то пружину, и она неумолимо высвободится, покончив с происками и взглядами.
Алькандр уносит Дрюмона, бережно завёрнутого в газету; ему нравится, что его допустили к тайнам буржуазии. Он, как и многие аристократы Империи, находит повод для гордости в «капле своей еврейской крови» (банкир Сигисбер II финансировал союзнические акты), и пусть это капля в море, всё равно — какая пикантность — можно воображать себя сообщником вёрткой тайной группировки, которая под покровом истории ослабляет сети, терпеливо сплетённые поколениями буржуа. Ему также нравится, что эти ясные и чёткие умы в свою очередь тоже ощущают присутствие таинства в повседневной жизни, но пытаются изгнать его, избавиться, воображая ночную изнанку бытия, где под сенью разума свободно действуют механизмы сновидений — ничтожные, впрочем, с точки зрения серьёзности событий.
В течение нескольких месяцев он будет чередовать свои математические штудии с изучением алгебраических парадигм по старым грамматикам, за которыми библиотекарь отправляется к зарешёченным этажеркам под самым потолком, покрытым пылью, которая пахнет учёностью. Затем он начнёт глотать Иосифа Флавия, «Мишну»[17] и «Протоколы сионских мудрецов»; и однажды будет слегка обескуражен, когда их изучение даст ему повод презреть наивность дяди, чьи иллюзии он был бы не против разделить; зато подобно коварным поворотам, которые возникают на его пути во время прогулок по бокажу и ведут туда, куда он не шёл, но, сам того не зная, как раз хотел прийти, ему встретились книги, которые отныне он предпочтёт всем другим: «Вечный Жид»[18] и «Этика» Спинозы.
Ле Мерзон, поглощённый учёбой, считает, что Алькандр всё чаще и чаще несёт бред; даже истории с противоположным полом, спасительная соломинка угасающей дружбы, не смогут их примирить. У Ле Мерзона отвратительная манера употреблять глаголы «чпокаться» и «кувыркаться»: произнося их, он приводит в движение две тонкие мышцы, расположенные у крыльев носа, и складки губ, невидимые в обычной жизни, единственное назначение которых — оживать при упоминании особ, с которыми «кувыркаются» и «чпокаются», поскольку единственное назначение самих этих особ, невидимых большую часть времени, словно они растворены в обстановке, — периодически оживлять суровое и целеустремлённое существование.
16
Разумное дитя, молодой интеллектуал с задумчивым взглядом, вы были отрадой учителей. Расставшись с формой, вы снова влезли в короткие штанишки; они оказались вам в самый раз. Вы отпустили густую каштановую шевелюру; любовались собой в зеркалах; оставалось только написать какой-нибудь сонет, посвящённый гласным[19]. В том-то и дело! Вы тогда следовали классике, и ваш врождённый конформизм уступал только вашей же нетерпимости. Едва поступив в лицей и впитав некоторые основы греческого и латыни, вы всей душой восстали против того, что до сих пор пестовали и перед чем преклонялись! В беспорядке Виллы вы обустроили для своих экзерсисов на прилежание маленькую клетушку, где наши поэты оказались задвинутыми на этажерке во второй ряд. К своим тетрадям вы были не более снисходительны. По-французски вы говорили лучше нас или, по крайней мере, намного выразительнее. Французская литература, а точнее, пласт этой литературы от Малерба до Мари-Жозефа Шенье[20]изжил грубые отрыжки негармоничного варварского языка. Вы безапелляционно заявили — до сих пор помню ваш сдавленный голос: вы всё же понимали, что это чересчур, святотатство, — будто со времён античности за пределами страны, где вы как будто случайно оказались, не написано ничего хорошего; и, окарикатурив постулат, милый предрассудкам ваших профессоров, добавили, что и в этой стране литература остановилась ровно в тысяча восемьсот первом году.
Но при этом, хотели вы того или нет, вы по-прежнему оставались одним из нас. Вы утверждали, что наш буйный нрав может пойти на пользу гражданскому делу; от Большой смуты у нас у всех осталась рана, и вы восхищались историей, в которой, в отличие от нашей, искусство долго путали с порядком; а то, что основа этого порядка была вам глубоко чужда, вы предпочитали не видеть. Вы любили порядок как таковой с необузданной страстью: не саму мысль, а торжественность синтаксиса, не стихотворную строку, а александрийскую форму.
Впрочем, несмотря на то, с каким пылом были приняты вами новые воззрения, снисхождение вы всё же заслужили, ведь часто в этих строгих рамках вы невольно возвращались к явлениям двойственным, почти из ряда вон выходящим и оттого ещё более привлекательным: это были некоторые чуть шероховатые стихотворения Корнеля, разливающаяся сладость «Астреи», по страницам которой медленно течёт Линьон[21], а ещё у строгого поэта, определённо ценимого вами выше всех, есть несколько вычурные строки, как будто про бокаж:
«… и шафраном покрылось поле, занесённым зарёю с моря»[22].17
О ваших собственных писаниях я не говорю; знаю, однако, что вы и теперь, бывает, с умилением перечитываете напыщенные оды и категоричные максимы, хоть и коробит вас порой какая-нибудь орфографическая ошибка: вы старательно переписывали всё это в пятнадцать лет круглым детским почерком, в котором, впрочем, уже проявилось подражание семнадцатому веку. Но вы хотя бы писали мало; поток слов, лившийся из вас в Крепости, превратился в долинах Вира[23] в безмятежно журчащий ручей. И, как едва укоренившийся саженец, вы изо всех сил стали впитывать чужеземные соки и соли, буравить корнями новую почву; на полях незавершённых текстов вы помечали в характерной менторской манере: «отложено до вызревания»; вы отказывались от грандиозных планов; как раз в это время проявилась ваша склонность к бережливости и выжиданию. Вы ждали тайного знака, внутреннего толчка, который сообщил бы вам, что наполнение завершено, что теперь можно пользоваться скопленными богатствами. Одно оставалось в вас неизменным в этот неспешный и неоднозначный период, когда ломается голос и начинается новый круг, — вы точно знали: какую форму ни обретёт ваше цветение, каким ни окажется на вкус тот плод, который вам предначертано принести в мир, это цветение, это плодоношение обетованное осуществится в слове. В те далёкие годы вы вовсе не думали о том, какими будут ваши романы; но рождение в будущем того, что тогда являлось вам только в виде аморфного скопления неясных ритмов, фонем и метафор, уже было определено провиденциальной неизбежностью.
Почтительно ожидая встречи с незнакомцем, который должен был из вас появиться, вы держали себя в узде, откладывали незавершённые фрагменты и наброски из опасения, что излишняя поспешность превратит в осколки неведомый лик, или же он предстанет в пелене, растушёвывающей его черты. Конечно, в этом, судя по всему, недоставало главного: ведь на самом деле вам нечего было сказать; отсюда и подражания, переводы, парафразы. Но, наивно говоря об отсутствии глубинной основы, вы и не замечали, что её создавали и вызывали к жизни как раз нюансы вашего стиля, и она вот-вот готовилась выйти на поверхность, как таинственное тело, для которого ваши слова стали бы одновременно оболочкой и осязаемой плотью.
18
А вы тем временем валялись на лугу, прихватив с собой Вергилия. Низкий горизонт, который вы себе оставили, был обрамлён травами и листвой. Они слабо колыхались на лёгком ветру, и до самой дальней точки перспективы накладывались друг на друга планы различной глубины и разнообразные оттенки их зелёного колера. Так же смешиваются прозрачные планы стихотворения — фрагменты пространства и времени, битвы и бури, воспоминания и пророчества, уносящиеся в недостижимые дали и легендарные эпохи, скульптурные армии и картины, возникающие на их месте: сначала они соразмерны масштабам повествования, деталями которого стали, а потом постепенно меняют пропорции, приближаются подобно некоторым планам в кино и в свою очередь обнаруживают в себе множество нюансов, накладываются на контекст и захватывают всю протяжённость настоящего. Преображая реальность, открывая внутри вас новые перспективы, в которых Большая смута и изгнание наконец стали зримыми, хотя до этого были всего лишь мёртвым и скорбным грузом, миф, таящийся в немой части вашего существа, как будто неровное отражение, эхо, дрожащий струящийся горизонт, в свою очередь продолжался в других, ещё не оформленных мифах из великой поэмы, которая, выплеснувшись из поэмы Вергилия, силится через вас обрести жизнь. Что за Рим собирались мы основать, в каком из этих неуловимых миров, которые надвигаются один на другой, как изгороди бокажа, и друг за другом прячутся? Вы любите наблюдать за собой со стороны — отчего же не отрешились от самого себя, не улыбнулись при виде безыскусного и старомодного типажа, который вы собой являете, когда с книгой, в коротких штанах учите декламировать гекзаметром славок и синиц? Впрочем, вы были пленником этого многослойного мира между бесконечно повторяющимися горизонтами; гекзаметр съёживался в клубок или обретал размах, как войско перед битвой, как волны грозного моря; а большие прозрачные прилагательные — immanis, ingens[24] — возводили вокруг вас пустое магическое пространство, дополнявшее это опустошённое время и тишину войны, и вы чувствовали, как от напряжённого ожидания смутное эхо пробуждается у вас в груди. Вы ещё не знали, что напишете сумбурную, путаную «Энеиду», лишённую кульминации и финала; но, придумывая невозможное будущее, видимость которого, словно в игре зеркал, в зигзагах плавания по Средиземноморью, прерываемого бурями и боями, переносила вас к истокам, вы, сами того не ведая, возвращались к Империи и к нашей клятве.
19
История этих старинных краёв, если окинуть её взглядом, кажется, сталкивает целые династии, поскольку соседство и взаимные претензии на земли, поколениями вожделенные одной и другой стороной, и блистательные баталии, воспетые в эпопее, не позволяют иначе представить их отношения, хотя на самом деле, присмотревшись, видишь, что были у них и периоды сближения, соединения в комбинациях династических браков, о которых договаривались в расчёте на наследство, когда один из народов ослабевал, поредев из-за войны или эпидемии, но главным образом, потому что не бывает мало-мальски длительного соперничества, в котором ненависть не подпитывалась бы тайным восхищением; точно так же обитатели Виллы и хижины Лафлёра, обмениваясь мирными предложениями, постепенно забывая оскорбления и откладывая в долгий ящик претензии, устраивают временную передышку в своих распрях и войнах. Счастливые для одной из сторон и несчастливые для другой события незаметно подорвали равновесие сил: оказавшись обладательницей небольшого богатства, присланного из Парижа Обществом попечения сирот с внезапной щедростью, приступы которой так же непредсказуемы, как и размах, и вычтя некоторые долги, которые стоило вернуть хозяевам лавок, предвидя новые, более крупные долги, которые так легко уже не вернёшь, Сенатриса может теперь возлюбить свой ревматизм и нанять служанку; семья Лафлёр, со своей стороны, осталась без старшего сына, которого Республика призвала на поселение не то в казарму, не то в камеру; и стараниями бакалейщицы, которая взялась быть парламентёром в этом деле, Лафлёрша теперь каждый день добавляет беспорядка на Вилле.
Таков уж нрав Сенатрисы — властный, но благородный по отношению к тем, кто признаёт её власть, да и Лафлёры определённо отличаются стадностью, а точнее, свойственным всем членам семьи умением растворяться среди своих, становясь бесформенной и радушной массой, и напоказ предъявлять только общее, обезличенное лицо клана; в результате Лафлёрша проникает на Виллу не одна: мальцов не оставишь без присмотра — вот один предлог, да и связь между хижиной и Виллой поддерживать надо, и как не соблазниться супами, которыми Сенатриса щедро ублажает аппетиты; и появляются самые маленькие и самые прожорливые Лафлёры, которых Сенатриса окрестит «двумя опарышами», затем девочки — Роза, Резеда, Бузина — «друг-за-дружкой-хохотушки», а иногда, на время просохнув и пыхтя от расшаркиваний, сам Старьёвщик со своим беспородным псом.
Так устанавливаются сюзеренитет Виллы над хижиной и церемонная система обмена любезностями и дарами. «Два опарыша» с позволения Сенатрисы уминают порой всю провизию на неделю вперёд, но Старьёвщица, со своей стороны, тащит корзину овощей, а Старьёвщик преподносит кролика, набраконьерствовавшись в карьере. Лишь в одном случае, словно подтверждая, что перемирие это хрупкое и формально все претензии в силе, обоюдная щедрость уступает место строгой взаимности интересов: как два филателиста, один из которых собирает только «британские колонии», а другой — «Австро-Венгрию», Сенатриса и Старьёвщик обмениваются баш-на-баш находками со свалки, и каждый учитывает интерес, который представляет вещь для партнёра, и ценность того, что обещано взамен.
Как ветвь за открытым окном, отяжелевшая от соков и почек, сообщает мебели в гостиной, что пришла весна, так на Вилле появляется Резеда Лафлёр, маленькая розовощёкая насмешница, чьи серые глаза так ярко блестят; она отводит взгляд, когда смущается, или прыскает со смеху (каждый раз, когда ей говорят «мадемуазель», и едва завидев Сенатрису); груди у неё сочные, а на руках-кругляшах весело цветут веснушки. Искусство прятать барашков из пыли под наспех застеленными кроватями, в котором она превзошла мать, и деревенский запах прогорклого топлёного сала и кроличьей шкурки, из комнаты в комнату тянущийся по пятам за Резедой и её веником, — ещё полбеды по сравнению с её идиотскими смешками, манерой вдруг пожимать плечами и отворачиваться, беспричинной весёлостью, в любой момент рвущейся из неё; всё это вызывает у Сенатрисы тайное раздражение, которое в её обращении с маленькой старьёвщицей оборачивается наицеремоннейшей вежливостью.
Но Алькандру не даёт покоя совсем другое; некоторое время он это скрывал, погружаясь в книги, в уравнения; насмехаясь над самим собой, изучал в зеркалах, чем может польстить ему отражение, и теперь, определив, что каштановая шевелюра, в которой есть что-то дикарское, мечтательно-меланхоличный взгляд и сильные плечи, возможно, дают ему некоторые козыри, он решается ответить на кудахтанье Резеды, которая при нём притихает, и, по правде говоря, у него уже нет ни времени, ни желания подумать, а потому, едва он осторожно обхватывает её рукой и приобнимает за талию, Резеда, прильнув к его груди, жадно целует его в губы и за мочкой уха; Алькандру только и остаётся повернуть ключ, чтобы не ворвалась вдруг Сенатриса, и повалить наследницу врагов на мятую постель, где она как раз меняла бельё.
Словам, которые произносит Алькандр, вторит глухое кудахтанье в подушку; он без сожаления забывает о речах и купается в этой музыке без слов, в животной радости, которая раскрепощает мысли, или, по крайней мере, когда Резеда уходит, не даёт ему в одиночестве удивляться собственной наготе. Лаская друг друга, они со смехом ведут единственно подходящий для их свиданий диалог — играют в «самолётик», когда один лежит на другом, вытянув руки в стороны, и оба делают «др-р-р-р», глядя друг другу в глаза, счастливые оттого, что нечто ребяческое и такое воздушное позволяет сбросить тягостный балласт молчаливого союза. И всё же, когда приходит время расставаться, когда, отвернувшись, Алькандр смотрит вниз, на сиреневые трусики, которые бросила на половик его подруга, он чувствует, как из глубин сладострастного упокоения в нём поднимается волной и словно овеществляется в животном запахе Резеды смутная удушающая грусть; прикрыв ненадолго веки, он видит, как перед ним парит — так же, как некогда парил в Крепости, во мраке и смраде нужника — неясный и неотступный образ Мероэ. Затем он открывает глаза, и его взгляд медленно скользит вверх, вдоль такого же спокойного и грациозно выгнутого в полудрёме тела юной врагини, добираясь до веснушек на лице, до чуть сальных от кожного жира корней волос.
20
Резеда уходит — бывает, что Алькандр при этом встаёт у окна и смотрит, как она удаляется по тенистой дороге, ведущей к карьеру, смотрит, как в просветах изгороди озаряется солнечным лучом её шевелюра, — и когда Резеда уходит, молча, почти не улыбаясь, и даже раньше, не успев выйти, она отдаляется от Алькандра, не видит его, пухлые губы шевелятся и что-то неслышно и озабоченно шепчут; и она считает, указательным пальцем по одному засовывая в карман сантимы, оставленные Сенатрисой на столике в награду за работу по дому, результат которой с каждым днём всё менее заметен; и когда Резеда уходит, Алькандр, оставшись один, винит её за независимость и неблагодарность. Разве это обладание, коль скоро для него определено время, отмеренное властью обстоятельств и условностей, которые он не в силах подчинить? А в те минуты, когда Резеда принадлежит ему, в полной ли мере она ему отдана, если у него нет гарантии вечной и полной её самоотрешённости, и он не может призвать или прогнать её своей властью, как поступает с призраком? Алькандр плохо помнит прислугу, окружавшую его в раннем детстве, но таит злобу на кормилиц и нянюшек, которые непонятно почему бросали его, уступая место незнакомым особам: сначала обхаживали, изображали обожание, а потом смеялись над его любовью и пользовались его привязанностью. Разве возможна любовь в раздрае демократии?
Резеда свободна, она личность и пользуется, как принято выражаться, равенством — значит, по аналогии с отдельными законами физики, между нею и им не может быть движения, притяжения, тока. В мире индивидуумов, где всякая иерархия упразднена, нивелировались и те отлоги, по которым от одного существа к другому текли потоки страсти; теперь каждому осталось замкнуться в себе и недвижно наслаждаться отвратительным зрелищем чужого удовольствия.
И всё же бывают с Резедой те восхитительные мгновения, когда от неё остаётся только отрешённая плоть, когда её разрушительная свобода тонет в бессознательности, когда она отдаётся исступлению Алькандра с нежной доверительностью рабыни, в безудержном и свободном полёте фантазии; но именно из-за сущностного противоречия, заложенного в самой сердцевине чувственного удовольствия, но в то же время позволяющего удовольствию достичь апогея, Алькандру не удаётся овладеть и насытиться этими мгновениями восхищённого раболепия; ведь при осаде её беззащитного тела, тяжёлой обезличенной материи, единственным оружием, которое доступно Алькандру, кроме самозабвения и такой же отрешённости собственной плоти, остаётся легковесное оружие воображения. И в минуты, когда тело Резеды обретает свойства сгущающейся тучи и остаётся как есть, без прикрас, воображение Алькандра, проявляя свою болезненную подвижность, растворяет его, лишает материальности и в результате овладевает одним из им же созданных образов или, вернее сказать, той самой тучей.
Или же, представляя в других красках этот невыразимый конфликт, который делает двойственным, но в то же время возбуждает желание Алькандра, придётся сказать, что нежность и презрение, две разделённые составляющие любви, отчаянно устремляются навстречу друг другу и никак не могут соединиться; как в «магическом глазе» некоторых старых радиоприёмников — две светящиеся зелёные капли, которые, соединяясь или сливаясь в одну, заполняют глазок и показывают, что звук вдруг стал насыщенным, но под бессильный кашель далёкого передатчика могут посылать друг другу только мерцающие вспышки, которые, соприкоснувшись, разлетаются и гаснут.
Алькандр думает о цельных и чистых временах рабства, о простом счастье своего предка (деда Сенатора), вдовца, который, отслужив государству, удалился в свои земли и в отдохновении от придворных нарядов, от парижской кухни и манер обрёл корни в родном краю, в своём деревенском гареме: дюжина служанок, шустрых хохотушек, тёрла ему спину в чане с кипящей водой — такие чаны крестьяне Империи использовали для омовений; высокими гортанными голосами служанки хором пели игривые народные песни, в простоте которых было столько мощи! В цветастых платьях, придававших им вид застывших бабочек, сверкая бусами из золота — его подарками за труды, они пили с ним свекольную водку, которую хлещут извозчики в сельских тавернах, и от неё ярко окрашивались их щёки, они болтали глупости и, пытаясь прикрыть их бисерными смешками, подносили ко рту кулачок, словно загораживая путь новым непристойностям. Как чисты были их стенания и слёзы, когда они убили его одной пьяной ночью; они старательно омыли его большое опухшее тело, умерщвлённое ударами кочерги, порванное юными каннибальскими зубками; в деревенской церкви, где по обычаю Империи выставили открытый гроб, священник повёл речь о ретивом коне; а они выли и хулили себя, били кулаками в грудь и валялись, распластавшись, у подножия гроба; некоторые были дочерьми покойного от предыдущих сенных девок. Среди свечей и полевых цветов синюшное лицо барина дышало радостью; в бакенбардах местами запеклись сгустки крови; рядом с ним положили чёрную треуголку и шпагу, инкрустированную бриллиантами, которую император даровал ему за то, что тот подписал кое-какие бумаги.
— О чём ты думаешь? — по обычаю спрашивает Резеда.
— О смерти моего прадедушки.
Алькандр вновь закрывает глаза и продолжает вдыхать ощутимый на плече и затылке Резеды сладкий челядинный аромат.
21
В прилегающий к оранжерее сарай для инструментов Алькандр втихую перетащил пружинный матрац; там гуляют сквозняки и солнечные лучи, а со стороны Виллы постройка защищена колючими джунглями, где редкие растения, вернувшиеся после отъезда садовника в дикое состояние, смешались с крапивой и сорняками, типичными для этих мест. Небольшая дверь, ведущая в оранжерею, через которую Алькандр вынужден входить согнувшись, запирается на ржавую задвижку. В стене, вдоль которой пролегла дорога к карьеру, Алькандр выдолбил два камня для Резеды, и она появляется с дальней стороны сада, чтобы не пользоваться калиткой. Когда её смеющееся лицо возникает в бреши, обрамлённой лоснящимся, почти чёрным плющом, Алькандр протягивает ей руку — и вот единственный рискованный миг: ухватившись за него, она отпущенной пружиной ловко устремляется вверх, заносит на край стены правую ногу, встаёт, слегка наклонив корпус вперёд, а затем спрыгивает в сад, и лёгкий страх ещё сдерживает сумасшедший смех, которым она разразится в объятиях Алькандра.
Время, влага и растения делали своё дело в этом тесном пространстве, сколько бы ни обновлялась штукатурка, и с помощью капризных морских ветров, рвущихся в разбитые форточки, и косых лучей, отражённых в осколках стекла, а ещё растений, упрямо прорастающих в зазорах плохо подогнанной плитки, превратили его в уцелевший после крушения обломок древнего рая; кое-какая ржавая утварь, которую сарай хранит по своему изначальному назначению, напоминает о достославной простоте, окружавшей первых Садовников. Плющ, которым украшен потолок, распространяет сухой горький аромат; над гипсом в разное время года трудилась вода, и теперь на стенах искрятся хрупкие кристаллики плесени.
На импровизированном диване, который Алькандр соорудил среди растений, тело Резеды доступно для созерцания: одежда сорвана против её воли (сама она предпочитает раздеваться выборочно — так практичнее), но без особого сопротивления. Теснота хижины принуждает их к постоянной близости, поскольку, обнажившись, они уже не решаются встать и показаться в небольшом окне, так что Алькандр видит теперь не всё тело своей подруги, но каждый раз какой-нибудь его фрагмент — торс, бёдра, затылок и плечи, — оживающие в волнообразном движении, и нецелостность делает их похожими на абстрактные арабески в непривычной убегающей перспективе и неожиданных ракурсах. Вот почему вместо осмысленного разглядывания он занят этим бесконечным процессом — исследованием Резеды с помощью слепых и утончённых чувств — осязания и обоняния.
То дрожа от нетерпения, то умиротворившись и упиваясь наслаждением от самой неспешности ласки, Алькандр понемногу выстраивает в памяти подробную карту этого тайного континента, накладывая нюанс за нюансом — от ощущения шелковистой холодной гибкости к оттенку снятого молока на фрагменте плоти, которую придавливают его пальцы, или к немного едкому вкусу, собранному у неё на губах, чтобы в конце концов получилось воображаемое нагромождение любимых мест, которые никакой перспективой не соединить в цельную картину: как на тех старинных картах, где обилие конкретных деталей — расположенных рядом, непропорционально, без учёта расстояний, да ещё приукрашенных поэтическими гипотезами и подробностями, позаимствованными у вымысла, так же, как Алькандр приукрасил географию тела своей подруги, — позволяет современному путешественнику распознать лишь символическую композицию, своего рода герб, рассказывающий о стране, которую он посетил.
Сначала дремлющая и зевающая Резеда притворно сопротивляется такому исследованию, заставляя Алькандра не рассусоливать и переходить к делу, но в конце концов уступает, как уступает во всём, если на неё надавить, и чтобы возразить Алькандру, при этом всё сильнее распаляя его, ей остаётся только самозабвенная томность. Не сказать, что она невосприимчива к удовольствию, да и зачем приходить ей на эти свидания, если не ради мгновений придыхания и «трудов», когда судорожно сжимаются и становятся немного пугающими её черты? Но поскольку удовольствие сосредоточено для неё именно в этих мгновениях, то единение, переходы, ожидания, прелюдии и отдохновения, которые Алькандр наполняет столь стремительными и волнующими образами и переживаниями, она воспринимает как бессмысленную и обременительную трату времени. Поэтому она изредка упирается — от скуки, а не из стыдливости; ведь именно безразличие Резеды к обольщению, проявленное в её теле, из которого она не делает тайны, не даёт ей понять, в чём интерес открытий Алькандра; зато Резеда восполняет отсутствие стыдливости обострённым чувством уважения к личности, которое распространяется исключительно на членов её племени, хотя опирается на условную систему, в грубой и трезвой логике которой Алькандру нелегко будет разобраться: если у Лафлёров и правда принято, чтобы девки «гуляли», то это не значит, что мужская половина, хранители чести, не должны награждать их за хождение «на сторону» тумаками; одно настолько связано с другим, что малышку Бузину, на которую пали самые гнусные подозрения, поскольку она не торопилась пускаться во все тяжкие, яростно поколотили в тот день, когда она принесла первый «подарочек»; с самими «подарочками», обязательным атрибутом удовольствия, тоже обращение неоднозначное, хотя принимаются они как нечто само собой разумеющееся; нужно, конечно, спрятать их от мужской половины, иначе отберут и продадут, но и предъявить тоже следует: это спасало Лафлёрш от позорных предположений, будто они позволили себя облапошить, а ещё, если повезёт, отчасти украшало их достоинствами, которые выделяют в обществе личность дарителя. Алькандр будет покрывать поцелуями синяки и кровоподтёки, которые с гордостью показывает ему Резеда, ведь ими она обязана ценной броши — Сенатриса так и не сможет объяснить, куда та подевалась, а значит, жадность и честь братьев Резеды были удовлетворены.
Хотя Алькандру нелегко «повторить подарочек», он испытывает блаженство, обшаривая ящики Усопшей и заброшенные уголки Виллы ради Резеды, даже если большинство сокровищ, которые он принесёт, она отвергнет, назвав «старьём», которое стыдно показать племени; неприятно, конечно, что безразличная к нежности Резеда судит о его любви, только соотнося её с украшениями, которые Роза, старшая сестра, вытягивает из кузнеца, зато Алькандр видит в этом сравнении начало отношений, признание хотя бы потенциальной роли, которая может быть отведена ему в общественной системе клана Лафлёров, а значит, в воображении Резеды.
Между тем он всё чаще вынужден приходить на свидания с пустыми руками, однако, даже тогда не замечает, чтобы нетерпение нарушало покорную томность Резеды; не уставая требовать от него всё, что положено, по её представлениям, Резеда не намерена подталкивать падающего, не пытается каким-нибудь образом его шантажировать; любовь и тумаки она принимает одинаково: как трава пробивается между двумя плитками в сарае и тянется к дневному свету, хотя природой ей не дано даже на миллиметр изменить неудобное место, где гнездится ветер, так же и Резеде не пришло бы в голову изменить свою судьбу — до того дня, конечно, когда более сильная рука, более властная нота в голосе не оборвут эти свидания, и тогда она уйдёт так же молча, невозмутимо приняв то, что не планировала и не предусматривала.
Шипы стыдливости и кокетства утрачены, и доступность притупляет желание Алькандра; постепенно всё приходит к тому, что от удовольствия, которое он черпает в обладании Резедой, не остаётся и следа, пока тянутся часы ожидания и воспоминаний. Развалившись на диване в сарае, он устраивает «отдых набоба»[25]; окружающие его растения создают невнятный рисунок персидского ковра; Резеда, неосязаемая, сладострастно вписанная памятью в освещённое пространство, где воображение нарисовало карту её тела, отражается в сверкающих осколках стекла и украшается букетами и гирляндами из райского сада, пробуждая желание — едва уловимое и полное нежности, пока шорох плюща, стук упавшего камня, учащённое от бега дыхание не сообщат, что явилась настоящая Резеда; нежный образ отдаляется, развеивается, улетучивается под буйным натиском стойких ароматов реальности. Столкнувшись с грубо-первозданным явлением, заслонившим ему весь вид, Алькандр тщетными усилиями попытается растворить в текучести образов эту непроницаемую безвольную массу; закрыв глаза, он будет призывать венценосную Еву, которая только что была здесь, вновь спуститься в его объятия. Но гармонию, которую фантазии поначалу удавалось внести в его чувственные впечатления, силой не вернуть; и перед закрытыми глазами Алькандра проносятся лишь устрашающие образы, возникшие из прикосновения к потной коже, из ощущения телесной тяжести на затёкшей руке и удушливого, полусдобного запаха брильянтина. Тогда, закрыв глаза, Алькандр станет призывать из темноты Мероэ, нимфу небытия: ему хотелось бы усилием безудержной воли и пылкой души соединить в одной настоящей любви разобщённые порывы сладострастия и поклонения; но перед ним, фрагментами возникая из мрака, является неверный и кощунственный образ Мероэ во плоти, от которого он с отвращением отворачивается, чтобы не очароваться коварным и обольстительным взглядом. Алькандру не удалось вселить душу в простоту и томность Резеды, и он плачет оттого, что смог облечь чистоту небытия Мероэ только в похотливую гнусную плоть. В тот день, покорившись гневу, всплески которого ещё как будто слышатся у него за спиной, понурый Алькандр покидает объятия Резеды и потемневший сад их свиданий.
22
В полночных сумерках, бесстыдно разрывая тишину, в которую кутаются тесные улицы и запертые дома, три девицы Лафлёр решительным шагом спускаются к окраине. Субботним вечером от выхода из кинозала на Гран-рю до паперти собора недолгое бурление: поток зрителей разносит обрывки кадров как закваску, на которой будут взрастать их сны.
Но если дочки старьёвщика — Роза, которая живёт с кузнецом, Бузина по прозвищу В-задке́-пищалка (воспитанная, кстати, монашками) и младшенькая, дурочка Резеда, которую считают самой порочной, — умудрились сберечь для субботнего вечера несколько монет и вышли прогуляться девичьим междусобойчиком, они обязательно что-нибудь отчебучат и при их-то славе ещё больше опозорятся.
Уже во время сеанса Алькандр, как заколдованный, то и дело поглядывал в тёмный угол, откуда доносилось их кудахтанье и непристойные фразочки; теперь, стоя в воротах на крутой каменистой улице, которая спускается к окраине, он смотрит, как они приближаются, держась за руки и размахивая ими высоко над головой, пинают камушки, запуская их в сторону тротуара и домов, и хором выкрикивают ответы на единственный вопрос Бузины, которая во всё горло орёт:
— Что за вонь?
— Идёт козёл.
— Что за вонь?
— Идёт…
Так, ритуальным маршем, который изредка нарушается яростным стуком ставен или беспомощным возмущением спящего, вышагивают под это ночное негодование наши образчики естественной истории.
Они несут с собой «благую весть» в маленькие окраинные кафе, где под рюмку или остроумное словцо всегда подберётся компания, а иногда встретится какой-нибудь пьяный крестьянин, решивший после базарного дня пошататься по городу с кошельком, ещё пухлым от деньжат, вырученных за свинью.
Алькандра, спрятавшегося в тени, сковало от болезненного желания; сначала он связывает свою ревность с обстановкой полутёмного кафе, с мужланами, которые будут смешить Резеду, с их недвусмысленным рукоблудием, на которое она тут же откликнется, хотя от его ласк даже не шевелилась; но скоро Алькандр поймёт, что на самом деле, подобно грустной музыке, эта болезненная и одновременно зачаровывающая ревность относится не к персонажам или обстоятельствам из жизни Резеды, но к её жизни как таковой, к её независимости, к тому, что вне пунктирных появлений, начало и конец которых зависит от него, Резеда сохраняет способность материализоваться наперекор силе его грёз, и этой ночью как раз доказала бесплодность его усилий, когда, не видя его, позволила застать себя с поличным в реальности.
23
Розовый куст на могиле Любезной Покойницы, который Сенатриса посадила по осени, украсился двумя багровыми цветками. Маленькое больничное кладбище, погост бедняков и актёров, впитало своими камнями и зеленью весь жар июльского солнца; мерцают кремнием освещённые дорожки. Растительность, распустившись, вливает свои запахи в неуловимый аромат душ. Сквозь стрекот сверчка и жужжание пчелы медленно улетают вверх нежные-нежные звуки скрипки.
Сидя на краю надгробия, опершись рукой о лейку, Сенатриса вбирает зной. Как растение раскрывает солнцу свои листья и под ласками лучей расточает драгоценный аромат, обнажая своё существо, так же и Сенатриса, разбитая после ходьбы, прополки и поливки, даёт зною пропитать свои старые кости и будто аурой, обволакивающей её неподвижную фигуру, окружает себя флёром медленно струящихся мыслей о жизни, к границам которой она здесь прикоснулась.
Благодетельницу положили в могилу и высекли вполне прозаичное имя, которое оставалось за ней только в актах гражданского состояния; а ещё две даты, тире между которыми стремится преодолеть бездну любви и музыки, стискивают её смертное существо безжалостнее, чем стенки гроба. И всё же она вырвалась из этой нелепой ямы, восторжествовав над печальной конечностью вещей, она повсюду в этом саду — парит в благоухании роз и беседует с Сенатрисой голосом подземельных гармоний. Нет нужды в уязвляющей выверенности слов; вполне достаточно передавать друг другу по воздуху неуловимую пыльцу, которую выделяют две бессмертных души, когда июльское солнце заставляет их раскрыться перед неизвестностью. Нет между ними никакого расстояния; и близкая дата, выбранная, чтобы обозначить Любезной Покойнице срок окончательного ухода, если, конечно, следует отмечать датами фундаментальные деяния вечности, разве не стала днём Благодеяния с большой буквы, а посему, разве не в тот день, покинув потаённый мир, лежащий в границах небытия, Усопшая преобразила совершённый грех, озарила прошлое новым смыслом и с этого момента заняла действительное место в беспорочной ткани бытия? Поэтому в тайном порядке, незримо задающем очерёдность явлений Вечности, последняя дата назло всем актам гражданского состояния должна предшествовать той, которая якобы определяет её появление на свет; ведь год, указанный первым, оставил Сенатрисе феерические воспоминания: ей было пятнадцать, и она была без ума от садовника в их имении, который научил её сажать розы; могло ли Провидение устроить так, чтобы она освоила это искусство, не будь Благодеяние, которому она воздала дань, воспользовавшись своим умением всего раз в жизни, отныне и вовек запечатлено на умопостигаемых небесах?
Недавно рядом с дорогой могилой вырыли свежую яму; сваленная горкой у края глина периодически сваливается на тёмное дно. Пройдёт несколько месяцев, а может, несколько дней, и Сенатриса появится в этом саду тишины, чтобы составить компанию своей незнакомой подруге; так осуществится непреложный закон, для которого суетливое время часов и календарей — лишь искажённое отражение: прошлое покойной стало будущим Сенатрисы. Полуденное солнце нещадно палит; камни и растения источают новые мысли, переливчатые и мягкие, явственно умиротворяющие.
Если будущее одной — это прошлое другой, что же есть прошлое первой со всеми скорбями, жестокостью и отчаянием? Осторожно, в едва слышных звуках скрипки, Крушение, Большая смута, Изгнание избавляются от оболочки бессмысленности и страдания и растворяются, становясь такими же невесомыми знаками, как запахи и игра света в этом саду; и уйдя от встречи с необратимостью, обретают значащую полноту, дарованную вечностью. Мистическим голосом багровой розы душа любезной Покойницы разговаривает с Сенатрисой и учит её освобождаться от времени.
24
Вдова Ле Мерзон отшатнулась при появлении гостьи; всегда такая «приличная», Сенатриса проходит в гостиную в замаранных глиной башмаках и вместо привычной сумки тащит лейку. Только на следующий день внезапно прояснится смысл, скрытый в её пугающих пророчествах и блуждающем взгляде: ведь на следующий день, предвещая беду, покинет городок походная кухня.
25
Походная кухня, поставленная под липами Поросячьего рынка, единственная напоминает Алькандру о том, что где-то война. Четыре усача, одетые в серо-голубое, хлопочут вокруг этой кухни и, очевидно, сами потребляют весь провиант, поскольку иного войскового соединения в округе нет. От крестьян на рынке причину своего пребывания здесь они скрывают; хотя смуглая кожа, тулузский или гасконский акцент вызывают подозрения у самых любопытных. Зато у этих парней есть задача: демонстрируя жителям городка главные символы войны — форму, огонь и стальные механизмы, — будить мысль, которая затушевала бы неподвижную повседневность.
Но вот зловещий гром услышали и в маленьком городке; сначала он раздавался над Норвегией, а затем и ближе. Алькандр пойдёт на бульвары смотреть, как проезжают английские солдаты; они розовощёкие и свежие, и спокойно сидят в своих новых грузовиках; раздают ароматные сигареты, которые наверняка и сами покуривают втихаря. У них есть свистки. Они возвращаются на суда, и все думают, что произошло нечто непредвиденное.
Настала эпоха радио; громкоговоритель, установленный на Гран-рю, в один и тот же час собирает группку горожан. Алькандр сопровождает мать в кафе-бакалею, где все слушают новости под звон ножей: семья бакалейщиков заканчивает ужин. Сообщения противоречивые и более чем невразумительные; заканчивается всё «Марсельезой», которую Сенатриса слушает, встав навытяжку; бакалейщики, не переставая жевать, круглыми глазами поглядывают снизу вверх на высокую неподвижную фигуру.
Великое чувство свободы захлёстывает Алькандра, когда в прозрачных сумерках летнего дня он возвращается на Виллу, держа мать под руку. Немцы прошли намного восточнее городка; и на этой территории, отрезанной от Парижа, отрезанной от всего, пусто и ни души. Значит, думает Алькандр, ночью, которая сейчас опустится на бокаж, на овраги, на шорох в изгородях и деревьях, отменятся все ограничения, наложенные светлым временем суток; и в этом избранном, чудесным образом опустевшем месте начнётся короткий, но буйный разгул героизма, ночное действо новых шуан, которые до утра сбросят ненавистные буржуазные кандалы. Подходя к Вилле, он пропускает через себя обрывки видений, наивных, затаённых с детских лет, которые, ожив на мгновение, теперь засияли по-особому: цвет формы, дым пушек, лунный свет, озаряющий засады и кавалькады.
На следующее утро походная кухня исчезла с Поросячьего рынка.
26
Прежде всего поражают их внезапно удлиннившиеся носы: шесть-семь острых взрослых носов на раскрасневшихся лицах выполняют па хореографической миниатюры — туда-сюда, как курицы клюют по зёрнышку. Жан Ле Мерзон и ещё несколько товарищей, оставшихся в городке после окончания триместра, взбудоражены грандиозными спорами. Они ходят взад-вперёд по центральной аллее общественного сада, садятся у пруда, швыряют в него камушки, не переставая говорить, снова встают и куда-то идут всей гурьбой. Рыбаки с побережья готовы доставить юных добровольцев в Англию через острова; завтра наверняка здесь будут немцы. Обсуждают, каким окажется исход войны; Алькандр, которого Ле Мерзон назвал идиотом, когда тот поделился с ним своими восторгами, слушает в стороне; он знает, что ему не позволено придавать форму тому, что его волнует. У юных парижан, которые раньше открывали рот, только когда распевали похабные песни и обсуждали экзамены, вдруг сделался серьёзный вид, и голоса стали, как у папаш.
Совсем о другом идёт разговор, пока Алькандр провожает Ле Мерзона; не смог он бросить его в этот вечер, несмотря на исключительно взрослый снисходительный тон, который внушили его товарищу обстоятельства. Они доходят до Замка, мерят шаги взад-вперёд по гравию, такому же скрипучему, как нотки в голосе Ле Мерзона при его самых резких заявлениях. Алькандр не знает, как отвечать на его суждения об исходе войны, выстроенные в логическую цепочку, как будто они решают задачку на школьном дворе. Он рассматривает «адамово яблоко» своего товарища: как набух у него кадык, — в нём явно сосредоточилась суть той ответственности, о которой он сейчас говорит. Но по-настоящему важно то, что сейчас опьяняет мысли Алькандра: ночная переправа к островам на рыбацкой лодке.
— Тебе, старина, нечего терять, — внезапно заявляет младший Ле Мерзон, — ты вполне можешь отчалить.
— А… ты?
— Я? — сейчас у Ле Мерзона тот жёсткий тон, который сохранится до конца жизни. — А что я? У меня экзамены и… — широким жестом рука обводит луга, простирающиеся до фермы, скрипучие садовые аллеи, покрытый глициниями фасад — … ну да, это всё надо сберечь.
Опускается ночь; маленькие глазки теперь стали цвета глициний; кончик носа в бледно-розовых прожилках окончательно принял форму, характерную для зрелого возраста.
27
Сенатриса вытащила валета треф. Проходя вдоль портала Виллы, Алькандр видит у входа высокую фигуру: кто-то церемонно целует ручку; монокль на конце шнура гротескно вторит движению тела.
Чтобы добраться из Парижа, барон де Н. воспользовался всеми средствами передвижения; последние этапы пути были проделаны пешком, бодрым гренадерским шагом. Добрую часть ночи в полутьме большой студии он будет рассказывать, как воевал в Норвегии; лёжа на животе рядом с ножками его кресла и подперев руками подбородок, Мнесфей, у которого горят глаза, умоляет взять его в Англию.
— Слушайте, мой лейтенант, — перебивает Алькандр, который приготовил кофе на кухне, — это ведь не наша война.
Он продолжает разговор, который начал с самим собой.
— Своей войны у нас больше не будет, — отвечает барон. — Пора сказать своё слово в войнах, которые ведут буржуа. Конечно, если мы этого хотим. Каждый из нас по-своему может исполнить клятву. Я не привык марать бумагу…
28
Вы опустили глаза, Кретей.
29
— Мы поклялись никакое дело не защищать, так ведь?
Алькандр не отступает, он колеблется, хочет себя убедить.
— Речь не о том, чтобы отдавать всего себя. Я даже советую вам воздержаться, если вы испытываете хоть малейшее сочувствие к одной из сторон; не нам умножать жестокость этой партизанской борьбы. Вас, Алькандр, я прошу только обеспечить нам переправу.
Алькандру приходится несколько раз выходить, чтобы сварить кофе; затем он сворачивается в клубок на стуле, притворяется, будто дремлет, и вскоре действительно начинает дремать. Проблески молочного света возникают среди чёрных силуэтов сада, когда он открывает глаза. Барон, вопреки своему обычаю, оказался словоохотлив. Обычно он резок и уверен в себе, но сегодня вопросы Алькандра, кажется, его смутили; он решил объясниться и оправдаться. Вот что осталось от этого рассказа, который Алькандр, устроившись на стуле, отрывочно слышал сквозь сон и воссоздал не без помощи воображения.
30
— Невозможно упрекнуть меня в том, будто я любил что-то иное, кроме долга, — сказал барон. — Хотя… так и есть, ведь долг не требовал страсти, только убеждённости. Однако, думаю, я испытал прилив нежности, когда то во мне, что обыватели назвали бы холодностью или жестокостью, достигло апогея.
Путь нашего отступления пролегал через Нижнеземье. Нам предстояло взорвать все мосты, уничтожить редкие склады с продовольствием. О боях не могло быть и речи: отовсюду лезла всякая сволочь, мы бы увязли, нас задавили бы числом. Большее, на что мы надеялись, это задержать возникновение банд, в которых начинали верховодить эмиссары, прибывшие из столицы; это облегчило бы перегруппировку у границы остатков армии и бегство эрцгерцога за границу. Миссия, презренная для солдата.
Странный край это Нижнеземье: несколько прямых размытых грязью дорог соединяют три гарнизонных города — это всё, что нам было известно; штабные карты чертили ленивые офицеры с богатой фантазией, которые явно не отважились продвинуться вглубь территории. Стоило нам выбрать один из путей, маршрут которого они додумали, и мы тут же заблудились среди легенд и болот. Редкие деревни производили странное впечатление разрухи и упадка: казалось, что бревенчатые дома, поставленные как придётся вокруг вонючих прудов, пожираются гнилью и лишайниками. Обычно внутри оказывались онемевшие от страха старухи и полуголые дети с хилыми плечами и вздутыми животами; мальчики и девочки, бритые, чтобы не завелись вши, не сводили с нас неподвижных и бессмысленных глаз, красных от подцепленных на болотах болезней. Добавьте к этому отвратительный говор, непонятный для выходцев из центра: в результате мы так ничего и не вытянули из нескольких крестьян, которых с трудом выгнали из лесных укрытий, где они схоронились, прихватив поросят и сено, подальше как от имперцев, так и от смутьянов.
Впрочем, лес там непроходимый, крестьяне не суются дальше своих полян, боятся приставучих дриад, которыми населило край их воображение. Поговаривали, что несколько особо смелых ребят поддались на посулы игривых теней: назад они не вернулись. Так, должно быть, появились цыгане, воры, музыканты, совратители. Пруды, которых здесь больше, чем на картах, носят названия драгоценных камней: Рубин, Изумруд, Два Аметиста. Если бы не комары, прекрасные были бы места, чтобы ловить рыбу и охотиться. Мы пристрелили несколько кабанов, много петухов и вальдшнепов.
Усадеб в этом краю мало: хозяева изучали свои владения только по картам, оставляя управляющим заботы о вырубке леса, происходившей раз в год и на двенадцать месяцев обеспечивавшей им жизнь в столице. Из-за крайне нездорового болотного климата, трудностей сообщения и повсеместной тупости крестьян цивилизованная жизнь ограничивалась несколькими тавернами на больших дорогах, где обсуждались сделки по купле древесины и устраивались пирушки после большой охоты. Тем не менее мы забрались в гущу леса и оказались у мрачной средневековой постройки, которую на штабной карте обозначили как XXX, промахнувшись с местом на десять лье. Передышка нужна была уже давно, солдат измотала непонятная болезнь: двое или трое уже следовали за нами на носилках. Нас приняла единственная встретившаяся нам знать, но какая знать!
Когда, упёршись в тишину запертого на засов портала, я приказал сделать предупредительный выстрел из пушки, первой перед нами появилась фигура, напоминавшая большую жердь, — пугало в чёрном, пол которого распознавался с большим трудом. Прямой плащ с пелериной спускался до лодыжек; орлиный нос выступал между синими, почти прозрачными глазами, которые глядели властно, с вызовом; прядь седых очень тонких волос лежала поверх глубоких морщин на лбу, спрятанном под козырьком «жокейки». Особенно нас впечатлил рост; из уст этого призрака, который превосходил меня на голову, зазвучал женский голос.
Она поприветствовала нас; обитатели замка ни на минуту не сомневались, что получив известие о мятеже, охватившем маркграфство, император в память о службе их предков поспешит послать на помощь войско — и вот я его привёл. Они понятия не имели, что мятеж был всеобщим и что императора, запертого во дворце, на момент нашего разговора, возможно, уже не было в живых. Ещё больше меня поразило другое: послушать эту мужеподобную особу из прошлого, получалось, что едва переступив порог замка, мои люди переходят под её командование в силу какого-то феодального права, высокомерно ею придуманного, тогда как моя роль в лучшем случае сводилась к тому, чтобы передавать им её приказы и производить выстрелы, встав рядом с ней под стягом, на который она гордо указала мне в часовне. Что касается господина маркиза, то от его имени она устроила нам во дворе скудную, но обильно разбавленную свекольной водкой трапезу, и при этом толком даже не потрудилась объяснить его отсутствие, и я подумал, что он, должно быть, относится к тем фантастическим неуловимым персонажам, которыми кишит безумный местный фольклор. Впрочем, говорила она о нём почтительно, имя неизменно произносила вместе с титулом, добавляя вначале «господин», отчего я не сразу понял, что она сестра сюзерена-невидимки. Ей самой оборванцы-слуги, босиком сновавшие по замку, говорили просто «барышня», и я тоже решился так к ней обратиться, хоть и нелепо звучало это слово в адрес призрака, чей взгляд смеривал меня сверху вниз, а на устах были только канонады, звон сабель и повешения.
Вскоре мне начало надоедать, что меня вот так водят за нос, и я потребовал, чтобы мне продемонстрировали арсенал крепости и боеприпасы, которые могли послужить усмирению бунта. «Барышня» немного смягчилась: хоть она и не подавала виду, но, должно быть, чувствовала себя увереннее оттого, что рядом есть человек, которому военное дело знакомо не только по рыцарским романам и размышлениям возле усыпальниц предков. Но когда я увидел коллекцию охотничьих ружей и заржавелых шпаг, которые с трудом можно было поднять двумя руками, а также корабельную пушку, венецианскую или генуэзскую, которая валялась там вместе с ядрами, я высказал всё, что думал по этому поводу. И получил отменный щелчок по носу: «Император знал бы… Господин маркиз приказал бы…»
— Да где же прячется этот господин маркиз? — вспылил я. — Пусть объявится, чтобы я мог убедить его лично, а не заставляет меня обсуждать военные дела с юбкой.
Я увидел, как улыбка озарила натянутое высокомерное лицо, — робкая, полная нежности и стыдливости. Но ответ был кратким:
— Господин маркиз нездоров.
Передышка не помогла моим больным. Наоборот, эпидемия за время нашей остановки в замке распространилась ещё больше, и в довершение всех бед болезнь добралась до меня. Мы были вынуждены бездействовать, в то время как волны мятежа нарастали и уже омывали подступы к нашим непрочным укреплениям. Между приступами лихорадки я обдумывал варианты отхода. Командовать гарнизоном я не мог, но Барышня очень помогла мне в качестве офицера разведки. Вместе мы исправили штабную карту: за пятьдесят лет эта особа проскакала по всем лесным тропам, где ей был знаком каждый поворот. Из ближайших деревень нас ещё снабжали припасами, но и там ни к кому уже не было доверия. Крестьяне бросали работы; по вечерам на лесной опушке непонятные сборища заканчивались разгульными празднествами; запасы свекольного спирта иссякли за несколько дней. Верные крестьяне, которых Барышня отправляла шпионить на эти демократические собрания, ничего вразумительного рассказать не могли: «Всё кончено, — сообщали они на своём наречии, — лес сожгут, свобода». Ждали посланцев из столицы; в других деревнях, подальше, их уже принимали.
Барышня и сама отправлялась разузнать новости, пуская в галоп своего крупного мерина, вороной окрас которого сливался с пелериной всадницы. Её ещё приветствовали в деревнях, но не столько из уважения, сколько побаиваясь её хлыста: взгляды были угрюмыми, бирюковатыми. Весть о появлении нашего войска в замке разошлась по округе, о других соединениях не сообщали.
Вместе со своими людьми я жил в бывших конюшнях, выходивших во двор замка. Несмотря на тяготившее меня бездействие, дни проходили не праздно. Больные или здоровые, все мужчины участвовали в строевых занятиях, ибо нет лучшего средства от болезней тела и низких помыслов. Едва опускалась ночь, мы засыпали в испарине.
Два гренадёра в конце концов привели ко мне господина маркиза, которого так старательно от меня скрывали. Это было тщедушное полуслепое создание, походившее на большого паука: длинные тонкие лапки неуклюже торчали из его уродливого тельца. Голову покрывал белый старушечий колпак, не иначе как скрывавший неровность черепа. Вместо слов он периодически издавал робкое кудахтанье. Мои люди подобрали его на земляном валу, надо рвом, где он пытался ловить рыбу с помощью любопытного приспособления с колокольчиками, — неказистого произведения местного умельца, которое служило подспорьем при маркизовой слепоте, но гренадёры приняли эту штуку за устройство для подачи акустических сигналов. Узнав, что я раскрыл её тайну, Барышня стала менее сдержанна по отношению ко мне, и вечерами меня допускали в гостиную замка, где я при свечах проигрывал одну за другой долгие и безмолвные партии в шахматы, пока уродец кудахтал, ёрзая в своём узорчатом кресле в углу.
Между тем новости, которые приносили нам тайные агенты Барышни или она сама после выездов, усиливали моё беспокойство. Вскоре мы были бы в состоянии возобновить поход: мои люди пережили эпидемию — все, кроме одного, которого мы похоронили на паперти перед часовней, среди болотной травы. Но куда идти? Со всех сторон накатывали волны мятежа, которые с прибытием организаторов, присланных из столицы, постепенно становились всё более ощутимыми. Один эмиссар, которого никто не видел, но о котором крестьяне говорили как об исполине, наделённом сверхъестественной силой, от имени смутьянов принял верховное командование Нижнеземьем; ему надлежало с помощью крестьян отыскать и уничтожить остатки армии: предполагалось, что наших солдат в лесу было ещё немало. В городах уже резали чиновников и торговцев; в пруду под названием Золотник, который мы миновали во время отступления, утопили несколько сотен этих врагов народа.
Мы также знали, что остатки армии худо-бедно соединились под командованием эрцгерцога возле границы, не меньше, чем в неделе ходу от нас; но как дойти туда без провианта, без достоверных карт в разгар мятежа? Изнутри ждать было уже нечего: всё оказалось в руках смутьянов, Барышне самой пришлось в этом убедиться в тот день, когда до нас добрался — каким таким чудом? — курьер, потративший на дорогу из столицы три месяца. Пленение императора, которое она сочла плодом моего неврастенического воображения, подтвердилось; то, что она узнала о судьбе своих родственников (эти мелкопоместные дворяне попали в круг высшей аристократии), было совсем неутешительным.
— Зиту, — говорила Барышня, перечитывая неслыханное известие, — вашу кузину Зиту, ту, которая закидывает голову, когда смеётся… Её… топором!
— Зита, — кудахтал в ответ маркиз. — Зита… Чпок, чпок, чпок! — И ребром маленькой ладошки бил по подлокотнику кресла, изображая, как падает тяжёлое лезвие.
Барышня и помыслить не могла о том, чтобы бросить замок и могилы предков; а у меня не было ни малейшего желания погибнуть в средневековой вотчине. Оставалась единственная надежда исполнить долг самому и сделать так, чтобы его исполнили люди, за которых я отвечал: надо было, несмотря ни на что, попытаться примкнуть к армии. О том, чтобы силой увезти с собой владельцев замка, не было и речи; путь через леса был слишком опасен сам по себе, чтобы брать на себя заботы о сумасшедшей и убогом; да и какая польза от их пребывания в лагере эрцгерцога? И всё же, признаюсь, сердце моё болело при мысли, что я оставляю их на поругание вилланам. У меня родился коварный план.
Комнаты хозяев располагались в боковой башне в ренессансном стиле, лёгкость которой контрастировала с тяжеловесным обликом основного замкового строения. К тому же в эту часть здания меньше всего проникала сырость, поднимавшаяся из рвов: я решил под этим предлогом перетащить туда немного оставшейся у нас взрывчатки и поместил её в восьмиугольном зале с многочисленными доспехами и портретами, прямо под кроватью Барышни. Я ждал, когда выпадет неясная ночь: лунный свет мог выдать нас прежде, чем мы успели бы скрыться в лесу.
Прощальный вечер неожиданно ознаменовался небольшим праздником: на колокольчики маркиза попалась щука, несомненно, такая же слепая, как и он сам, и Барышня приказала принести из подвала бутылку превосходного сотерна. Наша партия в шахматы под конец была отложена (я делал успехи), Барышня рассказывала мне легенды Нижнеземья и подбивала помериться стратегическими талантами с эмиссаром, который к тому моменту собрал армию в нескольких лье от замка; я вежливо отказался от чести соперничать с аптекарем; маркиз кудахтал и почёсывал себе череп через старушечий колпак. Около полуночи я проводил их в апартаменты и разбудил своих людей, которые ни о чём не догадывались.
Оставалось только поджечь шнур, что я собственноручно и сделал, убедившись, что хозяева, как и слуги, уснули. От первой же детонации должна была разрушиться спиральная лестница: если бы, на свою беду, они выжили при взрыве, от пожара им было бы не укрыться.
Мы уже спрятались в лесу, когда раздались два громовых раската. И увидели, как верхняя часть башни буквально отделилась и тяжело обрушилась на основание. Ветер, как я и рассчитывал, быстро разнёс пожар. Время от времени слышались панические крики слуг; пламя и дым отражались в чёрной воде, наполнявшей рвы. В нескольких шагах от нас галопом проскакал вороной конь Барышни. Я надеялся, что сотерн тоже погибнет: обидно будет, если его пустят в дело на плебейской пирушке.
31
Но вот барон отдаляется, покидает этот берег, и завтра вечером он точно так же будет молча стоять в покачивающейся лодке между Мнесфеем и двумя товарищами Алькандра. Они ждут, пока командир распределит мешки с одеждой и провизией, которые они принесли на борт; один из них надел ученическую пилотку; неподвижно и отрешённо смотрят они на причал маленького порта, на чёрные приземистые рыбацкие дома, на Алькандра и Ле Мерзона, которые машут на прощание; какое у героизма ошалелое лицо. Высокая фигура барона всё дальше, растворяется в ночи, исчезает; мерцание, которое различает Алькандр, — это ещё его монокль или отблеск, отброшенный лучом маяка на волнорезе? Может статься, это сияет таинственным образом ставший вдруг видимым крест Святого Аспида, который их командир наверняка хранит у самого сердца.
32
Достаточно было бы согнуть правую ногу в колене и опереться рукой о гранитную ступень, чтобы левая нога твёрдо встала на дно лодки, где плещется вода вперемешку с маслом, пускающим фиолетовые радужные разводы. Едва бы он шевельнулся, чтобы освободиться, Резеда разомкнула бы объятия так же мягко, как до этого его обняла. А что Сенатриса? Сначала она была бы недовольна его исчезновением, словно пропал какой-нибудь привычный предмет; но с обретённой ею уверенностью, что все вещи, потонувшие в хаосе Виллы, рано или поздно обнаруживаются, она встретила бы Алькандра без радости и без удивления, пережив лет пять-шесть и ни разу о нём не вспомнив.
На обратном пути они издалека слышат рокот, который раздаётся на шоссе; сталкивают велосипеды в канаву и забиваются на дно, стараясь не дышать; больше двух часов проходят над ними в темноте немецкие танки и боевые машины.
33
Сенегалец объявляется в сумерки, у бакалейщика как раз «радиочас». Он открывает чемодан из искусственной кожи, где лежат гипсовая Дева и пехотный устав. Берёт стакан, который протягивает ему бакалейщик, но пьёт стоя; он с рассвета на ногах; уцелев в коротком отступательном бою — ночью городок слушал пальбу, — он на своих длиннющих ногах преодолел по оврагам всё это расстояние в поисках армии. Немцы уже на всех дорогах.
Сенегалец — здоровый малый, выше Сенатрисы, выше Алькандра. Он стоит со своим чемоданом, и на него в изумлении уставилось семейство бакалейщика. Он готов сразу уйти, обогнуть город по оврагам, и уже зашагал было на своих ходулях, но остановился. Два усатых фермера потягивают кофе с коньяком в полумраке дальней части зала; Сенатриса предлагает, чтобы один из них спрятал солдата в своей двуколке. Начинаются долгие переговоры; фермерам не по пути. Сенегалец продолжает стоять; бакалейщик уговаривает его сдаться в жандармерию; того и гляди, говорит, в заведение нагрянут немцы.
— А пойдёмте со мной, — Алькандру это надоело. — Я знаю разные тропы, в это время там никого. Помогу перейти дороги, посмотрю, чтобы никого не было.
— Со мной. Женщину не заподозрят.
Сенатриса вмешивается так решительно, что Алькандр снова садится; пара чинно выходит, подгоняемая ненавистью, сменившей удивление во взглядах бакалейщиков. Сенегалец взял чемодан в левую руку; правую он подаёт Сенатрисе. Алькандр смотрит, как они направляются по тропе в сторону фермы, потом поворачивают к карьеру, входят в заросли ежевики. Сенатриса в шляпке с фиалкой издалека изящна, как юная особа, идущая под руку с военным, которому она, повернувшись и глядя снизу вверх, что-то говорит; корпус чуть отклонился в сторону, женское бедро ищет мягкую опору — мужскую ляжку. Вот бы они вернулись, обнявшись, обменявшись обетами, зажгли бы свет в погасших окнах на Вилле. Большая, с балдахином, кровать Покойницы обрела бы под весом их тел супружеское целомудрие. Отчистили бы всё серебро; и за большим столом в студии в обеденный час не пустовало бы почётное место отца семейства.
Воображая эту картину, Алькандр видит, как они исчезают в кустах ежевики и в тенистом сумраке; сенегалец расправил плечи и несёт чемодан, глаза Сенатрисы по-прежнему обращены к нему; так узкой тропой долга уходят, не оглядываясь, последние легионы Республики.
34
От пыли побелели листья и травы вдоль изгороди; сапоги солдат, окрашенный в цвета войны металл их бронемашин и мотоциклов, лица и глаза, ярко-синие, но потухшие, — всё припорошено белой кристаллической пылью, на которой солнце зажигает иногда едва заметные искры. Рычат несколько моторов; время стоянок используют для ремонта.
Первый немец, который прошёл через сад к Вилле, отдал честь; он произнёс несколько слов, Алькандр не понял; зато Сенатриса тотчас же принесла полотенце, кувшин с водой и пачку старых газет; с услужливой и одновременно холодной вежливостью старого мажордома, демонстрируемой в особых случаях, она открыла немцу дверь в клозет на первом этаже, слева сразу за входом; широким жестом руки, символизирующим гостеприимство, указала вояке на стены, на бледных нимф с летящими волосами, скрашивающих одиночество посетителя, и на широкую вощёную доску, в которой была проделана круглая дыра и прилагалась крышка с фаянсовой ручкой. Затем она встала у дверей, оберегая солдата от конфуза: задвижка клозета никогда не работала.
Второй немец уже поднимался на порог. И вот, как по муравьиной тропе, от туалета к колонне засновали тевтоны; они выходят вперёд быстрым шагом, у садовых ворот останавливаются в нерешительности, встречают своих уже облегчившихся товарищей, что-то сообщают друг другу, а когда толкают дверь, их уже ждёт Сенатриса — она по-прежнему стоит у входа, снабжает каждого пачкой газетной бумаги и церемонно провожает в «клозет нимф», добавляя несколько слов на своём старомодном и корявом немецком. Так же, наверное, приветствовала она на ежегодном балу в доме Сенатора «нужных гостей».
Среди мифических дев так и будут витать остатки воинственного запаха кожи с привкусом перебродившего в крепких желудках пеклеванного хлеба и капусты; сильные миазмы, но с каким-то сладковатым послевкусием — специфический эфир победоносной армии. Запах отныне оккупировал Виллу; Алькандр будет восхищаться войной, заставившей стольких очкариков с корками разных университетов ходить по нужде всем скопом, да ещё так далеко от туалетов, к которым они привыкли.
35
Затем запах захватывает город, распространяясь из нескольких очагов: это гараж, где немцы заливают в моторы масло цвета расплавленного леденца, откуда и рождается тонкая сладковатая нота; а ещё часть лицея, переделанная под казармы, где строевая подготовка сопровождается свирепым пением, и вскоре появляются кофточка и белёсые волосы Резеды. Резеда не убирает больше на Вилле, всё чаще пропускает свидания в сарае, она вдруг стала более опрятной и менее смешливой, красится по вечерам в субботу и сменила сиреневые трусики на целый ворох неживописного белья; она ведь тоже прощупывает подходы к лагерю врага, а когда Алькандр упрекает её — вышло, правда, обидно: на ум пришли только те гнусные слова, которые он сам слышал в адрес своей подруги, — то получает в ответ: «А ты что? Не иностранец? Немцы из того же теста, что и ты» и приходит в замешательство от того, сколь серьёзна эта гуманистическая доктрина.
36
По ночам Сенатриса становится пророчицей: в полудрёме её настигают яркие вспышки озарений. Сидя у её изголовья, Любезная Покойница, сошедшая в пикантном дезабилье с картин и витражей на Вилле, раскрывает обрывки будущего, которое, вообще-то — лишь отражение прошлого. Поутру, когда зрачки ещё расширены от ужаса видений, Сенатриса начинает принимать кумушек, которым надо всё знать про судьбу. Предсказав приход немцев, она быстро прославилась среди подруг Вдовы: до сих пор лишь у одной из них был дар, да и тот ограничивался предсказанием погоды по ноющим суставам. Но оказавшись посвящённой в провинциальную вражду, заговоры и надежды, и невольно раскрывая одним тайны, только что услышанные от других и завуалированные обрывками мистических видений, запомненных в ночи, вскоре в вопросах приданого, супружеских измен и наследства Сенатриса стала попадать «в точку» с невероятным постоянством. Когда мещаночки принимаются уговаривать её, чтобы она в обмен на свои оракулы приняла кое-какие дары (ибо нет в городке истины в последней инстанции, которая так или иначе не опиралась бы на деньги), Сенатриса сначала не хочет путать меркантилизм с эсхатологией, но Любезная Покойница, в очередной раз явившись в тумане, развеивает сомнения и умоляет её не отворачиваться от последнего дара Провидения, тем более, что с тех пор, как растаяла казна общества Попечения сирот, подспорье ей необходимо, чтобы мясник снова согласился отвешивать в долг.
37
Обведя руку вокруг материнской талии, Алькандр хватает Сенатрису за кончик локтя и настойчиво сжимает его тремя пальцами: это своего рода ритуальный знак нежности в семье, где, по традиции, дозволено было выражать чувства только отретушированные иронией и только в чётко очерченных рамках. Они молча спускаются по холму к коптящей ферме; Алькандр взял в привычку встречать мать из Замка, чтобы после чая у Вдовы не продолжились сеансы ясновидения.
Приятно взять мать за талию привычным жестом, когда рука успела выучить его, обнимая другое женское тело; между тем стан Сенатрисы под костями корсета и выпирающими из-под него складками вялой плоти едва уловимым самозабвенным трепетом встречает незнакомую твёрдость, проявившуюся в движениях сына. Пока в тёплой вечерней влаге они поднимаются в сторону Виллы, Алькандр, который до этого даже не пытался сквозь оболочку безапелляционных суждений и готовых фраз постичь сокровенности материнской натуры, боясь, помимо мыслей и планов с их будничным практицизмом, наткнуться на туманные берега благочестия и памяти, где укрылось то, что Сенатриса называет душой, теперь вдруг проникается сопричастностью к таинству и осмеливается расспросить её о чудесном озарении.
— Вы поднялись над временем. Я не ставлю под сомнение пророческий дар, которым вы пользуетесь, заставляя эти добрые души раскошелиться: они довольны, а значит, правда за вами. Но если бы мне было дано сопровождать вас в спиритуальных странствиях! Я вижу вас большой рыбой, легко плывущей против течения. Не потому ли вы то и дело от нас отдаляетесь, тогда как нас влечёт к таинственному устью? Зато у нас хотя бы осталась надежда однажды исчезнуть вовсе. Вы же утверждаете, что отмежевались от конечного и необратимого, но разве настоящую вечность вы себе выбрали, а не её подобие — топтание на месте и хождение по кругу? Я вижу вас старой слепой клячей, которая весело бежит вокруг пресса, охмелев от запаха давленых яблок. В усилиях скотины есть хотя бы смысл и заданный ритм. Но, сбросив обыденные путы, вы бредёте наугад сквозь смутные горизонты прошлого и будущего. Вы напоминаете мне летучую мышь, которая бросается в пустое сумеречное небо неизвестно куда. А главное, если бы в вечность проник я, то она сцапала бы меня с потрохами; как бы я смог вернуться и рассказать о ней конечному миру? Мне кажется, я избавился бы от рассудка и даже от языка живых, забыл бы его, и о существующем людском убожестве тоже не вспомнил бы. Вы, матушка, амфибия, вам хорошо в двух стихиях, вы, как лягушка, которая медитирует на листе лилии, а вспугнёшь её — ныряет в самую глубину ржавых вод.
Так, в фантазиях и притчах, пытается он донести до некрепкого сознания пифии суровую истину разобщения. Но Сенатрисе смешны его доводы.
— Да будет вам известно, сын мой, что Господь поместил нас между двух зеркал, поставленных друг против друга, — между будущим и прошлым. Вы смотрите в одно и видите там лишь отражение другого, а в нём — отражение первого, и так до бесконечности: классический приём, известный трюк оформителей пивных. Но когда картина заполнила всю бесконечность пространства, вобрав тысячекратные повторы с каждой стороны, а также ваш образ и некоторые предметы вокруг вас, Всемогущему вздумалось убрать зеркала — они осторожно поплыли вверх, вертикально и так плавно, что когда поднимались в небо, застывшие на их поверхности отражения не изменились. Сначала воспаряют зеркала, которые в самой дальней зримой перспективе бесконечность наделила сверхъестественной лёгкостью и миниатюрностью, а затем, по мере приближения, — самые массивные, на которых только что вы ещё могли различить следы пыли и трещины амальгамы; и, наконец, оставляя вас лицом к лицу с реальностью, исчезают два материальных зеркала, ограничивавшие вам поле зрения. Но бесконечно прозрачные отражения, отражённые друг в друге, возможны в чистом пространстве. И, шлифуя картину, чтобы придать ей вид неизбежности, Господь соизволил изъять из неё ваше тяжеловесное дурнопахнущее существо, оставив только взгляд, который уже перестал быть вашим, и которого довольно для созерцания.
Так что нет никаких восходящих потоков — только бесконечный покой; не ослепление, но всеохватный взгляд, прослеживающий в прозрачном пространстве все направления розы ветров; это не беспорядочные блуждания, а неподвижность достоверности; невозможно разъединить неповреждённую однородность уникального и абсолютного.
Алькандр повторно сжимает локоть Сенатрисы тремя пальцами. Но на этот раз с силой, словно хочет заставить её прийти в себя.
— Мне кажется, вы уже в другом мире, у вас два раскрашенных картонных крыла. Матушка, вы меня ещё слышите?
Сенатриса опирается на его руку, с нежностью кладёт голову ему на плечо, но отвечает:
— И правда, мне кажется, я вас больше не слышу.
38
Река, огибающая городок, на юге течёт через предместье, нехорошее место в низине, которое тянется вдоль шоссе; днём там тишина, а ночью то драка вспыхнет, то пьяницы начинают орать. Выше по течению, за ржавыми и поросшими травой путями сортировочной станции, начинается покрытая кустарниками сырая земля, запущенные заросли ивняка, за которые цепляются туманы. Тропинка, по которой идёт Алькандр, пролегает вдоль неровного речного русла.
На обратном пути, почти у входа в город, он натыкается на немцев, устроивших пикник. Место здесь тихое, и его предупредили нечёткие силуэты, движущиеся за ширмой кустов; чтобы незаметно подсмотреть, надо сойти с тропинки в сторону всего на несколько шагов. Пятеро военных, здоровые, сорокалетние, в мирное время — унтер-офицерьё, лавочники или коммивояжёры, раскрасневшиеся, с расстёгнутыми воротами и ремнями, уселись, а то и разлеглись вокруг серого покрывала, на котором выставлены бутылки с пивом и съестное; на таком расстоянии и сквозь взрывы их хохота невозможно разобрать, что они говорят; но в матовом свете, ровно льющемся с серого неба, отчётливо видны маленькие поросячьи глазки и густой «ёжик» на голове у немца, который, не переставая болтать, надламывает пеклеванный хлеб; следуя за его смеющимся взглядом, Алькандр замечает, что чуть в стороне, но всё равно на виду, на краю поляны в траве стоит на четвереньках Резеда: юбка задрана, зад весь голый, а рядом исполинского роста капрал расстёгивает штаны. Пока длится миг — ясно, что это только миг, но в ритме сердца он становится бесконечным, — Алькандр наблюдает за этим зрелищем в заворожённом забытьи: расстояние лишает материальности, делает происходящее прозрачным подобно некоторым сценам из снов. Так выглядит недоступная в осязаемой близости, отдельная от всего и застывшая несуразной абстрактной формой, мертвенно-бледным пятном на болезненной зелени заболоченного луга невыразимо жестокая непристойность, которую в сером предвечернем свете излучает белизна оголённой кожи Резеды.
Но почему с настоящей Резедой, которую можно осязать, изучать руками, чувства и воображение Алькандра ни разу не всколыхнулись до самых глубин, не были разбужены самым примитивным инстинктом? Выходит, чтобы зажечь эту искру между Алькандром и его подругой, кроме расстояния, как между божеством и жертвой, приносимой в угоду его чреву, нужен также жрец в лице немецкого капрала, расстёгивающего штаны? Алькандр не в силах проникнуться отвращением от увиденного или ревностью; при такой интерпозиции, опосредованно, он испытывает постыдное удовольствие, которое в его сознании, скованном безучастностью, но ставшем благодаря этому необычайно подвижным, тотчас окрашивается в оттенки уныния, безотчётной грусти.
Он идёт широкими шагами по неровной тропе, и эта стремительная ходьба служит ему лекарством от всех меланхолий; пересекает железнодорожные пути и у границы предместья поднимает глаза к шпилям собора. В другой день он направился бы туда, забился бы в лоно деревянного кресла, с пустой головой, погрузившись в созерцание тонких колонн, устремлённых к своду, как случается ему забиться в заросли и там, за стеной кустарника, подальше от чужих глаз, скрывать свои терзания, следя за превращениями облаков; но есть сегодня в этой скорби какая-то гнусь и боль, обострённые волнующим влечением, и чистота колонн и облаков могла бы развеять дурной сон, от которого он боится очнуться; так что это предместье с его бедными покосившимися постройками, с грязными ручьями, бегущими по мостовым, с маленькими окутанными тайной и именно в этот не ранний послеобеденный час оживающими кафе, где происходит скрытое непонятное брожение, этот квартал, по-прежнему неизученный, хотя по нему столько хожено, сегодня лучше всего воспримет его душевные муки. Алькандр заглядывает в несколько неглубоких и чересчур широких тупиков, которые, ответвляясь от шоссе и упираясь в стены больницы, создают собственный рисунок этого места.
Больница — обветшалое здание, бывший женский монастырь семнадцатого века, с высокими окнами, в которые льются прорвавшиеся сквозь облака лучи закатного солнца. Перед небольшой площадкой, наклонной, каменистой, неровной — ею заканчивается тупик, — в стену, которая окружает больницу, вставлен фасад часовни с куполом в классическом стиле, но слишком низким для здания, которое он венчает, а ещё с латинской надписью на фронтоне и причудливой папертью, где при трёх ступенях справа с левой стороны из-за уклона местности их можно насчитать пять. Вместо собора с его торжественной архитектурой Алькандр выбрал этот тусклый мирок, предназначенный для погребений, но вместивший также приходскую церковь квартала, вполне олицетворяющую болезненность и скрытность его души, эту морскую раковину, в которой глухим эхом звучат все шумы — агония немощных, ругань дерущихся, молитвенное бормотание; этот голый обшарпанный храм, где можно закрыть глаза и, замкнувшись в себе, оживить фрагменты завораживающей и мучительной сцены.
Сначала перед ним предстаёт сама пустота, большое пространство, где свободно играют тени, а взгляд теряется меж пустых плоскостей нефа, скользит вдоль купола и доходит до маленького старинного органа в глубине, висящего посередине стены, над входом, как ласточкино гнездо. Между тем левая стена по всей протяжённости озарена слабым ржавым светом, проникающим со стороны заката через белые витражи больших окон, краплёные янтарными ромбами; боковой свет вырисовывает в параллелепипедном пространстве нефа прозрачную усечённую пирамиду, которая, раздвигая тень в стороны, делает ещё больше и ощутимее пустоту этой церкви. Взгляд скользит по облупившейся стене, где желтоватые лучи мягкими прикосновениями выявляют на плоской с виду поверхности живую тайную пульсацию едва читаемого рельефа, и Алькандр вдруг вздрагивает, заметив над исповедальней картину, ожившую в этом всеявляющем свете: глядя на мученичество Святой Екатерины, творение одного из провинциальных учеников Лесюэра[26], в выцветших, блёклых и благодаря освещению утончённых тонах, не видит ли он снова перед собой — на расстоянии, как и должно быть, — акт необратимости, который с болью пытается сохранить в памяти? Он проваливается в бесконечную простоту геометрической композиции, треугольник которой обрисован высокой фигурой солдата, задрапированной в королевскую голубизну плаща так, что складка на нём делает честь гладильщице, и удлинённым силуэтом коленопреклонённой святой, которая подставляет палачу красивую чуть пухловатую шею, скрестив округлые руки поверх шафранового платья, и на обращённом вполоборота к зрителю, спокойном, ничего не выражающем лице большой коровий глаз увлажнён блаженными слезами.
39
Для Алькандра начинается безграничное одиночество, бесконечные прогулки на велосипеде среди нарядных далей ранней осени. Возвращается он уже ночью, позвоночник ноет, икры схвачены судорогой; не произнеся ни слова, он падает на кровать и в беспокойных снах снова видит, как бегут изгороди и облака, видит спуски, где колёса катят сами собой, и крутые прямые тропы, которыми перечёркнуты изгибы ландшафта и по которым надо карабкаться стоя и давить на педали, напрягая все мышцы. Благодаря велосипеду расстояния сделались протяжённее, и бокаж предстал перед ним в новом ракурсе: теперь это клетки более прямых, чем овражные тропы, асфальтовых дорог, и достижимые отныне высоты, с которых открываются шпили собора, уменьшенные в точно соразмерной его усилиям перспективе, а ещё — деревеньки и городки, соединённые этими дорогами, которые вместе с названием и точным положением на карте обрели неизменность, неподвластную игре воображения, ту самую правильность, которая, в отличие от непредвиденных поворотов пешего бродяжничества, разрывает чувственную связь Алькандра с пейзажем и превращает его в безразличное абстрактное пространство, измеряемое только усилием мышц и быстротой передвижений.
Но поскольку поездки ограничены временным циклом от зари до сумерек и потому остаются круговыми с обязательным вечерним возвращением в городок — предпочтительно не тем путём, которым он уезжал, а шпили собора, которые кажутся синьковыми, когда он выбирает удалённую точку, чтобы их рассмотреть, всё равно остаются бессменным центром круга, преодолеть границы которого он не в силах; бокаж, пересечённый Алькандром на велосипеде, не меняет своего лабиринтного естества; только вместо того, чтобы играть и резвиться, охотно повинуясь воле его меандров, теперь он чувствует себя здесь пленником. Ведь даже различаясь названиями, нюансами в композициях домов вокруг колоколен с двускатными крышами и, конечно же, получив от своих жителей неизбывную индивидуальность, сотканную из их воспоминаний, чувств и желаний, сами деревни, соединённые бесхитростным рисунком департаментских дорог, в конечном счёте, так же, как изгороди и луга, как обсаженные деревьями аллеи, проложенные навстречу горделивому одиночеству замков, становятся одной деревней, одной бесконечной изгородью из одних и тех же высаженных кустов ежевики и терновника, одним лугом, где дремлют одни и те же коровы, одной аллеей с седыми вязами, которая заканчивается пустым двором нормандского замка; не зря все они приравниваются в воображении Алькандра к условным обозначениям, список которых можно найти в углу карты, над масштабной шкалой, к мелким иероглифам, которыми обозначены точки, достойные интереса в глазах картографа; и вся местность, измеренная вдоль и поперёк усиленным кручением педалей, сводится к абстрактной схеме соединений, которые расстояние и перепад высот устанавливают между этими точками. Алькандр всё чаще смотрит в небо.
В сентябре режут свинью, запах давленых яблок распространяется из прессов и летит от гружёных телег, с которых за околицей сбрасывают выжимки; в полутёмных помещениях ферм происходят грандиозные пирушки; на овражных тропах встречаются девчонки с лицами, измазанными ежевикой, а в затенённых канавах курятся среди буйства цветов агрегаты самогонщиков. В разгар плодоношения, проживая миг наполненности, растительный мир замирает, чтобы затем погрузиться в брожение, опьянение, оцепенение. Тогда краски акцентируются, насыщаются, и на ровном зелёном фоне, характерном для роста, появляются тёплые обольстительные оттенки зрелости. Но одновременно с тем, как окрашиваются листья, набухают плоды, а ясные дни всё больше подёрнуты дымкой, и всё более косо ложатся лучи, и на поверхностях, по которым они скользят, возникают самые пронзительные и изощрённые тона, земля собирает все силы и с умноженной щедростью позволяет ощутить изобилие своих форм и яркость ароматов, а небо словно разъединяется с ней, отдаляется, не желая, чтобы в его бледности и пустоте отражалось это вспучивание. С какого-то момента, не указанного в календарях, и горького, как тот миг, который окончательно и бесповоротно отмечает полное завершение праздника, оставленная земля тоже теряет краски. Плоды и колосья ещё при ней; но в разгар сентябрьского золочения Алькандр вдруг замечает в порыве холодного ветра, который настиг его на подъёме в четыре часа пополудни, нечто застывшее, скованное, похожее на зловещие признаки паралича. Запахи улетучиваются первыми; какая-то болезненная нарочитость проявляется в оттенках, как будто каждый из них, противостоя остальным, замыкается и упорно желает остаться таким как есть; этот тягостный поворот осени навсегда запомнится Алькандру в филигранном и печальном образе ежевичного листа, подаренном изгородью: он нервно трепетал на ветру, живой, блестящий, лоснящийся с лицевой стороны, ярко-зелёной, насыщенной, излучающей флюиды недавнего солнца, но с изнанки, приоткрытой бризом, в пространствах между прожилками, которые там были более чёткими и какими-то судорожными, оказался бледным, холодным, испачканным белой дорожной пылью.
Мало-помалу, когда холодный ветер заставляет ехать быстрее, а расстояния, увеличиваясь, постепенно отдаляют его от нюансов и материи окружающего пейзажа, Алькандр начинает видеть перед собой бесцветный мир, скудно заполненный абстрактными ориентирами, словно на плохо экспонированной фотографии. Тогда он понимает, что начал любить этот край, изменив — нет, не печальному и отвлечённому образу Империи, но клятве, отвергавшей всё плотское. Уж не наказан ли он тем, что при его появлении всё простое и радостное — бокаж, тело Резеды — исчезает, оставляя после себя чистое сожаление, прозрачный и болезненный след? Но может быть и так, что лишь на расстоянии вещь находит своё место в волнующем мире образов, обретает воплощение и право на вечность. Земные прелести Резеды, попавшей во власть пространства, преобразились, смех сделался прозрачнее, вялая геометрия мышц — тоньше, а витающий в поднебесном нетленном эфире обольстительный запах грязи — ярче. Ведь как бы велика ни была дистанция между отражением и его предметом, Алькандр, вопреки всем философам, обнаруживает, что именно в этом бесконечном движении картины в картине очищаются и рождаются недосягаемые, бесконечное множество раз отражённые истинность и сущность осязаемого; и перед полотном, на которое он снова пришёл взглянуть, перед Святой Екатериной, ему вспоминается не столько волнующее зрелище, которое неожиданно открылось ему внутри, когда он возвращался с прогулки, сколько более ранний и никак не приукрашенный эпизод, скрытый источник его переживаний. Но если вещи даны только в наблюдение, если, стремясь к мало-мальской правде, прожить их можно на расстоянии, отвлечённо, меланхолично, если осязаемая война — конвои, которые сегодня встречаются ему на нормандских дорогах, везущие под началом снабженцев в форме оккупантскую бакалею, — суть насмешка, пародия на ту громоносную и в высшей степени духовную войну, ради которой Алькандр взял в детстве оружие, значит, изгнание — это и есть правда родной земли, и в основе правды и вечности Империи лежит не что иное, как её Крушение. У Алькандра сжимается сердце, когда до него вдруг доходит смысл клятвы, которую он дал вместе с товарищами; и поскольку бесполезны попытки вернуть Империю, придать ей материальное наполнение, от которого только померкла бы яркость её существа, он также понимает, что с самого начала ему запрещено было познавать обладание иначе, чем он обладал Мероэ, которая становилась собой только когда, оставаясь нереальной, плыла куда-то бесконечной волной, и нельзя ему было поддаваться сиюминутному искушению и материализовать единственную любовь — Мероэ в теле Резеды, поскольку и это тело только на расстоянии и в обозрении обретает истинную наполненность плоти и прельщает своей непристойностью.
Небо в оголённых ветром ветвях деревьев становится между тем ещё бледнее, и вскоре иней выбелит крыши и луга, оставив от пейзажа один набросок.
40
Немцы приходят на Виллу крадучись: командование благоразумно запретило им апокалиптические видения. К Сенатрисе они обращаются на своём языке — «госпожа графиня» — и неуклюже садятся на кривоногий табурет. В суррогатной гуще она видит будущее, обещанное её почтительным и спокойным клиентам и вытекающее из её собственного прошлого: бескрайние просторы, кровавые битвы, бесконечные зимы.
Упрёки Алькандра не помогут: Сенатриса считает, что её долг — помогать своим даром всем без отказа. К дяде Ле Мерзону, который давно задвигает лихие идеи, она соглашается даже прийти домой. Но больше никаких уступок: когда он в своём вечном берете усаживает её, Сенатриса, хоть и взволнованная забытым ароматом настоящего кофе, выходит из роли гадалки по найму и заявляет:
— Чтоб вы знали, месье, вы не испанский гранд.
Затем с напряжённым лицом погрузившись в транс, она извлекает на поверхность картину: очень бледный мужчина один стоит на крыльце и пытается говорить с пьяной толпой, в ответ — крики, потрясание кулаками, мужчину вдруг обступают со всех сторон, и вот, исчезнув в этой толпе, как пловец в волнах, через миг он снова виден уже в нескольких шагах от крыльца, и на этот раз толпа несёт его на руках, он ещё более бледен, и на его шею накинута верёвка.
Таким был последний день Сенатора, она часто описывала его Алькандру; зато дядя сразу делает выводы: реже наведывается в клуб «Сотрудничество»[27] и ставит дополнительные замки в доме и на ограде.
41
Другие, более верные признаки, предвещали конец времени выжидания; оккупация стала слишком давить. Начавшись с абсурдной игры в уголки[28], с умозрительной буффонады, она словно на короткое время поколебала косность буржуазного мира, приоткрыла крышку над котелком приличий; но с новым порядком, постоянной заботой о провианте, с новостями, среди которых враньё было не умнее правды, а ещё с всамделишными убийствами, к которым все начинали привыкать, как к плохому кофе, война грозила прочно врасти в реальность. И только Провидение в лице американского генерала воспротивилось попытке обуржуазить всё и вся; и вскоре самолёты сдули, как карточный замок, декорации нашей юности.
42
Алькандр налегает на педали на узких каменистых дорогах; в последнее время целью его путешествий стала ферма, затерявшаяся в потаённых глубинах бокажа; он отвозит туда табак, много бумаги и кое-какое безобидное оружие. Он и сам провёл неделю среди этих горластых и неорганизованных парней: ему нравилось, что их называют «уклонистами»[29]. Но после досадной вылазки к мосту, который никто не смог подорвать, он решил, что лучше быть связным, возить припасы, а значит, вернуть свой велосипед и одиночество.
Национальное шоссе забито: немцы отступают; часто приходится крутить педали стоя, катить по непредсказуемым виражам дорог, по крутым откосам, которые сбивают с ритма. Выписывая дуги и зигзаги, как яхтсмен, идущий против ветра, он поднимается к городку. На горизонте грохочет гроза, запылённые листья орешника подрагивают от почти неподвижного ветра; где-то на ферме тревожно кричит петух.
Подъехав к окраине, он не увидит усатого учителя, которому должен отчитаться о задании, зато у моста в этом прокажённом квартале необычайное оживление и суета. В блуждающей толпе люди собираются в группы и снова расходятся среди тесных столов, которые вынесли из небольших кафе и разместили чуть ли не на проезжей части, выставив горы бутылок; осколки блестят на горячем асфальте. Из открытых окон среди герани и ярких флагов выглядывают плиссированные лица старух.
Алькандр возвращается в надежде найти учителя; он прислоняется к ограде дяди Ле Мерзона; все ставни закрыты, замки надёжные. За городом царит великое спокойствие. На обратной стороне указателя, которым отмечена граница городка, кто-то красными буквами написал: «Привет освободителям!» Только отсюда, с этой удалённой точки, позволяющей охватить взглядом весь холм, Алькандр замечает, что вокруг нетронутого собора осталось лишь несколько разрозненных частей стены.
В предместье, через которое он снова должен проехать, чтобы вернуться на Виллу, толпа теперь кучкуется прямо на горбатом мосту; подняв голову над этим кишением, внутри которого раздаются хриплые возгласы, Алькандр видит прижатую к каменному парапету Резеду, на которую сыплются ругательства — взгляд у неё отсутствующий, лицо опухло, бритый череп жалостно асимметричен. Он хочет пробраться к ней, толкает перед собой велосипед; какой-то хмельной патриот грубо его отпихивает.
— Да отпустите её.
Не узнав собственный голос, прозвучавший неожиданно сдавленно, с присвистом, Алькандр понимает, что ему страшно.
Кто-то из собравшихся его узнал:
— Это иностранец. Ты что, не ушёл с ними?
Алькандр прикрывается велосипедом, и оплеуху, чтоб неповадно было, получает не шелохнувшаяся, безразличная ко всему Резеда. С трудом отобрав велосипед, в который вцепилось несколько рук, он подавленно удаляется в сторону Виллы; бутылка, запущенная ему вслед, со звоном разбивается о мостовую.
Бульвар, который сливается здесь с национальным шоссе — а значит, именно его должны были бомбить, — уцелел; липы тенями метут асфальт. Но как только он оказывается на дороге, которая спускается к Вилле (за левым поворотом, где Алькандр инстинктивно, по привычке, привстаёт на педалях, одновременно нажимая на тормоза, чтобы мягче был толчок, если наедешь на камень, оголённый дождями), его взгляд вдруг теряется — нечто тревожное дополнило привычный горизонт, и в следующий миг он убеждается, что это «нечто» — вдобавок ещё и «ничто»: нет Виллы. Сквозь бешеный ритм педалей, которые, крутясь, приближают его к ограде по ухабам и осколкам кирпичей, которыми усыпана дорога, Алькандр с удивлением слышит, как стучит его сердце, когда ему вдруг представляется более чем реальная картина: мать лежит, раздавленная обломками, испачканное длинное платье задралось, обнажив худые ноги, фиалка на шляпе в крови; он слышит стук до тех пор, пока, швырнув велосипед на гравий во дворе, не замечает Сенатрису, которая, стоя на своих двоих, вне себя от счастья вместе с явившейся на подмогу примирённой семейкой Лафлёр разгребает дымящиеся руины Помпей — они наконец соответствуют своему названию.
43
Вскоре он оставляет их в мусоре и раскопках, снова садится на велосипед и мчится в Замок. Лафлёры покосились на него, когда он рассказал про Резеду и предложил отправиться на её освобождение. Если бы он не отвязался, они отпихнули бы его, как та предместная сволочь; только горькое чувство семейной чести не позволило им наградить Резеду теми же эпитетами; но Алькандр чувствует, что его подруге мало не покажется, когда она вернётся к родному очагу: плохо раздвигать ноги перед врагом, но совсем непростительно делать это с выгодой для своих, опорочивая всю семью.
Когда, не в силах больше жать на педали, Алькандр от фермы начинает подниматься к Замку пешком, кровь ударяет ему в голову от стыда: у него перед глазами пустые глаза Резеды, прижавшейся спиной к парапету, ассиметричный силуэт бритого черепа с причудливой шишкой справа, выпятившейся назад, а сверху — как будто на фотоплёнке по небрежности запечатлели два кадра в одном — накладывается смеющееся лицо Резеды, которая с закрытыми глазами делает «самолётик» на диване в сарае. А ведь мог он настоять на своём, врезал бы им пару раз; Алькандру кажется, что в тот момент, когда он толкает дверь Замка, из глубины ложбины с коптящей фермы его настигает душераздирающий крик охрипшего петуха.
44
— Брось, старичок, придумаешь тоже! Тут нечего сравнивать, в общем, брось.
Жан Ле Мерзон, дождавшийся освобождения, важно расхаживает по саду; у него на руке повязка в виде триколора; он смотрит на глицинии, на симметричные окна Замка: сберёг всё-таки родовое гнездо.
Они медленно бредут по аллеям, говоря об обретённом будущем. От этого суматошного дня, от этих обломков, как от отправной точки, Ле Мерзон выстраивает у себя в голове исключающую погрешности последовательность, которую интуитивно видит во всей полноте пронзительный взгляд глаз цвета перванш. А затем поочерёдно лелеет каждое звено: экзамен, диплом «с отличием», предприятие, политика — столько подзаголовков в биографии Жана Ле Мерзона, что с этого дня, опуская случайные подробности, он мог бы хорошо поставленным голосом устраивать диктанты своему будущему панегиристу.
— И это свобода? — насмехается Алькандр. — Вот я ничего не знаю и знать не хочу.
— С таким негативизмом все возможности прошляпишь. Нет, свобода не в том, что ты знаешь, а в том, что ты можешь, чем занимаешься. — В голосе Ле Мерзона непривычная модуляция, он как будто робеет: сейчас откроется то, что его по-настоящему волнует, ведь это его собственная мысль или, по крайней мере, всплывшая в размышлении. Глаза, которые смотрят из-под железных очков, отвлекаются от собеседника, поблёскивают немного, а затем упираются вдаль.
— Пойми, мир надо брать в свои руки, а не отворачиваться от него. Ты презираешь его, потому что тебе в нём нет места… Слушай, я много думал. Презирают то, чего не имеют, чтобы оправдать себя.
— Зелен виноград[30]… — усмехается Алькандр.
— Ну да, всё просто. Твоя любовь всё усложнять наивна. Я строю будущее, потому что хочу быть хозяином — самому себе, вещам, другим людям. Хочу, чтобы от меня что-то зависело. Вот и кую инструменты: математика — это понимание, техника — преобразование и воздействие, политика — власть; вокруг меня не должно быть сопротивления или неясности; я тоже хочу презирать, но на это нужно иметь право. Знать все тайны! Префект полиции, министр внутренних дел — представляешь их взгляд на мир!
Последние слова он озаряет улыбкой, маскируя пафос долей иронии. Но Алькандр намерен идти до конца.
— Это у тебя от дяди. У него в жизни тоже сплошные тайны и заговоры; кстати, думаю, ему сейчас несладко.
Лицо Ле Мерзона багровеет и сморщивается.
— С тобой невозможно говорить серьёзно. И вообще, у меня дела. Пока.
Выходя из ворот, Алькандр вспоминает, с какой целью пришёл; но разве не Ле Мерзон должен был спросить, где он сегодня будет ночевать?
45
Всю ночь напролёт Сенатриса пророчествовала. Алькандр не пожалел, что уступил ей в уцелевшем сарае с инструментами диван Резеды. Лёжа прямо на земле, завернувшись в одеяла, которые Лафлёры помогли извлечь из-под развалин, ему пришлось слушать изредка прерываемый дрёмой монотонный голос вещуньи, её бессвязное бормотание в ночи. Сначала Алькандр прислушивался, разобрал несколько регулярно повторявшихся фраз, которыми завершалось, а затем начинало новый круг ликование на руинах. Сенатриса ли это говорит? Голос, не подчинённый воле, словно обретает тревожащую независимость, как блуждающий огонёк, который, если его не поддерживать, погаснет. Она говорит о крушении мира, о зловещем и радостном преображении всего в грязь и экскременты, и эта речь, непристойная, пошлая и опошляющая, сама по себе воплощает всеобщий крах; в ней и из-за неё мимолётные явления нереального и беспомощного мира, лишившись ничтожной претензии на содержание и длительность, приминаются, спрессовываются в тёплом мраке бесконечной мусорной свалки.
Алькандр всё же представлял себе, будто после этой ночи, проведённой в одиночестве с матерью, к нему придёт некоторое утешение; другие обитатели Виллы рассыпались по временным жилищам, он привёл Сенатрису в этот сарай и укрыл брошенными одеялами, от которых теперь пахло сыростью и перегноем. Но Сенатриса ни разу не обратила к нему взгляд, пророческая речь лилась в одиночестве, обращённая к ней самой или к миру, а скорее, ни к кому, замыкаясь в себе, как вещь, которой не о чем просить и не в чем убеждать. И вот обессиленный Алькандр, лёжа прямо на земле в сарае среди обломков прошлого и примет безвозвратной радости, просыпается и в тысячный раз оглядывается по сторонам, словно вынырнул из омута кошмаров и угрызений; сквозь стёкла оранжереи и дыры в крыше понемногу сочится свет зари, и возле внезапно уснувшей матери ему остаётся с содроганием признать, что это и есть апогей одиночества. В образах, затуманенных короткими провалами в судорожный сон, смешивается рассвет, мигрень, абсурдная череда мук и предательств. Так заканчивается для Алькандра время ожидания, и с третьим криком петуха, который, слабея, долетает до него сквозь туман со дна ложбины, начинается будущее. Так прощается он с временным покоем, с этой землёй; сегодня он столкнулся с правдой изгнания и неуклонностью отчуждения. Ведь что бы там ни снилось Сенатрисе, сегодня начнётся что-то новое, но Алькандру в этом не участвовать; что-то тронулось с места и будет неумолимо возводиться и утверждаться на развалинах, на нападках и криках той сволочи с окраины, на амбициях Ле Мерзона-сына, дядиных висячих замках, которые не подвели, и на опухшем лице Резеды.
Глава 3
1
Продажа помпейских руин Жану Ле Мерзону, который также взялся добиться компенсации, позволила купить домик в Исси, где Алькандр поселил мать. Пришлось вытащить её из оранжереи, где она желала закончить свои дни, помочь ей собрать и упаковать кое-какие богатства, ещё попадавшиеся в развалинах. Вот она — предаётся мечтам в пригороде среди плодов и цветов, примирившись наконец с неисправимой насмешницей судьбой.
Срезает ли Сенатриса розы, следит ли, как поспевает малина? В небе над долиной воскресный самолёт рисует белой кистью вопросительный знак. Местом настоящей любви всегда будет сад — там всё растёт и цветёт. Как зерно, набухающее в удобренной почве, Алькандр мечтает вновь погрузиться здесь в теплоту начала начал, пока Сенатриса, вооружившись лопатой, секатором или поливочным шлангом, участвует в нескончаемых трудах природы; прозорливо угадывая недовершённые поползновения, немые потуги растительности, она раскрывает почки, ускоряет прилив соков и, срезая охваченные неорганическим оцепенением ветви, подготавливает дерзкий и недолговечный триумф жизни.
Кладбище в двух шагах отсюда, куда скоро мы её отнесём, — антипод сада и одновременно его копия. Сенатриса украдкой туда наведывается; но вовсе не для того, чтобы услышать дрожащие голоса мертвецов, питающие её пророческое вдохновение: за этой оградой, ощутив опьянение жизнью, дав волне покоя пролиться на бурлящий генезис, который окружает её в собственном саду, среди прямых аллей и гладких мраморных плит получает она утешительное обещание ухода в мир иной. Так немощным телом и готовой воспарить душой ведёт она диалог о двух садах — жизни и смерти; ведь когда вокруг её дома распускаются и увядают растения, сменяют друг друга почки и листья, увядшие цветы и набухшие бутоны, разве неизменная очерёдность времён года на плодородной пригородной почве не символизирует чудесную неотвратимость возвращения? Да и мертвецы Исси-ле-Мулино, избавившись во мраке могил от груза тревог о преходящем и возродившись в истинном своём естестве, подтверждают, что вечность существует. Надев волшебную шляпу, у которой она надставила поля, чтобы убор соответствовал её деревенским занятиям, приподнимая порой полы бирюзовой мантии, до лодыжек спадающей вдоль её большого тела, Сенатриса с озабоченным или задумчивым видом среди своего урожая напоминает пугало, которое соорудили крестьянские руки, или же, если Алькандр смотрит на неё с большей почтительностью, — на древнейшее божество, один из тех идолов изобилия и плодородия, чью простую форму, заданную природой в стволе старой оливы или в гладком камне, лишь немного доработал художник-дикарь с его благоговейным практицизмом, чтобы читались заложенные в узловатости дерева, в прожилках минерала обобщённые атрибуты женственности. Так её священная персона соединяет в загадочном единстве противоположные, казалось бы, признаки обновления и постоянства: она прародительница и кормилица, землепашец и наперсница усопших, она Гея, богиня земли, наша общая мать и супруга, из её лона мы вышли, в него и вернёмся; в бесконечно повторяющемся цикле зарождения и разложения она — материя вечности.
Но всеобщему закону природы Алькандр отвечает унынием мыслящей особи. Он — зияние в этой всеобъемлющей наполненности, капля воздуха, блуждающая в тёплом мраке земли. На спокойное безбрежное величие материи он наводит зеркало своего тревожного конечного «я». Против безжалостной доброты божества обращает бесполезную ярость индивида. И кажется, будто от его бешенства прорывается ткань существования, и в эту брешь сцеживается едкая капля небытия; и чтобы его бунт возымел продолжение, он ожесточённо разводит по разные стороны собственного гнева жизнь и смерть, которые любовно сплетаются на кладбищах и в садах. Как бы сложился у него разговор с матерью? В часы, не занятые прорицаниями, Сенатриса погружается в растительную дрёму. Она всегда казалась немного не от мира сего; ещё бы: жизнь у неё, как говорится, была не сахар. Но теперь её душа попала в путы, связующие её с мертвецами, и тело ждёт, чтобы незримо рассеяться по окраинным садам, готовясь к новому цветению, так что Сенатриса, живущая в двух стихиях, — двуликое существо, чья земная наполненность взмахом крыла превращается в лазурную прозрачность потустороннего, — уходит от домогательств Алькандра, точно славка, выпорхнувшая из рук нерасторопного продавца птиц. В этом благоуханном саду он как никогда познаёт плен одиночества.
2
Но он то и дело сбегает из Исси-ле-Мулино. На дорогах, заросших диким виноградом, между ветхих домов и рабочих огородов он встречает стариков с лицами идолов и бородами визирей, армянок с антрацитовыми глазами — он в Анатолии тысячу лет назад, в Ване, в Трапезунде[31]. Он чувствует скрытую дрожь, видит смутные очертания холма, изрытого древними лазами, над которым лениво работали обвалы и проседания почвы; строения здесь расшатанные, несимметричные, беспорядочно налезают друг на друга хибары с плоскими крышами и террасами, которые кривенько повёрнуты лицом к наблюдателю и открываются все разом в невозможном ракурсе, как на старинной фреске, где кропотливость рисовальщика призвана возместить недостаток видимого пространства через обратную перспективу; частые петли дорог, в которых чужак сразу заблудится, как на базаре, смущённый взглядом чёрных широко распахнутых глаз, мгновение провожающих его, хотя голова остаётся неподвижной; на базарной площади запах пряностей и солонины, в котором тысячи солнц Востока смешались с гризайлью крытых рынков; эхо тайных пиршеств под сводами зелёных беседок по вечерам; сон под звёздами на плоских крышах, переливы армянской речи, разливающейся во всей пестроте среди ночной тишины, как рисунок ковра на тёмном фоне; внизу — редкие мерцающие огни за пыльными окнами больших кафе, где в триктрак играют тени; гул шагов в подземельях, в карьерах, которыми изрыто брюхо холма, — оседая, он на все времена придаёт строениям и изгородям непрочность руин; под зыбкой почвой подземельная ночь повторяет, а может, и творит ночь небесную. И ему является душа погребального города, молчаливо властвующая над течением времени, — вот он, Трапезунд, ветхое пристанище, где продолжается сумеречная обрядная жизнь разрушенной Византии[32], а мерцание долины у подножия холма напоминает лунный свет, скользящий по плещущим волнам Понта Эвксинского[33]. Осада и разграбление неизбежны, пурпурные монаршие одеяния, священные сосуды и ковчежцы из церквей спрятали в водоёме.
Словно беглец, выживший в разорённом краю (он будет идти по ночам, спать в развалинах деревень, делить жёсткую лепёшку и сыр с караванщиками), Алькандр проникает за стены осаждённого города; слушая плач, доносящийся со всех сторон, он расскажет о мученичествах, о разграблении дворцов и базилик; лёжа ниц в соборе, обречённом на осквернение и поругание, во время последней службы он будет молиться с молодым монархом и его приближёнными в монашеских робах; и со спокойной душой, очистившись телом за время поста и ночных переходов, он станет среди своих ждать наступления последних дней Трапезунда.
3
Всего за несколько улиц перенёс свой пригородный домишко дядя Ле Мерзон: тот же дикий виноград, та же железная решётка с облупившимися пиками, тот же строительный камень цвета кошачьего дерьма. Рю дю Тир, прямая и грязная, нависает над широким горизонтом долины; дальше — дорога Винных погребов, узкая дугообразная галерея, где с одной стороны напирает сирень, а с другой — стоят низкие ограды молчаливых садов; надо совсем немного пройти вдоль железной дороги, где шлаковые насыпи, покрытые лужицами солярки, под дождём выдыхают резкие и едкие флюиды с запахом руды; небольшой скособоченный мост, где Алькандр останавливается и смотрит, как при прохождении поезда Версаль-Верфи[34] меняет цвета семафор; ещё несколько метров вверх по рю де Флёри, тихой богатой улице пенсионеров; вот он толкает калитку, застав врасплох кошку, которая отпрыгивает в сторону и, выгнув спину, замирает под пыльной пальмой.
Дядя тоже не изменился; или всё-таки художника в нём стало больше в ущерб политику: ворот рубашки расстёгнут и ещё больше засален, в складках мятого берета прячется осевшая и успевшая превратиться в корку пыль, через дверь ванной тянется отвратительный запах. Но простенькое белое вино, которое он, насвистывая, приносит из погреба, всё так же янтарно-прозрачно; разве что теперь оно быстрее разливается по дядиным мышцам, ставшим больше похожими на губку, и, подбираясь к жёлтому лицу, испариной проявляется вокруг щетинистых усов, сужает бесцветные глазки и наводит муть на их блеск.
— Ну что, юный польдеванин[35], по-прежнему витаем в облаках? — говорит дядя и растопыривает локти на столе из резного ореха, словно защищая свою бутылку и печенье, но ещё чтобы ограничить пространство, куда он поместил Алькандра и запер в «ячейке», которая неизменностью памяти и стойкостью предубеждений специально для гостя отведена в дядиной системе мироздания.
Алькандр, которому не довелось придумать для себя дефиницию, ненадолго укрывается за подаренной ему маской: ему приятно чувство, что во время разговора он всё ещё меланхоличный студент, в смутную годину увлёкшийся Каббалой, юный математик со странным акцентом, который между строк у Дрюмона упорно прочитывал миф о Вечном Жиде. Алькандр вполуха слушает дядю, который всё суетится, прихлёбывает вино, уходит, возвращается, вручает ему том, поглаживая обложку, и снова прихлёбывает; он смотрит, как хозяин вытаскивает из-под рамы зеркала запылившуюся открытку с поздравлениями от Жана Ле Мерзона, который «не забыл дядюшку-старика», затем смачивает губы в бокале с вином, где размякшие крошки печенья описывают медленные спирали, подобные послеполуденным пригородным мгновениям и жизням людским в их ленивом и роковом течении; он ждёт дядиного возвращения, когда тот, метнув цитату, вдруг семенит в ванную, с хриплым покашливанием плюёт в умывальник и снова мечет цитату; Алькандр даже отвечает — хотя, кажется, иногда невпопад — на его маразматические высказывания об облаках и твёрдой почве реальности и, в свою очередь, мысленно очерчивает вечный образ дяди Ле Мерзона и его место в иерархии явлений. И тогда в растянутости и одутловатости плоти, которые возраст придал дядиному телу, в дряблости мышц, хрупкости костей, из-за которых он, как губка, впитывает вино и чувства, Алькандр усматривает признаки «эволюции наоборот»: если взглянуть сквозь сжатую перспективу лет, видно, что место дяди — на одной прочной и тихой ветви с моллюсками. Пригородное пристанище, которое дядя соорудил, чтобы укрыться от унижений века, панцирь из строительного камня, где он чувствует себя в безопасности, — пока всего лишь первый, несовершенный и плохо подогнанный макет раковины, которую он медленно выращивает вокруг себя, чтобы скрыть в ней свои обиды и горечь; а поскольку скупыми движениями пластинчато-жаберной твари руководит всё ещё наполовину человеческая душа, которая пока не вполне научилась жить в вечном настоящем, то она создаёт из прошлого другую, неовеществлённую раковину, и та, прежде чем жилец окончательно уснёт, стягивается, охватывая те далёкие эры, когда время медленно разматывало свои спирали, те обесчеловеченные тысячелетия, когда свидетелем безграничного упорства моллюсков была только бесчувственная растительность. Истинная сущность дяди восстановлена, он уподоблён плоской устрице вроде тех, которым, как в Новый год подморозит, пейзанцы-иссианцы устраивают жуткую резню, и теперь Алькандр смело может наблюдать за бесхитростными проказами природного создания; и иногда по ходу разговора ради забавы окропляет сочную сокращающуюся плоть каплей ароматного уксуса.
— Во время высадки особых неприятностей не было?
Щетинистые усики, усыпанные крошками, двигаются туда-сюда, что означает отрицание.
— Вовсе нет, вовсе нет, — отвечает дядя, — парочка ненормальных, местные дрязги… Я переехал. Видите ли, по сути мы все воевали за Францию.
Капля уксуса на мгновение вызвала лёгкую судорогу; но сразу впиталась или растворилась в испарине, покрывшей обрюзглое тело, которое вальяжно отплывает к месту отдыха.
Иногда потереться о дядины икры приходит кошка и даёт погладить изгиб своей бархатной спины; обращённые к Алькандру круглые яшмовые глаза выражают жгучую ненависть. Дядя ласково успокаивает её; беглый взгляд говорит Алькандру: ваши дикарские речи испугали даже это возвышенное животное.
Простенькое белое вино заканчивается; дядюшка снова уснул в своей раковине. Алькандру пора ретироваться, он ещё раз проходит сквозь это ковчежное счастье: мимо пальмы, утопающей в пыли, встревоженной кошки, провожающей его злобным взглядом, решётки, ограждающей дядин аскетичный мирок. В небе скапливаются большие кучевые облака, они опускаются на кусты сирени вдоль дороги Винных погребов и сливаются с их мягкими шапками; дверь в логово захлопывается, Алькандр вдыхает полной грудью свободу и на мгновение теряется, сбросив всю тяжесть земную, как утонувший в цветах и венках мертвец, которого несут влажный воздух и запахи, — польдеванин, витающий в облаках.
4
Теперь постоим на маленьком мосту через железную дорогу — посмотрим, как он возвращается тем же путём; в этом романе совсем ничего не происходит, а если что-то и движется, то на заднем плане, в потёмках сознания, в пространстве между строк, между глав; мало поцелуев, ещё меньше драк и ран; всё бесцветное, вялое, как в жизни. Да и после этого абзаца приготовимся к тому, что ещё четыре страницы мы так и будем следить за рассеянным мечтателем, который возвращается домой.
Не стоит, однако, упрекать автора в лености: он начеку, само усердие, трудится без отдыха, чтобы передать бесконечное разнообразие бытия. Вон он, сразу за мостом, как часовой на посту, выслеживает своего героя, повернувшегося к нему спиной: но фигура Алькандра, который идёт по сиреневой тропе, то полностью исчезает в тени, то вновь появляется в просвете, и мы только успеваем заметить, какой встряхивает по-прежнему непослушными волосами и снова растворяется в цветах и листьях — так же и бытие, а не только авторские абзацы, то и дело оставляет нам разрывы и зияния, в которых пропадают целые промежутки истории; именно стремясь к правде, автор не желает заполнять своими глоссами и интерполяциями пробелы, которые оставила жизнь, даже если ему придётся строить рассказ из бессвязных и беспорядочных эпизодов. Что нам известно об Алькандре от пятнадцати до восемнадцати лет? А потом, до последнего момента, когда его вот-вот поглотит поворот дороги, но перед этим он вновь возникнет перед нами спиной, и его озарит внезапный луч, и волосы будут путаться, а силу ветвей сирени дополнят невостребованные силы его тридцати лет?
«Он и сам не знает», — мысленно произносит Алькандр, исчезая из поля нашего зрения; его наблюдения за собой тоже обрывочны и перемежаются зияниями. Всю жизнь он ищет себя среди разрозненных «белых пятен», похожих на хлопья тумана, оседающие по утрам в низинах одной из департаментских дорог через бокаж, где во время своих путешествий поздней осенью он пускал велосипед под откос с криком «ура», как гусар, летящий в атаку, а через несколько метров начинал выбираться, жал, стоя на педали, карабкался на крутой пригорок, откуда ему открывалась новая низина, заполненная туманом. Но хлопковые туманы жизни нельзя предвидеть, время их не сосчитать; некоторые растягиваются на незаметно текущие месяцы и даже годы, зато потом их можно отмерить по календарям, отметить на шкале времени с помощью умозрительных сопоставлений, ориентируясь на логику и правдоподобие. Для самого Алькандра эти незамеченные месяцы и годы пропали, стёрлись навсегда. Иногда он пытается вернуть крупицы растворившегося прошлого — в конце концов, это его достояние, частица наследия, которым он распоряжается, почти не скупясь; но перед ним в большом беспорядке возникают только размытые образы, и он с горечью смотрит, как они снова рассеиваются, испаряются на сцене памяти. От парижского периода освобождения остались только неразбериха, беготня и вопли, как во время ярмарочного веселья в городе, где стало вдруг в десять раз больше жителей, да ещё яркие расцветки платьев, объятия и хохот без причины; и дымок от табака из Вирджинии, который был отменным только в тот год, экраны кино, превращённые вдруг в пещеры глубиной кадра, и вернувшийся джаз, который перенёс это всё в свои синкопы. Впрочем, в памяти смутно, с трудом очерчиваются и другие образы — деревья, набережная, где он остановился перед обрамлённой мрамором витриной книжной лавки, бледно-зелёные обложки трудов по математике, их чёткие заголовки, рождающие иллюзию, будто не всё в мире преходяще; вечерами за чтением он с улыбкой открывает для себя картину собственной жизни в виде непрерывной дифференцируемой функции, бесконечно рваный график которой в каждой точке представляет собой настоящее как таковое, замкнутое на самом себе, отрезанное от любого прошлого и ничего не сообщающее о будущем. И вновь он слышит, как рождается джазовая мелодия, глубоко скрытая и беспричинно разбуженная: один лишь ритм, обозначенный глухими звуками контрабаса, достигал поверхности памяти, но постепенно он оформляется, окрашивается мелодией, заставляет дрожать очертания едва наметившихся образов и разбивает их, уносит, словно льдины на вскрывшейся речке, бурным потоком своих вариаций. Неужели тема и правда хранилась на дне памяти? Или, быть может, в эту самую минуту Алькандр заново сочиняет её, развивает, как бывало в пустых барах после полуночи, на танцах, где многие беспросветные годы, зарабатывая на жизнь, он импровизировал за пианино под пристальными взглядами запоздалых алкашей? Вот музыка звучит, и отсчитывает шаги Алькандра, заменяя ему мысль, и уже в себе несёт недолговечные образы: большой абажур из жёлтого пергамента, испещрённый надписями, алыми отпечатками поцелуев — памятник коротким радостям кутил; вязкий экзотический аромат, который он вдыхал в золотых волосах пьяной крали, кое-как пристроившейся на его правом колене и желавшей побренчать вместе с ним; зловещие фигуры барменов с эполетами, отражавшимися в тысяче зеркал, — целая армия барменов с бульдожьими подбородками; холод парижских улиц после закрытия заведений — Алькандру уже не вернуть ничего из доставшегося ему от тех лет, в которых было меньше жизни, чем в самую непроглядную ночь, от их тусклых бесцветных лимбов и ничем не заполненных зияний.
Но разве в настоящем больше связности и полноты? Каждое утро в компании пролетария-синдикалиста, который, тщательно побрившись и утеплившись в «канадку»[36], спускается вниз продавать свою рабочую силу, Алькандр покидает на заре уснувший Трапезунд и трясётся в автобусе, дающем кругаля вниз по бульвару Родена; ежедневное погружение в долину в копоти первых «Голуазов»[37] — это снова брешь, вхождение в лимб, пробел вроде тех, которые постоянно вклиниваются и придают неопределённость его жизненному пути, как пунктирные линии, нанесённые на карты пустынь и обозначающие несмелый след Вади[38] в песках и каменных пустынях, где он лениво теряется. Зато теперь Алькандр не сталкивается с мерзкой братией управляющих барами, с фамильярностью коллег-музыкантов; со своим стадом вычислительных машин он общается на идеальном языке. Ему кажется, будто он растворяется в разреженном, сладковатом, тошнотворном, как анестетик, воздухе, в больничной тишине, которую вместо стука его сердца упорядочивает тихое пощёлкивание электроники. Сначала он думал, что любит эти машины за безграничную и терпеливую тупость, за сочетание в них непогрешимой логики и полного отсутствия воображения, что так отличало их ум от математического и так сближало с философами-рационалистами; вначале он развлекался тем, что устраивал им коварные ловушки, ставил скрытые капканы, которые с удовольствием предложил бы Спинозе или какому-нибудь другому гиганту мысли, и они невозмутимо «влетали» всеми своими схемами, реле и увесистой памятью. Он находил удовольствие в строгости их языка, который черпает своё подобие смысла в постоянстве связей между составляющими; честным получался разговор с этим прямолинейным разумом, чьи логические построения не могли быть искривлены никакими эмоциями, а независимые высказывания никогда не окрашивались реверберациями, ассоциациями, ложными реминисценциями, которые делают невыносимым интеллектуальное сосуществование с людьми. Только вскоре Алькандр заметил, что, не желая увязывать свои сообщения с предметами внешнего мира, добросовестные твари перекладывают это ненадёжное дело на него; и, несмотря на внешне убедительные безапелляционные утверждения, их ответы — это и наивные вопросы. Диалог с машинами вновь стал монологом, заводящим в тупик, и в жужжании электроники Алькандр слышит только усиленное эхо собственной мысли, а вместо всезнающих сфинксов видит вокруг лишь чудовищное отображение собственного мозга, представленное в увеличительных зеркалах.
Впрочем, беседуя с самим собой или с этими монстрами, он хотя бы познаёт в этих логических путешествиях высшее удовольствие — результат пробуждения сознания; каждый этап вычислений, каждый миг размышлений рядом с этими механическими умами, в тишине кабинета, где кондиционеры поддерживают микроклимат, как в эдаких ваннах мудрости с эфиром, который нужен для сохранения обнажённых органов мысли, каждый значок, нацарапанный на листе бумаги, даже если в нём обнаружилась ошибка и он стал бесплодной вехой на ложном пути, выбранном по рассеянности, позволяет ему от начала до конца проследить ход мысли, чуткой к тому, как стыкуются её тезисы. Однако рабочие дни с их сплошной канвой, вытеснив всё иное, оставили только череду собственных повторений и впоследствии начнут казаться ему такими же белыми пятнами, зияющими провалами в протяжённости его жизни. Ведь эти лакуны, с ужасом убеждается он, не навязаны ему извне — различными обстоятельствами, которые требовали бы его внимания и заставляли бы оторваться от главного; возвращающаяся усталость и неприспособленность к настоящему — лишь проявления внутренней раздробленности, непосредственные свойства бытия разнородного, противоречивого существа. Пока тело, обученное автоматикой, как будто само по себе совершает здравые и простые действия и, казалось бы, ничто не должно отвлекать разум от здорового пробуждения и бодрствования, на обратном пути в автобусе, когда всё, что видит Алькандр, это «канадка» соседа-синдикалиста, его осунувшееся за день лицо, сложенная вчетверо газета, где всего понемногу — и требования, которые никак не удовлетворят, и футбольные радости в утешение, — мысль его вдруг отвлекается, распыляется, перетекает с одного незначащего предмета к другому, выбранному походя. Он не раз попробует спуститься в бездны сознания, осветить мыслью дремлющий сумрак, исследовать провалы своей жизни. Но искать там нечего, как в давно пересохшем колодце, на тёмном дне которого в зарослях крапивы сохранился только разномастный мусор, попавший туда по нерадению деревенских. А ещё, когда автобус тряхнёт или он резко затормозит, Алькандр тут же пытается настигнуть самого себя в иных сферах, опрометью броситься в пустоту невнимания, как подростки, увлёкшиеся идеализмом, оглядываются проверить, что произошло со столом[39], пока они не смотрели, — ну-ка? Смотреть не на что: обрывки дурацких фраз, зачастую одних и тех же — «со вчерашнего дня императорская армия перешла в наступление по всем фронтам», «герцог и герцогиня N остановились в отеле, „Эксельсиор“» — а иногда и вовсе простенький ритм: ля-ля-тра-ля-ля. Ничтожные тайны сознания! Скудные проростки воображения! А он думал найти в глубинах пещеры сокровища Аладдина, место, где укрылась свободная сущность, посылающая индивиду свечение, украшенное мириадами возможностей? Для того, кто презрел всё поверхностное, хорошая находка — эта гниющая водная гладь в дебрях лабиринта, которая отражает гаснущие лучи далёкого солнца и слегка рябит, вторя приглушённому эху мира — ля-ля-тра-ля-ля-ля! Но мучительнее всего разрыв внутри его собственного существа, который обнаруживается в этих погружениях украдкой: с каким трудом находишь себя, если и не думал, что потерял! Как утомительно осознавать своё «я»! Да и какое «я»? Он, как и все, привык говорить о себе «я, Алькандр», тем самым имея в виду сущностное единство своих стремлений и фантазий; а теперь обнаружилось, что сердцевина его сознательной мысли смещена, что сама мысль силой вырвана из своих глубин и скреплена с предметами почти непреодолимой магнетической силой, а стоит ослабить внимание — поглощается ими; так что он обречён на изгнание в крайнем и самом бесславном его проявлении — он изгнан из собственного существа. И зияния, провалы, разрывы, в которых он винил обстоятельства, лишь умножают и грубо, поверхностно имитируют внутреннюю пористость, болезненную противоречивость его «я», множественность и рассредоточение его граней, похожих на тусклые зеркала, разнесённые на бесконечное расстояние.
И всё же, и всё же, — думает Алькандр, возникая из сирени на другом конце дороги, какой бы чудовищно утомительной ни казалась постоянная сосредоточенность, какими бы эфемерными, летучими ни были появляющиеся образы, разве не обрывочность существования, — конечно, если разрывы в нём нами замечены, — становится доказательством вечности? Конечному существу доступна только сиюминутность; созерцать ему не дано, вот он и живёт внезапными видениями, озарениями, которые тут же гаснут в забвении. Чтобы эти озарения могли засиять на фоне бесконечной безучастности, разве не нужно разъединить полюса сознания, разве увлекаемая от разрыва к разрыву, от пробела к пробелу жизнь на бесконечно малый миг не должна сорвать тяжёлые одежды случайности?
Он уже возле своей калитки; Сенатриса под широкополой шляпой — точь-в-точь истукан — прислонилась к яблоне со шлангом в руке и ничего не замечает. Что, если вместо светлого выхода из всех пещер, вместо желанного явления Вечного города, где он мог бы жить, не терзаясь, в конце, после всех зияний, вобрав их в себя, собрав в толще остановившегося времени, в ужасающей антивечности, возникает последнее большое зияние, из которого не выбраться?
5
— Мон фи[40], вы меня смущаете, — говорит Сенатриса, перемешивая карты, которыми раскладывала пасьянс.
Они закончили ужинать. Алькандр отнёс на кухню остатки манных клецок. Сенатриса не променяла французский язык своих гувернанток на грубое местное наречие: она говорит «мон фи», помнит про придыхательное «аш», и отсюда до Версаля у неё единственной правильное смягчённое «эл». Языком своего детства она пользуется, обращаясь к Алькандру, когда его надо привести в чувство: своими строгими синтаксическими конструкциями, фиксированными оборотами, испытанными в тысяче романов, язык спасает Сенатрису от гибельного искушения душевной близостью.
Алькандр уже не раз просил её погадать; не то чтобы его занимали обстоятельства будущего, которые, по его представлениям, не будут отличаться от настоящих, но ему хотелось разок понаблюдать за матерью, вершащей своё таинство. Этим вечером он повторил просьбу, не особо настаивая, от нечего делать: фортепьяно было расстроено.
— Мон фи, вы меня смущаете, — сказала Сенатриса, — не знаю, есть ли у меня этот дар…
Пока она ищет колоду таро, Алькандр ставит на стол бутыль свекольного самогона, перегнанного в Ла Гарен «по старинному фамильному рецепту бывшим придворным камергером».
— Вообще-то я никогда не раскладывала карты для себя, — произносит Сенатриса с непривычной робостью в голосе.
— Скажите только, суждено ли мне стать миллионером, — отвечает Алькандр, усаживаясь на стул, — своими миллионами обещаю с вами не делиться.
Его раздражает, что она мнётся и воспринимает свои пророчества всерьёз; он всё время поддразнивает её.
На длинных пальцах морщинистая кожа, суставы сгубил артрит, зато движения у Сенатрисы уверенные — огород не изменил их изящества; в круге света под лампой она выкладывает в ряд свои вещие карты. На Алькандра она не смотрит; её отсутствующий взгляд остановился где-то за картонными прямоугольниками и наблюдает совпадение нематериальных фигур. Когда она переворачивает карты, её движения замедляются; вот она замирает с картой, приподнятой над столом.
— Ну? — говорит Алькандр.
— Алькандр, вы меня смущаете.
Такое впечатление, что этим вечером других слов она для него не найдёт. Затем внезапно со страданьем и горечью:
— Это распутство. Меня не касается, с кем вы видитесь в Париже, — она употребила более сильное слово: её научили, что это одна из привилегий аристократии. — Но я не хочу быть в это посвящена. Это неприлично.
И она припечатывает к столу карту, которую держала двумя пальцами, и уже готова смести ладонью весь расклад. Алькандр перегибается через стол, чтобы приложить губы к её пальцам и светлым локонам седых волос. Он улыбается:
— Наоборот, скажите мне всё. Ведь это в будущем. Она блондинка? Брюнетка? А грудь красивая? Я совсем ничего не знаю.
— Мон фи, — упорно твердит Сенатриса, — это неприлично.
Но карты не спутаны. Она медленно берёт следующую и переворачивает её.
— Видимо, я ошиблась, — говорит она, обращаясь к самой себе. — Наверное, эта женщина… я сама. Вы определённо меня смущаете.
Глаза поднимаются к Алькандру: в её взгляде непередаваемая глубина; Алькандру кажется, будто сквозь синеву этих глаз он видит, как распахиваются беспредельные горизонты пророческой мысли.
— Я вижу смерть и много счастья. Алькандр, шутки в сторону. Думаю, скоро мне уже нечем будет вам помочь. Кажется, я видела свой гроб.
Он отводит её к просиженному дивану и усаживает между двумя строптивыми пружинами, выпятившимися под тканью в цветочек.
— Я надеялся больше узнать о виктории, которая меня ждёт. Вы слишком серьёзно относитесь к картам.
— Ничего серьёзного в этом нет, — отвечает Сенатриса, — но смерть — это точно; меня только смущает, что сегодня я не смогла встретить её с ясным рассудком. Ревность — плохое чувство.
Алькандр изо всех сил сжимает её в объятиях, покрывает поцелуями — впервые с тех пор, как кончилось детство, — и относит в постель, где она засыпает в слезах, не раздеваясь. Всю трапезундскую ночь он просидит один перед молчащим фортепьяно, сжимая в пальцах рюмку самогона.
6
Внезапно он чувствует потребность вырваться из этого умиротворённого страдания, неудовлетворённого покоя. Алькандр уезжает, не предупредив мать; в дороге он напишет ей письмо, которое по возвращении обнаружит неоткрытым на кухонном столе: в отсутствие сына Сенатриса не имеет привычки распечатывать почту.
Алькандр уезжает, чтобы найти и покорить Мероэ, исчезнувшую в последних водоворотах войны, — Мероэ, которая всегда здесь и всегда недостижима, всегда торжествует над более доступными возможностями и менее запретными желаниями. В незнакомом городе, где он сойдёт ночью, сироты сделали временную остановку.
Сколько разных пейзажей, пригородов под дождём и рек прорезает напористо и однообразно движущийся поезд; когда наступает ночь, в неровный сон Алькандра врываются ещё более горькие и жестокие видения: свет в окнах здания, покрытого сажей, которое нависло над путями, лоснящиеся рельсы, которые тянутся по безлюдному пространству сортировочного ангара, три забытых товарных вагона, груда намокших под дождём кирпичей и приближающаяся под неровный стук колёс, висящая без видимой опоры в чёрном небе, огромная надпись светящимися буквами — название какого-то химиката, суровое и простое, — постепенно очерчивается во всей своей безжалостной чёткости, а затем постепенно исчезает в тумане и мороси, как гнойник в нездоровой ткани этой ночи. Враждебность вещей, которые застали врасплох в несуразной застылости их географических пересечений, противопоставление постоянства и подвижности, дремотного континуума пространства и дискретности времени, натиск поезда, который неотвратимо приближает его к ночному вокзалу, к спящему городу, где говорят на непонятном ему языке, — всё это насыщает неровный сон путешественника архаичными и тревожными метафорами.
Мероэ, слабое волнение раскинувшихся волос в ночи, ускользающий образ Империи и небытия — она ли эта застывшая маска, незнакомое лицо богатой и несчастной молодой женщины, которая встречает его без улыбки? Сироты бесцельно кочевали по всем углам Европы. Гиас участвует в каких-то конкурсах; Мероэ живёт в мягко обставленных и мрачноватых комнатах особняков, проводит там леностные утра между ванной, туалетным столиком и подносом с завтраком. Она коллекционирует украшения и днём таскается по ювелирным магазинам. За ужином молчит, пьёт шампанское.
Иногда у неё, измученной бессонницей и изжогой, сердце вдруг пустится вскачь, и вот она зажигает ночник и босиком ступает по ковру, где раскидана сброшенная одежда, шкатулки и лежит простая картонная коробка, куда она сваливает свои сокровища; она садится по-турецки на скомканную постель и подолгу роется в беспорядке клипс, ожерелий и брошей. Кажется, будто пальцы Мероэ стали цвета золота или забронзовели в обжигающем блеске драгоценных камней. Она медленно перекладывает украшения, которые никогда не носит, словно от соприкосновения и трения они могут растаять, превратиться в текучую массу, выпустить тайное тепло, скрытое под гладкостью форм и сумеречным сиянием красок. В слабом свете ночника, в дыму бесчисленных сигарет, которые она, не успев зажечь, давит в пепельнице или прямо о ковёр, ощупывая экскрементное по скрытой сути своей вещество драгоценных камней и металлов, болезненные приступы иногда удаётся успокоить на одну ночь.
Если он сможет вырвать её из утреннего бесчувствия, они отправятся куда глаза глядят по серым улицам, разбуженным короткими мартовскими ливнями. Что сказать этой реальной Мероэ, превратившей свою загадку в боль?
— Вы только пожелайте, — начинает он, стоя возле смятой кровати и следя за движением пальцев Мероэ, пока она, прикрыв глаза, туда-сюда передвигает по загорелой присобранной коже кольца, — только пожелайте, и я вынесу вас отсюда на руках. Никто не может держать вас в плену. Что за призрак, рождённый внутри вас, задёрнул шторы?
Произнося это, он мышцами спины, мышцами руки ощущает потребность к действию — то первое движение, одновременно напористое и плавное, которым он сразу освободил бы Мероэ и самого себя бы освободил, преодолел бы вдруг расстояние, отделяющее его от всего сущего и оставляющее в одиночестве и в смятении.
Но она не отвечает, она поглощена маниакальным движением пальцев, челночным скольжением колец; или же произносит:
— Ладно, пойдёмте, раз вам так хочется.
Так выглядел бы разговор с умирающей: разом осмелев, в роковой час хочется признаться ей в том, что из трусости или лукавства двадцать лет скрывалось в суете повседневности; откладывать нельзя, но её взгляд, остановившийся где-то далеко, уже предупреждает, что она не удостоит ответом ваш последний призыв.
Восхитительная и отсутствующая Мероэ, собственная квинтэссенция, постепенно съёживается, остаётся только свет экскрементных глаз, и от их блеска она словно становится бесплотной: всё, что в ней есть осязаемого, постепенно уходит, как будто перестаёт звучать музыка. Всю жизнь она парила в воображении Алькандра неясным скоплением атомов, невесомых в лёгком эфире сна; а теперь она вот-вот улетучится, купаясь в этом неуловимом свечении, и растает в огне собственных глаз. Откуда взяться силе, способной наполнить ткани, прозрачность которых всё более заметна, и где та кровь, что влилась бы в эти растворяющиеся сосуды? Однако в попытке удержать её, воплотить, вместить в эту более грубую явь, где с ней можно было бы общаться, Алькандр с горечью признаёт, что точно так же не приспособлен к реальности.
Она будет исчезать, не желая его видеть, возвращаться к нему без видимых причин, потом сбегать к Гиасу, которому отданы все её вечера.
Когда говорить больше не о чем и остаётся только подчиниться устарелым и комичным правилам ухаживания, он молча продолжает водить её по старинным особнякам, в оперетту. В один концертный зал с гипсовыми позолоченными кариатидами они пойдут слушать «Поэму Сотворения». Как это странное произведение Лееба, претендовавшее на обращение к легендарным истокам, пережило крушение Империи?
И вот начинается содом. Но прежде — исключительно неторопливый пассаж, подчёркнутое звучание которого почти сразу достигает пределов пронзительности. Алькандр узнаёт переложенную в сверхвысоких тонах простонародную колыбельную его детства. Развитие незамысловатой мелодии словно замедляется на каждом такте, каждый аккорд невыносимо растянут, пока всё наконец не зависает на фортиссимо единственной нотой, которую бесконечно долго высвистывают пикколо и тянут в унисон квинты[41] скрипок. Дальше вступают трещотки: раз-два, раз-два-три — на фоне пронзительной ноты, которая всё звучит; и сначала медленно, выдерживая тревожные паузы между вступлениями, а затем из раза в раз ускоряясь и становясь постепенно всё громче, их ритмичный стрекот, поддержанный вскоре четырьмя барабанами, вовлекает в неуклюжий и шальной танец все инструменты оркестра; в танец или, скорее, в битву, отмеченную падениями, глухими ударами, напористым топотом; за приглушённым эхом гигантских ног, ударяющих рыхлую землю, слышится тяжёлое дыхание двух мускулистых туловищ, напирающих друг на друга до треска.
Хулак, который крестьяне Империи отплясывали по вечерам на приходских праздниках, набирает фантастическую мощь и сотрясает мироздание.
Задыхаясь от распространяемого меломанами амбре, так что мертвенная бледность проступает под грязной золотистостью кожи, Мероэ откидывается в кресле, бессильно опустив руки; экскрементный муар радужной оболочки то мерцает, то покрывается тенью; дрожание чёрных локонов выдаёт страх, с которым она пытается совладать, словно в этот миг подставляет голову палачу. Когда Алькандр, на мгновение задержав на ней взгляд, отворачивается, ему кажется, будто Мероэ впервые едва заметно и робко потянулась к нему.
Они выходят на улицу, и на них выплёскивается свет, угольный и золотистый свет, как будто на старом вокзале умноженное в стёклах крыши закатное солнце воспламеняет обратную сторону клубов дыма. Прохожие стоят группами, наблюдая за каким-то небесным явлением: глаза прищурены и прикрыты козырьком ладони. Она ли это едва заметно дрожит на мартовском ветру или неровный свет размывает её черты, растушёвывает линии, отбрасывая на лицо дрожащие золотые тени? Или она тоже начинает тихо исчезать в затмении и переносится в небытиё? Горбатый мостик из кирпича и железа, по которому они проходят, лоскут венецианского пейзажа над путями заброшенной железной дороги. Она уже далеко — и правда, не дотянуться: нематериальная сущность обособила её от убогих предметов, которые встречаются на их пути. Алькандру она всегда была неподвластна; но теперь он даже не может возвести вокруг неё бутафорскую тюрьму из слов, накинуть сети, своим фигурным плетением замедляющие бегство подвижной формы, чтобы на миг подчинить её своему воображению. В тишине только сердце клокочет в синкопах хулака, и он провожает её до дверей отеля. Состоится ли душераздирающее прощание?
У Мероэ совсем не загадочная улыбка; Алькандр покашливает, пожимая ей руку. Парижский поезд отправляется через полчаса.
7
Сады между тем облачились в краски осени. В субботу и в воскресенье они загадочным образом оживляются; от костров из мёртвых листьев расходится терпкий аромат; слышно только, как их потрескивание перекликается со скрипом секатора, заступа и грабель. Вернувший былую важность Трапезунд выпускает в умиротворённое небо жертвенные дымы.
Алькандр в одной рубашке на миг опирается о лопату, чтобы перевести дух; он провожает взглядом молодую соседку, которая пришла собрать виноградные листья к ужину. Может, это и есть особа из пророчества? Он видит её меланхоличные глаза, упирающуюся в бок руку, благородную леность её кавказской походки. Сколько праздных мыслей, придающих силы садовнику из пригорода! Когда он выпрямляется, разгорячённые мышцы вибрируют, источая флюиды блаженной истомы; осеннее солнце высушивает пот на лбу; даже ноющие волдыри под кожей на ладонях говорят о здоровье и силе. Борозда, которую вскрывает сталь лопаты, разбивая обломки кокса, перламутровые устричные раковины, обнажая непрочные галереи, прорытые во мраке гумуса дождевыми червями, своим бодрящим ароматом утверждает единственный принцип роста и тления. Луковицы тюльпанов, которые Алькандр достаёт из коробки, куда Сенатриса сложила их, рассортировав по конвертам и подписав крупным наклонным почерком — «жёлтые», «тёмно-красные», «скороцветные», «пламенеющие», — словно старинная мебель скрывают под своей гладкой кожурой корпус из слоновой кости, в котором сосредоточена вся сила будущей весны. Пройдёт шесть-семь месяцев забвения, самопоглощения во тьме засыпанной борозды, прежде чем этот комочек пробудится, и энергия, рождённая его преображением, вырвется из тёплой и рыхлой весенней земли к первым лучам солнца. А что родится из нашего небытия, мучительных снов и пребывания в земле?
Этот шатобриановский вопрос погружает садовника на новую глубину космогонических размышлений. С дымящихся руин Трои мы отправились завоёвывать неприступный город. Мы дали обет небытия, подобно цветку согласившись на забвение, мрак, на обрывочное существование; мы надеялись, что из нас самих неминуемо произрастёт невидимая основа нашей убеждённости. Терпения и презрения нам не хватило? Трапезунд расстилает вокруг пахаря тишину, сквозь которую проносятся потаённые отзвуки. Дым мёртвых листьев лениво поднимается к небу, где застыли облака. Натиск осады ослабевает в дни передышки, когда варвары сами восстанавливают силы и запасы оружия. Опершись на лопату, он на миг оказывается в центре этого непрочного мира, где грёзы и времена года обмениваются друг с другом обманными красками. Как он одинок! Вот уже несколько дней Сенатриса отдыхает, подолгу не выходя из комнаты. А ведь именно сейчас — Алькандр точно это знает — его товарищи, упорствующие и не смирившиеся, молча вглядываются по всем четырём направлениям в горизонт невозможного: Мнесфей недалеко отсюда, за баранкой такси; Клоанф только что вышел из своей банковской конторы (в Калифорнии ещё пятница); Меропс, защищающий звание чемпиона в курортном казино, обескуражен удачным ходом соперника, его мысль вдруг начинает путаться, пропарывает сводчатый плафон, на котором музы цвета «сомон» резвятся в облаках на фальшивом небе, и достигает других небес, других облаков, а рука между тем хватает коня и невозмутимо ставит на клетку, куда следовало бы пойти, если бы соперник сыграл по-другому, ожидаемо, и прежде чем пальцы выпускают фигуру, Меропс замечает ошибку и причмокивает пухлыми губами, воображая вопросительный знак, который появится затем в комментариях к партии как символ его рассеянности; Роэтей, вернувшийся заявить о своём безразличии на землю бывшей Империи, в чрево призрачной страны, сейчас без единой мысли закрывает глаза в тюрьме бадуббахов; Галий за роялем прерывает большую сонату Лееба всё на том же пронзительном акценте; Ферий, проснувшись в лагере в канадском лесу, ощупывает, лаская, приклад карабина и ещё мгновение продолжает лежать, уставившись в темноту; а вот Эмафион, Фоант, Укалегон и многие другие, о которых Алькандр давно не слышал; и где-то в опасных малярийных джунглях сам автор и вдохновитель невыполнимой клятвы барон де Н., как всегда, нынче — здесь, а завтра — там, и, как всегда, ввязавшись в какую-нибудь героическую и неправедную войну, где он изображает из себя жертву перед палачом. Быть может, они заложат Трапезунд вместо Вечного города и вместо обратной стороны зеркал направятся в сторону тени, туда, где ткань отражений становится плотнее, и мечтателю уже не выбраться из её драпировок? Разве вместо того, чтобы освободиться от врождённых уз, не собирали они воедино всё более искажённые образы Трои, как в зеркальном лабиринте ярмарочного балагана, где посетитель в конце концов упирается в собственное отражение? Алькандр бросает несколько тонких веток в слабеющий костёр; и ему вдруг кажется, будто дым от принесённой им жертвы стелется по траве.
8
А ещё осенью в усталом свете ноября возвращается в этот рассказ славная старьёвщица Резеда: уж не встретил ли её Алькандр, любивший представлять эту картину — в несуществующей с тех пор аллее сада с ворохом веток и опавших листьев в руках? Или всё-таки это было в толпе на станции метро, как подсказывает не настолько помрачённая память Резеды? Но, может, пусть лучше сомнение, как полоса тумана, скрывает подробности её второго рождения: читающий этот рассказ постигнет коварство правдоподобия.
Алькандр, не задумываясь, обнимает её; она прижимается к нему с непривычной теплотой. Кожа Резеды всё такая же гладкая; разве что, как и небо, она стала ещё белее. Теперь она прикоснулась к камням столицы; общество примяло её своим весом. Отчасти это словно и не она; движения не такие проворные, но плавные, смешливость стала робкой, мягко-вопрошающей. Горячая вода и мыло с ярким ароматом изгнали животные запахи; не изменив цвета, бельё из полиамида утратило безыскусность. Как хорошо она целует: на опущенных веках выделяется синеватая набухлость венок, губы примкнули к губам Алькандра с упоительной твёрдостью. С какой готовностью соединяется она с его погрузневшим телом, чтобы принять его, сколько нежности в её грудях, которые, став менее упругими, жмутся к рёбрам!
Она была горничной, шлюхой, дважды горничной, рабочей; один неосторожный буржуа сделал ей ребёнка. Волосы на обритой голове выросли не такими густыми; и она полностью исцелилась от взрывов хохота.
Они перевозят в Трапезунд кое-какие шмотки, которые она разбросала по всей мансарде, — змеиные шкуры её существования от одного рабского статуса к другому. Сенатриса не задаёт вопросов: в последнее время, после роковых пророчеств, она окружила себя тишиной и прячется в неосвещённых задних комнатах; в воспоминаниях о будущем, как в пещере, где гуляет эхо, установлен её треножник. Резеда, не задумываясь, берёт на себя хозяйство: не сказать, что она заметно преуспела в этом со времён Помпей, но некоторое изящество отныне искупает её небрежность, и шероховатый аскетичный беспорядок Сенатрисы уступает место улыбчивому кавардаку Резеды.
Лары[42], почитаемые божества, первородный сад, воссозданный в масштабах людного и уравнительного века, жизненный путь, заранее проторённый до соседнего кладбища, ссоры, затихающие с примирением благородной и старьёвщической крови, матка, близкая, готовая увлажнить в себе семя будущих поколений, — не в таких ли неброских проявлениях, присущих тайне, осуществилось для Алькандра пророчество? Но он не решается признать в этой неге лицо своей судьбы. Вскапывая вокруг пригородного сада священную борозду, обозначающую границу Вечного города, позволив себе покой, не надел ли он лицемерную маску разочарования, не нарушил ли клятву? Алькандр спрашивает себя: если они с товарищами доберутся до ворот обетованного города или хотя бы удостоверятся, что видят именно его сияющие очертания, не лучше ли им будет свернуть с пути, а то вдруг груз на их плечах, долгое плавание и долгая скорбь, сама священность ожидания не позволят им признать, что всё свершилось, и осквернить землю обетованную своей горечью? Он мечтает передать какому-нибудь новому поколению безрассудную отвагу, и пусть оно проникнет в страшную землю и возведёт стены, которые до скончания веков наглухо закроют горизонт памяти.
Ведь этот милостиво дарованный покой, самозабвение Резеды в его объятиях Алькандр должен встретить таким же самозабвением, детской доверчивостью, исполненной согласия с медленным течением жизни. Но разве отдаться жизни не значит отдаться смерти? Он ещё хочет удержать в руках поводья в этой необъявленной, но заранее проигранной гонке. Что если Резеда с её кротостью и немотой, с глуповатой полуулыбочкой, по которой не поймёшь, вызов это или согласие, послана самим небытием, вдруг она и есть тот ангел-искуситель, который у края каждого зияния подносит палец к губам? Наступает искушение сном: отвлечёшься — он тут же приходит, насмехаясь над бдением, и Алькандр, обнимая обнажённое тело Резеды, положив руку под её шею и взяв плечо в ладонь, прижимается щекой к её горящей щеке и видит перед собой картину из детства: верёвка над пропастью, и с нежным упорством невидимое существо разжимает над нею пальцы — один за другим; его пленяет смутное предчувствие, которое могло бы быть и воспоминанием: один палец — как дрожит! — два пальца, три, ещё держится, поворачивает голову, улыбаясь ангелу, который тоже улыбается, и остаётся лишь нежность этой улыбки, которую он мгновенно унесёт с собой в чёрную бездну, лёгкость скольжения и скорость, нарастающая без преград, — их больше не будет, никаких, никогда.
9
Если бы вы хоть знали, Кретей, что хотите этим сказать! Милое дело было бы следовать за вами, принимать — хоть и с мысленными оговорками — чёрную или розовую мораль, которую вам вздумалось извлечь из этой небольшой задачки для ума. Но вы то впадаете в отчаяние, то хотите выскочить из него в акробатическом прыжке и попасть в негу сахарного спиритуализма. Всем сёстрам по серьгам, — говорит ваша фиглярская улыбка; чего нет на витрине, спрашивайте внутри.
При этом меня вы видите невольным союзником в этой сомнительной затее; искусственное пространство, ограниченное вашим листом бумаги, должно стать непосредственным пространством моей жизни; пробелами в описаниях и отступлениями вы намеренно навязываете мне из страницы в страницу прерывистое «дырчатое» существование; и если бы ещё в узких рамках, которые ваша проза отводит хронике моих появлений, могла сохраняться спонтанность моих шагов! Но, запутавшись в нитях вашего повествования, я сам обречён на хромоту, приукрашенную кульбитами: это свойство вашего стиля, я лишь подражаю вам. Точнее сказать — самому себе. Какая неосторожность! Вот я и приподнял голову, вырвавшись из протяжённого хитросплетения вашего рассказа; я хочу смотреть вам в лицо, я обращаюсь к вам, но вашим же голосом. Увы! Другого у меня нет, как ни бейся, только этот слабый голосок, как у охрипшей канарейки, которая делает вид, будто заливается что есть сил, но выходит у неё хилое чириканье, и сладострастные трели строчат пустоту, а благозвучные рулады без конца повторяются, как в заведённом механизме! Недосказанность и одновременная склонность к пафосу, туманное многословие, любование собственным красноречием, совмещённое с любовью к лапидарности, большое внимание к себе, принимающее обличье скромности, но также любовь к приукрашиванию, к бахвальству, забота о точности в борьбе с искушениями словаря — всё сводится к глумливому паясничанию, которое я ненавижу уже две сотни страниц, хотя добавить к нему, в свою очередь подражая вам, могу лишь несколько строк из вашей же рукописи и поглумиться над глумливцем!
Но мы, невинные жертвы вашего публичного обнажения, возможно, по слабости простили бы вас, если бы, подведя нашим спутанным мыслям итог, которого им постоянно недостаёт, прояснив смысл бесплодного бурления наших желаний, вы изобразили бы нас в цельном образе, который мы тщетно ищем. Зачем же чернить наши тени и представлять ещё более мучительными наши конфликты и необдуманные поступки? Думаете, ваша ирония возымеет над ними силу? Вся она оборачивается против вашего детища.
Например, та картина, в которой вы высмеиваете сознание, — где вы её увидели, если не в недрах собственного «я»? И как это скрыть от читателя, который, следуя за вашим рассказом, дошёл до этого места? Вы слышали лепет жалких фраз в глубине оставшейся наедине с собой души: читатель знает, что они ваши — в том числе и эти самые фразы, Кретей, которые в вашем рассказе становятся бесконечным развитием темы с постоянными вариациями. Это «ля-ля-тра-ля-ля», неотвязное даже в тишине мысли, — не что иное, как готовая обрядиться в слова и катахрезы мелодия вашего стиля, неизбежный изгиб вашей фразы, голая канва пышного красноречия, для которого стечения обстоятельств и персонажи рассказа каждый раз дают новый повод.
Но я оставлю вас в покое, хотя вы опять слишком легко отделались. Ведь я вижу, каким образом наши персоны вновь послужили вашему тлетворному перу: вы не решились прямо назвать то зияние, которое пытаетесь заполнить нашими трупами; вы обрекли нас на смерть в качестве искупительной жертвы. Что вдохнуло жизнь в тени, которые движутся в вашем театре и у края сцены прячут под клоунскими масками наши истинные лица, при том, что на заднем плане вы манипулируете ими, обозначив буквами, как переменные в теореме? Вы одели их в наши костюмы, расписали мизансцены, копируя наши злоключения, вы направляете своих протагонистов навстречу гибели, которая ждёт нас. Но именно вами, Кретей, подсказаны обрывки мыслей и чувств, которые они выражают механическими голосами, как будто вы не смогли выстроить все конфликты, но озабочены тем, чтобы не упустить ни одной из ценных «ипостасей», борющихся в вас, и вам пришлось распределить их между множеством фальшивых персонажей, чьё лукавое разнообразие, перенесённое на лист рукописи, восстановит многоцветный ансамбль, тонкую целостность, которая существует вне вашей персоны, но в которой, однако, вы могли бы узнать себя. Не будет больше тёмных пятен в этом высветленном мире, где речь каждого отражает ваш стиль, останутся разве что те, которые вам захочется сохранить; никаких разрывов, кроме тех, которые вы сами просчитали и создали: упущения — умышленные, пропасти — обман зрения. Скоро спектакль будет окончен; занавес плавно упадёт на помост, уставленный манекенами, лишёнными дара речи; редкие зрители молча покинут зал под пристальным взглядом билетёров. Автора, слава Богу, забудут позвать: он испустил дух во время предсмертных конвульсий своих персонажей. Но вы надеетесь, что в ночном мире всё ещё будет звучать освободившееся от слов и лиц пронзительное, как напрасный зов спутника, заблудившегося в межзвёздном пространстве вечное «ля-ля-тра-ля-ля».
10
Предатель Афидний является к барону де Н. и во всём признаётся: эрцгерцог должен прибыть в Париж на следующий день. Иногда он ненадолго наведывается сюда инкогнито повидать своих плутовок; Афидний предоставляет ему квартиру. Но бадуббахи прознали об этой поездке. Обманутый хитростью и обещаниями, предатель Афидний доверил свой ключ нехорошим людям, наёмникам смутьянов, и обещал не ночевать дома три дня. Он подозревает, что затевается шантаж или похищение.
Барон минуту раздумывает, потом бьёт предателя Афидния по лицу и оглушает ударом трости. Он запирает его у себя в уборной и зовёт товарищей.
11
Афидний? Какой Афидний? Это имя в наших списках не значилось. Отсутствующий взгляд, впалые щёки, дрожащий скошенный подбородок… Думаете, мы их не узнали, Кретей, несмотря на ваш жалкий маскарад? А плаксивый замогильный голос, тот самый, который наговорил нам столько чуши? Скоро сочтёмся.
12
— Господа, — говорит барон, — я велел вам дать клятву отстранённости, но нет таких священных законов, чтобы мы подчинили им нашу свободу в абсолютной мере; этим мы также докажем своё беспристрастие. Мы выступаем. Приказываю переформировать подразделения; командование беру на себя.
Раздумывают они недолго: решено попытать счастья и упредить события. Алькандр, у которого есть влиятельные знакомые, осторожно их потревожит. Инкогнито эрцгерцога, непохвальная цель его поездки в Париж, наше неведение относительно планов бадуббахов и особенно роль Афидния в этом деле требуют избегать шума. В случае провала мы будем готовы к открытому наступлению; пока Алькандр действует, барон по указке предателя лично найдёт бадуббахов и проследит за ними; наши товарищи будут держаться группами, чтобы вмешаться в любой момент.
Барон выпускает Афидния из его тюрьмы; мы кое-как обматываем повязкой его опухшую и окровавленную голову.
Барон укрывается плотным шерстяным плащом и толкает предателя вперёд себя тростью. В тот момент, когда он уходит от нас, мы замечаем у него на груди мерцание изумрудов: он носит крест Святого Аспида.
13
Алькандру удалось добиться, чтобы его пустили в переднюю, где он ещё целый час размышляет о том, какой из разнообразных видов казни достоин наглости дневального; но приговорённый всё так же уверенно спокоен, когда наконец выходит за Алькандром и по тихому коридору ведёт его в кабинет министра.
— Привет, старик, — говорит Жан Ле Мерзон, не отрывая глаз от бумаги, по которой водит большим пальцем левой руки, а указательный и средний пальцы правой руки взлетают над столом навстречу руке его друга. И, не успел Алькандр хоть что-нибудь объяснить, — вижу, ты не изменился. Дам тебе совет: не лезь не в свои дела. Впрочем, ты недооцениваешь полицию; я тебе кое-что покажу.
В смежном помещении всю стену занимает огромное панно, утыканное разноцветными лампочками: оно загорается, когда нажимаешь на кнопку, и мигает электрическими огнями, как светящаяся реклама, если к ней слишком приблизиться. Жандармы — зелёные, грабители — красные; погоня сопровождается приятным электронным жужжанием.
Он нажимает другие кнопки, машина отрыгивает цифры.
— Вокруг преступности сжимаются тиски закона.
Мельтешение зелёных огоньков и правда активизируется вокруг нескольких красных метущихся точек.
— От нас не уйдёшь, старик. Только не доставай со своими императорами и их инкогнито. У нас демократия. Вы рискуете испортить хорошие отношения Франции с неприятелями. Серьёзных дел нам хватает.
Ле Мерзон снимает очки, чтобы протереть стёкла; оправа теперь черепаховая.
14
Приказы Ле Мерзона тотчас же выполняются. Комиссар полиции уже явился к Сенатрисе. Пышные расшаркивания, старинный французский политес.
— Если госпожа графиня позволит…
— Правее, господин комиссар, в центре пружина, она проткнёт вам базис.
Комиссар закрывает строптивую пружину своей мягкой шляпой. Слева, в углублении тесного дивана, лежит носогрейка[43] и пачка «Сен-Клода»[44].
— Мон фи скоро придёт, — говорит Сенатриса. — Речь идёт о наследстве?
— И да, и нет, мадам, и да, и нет. Это дело… тёмное. Признаюсь вам: мы сбиты с толку. Министр без объяснений приказал, чтобы мы арестовали банду ваших соотечественников, среди которых ваш сын, мадам, — вот что меня привело. Видимо, из соображений высокой политики нам говорят не всё. Но вообще-то вы сами могли бы, пожалуй, помочь полиции.
С весёлым смешком комиссар читает визитку, которую взял в углу стола: «Графиня Сивилла, предсказательница, ясновидящая. Таро, хрустальный шар. Принимает по записи». Раз уж приходится ждать…
— Пятнадцать франков, господин комиссар. Я всегда прошу клиентов платить вперёд; так у них голова освобождается от забот, пока длится сеанс. Могу выписать вам чек для секретных фондов.
Пятнадцать новых франков положены на скатерть. Комиссар набивает трубку. Сенатриса устанавливает хрустальный шар. Бессловесную Резеду отправили варить кофе на кухню.
— Весна, господин детектив. Уж какой год, не скажу. Цветы цветут, жужелицы жужжат: с весной не поспоришь. Вижу три мужские спины, мускулистые, с жирком. Рубашки прекрасного качества, хотя рисунок немного простоват. Плотность затылков, красная в складках кожа — признаки простого происхождения; но по каплям пота читается, где прижимались подтяжки в цветочек.
— Опустим подробности, — говорит комиссар, изучая стриженые ногти.
— Будете перебивать — ничего не скажу. Флюиды, плавающее внимание — чему вас учили в школе?
Она глубоко вздыхает, поднимая пустые глаза. Накрывает шар и минуту молчит. Потом произносит:
— Я слаба, господин комиссар. Сеансы меня изматывают. Кровь в жилах стынет. Чувствую, по всему телу какая-то слабость расходится. Не выношу дурные манеры. Вижу нечто похожее на тоннель, в саду, на склоне холма. Ниже, за цветущими ветками вишни, пристроился домик с черепичной крышей. Ещё там пещера, что ли, с ямой без воды перед входом, — трое мужчин сидят к ней спиной. Они играют в карты; в тени стоит ящик с пивом; несколько бутылок охлаждаются в ведре на столе. У их ног дремлет сторожевой пёс. Они что-то говорят друг другу по ходу игры; извините, повторять не буду: покойный Сенатор учил меня играть в вист, но с тех пор мне знакомы только пасьянс и таро. Один оборачивается. Обращается ко мне, господин комиссар! Сколько этим занимаюсь, ни разу видение не говорило с прорицательницей и даже не замечало, что за ним наблюдают. Какая грубость! Голос пропитой: «Заткнись!» — говорит. Продолжает смотреть, теперь кричит: «Хватит!» — прямо из хрустального шара, месье. Тише, ещё один голос. Из пещеры доносятся жалобные стоны. Их еле слышно за криками птиц. А вот и разгадка: мы находимся прямо у входа в пещеру, месье: бандит окликал не меня, а пленника, которого они там держат, он своими стонами нарушает покой злодеев. Не может быть… Кажется, я узнаю голос наследника моих государей. Прислушаемся, месье, к мольбам призрака.
15
Алькандру не удалось разыскать барона и своих товарищей, и он появляется на этих словах.
— Т-с-с! — говорит комиссар, ничего не объясняя. — Потом потолкуем. А вы, мадам, продолжайте.
Сенатриса заставляет себя упрашивать.
— Я больше ничего не вижу, господин комиссар. Я устала. Волнуюсь за сына. В ясновидении важно полностью раскрепостить разум.
Решительным жестом детектив забирает двадцать[45] франков, лежащих на клеёнке; мгновение Сенатриса, Резеда и Алькандр смотрят прямо на него, и вот он кладёт на то же место новенькую стофранковую купюру, разворачивает её, бережно разглаживает ладонью. И ловит взгляды, оценивая произведённое впечатление.
— Вы загоните меня в могилу, месье, — говорит Сенатриса. — Но деньги нам пригодятся — пусть на ней будут цветы.
Обратив на шар стеклянный взор, она продолжает рассказывать. Резеда один за другим напяливает на торс Алькандра все свитера, которые для него связала, — раз уж ему нары светят.
Комиссар решается молча набить трубку. В его бдительности возникла брешь, и обтянутый свитерами Алькандр словно проваливается в неё. Резеда смахивает хрустальную слезу на свою кофту.
Нечеловеческий голос вещуньи продолжает горестный рассказ.
16
— Господа, — говорит эрцгерцог, — не довершайте несчастья прославленной династии.
Его голос едва слышен и, вылетая из пещеры, смешивается с шумом ветра в ветвях цветущих фруктовых деревьев, с криками птиц, со скрипом гравия под ногами игроков в карты.
— Я не за себя прошу; пусть меня похоронят в этой пещере, я умру здесь, благоговейно присоединюсь к когорте моих предков. Лишь бы не вынудили меня предстать перед их очами, не оставив наследников; лишь бы не услышать от них упрёк в измене династии. Эрцгерцогиня, инфанты мертвы, я один храню в своём теле надежду, что это ещё не конец. Дайте мне продолжить род.
«Единственного сына, господа… Да что там? Единственную дочь! Пусть родятся безотцовщинами, нахалятами, признанными де-факто, морганатиками — какая разница? Генеалогия за столько веков и не к такому привыкла. Ах, только не думайте, что это я вас по беспутству умоляю; я в этом смысле нагрешил; теперь наказан и навек исцелён. Самую страшную бабу, беззубую, вонючую, и дело будет тотчас сделано через зазор в камнях, которые загораживают вход в эту пещеру, вслепую, с мыслями о другом.
Почему я не могу размножаться спорами, как прежние обитатели этих галерей! Почковался бы, делился, воспроизводился, населил бы мрак молодыми племенами, которым бы только резать и властвовать. Милые детки! Представляю, как вы хнычете вокруг меня. Я вскармливал бы вас своей древней кровью, питал бы своей плотью, которую уже размягчило подступающее гниение».
— Всё, — говорит Минос, пришлёпывая карту.
— Хватит, — говорит Эакий, забирая её.
— Все уши прожужжал, — говорит Радамант, тасуя колоду.
Доберман у их ног вздрагивает и глухо рычит.
17
И он удаляется во тьму подземных галерей, закрыв заплаканное лицо длинными пальцами. Тишина адской обители окружает его со всех сторон, всюду пахнет плесенью и гнилью. Гроздьями свисают из расщелин в полуразрушенных камнях летучие мыши, завернув худые тельца в складчатые траурные крылья; эти души обречены на тьму и вечную меланхолию. Неровная почва грибницы покрыта их мерзкими испражнениями. Они вздрагивают от шагов принца, и от их дрожи в чёрном пространстве распространяются тревожные волны, подавляющие одиночество и тишину. Порой замшевая туфля попадает в непристойную белизну грибного семейства: тесно прижавшись друг к другу, жадно вдыхая экскрементные соки плодоносной и ленивой земли, грибы разлагаются на месте, выпуская текучую лимфу, холодную и едкую. Они беспрестанно возрождаются из собственных трупов. Под солнцем эти души не знали ни восторга, ни раскаяния; теперь они произрастают в темноте, навсегда обречённые на мрачную безучастность.
Эрцгерцог останавливается, издаёт стон. Долгое эхо отвечает ему со всех сторон, вторит самому себе, разносит невнятный гул, как будто вдалеке хохочет-заливается толпа, гуляя на невидимой масленице. Чем дальше он от входа в пещеру, тем непрогляднее тьма; антрацитовыми отсветами ещё обрисованы нечёткие контуры стен. Капли сернистой воды, медленно образуясь под сводами, пачкают воротник и плечи его красивого саржевого костюма. Из кармана жилета он достаёт плоские часы и откидывает золотую крышку, украшенную изнутри гербом династии. Металл по-прежнему поблёскивает, но тик-таканья, которое напомнило бы ему чёткий ритм жизни, не слышно: стрелки, без конца обгоняя и встречая друг друга, ожили и мечутся, как помешанные. И вот, словно ребёнок, которому не уснуть в смятой постели, эрцгерцог разражается отчаянным воплем одиночества. Олень, ревущий в заиндевелом лесу Нижнеземья, не сеет вокруг себя такой страх; призванный командовать полками, построенными на парадной площади, перекрикивать грохот движущейся кавалерии и барабанную дробь, поставленный августейший голос заставляет скалу содрогнуться. Летучие мыши срываются со стен и в слепом стремительном полёте бьются прямо о лицо принца. Из глубины всех ходов поднимается грозное эхо, нагнетая звучную бурю, и её волны захлёстывают сщемлённое сердце монаршей особы.
Но вот яркий луч карманного фонаря нарисовал на стенах широкие неправильные штрихи, слышен звук лёгких и решительных шагов, по бесформенному пространству грибницы. Появившийся коротышка сначала освещает собственное лукавое морщинистое лицо, затем распластывается в церемонном приветствии перед принцем. Он вышел прямиком из опереточных кулис — в треуголке, в жабо и в тесном парике с бантом на затылке.
— Ваша светлость, примите поклон от самого скромного подданного ваших предков.
Изысканные манеры у этого маленького господина, и держится он абсолютно естественно. Он снова склоняется перед эрцгерцогом, к которому вернулась царственная осанка, и продолжает:
— Я услышал ваш зов и подумал, что жестоко оставлять столь значительную фигуру в одиночестве блуждать по тёмным пещерам. У нас, поэтов, простое сердце, мы не боимся ни тьмы, ни смрада проклятых. Я подумал, что могу послужить вам поводырём в этом лабиринте. Забыл представиться: Платон Буко, соловей прежних времён. Ах, ваша светлость, отчего вы не читали моих стихов! В них я воспел золотую ветвь, которую нужно было сорвать, отправляясь в странствие, если, конечно, вам угодно выйти из этой обители. Но теперь поздно, слишком поздно… Я и сам не обзавёлся ею — слишком уж скороспешно умер. Зато повезло: от очередного прибывшего получил превосходный электрический фонарь. Ах, как, говорят, изменился мир со времён императрицы Августы, вашей прапрабабушки…
— Сударь, — отвечает эрцгерцог, суровое лицо которого в слабом свете фонаря стало бледным, как шампиньоны, раздавленные его замшевой туфлей, — говорите, вы мертвы… а я? Я-то… жив?
— Ах, ваша светлость, мёртв, жив… — отзывается коротышка насмешливо и в то же время участливо.
И заводит певучим голосом:
— Жизнь — что смерть, смерть — что жизнь, Отражение в зеркале тусклом…— Отчего вы не читали моих стихов, сударь! Сколько полезных истин вы бы из них извлекли. Сегодня же прочту вам кое-что: скоротаем путь.
И вот, обогнав эрцгерцога, согнувшегося под сводом, коротышка бодрым шагом направляется вперёд, размахивает фонарём, напевает, лопочет что-то и изредка оборачивается, чтобы ободрить своего подопечного.
— Увидите, ваша светлость, мы совсем неплохо устроились.
18
Но вот подземный ход как будто расширяется, и рассеянный свет делает ненужным фонарь поэта. Почва под ногами разравнивается, становится легче дышать. Эрцгерцог вновь расправляет плечи: не нужно больше при каждом шаге ощупывать бугроватость стен. До его ушей постепенно доносятся приятные звуки музыки, как в роскошных супермаркетах, где современные хозяйки неспешно катят никелированные тележки среди полок с моющими средствами и банками с тунцом. Вскоре они попадают в просторный зал, где радостно журчит источник.
Посреди зала стоит замок из прессованного картона в человеческий рост. Весёлая компания в военном облачении всех эпох развлекается тем, что штурмует крепость с помощью шахматных фигур; другие играющие передвигают фигуры, которые представляют защитников замка. Эрцгерцог узнаёт самых знаменитых командующих Империи. Кое-кто на четвереньках проталкивает свои пешки в пролом; а некоторые, взобравшись на миниатюрные табуретки, наблюдают с высоты за ходом боевых действий. Пушки с запалами, великолепно воссозданные в миниатюре, издают громкие хлопки. Генералы суетятся вокруг замка с радостными возгласами. В стороне покоритель Браннберга изучает карту Быстрово и не перестаёт задавать себе вопрос, в чём причина краха. При появлении эрцгерцога никто не оборачивается.
Другой зал, отделанный золотом, похоже, предназначен для государственных мужей. За длинным столом эрцгерцог вновь видит лица самых верных служителей Империи: их портреты украшали одну из галерей дворца. Они делают записи: автоматический раздатчик, закреплённый на потолке, медленно, в ритме плавной музыки, роняет листы пергаментной бумаги. Вооружившись гусиными перьями, министры по очереди хватают их и, высунув язык, быстро испещряют своим властным почерком. Тишину лишь изредка нарушает удовлетворённое квохтанье. Готовые записи тут же забирают секретари в ливреях и рассортировывают по красным сафьяновым папкам с гербом Империи, собрание которых в глубине зала уже образует солидное хранилище. В одном из углов стола эрцгерцог замечает последнего верховного канцлера Империи — он высок ростом и одет в современный костюм.
— Вы здесь, Филипп, — восклицает эрцгерцог.
Но верховный канцлер не отрывает глаз от листа бумаги, заполнением которого занят. Уверенный почерк говорит о том, что и хватка его не ослабла.
Следуя за своим поводырём, эрцгерцог переходит в менее просторный зал, весь в фонтанчиках и зеркалах. В центре этой гостиной стоит каменная глыба с неровными выступами — такие устанавливают в зоосадах специально для мелких обезьян. В каждой нише разместилось сморщенное существо; большинство — близорукие, взъерошенные; почти все костюмы, независимо от эпохи, в плачевном состоянии. Одни задумчиво играют с тяжёлым золотым бильбоке; другие неподвижно смотрят в зеркала или слушают музыку, которая тихо льётся с потолка.
— Никого не знаю, — говорит эрцгерцог поводырю. — Впрочем, с большинством и не тянет общаться.
— Это поэты, мои собратья, — отвечает коротышка с неизменно доброй улыбкой. — Вот самый известный…
Но эрцгерцог тащит его дальше, перебивая:
— Представлять не надо. Лучше покажите, где особы моего положения.
Покидая гостиную, он всё же оглядывается. Фонтанчики освежающе журчат; красивые женщины в одеждах различных эпох, эдакие попугайчики в разноцветном оперенье, порхают, щебечут и множатся в зеркальных отражениях. Пастушка из Трианона[46] в широкой шляпе с фруктами проносится мимо эрцгерцога на расстоянии вытянутой руки. Принц пытается ухватить её за талию и тут же уверенно тянется к декольте. Но пальцы смыкаются, юная красота, как тень, прошла сквозь руку эрцгерцога.
— Сюда, ваша светлость, следуйте за мной, следуйте, — говорит коротышка.
Нет, всё-таки глумливая у него улыбка.
19
— Признайте, мадам, что от нашего дела мы далеки, — говорит детектив. — Вы меня путаете. Допустим, что вашего эрцгерцога, если эрцгерцог существует, ищейки заперли в грибнице; допустим, он там бродит; допустим, он мёртв. Но, ради Бога, спустимся на землю. Мы не будем вести следствие в потусторонних сферах.
— Эрцгерцог, — не отвечая, продолжает Сенатриса, — теперь входит в зал, где обустроен зимний сад с прудами, речками и венцами мостов над ними, с апельсиновыми рощицами. Искусно спрятанные музыканты играют музыку счастья. Багряный свет спускается с высоких плафонов, где изображены облака, солнце и хоровод звёзд. Блистательные особы наполняют жизнью этот сад. Я узнаю все поколения моих прежних государей, их супруг, их потомков и родственников по параллельным ветвям за двенадцать веков, все они участвуют в играх, которые некогда отвлекали их от бремени правления. Инфанты, умершие во младенчестве, катают обруч; Матиас Медведь хочет побороть семилетнего оленя; императрица Августа в окружении жужжащей стаи щёголей отплывает на Киферу[47]. В противоположном углу — кавалькада на лошадях в попонах, великолепный турнир: доспехи блестят, красные и синие плюмажи колышатся на ветру. В стороне Лео Слабоумный заставляет петь свою «Амати»[48]. Но я вижу моего императора! Он в белом, его сутулый силуэт выделяется на фоне газона: он на бегу отбивает ракеткой мяч невидимого партнёра. Эрцгерцог бросается к нему, простирая руки.
«Отец», — кричит он, но его голос превращается в неслышный вздох. Император ничего не отвечает. Он взглядом показывает сыну на другую сторону площадки. Ракетка лежит на газоне. Медленным шагом, не поднимая глаз от земли, эрцгерцог следует по белой линии, переходит на ту сторону сетки, встаёт в дальней части корта. Ракетка необычайно лёгкая, и подача, в которой обычно эрцгерцог не силён, совершается без всяких усилий.
Сенатриса поднимает глаза, накрывает хрустальный шар газовой накидкой и молчит.
— Ну, вот и всё, — говорит комиссар, чья трубка окрасила гостиную в синеватый оттенок. — Следствие окончено. Я закрываю досье. Министр терпеть не может дела, в которых замешаны иностранные или потусторонние силы. Вы свободны, месье, — добавляет он к сведению Алькандра. Резеда без лишних слов стягивает с Алькандра все четыре свитера, напяленных один на другой.
— И всё-таки, мадам, — добавляет комиссар, пока Сенатриса прячет в подшивке нот стофранковую купюру, — всё-таки, ну и сумбур! Не заставите вы меня поверить в этот рай без единого представителя жандармерии.
— Мы не всё видели, — отвечает Сенатриса ослабшим голосом. — Но вы меня утомили. Никогда ещё я не наклонялась к шару так долго.
Она встаёт, подходит к тесному ухабистому дивану и грациозно, властно протягивает детективу руку. Тот застёгивает пуговицы пальто-реглана, прячет трубку, надвигает мягкую шляпу до бровей. И только ошляпившись, галантно прикладывает губы к холодным пальцам Сенатрисы. Когда он оказывается у двери, она вытягивается на диване, привычным движением избегая встречи со сломанной пружиной, откидывает голову на подлокотник и, обращаясь к детективу, добавляет:
— Прощайте, месье, пришла моя очередь отправляться в царство теней.
Алькандр садится на корточки возле дивана, держит холодные руки матери. Сенатриса мягко освобождается, долго смотрит на Алькандра, закрывает глаза и умирает. Резеда так и осталась в тени со своим вязаньем.
20
Мы подходим к концу, Кретей? Вижу, что от пачки бумаги под вашей рукой осталось всего ничего. Из старой папки вы достаёте несколько листков, на которых много лет назад уверенной рукой набросали заключение.
Сколько бедствий настигло нас с тех пор! Ваши замыслы спутались; разнообразные планы, такие ясные в своей изначальной наивности, побороли и уничтожили друг друга.
Вы перечитываете старые листы; по плану предполагался десяток страниц: после неизбежных кончин и свадеб всё встанет на свои места, Вечный Город будет основан в очищенном пространстве вашей прозы после того, как наше изгнание перенесётся в эту сферу духа изящной сменой координат и несказанным образом пресуществится в свершение наивысшего порядка. Тогда вы выиграли бы пари, роман замкнулся бы на себе самом в совершенстве своей свободы. Что осталось от этих грандиозных замыслов?
Смотрю на вас, и вы напоминаете мне опаздывающего путешественника, который в спешке запихивает ворох вещей в чемодан: они выпирают во все стороны, напрасно вы их утрамбовываете, толкаете, прижимаете сверху собственным весом — крышка не закрывается, вам никак не застегнуть замок.
Вы думали, это всё: ещё несколько страниц — представляю все ваши деланные и наивные уловки — и персонажи должны были замереть, пока эхо финального текста продолжало бы разноситься по залу в момент тишины, предшествующий аплодисментам. И всё же вы суетитесь, примеряете на своих актёров остатки былой роскоши, переживаете, что ничего не сказали, и до последнего отодвигаете роковую минуту. Чтобы изгнать наваждение, все средства хороши: медленные жесты и лирический бубнёж, мельтешение и кричащие краски комикса. Вы отлично чувствуете, что публика устала от этой циклотимии[49]; хотите развязаться поскорее и задыхаетесь от волнения, когда в тишине приходится ждать вердикта. Да, вы вдоволь посмеялись надо мной, ироничный и самонадеянный автор! И вдруг за десять страниц до намеченного финала понимаете, что ничего не получилось и что дело это такое же безнадёжное, как и в момент, когда вы за него брались. Кретей, мне вас не жаль. Сейчас устроюсь в кресле поудобнее. Выпутывайтесь сами, как хотите.
21
Сенатрису похоронили на рассвете. Жаворонок заливался вовсю, розы распускались навстречу заре, Алькандр смешал слезу с утренней росой. Когда комья земли забарабанили по крышке, Резеде впервые после Освобождения пришлось сдерживать свой сумасшедший смех.
22
В этом смехе ему чудится призвук счастья. Они вновь вспоминают некоторые свои совсем ребяческие игры, и продолжаются их ночи, и в заброшенном саду сгущаются тени.
Усталость сделала тело молодой женщины зрелым. Алькандру кажется, что после их прошлых свиданий она стала меньше или сосредоточилась в самой себе, словно импульсы роста достигли предела, и теперь она заполняла собой ограниченное пространство, — раньше его обозначали беспорядочные и более резкие жесты, более громкие возгласы, неровности быстро дающего себя знать характера; весь этот ореол вокруг неё, созданный из неуверенности и тяги к неизвестному, умиротворился, растаял, и теперь в совершенном покое проявилась законченная форма, к которой тогда она была лишь наброском.
Алькандр с удивлением обнаружил эту форму на открытке, которую барон де Н. отправил ему, чтобы поздравить со свадьбой: на ней была изображена маленькая флейтистка, усевшаяся у ног Венеры Людовизи[50]. Алькандр задумался, какой смысл барон хотел вложить в своё послание; он никогда не писал, был равнодушен к искусству, но ничего не делал просто так; почему он выбрал именно эту рабыню в качестве сестрички Резеды, которую в глаза не видел?
В чём суть их сходства, он неожиданно понял как-то вечером, глядя на Резеду, которая уселась в дальнем углу кровати помечтать. Счастье принадлежит рабам. Упразднённые иерархии Империи были лишь карикатурой на светлую и спокойную эру рабства, которую им взамен предлагало послание барона. Истинные вечные города строятся из покорной плоти рабов. Он закрывал глаза на нелепость облачений, гротеск истории, все фиглярские компромиссы с реальностью, свойственные монархии, потому что страстно любил именно эту глубинную связь, абсолют обладания, унаследованный Империей от славных истоков, но сохранившийся в аморфном, искажённом виде.
Наконец он может обладать Резедой безраздельно, левой рукой обнимая плечи, правой охватывая бёдра, и для неё возможны только эти объятия, и закрыты пути к бегству в небеса мечты, как и в сокровенность желания; так что в браке он ощутил то немногое, что осталось от рабского счастья.
Он начинает это любить, хотя нелегко было терпеть тело Резеды как безусловную данность, очерченную и определённую совокупностью чувственных впечатлений; он вкушает радости конечного. Отдалив её на расстояние, необходимое, чтобы она была перед ним вся целиком, он обводит взглядом покатость плеч или, пока она засыпает на боку, изящную впалую дугу между линией рёбер и выступом таза, затем скользит вдоль изгиба бедра, обозримого в укороченном ракурсе, к согнутым коленям, к расслабленным набухшим грудям, к овалу подбородка, к кукольному носу, позолоченному веснушками, к менее жёстким, чем раньше, локонам; следом по её коже скользит ладонь, проходя по замкнутому пути и возвращаясь в исходную точку в конце волнообразного глиссе, как каравелла Магеллана.
Осторожная нежность постепенно соединяет его с этой молодой женщиной в таинствах совместной жизни, не метафорически, но физически, словно её тело — часть его самого, некий орган, невидимый и забытый днём, но возрождающийся каждую ночь и воссоздающий с каждым заходом солнца пространство, необходимое для её свободы. Так он научился жить с нею, постигая изнутри её порывы, неясные печали, быстрые перемены настроения и температуры, и даже стал воспринимать вместе с ней эфемерные знаки обоняния и осязания; приспособившись к биению жизни в этой обретённой части своего существа, более восприимчивой, чем его собственное тело, он подстраивается под ритм своих лунных часов и через тело Резеды участвует в вечном обновлении космического цикла.
Ведь эти житейские мелочи — дурное настроение, пятна крови на полотенцах — учат его теперь пониманию несовершенства его мужской природы, которая прямым курсом движется к небытию, но ещё и спокойной мудрости беспрерывного обновления, неустанному притяжению подобий и несомненности существования бесконечного в конечном.
Вот так было отведено проклятие истории, и безмятежность аграрных рабовладельческих эпох перенеслась в настоящее, но познает ли Алькандр в рабстве брака спокойную радость возвращения назад и конца времён? Хотя в объятиях Резеды он чувствует, что вот-вот растворится в цикличной вечности, бдительная тревога не даёт ему забыться совсем. Внезапный прилив душераздирающего страха заставляет его содрогнуться на пороге этого слепого рая, как бывает иногда в предчувствии новых зияний. Ночи коротки. Осознание себя — кислота, разъедающая цельную материю счастья.
23
Алькандр поднимается открыть ставни, за которыми горизонт долины, прикуривает сигарету, глядя на свернувшуюся в калачик под смятым одеялом Резеду, и его снова переносит в необратимость. Под моросящим дождём блестят черепица домов и листва фруктовых деревьев. Заводской дым витыми колоннами тянется вверх поддержать низкое небо. Дневное убожество развеивает ночную явь. Сколько нужно сил, чтобы нарушить кажущуюся цельность этого мрачного пейзажа и из разрозненных осколков воссоздать Трапезунд! Как в этой женщине со спутанными волосами, которая натягивает на лицо простыни, узнать маленькую флейтистку? Резеда чужая, отдалившаяся, закрывшаяся в себе так же, как она прячется в руинах своего сна, сейчас начинает жить сама, обдумывать собственные скрытые мыслишки. Алькандр вдруг понимает, что остался без собранных в ночи сокровищ: всё, что есть — беспредметный блеск, да и тот рассеивается в свете зари; он отворачивается от уснувшей женщины, чувствуя усталость и лёгкое отвращение, как после случайного свидания. И начинаются злосчастья с Резедой — разобщение, равноправие и конфликт. Маленькая рабыня, ночная флейтистка в пробуждающем свете перевоплощается в домохозяйку, которой вечно что-нибудь втемяшится в голову. «Есть у меня мыслишка», — говорит Резеда, и как бы легко она ни была осуществима, Алькандр нетерпеливо напрягается, как монарх, благодетель народа, получив петицию, опередившую его собственные планы. Мыслишка Резеды, которую она защищает с неустанной кротостью и исподтишка, доказательство её инакости, независимой от витиеватых законов сна и непокорного существования, начинает жить в Алькандре какой-то болезненной точкой, маленькой опухолью, о которой стараешься не думать, но она проявляется снова, настойчиво, угрожающе напоминает о себе, разрушая мгновения счастья.
Начинается это прямо в день их свадьбы, ещё утром. Когда они вышли из мэрии, Алькандр повёл её в кафе, заказал два пастиса.
— Я не люблю пастис, — кротко сказала Резеда.
Алькандру в голову не приходило, что это нежное тельце, облако, которое он создал сам, может оказаться обителью неизвестных ему вкусов и привычек и изъявлять независимую волю. «Я не люблю пастис» — фраза, сама, как тот яд, который в ней упомянут, растворяется, разбавляя счастье Алькандра и замутняя его.
Молчаливый обед проходит друг напротив друга в тревожном ожидании «идейки дня». Причём с кухней у Резеды она связана реже всего. Сенатриса унесла в могилу секрет манных клёцок. Несмотря на объяснения Алькандра, Резеде так и не удалось воссоздать рецепт этого аскетичного и бодрящего блюда. На замену мучному Империи приходят варианты мяса и рыбы цивилизованной Европы; отныне банки сардин и паштет из поросячьей печени, которые откупоривают с помощью металлической «открывашки», стали основным вкладом Резеды в хозяйство.
Потом наступают вечерние выходы в кино, для которых она в приказном порядке выбирает программу по принципам, одно изложение которых вгоняет Алькандра в тоску; но несравнимая тоска наступает, когда на обратном пути он слушает, как Резеда в подробностях пересказывает сюжет, только что нудно развёртывавшийся у них на глазах, «по полочкам» расставляет детали, рассмотреть которые не позволила ему здоровая невнимательность; логика у неё при этом путаная, поскольку в вымысел сценариста Резеда контрапунктом добавляет сплетенки о «звёздах», со знанием дела описывает их гардероб и, как она выражается, «романы».
Как-то вечером идейкой оказывается большой автомобиль.
— Ты ведь неплохо зарабатываешь, — заявляет Резеда. — Как мы выглядим перед соседями?
— И не говорите, дорогая графиня, — отвечает Алькандр.
Он знает, что этот титул раздражает её ещё больше, чем статус жены иноземца, ведь всякий раз, пытаясь применить его «к себе любимой», она не находит ничего общего с образами из фильмов и журналов.
Впрочем, автомобиль — самая безобидная из её «идеек». Кроме выходов в кино, Алькандр будет пользоваться им один, повинуясь прихотям дорог, прельщённый мощью и податливостью этого механизма.
Решительнее он сопротивляется телевизору, видя в нём верную угрозу для пианино. Резеда «не любит» джазовую музыку; как будто джазу нужна её любовь! Вечерами она частенько уговаривает его:
— Ты не любишь никуда ходить. Эта штука сегодня есть у всех.
Несколько месяцев пианино и телевизор сосуществуют в тайной вражде, как два несовместимых животных, которых хозяин заставил делить жизненное пространство. Резной буфет, «идейка» Резеды, в конце концов разрешает спор, заняв место пианино. Алькандр закрывается в спальне с шахматными задачами.
И вот, подобно растению, которое, не успев пустить корни, тут же оттягивает к своим ветвям питательные соки чернозёма, наполняясь ими, распуская почки и умножая своё присутствие тенью, мастерски отброшенной на газон, постепенно материализуется предместечковая Резеда. Ей как будто мало заявить о своём сговоре с материей румянцем щёк, вернувшимся блеском волос, всё более заметной округлостью бедра, как будто громоздкая мебель, которой она себя окружает, — недостаточное свидетельство её единосущности со всем, что есть весомого, непроницаемого и прочного; окончательно освоившись, Резеда тут же вносит свою лепту в невыносимый переизбыток реальности. Пару вязальных спиц она припрятала, ещё когда Алькандр помогал ей перевозить барахло: и вот один за другим появляются рождённые терпением и созидательным упорством Резеды бесчисленные свитера, толстые носки, тёплые шарфы, которыми ей хочется прикрыть ирреальность мужа. Чтобы вместить плоды этого угрожающего размножения, приобретён комод с глубокими ящиками, который только сужает и без того тесное пространство дома. Комод забит до отказа, готова весёлая шапка с помпоном, напялить которую Алькандр отказался, а клубки шерсти, неизменно подобранные в горчичных или шафрановых тонах, ещё остались, и Резеда, махнув рукой на соображения практичности и супружеской любви, без всякой внятной цели, лишь бы утвердить присутствие вещей, начинает сплетать эдакую бесконечную епитрахиль, объёмное вязаное полотнище, которое струится меж её раздвинутых ног и тяжёлыми складками спадает к ступням.
Алькандр наблюдает её за работой в этой некрасивой позе и чувствует, как в нём оживает его единственная страсть — стремление исчезнуть. Маленькая флейтистка из его ночей — обман! Из этой рабской плоти он хотел возвести стены вечного города. Но раб трудится; такова его рабская натура. Нюансы наслаждения и звуков флейты лишь отражают в воображении хозяина его бесплотные желания. Раб не думает; он ничто, но изо всех сил стремится к существованию; и, не умея утвердиться иначе, созидает. Ах, какая мерзость, с точки зрения Алькандра, это желание уподобиться вещам, проникнуть в инертные сферы: удручающая метаморфоза застывшей овеществлённой жизни, словно её настигла жестокая кара какого-нибудь античного бога! Лучше уж было бы вовсе исчезнуть, развеять в дыхании времени силу, которую носишь в себе, прежде чем, окаменев и растратив все призрачные возможности, она застынет в несгибаемой прямоте действия! Если надо умереть, некрасиво оставлять следы; если миришься с многообразием, нечестно умножать его, словно решил с ним свыкнуться! В истоках не больше правды, чем в упадке истории: Алькандр видит, как на заре лучезарного рабства вырастает зловещая тень производительного труда.
24
Он ни на минуту не сомневался, что когда-нибудь её не станет, как и всего остального.
— На ужин у нас сардины, — кротко произносит Резеда с порога. — Я в бакалею.
Влажный ночной ветер, влетев через распахнутую входную дверь, освежает лоб Алькандра. Искры прочёркивают серый экран шипящего телевизора, который она не выключила, когда закончились передачи. Миновала полночь, сардины в пригороде уже не купить. К тому же тридцать первое число, она унесла с собой всю зарплату. Алькандр может запереть дверь изнутри.
25
И вдруг среди ночи его начинают мучить сомнения и воспоминания. Разрозненные образы, как облака, разбросанные и летящие по чистому небу, наполняют тревогой его бессонницу; маленький венецианский мостик в незнакомом городе, пылающий в сернистых лучах закатного солнца, бессильная рука Мероэ, усыпанная кольцами, её золотистые глаза, погасшие в сумерках. Сожаление о прежней любви проваливается в пустоту и отравляет радость расставания.
Зачем нужны женщины? Вечно заменяя совершенство, которого нет в принципе, они заслоняют собой головокружительную прозрачность пустоты, и за их реальными телами остаётся невидимая фигура, черты которой они умудряются перенять. Они идут друг за другом, робко, держась за руки, по очереди заполняя перед нашими глазами то самое место, где матовая пелена реальности вот-вот должна спасть, чтобы наш взгляд мог наконец затеряться в бесконечности убегающих горизонтов. У них у всех нежная и фальшивая искушающая улыбка; они желают искушать, а значит, обманывать, заставляют нас прочитывать в своих чертах то, что сами скрыли — лицо небытия, невидимые черты которого постепенно поблекнут, растворятся в настоящей, осязаемой плоти. Немыслимая вещь — экран и зеркало одновременно, причём созданное живой всепоглощающей материей, и отражение, попав в ловушку, увязнув в стеклянном желе, медленно тает, переваривается беспощадной утробой! Радость и горечь вдохновляют друг друга в аккордах этого триумфа безумия. В померкшем образе Мероэ Алькандр видит мимолётное отражение уничтоженной Империи, которую он в ней любил, а за фигурой Резеды, за мягким, но сильным плечом девы из народа — пустоту от исчезнувшей Мероэ; чувство невосполненности, подрывавшее все попытки счастья, возникало от уверенности в том, что есть различие, разрыв, пропасть между образом, который он стремился обожать, и совершенством, которое в нём отображалось. Он хотел обмануться, связать свою властную нежность со скромными символами одомашненной женственности, с вязанием, менструациями, банками сардин, с самим существованием тела молодой женщины, с глупой округлостью её форм. Но теперь стало ясно, что именно этого и ждал от него безликий ловчий, соорудивший незамысловатый механизм этого капкана; раб тоже предупреждал его: матовость осязаемого заволакивала зияющие бреши, позволявшие заглянуть по ту сторону отражения, заполняла лакуны, принадлежавшие его личному небытию. Он вдруг испытывает огромное облегчение: уход Резеды, навсегда избавляя его от подмен, призрачных субститутов, приоткрывает двери истинного небытия, переставшего быть таковым. Он ложится поперёк кровати, опустевшей после адюльтера, и свободно вытягивает ноги. Какие просторы открываются, да ещё при его нелюбви к ограничениям! Ему вспомнилась пошлая песенка, которую пела девица в одном мрачноватом кабаре, где он тапёрствовал: эта отчаянно размалёванная кляча в тот вечер случайно подцепила клиента. Разливая шампанское, периодически прижимаясь к своему хмельному любовнику, ронявшему голову на грудь, она пела, пока у неё под ногами мели, а на столы взгромождали кресла и табуреты:
Сбегу в деревню, где ромашки, Адью, шампанское, и вы, милашки!Она фальшивила и не держала ритм, но Алькандр восхищался звучностью её контральто и притворной весёлостью вульгарного мотивчика в нездоровой отвратности этого места в этот тоскливый час.
Он садится на широкой пустой кровати, положив под спину две сложенные одна на другую подушки. Как легко дышится! Субституты спроважены навсегда; они решительно плохо делали своё дело.
26
Ещё немного, и, конечно, в этой истории в последний раз появится Кретей. Зачем ему было приезжать на неповоротливом лимузине — кажется, в чёрном «роллсе», — набитом красными и синими воздушными шарами, которые, не успев выйти, он тут же выпускает в чёрное небо Исси-ле-Мулино? За рулём сидела девушка с золотистыми глазами Мероэ. Она тоже тотчас растаяла в облаках, она была из воздуха, были только глаза, даже нет, просто взгляд из-под солнечных очков. Писатель опирался о трость с набалдашником; выражение его лица было строгим и рассеянным.
Он раскрыл рукопись и сразу начал её читать, без оговорок и преамбул. Голос был монотонным, речь однообразной и невыразительной. Его роман мы только что прочли; после этой фразы он опустил глаза. Тут я заметил, что барон де Н. тоже здесь. Я не удивился такому совпадению: очевидно, это был день рождения, сочувственный визит. Друзья пришли меня утешить; откуда им было знать, что я начинаю любить одиночество?
Тем не менее я чувствовал слабость, как больной, проснувшийся после ночной лихорадки. Что могло дать мне общество этого сурового человека, власть которого навлекла на меня одни беды? Чего хотел ещё один паяц, собравшийся оживить мою тоску, воскресить маниакальные видения? Необходимость принимать одновременно двух людей, которые так плохо понимают друг друга, усиливала моё раздражение.
— Я смотрю, вы не можете пережить измену, — говорит барон. — Да вы хлюпик, мой дорогой Алькандр! Это ли войско я вёл в бой?
Ну, хватит, хватит! Он, как обычно, ничего не понял. Не измена меня сейчас мучила, а этот резкий механический голос, это худое пугало, которое всегда нависало надо мной в решающие моменты жизни, пытаясь высмеять и обескуражить.
— Пустяки, — неуверенно ответил я. — Я привык к поражениям; победа, возможно, только в них и есть. Кстати, — я с опаской оглянулся по сторонам, чтобы удостовериться, — кстати, я живу в Трапезунде.
— В Трапезунде? Кто вам сказал? Снова этот бумагомаратель?
Вы вздрогнули, Кретей, уловив зловещий блеск монокля.
— Солдат общается с сочинителем головоломок! Я бросил вас на штурм небытия, чтобы вы наполнили его химерами и краснобайством?
Барон был вне себя; я уже видел, как под плотным шерстяным плащом его пальцы гладят пистолет, орудие убийства. Однако писатель воспринял эти слова более достойно, чем я мог предположить. Напрасно только он смотрел на барона своими умными и печальными глазами и временами коротко вздыхал — устало и смиренно. Думаю, он всё же избежал бы стремительной расправы, если бы в ответ не начал дерзко восхвалять перед бароном своё ремесло.
— Вы, солдафоны, реакционеры, — начал Кретей, который по-прежнему упирался в трость подбородком и смотрел исподлобья снизу вверх, — вы верите только в силу. Победить, подчинить, заставить молчать — только эти слова вам знакомы. Стратеги никудышные, принимайте критику профана. Отступление, господа, обходной манёвр, мобильность, гибкость, хитрость — можно подумать, вас не учили этим элементам искусства. Вам бы только всеми силами в лобовую атаку.
Его руки лежали одна на другой поверх набалдашника трости, и между абзацами он иногда опускал на них подбородок; голос его звучал ровно, словно он читал текст. Зато я видел, что внутри у барона всё кипит.
— Мы отправились покорять небытие, пусть; но какими дорогами попадают в те края? «Слушай мою команду — раз, два…» — вы бросаетесь вперёд напролом; удивительно ли, что вас тут же отшвыривает назад, и благородное отчаяние — единственный ваш трофей? Я распоряжаюсь о терпеливом дознании; организую скрупулёзную зарисовку местности; а вольные отряды разрешаю нанимать с осторожностью. Мне достаточно нескольких предположений, подсказанных голословными показаниями пленного или перебежчика. И вдруг пелена истины светлеет — сопоставление бесчисленных фактов вознаградилось.
— А вы всё говорите и говорите, — перебивает барон; я вижу, что он вот-вот задохнётся. Но он неистовой силой подавляет гнев, отворачивается и даёт нам выслушать продолжение этой похвальбы. Я слежу за его сухощавыми пальцами, которые как по клавишам бегают по рукоятке пистолета.
— Да, говорю, — не моргнув глазом, отвечает Кретей, — и пусть слова летят на все четыре стороны. Слова, мой лейтенант, опасны, только если не высказаны, замкнуты на себе, крепко связаны, и ваши бездумные нападки только стягивают их путы. Я же позволяю им извергаться; красноречием, которое вы так презираете, побуждаю покинуть бастионы, раскрыться, рассредоточиться по дорогам, где я расположил свои эпитеты и фигуры речи под видом мин и засад. Поймите, что молчание — это потусторонность слов, а не скованные, загнанные в рамки слова, которые будут ещё тяжеловеснее, если пружины в них не раскрутятся. Я дарю словам праздник — пусть исчерпаются; создаю зарево воображаемых равнин, где догорают метафоры, и если вы достаточно потрудились, облагораживая собственные чувства, то скоро увидите, как созидается нематериальный лик небытия. Я знаю, что вы вините меня в предательстве. И безропотно принимаю эту несправедливость. Я помог заговорить вашим тайнам — тем самым, которые вы стыдливо берегли. Кто более смел — предатель или герой? Продолжать дальше было бы недостойно; вот листы, пусть теперь они говорят. Я привёл вас к конечной цели; разумеется, это требовало тонкости, на которую мозг вояки не способен.
— Вы слышали этого пораженца, — говорит барон. — Выводы делайте сами.
Из внутреннего кармана плотного шерстяного плаща он достаёт маленький пистолет, изящную старинную модель; это им мы когда-то втайне любовались в комнате барона, в Крепости. В тот момент, когда он неумолимым жестом берёт оружие за ствол и протягивает мне, я также замечаю, что на шее у барона поблёскивает большой изумрудный крест. Мои пальцы ощупывают рукоять, находят курок. Я рассматриваю в зеркале покорное лицо литератора. Он неподвижен, и я бы не сказал, что бледен. Слышу негромкий щелчок затвора. Кретей разулыбался; не верит, глупец! Где это видано — автор убит собственным персонажем? Но, допустим, я, прицелившись в зеркало, выстрелил: рана, немного интеллигентской крови, и что? Кажется, моя рука не дрогнула, наставляя оружие на отягощённый интеллектом лоб; звук выстрела потонул в ударах моего сердца.
В этот момент в мою невзрачную гостиную проник слабый свет. Позднеосеннее солнце прорвало облака и дым над долиной. Луч освещает пустоту, скользя по поверхности паркета и мебели. Кретея больше нет! Мне показалось, что я заметил на паркете пятнышко крови, но это был всего-навсего отблеск, исчезнувший от движения луча. Я подношу руку к виску, ко лбу: капли прозрачного пота, раны нет. Немного побаливает — это в худшем случае мигрень.
Барон тоже исчез: я видел, как он поднялся, встал на вытяжку, когда раздался выстрел, и удалился большим парадным шагом назад. Забрал ли он у меня пистолет? В дверях он уже превратился в большое зеленоватое пятно — плотный шерстяной плащ, едва заметно подсвеченный изумрудами креста. Потом это смутное свечение рассеялось, зелёное пятно смешалось с темнотой.
Я устраиваюсь на тесном диване, обхватываю голову ладонями, закрываю глаза и, самому себе не веря, ощущаю реальность моего одиночества. Справа слышится лёгкое постукивание, шорох. Небольшое возбуждение скоро пройдёт, я теперь один, всё спокойно. Вот снова… Придётся открыть глаза. Один из тех воздушных шаров вернулся, ветер прибил его к стеклу; на нитке болтается листок бумаги. Я открываю окно, и вот снова крупный вычурный почерк. Чёртов романист! Перед тем, как его не стало, он приготовил нам этак!
Эпилог
27
Как исчезла из учебников истории Империя, так и Бадуббах в конце концов был стёрт с географических карт. Верховная Ложа с энтузиазмом проголосовала за Великий эксперимент. Учёные рассчитали, что можно отправить к звёздам территорию целой страны, которую очистила Большая смута, и оставить на произвол судьбы планету, невосприимчивую к прогрессу. Вдоль границ были прорыты каналы, отделившие страну от соседних территорий; огромный пусковой механизм, принцип которого так и остался тайной, был закопан в географическом центре государства, к юго-востоку от бывшего Холмистого края. В течение двух недель, предшествовавших запуску, постановили нести торжественную вахту; весь народ, вооружившись фонарями и транспарантами, ждал на площадях и улицах страны; рычание громкоговорителей сливалось с рокотом космического двигателя, который начали разогревать, и от этого уже дрожали холмы и города. «Будьте готовы! — призывал волнующий голос Бдительных братьев. — Вверх, к сияющим высотам! Никто не остановит гордый полёт народа, свободного от предрассудков!»
Народ переполняли столь сильные чувства, что полиция местами констатировала регрессивные явления: некоторые старики-крестьяне в момент подъёма к небесам запели старый гимн Святого Аспида. В другое время и минуты бы не прошло, как виновных бы уничтожили. Но воодушевление смягчило даже сердца Бдительных братьев: на это закрыли глаза, рассчитывая принять меры позже, в соседстве с небесными светилами. Дошло до того, что в порыве народного единения из изгнания вернули принца-епископа и облачили в ризу, взятую напрокат в музее суеверий. По правде говоря, старичок был не на высоте. Пока он усваивал новую идеологию, из его головы улетучилась вся латынь. «Sursum corda! Ad sidera![51]», — только и бормотал он, пока окончательно не впал в маразм.
И вот настал торжественный день; народ с необычайным напряжением внимал пламенному приказу, который был брошен председателем Верховной Ложи — его взахлёб повторяли все громкоговорители страны: «Отдать швартовы! Отдать швартовы!» Раздался страшный грохот. Расчёты академиков оказались верными наполовину: границы треснули, страна отделилась от соседей… и осела на несколько сантиметров. Реки вышли из берегов; за несколько недель бывшая территория Империи, и без того заболоченная на большей части своего пространства, превратилась в огромную топь. За несколько месяцев ею полностью овладели Океаны. Замечательный народ, веками приученный к терпению и воспитанный правительством прогресса в духе твёрдой дисциплины, погибая, показал образцовое спокойствие. Некоторое недовольство проявили только заключённые воспитательных лагерей: не хотелось им помирать, так и не вернув уважение своих сограждан.
Ну, а здесь полиция отпустила троянцев, и за повседневными делами их след простыл. Резеда ушла недалеко: она ведёт хозяйство у дяди Ле Мерзона, согревает теплом его старость. В погожие весенние дни можно видеть, как дядя подстригает кусты роз в свитере цвета шафран, а его лысину прикрывает симпатичная шапка с помпоном. Вдова Ле Мерзон умерла; её сын разделил на участки всю бывшую территорию Виллы; новые обитатели не догадываются, почему автобусная остановка, которой они пользуются, называется «Помпеи».
Жан Ле Мерзон добился, чего хотел: он верховный супрефект, носит фуражку с золотыми желудями, колесит по разным департаментам и ободряет население.
Этот роман существует; все пути ложны… или истинны — кому как нравится.
Трапезунд отошёл в руки к туркам в 1461 году.
28
Как идущий на поправку больной, который пробует свои силы в осторожных движениях, проверяя, слушаются ли члены, отвыкшие от темпов жизни, я опасливо пытаюсь осознать вновь обретённое одиночество. Есть ли у меня теперь право на это «я», которое до сих пор я употреблял условно и в некотором смысле из скромности? Порой мне кажется, что я слышу речь без эха, свободную от обертонов иронии и ретроспекций, которые привнесли в мою жизнь одну сумятицу. Кажется, я вышел из пещеры, где самое незначащее слово, возвращаясь, утрачивало форму, отяжелялось, отражаясь от стен, снова изрыгалось, устремляясь в темноту, откуда опять и опять настигало меня в бесконечных реверберациях. Эпитеты и фигуры речи улетучиваются, звучание текста, волнистость его рисунка нивелируются, становятся проще. Может быть, я сделал шаг навстречу свету, навстречу более открытому пространству.
И всё же голос ещё звучит; да, он увереннее произносит «я» — но не до моих ли ушей это «я» доносится? Если рассказ продолжается, то не обречён ли я терпеливо внимать ему со стороны — пусть находясь совсем рядом, но мучаясь этой близостью и тем, что мне не дано овладеть словом, подчинить его себе? Фигуры, созданные воображением, моим воображением, если угодно, хотя меня мучает именно эта двоякая отнесённость — разве не они, едва возникнув, овладели моим миром, тайно поселились в вещах, отданных в моё распоряжение, и даже обрели среди них независимость, своеобразную ироничность, позволяющую им выступать против меня, насмехаться, дразнить, призывать к порядку, а точнее, к беспорядку в мыслях? Как излечивающийся больной, я переживаю приятные минуты, минуты покоя и отдыха. Отчего же нарушает их вернувшееся эхо, следы впечатавшихся образов, словно окаменевших в материи вещей?
Я копаю в саду, радуясь ровному пригородному солнцу. Работа нетрудная, меня словно убаюкивает, я пытаюсь растворить в ясности движений и усталости искушающие символы и коварные поводы для грёз, которые дарит сад. Хочу чувствовать только напряжение в мышцах, ощущать тепло солнца на лбу, слышать скрип лопаты, разламывающей чернозём, рвущей корни сорняков, и разбивать иногда сверкающим лезвием осколок щебня или устричную раковину. С растениями, которым я облегчаю рост, я ищу равенства и доброжелательности, взаимного уважения, как между независимыми и суверенными державами. Им незачем пускать корни в моих мыслях, оживляя буйство снов; я, со своей стороны, обязуюсь признавать их абсолютную всамделишность, инакость и отстранённость. Я стараюсь в обмен на труды, которые вкладываю в их цветение, в их плодоносность, ждать только, что они вновь мне послужат и одарят с пользой: цветами, например, которые украсят моё пригородное лето, и плодами, которые накормят зимой.
Зачем же ещё до того, как я услышал скрежет под металлической лопатой, до того, как, отражая осеннее солнце, моим глазам предстал осколок бутылки с полуотклеившейся этикеткой, вдруг пронеслась галопом в трепещущих оголённых ветвях моих вишен неожиданно возникшая и сразу исчезнувшая тень — помчалась в атаку гвардейская кавалерия, из которой я навечно исключён? Я с волнением наклоняюсь к осколку стекла, который среди комьев земли отражает разноцветную радугу. Этикетка едва прочитывается, на ней имперский хищник и несколько слов на нашем языке, которые я могу разобрать. Что несёт мне грозная птица, взлетевшая над болотами воображения, сегодня канувшими в небытие, словно ей больше некуда податься, кроме скромного пространства моих трудов, пригородного сада, где я цепляюсь за неотвердевшую реальность? Это знак, напоминание, послание? Просто минутная тревога — мой пока ещё хрупкий мир подвергся испытанию; и лукавый намёк на то, что рано мне пока считать себя свободным. Я снова принимаюсь копать. Подумаешь, осколок бутылки: моя мать никогда ничего не теряла — с помощью этой склянки она будет опрыскивать кусты роз, борясь с тлёй. Стало быть, враг совсем ослабел, раз прибегает к таким жалким ухищрениям: карикатурная птица, крошечная лучистая радуга, осколок разбитого стекла под лопатой.
29
Любезный писатель, я заканчиваю эту рукопись вашим пером. Вы запутались в своих замыслах; как я вас ненавидел, но теперь, когда заставил исчезнуть и страсти улеглись, готов сослужить вам службу и навести некоторый порядок в ваших делах в попытке спасти то, что удастся.
Боюсь, однако, что вдвоём мы пока не в силах сделать более светлым сумеречный мир, где мы вместе блуждали. Я не без опаски возвращаюсь к мутным водам, которые меня отвергли; нет уверенности, что мой берег не размыт и прочен.
Признаться вам? Я теперь чуть меньше на вас в обиде. Невнятному голосу вещей вы больше не пытаетесь противопоставить пронзительные ноты и тремоло вашей собственной речи, а к загадочным образам из жизни не станете добавлять забавные пустячки, созданные вашим воображением, и теперь мне яснее видно, что по-настоящему наполняет мир тревогой, я вижу тень там, где вам пришлось распознавать знаки, вижу ловушки, которые насмешливый разум не пожалел для вашей наивности. Ваш голос умолк, однако я по-прежнему погружаюсь в этот нескончаемый поток речи; мнимые оклики, беспредметные символы словно дурная шутка преследуют меня, как при вашей жизни. Я думал, что мой осколок бутылки утонул в бессодержательности вашей прозы, но скрывала его земля, плодородная земля на моих грядках в пригороде. Неужели я сам должен принести в этот мир сомнительную весёлость — в мир, осмеянный разумом, или отстоящий от разума на таком расстоянии, что все знаки, достигнув его, искажаются, меняют порядок и неуклюже усекаются на пути сквозь геологические времена и вселенные? Или же вы, не дрогнув, превратили его в гипотезу, умозрительность, проявили себя в бесполезных изобретениях и нелепых достижениях, исполнили приземлённые желания ставшего сытым и независимым человечества, поскольку предложить этому человечеству было нечего и оставалось только неустанно копировать его же идеи, понапрасну затуманивая их, словно это сознание, обнажаемое психоаналитиком, которое, несмотря ни на что, упорно стремится под видом ребуса представить в толще снов детский секрет, ключ от которого давно ему принадлежит? Какая разница? Это ведь мы — если не наши страдания, то, по крайней мере, иллюзии. Вы мертвы, мне незачем бояться двойников, игры зеркал, уловок, которыми вы настойчиво, с особой силой, целенаправленно сбивали меня с толку, я убил вас и, по крайней мере, разорвал незримые узы сопричастности, связывавшие меня с вымыслом, с обманной видимостью, так что теперь, если что, я могу опереться на вашу руку. Мир предстаёт таким как есть, пугающим и пустым, но хотя бы без излишеств и мишуры, которую вы навесили на него в своём рассказе. Я не рассчитываю навсегда избавиться от обманной игры отражений и отголосков; они ещё будут являться, чтобы меня искушать, но я хотя бы буду вне игры. Студёный северный ветер, пронизывающий до мозга костей, дует на заре, знаменуя освобождение. Реквизит вашего театра по-прежнему здесь, разбросан на покинутой сцене. Как и осколки разбитого зеркала, посылающие друг другу бессмысленные отблески. Эхо ваших слов ещё витает в пустом зале… или эхо этого эха. Но теперь я не могу его разобрать, или, во всяком случае, стараюсь не прислушиваться. И не позволю больше этим фигурам, разобщённым образам собраться вместе, образуя звенья вымысла. Я всё сделаю, чтобы сохранить их беспорядочную разрозненность. Возможно, это вы мне помогли выбыть из игры; то, как вы переигрывали, изображая мима, с какой досадной находчивостью воссоздавали расколотый мир, в итоге лишило его всякой внешней привлекательности. Впредь я и мысли не допущу, будто существует реальность менее эфемерная, чем отражение: отражение суть отражение отражения и в отражениях продолжается. А существовал ли прообраз? Его не было, и потому я так пылко его любил: сокрушённым, стёртым навеки, размытым в отражениях и тоже превратившимся в отражение. Его нет, но он здесь, передо мной, в порванных связях вдребезги разбившегося мира, во мне, в щемящей пустоте зияний. В бесконечности подвижных отражений, когда взгляд лишён опоры и предела, я отдалялся от него; теперь познать бы его вблизи! И тогда, возможно, мне будет позволено насладиться священным вкусом тишины.
Примечания
1
Здесь и далее имена кадетов, обучающихся в Крепости, совпадают с именами персонажей эпоса Вергилия «Энеида» — спутников Энея, погибших за время скитаний после падения Трои. (Здесь и далее: примеч. перев.).
(обратно)2
Т. е. именных.
(обратно)3
La Gare du Nord (Северный вокзал) — один из вокзалов Парижа.
(обратно)4
Иллюстрированный журнал (фр.).
(обратно)5
Палеоло́ги — последняя и наиболее долго правившая династия императоров Византии (1261–1453 гг.). Именно её эмблемой (а не всей Византийской империи) был двуглавый орёл.
Жорж Морис Палеолог, француз румынского происхождения, был послом Франции в России в 1914–1917 гг. и во многом способствовал привлечению России к участию в Первой мировой войне.
(обратно)6
Баньян — специфическая форма разрастания некоторых деревьев (в основном из рода фикусов), когда на ветвях взрослого дерева образуются воздушные корни, постепенно уходящие в землю. Таким образом формируется крона, площадь которой может занимать несколько гектаров!
(обратно)7
In petto (ит.) — про себя.
(обратно)8
Здесь и сейчас; тут же, немедленно (лат.).
(обратно)9
Циклопической кладкой называют способ построения стены путём подгонки больших каменных глыб без применения связующего раствора; древние приписывали её изобретение циклопам.
(обратно)10
Бокаж — тип ландшафта, характерный для северо-запада Франции и других западных приатлантических стран. Представляет собой чередование небольших возделываемых полей и лугов с «живыми изгородями» в виде лесных и кустарниковых полос.
(обратно)11
«Гусёк» — игра, в которой фишки передвигаются по клеткам в соответствии с числом выпавших очков.
(обратно)12
Очевидно, имеется в виду Андре Ле Нотр (1613–1700), придворный ландшафтный архитектор Людовика XIV.
(обратно)13
Имеется в виду Carassius auratus — аквариумная рыбка из семейства карповых, разновидность карася, именуемая также «золотой рыбкой».
(обратно)14
После окончания третьего класса во французской системе среднего образования предполагается ещё два года обучения.
(обратно)15
Имеется в виду École Polytechnique, Высшая Политехническая школа в Париже.
(обратно)16
Эдуар Адольф Дрюмон (1844–1917) — французский политический деятель и публицист, известный своими антисемитскими взглядами.
(обратно)17
Часть Талмуда, где изложены предписания ортодоксального иудаизма.
(обратно)18
Вероятно, речь идёт о романе Эжена Сю (1804–1857) «Вечный Жид» («Агасфер»).
(обратно)19
Намёк на сонет «Гласные» Артюра Рембо (1854–1891).
(обратно)20
Малерб, Франсуа де (1555–1628) — французский поэт. Шенье, Мари-Жозеф (1764–1811) — французский драматург и политический деятель.
(обратно)21
«Астрея» — пасторальный роман Оноре д’Юфре (1568–1625). Линьон — река на родине автора в провинции Форез, фактически участвующая в действии романа.
(обратно)22
Строки из поэмы Франсуа де Малерба «Слёзы Святого Петра», написанной по мотивам произведений итальянского поэта-петраркиста XVI в. Луиджи Тансилло.
(обратно)23
Вир — округ в регионе Нижняя Нормандия, департамент Кальвадос.
(обратно)24
Громадный, огромный (лат.).
(обратно)25
Набоб — титул старинных правителей Индии; с конца XVIII в. так стали называть людей, разбогатевших в колониях, в т. ч. в Индии, а позднее — просто быстро разбогатевшего человека.
(обратно)26
Лесюэр, Эсташ (1617–1655) — французский художник, представитель классицизма.
(обратно)27
В оригинале: Collaboration. Название указывает на то, что это был коллаборационистский клуб.
(обратно)28
Логическая игра, цель которой — переставить в «дом» соперника все свои шашки.
(обратно)29
Лица, уклонявшиеся от принудительных работ в Германии во время Второй мировой войны. В советской истории под «уклонизмом» подразумевался отход от основной линии партии, проявлявшийся в различных формах.
(обратно)30
Слова из басни Лафонтена «Лисица и виноград».
(обратно)31
Ван, Трапезунд — города на территории Турции.
(обратно)32
В Трапезундской империи (1204–1461), образовавшейся в результате распада Византии и находившейся под контролем турок, греки-христиане, жившие в столице, справляли христианские обряды по ночам.
(обратно)33
Так древние греки называли Чёрное море.
(обратно)34
Скорее всего, имеются в виду верфи в Сен-Назере.
(обратно)35
Польдевия — вымышленная страна, по одной из версий, придуманная Альфредом Жарри. Фигурировала во многих литературных и даже политических мистификациях первой половины XX в.
(обратно)36
Вид куртки.
(обратно)37
Очевидно, имеется в виду модель малолитражных автомобилей «Голуаз», которые с 1907 г. выпускала компания, основанная в Исси-ле-Мулино.
(обратно)38
Пересыхающая река в Африке.
(обратно)39
Вероятная аллюзия на доктрину субъективного идеализма в изложении австрийского философа-мистика Рудольфа Штейнера (1861–1925), который в качестве иллюстрации приводил наблюдение за столом.
(обратно)40
Специфическая форма произношения французского обращения «mon fils», «сын мой».
(обратно)41
Квинта — название первой скрипичной струны.
(обратно)42
В древнем Риме божества, покровительствовавшие общинам и их землям. Римляне выводили их культ из культа мёртвых. Фамильные лары были связаны с домашним очагом, семейной трапезой, с деревьями и рощами, посвящавшимися им в усадьбах.
(обратно)43
Короткая трубка для курения.
(обратно)44
«Сен-Клод» — марка курительного табака.
(обратно)45
Ошибка, случайно или намеренно допущенная автором: в начале сцены упоминались пятнадцать франков.
(обратно)46
Большой и Малый Трианон — дворцы, входящие в парковый ансамбль Версаля.
(обратно)47
Возможная аллюзия, отсылающая к картине Антуана Ватто (1684–1721) «Паломничество на остров Киферу» (1717–1718 гг.): галантная сцена изображает отъезд компании дам и кавалеров на легендарный остров любви.
(обратно)48
Название скрипок работы итальянской династии мастеров Амати из Кремоны.
(обратно)49
Циклотимия — эмоциональное расстройство, сопровождаемое нестабильностью настроения.
(обратно)50
Имеется в виду изображение обнажённой авлетки (девушки, играющей на авлосе, разновидности свирели) на левой части древнегреческого алтаря, известного как «трон Людовизи» — по имени владельцев, принадлежавших к знатному итальянскому аристократическому роду, возвысившемуся в XVII в. Центральная часть алтаря изображает рождение Афродиты из морских волн.
(обратно)51
«Горе́ сердца! К звёздам!» (лат.) («Горе́ сердца!» или «Вознесём сердца!» — начальные слова евхаристической молитвы.)
(обратно)

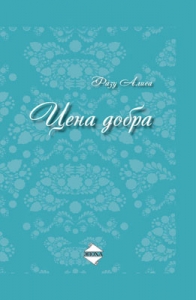

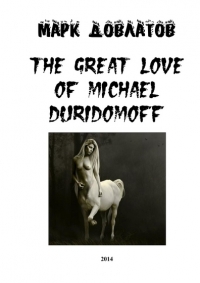







Комментарии к книге «Крушение», Сергей Сергеевич Самарин
Всего 0 комментариев