Ирина Лобусова Камасутра. Короткие рассказы о любви (сборник)
Было так
Почти каждый день мы встречаемся на площадке главной лестницы. Она курит в компании своих друзей, а мы с Наташкой ищем женский туалет — или наоборот. Она похожа на меня — может, потому, что мы обе совершенно теряем способность ориентироваться в огромном и бесконечном (так кажется нам каждый день) пространстве института. Длинные запутанные корпуса которого словно специально созданы для того, чтобы давить на мозги. Обыкновенно к концу дня я начинаю звереть и требовать немедленно выдать ту обезьяну, какая построила это здание. Наташка смеется, и спрашивает, почему я уверенна, что эта архитектурная обезьяна до сих пор существует в живых. Впрочем, бесконечное блуждание в поисках нужной аудитории или женского туалета — это развлечение. Их так немного в нашей жизни — простых развлечений. Мы обе ценим их, я узнаю всё по глазам. Когда в самый неожиданный момент мы сталкиваемся на лестнице и врем друг другу, что наша встреча абсолютно неожиданна. Мы обе умеем просто классически врать. Я. И она.
Обыкновенно мы сталкиваемся на лестнице. Потом отводим глаза и делаем важный вид. Она степенно объясняет, как только что вышла из аудитории. Я — что прохожу по коридору рядом. Никто не признается даже под видом жуткой смертной казни в том, что на самом деле мы стоим здесь и ждем друг друга. Об этом никому, кроме нас, не дано (и не будет дано) знать.
Обе очень дружно делаем вид, что безумно рады видеть друг друга. Со стороны всё выглядит так, что поверить нам легко.
— Так приятно встретить знакомых!
— Ах, я даже не знала, что ты будешь здесь проходить… Но я так рада!
— Что у тебя есть курить?
Она протягивает сигареты, моя подруга Наташка нагло хватает сразу две и в полной женской солидарности мы втроем молча курим до звонка на следующую пару.
— Ты не дашь мне на пару дней свой конспект по экономической теории? У нас зачет через пару дней… А ты зачет уже досрочно сдала… (она)
— Без проблем. Позвони, зайдешь и возьмешь… (я).
Потом расходимся по лекциям. Она учится на том же курсе, что и я, только в другом потоке.
В аудитории сыро от утреннего света, а парта еще влажная от мокрой тряпки уборщицы. Сзади народ обсуждает вчерашний телевизионный сериал. Через несколько минут все дружно погружаются в глубины высшей математики. Все, кроме меня. Во время перерыва я, не отрывая глаз от конспекта, сижу за столом, пытаясь хотя бы увидеть то, что написано на открытом передо мной бумажном листе. Кто-то медленно и тихо подходит к моему столу. И, не поднимая глаз вверх, я знаю о том, кого увижу. Кто стоит за моей спиной… Она.
Она входит боком, как будто стесняясь незнакомых людей. Садится рядом, преданно смотрит в глаза. Мы — самые близкие и лучшие подруги, причем с давнего времени. Глубокую сущность наших отношений невозможно выразить словами. Мы просто ждем одного мужчину. Обе ждем, без успеха, который год. Мы — соперницы, но ни одному человеку в мире не пришло бы в голову так нас назвать. Наши лица одинаковы потому, что отмечены несмываемой печатью любви и тревоги. За одного человека. Наверное, мы обе его любим. Может, он тоже нас любит, но для сохранности наших общих с ней душ легче уговаривать себя, что ему по-настоящему на нас наплевать.
Сколько времени прошло с тех пор? Полгода, Год, два года? С того времени, когда был один, самый обычный телефонный звонок?
Кто звонил? Имени сейчас и не вспомнишь… Кто-то с соседнего курса… или из группы…
«— Привет. Приходи прямо сейчас. Тут все собрались… есть сюрприз!
— Какой сюрприз?! Дождь на улице! Говори толком!
— Как у тебя насчет английского?
— Ты мозгами поехала?
— Слушай, тут у нас сидят американцы. Двое, приехали по обмену, на факультет романо-германской филологии.
— А почему они сидят у нас?
— Им там не интересно, кроме того, они познакомились с Виталиком и он привел их к нам в общагу. Они забавные. По-русски почти не говорят. Она (назвала имя) запала на одного. Все время сидит с ним рядом. Приходи. Ты должна на это посмотреть! “
Дождь, который бил в лицо… Когда я вернулась домой, нас было трое. Трое. Так повелось с тех пор.
Я поворачиваю голову и смотрю на ее лицо — лицо человека, который, преданно положив голову мне на плечо, смотрит глазами жалкой побитой собаки. Определенно она любит его больше, чем я. Так любит, что для нее праздник — услышать хотя бы одно слово. Даже если это его слово предназначено для меня. С точки зрения ущемленного самолюбия я смотрю на нее очень пристально и со знанием дела отмечаю, что сегодня она плохо причесана, эта помада ей не идет, а на колготках — петля. Она, наверное, видит синяки под моими глазами, ногти без признаков маникюра и уставший вид. Я давно знаю, что грудь у меня красивей и больше, чем у нее, рост выше и глаза более яркие. А вот ее ноги и талия более стройны, чем мои. Наш взаимный осмотр почти незаметен — это привычка, укоренившаяся в подсознании. После этого мы взаимно ищем странности в поведении, говорящие о том, что кто-то из нас недавно видел его.
— Вчера до двух часов ночи смотрела международные новости… — голос ее осекается, становится хриплым, — наверное, в этом году им не удастся приехать… Я слышала, кризис в Штатах..
— А если и приедут, несмотря на свою пошатнувшуюся экономику, — подхватываю я, — к нам они вряд ли зайдут.
Ее лицо вытягивается, я вижу, что сделала ей больно. Но остановиться уже не могу.
— И вообще, я уже давно забыла про всю эту ерунду. Даже если он снова приедет, ты все равно его не поймешь. Как в прошлый раз.
— Но ты мне поможешь с переводом…
— Вряд ли. Я давно забыла английский. Скоро экзамены, сессия, надо заниматься русским… будущее за русским языком… а еще говорят, что скоро на РГФ приедут по обмену немцы. Не хочешь сесть за словарь и сходить на них посмотреть?
После нее он переметнулся ко мне — это было нормально, я давно привыкла к такой реакции, но я не знала, что его обыкновенные мужские поступки смогут причинить ей такую боль. Он до сих пор пишет мне письма — тоненькие листочки, отпечатанные на лазерном принтере… Я храню их в старой тетрадке, чтобы не показать никому. Она не знает о существовании этих писем. Все ее представления о жизни — это надежда, что он забудет меня тоже. Я догадываюсь, что каждое утро она открывает карту миру и с надеждой смотрит на океан. Она любит океан почти так же, как и его. Океан для нее — бездонная пропасть, в которой тонут мысли и чувства. Я не разубеждаю ее в этой иллюзии. Пусть живет так, как легко. Наша история примитивна до глупости. Так нелепа, что стыдно даже говорить. Окружающие твердо уверенны, что, повстречавшись в институте, мы просто так стали подругами. Две самых близких подруги. Которым всегда есть, о чем говорить… Это правда. Мы подруги. Нам интересно вдвоем, всегда есть общие темы и понимаем мы друг друга тоже с полуслов. Мне она нравится — как человек, как личность, как друг. Я нравлюсь ей тоже. У нее есть черты характера, которых нет у меня. Нам хорошо вдвоем. Так хорошо, что на белом свете никто не нужен. Даже, наверное, океан.
В открытой на всеобщее обозрение «личной» жизни у каждой из нас есть отдельный мужчина. У нее — студент-биолог из университета. У меня — компьютерный художник, довольно забавный тип. С ценным качеством — неумением задавать вопросы. Наши мужчины помогают нам пережить неизвестность и тоску, и еще мысль о том, что он не вернется. Что наш американский роман никогда не свяжет нас по-настоящему с ним. Но за эту любовь мы тайно обещаем друг другу всегда проявлять беспокойство — беспокойство не о себе, о нем. Она не догадывается, я понимаю, как мы смешны и нелепы, цепляясь за треснутую, разорванную соломинку, чтобы выплыть на поверхность и заглушить какую-то странную боль. Боль, похожую на зубную, возникающую в самый неподходящий момент в самом неподходящем месте. Боль — о себе? Или о нем?
Иногда я читаю в ее глазах ненависть. Словно по молчаливому сговору мы ненавидим все, существующее вокруг. Институт, в который поступили просто так, ради диплома, друзей, которым на тебя наплевать, общество и наше существование, а главное — ту пропасть, которая навсегда разделяет нас с ним. И когда мы устаем до безумия от вечной лжи и плохо скрытого равнодушия, от круговерти ничего не значащих, но многих событий, от глупости чужих любовных историй — мы встречаемся с ней глазами и видим искренность, настоящую, правдивую искренность, чище и лучше которой нет… Мы никогда не говорим на тему любовного треугольника потому, что обе прекрасно понимаем — за этим всегда кроется что-то более сложное, чем дилемма обычной неразделенной любви…
И еще: мы очень часто вспоминаем о нем. Вспоминаем, испытывая разные чувства — тоску, любовь, ненависть, что-то гадкое и противное или наоборот, светлое и пушистое… И после потока общих фраз кто-то вдруг замолчит на полуслове и спросит:
— Ну, что?
И другая отрицательно качнет головой:
— Ничего нового…
И, встретившись глазами, поймет немой приговор — не будет нового, ничего… Никогда.
Дома, наедине с собой, когда никто меня не видит, я схожу с ума от пропасти, в которую падаю все ниже и ниже. Мне до безумия хочется схватить ручку и написать на английском: «оставь меня в покое… не звони… не пиши…» Но я не могу, не способна это сделать, и потому мучаюсь кошмарами, от которых моей второй половиной становится только хроническая бессонница. Наше безревностное разделение любви жутким ночным кошмаром снится мне по ночам… Как шведская семья или мусульманские законы о многоженстве… В кошмарах я даже представляю себе, как мы обе выходим за него замуж и хозяйничаем на одной кухне… Я. И она. Меня передергивает во сне. Я просыпаюсь в холодном поту и мучаюсь с искушением сказать, что от общих знакомых узнала о его гибели в автомобильной катастрофе… Или что где-то упал еще один самолет… Я изобретаю сотни способов, знаю, что не смогу это сделать. Я не могу ее ненавидеть. Так же, как и она — меня.
Однажды, в тяжелый день, когда мои нервы были расшатаны до предела, я прижала ее к лестнице:
— Что ты делаешь?! Зачем ты меня преследуешь? Почему продолжаешь этот кошмар?! Живи своей жизнью! Оставь меня в покое! Не ищи моего общества, ведь на самом деле ты меня ненавидишь!
В ее глазах появилось странное выражение:
— Это неправда. Я не могу и не хочу тебя ненавидеть. Я люблю тебя. И немного его.
Каждый день на протяжении двух лет мы встречаемся на площадке лестницы. И каждую встречу мы не говорим, но думаем о нем. Я даже ловлю себя на мысли, что каждый день отсчитываю по часам и с нетерпением жду того момента, когда она тихонько, словно стесняясь, войдет в аудиторию, сядет со мной и начнет глупый бесконечный разговор на общие темы. А потом, в середине, прервет разговор и вопросительно посмотрит на меня… Я виновато отведу глаза в сторону, чтобы отрицательно покачать головой. И вздрогну всем телом — наверное, от вечной холодной сырости по утрам.
Два дня до нового года
В телеграмме было «не приезжай». Снег царапал щеки жесткой щетиной, затоптанный под разбитым фонарем. Край особо наглой из всех телеграмм высовывался из кармана сквозь мех шубы. Вокзал был похож на огромный феонитовый шар, слепленный из грязного пластилина. Ярко и ясно падала в пустоту дверь, уходящая в небо.
Прислонившись к холодной стене, она изучала железнодорожно-кассовое окно, где давилась толпа, и думала только о том, что хочет курить, просто до безумия хочет курить, втягивая в обе ноздри горький морозный воздух. Было нельзя идти, нужно было только стоять, наблюдая толпу, прислонившись к холодной стене плечом, щуря глаза от привычной для зрения вони. Все вокзалы похожи один на другой, как упавшие серые звезды, плавали облаками чужих глаз скопищем привычных неоспоримых миазмов. Все вокзалы — похожие один на другой.
Облаками — чужих глаз. Это было существенно самым важным.
В телеграмме было «не приезжай». Так не приходилось искать подтверждений тому, что собирается сделать. В узком проходе выпал из-под чьих-то ног затоптанный пьяный бомж, выпал прямо под ноги ей. Исключительно осторожно отползла по стене чтобы не задеть краем длинной меховой шубы. Кто-то толкнул в спину. Обернулась. Показалось — хочет что-то сказать, но ничего не смогла, и так, не сумев ничего сказать, застыла, забыв, что хочет курить потому, что мысль была более свежей. Мысль о том, что решения могут грызть мозг точно так, как грызут недокуренные (на снегу) сигареты. Там, где была боль, оставались красные воспаленные точки, тщательно спрятанные под кожей. Провела рукой, пытаясь отрезать самую воспаленную часть, но ничего не произошло, а красные точки ныли все мучительнее, все больше, оставляя позади злость, похожую на раскаленный разбитый фонарь в привычном феонитовом шаре.
Резко толкнув от себя часть стены, врезалась в очередь, профессионально отшвыривая всех мешочниц уверенными локтями. Наглость вызвала дружное раскрытие ртов видавших виды перекупщиц билетов. Она прижалась к окну, боясь, что снова не сможет ничего сказать, но сказала, и там, где дыхание падало на стекло, окошко становилось влажным.
— Один до… на сегодня.
— Нету.
— А в общий?
— Я сказала нету.
Звуковая волна голосов ударила в ноги, кто-то усиленно драл меховой бок, и совсем рядом отвратительная луковая вонь чьей-то истерической пасти попала в ноздри — так возмущенные народные массы праведно пытались ее отъять от железнодорожно-кассового окна.
— У меня, может, заверенная телеграмма.
— Иди в другое окно.
— Ну посмотрите — один билет.
— Ты че, издеваешься, блин ты…., — сказала кассирша, — не задерживай очередь… ты…, отошла от кассы!
Шубу больше не рвали, в пол ушла звуковая волна, бившая ноги. Она толкнула, уходящую в небо, тяжелую дверь и вышла туда, где мороз сразу же впился в лицо отточенными вампирскими зубами. Мимо глаз (чужих глаз) проплывали бесконечные ночные вокзалы. Вслед кричали — вдоль стоянок такси. Разумеется, она не понимала ни слова. Ей казалось — забыла все языки очень давно, и вокруг сквозь аквариумные стены, не доходя к ней, исчезают людские звуки, забирая существующие в мире цвета с собой. Стены были до самого дна, не пропуская ушедшую симфонию цвета. В телеграмме было «не приезжай обстоятельства изменились». На ресницах высыхало совершенное подобие слез, не дошедшее до щек на вампирском морозе. Эти слезы исчезали, не появившись, совсем и сразу, только внутри, под кожей, оставляя тупую заскорузлую боль, похожую на осушенное болото. Она достала из сумочки сигарету и зажигалку (в форме цветной рыбки) и глубоко втянула в себя дым, вдруг застрявший в горле тяжелым и горьким комком. Она тянула дым в себя до тех пор, пока державшая сигарету рука не превратилась в деревянный обрубок, а когда превращение произошло, сам собой окурок шлепнулся вниз, похожий на огромную падающую звезду, отраженную в бархатном черном небе. Кто-то снова толкнул, за край шубы зацепились елочные иголки и упали на снег, а раз упали иголки — она обернулась. Впереди в заячьем отметке маячила широкая мужская спина с прикрепленной к плечу елкой, которая плясала на спине фантастический смешной танец. Спина шла быстро и с каждым шагом уходила все более далеко, а потом на снегу остались только иголки. Замерев (боясь дышать)б она смотрела на них очень долго, иголки были похожи на маленькие огни, а когда в глазах зарябило от искусственного света, вдруг увидела, что идущий от них свет — был зеленый. Это было очень быстро, а потом — совсем ничего, только сдавленная быстротой боль вернулась на прежнее место. Защипало в глазах, завертелось на месте, сжался мозг и внутри кто-то сказал отчетливо ясно и четко «два дня до Нового года», и сразу не стало воздуха, был горький дым, спрятанный в груди глубоко так же, как и в ее горле. Черное, как растаявший снег, выплыло число и что-то сбило с ног, понесло по снегу прочь, только не на одном месте, куда-нибудь — от людей, к людям.
— Да стой, ты… — сбоку чье-то тяжелое дыхание отдавало полным набором сивушных масел. Обернувшись, под вязанной шапкой разглядела лисьи глаза.
— Сколько бегать за тобой можно?
Кто-то за ней бежал? Чушь. Так никогда не было — в этом мире. Было все, кроме двух полюсов — жизни и смерти, в полном избытке.
— Что?
— Ты билет спрашивала до…?
— Допустим.
— Так у меня есть.
— Сколько.
— С тебя как с родной — отдам за 50.
— Да пошел..
— Ну жалкие 50 баксов, тебе как родной отдаю — так шоб взять…
— Ладно.
— Ага, один, на сегодня, даже нижнее место.
Она поднесла билет к фонарю.
— Да верно, в натуре, не сомневайся.
Парень похрустел, покрутил на свет денежную бумажку в 50 долларов.
— А поезд в 2 часа ночи.
— Я знаю.
— Ну ладно.
Он растаял в пространстве, как тают люди, которые не повторяются при дневном свете. «Не приезжай обстоятельства изменились».
Она усмехнулась. Лицо расплывалось белым пятном на полу прилепленным к брови окурком. Выступало из-под сонных опущенных век, и, вписываясь в грязную окружность звало далеко, дальше и дальше. Там, где была, резкие углы кресла давили тело. Голоса сливались в ушах где-то в забытом за спиной мире. Сонная паутина окутывала несуществующим теплом даже лицевые изгибы. Она клонила голову вниз, пытаясь уйти, и только расплывалось лицо грязным белым пятном в вокзальных плитках. Этой ночью она не была больше собой. Кто-то рожденный и кто-то мертвый изменялся так, как нельзя было думать. Никуда не упав, отвернула от пола лицо, где вокзал жил ночной, не подвластной для рассмотрения жизнью. Около часа ночи телефонный звонок раздался в одной из квартир.
— Это я.
— Где ты?
— Я уезжаю.
— Ты решила.
— Он прислал телеграмму. Одну.
— Он хоть будет тебя ждать? И потом, адрес…
— Я должна ехать — там это, в телеграмме.
— Ты вернешься?
— Будь что будет.
— А если подождешь пару дней?
— В этом нет абсолютно никакого смысла.
— А вдруг одумаешься?
— Права нет на другой выход.
— Незачем к нему ехать. Не нужно.
— Я плохо слышу — в трубке шипит, но ты все равно говори.
— Что говорить?
— Что-нибудь. Как хочешь.
— Довольна, да? Нет на земле второй такой идиотки!
— До нового года остается два дня.
— Ты хотя бы на праздник осталась.
— Я выбрана.
— Тебя никто не выбирал.
— Все равно.
— Не уезжай. Не надо ехать туда, слышишь?
Короткие гудки благословили ее путь и сквозь стекло телефонной будки внутри неба чернели звезды. Она подумала, что ее нет, но долго думать об этом было страшно.
Поезд полз медленно. Тускло светились вагонные окна, тускло горела лампочка в плацкартном проходе. Прислонившись затылком к пластику поездной перегородки отражавшему лед, ждала, когда все уйдет и размоется за окном темнота теми слезами, которые, не появляясь в глазах, не высыхают. Мелкой болезненной дрожью задрожали давно не мытые стекла. Разболелся затылок от пластикового льда. Где-то внутри скулил маленький зябкий зверенок. «Я не хочу… — где-то внутри плакал маленький, усталый больной зверь, — я не хочу никуда уезжать, не хочу, господи, слышишь…»
Мелкой болезненной дрожью в такт поезду рассыпались стекла. «Я не хочу уезжать… плакал маленький зверь, — вообще никуда… я никуда не хочу ехать…я домой хочу… я хочу домой, к маме…»
В телеграмме было «не приезжай». Это означало, что в выбор не входило остаться. Ей казалось: вместе с поездом она катится вниз по осклизлым стенкам мерзлого оврага, с талыми снежинками на щеках и елочными иголками на снегу, вниз, к самому беспросветному дну, где так по-домашнему светят электричеством застывшие окна бывших комнат и где в тепле растворяются лживые слова о том, что существуют на земле окна, к которым, бросив все, еще можно вернуться… она дрожала, зубы выбивали дрожь там, где агонией хрипел скорый поезд. Сжавшись, она думала о елочных иголках, застрявших в снегу, и что в телеграмме было «не приезжай», и что два дня оставалось до Нового года и что однажды (это согревало болезненным искусственным теплом) придет день, в который больше не нужно будет никуда ехать. Старым больным зверем поезд выл по рельсам что счастье — это самая простая на земле вещь. Счастье — это когда нет дороги.
Красный цветок
Она обняла себя за плечи, наслаждаясь идеальной бархатистостью кожи. Потом неторопливо пригладила волосы рукой. Холодная вода — чудо. Веки стали прежними, не сохранив ни единого следа из того, что…. Что она проплакала всю ночь накануне. Все смыла вода, и можно было смело идти вперед. Она улыбнулась своему отражению в зеркале: «Я — прекрасна!». Потом — безразлично махнула рукой.
Она прошла коридор и оказалась там, где должна была оказаться. Взяла с подноса бокал с шампанским, не забыв одарить сверкающей улыбкой ни официанта, ни тех, кто находился вокруг. Шампанское показалось ей отвратительным, и на искусанных губах сразу же застыла жуткая горечь. Но из присутствующих, наполнявших большую залу, об этом бы не догадался никто. Она очень нравилась себе со стороны: прелестная женщина в дорогом вечернем платье пьет изысканное шампанское, наслаждаясь каждым глотком.
Разумеется, он все время был там. Он царил, окруженный своими раболепными подданными, в сердцевине большого банкетного зала. Светский лев, с непринужденным очарованием строго следящий за своею толпой. Все ли пришли — те, кто должен прийти? Все ли очарованы — те, кто должен быть очарован? Все ли испуганы и подавлены — те, кто должен быть испуган и подавлен? Гордый взгляд из-под чуть сдвинутых бровей говорил, что все. Он полусидел в центре стола, окруженный людьми, и, в первую очередь, красивыми женщинами. Большинство людей, встречавшихся с ним впервые, были очарованы его простодушной, располагающей к себе внешностью, его простотой и показным добродушием. Он казался им идеалом — олигарх, который держится так просто! Почти как обычный человек, как свой. Но только те, кто сталкивался с ним ближе или те, кто осмеливался просить у него денег, знали, как из-под внешней мягкости высовывается грозная львиная лапа, способная разорвать виновного легким движением грозной ладони.
Она знала все его жесты, его слова, движения и повадки. Она хранила в своем сердце каждую его морщинку, как клад. Годы приносили ему деньги и уверенность в будущем, он встречал их гордо, как океанский флагман. В его жизни было слишком много других людей, чтобы ее замечать. Изредка он замечал ее новые морщинки или складки на теле.
— Дорогая, ну так нельзя! Нужно за собой следить! Посмотри в зеркало! С моими-то деньгами…. Я слышал, открылся новый косметический салон…
— От кого слышал?
Он не смущался:
— Да, открылся новый и очень хороший! Сходи туда. А то ты скоро будешь выглядеть на все свои сорок пять! И я не смогу даже выйти с тобой в свет.
Он не стеснялся демонстрировать свои знания в области косметики или моды. Наоборот, подчеркивал: «видишь, как любит меня молодежь!». Он всегда был окружен этой самой «просвещенной» золотой молодежью. По бокам от него сидели две обладательницы последних титулов. Одна — мисс город, другая — мисс очарование, третья — лицо модельного агентства, которое таскало своих подопечных на любую презентацию, где мог оказаться хоть один, зарабатывающий больше 100 тысяч долларов в год. Четвертой была новенькая — она не видела ее прежде, но такая же злобная, подлая и наглая, как все. Пожалуй, у этой наглости было даже больше, и она отметила про себя, что эта далеко пойдет. Та девица полусидела перед ним прямо на банкетном столе, кокетливо положив ручку ему на плечо, и заливалась громким смехом в ответ на его слова, всем своим видом выражая жадную хищную хватку под маской наивной беспечности. Женщины всегда занимали в его окружении первые места. Мужчины теснились за спиной.
Сжимая бокал в руке, она словно читала на поверхности золотистого напитка свои мысли. Вокруг ее провожали льстивые, заискивающие улыбки — все-таки она была женой. Она была его женой долго, так долго, что он всегда подчеркивал это, а значит, ей также принадлежала главная роль.
Холодная вода — чудо. Она больше не чувствовала свои припухшие веки. Кто-то задел ее локтем:
— Ах. Дорогая! — это была знакомая, жена министра, — ты прекрасно выглядишь! Вы замечательная пара, я всегда вам завидую! Это так здорово — прожить больше 20 лет и сохранить в отношениях такую легкость! Смотреть друг на друга всегда. Ах, замечательно!
Оторвавшись от ее назойливой болтовни, действительно поймала на себе его взгляд. Он смотрел на нее, и это было как пузырьки в шампанском. Она улыбнулась своей самой очаровательной улыбкой, подумав, что он заслуживает шанс…. Он не встал, когда она подошла, а девицы и не подумали уйти при ее появлении.
— развлекаешься, дорогой?
— Да, дорогая. Все в порядке?
— Прекрасно! А у тебя?
— Тоже!
— Я очень рада за тебя, дорогой.
Их диалог не остался незамеченным. Окружающие думали «какая прелестная пара!». А присутствующие на банкете журналисты отметили про себя, что надо упомянуть в статье про то, что у олигарха такая замечательная жена.
— Дорогой, ты позволишь на пару слов?
Взяв ее под ручку, отвел от стола.
— Ты успокоилась наконец?
— А ты как думаешь?
— Думаю, в твоем возрасте вредно волноваться!
— Позволь напомнить, что мне столько же лет, сколько тебе!
— У мужчин это иначе!
— Вот как?
— Давай не начинать сначала! Я уже устал от твоей дурацкой выдумки, что я должен был сегодня обязательно подарить тебе цветы! У меня столько дел, я верчусь, как белка в колесе! Ты должна была об этом подумать! Можно было не цепляться ко мне со всякой ерундой! Захотела цветы — пойди купи себе, закажи, да купи хоть целый магазин, только меня оставь в покое — и все!
Она улыбнулась своей самой чарующей улыбкой:
— Да я уже и не вспоминаю, дорогой!
— Правда? — он обрадовался, — а я так рассердился, когда ты прицепилась ко мне с этими цветами! У меня столько дел, а ты полезла со всякой ерундой!
— Это был маленький женский каприз.
— Дорогая, запомни: маленькие женские капризы позволительны только молодым красивым девушкам, как те, что сидят рядом со мной! А в тебе это только раздражает!
— Я запомню, любимый. Не сердись, не нервничай из-за таких пустяков!
— Очень хорошо, что ты такая умница! Мне повезло с женой! Послушай, дорогая, обратно мы будем возвращаться не вместе. Тебя заберет шофер, когда тебе надоест. А я поеду сам, на своей машине, у меня есть кое-какие дела…. И не жди меня сегодня, я не приеду ночевать. Буду только к обеду, завтра. Да и то, может, пообедаю в офисе, а не вернусь домой.
— Я поеду одна? Сегодня?!
— Господи, да что такое сегодня?! Что ты мне действуешь на нервы целый день?
— Да уж, я занимаю так мало места в твоей жизни…
— Да при чем тут это! Ты занимаешь много места, ты ведь моя жена! И я везде таскаю тебя с собой! Так что не начинай!
— Хорошо, не буду. Я не хотела.
— Вот и хорошо! Тебе уже нечего хотеть!
И, усмехнувшись, он вернулся обратно, где нетерпеливо ждали слишком многие — гораздо более важные. С его точки зрения, особы, чем жена. Она улыбнулась. Ее улыбка была прекрасной. Это было выражение счастья — огромного счастья, которое нельзя удержать! Вновь вернувшись в туалетную комнату и плотно заперев за собой двери, она достала маленький мобильный телефон.
— Я подтверждаю. Через полчаса.
В зале она вновь расточала улыбки — демонстрируя (да ей и не надо было демонстрировать, так она ощущала) огромный прилив счастья. Это были самые счастливые минуты — минуты предвкушения… Так, сияя, она выскользнула в узкий коридор возле служебного входа, откуда хорошо просматривался выход, прильнула к окну. Через полчаса в узких дверях появились знакомые фигуры. Это были два охранника ее мужа, и ее муж. Ее муж, обнимающий новенькую девицу. И целующий — на ходу. Все спешили к черному блестящему мерседесу — последнему приобретению супруга, стоившему 797 тысяч долларов. Он любил дорогие машины. Очень любил.
Дверцы распахнулись, темное нутро автомобиля поглотило их полностью. Охранники остались снаружи. Один что-то говорил по рации — наверное, предупреждал тех, что на входе, что машина уже идет.
Взрыв раздался с оглушительной силой, уничтожая иллюминацию отеля, деревья и стекла. Все смешалось: крики, грохот, звон. Огненные языки пламени, взметнувшиеся до самого неба, лизали искореженный корпус мерседеса, превращенного в огромный погребальный костер.
Она обняла себя за плечи и автоматически пригладила волосы, наслаждаясь внутренним голосом: «Я подарила тебе самый красивый красный цветок! С днем нашей свадьбы, дорогой».
Криминальный рассказ
Он мял в руках барсетку, нервничал и выглядел так, как выглядят мужчины, попавшие в неприятную (с их точки зрения) ситуацию. Мой шеф изо всех сил пытался его успокоить. Для 9 людей из 10, которые обращаются в частное детективное агентство, нервозность — нормальное состояние. Клиенты такого рода — обычная ситуация, мы давно успели привыкнуть к ним. Словом, этот клиент ничем не отличался от остальных, и то, что для него было шоком, для нас составляло рутину. Здесь с первого раза было ясно, что неожиданностей не предвидится.
Обычно я не захожу в кабинет — шеф сам расправляется с любой ситуацией. Но иногда (особенно, когда мне нечего делать и я начинаю скучать, а скука моя чревата последствиями для всего агентства), шеф «натравливает» меня на свеженького клиента. Это был как раз такой случай.
После очередного увещевания шефа (просьба успокоиться уверенным тоном, заверения в конфиденциальности и все такое), наш клиент залпом выпил стакан воды и уронил на пол свою барсетку. Затем, для чего-то покосившись на закрытое окно, глухо произнес:
— У моей жены есть любовник.
«Тоже мне новость!» — со скукой подумала я. То, что речь идет о любовнике жены, ясно было с самого начала. С другим к частному детективу просто не приходят. С каким воодушевлением я уходила из милиции в это агентство! Какие воздушные замки строила по пути! Реальность же оказалась такой, что выть от нее захотелось с самого начала. Нет того, чтобы наше агентство хоть раз занялось расследованием громких убийств, поисками известного и жуткого маньяка, исчезновением таинственных сокровищ… Да просто вляпалось в какую-то плохонькую шпионскую историю, наконец! Нет, изо дня в день потные, нервозные субъекты обоих полов рассказывали о бесконечных любовниках и любовницах… И чувствовалось, что весь этот секс — не от страсти, а тоже от скуки. А «подследственные объекты» со своими нелепыми любовными похождениями напоминали сонных мух… ну точь в точь мухи на подоконнике! Скука смертная! Они не догадывались о самой примитивной слежке, и вывести их на чистую воду мог и пятилетний ребенок.
Очевидно, удивленный тем, что от его «глубокомысленной» фразы мы не попадали со стульев, клиент кашлянул и пытливо посмотрел на нас. Шеф изобразил полное внимание. Клиент стал успокаиваться (по моей статистике, это успокоение всегда приходило после первой фразы).
— У моей жены есть любовник. Я хочу знать, кто он такой. Я хочу знать о нем всё!
— Откуда у вас такая уверенность?
— Я сам за ней следил. Видите ли, моя жена… мы женаты уже три года. Она намного моложе меня. Я стал замечать, что она мне врет. Говорит, например, что ходила по магазинам. Я проверял, а в тех магазинах, где она якобы была, она не показывалась месяцами. Или говорит, что целый день провела дома, а сама уходила, и надолго. К тому же, она тратит большие суммы денег — неизвестно, на что. На что она тратит деньги, если ничего не покупает? Ходит в каком-то рванье… Я состоятельный человек. Жена моя не работает. Я хотел, чтобы ее сопровождал охранник, но она категорически отказалась. Пригрозила, что уйдет. Тогда я сам решил следить… почти каждый день она посещает один и тот же дом. И находится внутри очень долго. А в последнее время я стал замечать, что у нее депрессия. Она нервничает, часто плачет по ночам. Я слышу, как она плачет в подушку. Наверное, он уговаривает ее от меня уйти, а она не может решиться.
— Как вы поступите, когда получите доказательства, что у нее есть связь?
— Я… не знаю. Когда мы поженились, я твердо предупредил ее, что не потерплю лжи. Никакой лжи! Но теперь… Я не могу без нее жить, это просто ужасно. Словом, я не знаю….
— Скажите, у вас есть дети?
— Нет. Я не хочу иметь никаких детей! Моя жена всегда соглашалась с этим. Мы так счастливо жили друг для друга, и вот теперь…
— Но вы хотите знать правду? Вы уверены в том, что хотите ее знать?
— Да, хочу. Я все обдумал. Я хочу знать правду, какая бы она ни была.
Когда он ушел, шеф ехидно посмотрел на меня и прокомментировал «Х — файлы». Словом, на следующий день за нашей дамой следить отправился другой оперативник. Но уже к вечеру шеф вызвал меня к себе в кабинет.
— А у нас начались странности! Вот, почитай….
Отчет был составлен очень грамотно. Действительно, дама посещала одну квартиру. Этот день она провела так. Муж ее уехал на работу к 8 утра. Ровно в 10 дама вышла из дома, села в свою машину и отправилась по указанному нам адресу. В 11.05 она вошла в дом, поднялась в квартиру на 4 этаже и оставалась там… до 17.35 часов! В 17.35 она вышла из дома, вернулась в квартиру мужа. Больше она на улицу не выходила, а в 20.30 вернулся с работы ее муж.
— Тебе не кажется, что 6 часов для свидания с любовником — это слишком? — сказал шеф.
— Да уж… Почти как работа. А кто живет в квартире? Она сдается?
— Нет, и никогда не сдавалась. В квартире живет пожилая женщина. Старая учительница.
— Кто-о-о?! Это ее мать?
— Нет. Ее мать умерла 5 лет назад.
— А… одна эта учительница живет? Или с сыном?
— У нее нет детей. Живет одна. Есть еще две странности. Ты прочитала описание одежды и внешности нашей красавицы? Тебя ничего не поразило?
Я прочитала. Женщина была одета в джинсы, простую голубую футболку и сине-белые кеды. Волосы сзади небрежно забраны в хвост. Ни грамма косметики на лице…
— Это не любовник. Я не знаю, что она делает в той квартире, но это не любовник!
— Умница! Но и это не все. Конечно, я сразу сообразил, что на свидания к любимому мужчине в таком виде не ездят. Странность последняя-то, что вся квартира нашпигована заглушками. Заглушки для мобильников, видеокамер и т. д. Кто-то грохнул ни одну тысячу долларов, чтобы сделать эту квартиру полностью непроницаемой для любой следящей и подслушивающей аппаратуры! Некоторые из этих глушилок только посольства используют! Она установила аппаратуру, кто ж еще. Как будто точно знала, что муж наймет частных детективов. Ну, что скажешь? В таких условиях нельзя сделать ни одного снимка!
Скуку сняло, как рукой.
— Скажу, что мне самой интересно. И, конечно же, завтра поеду туда.
— И как ты догадалась, что я хотел тебя об этом попросить? — съехидничал шеф.
Есть дела, в которых абсолютно бесполезен любой мужчина, даже самый опытный мент. В таких делах одна женщина способна сделать больше, чем несколько мужчин, и правило это отлично знает каждый хороший детектив. Кажется, это дело было именно таким.
Дом был самым обыкновенным — старинный, с широкой мраморной лестницей, по которой так трудно было подниматься на 4 этаж. Но я поднялась, и смело позвонила в нужную дверь. Судя по отчету оперативника, наша дама находилась там.
Через день наш клиент снова нервничал в уже знакомом ему кресле. В этот раз он выглядел обреченным. За три дня он постарел лет на 20. В углу его губ появились морщинки — такие морщины, от горя, как правило, не исчезают никогда. Шеф поручил говорить с ним мне, и я не удержалась:
— Переживали?
— Что ж, жизнь все равно разбита, и нечего тут переживать. Я готов вас выслушать.
— И поделом вам! Нечего быть таким категоричным!
— Вы о чем? — удивление немного отодвинуло обреченность, с которой, похоже, он уже свыкся, — вы узнали, кто…кто он?
— Разумеется. Мы же лучшее агентство в городе!
— И кто ее любовник?
— Ну, любовником я бы его не назвала. Скорей, любимый мужчина. И знаете, я думаю, этого мужчину ваша жена будет любить всю свою жизнь!
Конечно, шеф бы сказал, что я перегнула палку. И лицо у клиента стало таким…Словно выстрелил бы в меня, если б смог! Рассмеявшись, я положила перед ним несколько фотографий.
— Да вот же он! Смотрите, тут он купается. А здесь ваша жена кормит его яблочным пюре. А вот тут они в парке…
Фотографии выпали из его рук:
— Что… что это? Кто…
— Да ребенок у вашей жены! Ребенок! Не любовник, а сын! Маленький мальчик, 5 лет! Эту тайну она тщательно скрывала от вас потому, что вы были так категоричны с самого начала. Она думала, что если вы узнаете про ребенка, то выгоните ее вон. А она очень вас любит. И ребенка любит. Вот и разрывалась между вами двумя! Вы только представьте себе, как она страдала! Поселила ребенка у няни, и каждую минуту рвалась к нему! Думаю, она так настрадалась, что и жизнь ей была не мила, вот она и перестала все это прятать… никакого любовника и близко нет!
Фотографии выпали из его рук, и тогда произошло невероятное. Он заплакал. Да так, что мне по-настоящему пришлось отпаивать его водой!
Дней через десять, уже занимаясь другим делом, я проходила через городской парк. Все втроем были там. Мой клиент катал мальчишку на всех каруселях. Тот уплетал мороженое и был одет в одежду из самого дорогого детского магазина. Что же касается женщины, то и джинсы, и неряшливый хвостик канули в небытие. То заплаканное, издерганное существо, которое совало мне в руки те фотографии, растворилось в прошлом. Лицо ее светилось счастьем, и каким! И действительно, мне редко потом доводилось видеть радость, которая в тот день, в парке, застыла на лицах этих троих….
Здравствуй, зверь
— Поезд в 7.30 утра.
— С вокзала?
— С Восточной.
— Почему с Восточной?
— Говорят, сегодня намечается забастовка железнодорожников, с вокзала московские поезда не пойдут. Отправят прямо с подходных путей. Так что даже не успеем попрощаться как следует.
— Москве привет.
— Да чего у ж там, все равно недели через две встретимся!
Желтый лист с шорохом упал за окном. Сидя на кровати, охватив руками колени с прижатым к ним одеялом, ей казалось, что в мире не существует ничего, кроме желтого листка за окном, с шорохом упавшего на асфальт. «Все будет хорошо, слышишь? — прокричал внутри хриплый, отупевший от тепла голос. — Все хорошо — слышишь?» она только тверже сжала колени и ткань тонкого пододеяльника прилипла к голой груди.
В принципе горд у вас совершенно тупой, ты извини, конечно, — он стоял возле зеркала, и утренний свет осени покрывалом обволакивал его не слишком широкие плечи, не слишком красивые черты лица, не слишком умный лоб.
— говорят, ехать в Одессу как в прорубь: или все — или ничего. Одно слово — Одесса, хитрые пробивные бестии и, главное, всё всегда знают лучше тебя. В Москве от этого отвыкаешь и устаешь. Ты не сердишься, что я так откровенно, нет?
Она улыбнулась и покачала головой. В ту же самую секунду ей показалось, что эта улыбка словно отрезала часть ее лица, снесла будто взрывом, превратив губы и подбородок в кровавое мессиво. Но снаружи не отразилось ничего — была только юная женщина (совсем еще девочка), без косметики в облаке распущенных пушистых волос, прижимавшая одеяло к обнаженной груди, будто тому, кто стоял возле зеркала, было не все равно (закрыта грудь или нет), ведь он видел достаточно, чтобы уяснить ценность женщины девочки, мутными от боли глазами улыбающейся в окно.
— Одесса красивая, и одесситки — прелесть. И ты, конечно, тоже прелесть. Только вот проводники у вас в поездах наглые, за постель много дерут… — он замолчал, в горле словно застыл терпкий ком, он подумал, что благороднее (право же) будет просто ударить ее по лицу, чем — так…
Она улыбалась, не понимая — за что. За что несется на нее поток ничего не значащих слов — целое море бесформенной чуши вместо того, чтобы просто сказать правду…. А где была эта правда, в чем? В том, что никакой забастовки железнодорожников не будет и он уезжает в Москву не поездом, а самолетом.
— Впрочем, я надеюсь, мы увидимся через две недели, — он будто пытался продолжить начатую ранее мысль, но… застревал мерзкой тошнотворной дрожью в горле взгляд женщины-девочки, прижимающей одеяло к груди, и желтый лист — сын осени, падал на асфальт за окном.
Тяжелая чушь липкого безвоздушного пространства комнаты давила на мозги. Ему хотелось подбежать к ней, сорвать одеяло и отхлестать им по лицу — в кровь, чтобы заглушить в груди боль и чувство унизительности собственной роли. Хотелось закричать: «Ты, маленькая дура, очнись! Ну очнись, закричи, побей мебель, стекла, прояви характер, ведь я надругался над тобой — над твоей душой, я подлец! Ведь я же знаю, что был у тебя первый! Ну скажи, что я сволочь, мерзавец, что таких не может носить земля! Маленькая дура, ведь ты же знаешь, что я тебя предал. Я тебя предал, развлекся пару часов, чтобы вышвырнуть прочь как использованный презерватив! Я даже имя твое не помню — понимаешь? Уже не помню! Я негодяй! Это все неправда, что я тебе говорил! У меня жена и двое детей, и отец жены — президент фирмы, в которой работаю. Я приехал в Одессу зарабатывать деньги, понимаешь? Ты мне не нужна! На дух мне не нужна! Не оставлю жену, ты, маленькое большеглазое ничтожество! Ты думаешь, я здесь на свои деньги, да? Думала, я тебя увезу? Ты, маленькая дрянь…»
В глазах женщины-девочки отражалось несколько закатов. Он вдруг увидел себя в них — лет двадцать назад, и ненависть одиночества подступила пряной волной. Ненависть к одиночеству. Был в глазах ее свет, и несколько несказанных слов, запрещающих сказать то, что думал вначале.
«Ты улыбаешься мне — это неправда. Я знаю — ты раздираешь в этой улыбке свое лицо. Знаю — рвешь на куски душу, чтобы я не понял вдруг, сколько для тебя значу. Твое сердце — сосуд из тонкого хрусталя, и я — это я, понимаешь? Я уничтожил его на твоих глазах, уничтожил твоей улыбкой и этой постелью. Я превратил твою душу в ничто потому, что обо всем тебе лгал: о себе, о моей жене, о Москве(на фиг тебе туда, идиотке), о том, что еду поездом с какой-то Восточной… Я знаю, что будет с тобой потом. Знаю, как обхватив голову руками ты будешь метаться в четырех стенах и выть словно раненый зверь, выть как обезумевшее животное, пытаясь ногтями выцарапать меня из своего сердца. Ты будешь биться головой о стену потому, что в этот осенний рассвет я объяснил тебе всю сущность жизни и то, что ты, маленькая дрянь, не человек. Ты будешь кричать в голос от тоски, от одиночества и отчаяния, когда, обернувшись на пороге своей комнаты (своей жизни) ты ничего в ней не увидишь… Это видно в твоей улыбке. Твоя улыбка царапает мою душу».
Она знала, что он уйдет. Ей хотелось вцепиться ему в волосы и крикнуть:” Знаю! Все знаю! Знаю, что летишь самолетом, что поездов с Восточной нет! Знаю — у тебя жена и двое детей, и отец жены купил тебе фирму! И еще ты приехал сюда зарабатывать деньги, одновременно развлекаясь со мной! Думаешь, смог обмануть? Я все о тебе знаю! И ты ничего не значишь для меня — право же, ничего не значишь! Мне было с тобой хорошо. Сам того не ведая, ты объяснил, что жизнь — это свора бешенных псов на свалке, оставляющих позади только выжженную пустыню. Я даже имя твое забуду через полчаса. Будь с собой честен. Ну давай, скажи, что никогда меня не хотел и я ничего для тебя не значу. Что я только красивая девчонка на уровне портовых шлюх с одной только разницей — ты был у меня первым. Но это тоже ничего не значит. Скажи, что ненавидишь меня за то, что я внесла в твою жизнь сразу несколько проблем. Ну скажи хоть слово, и я сама объясню тебе все, поддонок!"
— Ты не потеряла мой телефон?
— Нет.
«Думаешь, я тебе позвоню? Я вылечу в Москву через несколько дней, у меня уже есть билеты. Этого ты не будешь знать. Ты даже не будешь знать, кто я такая, зачем ты был нужен мне на несколько этих часов… Я просто хотела понять, на что способна сама. Только… только убирайся отсюда скорей, зверь! Зверь, тебя ждет достойная старость! У тебя никогда ничего не будет. Ни счастья, ни любви, — и ты никогда не поймешь то, что мог когда-то понять. Зверь, ты думал унизить мою душу — ты не знал, что унижаешь себя. Ты не знаешь, зверь, что тебя ждет — а я объясню, если ты еще не понял этого по моим глазам. Тебя ждет старость и ничего кроме, и кто-то более умный и сильный затормозит мордой твоей об асфальт. И ты почувствуешь, как это — в грязь собственной рожей подбирая с тротуаров чужие плевки как объедки с городских помоек. Ты узнаешь это, зверь, очень скоро — втоптанный в грязь, ты почувствуешь кованное железо чужих сапог на твоей спине и, запрокидывая к небу глаза, ты ничего не увидишь. Зверь, ты поймешь, что всегда был никем, несмотря на твои деньги и связи. Ты поймешь — и я не хочу быть на твоем месте в тот день. И на месте твоей жены не хочу! И не буду. Никогда, зверь, не буду!»
В глазах женщины-девочки отражались светлые квадраты окна.
— Ну, значит, до встречи в Москве.
Желтый лист прошуршал по стеклу — как по чьей-то душе чужая боль.
— Поезд в 7.30, слышала, знаю…
В тишине утренних улиц дребезжал первый трамвай.
«Твои глаза выжгли мою душу. Для моей души — это слишком много, для моих денег — слишком мало. Почему мы не можем сказать друг другу правду в глаза? Женщина-девочка, мы нужны друг другу. Я не знаю, в каком городе, в какой точке земли я позову тебя, прикасаясь руками к ночной тишине, за право почувствовать тебя рядом готовясь отдать половину жизни. Я прикоснусь к ночной тишине и где-то в глубине чужих континентов ты станешь дарить свои глаза другим, и словно выжженная пустыня — та пропасть, толкнувшая нас в объятия друг к другу. Я не знаю, что произойдет завтра. Боль уничтожит названия улиц и городов. Без тебя даже снег будет черным — в облаке пушистых светлых волос девочки, чью улыбку отнимают обстоятельства и деньги. Я был последним поддонком и зверем. Я был зверем, шел по жизни на четырех лапах, пуская в ход только клыки и злость, зная, что добиться своего можно, только пробив чей-то череп. Я был зверем — ощетинившимся, диким, злым, моя жена была просто самкой в берлоге и дети — маленькими волчатами, там, где за порогом лежал черный снег и наверху не было неба, не существовало ничего, кроме окликов и когтей еще более диких зверей. Ты оказалась только маленьким клочком нескольких дней, и пушистые волосы твои словно разметались по снегу, и снег стал белым, а ты растворилась в тепле, внезапной болью обожгла мою грудь. Маленькая девочка-женщина, я не знаю, в какой точке земли в глухой час боли произнесу по слогам твое имя, уставясь в пустоту выбеленной стенки. Говорят, в жизни мужчины остаются три женщины: первая, последняя и еще одна. Еще одна, в сумраке полузабытых одесских ночей с каким порывом ветра тебя занесло в мой гостиничный номер, с каким порывом морской волны ты ворвалась в мою жизнь, чтобы оставить в ней след. След растаявшей пустоты потому, что тебя больше не будет в той обреченности, составляющей мою боль. Ты ворвалась в меня, опалив собой все дороги и дома. Милая девочка, для моей души — это слишком много, для моих денег — слишком мало…»
Желтый лист шуршал за оконным стеклом.
— Конечно, было приятно познакомиться с твоим городом и с тобой. Надеюсь, ты не будешь в обиде за то, что произошло между нами?
— Конечно, нет. О чем речь…
— Номер телефона ты записала. Буду рад тебя снова увидеть.
— Да, я тебя тоже. Ты ведь сам понимаешь, что наши случайные отношения ничего серьезного не значат.
— Разумеется. Очень хорошо, что ты понимаешь тоже.
— А как могло быть иначе?
«Я не знаю, в какой точке земли смогу тебя позвать. Вот ты стоишь здесь, сейчас, зверь — это лишь несколько минут. Ты пытаешься уловить во взгляде моем боль, но обо мне ты ничего не знаешь. Зверь, через несколько долгих часов (твой самолет оторвется от земли ввысь, в никуда) наступить ночь. Я закрою двери, задерну шторы и под тусклый свет лампочки в 60 Ватт я увижу тебя. Резкую очерченность твоих скул, горькую складку возле рта, высокий лоб, мужественные черты некрасивого мужского лица, за которым скрывается твердый характер и сильная воля. Знаешь, зачем я останусь одна в ночной тишине? Чтобы снова побыть с тобой — и услышать твой голос в далеком глухом углу любой земли. Я не смогу ни на кого променять тебя, зверь. Снова и снова я стану протягивать руки к пустоте, ведь тебя в комнате больше нет, ты ушел. Я буду биться в ночной пустоте, слыша твой голос. Люди, разлучающие нас… Стая псов, ради выгоды и денег швырнувших меня в твою постель. они уничтожат тебя очень скоро. Ты даже представить не сможешь, как. А знаешь, с чьей помощью? С моей! Меня бросили в твою постель ради больших денег — чтобы уничтожить. Я ничего не смогу сделать, в этом виновата не я. Знаешь, я никогда не была на стороне побежденных. Я никогда не испытывала теплых чувств к людям, потерпевшим провал. Но к тебе я готова идти, зверь, даже если у тебя не останется крыши над головой и не будет денег на кусок черного хлеба. Люди не позволили нам быть с тобой, нас разлучили самым ужасающим, варварским способом — между нами воздвигли стену из бетона, забыв о том, что я человек. И ты, зверь, ты человек — тоже. Нас отняли друг у друга — бросив в пропасть всеобщего отупляющего кошмара больших денег. Будь они прокляты, эти деньги… Я буду слышать в темноте твой голос. Этого у меня никто не смеет отнять. Не посмеют отнять мою боль, зверь, слышишь? И поэтому я приду к тебе! Я найду тебя в любой точке пространства, в мировом океане или на суше, и между нами больше не будет стен. Никто не посмеет отнять нас друг у друга. Ты только подумай, зверь, какая большая земля и сколько на ней домов, огромных, высоких домов, и в них — люди, миллиарды людей, и на этой земле, в скопище этого необъятного муравейника хотя бы на пару часов мы нашли друг друга. Разве это не чудо, зверь, что в огромном пространстве мы столкнулись на пару часов, а ведь могли не столкнуться. Я приду к тебе очень скоро, жди. Я еще не знаю, как это будет, только сегодня, в этой комнате, я начала свой путь. Однажды где-то в каком-то из городов я распахну двери туда, где ты будешь, и скажу:” Здравствуй, зверь!» И осень, плача за окнами, золотым дождем влажных листьев покроет нас, и все вернется на места, как было прежде… И ты подумаешь, что все это уже видел и знал когда-то… Подумай сам, зверь — я хочу, но не могу быть рядом с тобой…»
— Значит, договорились?
— Счастливо! (зверь, все знаю)
— Скоро увидимся? (попробуй скажи нет!)
— Скоро (зверь, все знаю)
— (Знаешь — что?)
— Как листья шуршат по стеклу.
— Но ты придешь? Ты сама обещала — придешь и скажешь то, что давно хотела сказать?
— Здравствуй, зверь! Отворю дверь в комнату. Тебя там не будет. Там никого не будет, зверь, меня — тоже. Только ночь желтыми листьями постучит в окно.
— И все вернется?
— Кто знает…
Ночь принадлежит мне
С моря ветер принес холод. Против него не помогала даже куртка. Из спальни вынесли мебель, забыв снять занавеску. Будто фата на несостоявшейся свадьбе, развевалась светлая ткань на ветру. Долгое время был слышен лишь стон и тихий шелест. С моря пришел холод и когда-то уютный дом стал отчужденным и неродным.
Несколько дней назад я шла в последний раз по этим комнатам, из которых уже вынесли мебель. Дачу давно продали, но новые хозяева, прежде чем заселиться, разрешили мне пройтись в последний раз и попрощаться. Я и прощалась. Я помнила каждую черточку на стене, каждую трещинку пола, могла описать любой день по часам, прожитый здесь. Но дача мне никогда не принадлежала. Она была собственностью родителей моего мужа. Перед отъездом ее продали, как и квартиру в городе. Я вернулась домой. За несколько дней до отъезда в семье своего мужа я стала чужой.
Может, маленькая странность, но на день прощания я заказала портнихе новое, ужасно дорогое платье. Лопни, но держи фасон… Мне нравилась Одесса, но вот однажды пришел день, и я осталась только с ней. Одна. Еще осталось одиночество. Несказанное и смешное. Оно входило ко мне так, будто давно жило в моем доме, днем прячась в штукатурке растрескавшихся панелей, а поздней ночью, совершая запоздалый рейд на затихшую жилплощадь. Оно было повсюду: в фотографиях на стене, в обивке дивана, почерневших от времени обоях, в посуде из буфета, в потолке, покрытом трещинами от нехватки денег на ремонт, в моих платьях. Стоило остановиться посреди комнаты с вытянутыми руками, и сжатые пальцы касались вечность. Странное чувство стало чем-то вроде домашнего животного — оно находилось в карманах халата и даже в закипевшем чайнике на кухне. Мы подружились. Все-таки двое — уже лучше. Я и одиночество. Больше у меня никого не было.
Это не значит, что никто не звонил и никто не приходил. В день прощания телефон с утра до вечера надрывался от крика, а дверь квартиры сотрясалась от постоянных открытий и закрытий: толпы друзей, знакомых, знакомых друзей затаптывали давно не мытый пол. Главное событие недели принесло мне что-то вроде славы. Я постоянно варила кофе и делала бутерброды — на большее не хватало ни времени, ни сил, и улыбалась. Улыбалась, как проклятая, всем. Я даже накрасила губы. Правда, делала это долго. Руки дрожали и губы не хотели складываться в улыбку. Мой муж уезжал в Израиль. Навсегда. Что уж тут…
Слишком много было гостей. Нас не оставляли наедине. Я ненавижу прощания. Мы не прощались. Муж мой ходил за мной хвостиком и пытался заговорить. Ночью, накануне, я очень долго думала, что сказать, потом решила, что сказать-то нечего. Фактически, он даже не муж. Мы в разводе. Он уезжает, я остаюсь. Детей нет. Что нас связывает? Разве только… Разве только глаза… Чужие глаза ранее любимого человека.
Любимого и единственного человека. Сказка закончилась в один день. Меня поставила в известность свекровь.
— Знаешь, лапочка, мы уезжаем.
— Кто это мы?
— Как, ну все! Ты с мужем, мы и т. д.
— Я не поеду.
— Ну знаешь, дорогая, это несерьезно.
И начались уговоры. Уговаривали меня все. Самым страшным козырем стал язык. Я ведь знала английский в совершенстве. «Тебе сам Бог велит ехать из этой проклятой страны!» — это был самый мягкий их довод. Бог… В ящике моего письменного стола лежала маленькая иконка в серебряной оправе, доставшаяся мне в наследство от бабушки. Я не выставляла ее напоказ. Лицо Бога было темным. Суровое, красивое лицо. В первое время мне приходилось тяжело. Днем я защищалась. Ночью я хватала эту иконку и кричала:» Ты, справедливый и милосердный! Я-то чем виновата?! Я люблю его Господи! Сохрани!» Бог смотрел на меня осуждающе и прямо. Вскоре я перестала его звать. Стали чужими улицы, дома. Каждый день я с утра ловила раньше родной взгляд с вечным вопросом:» Это неправда, да? Они всё врут! Ты не уезжаешь. Ты же не можешь вот так…» Его глаза опускались вниз и он стал меня избегать. Так я перестала быть любимой. Каждый день я шла по городу и твердила:” Ладно. Допустим, я уеду. Что дальше?» То, что дальше, казалось мне темным и страшным. И в душе моей внутренний голос твердил, что никогда я не уеду. Никогда. И, собственно, никуда.
А потом привыкла к мысли. Самолет улетел на следующий день. Я прижалась к решетке в аэропорту. Какой-то мужчина подошел ко мне и спросил с явным кавказским акцентом: «Кого встречаешь, красавица?» Я обернулась. Посмотрев в мои глаза, он отступил, прошептал:” Простите”. И быстро удалился прочь. Я усмехнулась:” Людей пугаешь, чучело”. И села в подъехавший автобус. Только бутылки из-под шампанского. Забытое в спешке одеяло, пустой флакон из-под французского одеколона. Ночь. И всё. Всё, прощай. Хватит. Всё кончено. Никто не имеет права держать…” Я больше не твоя, отпусти…”. Что же это такое? Кто же я? Одинокая женщина. Я — одинокая! Как смешно! Нет, это просто не может быть правдой! Я не хочу! Я не…
И мы поддерживали друг друга. Мы гуляли по городу, сидели на скамейках бульвара. Иногда позволяли себе мороженое. Посещали знакомых. Тратили деньги, которые мне оставили. Мы стали самой модной и красивой парой. Мы… Я и одиночество. Два самых близких, родственных существа. Мы ждали звонка, письма, возвращения. Чего только не ждали. Но не было ни того, ни другого, ни третьего. И с каждым днем все сужалось липкое ощущение безысходности и тоски. Так мечешься между четырех стен, зовешь, кричишь, просишь кого-то помочь. А толпы людей проходят мимо, отпуская на ходу заученные улыбки. И тогда опускается ночь. звуки ее наполняют твое сердце новой тоской. Ночью чувства сильнее. Ты одна в мире, одна во вселенной, одна… Кругами — лишь психологические лозунги о добре и политическо-нравственное оправдание эмиграции. Ты начинаешь сомневаться в том, что когда-то все в твоей жизни было не так. Неужели все стало выдуманным: и ощущение любви, дружеского плеча рядом, и такой неосознанный полет счастья…
Но вот окно, а вот комната, в которой, кроме тебя, никого нет. А вот и одиночество. В темной комнате прислоняется вместе с тобой к оконному стеклу (твой единственный друг), и ты не можешь плакать, только неслышно клянешь Бога и просишь помощи — у него же. А темная икона с лицом популярного святого мученика смотрит на тебя осуждающе и сурово. И ты понимаешь, что это и есть жизнь. А еще есть ночь, которую никто у тебя не отнимет. Ночь, где можно пригреть на коленях домашнего зверя по имени «крест судьбы».
Сердце женщины
Билеты были распроданы за два дня. Красочными афишами заклеили весь город. Быстрая продажа билетов на два спектакля стала приятной неожиданностью не только для администрации театра, но и для гастрольного директора труппы. Маленький профинциальный городок не входил в первоначальный гастрольный план. Но из-за технических неполадок директор решил остановиться в нем на два дня, благо находился городок по пути к следующему пункту маршрута.
Когда поезд, замедлив ход, приблизился к новостройкам — стандартному пейзажу любого города, она подумала, что забыла точное название. Что такое город в жизни артиста? Всего лишь зрительный зал и маленькая точка на карте. И еще — случайность. Наверное, больше всего — случайность.
Ее давний друг, вместе с которым заканчивала театральный институт, поставил спектакль по древнегреческой трагедии «Электра». И пригласил ее на главную роль. Она схватилась за предложение обеими руками. В тот период ей пришлось сидеть без работы и впервые за все время блестящей актерской карьеры у нее появились долги. Это приводило в настоящее отчаяние — потому, что никогда не умела распоряжаться деньгами. Съемки в трех длинных сериалах и пяти дорогостоящих видеоклипах, сделавшие из нее звезду, закончились. Развод с мужем был в стадии оформления, а очередной сериал планировался только через полгода. Поэтому «Электра» стала спасительным плотом. После успешных показов в Москве было решено вывезти спектакль на гастроли. Гастроли шли третий месяц, и она успела порядком устать. Что удивляться, если от усталости из ее памяти вылетали названия…
Когда она вышла на перрон, ей захотелось зябко поежиться от утреннего холода (так, как делала в детстве), но, спохватившись, строго запретила себе сделать это. Надо постоянно помнить о том, что она — звезда. А звезды не позволяют себе то же, что и простые смертные. От маленького провинциального городка еще с вокзала повеяло тоской. Она не любила подобных городков — наверное, потому, что сама была родом из такого. На пресс-конференции в холле гостиницы (единственной хорошей гостиницы) она намеренно напускала на себя высокомерие перед кучкой местных репортеров. Настроение было плохим. Отчего? Она не могла объяснить. Но все время с той минуты, как ногаее ступила на землю, ей хотелось плюнуть на все и немедленно уехать — не дожидаясь спектакля, в тот же вечер.
Впрочем, вечер прошел хорошо. Зал был забит, сцену засыпали цветами. После спектакля вся труппа отправилась в лучший городской ресторан. Именно там, в коридоре ресторана, она услышала, как кто-то зовет ее по имени… Она вышла поправить макияж и теперь возвращалась в отдельный кабинет, где шло празднование удачного спектакля. И вдруг четко и ясно услышала свое имя! Голос показался знакомым, дыхание перехватило… Зажмурившись, она громко сказала вслух: «Этого просто не может быть! Полный бред». Потом принялась исследовать коридор, но… Но там никого не было.
Она вернулась в кабинет и директор труппы (с которым у нее был временный гастрольный роман) поразился:
— Алла, что с тобой?! Ты удивительно плохо выглядишь!
Сославшись на усталость, попросила проводить ее обратно в гостиницу. Возле выхода из ресторана прямо на асфальте сидел бомж в рванных джинсах и грязной куртке. Бомж вскочил при их появлении, но она отвернула голову и презрительно скривилась.
Второй спектакль начался вроде нормально. По ходу действия она появлялась на сцене не сразу. Подчиняясь инстинкту всех актеров, тщеславных до мозга костей, будучи уже в костюме и гриме, она тихонько пробралась к отверстию за сценой, через которое можно было наблюдать зрительный зал. Ей было интересно, сколько зрителей привлекло на второй день в этом маленьком городке ее имя, выписанное на яркой афише «Электры». Зал был переполнен, ее глаза бегали по рядам, как вдруг… Она замерла от удивления.
Он сидел в первом ряду, и его рванные джинсы и грязная куртка выглядели невероятным контрастом по сравнению с дорогими костюмами, мехами и мобильными телефонами тех, кто занимал престижный первый ряд. Ее изумление усилилось тем, что в нем она опознала вчеравшего бомжа, сидящего на земле возле ресторана. Бомж и дорогие билеты? В этот момент яркий луч софита на мгновение осветил лица сидящих в первом ряду. Его лицо… она узнала его сразу и огромным усилием воли удержалась от громкого крика. Дальше она задрожала, как дрожала на первом курсе перед выходом на сцену. И эта дрожь действительно грозила сорвать спектакль, если бы ей было на десять лет меньше. Если б за ее плечами не была жестокая, калечащая школа дороги к успеху и колоссальный актерский опыт. Взяв себя в руки, она вернулась обратно в гримерную — ожидать своего выхода. Потом, позже, всеми ее мыслями и чувствами стал спектакль. Трагический образ Электры, который ей нравился все больше и больше. В антракте к ней в гримерную вошел директор гастролей:
— Ты его видела?
— Кого?
— Не прикидывайся! Ты была возле отверстия за кулисами! Разумеется, ты его видела. Красавца Эдуарда!
Она была актрисой, а, значит, умела скрывать свои чувства.
— Да, видела, — как ни в чем не бывало ответила она.
— Я слышал, он спился и исчез. Но если так, откуда у него деньги на дорогие билеты?
Конец спектакля был ее самым любимым местом. В тот вечер она играла с небывалым подъемом! Она играла так блестяще, так хорошо, как будто выступала на сцене лучшего мирового театра! Когда, чувствуя себя второй Сарой Бернар, увенчанная цветами, успехом, аплодисментами, она как на крыльях летела к своей гримерной, он стоял в коридоре, возле двери. Споткнувшись о его фигуру, громко выдохнула:
— Ты…
Даже в грязной одежде он выглядел гордо.
— А я думал, ты успела меня забыть.
— Не ожидала здесь увидеть…
— Ты великолепна! Я и не думал, что ты успела так вырости..
— Ты вообще никогда обо мне не думал.
— Мне нужно с тобой поговорить.
— А мне нет.
— И все-таки я буду ждать тебя сегодня в 11 ночи, в баре твоей гостиницы…
Директор почти вломился в гримерную.
— Что он от тебя хотел?
— Не знаю. Сказал, что будет ждать меня в гостинице.
— Вот увидишь, он станет просить у тебя деньги.
— Не думаю.
— Ни копейки ему не давай!
Они четверо учились на одном курсе. Она. Гастрольный директор труппы. Режиссер, поставивший «Электру». И он, которого все называли красавец Эдуард.
И он действительно был прекраснее всех. Не только в ее глазах. Эдуард, красивый, элегантный, подающий большие надежды, с бархатисто-нежными, сурово-пламенными глазами. Все девчонки четырех московских театральных вузов сходили по нему с ума. Он был просто неповторим. И даже через длинный промежуток времени она не могла понять, почему он выбрал ее — бедно одетую, голодную девчонку из общежития, самую некрасивую и незаметную студентку в их группе. В ее актерские способности не верил никто — за исключением одного пожилого преподавателя, бывшего в приемной комиссии. Он что-то сумел в ней разглядеть, и так и сказал: «Алла, я вижу в тебе божью искру». Больше никто не говорил ей таких слов. А Эдуард, общаясь с ней, всегда говорил лишь об одном — своем (и только своем!) блестящем будущем! Она была его зрительным залом, аудиторией и благодарным слушателем в одном лице. Он блистал на ее фоне! Через месяц после знакомства они уже жили вместе. В памяти всплыл их первый поход в дорогой ресторан, куда, блистая костюмом, галстуком и лицом, он повел ее познакомить со своими друзьями. А ей было страшно стыдно идти в старенькой, не модной кофте рядом с ним, и больно ранили ухмылки друзей, словно говорящих:” Где ты нашел — это?!» Она боготворила его и свято верила в то, что он очень-очень талантлив. Она верила в него намного больше, чем в себя, в то, что однажды он добьется очень большого успеха. Театры, кино, может быть, Голливуд… И когда однажды она поняла, что всё это не так, она плакала гораздо сильнее, чем плакала бы о себе… После окончания института ее неожиданно пригласили на глвную роль в совместный фильм. Потом — работа в театре, сериалы… ЕЕ взлет вверх. Его падение вниз. Однажды, вернувшись с гастролей, она приехала в пустую квартиру. Он собрал свои вещи, исчез из ее жизни. Через три месяца она узнала, что он женился на дочери одного известного банкира. С тех пор прошло больше десяти лет.
Когда она вошла в бар, он сидел за столиком и костюм его был так же грязен и оборван.
— Красавец Эдуард! А ты изменился. Ну и как сложилась твоя судьба?
— Паскудно. Сама видишь.
— Что же произошло с банкирской дочкой?
— Ничего. Мы прожили несколько месяцев. Потом папаша перестал давать деньги. Хотел устроить меня на работу в банк… Я больше не смог жить в такой атмосфере!
— Бедненький! А что потом?
— Потом я оказался здесь. Работаю в театре. Помощником осветителя.
— Кем?… — она чуть не подавилась кофе. Если б в те далекие годы красавец Эдуард знал, что готовит ему судьба, он предпочел бы повеситься!
Она обратила внимание на сеть красных прожилок на его лице, на дрожащие руки… Нахмурившись, словно зло отстранился от ее взгляда:
— Я не пью!
— И давно?
— Давно! С тех пор, как развелся во второй раз.
— Во второй раз?
— Да. Когда я узнал, что ты вышла замуж, я женился здесь на толстой местной портнихе. У нас родился сын. Осенью он пойдет в пятый класс. Я пил, очень много пил, и она меня бросила. Если б не ребенок, я бы не жалел. Но — привязался к мальчишке. Мы часто видимся. Жаль, что денег давать ему не могу. Перебиваюсь на копейки. А ты звезда. Я все время слежу за тобой. Ты всегда была благородной, доброй…
— Ты что-то хочешь у меня попросить?
— Мне очень неудобно. Ты теперь звезда… словом… ты не могла бы…
— Сколько тебе нужно?
— Сколько не жалко! Не для себя прошу… для мальчишки…
Красная морщинистая сетка, покрывшая лицо. Выпирающий кадык, мешки под глазами…
— Ты бы к врачу сходил.
— А зачем? Чем скорее помру, тем лучше!
Она открыла сумочку и дала ему деньги. Его лицо покривилось (очевидно, это означало счастливую гримасу).
— Ты не поверишь, наверное, но я всегда тебя любил. Я тебя люблю и сейчас. Вот уже вторые сутки сижу в зале. А по ночам — сплю в гостиничном коридоре, возле твоей двери. Прошлой ночью сидел под рестораном. Я не знаю, зачем. Все эти годы я вижу перед собой только твое лицо! Оно для меня одно, все заслоняет перед глазами…
Через час в ее гостиничный номер пришел директор. Он был зол и от него пахло коньяком.
— Ты с ним встречалась?
— Встречалась.
— Что он хотел?
— Денег. Ты был прав. Он просил у меня деньги.
— И ты дала?
— Дала.
— Зачем?
— На душе стало противно.
— Ведь все равно пропьет!
— Какая мне разница!
— Ты ведь не богачка! Только начала выпутываться из долгов. Какого черта разбрасывать деньги направо и налево!
— Это тебя не касается!
— Твоя бывшая любовь сделала тебя сентиментальной?
— Возможно.
Замолчали разом. Он знал абсолютно все о повести этой глупой любви.
— Ты его любила? — неожиданно спросил он.
— Любила! Больше, чем кого бы то ни было в жизни!
— И сейчас любишь, да?
Она посмотрела прямо ему в глаза. Ее голос дрогнул:
— Люблю.
— Алла, что с тобой?! Ты сходишь с ума? Или уже сошла? Что происходит? Алла?!
Громыхая колесами, поезд быстро катил в крупный город на берегу известной реки — последний город гастролей перед возвращением в Москву. В купе первого класса сидели двое.
Напротив нее на мягком диване сидел красавец Эдуард. Он был в новом костюме, дорогих ботинках, с можной прической и потягивал из высокого бокала сухое мартини. Вино толкало на рассуждения:
— Я знал, что из тебя выйдет толк! Я тебя люблю. Вот встанем на ноги, заработаем много денег. Мы с тобой теперь никогда не расстанемся. Какая, говоришь, у тебя квартира? Две комнаты? Думаю, на этих гастролях мы очень хорошо заработаем! Я так сильно тебя люблю, правда!
Она молча гипнотизировала его лицо — постоянно, не отрывая взгляда. Удивительно радостно, весело, светло, как не было уже много-много лет, становилось у нее на душе! Она знала, что жизнь состоит из самых неожиданных поворотов судьбы. Поступала ли она глупо? Какая разница!
Мимо окон поезда проносились бескрайние поля. В ее сердце разливалась бешенная, пьянящая, затапливающая все вокруг на своем пути — радость, радость, радость!
Мой мальчик
Мы любили друг друга на старой продавленной общежитской кровати и было это очень смешно потому, что отражавшийся в душах наших мир был подобен каплям воска на оклееной обоями стенке. Каждая из точек являлась тончайшей молекулой пустоты. Поверх волос мальчика, горящих ярким солнечным пятном на моей груди, я бросала взгляд на распластанный по полу собственный свитер и неразборчивые удары сердца (по которым я никогда не могла определить принадлежность — его сердце, свое) означали пройденные доли пути. Давая знать, что через несколько минут я протяну руку вниз, ухватив то, что попадется мне сразу, и мальчик поднимет голову, а в его полудетских голубых глазах вспыхнет неоновой рекламой сумрачной улицы незаданный, но уже прочитанный мною вопрос:” Почему?» Вопрос, на который я никогда (у меня не хватит на этосовести) не сумею ответить.
Через час я стану трястись в переполненном автобусе, пустым взгялдом гипнотизируя оконное стекло. Вместо того, чтобы тщательно продумывать очередную наглую ложь, вспомню только нежность кожи юного тела, сияющего любовью и силой, и повторю про себя нараспев «мой мальчик… мой мальчик… мой…». Пока хриплый голос водителя не пробьет ауру любви и тоски прилагательным моей остановки. И дальше будет только чередование цветов, подобно оформлению заштатной дискотеки: глаза мальчика — моя ложь, мальчик-ложь, я — и ложь.
Муж мой как всегда будет собран и сосредоточен. Открывая мне дверь. И бросая что-то неразличимо обычное, скажет в тот момент, когда я остановлюсь возле зеркала:
— А сегодня почему ты так долго?
Я не стану ему отвечать. Меня постепенно прекратит удивлять мысль: почему он до сих пор не выучит весь набор моей лжи. Он не выучит. Все, что связано со мной, его не волнует.
— Звонила моя мать. Спрашивала, не придем ли мы в субботу к ней на обед.
— Что ты сказал?
— Я сказал, что приду. А ты — нет. Будешь занята на какой-то очередной отработке по физике.
А потом — теплая ванна, обволакивая меня уютом, заставит заново почувствовать свое тело, его форму, запах, цвет, тот удивительный оттенок неповторимости, который придают только очень любимые мужские руки. Проводя ладонью вдоль смуглости бедра или груди тысячи иголок вопьются в кожу — боль прикосновений памятных рук и губ, придающих мне незримое совершенство. И будет заключением — колющая, саднящая боль в области левой груди (словно ржавые маникюрные ножницы — по самую рукоятку). Боль захватит меня, закружит над всем пространством и в бессчетное количество раз я стану думать о том, что лучше — выпить упаковку таблеток, выброситься из окна, перерезать вены бритвой или просто рассказать мальчику правду, а потом размозжить голову о кафель ванной, где оседают крупинки пара и тепла, сотворенные из воды. Это станет чувством обиды и не заживающей потери свободы — все давным-давно прекратило быть жизнью, так непостижимо — прекратило быть жизнью, подминая меня мертвым грузом инквизиторски нерешенный проблем.
— Мы с тобой из одной помойки. Мы должны уважать друг друга.
Что являлось поверхностью? Кто вытаскивал меня на поверхность? Тот, чьими усилиями я была втоптана в самую страшную грязь. Тот, который стал моим мужем. У последней черты, подобрав — одинокую, замерзшую, больную, отравленную ненавистью и злобой, голодную, беспросветную, нищую, доведенную до отчаяния, с которым стираются все краски мира, согласную ради денег — на все. Стать героем мой любой, встреченный на пути. Так стал он, настолько далекий от геройства, насколько далека я была от любви. Он купил то, что ему было нужно. И однажды в одну из самых страшных ночей, выплакивая на груди чудовища пьяные слезы, я лепетала что-то про кусочек маленькой обыкновенной любви под гулкий смех ничего не понимающей, чужой пустоты, подписанной, как приговор — всегда являться моим утром.
Глаза. Добрые ласковые, голубые, заставляющие меня напрочь забыть про утра. Все вращается в меняющем места и обстоятельства колесе. Мне 17, а не ему. Не мне, а ему — 24. Я никогда не помню с ним, сколько мне лет. Словно на самом деле он был первым. В минуту глубокой прерывистой страсти я вдруг услышала от него сокровенную мечту об одной ночи, включающей закат и рассвет, а не обрывочные скрытые часы в разное время суток. Спланированных скрытых часах, вызывающих в глазах моего мальчика такую тоску и такую боль во мне, когда мне удается поймать его взгляд. На очередной лекции он сидит вначале, я — в последнем ряду, и все происходит — как обычно. Он кокетничает с кем-то из однокурсниц, я физически ощущаю его голос и смех, я пью чувство конца, постоянно объясняющее то, что я просто — взбешенная дура. Он смеется, утверждая для меня правду: будущего — нет. Есть прошлое и есть боль. Есть совсем не понятные для него куча моих проблем. Совокупность крутых горных обрывов, подвласных лишь альпинистам. Мальчик не может видеть только меня одну. Даже если очень захочет — так видеть.
После, соблюдая ряд необходимых предосторожностей, я хожу кругами вокруг общежития, ожидая, когда двое его друзей, знающие нашу тайну, уйдут, на час оставляя его одного в комнате. Я хожу кругами, готовая выть от тоски, я пробираюсь тайком, чтобы прижаться к любимой мужской груди и любить, любить без оглядки, забывая об отчаянии, которое ждет меня за углом, любить — и видеть, как загораются огоньки в единственных на свете глазах, самых дорогих на свете, самых любимых…
Ночью, когда блики луны проведут щупальцами по ковру, ощущая спиной спину моего мужа, я стану думать о любимом, представляя, каким счастьем (хотя бы на десять минут_) стало егоп рисутствие рядом. Отвернувшись к стене, чувствуя каждой клеткой отвратительного и ненавистного мне человека, я буду думать о другом и тихонько позову про себя (словно в действительности касаясь шелковистых волос) «мой мальчик… мой любимый мальчик… пожалуйста, прости меня… мой мальчик, прости меня… мой ласковый, нежный, юный. Мальчик с настоящим мужским сердцем, умеющий любить.» Его юность, его руки и глаза, движения неопытного тела — все это живительный бальзам, возрождающий меня к жизни. Мой нежный и ласковый, словно пахнувший медом и молоком, чистотой и силой юношеской любви, маленький герой моей жизни… Я почувствую в себе столько нежности, которая сможет подобно кокону окутать всю его теплую кожу. И сквозь волну восхищения и блаженства будто от скрипа по стеклу я очнусь, чтобы понять, в какой вымышленной реальности нахожусь. Горькая, невыносимая боль заставит очнуться от приступа. Заставляя вспомнить дорогу, по которой я ухожу. Ухожу (навсегда) из связавшего нас института. Муж давным-давно заплатил за диплом. И за жизнь в другой стране, и за билеты, загранпаспорта, визы, навсегда — через три месяца…. И еще — те глаза, глядя в которые, мне придется это сказать. Когда-нибудь придется сказать — все равно, глядя в эти глаза — голубые, ласковые, добрые, обожающие меня. Светлые.
Так будет. Оставляя — несколько последних часов. Оставляя — восхитительный безоблачный мир, созданный для нас двоих, где ничье чужое присутствие не нарушит сияющего спокойствия душ. Мир, в котором мы станем любить друг друга на продавленной общежитской кровати до степени последнего безумия, уводящего — от времени. От нашей любви. Мир, созданный, чтобы разрушить.
И полностью отдавая себе отчет о скором приближении конца, я закрою глаза, чтобы навсегда сохранить в памяти жар и силу крепкого юношеского тела и боль от вывода, что испытания даются самым сильным. В памяти моей словно кадры цветной фотографической пленки сохранится каждый момент, проведенный с моим мальчиком. С мальчиком — которого я любила. Я увезу их с собой. Каждую черту. Каждое мгновение. И выражение глаз. Застывшие кусочки вечности, отраженные в любимых пальцах. В тех, в которых навсегда остались свет и радость — части моей жизни.
Номер телефона
Он не успел потушить свет. Едва щелкнул замок двери, как она сразу же ощутила его руки на своем теле.
Горячие руки мужчины, которого она так ждала, твердо и решительно срывающие с нее блузку.
— Я хочу тебя…. Я так тебя хочу… — его горячий шепот обжигал кожу, и не понимая, что делает, она следовала за его руками как вода, из-за резкой воздушной бури изменившая свое течение.
Правду сказать, она все-таки пыталась сопротивляться.
— Может быть, не так сразу…
— А когда? Мы ведь знали, зачем сюда пришли, правда?
— Но… Но я…
— Я хочу тебя… Чего нам ждать?
Сопротивления больше не было. Это было бы уже слишком… Сопротивляться дальше означало просто изорвать свою душу, от которой и без того остались одни окровавленные ошметки.
Она три года безумно и безнадежно любила этого мужчину. Три года хитростей, манипуляций, интриг — ради этих жадных горячих рук, неумолимо и немилосердно волокущих ее к кровати. Три года она мечтала именно об этом — о нем, преуспевающем юристе крупной международной фирмы, в безнадежно дорогом костюме, с часами за 100 тысяч евро. О мужчине, который появлялся лишь на крупных международных конференциях, сияя на горизонте, как ясное солнышко. Он был недосягаем, и сводил с ума весь женский персонал их скромной нотариальной конторы.
Она мечтала о нем, прекрасно зная, что такой мужчина вряд ли обратит на нее свое внимание. Слишком много дорогих клиенток — жен и дочек высокопоставленных чиновников и современных нуворишей тормозили свои «Феррари» и «Мазератти» возле его офиса. Слишком много сплетен и слухов… Слишком яркий и сияющий ореол для скромной сотрудницы обыкновенной конторы, никогда не преуспевающей ни в жизни, ни в мужчинах, ни в своем ремесле. Но…
Она любила его. Любила так, как никогда не полюбили бы обладательницы «Феррари» и «Мазератти». Любила каждую его морщинку, каждый неудавшийся жест. И даже каждый его недостаток она с радостью прижимала к своему сердцу, потому, что в нем не было недостатков… Такой, какой он есть, со всеми своими пороками, он был для нее лучше всех.
А пороков его она знала немало. Три года любви не проходят бесследно. И с помощью Интернета, старых связей и случайных знакомств она узнала о нем всё. Но даже истина о том, каким он был, принималась ее сердцем медовым нектаром. Не было такого порока и такого недостатка, который она не смогла бы ему простить.
Она смирилась с потерей своей любви, оплакала ее, и стала жить как с хрустальным гробом, возносимым на пьедестал своего сердца. Так было до того предновогоднего корпоратива, когда по чистой случайности он оказался за столиком напротив нее.
А потом был корпоратив. И, разговорившись с ним (С НИМ!!!), и услышав, что он вообще не должен был быть здесь, что все произошло по чистой случайности, она вознесла такую горячую молитву к Богу, что от жара даже помада растаяла на ее губах.
Он пил шампанское, был рассеян и несколько остроумен, и когда он предложил поехать на его служебную квартиру («есть у меня тут поблизости квартирка, я ее использую для деловых встреч»), она без промедления последовала за ним.
Это был самый восхитительный секс в ее жизни. Ему тоже было с ней хорошо — она поняла это по его глазам. Беда заключалась в том, что, открыв для себя по случайности временную очаровательную любовницу, он и понятия не имел о том, что эта случайная попутчица по постели целых три года сходит по нему с ума. А она не смела сказать — да, наверное, он бы просто этого не понял, решив для себя, что встретилась очередная истеричка — из тех, что без зазрения совести вешаются на шею.
Он не обнял ее, даже не поцеловал. В их сексе вообще не было поцелуев. Просто встал, и быстро пошел в душ. Затем, как ни в чем не бывало, предложил отвезти ее домой.
— Но мы еще встретимся? — сказала она, не зная, как потемнели со стороны ее глаза (да и он не заметил, потому, что не думал об этом).
— О чем ты говоришь! Обязательно.
— Тебе было со мной хорошо?
— Просто супер! Завтра я обязательно тебе позвоню.
Она продиктовала свой номер, и он записал его в мобильник. Застегнул часы и поправил пиджак, выражая явную готовность поскорей избавиться от нее.
— Куда тебя отвезти?
— На стоянке ресторана моя машина.
Они молча уселись в его джип. Он гнал со скоростью 150, проезжая на красный свет и поворачивая там, где нет никаких поворотов.
Через пять минут он притормозил на стоянке ресторана — там, где виднелся ее скромный сероватый «Матис». Нагнулся, краешком губ чмокнул в щеку:
— Пока! Я тебе обязательно позвоню. Завтра.
И, не дождавшись, пока она сядет в машину, лихо развернулся и умчался прочь, в темноту.
Аккуратно развернувшись, она медленно выехала со стоянки. Открыла окно. Свежий ветер растрепал ее волосы. Ей хотелось лететь.
Не удержавшись, нажала сильней на газ. Прямая дорога перед ней была абсолютно пустынной. Все в ней пело — пело и в душе, и вокруг. «Он позвонит, обязательно позвонит! Он обязательно позвонит завтра!» — все внутри пело от самой сладкой музыки его слов… Как в святыню, она верила в каждое его слово. И от ощущения этого неожиданного, внезапно свалившегося на нее счастья ей так хотелось петь!
Да что петь — орать во весь голос… От счастья вспотели руки. Не удержавшись, засмеялась, и от ее смеха весело разлетелись красивые пушистые волосы… Более счастливых мгновений в ее жизни не было никогда.
Резкий свет фар на встречке ударил в глаза ножом, ослепил, и, немея от приближения страшной беды, застыв, она уставилась в белое лицо водителя маршрутки, мчавшейся прямиком на нее. В памяти отпечаталось белое лицо водителя маршрутки, его расширенные зрачки… Бешенные звуковые сигналы, разрывающие воздух ночной трассы…
Счастье сыграло с ней злую шутку — обезумев от свалившегося на нее восторга, она случайно вышла на встречку, и теперь со всей скоростью двигалась по встречной полосе.
Резко крутанув руль вправо (так, что взвизгнули колеса), и не став тормозить, она ударилась локтем о стекло, и вывернула машину так сильно, что едва не встала, как профессиональный каскадер, на два колеса. Но счастье все-таки сопутствовало ей: на ее полосе, резкий разворот на которую спасал ее жизнь, не было никаких машин. Резко вырулив, она съехала на обочину и остановилась.
Опасная маршрутка промчалась мимо. На асфальте виднелись черные следы ее шин. Она «спалила резину» как самый отчаянный дрифтер. И если б по ее полосе двигался (причем с любой скоростью) хоть один автомобиль, ничто уже не спасло бы ее жизнь.
Можно сказать, она чудом избежала смерти. Остановившись, она выключила двигатель, закрыла руками лицо. Все ее тело сотрясала крупная ледяная дрожь.
Эта не случившаяся авария была словно знаком свыше. Что, собственно, произошло? Она один раз переспала с мужчиной, по которому сходила с ума ровно три года. Мужчина, кстати, никакого понятия о том не имел. Она сошла с ума от сбывшейся мечты, от святого ощущения счастья…. Сошла с ума, прямо с земли отправляясь в полет.
Но она не умерла. Она чудом избежала аварии. Это означало, что в ее жизни еще есть смысл. Она даже знала, какой. Он позвонит. Он обязательно ей позвонит! Все, что произошло, означало, что у них прекрасные отношения! Ради этих отношений кто-то там, свыше, ее спас, ради этого ей оставили жизнь. Эти мысли вернули радостное расположение духа. Отдышавшись, она завела двигатель и медленно поехала домой. Счастье никуда не ушло. Счастье было таким же сильным, только стало несколько ровнее, что ли…
Она ничего не знала о том, что, высадив ее у стоянки ресторана, он проехал один квартал, припарковался у обочины, а затем навсегда удалил из мобильника номер ее телефона. Он всегда удалял ненужные женские номера — тех, с кем уже переспал.
Маленькое черное платье
Наконец, около половины четвертого ночи, он уснул. Поерзал на животике, перекатывая головку и маленькие ножки в чистых ползунках. Потянул край простыни и устроился поудобней, подложив ручку под щеку. Влажные от пота волосы прилипли ко лбу. Дыхание стало ровным, спокойным. Малыш заснул.
Она нагнулась над кроваткой. Поправила смятый край простыни. Натянула одеяло до подбородка и подогнула с краем, чтобы уберечь от прохлады. Потом вытерла рукой со лба пот. Малыш теперь широко раскинул ручки, вытянулся на спинке и только изредка по его спокойному личику пробегала беглая судорога — легкая тень оставшейся боли, и еще малыш немножко всхлипывал во сне. В первый раз ее до безумия напугал этот всхлип, но потом, успокоившись, она сказала себе, что это нормальное. Естественное явление, что так и должно быть после истерики, которая длилась не один час, что сон — лучшее лекарство и все пройдет, потому, что все плохое проходит, и у младенцев свой собственный, очень сильный ангел-хранитель, свой собственный Бог…. Разумные доводы успокаивали ее (а ей казалось: ничто и никогда не сможет ее успокоить), и только каждый раз, когда малыш всхлипывал во сне, она легонько гладила его по головке, по ручкам, и очень тихо шептала:
— Спи спокойно, малыш, мама рядом.
Наконец всхлипывания прекратились — сон здорового младенца вступил в свои права. Тяжело разгибая затекшую спину, она прислонилась лбом к изголовья кроватки. Еще одна ночь позади. Будильник на тумбочке показывал сорок три минуты четвертого. Позади несколько часов бесконечной истерики, крика, от которого ей самой хотелось кричать. Она вспомнила крик — яростный, протестующий вопль бесконечной внутренней боли, вспомнила, как еще несколько часов назад она носила малыша на руках и жарко молилась всем существующим в мире Богам, чтобы хотя бы на одно мгновение ушла из его тельца боль и прекратилась эта страшная пытка… Чтобы Бог или дьявол, или кто там есть еще, послали ей страдания, все страдания мира — только ей одной и чтобы любой ценой (пусть даже своей жизнью) она смогла бы успокоить орущего малыша…. Как горько, больно и страстно молилась, отмеривая бесконечные шаги по ночной комнате. Но все боги мира молчали, а малыш продолжал орать. А остатки разума (те, которые еще не успели покрыться кровоточащей пеленой отчаяния и маячили где-то позади, подавая слабый сигнал) говорили, что зубы — самая отвратительная на земле вещь, человеческий орган, словно специально созданный для того, чтобы в любом возрасте причинять мучительные страдания. Все было просто: у ребенка шли зубы и ее девятимесячный малыш орал третью ночь подряд…. И еще по вечерам у него немного поднималась температура.
Ее тело болело, словно все молотилки мира запросто прошлись по ее костям. Ей казалось: человек просто не может существовать на подобном пределе. Сначала она подумала, что не сумеет сдвинуться с места, дать движение затекшим мышцам, каждая из которых болела так, словно ее резали ножом. В довершение ко всем прелестям кружилась голова, разламывалась спина. А в воспаленные глаза (казалось) насыпали раскаленный песок и при каждом движении век больно чувствовались острые горячий песчинки. Но с огромным трудом ей все-таки удалось принять вертикальное положение и впервые взглянуть на телефон. На телефон, на который она все время смотрела, особенно большую часть прошедшего вечера…
Желание позвонить было настолько сильным, что она даже положила руку на холодную трубку, а потом — резко отдернула пальцы. Словно прикоснулась к змее. Нет, она не станет сейчас это делать. Она прекрасно знала, что услышит в ответ. Раздраженный, злой голос разбуженной свекрови, которой абсолютно наплевать на то, что у мальчика режутся зубы. Сначала та сделает ей колкое, болезненное замечание — таким ледяным, презрительным, ехидным тоном, который так любила и умела на себя напускать. Потом произнесет длинную тираду о ее беспечности, глупости и эгоизме. Свекрови наплевать, что она не спит уже третью ночь, что от бессонницы, отчаяния и страха за малыша она больна, по-настоящему больна и даже тело болит так, словно ее избили. Что она очень устала, у нее разламывается на две части спина, которая болит с начала беременности и до сего дня — больше года мучительной, изнуряющей боли, что она одна в темной квартире, одна — молодая, неопытная, с малышом на руках, без помощи, без поддержки, с чувством такой растерянности и ужаса, какие не испытывала никогда в жизни. Усталость, и страх, и малыш, который мочит пеленки и бесконечно орет, и она устала от этой тяжелой физической работы (пеленать, переодевать, кормить, пеленать, переодевать, кормить) и от этого бесконечного крика, который просто убивает, ведь ей кажется, что это ее сердце рвется по частям… Разрывается на мелкие кусочки, превращая душу, и мозг, и грудь в болезненную рванную рану. Потом свекровь ей скажет, что ее муж спит, и она, разумеется, не станет его будить, ведь он завтра рано встает на работу и плевать, что она после бессонной ночи встанет еще раньше. Не может же она (в самом деле!) требовать, чтобы ее муж, который работает, находился в этом аду! И свекрови даже в голову не придет, что называет адом нахождение отца в одной комнате с собственным сыном. Он не высыпается, и от крика малыша у него расстраиваются нервы и болит голова, а она — плохая жена и мать, если смеет требовать, чтобы он, ее муж, так страшно мучился. А потом свекровь швырнет трубку. И от услышанного ей станет еще хуже. Она уже точно не сможет заснуть, не сможет даже прилечь. А будет, как в прошлые ночи, бессильно сжимать зубы и кулаки, до самого утра нервными, тяжелыми шагами расхаживая по ночной кухне. Так было несколько дней назад, так продолжалось каждый раз по истечении девяти месяцев жизни малыша. Малыша, на которого его собственный отец смотрел с плохо скрытым равнодушием.
Она не стала звонить, а тяжело рухнула в постель, но в этой постели чувствовала себя, как на раскаленной решетке.
«Я не знал, что дети — это сопли, вонючие пеленки и бесконечные крики по ночам! Наверное, я слишком поспешил с отцовством».
Она ворочалась, вызывая еще более сильную боль в спине, и что-то острое впивалось в бок — пуговица от халата, который не имела сил снять, или обрывок потной скатанной простыни, или просто воспаленный, нервный зуд в коже. Но, ворочаясь, она жестко контролировала свое дыхание, несмотря на боль, чтобы постоянно слышать главный звук: тихое, посапывающее дыхание малыша, по малейшему изменению дыхания готовая вскочить с постели, как по первому зову.
«— Ты опять уходишь?
— Да, ухожу. Знаешь, я доведен до такого состояния, что уже не могу все это видеть!
— Не можешь?
— Разумеется! Я устал. Я не могу не высыпаться каждую ночь, у меня раскалывается голова.
— Но я…
— А при чем тут ты? Ты мать! Возиться с ребенком — твоя прямая обязанность, а я менять ему пеленки и подтирать сопли не должен! Это не мужское дело! И потом, я работаю, а ты сидишь дома и ничего не делаешь…
— Я забочусь о ребенке…
— Возиться с ребенком — ерунда, каждый может, это не в счет! Это женское дело. А мне все это просто действует на нервы! И потом, кого интересует твое здоровье? А я работаю в серьезной фирме, от меня многое зависит, я зарабатываю деньги и не могу себе позволить являться в офис с головной болью и зевать потому, что менял сопляку пеленки. Я ухожу ночевать к маме и буду ночевать у нее до тех пор, пока все это не закончится!
— Закончится — что?
— Ты плохая жена и мать! Если он орет по ночам, виновата только ты! Мне давно говорила об этом мама!
— Она лучше — та, к которой ты отсюда идешь?
— И ты дура — к тому же!».
Она знала — знала, почему свекровь бросит трубку. Потому, что к телефону некого звать, потому, что в двухкомнатной квартире свекрови ночуют только трое: свекровь, ее муж и кошка.
«— Посмотри на себя со стороны! Ты расплылась, стала тушей, под глазами черные круги… Разве ты была такой, когда я с тобой познакомился?
— Я очень устаю.
— Да от чего ты устаешь? Ничего не делаешь, сидишь дома.
— Ты хоть понимаешь, как тяжело ухаживать за маленьким ребенком?
— Не говори ерунды! Это женское дело, все женщины ухаживают — и ничего, живы-здоровы. Ты просто сама себя распустила, стала чучелом… Хоть бы в тренажерный зал сходила… На фитнес там всякий… шейпинг…
— У меня нет времени.
— Да полно у тебя времени! Малый заснет — и иди.
— Как можно оставить малыша одного?!
— А что такого?
— Ты думаешь, что говоришь?
— Да ты просто клуша! Отговариваешься потому, что по натуре ты клуша! А как ты одеваешься? Купила бы себе хотя бы одну новую вещь…
— У нас не так много денег. Я должна тратить деньги на памперсы, одежду, питание малыша, на лекарства…
— Нечего его баловать!
— Я не балую, но что-то он должен есть?
— Могла бы сама кормить!
— Ты знаешь, что у меня пропало молоко!
— Ты ни на что не способна! Моя мама права: ты действительно ни с чем не справляешься! На тебя просто противно смотреть!
— А ты этого и так не делаешь!
— И не буду! На что мне такая корова нужна? На свете полно других женщин — молодых, ухоженных. С красивой фигурой!
— Я устала и плохо выгляжу потому, что одна ухаживаю за твоим сыном! Ты же знаешь, что мне некому помочь — моя мама умерла…
— Это твои проблемы! Меня они не касаются!
— У меня не хватает денег даже для того, чтобы…
— Я даю тебе на расходы ровно столько, сколько давал всегда!
— Но этого не хватает на содержание ребенка!
— В мой карман ты больше лапу не запустишь!
— Это же твой сын! Твой!
— Если ты не справляешься с ситуацией, не нужно было рожать! Сделала бы аборт! Права была моя мама…».
Оно было выставлено в витрине — ослепительное, не очень дорогое и модное. Она увидела его в тот самый день, когда, оставив малыша на подругу, выбежала в магазин купить детское питание. Шла окрыленная. Несколько часов назад, по совету подруги, она договорилась о визите очень крупного специалиста в педиатрии, профессора, который знал все о малышах и должен был определить, почему малыш орет по ночам, как резанный. Подруга достала координаты профессора через каких-то знакомых, знавших его лично, и ей удалось договориться о визите за очень большую сумму. Честно говоря, этой суммой была вся отпущенная мужем наличность. Но подруга сказала:
— На собственном ребенке экономить нельзя. А если приглашать врача, то хорошего.
Она согласилась, зная, что деньги на все остальное возьмет у своей тети. Что-нибудь соврет — и возьмет. И вот, окрыленная разговором с профессором, который оказался очень внимательным и сразу согласился приехать, она бежала в магазин, и увидела в витрине платье. Платье, о котором мечтала всегда.
Она остановилась перед витриной, как вкопанная. Это платье… Это был ее цвет, стиль… Маленькое черное платье должно было так выгодно подчеркивать ее фигуру… И может быть муж, увидев все ее очарование в новом наряде, посмотрел бы на нее… И даже перестал изменять… Оно стоило недорого — всего лишь ту сумму, которую брал за визит профессор и которая лежала в ее кармане.
Она стояла и смотрела, а в зеркале витрины отражалась ее фигура: в заношенной старой юбке, с волосами, давно не знавшими прически, с изможденной улыбкой на худом, без косметики — совсем белом лице, с огромными черными кругами под глазами (от постоянного дефицита сна). С лицом женщины, у которой болен ребенок. Она стояла и смотрела, чувствуя, что в ее душе не происходит никакой борьбы. Наоборот, душа ее была свободна и чиста, как нетронутые хрустальные кристаллы… И в глубине души зажигалось и гасло только одно-то единственное, что имело смысл, то единственное, что двигало ее телом… «Только бы врач сказал, что с малышом все хорошо! Видит Бог, мне ничего не нужно. Я готова от всего отказаться ради моего малыша! Согласна жить без мужа, без любви и никогда не одевать новых платьев, только бы малыш прекратил кричать от боли по ночам! Мне ничего не нужно, я ничего не хочу, только бы мой малыш был здоров… Здоров и счастлив… Это единственное, ради чего стоит жить, и я буду ради этого жить. А на все остальное мне плевать!».
И, равнодушно скользнув взглядом по витрине с платьем, пошла прочь, расправляя сжатые плечи и затекающую на ходу спину.
Малыш перевернулся на животик и тихонько вздохнул во сне. Она вскочила с кровати, чтобы подбежать к постельке, и задела телефон.
«Я не буду звонить! — сказала сама себе, — Я не позвоню ему никогда. Мне ничего не нужно. С малышом все хорошо. Скоро выйдут зубы и все будет хорошо! А остальное — не имеет никакого значения! У меня нет мужа, и ничего нет — но это ерунда, временные трудности, я справлюсь с ними. Все пройдет. Я буду очень сильной. Самое главное — мой малыш. Самое главное, чтобы был здоров мой малыш! А со всем остальным справлюсь. Я сильная. Я выдержу это, я знаю».
И, наклонившись над кроваткой, поправила одеяльце, тихонько прошептав:
— Спи спокойно, мой любимый, мама рядом.
Финансы раздельно или Роман с интернетом
Мечты рухнули, грубо погребая меня под своими обломками. Ну представляете себе этот кошмар: выдался один-единственный сводный вечер (дети — на даче с родителями, муж — в командировке), когда так приятно в старом халате растянуться на пушистом диване (без всякого мэйк-апа, кстати!), посмотреть что-то веселенькое или, наоборот, симпатичный такой ужастик, расслабиться, выпить кофе с коньячком… Да, забыла: еще обязательно выдернуть телефон из розетки, компьютер — из сети, а мобильник — отключить, решительно нажимая на все кнопки сразу с выражением зверского удовольствия на лице! Так вот: не вечер — идиллия! Мечты загнанного мегаполисом человека. И вдруг…
Конечно, я сама была виновата. Пусть бы трезвонили себя в дверь, сколько угодно… Но пионерская моя совесть (оставшаяся еще с доисторических времен) вдруг громко подняла голос, пристыдив светом в моих окнах, которые на третьем этаже очень даже легко разглядеть… К тому же, это могла быть просто соседка, заскочившая одолжить какую-то мелочь. И, думая так, я поплелась к двери. Кто-то, кстати, продолжал трезвонить все то время, пока я сползала с дивана. Это одно уже должно было меня насторожить! Но, увы… Я распахнула дверь.
В квартиру ворвался вихрь, сбил меня с ног и с треском разрушил все мечты о диване с ужастиком. Прокружившись ураганом по всем комнатам (и зачем-то сбросив туфли в кухне под стол), вихрь остановился у моего лэптопа и потребовал:
— Хочу замуж!
— Отстань, а? — я лениво потянулась на своем пушистом диване, — у меня, между прочим, единственный свободный вечер за весь месяц…
Но подругу мою, бешенные глаза которой пульсировали похлеще любого торнадо, не так-то легко было сбить с этой волны.
— Хочу замуж! Ясно тебе? Не все ж тебе одной, эгоистке!
— Оставь меня в покое! Отцепись!
— Совесть имей? Скоро тридцатник стукнет, а у меня еще ни одного ребенка! Замуж хочу!
Железная логика подруги всегда держала меня (как говорится) на месте.
— Ну хоти себе на здоровье! При чем тут я?
— Очень даже при том! У тебя свободный вечер? Ты одна в квартире?
— Ну и что?
— А то, что сейчас ты сядешь к компьютеру и будешь искать мне жениха!
От досады я запустила в нее домашним тапком (от которого подруга лихо увернулась) и заорала бешеным голосом:
— Ну, нет! Пошла вон! У меня ужастик! И кофе с коньяком!
— Кофе с коньяком выпью я, — заявила подруга, — чтобы успокоить нервы. А ты сядешь и будешь искать мне жениха!
— А с чего ты взяла, что я тебе его найду? Если ты сама до тридцатника его не нашла?
— Я не нашла потому, что не искала в Интернете! Сейчас все выходят замуж только через Интернет.
— Я же сказала: буду смотреть ужастик!
— Что такое голливудский ужастик по сравнению с моей жизнью? — возразила подруга, и строго добавила, — не валяй дурака! Если б я хорошо шарила в этой твоей коробке, сама бы нашла! Но так как меня компьютер только раздражает, лучше, если то сделаешь ты!
— Ну подумай: что хорошего в этом замужестве? Ты свободная женщина! Радоваться должна!
— Так, всё! Разговорчики! Теряем время.
С неудовольствием, тяжело вздыхая, я сползла с дивана.
— Что, поругалась со своим Юриком?
С Юркой моя подруга жила уже ровно семь лет. Они то сходились, снимая вместе квартиру, то расходились, ругаясь, как две собаки. Но проходило недели две, и они снова не могли друг без друга жить. Оба пытались строить какие-то другие отношения, быстро разочаровывались и снова сходились — до очередной ссоры. Каждая их стычка была, разумеется, по гроб жизни, и если б в мире действительно существовало «навсегда» (слово, которое они все время бросали друг другу с каким-то тупым упорством), то длилось бы оно максимум недели две. Эта бешеная страстность совершенно больных отношений и мешала им, наконец-то, пожениться — к восторгу всех окружающих, которым эта парочка доставляла немалую головную боль.
— Да, мы с Юрой расстались. Навсегда.
Услышав это слово, я пожалела, что мой тапок не попал в цель.
— Ты хоть себе представляешь, что будет, если муж влезет в мой компьютер и увидит, что я открывала сайты знакомств? — снова попыталась я.
— А, ерунда! — махнула рукой подруга, — сотрешь странички — и всё!
Подруга врала, что не разбиралась в компьютере. Просто со мной искать было веселей. Так я и заявила. Она совершено не смутилась:
— Ну да, веселей! К тому же, ты человек опытный, посоветуешь, если что!
Вечер был безнадежно испорчен. И, махнув рукой на свои мечты (в конце концов, я же не отдыхала целый месяц, можно еще потерпеть), я села к компьютеру:
— Ладно, сдаюсь. Будем искать твоего жениха!
— Вот спасибо! Ты просто прелесть! Что бы я без тебя делала? — подруга аж всплеснула руками. Глаза ее зажглись настоящим охотничьим огнем.
Интернет просто пестрил сайтами знакомств.
— Сначала посмотрим бесплатные, потом, если будет что-то стоящее, можно и зарегистрироваться. Сначала будем вводить информацию о женихе.
Вскоре мы открыли некий популярный сайт с бесплатной коллекцией особей мужского пола из разных регионов страны.
— Искать будем зарубежом или у нас? — спросила я.
— У нас, конечно. Давай сначала так попробуем.
— Город?
— Пусть будет Киев.
— Отлично, пишем: Киев. Возраст?
— От 35 до 40 лет.
— Образование?
— Только высшее! И без вредных привычек!
Вскоре сайт выдал нам несколько подходящих женихов. Подруга вся была в компьютере, в глубине экрана (причем без всяких фантастических выкрутасов и виртуальных фантазий). С первой же попытки мы прочитали краткую информацию женихов 10-ти. Подруга приободрилась:
— Давай начнем подробно с трех! Вот, смотри… Олег, бизнесмен, 40 лет. Андрей, компьютерный дизайнер, 35.. И Леонид, юрист, 38…
— Черт возьми, какие профессии! И такие валяются на улице? — удивилась я.
— А ты что, считала, что в западу на какого-то сварщика? — почему-то обиделась подруга.
— А Юрик твой, между прочим, простой прораб из строительной бригады, с техникумом! — ехидно заметила я.
— Во-первых, уже не мой! А во-вторых, поэтому я и хочу личность! — отпарировала подруга, — а бизнесмен — вообще идеально!
— Ага, сникерсами в метро торгует! Полный идеал! — рассмеялась я.
— Открывай скорей, давай посмотрим, чем он там торгует!
На экране засветилась красочная фотка атлетического, лысоватого мужичка со стандартным лицом.
— У него рост 190! — в восхищении присвистнула подруга, — смотри… Не был женат… Ищет серьезные отношения… Умную, сексуальную партнершу… Ну, это, разумеется, я! (я скромно промолчала), желает заниматься сексом каждый день! Нет, ты представляешь, а? И это в 40 лет! С ума можно сойти! Возбуждает красивое нижнее белье… Увлечения: Интернет, спортивные передачи, автолюбитель, отдых в компании друзей за кружкой пива… Требования к совместной жизни с партнершей: в его квартире, финансы раздельно… Ой! А что такое финансы раздельно?
— Ну… — засомневалась я, — может, платить за квартиру поровну? Давай поровну деньги на еду?
— А как я могу давать с ним деньги поровну, если он бизнесмен, а у меня вся зарплата 1000 гривень? — засомневалась подруга.
— Странно. Честно говоря, я с таким и не сталкивалась… Знаешь, что? Давай посмотрим остальных!
Мы открыли компьютерного дизайнера. С фотки на нас смотрел молодой человек просто ослепительной голливудской внешности, в строгом деловом костюме.
— Такая лапочка — и один?! — охнула подруга в восторге, — этого хочу!
— Подожди ты хотеть… — я начала кое-что понимать, — давай сначала почитаем.
Голливудский красавец не был женат, жаждал серьезных отношений и ежедневного секса, мечтал о скромной, не требовательной женщине, свободное время посвящал компьютерным играм и ночным клубам, и… В конце анкеты, жирным шрифтом, черным по-белому выделялось — требования к совместной жизни с партнершей: финансы раздельно.
— Я поняла, — сказала я.
— Что именно?
— Обрати внимание на одну маленькую деталь… 40 лет, 35 лет — и человек ни разу не был женат. Не кажется ли тебе, что это странно? Как правило, в таком возрасте люди или разведены, или имеют семью. Если же нет — это говорит об их недостатках, а не достоинствах…
— Ну, может, они просто не успели жениться, не встретили…
— Знаешь, что такое финансы раздельно? Это значит, что он живет на свои деньги, а ты — на свои. Он живет на свои 3 тысячи долларов, которые получает как компьютерщик, а ты живешь на свои 1000 гривень. Он садится к столу и ест мясо, бутерброды с икрой, а ты садишься и ешь голую кашу. Тебе нужна косметика, вещи? Зарабатывай на это сама! Заболела? Покупай лекарства со своих 1000 гривень! Но при этом он не забудет каждый день с тобой трахаться! Интересно только, рожать или платить за аборты и за консультации гинеколога от такого вот ежедневного траханья ты тоже будешь из своих 1000 гривень? Кстати, ты о диете, кажется, думала? С таким сожителем ты будешь просто умирать от истощения! Диета уже не понадобится, и даже закончишь больницей. Теперь ты поняла, почему эти люди никогда не были женаты на женщине?
— На женщине? Что ты имеешь в виду?
— Они давным-давно женаты на самих себе. И, думаю, это очень прочный и стабильный брак!
— О Господи! Ты хочешь, чтобы я умерла от ужаса?! Это же ужас!
— Нет, моя дорогая, это всего лишь реалии нашего мира. Теперь каждый сам за себя.
— А мой Юрик мне всегда зарплату приносил… И шоколадки… И подарки мелкие… И никогда не спрашивал, что и за сколько я купила…
— Давай откроем третьего, чтобы ты успокоилась.
Юрист Леонид тоже никогда не был женат. Он так же жаждал и серьезных отношений, и ежедневного секса. У него были несколько другие требования: он не возражал против женщины с ребенком. Но — обязательное условие: ребенок женщины проживает отдельно.
— А это как? Значит, она отдает ребенка родителям, а сама живет отдельно с этим типом? А если ребенок совсем маленький? Как же он без мамы? — глаза подруги распахнулись в целые блюдца.
— А вот так! — заметила я, — кому нужен чужой ребенок? Чужой ребенок никому в мире не нужен! Кому есть до него дело, кроме матери? Да и матери не всегда…
— Как же мать может пойти на такое? Бросить своего малыша?
— Ты что, с луны свалилась? Множество женщин так делают! Одна моя знакомая вышла так замуж за москвича. Живет у него в Москве, а ребенка бросила матери в Киеве. Москвич и знать ее ребенка не хочет. Так и живут.
— Ну, она тварь, это понятно. Но как мужчина может выдвигать такие требования? Разлучать ребенка с матерью? Это же фашизм! Такой тип хуже фашиста!
— Ну, насмешила! Мужчины что, понимают материнские чувства? Где ты видела мужчину с таким сердцем? Вот ежедневный секс — это да, это они понимают. В разных позах. А встать в 2 часа ночи, чтобы поправить одеяльце у больного ребенка — это очень трудно понять.
— Прокрути-ка его анкету вниз…
Подруга не ошиблась: внизу жирным курсивом было как всегда… Финансы раздельно.
— И ребенка выбросить, и финансы раздельно… — процедила подруга сквозь зубы, — этот Леонид действительно всех превзошел…
Мы просидели некоторое время, тупо уставясь на мерцающий экран лэптопа.
— Других будем открывать? — спросила я.
— У нас девчонка на работе есть, — словно не слыша, тихо сказала подруга, — так ее муж заставляет отчитываться в каждой копейке. Чеки из магазина проверяет. Вещи она себе имеет право только из своей зарплаты покупать. Однажды он приходит за ней на работу, а она листает каталог косметики, девчонки дали посмотреть. Он ей и говорит: «ты зачем каталог косметики смотришь, когда у тебя сапоги еще в прошлом месяце порвались? Ты что, забыла, что в эту зарплату можешь купить себе только сапоги?». Представляешь? Мы все обомлели. А она спокойно так каталог отложила и пошла с ним домой. Выключи компьютер!
— Что?! — обалдела я.
— Выключи компьютер. С меня хватит. Как ты сказала? Реалии? Мне было 12, когда мои родители развелись. Они стали разменивать квартиру, а до тех пор мы жили в одной. И вот у них финансы были раздельно. Мама моя была очень бедной, у нее была совсем низкая зарплата. А отец хорошо зарабатывал. И вот он садился к столу и ел ветчину, творог, шикарные красные яблоки… А мы с мамой ели кашу из ячки с черным хлебом. И представляешь, он меня ни разу даже не угостил. Сидел на кухне, жрал яблоки и ветчину, как ни в чем ни бывало, и ни разу не предложил мне! Он считал, что мы ему уже не семья, а раз так, то финансы должны быть раздельно… Извини, что я испортила тебе вечер.
— Да ты что! Это ты меня извини!
Мы обнялись. Потом у подруги зазвонил мобильник.
— Юрик? Это ты? Да… Да… Я тоже… Ты за мной заедешь? Буду ждать! Целую, конечно…. Да, я тоже очень скучала…
Закончив разговор, подруга улыбнулась:
— Мой Юрик — чистое золото по сравнению с тем, что мы сегодня тут с тобой начитались! Прораб с золотым сердцем лучше любого юриста или навороченного бизнесмена, или крутого компьютерщика, которые живут вот так!
Когда она ушла, я снова улеглась на диван. Но это был уже не свободный вечер. Вечер вдруг стал невероятно пустым и скучным, и я схватила мобильник:
— Привет, солнце! Да вот за тобой очень соскучилась! Как твои дела?
Упущенный шанс
Переговоры длились четвертый час. Я устала. Собственно, все было, как всегда. Продюсеры сами не знали, чего хотят, а инвесторы хотели сэкономить деньги. Мое же дело было — сторона. Писать сценарий не существующего телепроекта — это кошмар, который и в страшном сне не привидится! Особенно, когда разговоров много, а реальности — нет.
Директор сказал четко: «Будешь сидеть и слушать то, чего они хотят. Потом постараешься сделать». Сказать — легко! Но как можно сделать хоть что-нибудь, если трое продюсеров битый четвертый час вели себя, как лебедь, рак и щука?
Под шумок я потихоньку выскользнула из конференц-зала и пошла к морю. Для встречи был выбран отличный отель на самом морском берегу (ну еще бы, экзотика — продюсеры ведь из Москвы). Я сняла туфли и медленно пошла по песку, стараясь не идти в воду. Понедельник, поздняя осень — пляж был пуст.
Думать не хотелось. Усталость от всего давила свинцовым облаком, и как-то не хотелось думать о том, что так будет всегда. Конечно же, я не должна была идти на эти переговоры, если б не директор, который по совместительству являлся моим мужем. Вместе мы всегда выглядели как самая благополучная семья, успешно процветающая в семейном бизнесе. Замечательно стабильный семейный бизнес. Внешне….
Я медленно шла по песку.
— Вы говорите по-английски?
Голос, раздавшийся за спиной, заставил вздрогнуть от неожиданности. Рядом со мной стоял красивый молодой человек, лет 25-ти. Он был смугл и черноволос, и было в нем что-то такое… Может, какая-то особая робость, с которой он обратился ко мне, или та странная вежливость, которую не так уж часто встретишь на наших пляжах….
— Простите, если я вас побеспокоил. Вы говорите по-английски?
— Может быть.
— Как это — может быть?
— Смотря что говорить.
Он улыбнулся. Было видно, что я его озадачила. Что ж, такая реакция нормальна. Я озадачиваю многих.
— Я турист, только сегодня утром приехал в ваш город. Оставил вещи в отеле и решил прогуляться по берегу.
Рукой он указал на тот самый отель, в котором шли мои проклятые переговоры.
— Знаете, как странно… Вы первый человек, которого я увидел сегодня на пляже, и вы произвели на меня такое сильное впечатление…
— Чем?
— У вас грустные глаза.
Можно подумать, открытие! Сказал бы еще — глаза побитой собаки. Так было бы гораздо верней.
— Где вы живете? — я ушла от неприятной темы, — вы раньше не видели моря?
— Видел, конечно. В моей стране оно такое же, как у вас. Я живу в Истанбуле. Слышали о таком городе?
— Слышала, конечно.
Он выговаривал не так, как звучит на нашем языке, ведь правильно действительно — Истанбул…
Стамбул. Мое сердце затопила волна горечи. Этим летом один из нашего семейного бизнеса действительно уехал отдыхать в Турцию и собирался побродить по музеям Стамбула. Не я… Что ж, побродил.
— Вы были в Турции?
— Нет, не была, — в моем тоне прозвучала резкость.
— Я обидел вас чем-то?
— Простите… Конечно, нет.
— Может, я могу пригласить вас на чашечку кофе? Вы расскажете об Одессе. Я здесь никогда не был. Вы заняты сейчас?
Я вспомнила комнату, где шли переговоры. Переливание из пустого в порожнее, и меня никто не спрашивал ни о чем.
— Занята.
— Может быть, позже? Мы могли бы встретиться….
Я подняла на него глаза. Только теперь я заметила, что он был очень красив. О такой красоте мечтает каждая женщина. И вежливые, вполне европейские манеры — какой милый молодой человек.
Как было бы просто: плюнуть на всё, сказать «да» и броситься с головой в это случайное приключение, не думая ни о чем. Не думая о последствиях, репутации, случайных сплетнях (вдруг кто-то увидит) и всевозможных страшных картинах на тему «как бы чего ни вышло». А если бы — вышло? Если это единственный шанс, который дает судьба? Если вдруг….
— Мы можем встретиться позже?
Внутренний голос закричал: «Да! Да, обязательно, и мы пойдем в какое-то кафе, где, болтая ни о чем, просидим до ночи. И будет красивая, печальная музыка и глоток пьянящего вина. И я почувствую себя молодой, желанной, красивой…. Я почувствую себя женщиной, которую хотят. И не нужно мне никакого счастья! Пусть это будет только один час — но час, который я проживу для себя! И я буду танцевать вместе с ним в море светящихся огней ночного города, и больше ничего в мире не будет… Дура трусливая, бестолочь, ты же столько времени ждала этого, ну скажи, наконец — да, да, да!».
— Что я должен сделать, чтобы вы согласились?
«Ты должен быть таким, какой ты есть… Милым, очаровательным, красивым, что аж захватывает дух! Турция — вполне европейская страна, ты должен рассказать мне об этом, и еще…»
— Что же вы мне ответите?
— Нет. Мне очень жаль. Нет.
И, не дав ему опомниться, по-идиотски подхватив туфли, я бросилась бежать прочь, от него, ругая себя трусливой дурой, идиоткой, убегающей от последнего шанса на счастье, ни разу ни обернувшись назад.
Переговоры закончились. Продюсеры, улыбаясь, пообещали работать над созданием конструктивной идеи о проекте, и, как только появятся новости, сразу их сообщить. Потом я поехала домой и села к компьютеру — у нас «горел» очередной проект. После из школы пришел сын и принялся за уроки в своей комнате. Я включила телевизор, чтобы не встречать ночь в тишине. Зазвонил мобильник. «Привет, я задерживаюсь, приеду поздно, что переговоры безрезультатные, знаю, ложись спать, меня не жди, пока». По телевизору шли новости. Меня по-прежнему уничтожал семейный бизнес. Обзывая себя трусихой и дурой, я плакала, прислонившись к стене.
Я плакала от бессмысленности этого вечера и от пустоты всех остальных вечеров. Я плакала об упущенном шансе и еще о том, что я струсила, побоявшись рисковать. Упущенный шанс на измену (изменение всей моей жизни) жег изнутри каленным железом.
Три дня я ломала себя, и три дня мечтала о счастье, обмане, беде… Все, что угодно, только не эта монотонная пустота…
На четвертый день я поехала в отель на побережье — без приглашения, к нему. Мне было стыдно, и я шла еле-еле, чувствуя себя непроходимой дурой. Просто ужас, как я себя вела! Портье улыбнулся, с сожалением покачав головой.
— Да, конечно… Такой человек останавливался у нас — на три дня. Он выехал из отеля — сегодня ранним утром. У него самолет в 9. Он уехал в аэропорт в 7 утра.
На моих часах был полдень. Я спрятала слезы улыбкой и спустилась на пляж. Сняв туфли, я медленно пошла по песку. Осенний пляж был совершенно пуст. Я шла очень долго, до самой желтой скалы, вдруг выросшей из свинцово-серого, холодного моря. Я шла так долго, что у меня разболелись ноги.
Никто ко мне не подошел.
Дом у реки
В дом у реки я попала совершенно случайно. Я находилась в Киеве, ждала, пока продвинется работа над одним из кинопроектов. Подготовительный период к съемкам затягивался, и у меня выпало немного свободного времени. Я посвятила его хождению по глянцевым журналам. Тогда-то одна из знакомых редакторш позвала меня на эту презентацию.
— Поедешь, развлечешься. Место там чудесное. Природа! Дом построен по высшему классу — сама знаешь, скоро выборы. Телевидение, и все такое. К тому же, там будет шикарный фуршет! Побудешь на свежем воздухе, отдохнешь. Ну отчего тебе не поехать?
Сидеть в гостинице целый день не хотелось, бродить по улицам было скучно. Я подумала — и согласилась.
Но уже по дороге, в микроавтобусе, арендованном для столичных журналистов (организаторы акции расщедрились до такой степени, что по дороге раздавали бесплатное пиво и сок), я узнала, что дом у реки — не что иное, как дом престарелых. Роскошный, с евроремонтом, удобствами и медицинским обслуживанием, но все-таки — дом престарелых. Шикарный фуршет в конце акции вдруг показался кощунством, и у меня мгновенно пропал аппетит.
Скажу честно: по дороге я даже хотела выпрыгнуть из автобуса. Один оператор с небольшого, но престижного телеканала, попытался меня уговорить:
— Во-первых, вы разобьетесь, во-вторых, ну что тут такого? А в-третьих, для стариков там будет рай. Они ведь одинокие и безродные, ну кому они еще нужны? Близких у них нет. Многие сами отдали свои квартиры, чтобы пойти в этот дом престарелых и прожить остаток жизни с достатком и уходом. Там отличное питание, уход, компания себе подобных. Что лучше — жить в одиночестве в какой-то однокомнатной хрущевке, когда медсестра из районной поликлиники даже не придет сделать укол? У них нет близких. Они одиноки. Может, для таких несчастных людей хороший дом престарелых — лучший выход.
Дальше оператора понесло. Обнаружив благодатного слушателя в моем лице, он принялся разглагольствовать о Европе и Америке, где все старики в конце жизни при живых детках отправляются в такой вот дом, и даже привел в пример несколько романов агаты Кристи, в которых она писала о том, как избавляются от ненужных родственников… Слушать его было неприятно. И, чтобы отвлечься от дурных мыслей, я отвернулась к окну и залюбовалась природой Киевской области, которую, кстати, видела впервые.
Вскоре показался Днепр. Он блестел под лучами утреннего солнца как осколок разбитого зеркала. И в лучах этого света жизнь казалась такой светлой, радостной, что нельзя было и помыслить о том, что для кого-то эта жизнь может обернуться совсем другой.
Вскоре показался и сам дом. Его желтый фасад возвышался на берегу Днепра, а перед домом был разбит огромный цветущий сад. Сад был тщательно ухожен, дорожки посыпаны песком, везде цвели розовые кусты и царила идеальная чистота, но в нем не было людей, которые могли бы насладиться его красотой, и ухоженные дорожки все время оставались пустынными.
Мы вошли внутрь. Я боялась первой встречи с обитателями дома, боялась этого появления перед ними в толпе циничных зевак. Но волей обстоятельств я была избавлена от этого. К дому подъехал кортеж одного известного политика, и все (журналисты с обитателями дома) бросились туда. Защелкали фотоаппараты, замигали камеры, зазвучали бравурные официальные речи… Избавленная от этой показухи, я потихоньку отделилась от толпы и пошла бродить по дому.
Вскоре я услышала за своей спиной тихие, осторожные шаги. В тот момент я находилась в небольшой гостиной на первом этаже. Там стоял мягкий уголок, телевизор, а возле окна, на столике, были приготовлены бокалы для фуршета. Сами же фуршетные столы располагались в комнате по соседству.
Шаги стали отчетливей, и я обернулась. Следом за мной в комнату боком, как будто пятясь, входила старая женщина, одетая в трикотажное платье с воротничком, какие носили еще в советские времена. Лет ей было 80, не меньше. Редкие седые волосы едва покрывали голову. Сквозь их пряди просвечивала желтоватая кожа. Женщина была худощавой, немного сутулой, со впалой грудью и дрожащими старческими руками. Двигалась она нерешительно, словно боялась. На ногах у нее были ужасные стоптанные тапки, издававшие при ходьбе отвратительный шаркающий звук. Я поняла, что передо мной одна из обитательниц нового дома для престарелых.
— Простите, пожалуйста…. — женщина говорила очень тихо, словно шуршала, — можно вас спросить?
— Да, конечно! — я широко улыбнулась — мне вдруг захотелось быть полюбезней.
— Мне сказали, что вы из Одессы. Это правда?
— Да, правда. Я действительно из Одессы.
— Как замечательно! — женщина робко улыбнулась, — я провела в Одессе большую часть жизни, и теперь так скучаю за ней! Как там сейчас?
— Очень красиво. Одесса всегда прекрасная.
— Да, я знаю. Я так хотела бы прогуляться по Приморскому бульвару, зайти на Соборку, увидеть Горсад… Знаете, даже улицы там необыкновенные! Ходишь по городу, и каждая улица — как родной дом! В мире нет ничего замечательней! Теперь я все время думаю об этом… — она тяжело вздохнула. Потом, видя, что я молчу, снова улыбнулась:
— Меня зовут Галина.
— Очень приятно!
— Я ненадолго здесь. Знаете, у меня в Одессе есть дочка, и она скоро приедет за мной. Все это вопрос нескольких дней. Она скоро приедет, и заберет меня домой. Там, в Одессе, у меня есть квартира…
И женщина рассказала свою нехитрую историю: развод с первым мужем, дочка, которую воспитывала одна, работа в конструкторском бюро, второе замужество в 45 лет.
— Мой второй муж был из Киева. У него была в Киеве однокомнатная квартира. Я вышла замуж, когда моя дочка была уже взрослой. У нее есть сын. Потом муж умер, дети мужа отобрали квартиру. А я оказалась здесь… Но ничего! Скоро меня заберут. Дочка за мной приедет!
Дальше она заговорила о своей дочери. В этот момент яркий луч солнца, отразившись от стеклянных бокалов, ударил прямо в глаза. Я зажмурилась, отодвинула голову, и… вдруг окаменела! Лицо женщины, в которое бил солнечный луч, оставалось неподвижным, а глаза смотрели в одну точку… Женщина была слепа.
По паузе, вдруг наступившей в разговоре, она все поняла:
— Вы догадались, правда? Люди не сразу догадываются. Я после смерти мужа болела долго. Потом ослепла. Жаль, конечно, но что поделаешь. Молодости не вернешь… Меня хотели в обычный дом престарелых определить, а потом сжалились, и послали сюда, в элитный. Теперь вот от политиков прячут, чтобы слепая старуха им настроение не попортила. А я здесь уже освоилась, знаете. Сама хожу.
В коридоре раздались голоса. Моя собеседница вдруг прислушалась.
— Ну, пойду. Пора мне. Приятно было поговорить. Может, в Одессе увидимся.
И, развернувшись точно к двери, женщина той же шаркающей, тяжелой походкой пошла прочь.
После фуршета я тихонько поднялась в кабинет заведующей домом. Полная, симпатичная женщина принимала меня за столичную журналистку. Я спросила ее о слепой женщине.
— Вижу, вы уже познакомились с нашей Галиной. Ужасная история…
— Скажите, у нее действительно есть в Одессе дочь?
— Да, есть. Это правда.
— И они заберет ее отсюда?
Заведующая замолчала, потом, нахмурившись, тихо сказала:
— Знаете, что я вам скажу… Она ведь подарила свою квартиру дочери. Оформила на нее дарственную. Живет дочь в квартире мужа, свою сдает.
— Ну и что?
— Вы меня не понимаете?
— Нет.
— Она отказалась от матери. Почти официально оформила отказ. Я ведь ей звонила, как только Галина поступила сюда. Телефон она мне дала. Дочь послала меня матом, сказала, что Галина ей не мать и пусть она провалится к дьяволу, куда-то от нее подальше.
— Это невозможно!
— Возможно. Квартира Галины находится в центре Одессы, и дочь ее сдает. Берет 500 долларов в месяц. Как вы думаете, она откажется от 500 долларов в месяц, и заберет вместо этого слепую старуху-мать?
— Я не хочу вас слушать! Не хочу! — в ужасе я всплеснула руками.
— Милая девушка, если б вы знали, какие здесь проходят судьбы и что я вижу… Я давно уже разуверилась в людях! Хотите узнать всю правду о жизни — приходите в дом престарелых. А Галине ждет. Я ничего ей не рассказала, не смогла. За слепой ведь нужно ухаживать, они не сможет одна жить. Пойти на это — значит, совершить подвиг.
— Тысячи людей совершают этот подвиг каждый день!
— Это люди, у которых есть сердце.
— Но кто ее дочь? Бандитка? Проститутка? Ханыга?
— У ее дочери два высших образования — техническое и экономическое. Раньше она работала в банке, теперь работает в облгосадминистрации. Муж у нее работает в банке, а сын учится в престижном экономическом университете. Живут они в трехкомнатной квартире на Фонтане — в Одессе это очень престижный район. Муж ездит на джипе „Ниссан-патрол”. А квартиру Галины они сдают. Постоянно.
— Но ведь есть же законы против таких деток.
— Да, есть. Можно подать в суд, припугнуть. И отдать Галину ей. Но знаете, что она с ней сделает? Да попросту убьет! Могу спорить, что у нее Галина проживет не больше месяца! Я знаю это, уже видела… Рисковать так я не хочу. Пусть спокойно живет здесь. Это самое правильное, что я могу сделать.
— Дайте мне адрес квартиры Галины. Хочу сходить, посмотреть.
— Это бесполезно. Но смотрите, если хотите. И учтите: на смерть я Галину не отдам.
Я пообещала, что не буду писать статью и поднимать на ноги общественность, и ничего не сделаю из того, то могло бы повредить несчастной слепой.
Уже по дороге в Киев мне позвонил продюсер, сообщил, что с кинопроектом все затягивается, и я пока получаю свободное время. На следующий день я уехала в Одессу.
Был прекрасный, теплый воскресный день, когда я шла по улице дворянской в поисках бывшей квартиры Галины. Залитая солнцем Одесса была прекрасна, и я думала о том, какое счастье просто жить здесь…
Вскоре я вошла в старый одесский дворик, где гуляли кошки, висело белье и из окон переговаривались соседки. Квартира Галины была в двухэтажном флигеле, на втором этаже.
Это был общий коридор-веранда, куда выходили двери трех квартир. Дверь нужной мне квартиры была распахнута настежь. Толстая девица, крашенная под блондинку, одетая в старые мужские шорты и белый лифчик сомнительной чистоты, стояла в кухне, обложившись тремя тазиками, в которых пузырилась мыльная вода. Девица стирала. С ее узких губ свешивалась полузатушенная сигарета. Коридор был полон грязной воды, так как вода выплескивалась из тазиков прямо на пол (а дочь Галины заметно сэкономила на стиральной машине). В коридоре стоял тяжелый запах дешевого стирального порошка и несвежего белья. Девица стирала с таким видом, словно стирка представляла собой весь смысл ее жизни и являлась самым важным занятием на свете.
Из двери квартиры напротив (кстати, тоже открытой настежь) выглянула толстая соседка в бигуди, накрученных на черные волосы.
— Олечка, постираться решила? Вот умничка! Хозяюшка ты наша!
— Ага, я уже с утра стираюсь, — девица заговорила басом прожженной вокзальной проститутки, — стираюсь все время! Футболку он два дня одел — надо уже стирать. А потом пол в кухне буду мыть. А потом еще постираюсь. И пол в комнате мыть буду. А потом тряпку постираю и пол в коридоре помою.
— Ага, ага, а я тоже постираюсь, я вчера стиралась, а сегодня не постиралась… — закудахтала толстая соседка. Они явно находили общий язык.
В этот момент из — а жирной спины девицы выглянул обрюзгший парень лет 25-ти, с животом, как футбольный мяч. Увидев его, толстая соседка тут же ретировалась, захлопнув двери.
Парень закурил дешевую папиросу, хлопнул девицу по жирной спине и рявкнул:
— Жрать давай!
— Голову б теле проломить, ….! — лениво отозвалась девица.
— Шо, по морде заехать? Жрать давай, говорю!
— Да пошел ты, …….! Я тебе не жена!.. — услышав лексикон девицы, я удивленно распахнула глаза. Это было что-то свежее и новенькое…..
— Когда твоя мать из села приедет?
— К вечеру приедет, сумки привезет…
Дальше мне расхотелось слушать. Я вспомнила деликатные шаги за спиной, тихий голос «простите, пожалуйста», и вышла из коридора.
На обратном пути Дворянская улица в сердце Одессы показалась мне черной. В доме у реки умирала старая слепая женщина, чтобы толстая девица со своим сожителем могли стирать вволю, превращая старинный коридор в общий, так, как привыкли в своем родном селе. Двое хамов, облюбовавший чужой дом. Квартиранты, которые платят доллары.
Доллары. К вечеру следующего дня я поехала на Фонтан. Прошло совсем немного времени, когда к нужному мне дому подъехал черный джип. Из него вышла полная черноволосая женщина лет 40. На шее ее, в ушах, на жирных пальцах рук сверкало золото. Одета она была в дорогой брючный костюм белого цвета, который ужасно ей не шел. Сопровождал ее седой мужчина лет 50, в представительном черном костюме. Женщина что-то громко рассказывала своему спутнику визгливым голосом.
На ее расплывшемся лице было написано самодовольство — такое, какое бывает только у состоятельных людей. Женщина высоко держала голову и не смотрела по сторонам. Так они вошли в подъезд. Я видела их мельком, но достаточно для того, чтобы заметить: лоснящееся от сытости лицо женщины напомнило мне черты другого лица….
Потом я ехала домой по вечернему городу, стараясь не думать о том, что в доме у реки слепая старуха каждый день ждет того момента, когда приедет ее дочь, чтобы наконец-то забрать домой… Слепая женщина верила в то, что ее дочь приедет. Все это — лишь вопрос нескольких дней. Не может не приехать, потому, что она — ее мать.
Но у женщины, которая выходила из джипа, не было души так, как не было матери. В ее лице я видела черты совсем другого лица! В сытом равнодушии, в тупом довольстве и в этом нахальном, самодовольном безразличии я ясно видела лицо дьявола.
Я даже угадала одно из его современных имен. И, судя по всему, это имя шло ему больше всех остальных. Нового дьявола звали Доллар.
Через месяц я снова приехала в Киев. Неизвестно, зачем, поехала в дом у реки. Дом встретил меня все той же фасадной красотой, ухоженным садом, по которому некому было ходить, и холлом, откуда исчезли и политики, и журналисты. В доме была вся та же заведующая, и все было так же, как и всегда.
Прошел ровно месяц, как я снова вернулась в дом у реки. Галины в нем уже не было.
Алиби
Директора убили после 7 вечера. Точнее всего — с 7 до 10. Об этом авторитетно заявил программист Андрей, и тон у него при этом был настолько уверенный, что никто и не посмел возразить. К уверенному тону следовало добавить решительный вид — и ни один человек в офисе не сомневался в том, что всё так и есть. Давно, кстати, доказано: люди верят в любую глупость, есть произносить ее с умным видом. Итак, раз и навсегда было установлено, что директора убили с 7 до 10 часов вечера.
После этого в офисе началась паника. Срочно заперли на замок входные двери, дизайнеры оторвались от сетевой компьютерной игры, в инженерном отделе почему-то вырубились все компьютеры (как выяснилось впоследствии, кто-то просто выдернул шнур из розетки). В архитектурном отделе большинство сотрудников забегало между столов, заместитель директора уронила в кофе сигарету, а секретарша, растерянно хлопая ресницами, забилась в угол, в ужасе закрывая ладонями лицо (и при этом стараясь все-таки не сломать ногти).
Словом, паника была такой, что если б в данную минуту все усилия сотрудников были направлены на работу, а именно — на проект дома, то этот дом рухнул бы ровно через 5 минут, за компанию прихватив с собой ровно половину квартала. Хаос продолжался до тех пор, пока замдиректора (дама, не теряющая хладнокровия в любых обстоятельствах), не выбросила в мусорную корзину пепельницу, а окурки аккуратно сложила на столе. После этого, хлопнув ладонью по компьютеру, она заявила:
— Хватит! Тут думать надо, что теперь делать! И думать поскорее. Прежде всего предлагаю оставить в приемной только руководящий состав, а все остальные отправляются по своим рабочим местам. И тихо там! А не то…
Разочарованные сотрудники разбрелись по комнатам, вполголоса обсуждая происшедшее. В комнате остались только главный бухгалтер со своими двумя помощниками, офис-менеджер, программист Андрей, главная архитекторша и инженер, замещающий начальника отдела (начальнику инженерного отдела повезло больше всех — он оказался в отпуске). Да в углу по-прежнему всхлипывала секретарша.
— Что будем делать? Прежде всего предлагаю начальника охраны…
— Уволить! — услужливо подсказал инженер — с главным охранником у него были свои счеты: тот регулярно оставлял машину на его месте на стоянке.
— Неплохая мысль! — начальственная дама кивнула головой, — он давно уже не справляется со своими обязанностями. И вообще мне не нравится.
— А в прошлом месяце директор ему зарплату повысил! — желчно заметила архитекторша.
— Значит, решено. Увольняем. Это первое. Что дальше? Дальше, собственно, считаю своим догом официально заявить, что все функции директора беру на себя. Значит, сегодня же к вечеру я перебираюсь в его кабинет. Подготовьте новую табличку на дверь! — властно приказала секретарше. Та прекратила плакать и кивнула. Приказ моментально вернул ее в рабочее состояние.
— Надо бы в милицию заявить… — робко попытался второй бухгалтер.
— А вы, собственно, у нас кто? — новая начальница повернулась к нему, — второй бухгалтер, если не ошибаюсь? Разве в вашей компетенции давать советы руководству? Значит, еще раз перечитайте свой контракт и особенно место о своих служебных обязанностях. Думаю, после этого вы не будете соваться со своими замечаниями, куда не просят!
— А он прав… — попытался инженер.
— В милицию звонить нельзя! Это полностью исключено! Вы что, действительно ничего не понимаете?
— Нет, но…. А что, собственно…
— Она имеет в виду, что каждый из нас мог грохнуть директора, а затем вытащить труп через служебную дверь, — вмешался в разговор программист. Будучи личностью, наделенной особыми правами, он мог говорить всё, так как занимал в фирме исключительное положение.
— Вот у вас, к примеру, есть алиби? — авторитетно заявил программист, — где вы были с 7 до 10 вечера?
— Позвольте, позвольте! — лицо инженера пошло красными пятнами, — что вы себе позволяете? Как вы смеете? Какие основания у меня желать смерти нашему глубокоуважаемому директору? Да я никогда…
— А кто смету в три раза превысил, чтобы уехать отдыхать в Египет? А кто хотел стать начальником отдела? Обидно-то как — интриговал, интриговал, а директор взял да и назначил другого! А теперь, раз директора нет, вы сами можете стать начальником. Недаром вы сына нашего нового директора каждое утро в школу подвозите!
— Да как вы смеете! Это черт знает что! Я буду жаловаться! — руки инженера затряслись, — Вы не имеете права! Действительно, мой сын учится в одном классе с сыном Анны Львовны, но это не дает вам оснований…
— Успокойтесь, Геннадий Павлович! Я сама! — Анна Львовна покровительственно похлопала инженера по плечу, — За вашу выходку вы можете и ответить! Вы ведете себя просто отвратительно! Сейчас все мы должны сплотиться перед лицом опасности, поддержать друг друга, а не осыпать нелепыми и бессмысленными оскорблениями…
— А сам-то, между прочим, на нашем компьютере программы для конкурентов составляет! — высунулся из-за плеча Анны Львовны инженер, — и две тысячи долларов из фонда украл! Я и доказать могу!
— Да я тебя… — программист, сжав кулаки, двинулся было на голос инженера, но тут же был остановлен железной рукой новой начальницы.
— Я сказала, хватит! Прекратили немедленно оба! В милицию, конечно, мы пока звонить не будем. Предлагаю позвонить его жене.
— Ни за что! — распрямив плечи, секретарша решительно двинулась на середину комнаты, — ну, уж ей-то я не буду звонить! Мало того, что она хамит по телефону, так еще…
— А может, это ты сама директора грохнула за то, что он на тебе жениться не захотел? — архитекторша ехидно стрельнула глазками в секретаршу, — и разговоры его ты на пленку записывала! Интересненько, зачем?
— Ах, ты! Да я!… Да ты!.. — секретарша, взвизгнув, едва не вцепилась в волосы архитекторши, — ну, теперь я все скажу! Кто интриговал, пытаясь пристроить в охрану своего племянника? А кто директора по ресторанам возил, пытаясь выбить трехкомнатную квартиру в одном из объектов? А как ты начальницей отдела стала? Никто не знает, так я расскажу! Связалась с одним депутатом, тот директору позвонил и пригрозил! А какая ты начальница? Дура безмозглая!
— Ну, все! Я тоже молчать не буду! Кто вчера в офисе допоздна сидел? Кто оставался здесь до 11 ночи, а? Я уже выяснила у охранника!
— Да, действительно! — начальница обернулась к секретарше, — вы были в офисе допоздна! Зачем?
— Я директора ждала! — взвизгнула секретарша, отступая назад, — Что вы все на меня смотрите? Не знаю я ничего!
Видя, что окружающие настроены решительно, она прижалась к стене и зарыдала:
— Между прочим, я первая тревогу подняла! А никто из вас и слушать меня не захотел!
Тут все, как по команде, вспомнили нынешнее утро, когда секретарша вдруг выскочила из директорского кабинета и заявила, что директор исчез в неизвестном направлении, а лампа на стене продолжает гореть, хотя уже утро, и на письменном столе — кровь.
Тогда это сообщение не вызвало никакого ажиотажа. Так как дверь в кабинет директора была открыта, несколько человек (в том числе зам. директора Анна Львовна и программист Андрей) вошли в кабинет и увидели все то, что описывала секретарша, и даже больше того…
Свет горел. На письменном столе была большая лужа засохшей крови. На полу валялся разбитый стакан, кресло возле стола было перевернуто так, словно в комнате происходила борьба, а окно было распахнуто настежь (несмотря на зиму). И на подоконнике была размазана кровь. Директора в кабинете не было. Все выглядело странно.
Был допрошен охранник, который показал, что директор утром на работу не явился, а вечером с работы не уходил. Вечером директор находился в своем кабинете. Кроме него, в офисе оставалась секретарша, которая ушла в 11 часов, потушив везде свет. Охранник решил, что директор будет работать в кабинете до утра, как уже бывало не раз.
Была допрошена секретарша. Она показала, что в 7 вечера директор попросил ее подождать, пока он поговорит по телефону. Прождала она до 11 ночи, директор ее так и не позвал. Дверь его кабинета была заперта изнутри на ключ. К нему никто не приходил, и он сам не выходил. Городским телефоном не пользовался — очевидно, звонил с мобильного. Больше она ничего не знает.
Именно тогда, окинув взглядом кабинет, программист Андрей заявил, что директор был убит.
— Точно, убит. Другого и быть не может. У таких людей много врагов. Заказали конкуренты. Убили, а труп вытащили в окно.
После этого он заявил, что директор, скорей всего, был убит с 7 до 10 вечера. Почему до 10, а не до 11, никто и не спросил. Просто поверили на слово — вот и все.
Вздохнув, Анна Львовна обвела глазами собравшихся.
— Придется позвонить жене. Я сама позвоню.
Но разговор с женой ничего не дал. Заявив, что ее муж находится на работе, а она сама — в спа-салоне и оттого у нее нет времени на пустые разговоры, жена потребовала оставить ее в покое и швырнула трубку.
— А знаете, что я вам скажу… — секретарша заявила тоном настоящей заговорщицы, — у нее есть любовник, и мужа наверняка убила она.
— Вообщем, ясно. Нам всем нужно только одно! Нам нужно алиби.
— Ну, вот еще! — программист покачал головой. — меня тут вечером и близко не было!
— А речь не о вечере. Речь о том, что… Вообщем, единственный шанс, что нас оставят в покое и не будут копаться в делах компании, это делать вид, что директора убили не в кабинете, не на работе. У нас у всех тут рыльце в пушку! Между прочим, каждому не выгодно, чтобы его деятельность тут расследовали! Все мы хороши! Вы представляете, под какой удар мы попадем, если здесь появятся незнакомые люди? Нужно сделать так, чтобы никто не заподозрил, что убийство произошло именно в кабинете! Это и будет наше алиби!
— А я вот что скажу… — доверительным тоном призналась главный бухгалтер, — я убийств и милиции боюсь, как огня! У нас в доме как-то произошло убийство, так все квартиры переворошили! Люди пожалели, что на свет родились! Волком на белый свет взвыли!
— Точно-точно! — подтвердила архитекторша, — мой… мне рассказывали, что достанут так — мало не покажется! Всем тут достанется, без разбору!
— В принципе, правильно. Пусть считают, что убили его дома, на бытовой почве, — заявил инженер, — нам тут неприятности ни к чему. Надо компанию оградить. Нам же потом спасибо скажут!
— Все это, конечно, верно, — впервые подал голос офис-менеджер, очень ученый молодой человек, — но у вас ничего не выйдет! Знаете, какие сейчас экспертизы? Весь кабинет просветят ультрафиолетом! Отпечатки пальцев, анализ пыли, микрочастицы с одежды, кровь на ДНК… Они все равно выяснят!
— А мы… Мы можем сказать, что в кабинете ремонт! — с надеждой подала голос секретарша.
— А что, замечательная мысль! Ремонт со вчерашнего дня, должны прийти рабочие…. Только вот как все это сделать? — вздохнула Анна Львовна.
— Как, как… привести кабинет в такой вид, чтобы ни одна экспертиза ничего не нашла! — вдруг громко и авторитетно заявил программист.
— Так, понятно, — Анна Львовна кивнула, — народ, за дело! Сделаем все сами, и прямо сейчас!
После этого в кабинете директора разгорелась бурная деятельность. Письменный стол засыпали порошком для чистки унитаза и перевернули ножками вверх. Ковер скатали в угол, со стен отодрали обои, сняли светильники, закрыли шкафы полиэтиленом. Инженер с программистом, увлекшись, для чего-то облили все подоконники дихлофосом, а два вторых бухгалтера вынули оконные рамы.
Меньше, чем через час, кабинет был приведен в такой вид, словно в нем проводился целый ряд ядерных взрывов. В нем было уничтожено и разломано абсолютно все, что только можно было разобрать и сломать.
Покрытые пылью, грязные, но глубоко удовлетворенные сотрудники завершали «последнюю стадию» ремонта — выламывали из пола дубовый паркет, когда…
Когда в приемной вдруг раздался знакомый до боли голос, громовые раскаты которого раздавались так часто….
— Эй, народ! Куда все подевались? Анна Львовна, выйди на минутку! Представляешь, все утро на рыбалке был! Мне вечером друг позвонил, он из Америки приехал, ну, и по старой памяти решили махнуть! На морозец, к проруби… красота! Только вот незадача, я руку стаканом порезал и потерял ключ… В окно пришлось вылезать! Слава Богу, первый этаж…Эй, да где вы все?
Дубовый паркет выпал из рук сотрудников, когда распахнулась дверь директорского кабинета….
Вечером, в конце рабочего дня, инженер, разжалованный из заместителей в рядовые сотрудники, шел к стоянке, весь потный и злой….
— Все понятно, все ясно… — бормотал он себе под нос, — но дверь кто открыл? Кто утром-то дверь открыл?
Тут, увидев на своем месте машину начальника охраны, он остановился и с чувством прошипел:
— Ну конечно, он дверь открыл! Кто ж еще! У, фашист! Твоих рук дело!
Ангел
Все было плохо! Ворвавшись в квартиру как вихрь, она швырнула туфли изо всех сил (ни в чем не виновные шпильки приземлились почему-то на середине комнаты), и принялась бегать по всей квартире, не зная, чего бы разбить. Потом заплакала.
Так, плача, она рухнула в кресло, не спуская глаз с запертого буфета. Не заглядывать туда, не приближаться, не смотреть. Еще совсем недавно она дала себе этот зарок! Но ведь это было до того, как… И, продолжая твердить про себя, как пиявка из детского мультфильма («все плохо, плохо, плохо…»), махнула на все рукой, вытащила из кармашка маленький ключик, и…
Две рюмки почти раскаленного коньяка пролились прямиком в горло. От спиртного она моментально расслабилась, спасительное тепло разлилось по всему телу, и, прекратив плакать, она устроилась поудобней в мягком и близком кресле, поджав под себя гудящие от усталости ноги.
И вдруг — вздрогнула. Да что там вздрогнула — задрожала всем телом от пристального взгляда дымчато-серых, неподвижных, а, главное, неизвестно откуда взявшихся в комнате чужих глаз. Уставившихся прямиком на нее, как два неподвижных, но точно нацеленных смертоносных дула. И это в комнате, в которой (она знала точно), никого, кроме нее, нет!
Зажмурившись, она затрясла головой (точь в точь как столетняя старуха), пытаясь прогнать наваждение. Но не тут-то было! А, раскрыв глаза, увидела и причину беспокойства: на столике рядом с телевизором сидел хилый, невзрачного вида мужичок совершенно неопределенного возраста, с топорщившимися во все стороны, абсолютно неестественными усами. Ну просто обалденными усищами, если честно сказать!
— Так-так, — сказало странное существо, укоризненно мотая головой, — коньячок, значит, в одиночку потягиваем. Хорошо, ничего не скажешь.
От какого-то дикого спазма в животе вдруг свело, разом ликвидировало весь воздух, и, хватая кислород ртом, как рыба, выброшенная на поверхность пустынного пляжа, она застыла в этом дурацком кресле, пытаясь связать хоть какие-то слова. Но слова почему-то не связывались. Не до того было.
— Так-так… — продолжало существо, уставившись прямиком на нее неподвижной серостью своих странно прозрачных глаз, — а коньячок в одиночку к чему приводит, мы знаем? А хорошо нарушать свои обещания, когда сама же заперла буфет? Так как теперь будем?
Первый спазм прошел, и все еще хватая воздух, она выдавила из себя нечто вроде:
— Что же это… Как же это… Господи…
— Господи тут совсем не при чем! — строго сказало существо, — неужели я бы сюда пришел без его ведома? Как ты думаешь? Тут в теле дело! И дело, как я вижу, серьезное. Будем спасать.
«Белая горячка… Белая горячка… Допилась до чертиков…» — вихрем пронеслось в голове, так, как когда-то крутились старинные патефонные пластинки, — «что же теперь делать? Что теперь будет…».
— А ничего не будет! — вслух сказало существо, поудобнее устраиваясь на столике рядом с открытым буфетом.
— Да кто ты такой? — выдохнула она, — призрак или домовой?
— Вот еще! — обиделось существо, — мало того, что встречают меня с такой паникой, так еще и обидеть норовят при первом же обидном случае!
— Тогда кто? — совсем растерялась она, не понимая, что происходит, и как, по чьей такой милости провалилось она в такую вот временную дыру.
— Я — ангел! — с пафосом произнесло существо, — твой ангел-хранитель, если с первого раза не доходит!
Над ее рассудком, напряженным до предела и оттого уже начавшем давать серьезный сбой, коньяк взял верх, и она вполне серьезно расхохоталась, твердо уверенная в том, что все это происходит с ней не на самом деле.
— Какой еще ангел? — хохотала она, — откуда ты тут взялся?
— И ничего смешного в этом нет! — снова обиделось существо, — истеричка какая попалась! Ангел я потому, что к тебе, дуре пьяной, приставлен, потому, что положение твое весьма серьезное. Вот тебя и надо охранять! А видишь ты меня потому, что, во-первых, допилась ты до чертиков, как сама думаешь, а во-вторых, потому, что сама не понимаешь, на каком ты свете. Дурь у тебя в башке несусветная, вот ты меня и видишь!
— Нет у меня никаких ангелов! — тоже рассердившись, зло отрезала она, — нет и никогда не было! Откуда им взяться? Вот ты, например, весь такой умный, откуда ты взялся? Белая горячка — и есть белая горячка. И ничего больше!
— К белой горячке черти, между прочим, приставлены, — едко сказало существо, — черти — это совсем другая парафия! А раз я тебе сказал, что я ангел, значит — ангел, и точка!
— Откуда ты на мою голову взялся, ангел? — снова расхохоталась она, — я ни с какими ангелами сроду дела не имела!
— Верю, что не имела, — кивнуло существо, — оттого и натворила в своей жизни такое количество глупостей. Но теперь все изменилось! Теперь у тебя появился я.
— А откуда ты появился? И почему у меня?
— Ладно, скажу, раз ты так ничего и не поняла. Ну посмотри на меня хорошенько — может, узнаешь?
— Нет, не узнаю, — несколько минут она пристально смотрела на странное существо, но память, и без того затуманенная коньяком, не подарила ей никаких подсказок, — нет, не узнаю. С роду тебя не видела.
— Вот дура баба! — снова рассердилось существо, — ну дура же ты набитая! Да, собственно, что с тебя взять. Была бы поумней — мы бы сейчас здесь с тобой не беседовали.
— Знаешь, что, ангел? Я тебя сюда не звала! Так что проваливай подобру-поздорову! Мне и так не до того, чтобы всяких слушать… Тем более, что я прекрасно понимаю: нет тебя, просто не существует! Ты всего лишь мой пьяный бред!
— Сама ты пьяный бред, дурра набитая! Ладно, и так вижу, что сама, без подсказки, ничего не поймешь. Перейдем вроде как к делу. Помнишь, как два месяца назад ты подобрала на лестничной клетке кота? Замерзающего в мороз, полудохлого такого котенка? Ты отпоила его горячим молоком, оставила у себя, выходила…
— Ну и что?
— А помнишь, потом кот издох? Ты еще похоронила его в парке, и плакала долго…
— Помню, конечно — и что с того?
— Кот этот — я. После смерти я стал твоим ангелом-хранителем.
— Как это?
— А вот так. После смерти все животные попадают в рай, потому, что души у них чистые, и они не успевают нагадить при жизни так, как вы, люди. И каждое умершее животное после своей смерти становится чьим-то ангелом — хранителем. Охраняет того человека, которого полюбило при жизни. Так вот: твоим ангелом-хранителем назначен я.
— Чур меня! — она замахала руками, как ветряная мельница, неумело пытаясь перекреститься, — это ж надо допиться до такого! В жизни больше к коньяку не притронусь!
— Ну, пока ты еще ни до чего ни допилась. Но допьешься, если сделаешь то, что задумала.
— В каком смысле? — хмель слетел с нее, как будто его унес бурный ветер, и внезапно наступившая трезвость проявила себя тревожным холодом внизу живота — холодом, не предвещавшем ничего хорошего.
— В прямом! Ты кому это, дурра набитая, собралась звонить? Вот кому ты собралась звонить, когда как психопатка ворвалась сюда, в комнату, и налилась коньяком по самые уши?
— Я? Да, собралась. Тебе-то что?
— Отвечай, когда тебя ангел спрашивает! — неожиданно грозно рявкнуло существо, — ты кому, спрашиваю, звонить собралась? И учти: ситуация твоя очень серьезная! Иначе ангелы людям не появляются! Вопрос у тебя стоит жизни и смерти. Так кому — звонить?
— Ну… бывшему мужу.
— А зачем?
— Помириться. Я его выгнала.
— Почему?
— Не знаю. Это было какое-то озарение странное… Проснулась вдруг среди ночи потому, что зазвучал его телефон. Я телефон его машинально в руки взяла. А там смс-ка от другой женщины. Такая откровенная… Словом, такого содержания… Что я взяла его и выгнала. Я не знаю, почему я так сделала. Как-то необъяснимо для меня самой получилось. Я вообще не ревнивая, и терпеть умею. Не могу это объяснить.
— Я могу. Выгнала ты его потому, что это я подсказал. Это я тебе велел, буквально толкал его — твоими же руками. Но это было давно. А теперь ты хочешь его вернуть. Почему?
— Ну… Он звонил несколько раз. Я так поняла, что он хочет ко мне вернуться. И я вдруг подумала: а вдруг я была не права? Вдруг там ничего такого и не было, в этой смс-ке? B… словом, решила ему позвонить.
— А почему именно сегодня? Что произошло именно сегодня?
— Тебе все рассказать?
— Именно! Помни: мы обсуждаем твою серьезную ситуацию. А с кем можно обсудить ее лучше, чем с ангелом-хранителем?
— И в самом деле… Мне давно уже хотелось с кем-то поговорить. Лучше уж с тобой, кем бы ты ни был… Ну, словом, я встречалась с другим мужчиной… Некоторое время. И он был намного хуже моего бывшего мужа. С каждым разом все хуже… А потом… То есть сегодня…Я узнала, что он безбожно мне лгал, и у него есть семья. И я… словом, он меня просто использовал. Я открыла это совершенно случайно.
— Ну случайно. Я тебе подсказал.
— Да? А вообще — какая разница! И я подумала: может, дать ему еще один шанс, может, это я была не права. В разрыве отношений всегда виноваты двое. И я подумала — может, я исправлю то, в чем была виновата, я… лучше все-таки он, чем никого.
— А хочешь, я открою тебе небольшую истину? Ты никогда не слышала о том, что бывают такие отношения, в которых виноват может быть кто-то один?
— Что?
— То, что ты слышала! В жизни не всегда бывают виноваты оба! Иногда бывают ситуации, когда виноват кто-то один, а именно тот, кто начинает свои отношения со лжи. И совсем не виноват тот, кто привязывается, влюбляется, а потому ничего не подозревает и позволяет себя использовать.
— Чушь собачья!
— Разве? А отчего умер твой кот?
— Что?
— Прекрати чтокать! От чего я умер? Ты ведь взяла меня к себе в дом, лечила, кормила, ухаживала, даже делала уколы. И я поправился, был здоровый, гладкий. Помнишь, какая у меня была шерсть? Так от чего же я умер?
— Я… не знаю.
— Не знаешь? Так я тебе подскажу! Я умер потому, что твой муж, твой бывший муж, за которым ты так жалеешь, попробовал на мне яд, который приготовил для тебя. Он просто подбирал необходимую для тебя дозировку.
— Да ты… Да я… — она вскочила на ноги так резко, что кресло едва не свалилось на пол, — ах ты черт поганый, белая горячка! Да пошел ты отсюда знаешь куда? В жизни больше никогда не буду пить коньяк! Все, с меня хватит!
— Насчет коньяка — это правильно. А оскорбление мерзкое и притом не заслуженное. Твой муж меня отравил. И я могу это доказать. Помнишь, ты через месяц сильно болела, у тебя были ужасные боли в животе, и ты никак не могла объяснить их причину? Ни один врач не смог. Ты ведь обследовалась в больнице. Так вот: он не правильно рассчитал дозировку, поэтому ты только заболела, а не умерла. А теперь он звонил потому, что все рассчитал точно. Его девушка помогла.
— Какая девушка?
— С которой он жил до того, как сошелся с тобой. И с которой он продолжал жить все то время, пока был твоим мужем. Это ее смс-ку ты прочитала по ошибке. Она фармацевт, работает в аптеке. Она и придумала давать тебе яд. И его приготовила.
— Но зачем? Почему? Для чего он хотел меня отравить?
— У тебя сколько комнат? Четыре. А в каком городе ты живешь, в каком районе? А ты знаешь, сколько стоит твоя квартира? Квартира, между прочим, в которой прописана и живешь ты одна. И на тебя одну эту квартира приватизирована. А откуда приехал твой муж? Из деревни. И сразу, с ходу, женился на дочке покойного профессора, получившего еще в советское время огромную квартиру в самом центре большого города. И ты, дура набитая, еще что-то спрашиваешь?
— Это неправда! НЕПРАВДА! — она села прямо на пол — потому, что пол начал уходить прямо из-под ее ног, и так, наивно, она пыталась его удержать, — это неправда!
— Тогда почему, как ты думаешь, он все это время тебе звонил?
— Он скучал. Тосковал. Он за мной соскучился! Он сам говорил раньше, что не может без меня жить.
— Неужели? Тогда, как ты думаешь, зачем я здесь?
— Тебя вообще нет! Ты просто плод моего воображения.
— Тогда так. Завтра едешь с утра на метро на станцию Парк Победы. Выходишь на шоссе, и идешь по правой стороне. Через некоторое расстояние ты без труда отыщешь аптеку. В саму аптеку не заходи, а затаись где-то поблизости. Ровно в полдень ты увидишь кое-что интересное. Да, и не забудь свой телефон на вибрацию поставить, когда будешь следить.
— Я не понимаю…
— И ради Бога, до завтрашнего дня не вздумай никому звонить! Иначе тебе не поможет никакой ангел-хранитель. И помни: веди себя тихо, никак не выдавай свое присутствие. Все сама увидишь.
Зажмурившись, она изо всех сил затрясла головой. А когда раскрыла глаза, на столике уже никого не было. На следующее утро шел дождь. И несмотря на нудный осенний дождь, она без труда спряталась за углом жилого дома, откуда хорошо просматривались двери аптеки.
Ровно без пяти минут двенадцать появился ее муж. Он был весел, уверен в себе и выглядел так хорошо, что у нее защемило сердце. При виде его обтянутых кожаной курткой, красивых широких плеч у нее судорогой сжало горло, и затрусились колени. Так бывало почти всегда, стоило даже в отдалении заметить похожую на него мужскую фигуру. Иногда она принимала за него совершенно не похожих людей. И всегда у нее щипало в глазах, и сводило горло.
Но в этот раз действительно был он. Остановившись возле аптеки, он достало айфон, который она подарила ему на день рождения, и набрал номер. Девиц а появилась через 5 минут: молодая, красивая, худощавая, ярко-красные рыжие волосы. Они обменялись смачным эротическим поцелуем, и девица протянула ему какой-то пузырек. После этого девица быстро скрылась в дверях аптеки. Когда муж отошел от аптеки где-то на квартал, завибрировал ее мобильник. Послушавшись ангела, она предусмотрительно отключила звук. Потом, через время, пришла смс-ка: «давай обязательно встретимся сегодня».
Она заплакала. С глазами, опухшими от слез, она положила несколько веточек чахлой зелени на место в парке под большим камнем — известную только ей могилу. Плача, она поцеловала веточки («спасибо, спасибо!»), и так ушла прочь.
Жалкий тощий котенок, тощий от голода и смертельно замерзший, бросился ей под ноги, едва она приблизилась к подъезду. В подъезд, оснащенный самым современным домофоном, он никак не мог попасть, даже ради крохотного кусочка тепла. Она подхватила его на руки, прижала к себе и понесла домой, в квартиру. Открывая ключом дверь, пропустила котенка вперед:
— Ангел, заходи!
Камасутра
Серебристый, длинный, холодный. Издали похож на презерватив. Или на сигареты, которые я когда-то курила. До того, как стала красивой.
Дорогой, холодный, достойный. Новый, суперсовременный поезд «Хюндай» сообщением Киев-Донецк, который через три часа привезет меня в рай.
Когда-то я не ездила на таких поездах. Когда-то их не было даже в фантастических романах. Когда-то в сумке у меня не лежал ноутбук, я курила сигареты и носила дешевые джинсы. Волосы мои были подстрижены коротко и окрашены в черный цвет, а душа моя была как небо светла. Светла как ясный солнечный день, поражающий надеждой и небесной ляпис-лазурью.
Теперь мои волосы светлы и длинны, а душа темна, как арктическая полночь. Я давно не помню, что такое солнечный свет, зато прекрасно знаю, что такое знойная страсть, превращающая душу в горсточку раскаленного пепла. Я знаю, как кричат в экстазе от самых сладостных в мире мук — мук темной бездны обжигающей кислотой страсти, когда прикосновения словно заживо сдирают твою кожу, а все тело наполняет вязкая сладостная глубина.
Светлы мои волосы, темна моя душа, холоден поезд, который привезет меня к цели. К сексу. К исступлению. К забвению. К животной страсти. К тайне. К любовнику.
Мороз, наверное, минус десять, и не перроне — совсем не много людей. Обжигающие снежинки падают на запотевшее стекло, оставляя расплывчатые разводы. Люди не любят ездить зимой. Зимой хочется прибиться поближе к человеческому теплу и затаиться в нем до весны. Зимой никто не любит дорогу.
Но в моем случае дорога — это тепло. В Киеве минус 10, я сажусь в скоростной поезд, и от жара, сокрытого в глубинах меня, начинает полыхать все тело, увлажняя руки и лицо раскаленным июльским потом. В Киеве минус 10, я сажусь в скоростной поезд и себя уже не помню от этой невыносимой жары.
В уютном вагоне тепло. Людей мало. Все пассажиры — молодые люди с самыми современными средствами связи. Исключительно деловой мир. Эти люди готовы к жизни, они будут драться за жизнь, и, щелкая крышкой сверхскоростного ноутбука, они станут думать, что вот так, с легкостью, покорят мир. Может быть. Может быть, именно для них придуман скоростной поезд. Их в конце этой скорости ждет карьерный рост и деньги. Меня — секс.
Я опускаюсь в мягкое кресло, снимаю шубу, даю себе клятву за все время пути не раскрывать ноутбук, и прижимаюсь раскаленным лбом к оконному стеклу. В сумерках снежинки ускорили свой танец. Начинается вьюга. Это настоящий белый вальс…. Свадебный? Какая глупость! Свадьбы никогда не будет, как не будет и вальса. Поцелуев, скорей всего, тоже. Останется только секс.
Начинается вьюга, но в ней нет никакого значения! Что такое вьюга по сравнению с тем, что у меня внутри?
Скоростной поезд — это несколько часов. Несколько часов — это миллиард незабываемых минут наедине с тем, кого я как занозу (или заразу) вот уже столько времени ношу в своем сердце. Заноза (или зараза) ноет постоянно. А для встреч есть всего лишь несколько часов, меньше суток. Надо экономить время. Бешено экономить время, или спокойно ждать, когда в этом вихре скорости оно дотла сожжет меня.
Несколько часов, вырванных у судьбы в дорогом донецком отеле. Я мчусь из Киева, мой любовник — из Нью-Йорка, с заездом в Новосибирск. Расстояния, которые преодолевает он, ничто по сравнению с крошечными моими расстояниями. Мои дороги — всего лишь маленькие морщинки. Его — глубокие борозды, в потаенных глубинах лица. Он с легкостью перемещается по всему миру, прилетая к местам назначения из этих точек. И где-то на пути пересечения всех этих точек нахожусь я.
Мы пытаемся сохранить наши отношения в тайне. Но, пожалуй, единственные в мире, кто свято верит в то, что наши отношения содержатся в глубокой тайне — это он и я. Все остальные поняли давным-давно, и над попытками сохранить приличия хихикают все мировые горничные — от пятизвездочной роскоши до самых захудалых гостиниц. Все смеются. Только мы не смеемся. Почему? Этого я не знаю и сама.
О каких приличиях может идти речь, если рай составляет всего лишь несколько рванных часов с полуночи до утра? По сравнению с тем, что происходит в эти несколько часов за закрытыми дверями отелей, меркнет вся знаменитая Камасутра. А может быть, когда-то я перепишу ее сама. Это будет исключительно пособие для тех, кто хочет пережить всю полноту самого обалденного секса за пять часов, в промежутке следования от Мадрида до Владивостока, ли из Нью-Йорка до Средней Азии, с заездм в какую-то забытую Богом точку, где можно находиться (согласованием всех графиков) исключительно с полуночи до пяти утра.
Решено: по дороге в Донецк на скорости (какая там обещана корейцами скорость?) я буду сочинять Камасутру. Мою собственную. Пожалуй, начну.
Поза номер один: ожидание сна. Я жду не тот сон, который мертвым грузом придавит к подушке, а тот, в котором поезд (или самолет, или автобус, или такси, или паром, или корабль — все, на чем я переездила ради своего секса) оторвется, наконец, от земли, и, закрыв глаза, я во всей реальности представлю на своем теле жесткие руки моего любовника… И от воскрешения всего этого в памяти температура моя подскочит до сорока.
Я прикрываю глаза — мир начинает уходить. Раздается предательский скрип — оторвавшись от перрона, поезд скоро начнет развивать скорость. И сколько бы километров в час он не набрал (путь даже перещеголяет самолет), эта скорость все равно для меня слишком мала.
Кстати, я ведь забыла спросить, какие дела у него в Донецке, почему туда срочно понадобилось лететь из Нью-Йорка? Впрочем, в Донецке он задержится не надолго. После Донецка его ждут Санкт-Петербург и Москва.
Поезд набирает скорость. Звук совсем не похож на стандартное «клацанье» поездов. Звук вибрирует, нарастая в какую-то не слышанную прежде симфонию, хотя личная моя Камасутра включает целый миллион поездов. Он словно прорезывает воздух, вдруг ставший чересчур плотным. И от этого немного звенит в ушах. Мне не привыкать к скорости. В настоящей Камасутре нет фактора времени. В моей — есть.
Поза номер два: резкое отключение мобильника и отбрасывание вещей. Лучший звук — тишина. Лучшая одежда — кожа. Десять минут без мобильника — по сравнению с этой роскошью меркнут все сокровища индийский раджей. Помнится, в какой-то стране мира на могиле умершего мужчины поставили памятник в виде мобильного телефона. Спорю на что угодно: так же похоронят и моего любовника. Мобильник является продолжением его пальцев. Иногда мне кажется, что он и родился с ним.
А что? Вот так и встает неприличная картинка прямо перед глазами! Вот так и вылазит мой любовник на белый свет из той части мамы, которая так широко и разносторонне используется в Камасутре (и в настоящей, и в скоростной, мое), а в маленькой его ручонке поблескивает прямоугольник дорогого эйпплского айфона, и в перемешку с «уа-уа» так и сыпятся акции, облигации, проценты, графики, трафики, встречи, согласования, и прочая ерунда….
В любом случае, его так и похоронят, наверное, с телефоном от Стива Джобса. Однажды я попыталась послать ему в подарок яблоко (самое обыкновенное, живое). Но он так и не понял, почему.
Что касается одежды, то тут проблем меньше. От нее избавиться проще, чем от мобильного телефона. Я почему-то лучше всего запомнила мысль, которая мелькнула в моей голове перед самым первым с ним сексом: если он сначала снимет одежду, а потом оставит на столе мобильник, я когда-то его убью. Если он избавится от мобильника, а потом станет снимать одежду — я буду любить его всю жизнь, до своей смерти.
Он отключил мобильник, отбросив его куда-то далеко от себя. Потом снял одежду. И тогда я поняла, что мне его не убить. Наверное, никогда.
Поза номер три: попытаться воскресить в памяти сладкий пряный запах его тела…. Запах, вызывающий самые невероятные ассоциации — с поездом, с дождем, с самолетом, идущим на посадку, со слезами, пролитыми под утро в подушку, с моим мобильником, который должен был зазвонить, но почему-то не зазвонил… Сколько же их было, таких безудержных ассоциаций, действующий в одно время суток как самый лучший, очищенный кокаин, а в другое — как укол галоперидола? Самое интересное всегда было заключено в том, что одна и та же мысль, одно и то же воспоминание, одна и та же поза в сексе заставляла меня то рыдать от ненависти, то возноситься на заоблачные высоты от счастья. Я так и не разобралась в том, люблю или ненавижу моего любовника. Наверное, люблю до ненависти. Или бешено ненавижу до любви.
В любом случае, я готова мчаться с самой ненормальной скоростью и в мороз — 10, и в 40 градусов жары, только ради того, чтобы за закрытыми наглухо дверями чужой и даже враждебной гостиницы пережить все восторги мира и все болезненные мировые потери с трех ночи до 8–9 утра.
Умереть в его теле. Родиться в его теле. Исследовать каждую клетку. Никогда не узнать каждую мысль. Оплакать счастье и посмеяться над потерей, прикасаясь к жесткой мужской коже, не зная, мы расстаемся на месяц или же на всю жизнь.
Я закрыла глаза, погружаясь в сладостный сон воспоминаний. Я не знала, сколько он будет длиться — может быть, пять минут, может быть, год. Поезд мчался все быстрей и быстрее. За окном тянулась долгая полоса белоснежных полей.
Я вспоминала его тело, в тот момент, когда он скидывает одежду. Силу его рук и жесткое, расчетливое выражение глаз. В чем была истина, приковавшая меня к этому человеку? Позы номер три было бы недостаточно, чтобы ее объяснить. Впрочем, в воспоминаниях есть только один мир, и он гораздо важнее реальности. То, что было — это уже все. Оно останется неизменным. Настоящего и будущего не существует. Все это не стоит ничего.
Память обнажала самые откровенные ласки. Наверное, секс — не совсем слияние тел? Я тонула в пряном запахе его тела… Резкий, болезненный удар в спину прервал уже пережитый оргазм. И, падая куда-то в сторону, и больно стукнувшись подбородком, я была жестоко вышвырнута из своего эротического сна.
После секса (даже в мыслях) очень трудно возвращаться к реальности. Я так и не поняла в самый первый момент, что произошло.
Очнувшись, я вдруг увидела, что поезд почему-то стоит, а я лежу на боку в абсолютно дебильной позе (не имеющей ничего общего с камасутрой, прошу не путать), причем за щеку меня поддерживает какой-то мрачный, небритый тип. Собственно, я свалилась на него, а тип этот сидел рядом через сидение. Пробуждение круче любого секса — настоящий шок!
— Ну слава богу, очнулась! — сказал небритый тип, — едва не разбила себе голову. Нашла место где спать!
Резко дернувшись, я даже как-то неприлично дистанцировалась от незнакомца — впрочем, он особо и не возражал. Я заметила пуховую, почти полярную куртку известной европейской фирмы (не фейковая курточка, между прочим), небритое стандартное лицо (таких — по пятьсот штук на каждом углу — не то, что изысканная красота некоторых….хм… Вообщем, тех, с кем приятно сочинять камасутру) и закрытый ноутбук (тоже мне, простор для фантазии — стандартный бизнес-набор). Словом, мрачный тип — подобный вид не повод для знакомства. Впрочем, я поняла, что никто и не собирается продолжать знакомство. Вздохнув с облегчением, я вдруг сообразила, что действительно едва не разбила себе голову, а мрачный тип в арктической куртке меня спас.
— Спасибо, — буркнула я, стараясь держаться в рамках приличия.
— Да не за что, — хмыкнул тип.
Сзади раздались голоса — вернее, множество голосов сразу. Все они говорили громко и разом, и современный поезд из салона бизнес-класса превратился в обыкновенный колхоз. Голосов было много, говорили они разное, но главная мысль «хюндай хренов», лидировала практически у всех.
Тут только до меня дошло, что поезд стоит, а резкий звук и удар было экстренным торможением всего состава — и, судя по силе, достаточно непредвиденным. Авария. Крушение? Страшная мысль заставила похолодеть. Но, судя по звукам и прежнему количеству пассажиров, а так же целым окнам, крушения не было. Скорей всего, просто авария, поломка. И где-то посреди обширной украинской степи мы благополучно стоим.
А в степи — мороз минус 10. но пока он не чувствуется. А белая полоса по обеим сторонам вагона не внушала никакого оптимизма.
Привстав со своего уютного кресла и присоединившись к хору главной мысли «хюндай хренов», я попыталась сообразить, сколько времени займет эта остановка. Неужели нельзя исправить все на ходу?
Тут я похолодела по-настоящему: в гостинице я должна была оказаться к 9 часам вечера. А ровно в 2 часа ночи у моего любовника был самолет. Самолет, конечно, был несколько позже двух, просто в 2 он должен был во что бы то ни стало покинуть гостиницу. А покидал он ее всегда минута в минуту.
Голова закружилась от ужаса. Часы на руке показывали семь. Время мое было рассчитано по минутам. В 20.30 я прибываю на вокзал, и мгновенно ловлю такси. 21.20–21.30 — я в гостинице. 02.00 — я снова остаюсь одна.
Мысли обожгли, как электрический ток — в этот самый момент в начале вагона появились проводники. Опасаясь гнева народных масс, шли они по вагону вдвоем.
Но вежливые, стандартные фразы рвали нервы буквально судорогами. Речь шла о поломке, о том, что работает бригада на линии. Но самое главное — машинист не знает, когда мы тронемся в путь, и предлагает пассажирам спокойно ждать на своих местах.
В самой кульминации этой тирады, перебиваемой главной мыслью всех пассажиров «хренов хюндай», в салоне погас свет. Народ почему-то завыл.
Собственно, все мы, жители этой страны, так привыкли к дебильному нашему экстриму, что отключение света в вагоне можно было встретить только одним: улюлюканьем и аплодисментами.
Но мой небритый сосед не улюлюкал и не смеялся. Он сказал (так тихо и уверено сказал, но слова его почему-то разнеслись на целый вагон):
— Аварийное отключение света отключает и отопление.
В вагоне разлилась тишина. Все замолчали, как по команде, от страшного смысла его слов. Кто-то выдохнул сбоку:
— Что?
— Отопления в вагоне не будет, — отозвался сосед, — а за окнами, между прочим, минус 12.
Проводники исчезли, как по команде. Кто-то крикнул, что окна нужно закрыть. Но окна и так были закрыты. А в вагон вместе с холодом стала вползать настоящая, глубокая темнота. Кто-то крикнул о том, что не работает Интернет — вместе со светом отключилась и зона WI-FI. Кто-то вызвался отправить делегацию к руководству поезда, и выяснить хотя бы, где мы стоим. Вызвались трое самых активных — среди них не было ни моего соседа, ни меня.
Вернулись они не скоро. К их возвращению температура в салоне понижалась настолько рекордно, что у всех стали ныть костяшки пальцев. Вернулись они злые до чертиков, и с криками сообщили, что «хюндай» дальше ехать не может, и здесь никто не способен его починить. Остается ждать старый советский локомотив, который дотолкает нас до Донецка. А локомотив этот прибудет минимум через три часа.
Стоим же мы где-то в самой сердцевине степи, за множество километров от ближайшего человеческого жилья. И добраться пеком до ближайшей станции, чтобы оттуда уехать, совсем не получится. Остается — ждать.
Я буквально упала на место, кутаясь из последних сил в шубу. 3–4 часа. Был шанс успеть. Но исчезал он так быстро, как теплое дыхание на морозе, превращаясь в застывшие крупники льда.
Поза номер четыре. Нет никакого движения. Его не просто нет — его еще и не будет. Остается исключительно одно — ждать. Ждать, коченея от холода, воскрешая в памяти камасутру. Ждать, когда выйдет все время, и ехать смысла не будет — вообще никуда.
Когда все закончится?! Люди, это какой-то бред! Теперь я знаю точно: времени не существует. Все это не закончится — никогда. Итак, смысл позы номер четыре: ноги вытянуть, шуба поплотней под спину. Шарф на голову — попытка сохранить побольше тепла. От мороза становится холодным не только дыхание. Больше всего замерзают мысли. Но я не дам сломить себя этому холоду! Я буду бороться. Не знаю, впрочем, зачем. Даже не для себя.
Температура вагона и тела понижается просто катастрофически. Мысли плавают в ледяной подливке из разочарования и страха. Но самое страшное — это часы. Они не желают стоять. Они показывают подлое, предательское время поражения — ровно начало девятого. 20.07, если быть совсем точной. Мы стоим. Стоим. Стоим. Люди начинают ощущать холод. В вагоне появляется страх.
Поза номер пять. 21. 00. Нет, ну на чью голову положить эти ноги?! Окно, что ли, разбить? Смешно — но не выгодно. Разбить окно — будет хуже. Тысяча острых, отточенных до смерти кинжалов мороза вонзятся в лицо и сорвут мою кожу, и тогда не останется ничего от моей красоты. А если я стану некрасивой, он захочет меня видеть? Мороз обнажает правду: нет, не захочет.
Он не захочет меня видеть, если я стану некрасивой, если лицо мое будет обожжено или изуродовано шрамом, если я растолстею или, наоборот стану похожа на живой скелет, выпущенный из Бухенвальда. Он не захочет меня видеть, если я заболею, если сломаю ногу и стану хромать, если вместо того, чтобы смеяться, я буду плакать, если во время операции мне удалят одну грудь, если мне исполнится сорок, если я неудачно покрашу волосы или сделаю неподходящую стрижку, если у меня будут месячные, и в этот короткий я не смогу трахаться с ним.
Он не приедет, если я попаду в больницу или в автомобильную катастрофу. Он не приедет, если с обморожением попаду на операционный стол. Он не поинтересуется тем, не простудилась ли я, и не уволили ли меня с работы. Он не станет интересоваться тем, голодна ли я, хочу ли я пить.
В этом году он не поздравил меня с днем рождения. Он не собирается поздравлять меня с Новым годом. Он понятия не имеет о том, что в мире существует Рождество, и с ним тоже нужно поздравлять. Он не знает, когда мой день ангела, и есть ли у меня ангел. Его даже не интересует, ангел ли это, или черт.
Всего этого он делать не будет. 21. 30. Я опоздала в гостиницу. Всего этого он делать не будет. Но, наверное, он сейчас позвонит.
Вот сейчас зазвонит мобильник. Мобильники здесь работают — это не джунгли, всего лишь степь, сеть есть. Свой я зарядила вчера с вечера, он прекрасно работает. Вот сейчас, обязательно, он позвонит.
Я достаю из сумочки телефон и долго смотрю на нежный сенсорный экран, словно пытаясь согреть его своим дыханием. Температура тела понизится еще больше, но я все-таки отогрею телефон. Потому, что он обязательно позвонит поинтересоваться, почему я вовремя не приехала — он, мой любовник. А слово «любовник» происходит от слова «любовь».
Ведь нет же в русском языке слова «сексник» — от слова «секс». Есть «любовник». А у этого слова смысл совершенно другой… Может быть, древнему народу было видней?
Кто-то толкает меня в бок… Сенсорный дисплей телефона отражает мои посиневшие губы. Вот сейчас раздастся звонок! Но звонка нет. В бок толкает бородатый сосед. Из его рук идет дым.
— Пей!
— Что это? — я не понимаю, почему дымятся его руки. Мне не до него, я ведь так жду звонка!
— Пей! Ты должна выпить это, и быстро. У тебя синеют губы.
— Что это такое?
— Чай. Из термоса. Сладкий. С сахаром. Пей!
Только сейчас я понимаю, что он раскрыл свой рюкзак и достал из него большой термос. Натренированный глаз отмечает, что термос фирменный, как и куртка. Но меня поражает другое. Совершено незнакомый мне мужчина боится, чтобы я не замерзла, и отдает мне свой чай, вместо того, чтобы согреться самому, ведь неизвестно, сколько еще продлиться эта пытка морозом. И это чужой человек! А тот, кого я жду, молчит. Он даже не знает, что я замерзаю здесь, в этом дурацком сломанном поезде. Замерзаю, между прочим, без всякой «камасутры»… Он и не хочет этого знать.
Я послушно пью горячий чай и ощущаю настоящее блаженство. Кружка термоса отогревает занемевшие пальцы.
Бородатый сосед внимательно смотрит, чтобы я выпила все, до дна. Потом забирает кружку от термоса и командует:
— Теперь вставай!
— Это еще зачем? — я смотрю во все глаза.
— Нужно походить, чтобы разогнать кровь. Иначе можно замерзнуть.
— Я не хочу вставать. Мне все равно.
— А я сказал — будешь! Вставай!
Он буквально поднимает меня с сидения и выталкивает в проход, чем ввергает в состояние настоящего шока. Я начинаю возмущаться.
— Да кто ты такой?
— Врач.
— Врач?!
— Ну да. Что тут такого? Еду в командировку, и я знаю, что нужно делать, чтобы не замерзать.
Я послушно делаю несколько шагов по салону, и тут только замечаю, что оставила телефон на сидении. Но он все равно молчит. Неужели это что-то вроде облегчения?
Поза номер шесть приходит сама собой, на ходу. В какой позе согревают недоношенную любовь? На животе? Своим телом? Грудь, в принципе, можно надрезать, и положить ее, эту недоношенную любовь, внутрь. Разница небольшая. И не важно, что из всех поз это самая болезненная поза. Все и так страшно болит.
А может, такую любовь согревают вот так, в темноте, на морозе — 12, расхаживая по салону сломанного современного поезда, где темнота сжимает душу до спазм, а смерть уже уютно устроилась на плече? Сидит себе, свесив ножки, хлопает покровительственно, со снисхождением — ну что, ты все дергаешься и дергаешься, давай, не сопротивляйся, пойдем лучше со мной… Что это — кто-то берет меня за плечо, разворачивает, прогоняет смерть, буквально сбрасывает ее прочь, в темноту? Да это же мой бородатый сосед! Он уже не кажется мне ни мрачным, ни некрасивым. Теперь я знаю точно, кто он такой.
— Достаточно. Садись. Силы надо экономить.
Я послушно сажусь на место, и засовываю телефон… нет, не туда, куда следует засунуть, а в карман. Я не отрываю глаз от своего соседа.
— Теперь я знаю, кто ты такой.
— И кто же? — он смеется.
— Ты — ангел!
— Может быть, — смеется он, — я ангел. Выпей еще чай.
Постепенно страстная камасутра с пряным запахом разгоряченных человеческих тел превращается в ледяную пустыню, в которой нет вообще никаких запахов. И я не могу понять, как это произошло.
Что сломалось? Почему больше нет никаких поз? Я ехала в поезде к своему любовнику. Я мечтала о сексе с ним в разных позах. Но поезд сломался. И я вдруг поняла, что сломался не поезд «хюндай». Сломался не поезд, а абсолютно все в моей жизни. И страстная камасутра, ради которой я бросила под колеса свою собственную жизнь — на самом деле бесконечная ледяная пустыня, в которой стоит поезд. И в эту ледяную пустыню вдруг превратилась моя жизнь.
Кто-то гладит меня по голове, плотней запахивая теплый шарф.
— Тш… Не плачь… не плачь… все хорошо… — это мой бородатый сосед. Руки его нежные и теплые. Он так спокойно и ласково гладит меня по голове — так гладят совсем маленьких детей.
— Не плачь. Все будет хорошо.
— Мне страшно.
— А я возьму тебя за руку, вот так, и ты перестанешь бояться. Я буду держать тебя за руку все время, и страх уйдет.
— А если я отморожу ноги и не смогу идти?
— Если ты не сможешь идти, я донесу тебя на руках.
И я понимаю, что камасутра — нечто совершенно другое. На самом деле камасутра только одна… Я ведь я еще действительно не прожила ее смысл.
Смысл камасутры, высказанный в совершенно других словах, и это не секс, и не позы… «Я возьму тебя за руку, вот так, и ты перестанешь бояться. Я буду держать тебя за руку все время, и страх уйдет. А если ты не сможешь идти, я донесу тебя на руках».
Только такая камасутра стоит жизни. Единственная камасутра, ради которой действительно стоит мчаться на край земли.
Мы прибыли в Донецк без четверти двенадцать ночи. В конце концов подогнали старый советский локомотив, который и дотолкал суперсовременный «хюндай». Я так и не вышла за пределы вокзала. В моем телефоне не было пропущенных или входящих звонков.
Я проверила это тщательно, вступив на перрон. Звонков не было. Но в телефоне моем все-таки оказалась одна драгоценность — это номер телефона отогревшего меня в вагоне врача. Он не мог вернуться в Киев со мной — он должен был на неделю задержаться в Донецке.
Была почти полночь, но я не вышла за пределы вокзала. Я прошла к билетным кассам, и взяла билеты на ближайший обычный поезд, следующий до Киева.
Через час я сидела в вагоне старенького советского плацкарта и смотрела в окно поезда, за которым в вихре страсти плясали снежинки. Я больше не собиралась переписывать камасутру. Я возвращалась обратно с телефоном, на который в 00.21 пришла СМС-ка: «Не страшно, что не получилось. Встретимся через неделю в Москве».
Я возвращалась обратно. В Киев.



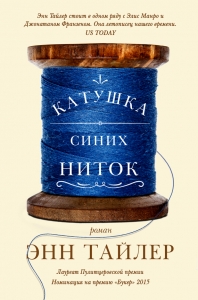
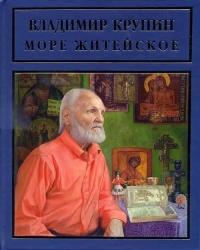








Комментарии к книге «Камасутра. Короткие рассказы о любви (сборник)», Ирина Игоревна Лобусова
Всего 0 комментариев