Наталия Червинская Поправка Джексона
Рассказы и повести
© Наталия Червинская, 2013
© «Время», 2013
Наталия Червинская закончила режиссерский факультет ВГИКа и работала в юности на московском «Союзмультфильме». Позднее, в эмиграции, она стала известным художником-миниатюристом. В последние годы Червинская выступает как писатель.
Удивительным образом ей удалось сохранить во всем, что она делает, профессиональные навыки кинематографиста-мультипликатора, создающего каждый раз заново маленький автономный космос, существующий по собственным законам.
Если говорить о рецептуре, которую Червинская использует как автор рассказов, то состоит она из редких ингредиентов: природного ума, отличного образования, беспощадного взгляда художника, врожденного остроумия, печального скепсиса, свободного и непринужденного владения словом.
Биография Наталии Червинской повторяет траекторию движения многих людей, покинувших Россию и вынужденных уже во взрослом состоянии обучаться заново ходить по новому континенту, заново учиться говорить, понимать простые вещи и сложные понятия. Это — труднейший путь, но этот путь дает уникальную возможность прожить как бы не одну, а две жизни. Именно на перекрестке двух миров — России времен заката советской власти (о чем мы и не догадывались, полагая, что советская власть вечная и бесконечная) и Америки, тоже на точке глубокого перелома (о чем только сейчас мы начинаем догадываться), выросла эта книга — умная, беспощадная, элегантная и печальная.
Людмила УлицкаяВ статье 2432 Кодекса законов США, известной как «Поправка Джексона — Вэника», принятой 3 января 1975 г., говорится, что на страны с нерыночной экономикой, отказывающие своим гражданам в праве на свободную эмиграцию, не распространяются нормальные торговые льготы и что США не будет заключать с этими странами какие-либо коммерческие соглашения.
Отчасти в результате принятия поправки Джексона — Вэника в семидесятых-восьмидесятых годах из СССР смогли уехать сотни тысяч людей, известных как «эмигранты третьей волны».
Рассказы
Молодой человек из Питтсбурга
Молодой человек из Питтсбурга, двадцати пяти лет, приезжает искать корни. От матери он получил ограниченный словарный запас, большой чемодан с подарками и короткий список адресов тех ее друзей, которые еще не уехали из страны и не умерли преждевременно.
Первым в списке — адрес дома, где проходили четверть века назад достопамятные Ленкины проводы. Спроектированный во времена модернизма и конструктивизма, то есть в духе абсолютного презрения к человеческой мягкотелости, дом давно уже утонул в захлестнувшей его мелкобуржуазной стихии и напоминает своей эстетикой тришкин кафтан. Бетонные лоджии забраны разноцветными деревенскими фанерками, разномастными кирпичами, превращены для увеличения метража в верандочки. Кафельная, напоминающая о пыточных камерах облицовка осыпается в продранные подвесные сетки. Трубы для газа идут по фасаду во всех направлениях в нелегальные частные кухни. Запланирована была тут когда-то футуристическая домовая фабрика-кухня, но она осталась недостроенной. Гораздо целесообразнее было бы с самого начала построить тут домовую тюрьму или, по крайней мере, КПЗ, так как почти всех жильцов дома сажали многократно, оптом и в розницу.
Обо всем этом молодой человек не имеет ни малейшего понятия, но дом поражает его своим сходством с Центром Помпиду, Музеем современного искусства в Париже, у которого тоже все трубы и кишки наружу. Дом, как и Центр Помпиду, является произведением постмодернизма, хотя молодой человек догадывается, что постмодернизм здесь не постиндустриальный, как полагается, а фольклорный, кустарный, доморощенный.
Все это совсем не похоже на его сны. Ему иногда снились эти таинственные места, из которых произошла мать, и эти знаменитые проводы, про которые ему рассказывалось с младенчества. Он давно уже решил, что мать его, Элен, была настоящим человеком шестидесятых годов, принадлежала к коммуне хиппи. И снились ему бесконечные анфилады дворцовых зал, где плывут под имперскими люстрами облака марихуаны, отражаясь в золотых зеркалах, где танцуют друзья матери, дети-цветы, в расшитых кафтанах, в меховых ушанках…
Провожали Лену четверть века назад в этом доме, в квартире старых большевиков, родителей Марика. Большевики поженились по заданию партии, и Марик этот, иначе Марлен, родился у них очень поздно. По загадочному стечению обстоятельств большевики никогда не сидели; сел вскорости, после и частично в результате проводов, уже сам их ненаглядный Марленчик.
Все три дня проводов происходила невероятная, скоротечная, сокрушительная мартовская оттепель, и прозвали это событие впоследствии Мартовскими Идами, концом прекрасной эпохи.
Квартира постепенно заполнялась бутылками, пустыми и полными, и если положить голову на стол — а многие клали, — то этот лес зеленого и белого стекла казался далеким чужим городом стеклянных небоскребов, тем более что многие бутылки были из валютного магазина, с экзотическими этикетками.
В первый же вечер неожиданно появилась легендарная красавица Идея. Раздраженная тем, что Ленка находится почему-то в центре внимания, она с порога сообщила, что и ей, Идее, дали разрешение на выезд.
После этого никто уже не помнил, что Лена уезжает, провожали Идею; почему и стали называть происходящее Мартовскими Идами. В первый день кто-то, запутавшись, закричал: «Горько! Горько!» — и все полезли целоваться с Идеей, а не с Леной. На второй день Идея вскочила на стол, сметая большевистский хрусталь шлейфом черного парижского платья, и рыдала: «Прощай, Россия!».
Лена, лишенная своего звездного часа и всеобщего внимания, подумала: если я зарыдаю такое, меня отведут в ту комнату, где пальто и куртки свалены, и мокрое полотенце на лоб положат. А ей все можно. Наивная Лена даже подумала: ну что в ней такого особенного?
Лена уезжала, как все, к воображаемым родственникам якобы в Израиль. Но легендарная Идея ехала в Прованс, к французскому православному жениху, вернее, к пятому мужу, потому что подпольный батюшка их уже тайно обвенчал. Хотя ехала она тоже по израильскому приглашению от третьего мужа, отца ее четвертого ребенка. Теперь остающиеся местные мужья сидели по всем углам и глядели, как мрачные коты. Подпольный батюшка просидел все три дня благодушно и благостно, любуясь на свою духовную дочь Идею.
В этой компании многие путали свальный грех с соборностью. Батюшка принимал у них исповеди и привык ко всему.
Идея была истово верующая: пекла куличи, вышивала стихари, рожала. Новые, свежевлюбленные, и старые, брошенные, мужья прощали ей все, хотя все они были рафинированные эстеты и злоязычные снобы. Красота ее производила впечатление серьезного явления природы, вроде водопада или землетрясения. Люди понимали, что просто находиться с ней в одной комнате уже было событием, о котором стоило потом вспоминать и рассказывать.
Девушки ее победам и парижским платьям даже не завидовали, кроме дуры-Таньки. Но у дуры-Таньки вообще земля была плоская и все равны, и она большой разницы между собой и Идеей не осознавала. Жизнь ее научила, что важнее всего умение и готовность использовать свои половые органы, а остальная внешность — дело десятое. По этой части Танька знала себе цену, вот со всем остальным были неприятности. На второй день проводов она стала тосковать, потому что опять ничего не запомнила и боялась, что сотрудник, к которому она ходила с отчетами, опять ей доброго слова не скажет, а станет ругать дурой. Одного из гостей, искусствоведа, она страшно жалела: узнала случайно, что его скоро заберут. И еще в первый вечер он провожал ее, так она, о чем по дороге разговаривали, ничего не запомнила, а вместо того от жалости неожиданно дала ему в подъезде, здрасте пожалуйста, ну что за дура такая.
Хозяин квартиры Марленчик занимался в основном тем, что носился по городу, все знал и про все рассказывал. Если ему категорически запрещали рассказывать, то он таинственно намекал.
— Я был вчера в одном доме… — говорил он. — Я разговаривал с одним иностранцем… Я иду вечером в одно место…
После встречи с ним оставалось впечатление, что в городе кипит бурная жизнь, хотя ничего особенно не кипело.
По призванию и темпераменту Марленчик был вундеркинд с овальным лицом отличника, нежной кожей и лихорадочным румянцем. Он с детства знал много длинных и сложных слов. Он и теперь употреблял много слов. Матерные и непристойные слова он произносил в светских разговорах особенно солидно и отчетливо, как никогда не произносят их люди, у которых эти слова вызывают живые ассоциации.
Во время проводов Марленчик бегал из комнаты в комнату, находясь всюду одновременно и все больше возбуждаясь от невероятно удачного мероприятия, от скопища людей, обладавших широкой известностью в узких кругах. Притом у него была странная надежда утаить проводы от родителей, которые отдыхали в Барвихе. В первый день они с Леной призывали всех открывать форточки, но уже к ночи от запаха мокрой обуви и сигаретных бычков в томате — все гасили сигареты прямо в тарелки — и от удушливых перегретых радиаторов в воздухе повис такой топор, что форточки не помогали. Необходимо было открыть заклеенные на зиму окна. К этому Лена подключила художников-нонконформистов. Им всегда поручали такие дела, где сила есть — ума не надо. Нонконформисты поручения ловко выполняли, не прилагая никаких физических усилий. У них, единственных в этой компании, был глаз и умение обращаться с инструментом.
Внизу, во дворе, молодые топтуны наружного наблюдения услышали вырвавшийся из окон шум. По количеству децибелов они определили, что и градусов там, наверху, было уже немало.
Теплело так быстро, что в первый день гости проваливались у подъезда в сугроб, на второй — в снежное крошево, а на третий день проваливались уже в студенистую лужу. Стукачи наружного наблюдения злорадно фотографировали проваливающихся.
Нонконформисты взломали окна и всю первую ночь пили на кухне. В те времена еще не начался концептуализм, и художникам полагалось не языком молоть, а молча забивать гвозди в подрамники. Эти художники, трое, пившие на кухне, молчали великолепно.
Известно было, что произносили они только два слова: «Нолили?» и «Выпили?». Они никогда не говорили даже: «Сбегаем?». У них было шестое чувство, когда сбегать. Они деловито собирали со всех деньги, но бежали всегда сами, потому что имели взаимопонимание с таксистами. Таксисты же были необходимы, чтоб доехать до дежурного гастронома или купить тут же, на месте, из багажника.
Никто не видел их по отдельности, всегда втроем. Как будто они срослись, как в грибнице три боровика или как граждане города Кале работы Огюста Родена — они тоже были огромные и бородатые.
Когда на второй день нонконформистов прогнали с кухни, они перешли пить в кабинет старого большевика, где скромно сели на пол возле тахты. На реквизированном паласе висели скрещенные буденновские шашки и фотографии старого большевика с нерасстрелянными соратниками; расстрелянных он по мере расстреливания сжигал. Под тахтой были три огромных глубоких ящика, которые Марик редко выдвигал, потому что хранившийся там самиздат читать ему было некогда. Он все время носился по городу, а читать Джиласа или «Хронику текущих событий» в метро даже Марик считал излишним. В метро он читал «Камасутру».
На тахте сидела старушка, вдова Серебряного века, и рассказывала о том, как они с поэтом Иваском в двадцать третьем году стояли в очереди за картошкой.
Ее благоговейно слушали два члена Союза писателей и большая рыжая немка-издательница, любимая всеми за поразительное знание блатной лексики.
Вдова пила водку из большевистского фужера и заедала любимым еще с гимназических лет бельгийским шоколадом, специально для нее привезенным. На ней было крепдешиновое платье в цветочек, еще тридцатых годов, а под платьем — трико до колен. В лагерные годы она научилась считать теплое белье предметом роскоши. Рассказывала она по-немецки. Члены Союза, не знавшие иностранных языков, смеялись всякий раз, услышав знакомое слово «картоффел».
Между собой писатели не разговаривали, они презирали друг друга. Каждый из них считал другого бездарью и конъюнктурщиком. Так оно и было. Хотя немецкой издательше было известно, что оба они писали еще и свое, заветное, для души, и публиковались на Западе под псевдонимами. Интересно, что под псевдонимами они друг друга читали и уважали.
А выгнали художников из кухни, потому что там инакомыслящие собрались, диссиденты, им надо было написать открытое письмо.
Сидели в тот вечер на кухне два истопника-историка, ночной сторож-поэт, один доктор математики и другой — органической химии, у которых еще была работа, безработный кандидат искусствоведения, один дьякон из генетиков, два еврея, боровшиеся за права баптистов, старая дева-машинистка, которая все благоговейно перепечатывала на своей «Эрике», отъезжающая на Запад Лена и молодой человек Георгий.
Накануне у одного из истопников был обыск, и теперь им надо было написать открытое письмо, с тем чтобы повыгоняли с работы и пересажали всех остальных. Никакого другого практического результата от письма не предвиделось, и это всем присутствующим было хорошо известно. Перевезти письмо на Запад должна была Лена. Предполагалось, что ее не будут шмонать вследствие ее незначительности. Лена редко открывала рот, ее в семье приучили держать рот закрытым. В детстве — чтоб горлышко не застудить и не наглотаться микробов, а потом — чтоб не сказать чего лишнего. «Сейчас такое время, — учили Лену, — когда не надо говорить ничего лишнего. Сейчас надо особенно молчать».
Лена своим инакомыслящим друзьям чрезвычайно завидовала. Она завидовала простоте их жизни. Сколько она себя помнила, все кругом боялись чего-то, крутились, изворачивались и делали лишнее и бессмысленное. И только эти люди делали то, что в этой стране и в это время имело смысл делать: то есть кричали караул. И она была уверена, что сидит среди каких-никаких, но все-таки самых замечательно сумасшедших и свободных людей, которые ей когда-либо в жизни попадались и попадутся. Так, впрочем, оно и было.
Никто этим инакомыслящим спасибо не сказал ни тогда, ни впоследствии. И действительно, что их заставляло портить жизнь себе и окружающим? Существовала популярная теория, что действовали они из тщеславия. Хотя слава в этой области неукоснительно приводила к полной изоляции и лишению жиров, белков и углеводов, которых все-таки каждому человеку хочется.
Может, у них мозги были такие инфантильные, без перегородок. У нормальных людей мозги были разделены на отсеки, как грецкий орех. В одном отсеке существовало знание о том, что, мол, живем мы все на братской могиле — ужас, ужас. В другом жила радостная надежда, что к праздникам на службе выдадут продуктовые заказы, которые назывались принудительными наборами. Нельзя было выбирать, что дадут; но иногда давали курицу, иногда даже югославскую баночную ветчину. В третьем отсеке находилась гордость великой национальной литературой: слезинка ребенка, во глубине сибирских руд, над кем смеетесь — над собой смеетесь, и так далее. В четвертом — не меньшая гордость тем, что все-таки теперь не голодаем.
Много чего можно сделать с людьми, которые гордятся тем, что все-таки не голодают.
И не только не голодают. Еще больше люди гордились, что просто так теперь не сажали, что террора не было: давили более предсказуемым способом. Сажали только тех, кто лез на рожон. Хотя границы, где рожон начинался и кончался, не были точно определены; тут следовало руководствоваться инстинктом.
А у этих правозащитных и инстинкта не было, и мозги их инакомыслящие были без перегородок, всё у них в мозгах сливалось, как у маленьких детей. Может быть, они еще в дошкольном возрасте выдирали потную ручку из цепкой родительской руки, в младших классах не слушались классных руководительниц, на работе провоцировали ненависть руководства. Патологическое инакомыслие — это ведь был не политический термин, а медицинский. Непреодолимая потребность ляпнуть лишнее, задавать глупые вопросы, называть вещи своими именами, общую солидарность и солидность нарушить; эту свойственную всей стране и культуре мрачную тупую солидность оскорбить каким-то ерничеством дурацким, ненужным фрондерством.
Вся их оппозиционная политическая программа заключалась в том, что они решили нормальное считать нормальным и делали вид, что это неподсудное дело. Например, почему-то им казалось неприличным жить в стране, где убили несколько миллионов человек и сделали вид, что ничего особенного. Поэтому они пытались изучать историю по реальным документам и свидетельствам очевидцев. Или они считали, что человек может сочинять стихи и показывать их своим знакомым, не подав текста на предварительную цензуру. Или — что нонконформисты имеют право рисовать не только в стиле середины девятнадцатого века, но и так, как это делали к концу девятнадцатого и в начале двадцатого. С другой стороны, они считали, что арестованных надо защищать и семьям их помогать, как это делалось в девятнадцатом веке, хотя уже с начала двадцатого подача калачика каторжанину преследовалась законом. Деятельность их напоминала не Талейрана, а скорее Франциска Ассизского. Это он, задумав построить храм, начал таскать на спине камни и складывать их на городской площади в надежде зажечь остальное население личным примером. Хотя его-то сограждане и в самом деле построили храм. Во времена Средневековья гораздо легче было работать в этом жанре — люди были впечатлительнее.
Всякий раз, добавляя к тексту письма какой-нибудь новый пассаж, эти душевнобольные прекрасно знали, что добавляют себе срок. Лена давно про себя решила, что при подобных обстоятельствах надо просто подписывать, что дадут; хотя текст как таковой Лену все-таки беспокоил. Ей казалось, что логика все время подменялась эмоциями и голословными утверждениями; она в глубине души очень любила логику и факты. Но Лена знала, что все остальные считали это обывательски-узким методом мышления, и своего мнения не высказывала, хотя у нее язык чесался. Да и понимала она, что важна тут не стилистика.
Но подписать письмо Лене в тот вечер так и не пришлось. Письмо все никак не дописывалось, а ей стало плохо. Кандидат искусствоведения, Костенька, повел ее прилечь. Ленка всем подробно объяснила, что напилась в стельку, чтоб не подумали, что она трусит.
Трусил почему-то сидевший с ними на кухне молодой человек Георгий.
Георгий был тогда совсем молоденький, но физиономия у него была пухлая, с уже намечавшимся вторым подбородком при полном отсутствии первого. Более того, работал он в институте какого-то не то ленинизма, не то дружбы народов. Они все думали, по витиеватости мышления и по молодости лет, что человек с такой очевидно противной мордой стукачом быть не может. Они ошибались.
Он напоминал себе, что слушает все это по долгу службы, что у него есть допуск. Именно он и его коллеги были самыми образованными и информированными людьми в этой анархической стране, они мыслили государственно, без ерничества и фрондерства, они были патриотами, на которых лежало… — ну, и так далее, и так далее. Люди на кухне сидели важные, у каждого из них был свой куратор, лично занимавшийся ведением дела и просматривавший все доносы. Георгий знал имена-отчества кураторов и их высокий ранг, уважал сидевших на кухне и ловил и запоминал каждое их слово.
Георгий пошел в стукачи, потому что ему с самого детства хотелось жить, как порядочные люди. Выросши в коммунальной квартире, Георгий сведения о стиле жизни порядочных людей почерпнул целиком из литературы. Про мораль и нравственность он пропускал, этим его и так пичкали. Он читал про экзотическое, недоступное: про еду, жилье, одежду. Про шмотье, жилплощадь, жрачку. Толстой, например, писал, что у порядочного человека должно быть чистое белье и чистые, холеные ногти. Булгаков подарил Георгию мысль, которая осталась его девизом на всю жизнь: осетрина должна быть первой свежести! И потом, когда он уже начал сотрудничать и имел допуск в спецхран, тот же любимый автор подарил ему другую великую мысль: обедать надо в столовой, а спать в спальне!
Он был от природы брезглив и чистоплотен и хотел иметь собственный индивидуальный санузел, по возможности не совмещенный, а раздельный. Талантов у него было мало, и таланты в те времена не особенно помогали, скорее наоборот. Помогало иногда обаяние, но этого у Георгия не было совершенно, равно как и совести. Совесть, однако, товар в своем роде уникальный: чем ее меньше, тем легче ее продать. Притом продавать совесть можно не один раз, а многократно, и затоваривания никогда не наступает: чем больше все кругом совесть продают, тем больше на нее спрос.
Белобрысый искусствовед Костя, который повел Лену прилечь, верил в облагораживающую силу страдания. Костенька думал, что у интеллигента всегда должно быть плохое настроение, что мыслящему человеку необходимы внутренние мучения, чувство вины, тоска, неудовлетворенность жизнью, ранимость и одиночество, особенно чувство вины и одиночество.
Костя считал, что страдания украшают человека, и был в этом совершенно прав. Известно, для чего нужен павлину хвост. Вот и Костя — что бы он делал со своими торчащими зубами и унылым носом, если бы не душевная тонкость?
«Костя такой тонкий!» — говорили девушки.
Костя не прилагал никаких усилий, он даже предпочитал платонические отношения. Он бы охотно помучался неразделенной любовью, но этого ему не было дано. Девушки говорили: «Он такой ранимый!».
По количеству побед и удивительных романов Костенька намного превосходил Идею.
С Леной у него была давняя дружба и пока еще платонический роман. Они зашли в большевистскую спальню, где было темно, тихо и ненакурено, потому что Марленчик строго запретил туда соваться. Лену Костенька уложил среди пальто и курток, сам же сел рядом и стал смотреть с тоской. Знал ли он в этот момент, что похож на брошенную собаку, — неизвестно, но Ленка автоматически протянула руку и погладила его по голове. Руку она отдернула, потому что волосы искусствоведы в те времена мыли нечасто. Но тут же устыдилась: вот она, будущая иностранка, уже брезгает простым диссидентом, которому черт-те знает что предстоит, — и погладила опять.
Костя тогда произнес фразу, которая сработала недавно с одной француженкой:
— Вот, ты уезжаешь, а нам тут оставаться…
Ленка тогда прижала его голову к своему плечу. Костя ей не особенно нравился, ей больше нравились черненькие, но ведь и вправду он тут останется, и загребут его почти наверняка.
Костя тогда поцеловал Лену целомудренно в лоб. Впрочем, целомудрие это было уже чисто ритуальное, так как дальнейшее было неотвратимо. Ленка ему не особенно нравилась, но она уезжала, и вот этими самыми глазами увидит Рим, вот этими самыми ногами будет ходить по Парижу…
Сексуальная революция, наступившая в других странах вследствие изобретения противозачаточной пилюли, в этой компании проходила без каких-либо научно-технических оснований и держалась исключительно на жалостливости боевых подруг. Мозги у Кости были устроены так, что думать он мог только абстрактно; для него реальный мир служил только поводом для создания концепций, так же как искусство существовало только как объект искусствоведения. Бытовые детали и практические расчеты он презирал. Происходившие от этого презрения к деталям тяжелые последствия Костя никогда не связывал с причиной, то есть с собственными действиями, а всегда с первопричиной — с тоталитарной системой. Теоретически он хотел быть джентльменом и оберегать своих возлюбленных, но в последний момент всегда забывался в порыве страсти. Придя в себя и выкурив сигарету, Костя решил, что во всем виновато ханжество властей, из-за которого нет в продаже необходимых средств. И кроме того — авось обойдется.
Он оказался неправ.
Позднее Лена хотела потихоньку выбраться из большевистской спальни, но прямо в дверях столкнулась с Георгием. Он ей был почему-то на редкость противен. Уж на свои-то проводы она его точно не звала, так откуда же он узнал и почему возник в самом начале, еще до того как нонконформисты притащили первые сумки с порученной им выпивкой? Ленка посмотрела на Георгия, как солдат на вошь, что Георгию было крайне неприятно; с ним и так все девочки танцевать отказывались. Он подумал, что ты, мол, сучка, у меня еще попляшешь; хотя ему было понятно, что Ленка покидает родину через две недели, и поплясать он ее уже не заставит, не успеет. Связей у него таких не было.
Ленка пошла в гостиную, где девочки щипали корпию.
Гарвардский славист принес два блока «Мальборо» для передачи арестованному. Сигареты передавать было нельзя, только табак для самокруток, и девочки расщипывали валютные сигареты, а табак ссыпали в глубокое блюдо. Блюдо это, реквизированное когда-то у коллекционера, старая большевичка не любила за уродство — оно было расписано Татлиным — и держала на кухне. Девушки щипали сигареты торопливо, так как несколько пачек у них уже увели и раскурили гости. Лена села помогать, но она все думала о происшедшем и означает ли происшедшее, что она Костю любит? И она курила безостановочно. После трех валютных сигарет подряд ее стало еще хуже мутить, и она вышла подышать на лоджию.
Там стояли, повернувшись друг к другу идентичными умными носами, юный славист из Гарварда и младший научный сотрудник из ЦГАЛИ. Они разговаривали о взаимоотношениях Цветаевой и Рильке.
Наверху, над колодцем двора, висела мартовская луна, внизу шныряли мартовские кошки, и в них швыряли камнями молодые озлобленные стукачи. Пахло тающим снегом, то есть отчаянными надеждами, и тревожными предчувствиями, и романтическими приключениями. Славист думал: чтоб вот так свежо и восхитительно пахло талой водой и ночной сыростью, нужно, чтоб лежал этот снег очень долго, месяцами сдавливаясь, промерзая и серея в безнадежной тусклой темноте. Оттого и люди эти такие свободные, думал он, никогда в жизни не встречал я таких свободных, совершенно отчаянных людей.
«Ах, какая ночь, — думал романтичный славист. — Какая удивительная ночь». И казалось ему, что мир полон возможностей, что всё впереди и что он влюбился: то ли в Идею, то ли во всех присутствующих, а вернее всего — в младшего научного сотрудника.
Уйдя с лоджии, бедная Лена натолкнулась еще и на Костину жену. У Кости была вроде как жена; он женился фиктивным браком на однокурснице, которой угрожало распределение в Каракалпакию. Потом они стали и комнату вместе снимать, для экономии. Вообще эта вроде как бы жена Костю очень поддерживала. Фиктивная быстро зашептала Лене на ухо, что, мол, она в положении; они с Костей решили на этот раз рожать, потому что одна надежда — ребенок, может, не заберут, бывали случаи…
После трех дней проводов Лена возвращалась домой пешком в состоянии уже не похмелья, а почти наркотического транса, стуча зубами от недосыпа и возбуждения.
Город за эти три дня не только оттаял, но и начал подсыхать, вроде бы и почки какие-то начинали наклевываться, и пахло теплом. Людей никого не было, утро было поразительно, пронзительно светлое, как галлюцинация. Она смотрела на город уже почти уехавшими глазами, и он казался уже почти воспоминанием. А впереди следовало ожидать одного: совершенно ничем не ограниченной, абсолютной свободы в свободном мире…
Отчет стукачей наружного наблюдения был посвящен почти целиком действиям художников-нонконформистов, упоминалось примерное количество добытых ими бутылок. Фотографии не вышли, потому что управдом так и не ввинтил лампочку у подъезда, хотя участковый его заранее предупреждал. Микрофонные записи тоже оказались совершенно непригодными и не поддающимися расшифровке. Там в основном прослушивались голоса Эллы Фитцджеральд, Эдит Пиаф и Галича с Окуджавой. Двое последних, впрочем, присутствовали лично. «Плачьте, дети, — прослушивалось на записи. — Умирает мартовский снег». И дальше — неатрибутированные всхлипыванья. Плакал гарвардский славист.
После Мартовских Ид бедный славист попал в списки, и ему больше не давали визы, лет десять он никаких свободных людей не видел. Не видел он больше и младшего научного сотрудника, хотя понял в ту ночь, что влюбился на всю жизнь именно в него, а не в Идею. От всего этого пострадала его карьера и научные изыскания; он стал мелким профессором, вовсе не в Гарварде, как было ему на роду написано. Живет он со своим партнером, тоже профессором, социологом. Социолог человек хороший, но из Миннесоты, добродетельный и либеральный до одурения, член обществ и организатор протестов. Вегетарианец, конечно. И слависту иногда кажется, что живут они в гражданском браке не по любви, а для общей либерализации нравов. Ничего похожего на ту ночь в его жизни больше не случалось.
Судьбы нонконформистов, граждан Кале, несмотря на единство, сложились совершенно по-разному. Только один из них, бывший монументалист, впоследствии окончательно спился. Он бродил по улицам и делал, из чего под руку попадалось, крошечные, почти не различимые глазом произведения искусства, оставляя их на скамейках в метро, на траве в парках, возле фонарных столбов. Особенно он любил оставлять их в автоматах для газировки. Там освещение было хорошее, а граненый стакан можно было взять в виде гонорара.
Другой бросил пить совершенно, две недели на трезвую голову размышлял об искусстве и о своем месте в нем, после чего повесился в своей мастерской на Масловке.
Третий стал иеромонахом в Оптиной пустыни.
Кроме тех двух недель на Масловке, так неприятно завершившихся, никто и никогда о качестве их искусства всерьез не задумывался — до такой степени биографии их были выдержаны, и закончены по стилю, и характерны для эпохи. Именно в результате этой эпохальной характерности все трое висели на объехавшей мир ретроспективной выставке «Здравствуй, Россия!». Все трое были представлены портретами обнаженной Идеи, с которой у каждого из них было свое незабываемое прошлое.
Французский жених ждал появления Идеи в Провансе, но так получилось, что при пересечении границы, дней через пять после проводов, попался ей восемнадцатилетний хасид, с которым произошел у нее грех. Она сходила к исповеди, покаялась в хасиде и думала, что всё. Но хасид оставил ей на память брошюрки. Хасидские брошюрки покорили Идеино сердце своей простотой. Она за два-три месяца выучила на скорую руку Пятикнижие Моисеево, с энтузиазмом прошла все необходимые обряды и уехала в Израиль, где вышла замуж в быстрой последовательности за двух-трех евреев и народила на почве иудаизма еще больше детей.
Недавно фотография ее появилась на обложке журнала «Тайм». Она защищает от эвакуации свое поселение в Газе, стоя на крыше и воздевая руку к небу. В руке у нее бутылка с какой-то дрянью, которой она собирается поливать бедных израильских солдатиков, мальчиков и девочек. Она все еще очень хороша, только очень уж похожа на боярыню Морозову со своими впалыми щеками и горящими глазами, с ортодоксальной косынкой на голове.
После отмены цензуры члены Союза писателей опубликовали всё, и официальное, и заветное, вперемешку. Читающая публика не заметила разницы, хотя в том, что для души, было гораздо больше секса. Один из писателей, сочинявший детективы про чекистов и шпионов, в нецензурные времена преуспел. Вначале он писал про плохих чекистов, которые ловили хороших диссидентов, а теперь пишет про опять хороших чекистов, которые ловят плохих чеченцев.
Вдова Серебряного века в тот вечер передала немке свои мемуары для посмертной публикации; мемуары-то под псевдонимом не напечатаешь. Умерла вдова через две недели. Смерть ее прошла незамеченной, а мемуары наделали много шуму.
Немедленно после отмены цензуры немкино издательство перестало получать дотации из Бонна, и она перешла на торговлю антиквариатом. Цены вначале были такие, что она гоняла целые составы в Германию, штабелями возила мраморных и бронзовых вождей в запломбированных вагонах. Немка ничего не могла поделать: все предки ее до десятого колена были приличные люди, бюргеры. Сколько она ни боролась с наследственностью, деньги к ней так и липли.
Что же касается дуры-Таньки, то она обнаружила, что подзалетела тогда в подъезде от искусствоведа Кости. Она ужасно не любила делать аборты без обезболивания, хотела, чтоб ей вкололи по блату новокаин, и имела глупость признаться сотруднику и попросить у него денег на взятку врачихе. Сотрудник денег не дал, но от отвращения перестал ее даже вызывать, уволил, можно сказать. А Танька, пока суд да дело, пропустила время, и пришлось ей как дуре рожать.
Самые подробные сведения и наиболее полный список гостей поступили от хозяина дома, Марлена, и сработала тут не кровь большевиков, а страсть вундеркинда давать развернутый, обстоятельный, эрудированный ответ на все вопросы. Невежество следователя вызвало в нем непреодолимое желание поправлять и корректировать. Ему необходимо было доказать, что он материал назубок знает.
Благодаря усилиям старых большевиков срок Марлену дали всего ничего, детский. Но родители на этом не успокоились, продолжали тянуть за все ниточки, нажимать на все кнопки, и в конце концов им дали выговор по партийной линии. И все равно большевичка продолжала беспокоить людей. Ничему ее жизнь не научила, не закалилась она в революционном горниле, полезла на рожон. Тогда их открепили от Кремлевки, и пайков лишили, и поликлиники.
Вернувшись, Марик длинных умных слов больше не произносил, а матерных тем более. Он вскоре женился на дуре-Таньке, которая его очень жалела. И вот до чего же Таньке повезло: Марик взял ее с ребенком, девочка росла в шикарной квартире, и Марик оказался такой хороший, тихий, домосед.
А Лена как в воду смотрела: загребли Костю очень скоро после проводов. Тонкий и ранимый теоретик Костя получил огромный срок. Видимо, его способность не сосредоточиваться на конкретном и реальном и презирать бытовые детали оказалась гораздо сильнее и глубже, чем кто-либо мог предполагать. На основе предложенной ему судьбой реальности создал он, как всегда, свою концепцию и теорию; теория эта не включала в себя ни малейших уступок суровой реальности и уж точно не включала ни малейшего сотрудничества со следствием. На допросах он молчал, а на суде произнес свое знаменитое последнее слово, ходившее потом в списках долгие годы. И все эти долгие годы Костя сидел, до самого исторического переворота.
Георгий после проводов доноса не написал, просто не успел. Ему предстояла через два дня загранка.
И так получилось, что загранка Георгию невероятно понравилась. Загранка оказалась совершенно родной. Он знал, куда надо явиться, и явился с заранее подготовленным планом сотрудничества, назвавшись, впрочем, не лейтенантом, а подполковником. Ему были чрезвычайно рады как ценному перебежчику.
Георгия поразило, насколько проще была тут жизнь. Естественно, санузлы были у всех. А за продажу совести человеку с его опытом платили уже на уровне бассейна, сауны, джакузи. Более того: вертеться тут надо было только до получения зарплаты, а после получения дензнаков вертеться уже совершенно не надо было. Это было поразительно: деньги заменяли блат, угрозы, взаимные услуги. Все блага жизни можно было иметь без связей, за простые купюры. Георгий не переставал по-детски радоваться первозданной свежести здешней осетрины во всех ее формах и воплощениях.
Он вскоре опубликовал свою важную и часто цитируемую книгу. А именно: почти дословный пересказ правозащитного письма, сочинявшегося во время проводов.
И правозащитники, услышав свой собственный текст по «Голосу», чрезвычайно обрадовались. «Вот, — говорили они, — он оказался человеком, выбрал свободу. А мы всех подозреваем: тот стукач, этот стукач…»
А Лену после проводов до самого отъезда все тошнило. И продолжало тошнить в свободном мире. Так вот и получилось, что контрабанду Лена все-таки вывезла, только это было не открытое письмо к мировой общественности, а сын ее, уроженец Питтсбурга.
Жизнь Лены в свободном мире сложилась не так блестяще, как предполагалось. Попала она вначале в Питтсбург; и надеялась, что на год, да так и застряла на всю жизнь. Всякий раз что-нибудь в ее карьере неожиданно срывалось. У нее было странное суеверие, что ее преследовал какой-то безликий злой гений.
Так оно и было, хотя он был не особенный гений. В свое время соответствующие заграничные органы отсосали из Георгия все сведения о работе конкурентов и спустили его на тормозах в академическую жизнь. В университетах Георгий столкнулся с западной профессурой, с удивительными людьми, которые разговаривали о марксизме, троцкизме, меньшевизме, мелкобуржуазной стихии и диктатуре пролетариата по собственному желанию и в свободное от работы время. Георгий начал опять говорить об ерничестве, фрондерстве и нигилизме диссидентов, о государственном мышлении, стабильности и реалистичности руководства; это среди заграничных интеллектуалов срабатывало замечательно. Кроме того, несмотря на презрение к потребительскому обществу, жили интеллектуалы очень порядочно.
У него была цепкая профессиональная память. Он помнил Мартовские Иды, как не помнил никто из участников. Другие помнили сугроб у подъезда, вопивших кошек; другим казалось, что все было так романтично, что все были так молоды, что все были во всех влюблены. Он же прекрасно помнил, кто, где, что, с кем, когда и кто кого. Помнил кухню, где сидел он с друзьями, людьми, чьи имена принадлежат теперь истории. Помнил, как он рассказывал им еще только зарождавшуюся тогда идею своей будущей книги…
Помнил девицу пьяную, сидевшую почему-то на кухне, где ей сидеть не полагалось по рангу. Которая вылезла еще потом из спальни, шлюха, и посмотрела на него, как солдат на вошь.
Несколько раз Джордж, бывший Георгий, задумчиво говорил на коктейлях:
— Боюсь, что Элен — человек не того ранга, который вам нужен… По словам великого писателя: осетрина должна быть первой свежести…
К нему прислушивались, потому что говорил он очень тихо и медленно.
Позднее, когда на бывшей георгиевской родине произошли революционные перевороты, в результате которых те, кто были когда-то наверху, оказались наверху, а те, кто раньше были внизу, оказались внизу, — Георгий завел собственный бизнес, в партнерстве с одним бывшим коллегой. Они в старые времена лично не были знакомы, но коллега хорошо знал Георгия заочно, он вел на него досье после побега.
Теперь они сидят иногда по вечерам в джакузи, которое у Георгия на открытом воздухе, деревянное, японского типа; с большим вкусом сделано. Время от времени с мягким стуком падают в траву шишки, в сиреневых сумерках жужжит незлобивый калифорнийский комар; они сидят в горячей булькающей воде, шевелят большими волосатыми животами, ругают Запад…
Квартира оказывается настолько непохожей на его детские сны, что молодой человек из Питтсбурга рассказывает впоследствии маме Элен, будто друзья ее переехали.
Дура-Танька встречает совершенно незнакомого сына полузнакомой когда-то Лены объятьями, поцелуями и чуть ли не слезами. Она очень подобрела и раздобрела. Почти с порога она сообщает гостю свою главную мысль, до которой дошла своим умом и очень ею гордится. Она теперь сообщает эту свою мысль всем встречным:
— Раньше, — говорит дура-Танька, — у нас в стране был порядок. А теперь бардак. Полный бардак.
Иностранец улыбается лучезарной улыбкой человека неискушенного и выросшего среди неискушенных людей. Простодушная его белобрысость и зубастость до такой степени пенсильванские, что даже мама Элен уже совершенно забыла об их изначальном происхождении.
Дуры-Танькина дочь Натуська назвала кучу гостей на встречу с иностранцем.
Молодой человек объясняет, что окончил университет, cum laude. Никто не реагирует.
— С отличностью, — застенчиво поясняет он.
Натуська киснет со смеху.
Молодой человек огорчается; не за себя, а за маму. К двадцати пяти годам он уже понял, что его cum laude — главный итог Лениной жизни.
Натуська клеится к гостю, просто так, чтоб иностранец зря не пропадал. Но она ему почему-то совершенно не нравится. Белесость ее и торчащие зубки что-то ему смутно напоминают. И вообще ему нравятся черненькие — африканки, латиноамериканки. Кроме того, если язык материнских друзей молодой человек из Питтсбурга еще кое-как понимает, то язык младшего поколения непонятен ему совершенно; особенно непонятны постоянно вставляемые в разговор искаженные английские словечки.
Непонятны ему и всё новые и новые толпы гостей, подтягивающиеся после полуночи. Непонятно количество бутылок, которыми быстро зарастает стол. Совершенно непонятен салат оливье. Хотя вид и запах квартиры молодому человеку из Питтсбурга частично знакомы. Он одно время был добровольцем и развозил бесплатные горячие обеды бедным старикам и тяжелобольным. Он узнает эту безнадежную пыль повсюду, духоту от перегретых батарей, завалы каких-то ненужных тряпок, поломанных вещей. Только книг почему-то ужасно много: на полках, на полу. Кастрюли стоят на книгах. Хозяин книг, Марленчик, уже давно умер в преклонном для этого поколения возрасте сорока пяти лет.
Какой-то старик с клюкой набрасывается на гостя с умопомрачительными теориями о пороках американской демократии и о ее неминуемой и скорой гибели. Демократия у молодого человека связана навсегда со школьной экскурсией в Филадельфию и вызывает немедленные воспоминания о страшной жаре, которая в тот день была, горячей мостовой, выложенной узкими, вылощенными, как музейный паркет, историческими кирпичами, о раскаленном металле надтреснутого Колокола Свободы, об который обжег он свой восьмилетний палец. И потом о цифрах: число поправок к Конституции, число судей Верховного суда, число конгрессменов в пропорции к населению штата… Его так долго обучали устройству этой демократии, с детского сада до аспирантуры: как она работает и какие в ней рычажки, и детали, и противовесы, и пружины, и как за ней следить, чтоб хорошо работала, — ему кажется иногда, что эту старинную, восемнадцатого века и сложнейшего устройства демократию он мог бы разобрать и собрать с закрытыми глазами. Как все население страны, от бездомных до сенаторов, он суеверно боится, что если вытащить какой-нибудь устаревший архаический винтик, то все вдруг развалится — ведь на самом деле никто не понимает, почему так повезло, почему все работает уже столетия; подозревают, что держится на Божественном Провидении. Молодой человек только вздрагивает от совершенно святотатственных и неожиданных предложений странного старика. Например: полностью и немедленно изменить всю систему голосования. Ему никогда и не мерещилось, что можно до такой степени пренебрегать деталями и конкретной реальностью, до такой степени широко мыслить, без всяких ограничений практическими соображениями, признавая только абсолютный идеал, не подозревая даже, что прагматизм — не ругательство, а философское течение… Вышколенный уважать чужое мнение, особенно мнение представителей чуждой цивилизации, он прислушивается с почтением, его ничто не шокирует — ни полное незнание стариком элементарных фактов, ни отсутствие логики. Наоборот, все это невероятно соблазнительно. Демократия у старика совсем другая, без цифp. Kак Свобода на баррикадах — красивая, полуголая, со знаменем и пистолетом. И никаких кругом дотошных адвокатов, никаких буквоедов-законников, одни герои в разодранных белых рубахах. Старик кричит: «Да я тебе элементарно, на пальцах могу объяснить, как это делается!» А пальцы у него удивительные: заскорузлые, корявые. Руки как грабли. Как будто этот профессор полжизни проработал чернорабочим или лесорубом. Молодой человек из Питтсбурга не обижается за демократию, но ему опять немного обидно за маму. Именно для этого старика он почему-то должен был тащить целый отдельный рюкзак с подарками, и Элен настаивала, чтоб они обязательно встретились и познакомились. А старик ни одного вопроса не задал ни про Лену, ни про самого молодого человека, ни про страну, из которой тот приехал…
Сына фиктивной жены, записанного в паспорте, Костя всю жизнь честно считал своим единственным ребенком. Сейчас этот сын решительно прерывает политическую дискуссию и отправляет старика домой, спатеньки пора; а сам остается еще погудеть с ребятами. Сын фиктивной жены подпрыгивает на костылях. Ногу он потерял на войне. Он может с закрытыми глазами разобрать и собрать автомат Калашникова.
Под утро Танька просыпается от головной боли и жажды, решает, в который уже раз, что водки ей, дуре, пить нельзя, возраст не тот; и идет на кухню попить водички. Закуривая, Танька слышит знакомое чавканье и причмокивание — так чавкает во сне Натуська, с младенчества и по сей день. Но доносится чавканье не только из Натуськиной комнаты, но и из гостиной, где завалились на большевистской тахте молодой человек из Питтсбурга и фиктивный сын. Танька бродит из комнаты в комнату с сигаретой в зубах, прислушиваясь, и присматриваясь, и занимаясь сложными гинекологическими вычислениями дней и месяцев, которыми так любят заниматься дамы. В голову ей, что бывает нечасто, приходят сразу две мысли, и одна другой горше. Первое: нельзя будет пристроить Натуську за этого иностранца, а как она, дура, размечталась. И второе: раньше тоже порядка не было. Всегда был бардак. Всегда один бардак.
Они чавкают во сне и вздыхают совершенно одинаково, все трое. И лица у них совершенно одинаковые во сне, даже у старшего брата выражение какое-то невинное. Кажется, что у них все впереди, вся жизнь, и даже кажется, что в их жизни еще может быть какой-нибудь смысл. Во всяком случае, хочется верить.
Переселение душ
Нашли их на другое утро, но никому из жителей тех мест не хотелось входить в контакт с полицией, хоть бы даже и по телефону, и анонимно. Однако в конце концов их забрали в морг; и опознали недели через две, по иммиграционным отпечаткам пальцев.
Они и родились почти что в один день и жили в одном доме. Женечку родители назвали в честь тети Евгении, а Сашеньку бабушка назвала в честь, конечно же, великого национального поэта. В Сашенькином случае дело осложнялось тем, что не только имя, но и отчество бабушке пришлось сочинять. Мать несовершеннолетняя, которая приходилась бабушке даже не дочерью, а племянницей из провинции, почти немедленно исчезла по своим делам и впоследствии не появлялась. Отчеством Сашеньке, по молодости лет, так никогда и не пришлось воспользоваться.
— Смотри, смотри, Сашенька, кто там в зеркале? Это наша деточка в зеркале! А почему у тебя такая ямочка над губкой? Потому что когда детки должны родиться, то ангел прилетает и губки им замыкает, вот так! Чтобы они не рассказали, что помнят; они ведь все помнят про вечность, про переселение душ…
Ангел имеется в виду, конечно, символический. Бабушкины религиозные убеждения сводятся к довольно смутной мысли, что что-то все-таки есть; но, как интеллигентный человек, атеисткой она себя не считает.
Но, действительно, ребенок еще совсем недавно существовал только в виде идеи, гипотезы, был только надеждой и намерением. Или ошибкой и неумолимо приближающейся большой неприятностью. И вдруг появляется на свет и оказывается таким сгустком именно материи, беспамятной материи. И тем не менее, как скоро начинает это беспамятство проясняться… Как все же пугает этот недоумевающий младенческий взгляд. Недоумевающий: куда же вы меня? зачем? что же это такое? Вроде бы младенец, очнувшись от шока рождения, помнит еще нечто лучшее и спрашивает: куда же это меня занесло? Может быть, даже по ошибке, совсем не туда, куда предполагалось? Может быть, предполагалось не мальчиком, а девочкой; не девочкой, а мальчиком?
Реальность случилась недавно и может расползтись и исчезнуть в любой момент. Все эти временные обстоятельства: мороз за окном, темнота зимняя среди дня, крик и ссоры на полупонятном еще языке, динозавры, которые водятся в страшной, черной ванной с синим адским пламенем газовой горелки, вещь, падающая вниз, всегда вниз, если ее выбросить из окна, — все это так еще непроверенно, недостоверно.
— Смотри, Сашенька, кто там в зеркале?
Сашеньке неинтересно смотреть в зеркало на себя и бабушку. Вот что интересно: зеркало это трехстворчатое, и можно сдвинуть створки и сделать коридор, улицу. Зеркало само в себе отражается, без конца. И там должно быть зазеркалье, где настоящая жизнь.
Вещи падают из Сашенькиных рук постоянно, и в третий, и в четвертый раз отказываются взлетать, и глазки смотрят рассеянно.
Бабушка предохраняет вещи от разрушения, сторожит все эти эпицентры, где сила притяжения особенно угрожающа, — лестницы, подоконники; следит, чтоб ребенку не удалось улизнуть через какие-нибудь прорехи существования. Бабушка ограничивает Сашеньку скучными законами природы, которые, наверное, сама и выдумала.
К тяжести еще прибавляется липкость бабушкиной любви, липкость увеличивает притяжение. Любовь — это такое липкое, клейкое, из которого невозможно выпутаться. Отрывая эти тягучие нитки клея, удается только все больше и больше запутаться и завязнуть.
Сашенька пытается от бабушки спрятаться, под столом, например. Или на прогулке куда-нибудь отойти. Но это совершенно бесполезно, все равно она находит, плачет, всматривается в отчаянии в Сашенькины рассеянные глазки.
Из-за этих рассеянных глазок у бабушки возникает идея музыкального образования. Музыка Сашеньке нравится. Гладкие клавиши, белые и черные, белые и черные, и совсем не похожие на клавиши закорючки на бумаге, и не имеющие никакого отношения к закорючкам и клавишам однообразные звуки гамм; время останавливается, на Сашенькину голову опускается некий полусон, туман… А что происходит в этой голове — никто не знает. Никто никогда не знает, о чем ты думаешь; можно и не прятаться под столом.
Одновременно с музыкой Сашенька начинает читать, это тоже помогает, отвлекает от скучного времени. В книжках есть пропуски между одним интересным событием и другим, провалы, не заполненные тягомотиной, непрерывным течением жизни.
Дети такие часто болезненные, их часто подташнивает от зыбкой реальности.
Бабушка тоже не любит ежедневной возни, в домашнем хозяйстве не хватает сюжета, драматического напряжения. Она все время придумывает сложные и угрожающие жизни ребенка болезни. Детство у Сашеньки именно такое, как модно в образованных семьях: сплошь из необитаемых и таинственных островов, сыпи, компрессов, мушкетеров, микстур, пестрых лент, пилюль, налетов в горле, пляшущих человечков, навсегда вплавленных в мозг бредом и жаром.
Кончаются все болезни в переходном возрасте. Бабушка, побаивающаяся всякой физиологии, от проблем телесных скромно отдаляется, переключившись полностью раз и навсегда на развитие Сашенькиного интеллекта. У Сашеньки от всего этого остается презрение и недоверие к своему, бабушкой вылеченному и выкормленному телу — источнику унижений, боли, многодневной постельной скуки. Кроме того, остается абсолютный стоицизм; ни о каких болезнях и заикаться не хочется, с аппендицитом увозят уже на «скорой помощи», после нескольких дней глухого спартанского молчания.
Так что с подросткового возраста и охраной Сашеньки от повреждений, и всем прочим, с интеллектом не связанным, занимается уже Женечка.
Женечкина надоедливая любовь к Сашеньке началась с незапамятных времен.
Некоторых детей, видимо, этот родильный ангел замыкает основательно, раз и навсегда, а может, им и помнить нечего. Они не задумываются никогда: а не подкидыш ли я? Они не понимают, что подкидыш — почти что принц. Для Женечки папа-мама, семья-школа, зима-лето, мальчики-девочки — все это несокрушимая и единственная реальность. Только по части Сашеньки монолитная Женечкина душа дала почему-то трещину, как это бывает иногда в случаях несколько чрезмерного душевного здоровья.
И любовь эта выражается в какой-то степени лестно: в подражании, следовании за каждым шагом. Разинув рот, сося палец, расплываясь в блаженной, обожающей улыбке, смотрит Женечка на Сашеньку; как смотрят дети на диковинное существо, на салют, на канатоходцев в цирке. Бабушка расценивает эту щенячью преданность как первую из выданных ее удивительному, одаренному ребенку премий, которых, она уверена, предстоит еще много. По Женечке, этому эталону заурядности и нормы, можно проверять, как быстро Сашенькино развитие уходит вперед.
Другие дети, пока были совсем маленькие, тоже бывали заворожены и играли в придуманные Сашенькой игры. Но годам к десяти все они перестают интересоваться ведьмами и волшебниками и ненавидят воображал, задавак, зубрил и подлиз. И Сашеньке пришлось бы плохо, но Женька, собака, защищая Сашеньку, не просто дерется, а дерется не по правилам, даже кусается. Самого высоко ценимого детьми качества — отчаянности — в Женечке больше, чем во всех других, вместе взятых.
Но зубрилой Сашеньку дразнят зря. И подлизывания никакого нет; наоборот, это учителя немного трепещут. Им редко встречаются такие развитые, не по годам эрудированные дети; можно сказать, никогда почти не встречаются. Учителя поеживаются от этих рассеянных глаз и задают вопросы с опаской, боясь раскупоривать неудержимый поток подавляющей Сашенькиной эрудиции.
Женечкины детские столкновения с медициной, которых тоже немало, носят исключительно хирургический характер. Начинается со ржавых гвоздей, на которые ребенку этому свойственно наступать в дальних закоулках двора, куда хорошие дети не ходят, и продолжается сломанными на коньках, лыжах, крышах и заборах руками и ногами. Позднее постоянно взрываются петарды и колбы с загадочными экспериментами. И все это при необычайной ловкости, даже грации. На Женечкин дружелюбный и настойчивый интерес к физическому миру законы природы отвечают взаимностью и многое спускают. Родители кричат: «Это тебя чудо спасло! В следующий раз так не повезет!». И Женечка сквозь сопли и рев заверяет, что следующего раза никогда, никогда больше не будет! Это совершенно искренне. Во-первых, у них в семье все друг друга любят и не хотят огорчать; во-вторых, страшно больно.
Сашеньку удивляет этот возмущенный и агрессивный рев: почему надо немедленно сообщить всему миру, что Женечке в этот момент плохо? Значит, в остальное время — хорошо? Это поразительное открытие. Если во все остальное время, с непорезанной рукой, Женечке хорошо, то, значит, все люди внутри устроены по-разному, некоторым почти всегда хорошо, некоторым — не скучно. Это открытие, летний двор, солнце, рев, хлещущая кровь всегда будут вспоминаться потом, при взгляде на серебристый шрам на загорелом Женечкином плече. Потому что от всех приключений остаются Женечке только разнообразные светлые шрамы на золотой, загорелой коже.
Женечкины родители, люди тяжело добросовестные, много работают. Они встают утром из чувства долга и ложатся вечером для здоровья. Они считают, что на жизнь надо смотреть реалистически. Время от времени они говорят: надо собрать наших. Они вообще-то мало разбираются в том, что люди делают помимо работы и семейных забот, но принимают гостей, как полагается. Вынимают специальный гостевой сервиз и разговоры за столом ведут на специальные гостевые темы. Совершенно ясно, что в обычной жизни они никогда ни про что такое не говорят. Происходят иногда странные недоразумения; оказывается, что по какой-нибудь гостевой теме — про бессмертие души, например, или про абстрактное искусство — муж и жена имеют совершенно противоположные мнения. Они смотрят друг на друга в недоумении, явно делая умственную заметку обсудить это впоследствии наедине, и так же ясно, что забудут, не успеют. Они работают, заведуют лабораториями, строят гараж. На холодильнике у них висит расписание дел на месяц вперед.
Сашеньку в старших классах тоже приглашают, хотя все никак не могут понять: отнести Сашенькино магическое влияние в дебет или в кредит? С выкрутасами ребенок, практически подкидыш, несчастный ребенок. С другой стороны — такая начитанность, эрудиция в гуманитарной области. Это Женечке полезно; потому что, говорит мама, без интересов в гуманитарной области нельзя стать всесторонней личностью.
К концу вечера от зубодробительной скуки, от которой просто мозги чешутся, Сашенька начинает произносить монологи.
Женечкин папа слушает подозрительно. Он тоже всё книжки читает, он считает своим долгом следить. Притом действительно читает, не перескакивая с одного на другое, а добросовестно прочитывая все страницы подряд; и, хотя впоследствии своих мыслей о прочитанном не думает, но все факты тренированным умом помнит. Ему совершенно ясно, что Сашенька очень много перевирает, особенно даты. Несет отсебятину, связывает зачем-то вещи из совершенно разных областей, путает терминологию. Удивительнее всего: как можно с таким жаром и интересом говорить обо всех этих несерьезных, гостевых, праздничных вещах, как будто это так же важно, как, например, выбивание денег на лабораторию?
Сашенька все говорит, говорит. Если много говорить, то не надо других слушать и не так скучно. Все окружающие — школа, Женечка, бабушка — кажутся персонажами предисловия, которое надо поскорее перелистать, после которого должен быть пропуск, белый лист, и — первая глава, в другом мире и с другими действующими лицами. Ведь должна же существовать где-то вместо всего этого занудства и убожества — и настоящая жизнь.
Бабушка не бывает на этих обедах. Она находится в сложных отношениях с Женечкиным семейством, не ходит к ним и у себя не принимает, чего они никогда не замечают по крайней занятости и крайней простоте душевной. Поэтому бабушка Сашенькиных монологов никогда не слышала, а она бы так ими гордилась.
— Я леплю душу этого ребенка, — говорит бабушка знакомым.
У бабушки гости тоже бывают редко, и потом она подолгу сидит за столом и курит. Бабушка очень красива. Красота эта была ей дана по ошибке и плохо ей идет, как будто с чужого плеча; как и с домашним хозяйством, с красотой своей она обращается неумело. Она сидит, курит, из глаз, накрашенных по поводу гостей, текут черные слезы; и пахнет от нее бездарными сладкими духами. А Сашенька, промолчав весь вечер, смотрит на нее из темноты. Она всегда принимает гостей при свечах.
— В тебе совершенно нет тепла, — говорит бабушка.
Сашеньке представляется грелка, отвратительно булькающая и переливающаяся, пахнущая резиной грелка. Бабушка хочет, чтоб в Сашеньке было тепло, как в грелке.
— Ты, — говорит бабушка, — со своей отрешенностью! Ведь тебе предстоит огромное будущее, вокруг тебя будут удивительные люди. А с кем ты дружишь? Ведь это такой примитив! И сколько может продолжаться эта бессмысленная дворовая дружба? Неужели ты любишь эту жизнерадостную амебу?
— Нет, — честно отвечает Сашенька.
Как правило, Сашенька избегает говорить бабушке правду, но значения этого ответа она все равно не поймет. Дело в том, что где-то к старшим классам Женечкина любовь достигла такой силы прямых, непреодолимых желаний и была настолько однозначнее и сильнее, чем рассеянные возражения Сашеньки, что гораздо проще было с этой решительностью никак и не бороться. И любовь эта была направлена вовсе не на Сашенькину духовную суть и одаренную натуру. Как дети хотят красивое и яркое полизать, так, видимо, и Женечке необходимо было для полной близости, для отчаянной попытки понимания сблизиться и узнать Сашеньку единственным известным способом. В Женечкиной рисковой, отчасти разбойничьей жизни был уже в этой области какой-то опыт. В смысле понимания из этого, конечно, ничего не вышло, а в смысле преданности собачьей и абсолютного обожания стало еще хуже.
Для Сашеньки происшедшее между ними не имело особого значения. Самым интересным в этой истории была именно тайна, неоднозначность, двойная жизнь, преступление.
По семейной традиции Женечка получает научное образование, с такой узкой специализацией, что даже название этой профессии можно найти только в словаре; и этот один квадратный сантиметр мироздания изучается Женечкой с большим старанием и любовью.
И Сашенька тоже защищает какой-то диплом, на какую-то музыковедческую или общекультурологическую тему; это неважно.
После этого время окончательно останавливается. Это в детстве кажется, что все может, даже должно измениться; в детстве есть хоть минимальная надежда. Пусть и в том же мире и даже в том же окружении, но роль, по крайней мере, будешь со временем играть другую. Теперь и этого нет. Постоянно стоит не то март, не то февраль. Снег тает, бурая, чавкающая жижа под ногами и кофе в кафетерии возле Сашенькиной работы — одного цвета. И лужи липкие от этого кофе на грязной пластмассе, и лужи на улице, постоянно промокшие ноги, насморк, темнота — все это не имеет никакого отношения к настоящей жизни, даже представить себе невозможно, что окружающие люди относятся к этому существованию серьезно, строят какие-то планы. Изменить ничего нельзя; главное — от Женечки невозможно избавиться.
Женечке вообще не свойственно обижаться, а тем более на Сашеньку. За Сашенькой надо следить, ухаживать, защищать, а обижаться некогда, слишком увлекательна и заполнена жизнь. А живет Женечка очень активно, дружит с сослуживцами. Они разговаривают между собой на недоступном посторонним языке: к эзотерической профессиональной терминологии примешивается еще и терминология байдарок, аквалангов, горных лыж, сложного спорта с оборудованием. Добычей и починкой этого оборудования, планированием поездок, закупкой припасов занято все свободное от работы время. В этих походах происходят легкие и короткие Женечкины измены, которые к Сашеньке не имеют никакого отношения, от которых не остается даже и поверхностных следов. Только всякий раз принимается очередное решение, что этого никогда, никогда больше не будет.
Про любовные их отношения, по Сашенькиному настоянию, не знает никто. Объяснения, простодушно изобретаемые для себя Женечкой, — почему об этом нельзя знать даже самым близким и преданным друзьям, а самых близких и преданных друзей у Женечки полно, — эти объяснения неверны. Никто ничего не знает потому, что если и тайны не останется, то в чем смысл этого унижения и компромисса? Для Сашеньки считать Женечку и все, с Женечкой связанное, хоть и временным, но важным эпизодом жизни было бы чересчур глупо.
И, начиная с этого времени, у Сашеньки случаются не то чтобы запои — это было бы понятно на общем фоне — а какие-то ситуации в странных и совсем уж пропащих компаниях. Сашеньку приходится спасать и вытаскивать. Женечке ясно, в чем причина всего: Сашенькины таланты не находят признания и применения. Хотя и не совсем понятно, в какой именно области эти таланты, но они несомненны и исключительны.
Потом возникает на некоторое время интерес к буддизму, в котором хороши вовсе не переселение душ и отказ от желаний, — Сашеньке известно по опыту, что полное отсутствие желаний ни к какой нирване не ведет, только все к той же скуке, — хороши в буддизме бесконечные повторы, гудения, мантры, от которых транс и туман в голове, как когда-то от гамм. Это скука, возведенная, по крайней мере, уже в другую степень. Но и странные компании, и буддизм приходят и уходят, а остается Женечка со своей непрошенной преданностью и непереносимой активностью жизни. И Женечке всегда, всегда хорошо. Эта жизнерадостность, которая когда-то казалась загадочной, теперь уже понятна Сашеньке: большинство людей никогда не натыкаются на стены камеры и живут в иллюзии неограниченной свободы.
Между тем в мире, где ничего и никогда не изменяется, в этом окружающем мире постоянного февраля, начинают происходить необычайные и непредвиденные изменения. В какой-то момент выясняется, что возможна поездка. Вернее, поездка почти невозможна; но не совершенно невозможна, как в прежние времена.
Бабушка советует конфеты, конфеты в красивых коробках, дарить секретаршам, от них все зависит. У Женечки и по конфетной части оказываются какие-то знания и знакомства, и коробки удается раздобыть. Но, в конце концов, может быть, действует другое. Возможно, что эти парки, прядущие нити судеб, — всемогущие секретарши — тоже чувствуют Сашенькину странную ауру. Вроде бы именно Сашеньке и полагается такая фантастическая поездка. Сашенька прощается с бабушкой, с Женечкой, и они уверены, что увидятся через две недели.
Они всегда в чем-нибудь уверены.
Ночь проходит в самолете, как когда-то в ангине и кори. Равномерный гул, непонятно — внутри, в голове или снаружи; неполная темнота, лихорадка. И еще вначале кажется, что надо будет что-то решать. Но когда из глухой черной ночи самолет начинает идти на снижение, внизу, под самолетом, начинает разворачиваться, и вздыбливаться, и нырять огромное сверкающее пространство — как исправленная карта звездного неба, карта новой, невозможной, невероятной галактики, геометрически расчерченной пересекающимися и разбегающимися шеренгами, цепями и кругами мириад звезд, совершенно затмивших слабо рассеянное мерцание старых звезд наверху.
И никакого решения принимать не надо. Эта светящаяся гигантская воронка, затягивающая в себя самолет, это и есть будущее. Давно предугаданное, знакомое зазеркалье.
Героический период активных действий, первый и последний в Сашенькиной жизни, продолжается около года. Надо вставать в пять утра и ехать в самый конец города, где прежде была гавань, где теперь судоходство сменилось судопроизводством, но чайки все еще летают и кричат на старом морском языке; кружатся и кричат между шпилями судебных зданий, как прежде между мачтами кораблей. Надо стоять в бесконечно длинных, крикливых очередях среди беженцев всех племен и народов; они тоже базарят и кричат, как чайки, на множестве непонятных и гортанных языков; тоже тоскливо и потерянно. Они едят дешевую уличную еду, пахнет горелым жиром. Это запах из учебников истории, это бароны-грабители жарят на вертелах вепрей. Отстояв в очередях, Сашенька бродит по улицам, где все продается, продается, продается; в крошечных лавочках можно найти подержанные летающие тарелки, засушенные человеческие головы. Город этот безусловно настоящий, не из предисловия, а из первой главы. И Сашеньке кажется, что настоящая жизнь начнется вот-вот, почти уже началась.
Потом все вдруг останавливается.
Здесь тоже есть законы природы; более того, если в прежней жизни они иногда все-таки нарушались, хотя бы по бестолковости, то здесь они незыблемы и пользуются всеобщим уважением. Правил оказывается гораздо больше, чем раньше. Даже отклоняться от правил полагается по каким-то своим правилам. Правила здесь другие, не те, что прежде, но святая вера в эти правила точно такая же. Все уверены, что только такие правила и могут существовать, что они абсолютны, а Сашеньке все вспоминаются другие и прямо противоположные абсолютные правила, и от этого тошно вдвойне. На всех увиденных Сашенькой холодильниках висят расписания дел на месяц вперед. Как будто время, расписанное по секундам, перестает нудно двигаться все в одном и том же направлении, не прерываясь, тупо и равномерно пережевывая важное и неважное. Люди здесь все время говорят друг другу, бросают на ходу, между делом: «Я тебя люблю!» — «И я тебя!». Как будто значение этого слова — «люблю» — всем заведомо понятно.
Одно преимущество — здесь очень легко спрятаться, никто тебя особенно не разыскивает. И никакой определенности, принадлежности, ни к классу, ни к кругу, ни к слою населения; никто не опознает тебя с первого взгляда, никому о тебе ничего заведомо не известно. Никто не ловит, не связывает, не ограничивает мнениями о тебе, надеждами на тебя, навязчивой любовью. Главное достижение Сашеньки в этой новой жизни — пустота. Реальности — людей, вещей, постоянной работы, средств к существованию — почти нет. В этой пустоте, паузе, можно сидеть и ждать. Продолжаться эта ситуация не может, она должна измениться.
Сашенька ходит по городу. Это такой город, что если ходить долго, безостановочно, то время исчезает, и забываешь, кто ты и что с тобой было раньше; и кажется, что можно исчезнуть за каждым углом, что новая жизнь может начаться за следующим поворотом.
В отличие от того города, в котором когда-то Сашеньке случилось родиться — разлапистого, расхлябанного, приземисто-квадратного, который обволакивал, удерживал, — этот город никого не удерживает, никому не навязывается в друзья и родственники, никого не считает своим.
Город узкий. Длинный, как нож. Каждая улица уходит в узкую щель неба, как в светящуюся щель приоткрытой двери, каждая улица уходит в бесконечность, к точке схода, к концу перспективы; густота материи уже достигла здесь предела насыщенности и дробится, рассыпается, кристаллизуется; город отражается сам в себе. Город выстраивается из бестелесных прямоугольников расколотого отраженного неба. Закат угасает на востоке, восход вспыхивает на западе. Все здесь гости, все чересчур старательно одеты и чересчур оживлены, и шум толпы, как шум собирающихся гостей в начале праздника, шум нервного, возбужденного ожидания.
Сашеньке снится иногда, что появляется Женечка и привозит с собой сундук со старой одеждой, пропахшей кислыми окурками, плохо отстиранным потом, сладкими бабушкиными духами. Одежду эту, из свалявшейся шерсти свитер, Женечка натягивает на Сашеньку, заставляет надевать через голову. Сашенька путается в рукавах, задыхается в узком воротнике — по лицу, по рту ползет свалявшаяся тоскливая шерсть, а бабушка говорит: «Надень, надень, тут у вас такие сквозняки, в этом городе так дует». Конечно, это бабушка приехала, привезла сундук. Сашенька задыхается в отвратительном узком воротнике — в дверь звонят. Сашенька, полупроснувшись, думает: пожар, полиция, религиозные миссионеры? И глядит в глазок двери, ожидая мормонов или свидетелей Иеговы, жаждущих спасти, носителей благой вести, доброжелательные, темные, коричневые лица. Но лицо там — светлое, белое, то есть золотое, с золотыми волосами, с золотой кожей, с детской увлеченной, встревоженной улыбкой, все еще ожидающей от Сашеньки чудес, театра, канатоходцев. Это Женечка, совершенно без всякого чемодана, в свежей и старательной одежде.
Почти с порога — и даже Сашенька проявляет неожиданный почти что восторг — после того как они поднимаются с помоечного матраса, Женечка начинает все кругом переставлять, мыть и рассказывать, рассказывать, сообщая ненужные новости из прошлого.
Женечке пришлось вырваться из своего клубка родственников, друзей, коллег, среди которых было всегда так уютно и привычно, от которых и в голову не приходило чем-то отличаться, а наоборот, любая двоюродная сестра, любой соученик казался продолжением собственной личности. Произошло это не только потому, что без Сашеньки жить было немыслимо, но важна была и любовь к родителям, необходимость их содержать. Родители, реалистически глядя на жизнь, всегда откладывали на черный день, но все это пропало, когда жизнь вдруг вздумала совершенно нереалистически измениться. И вот Женечка, в результате всей этой любви, живет тут по контракту, в этом чужом, неродном, сумасшедшем каком-то городе. И у Женечки началась уже не только блестящая карьера, но и благосостояние началось, включая покупку дома с рассрочкой на тридцать лет; надо думать о будущем.
Говорит и Сашенька. И выговаривает все, все молча передуманное за это время замечательной спрятанности и уединения. Утешает только, что Женечка, как всегда, ничего не поймет, только запомнит даты, факты, адреса и иностранные слова.
Под утро в пыльном сером свете следующего дня на Женечкином наивно разметавшемся, вечно загорелом физкультурном теле светятся серебристые шрамы, знакомые Сашеньке с детства, на ощупь. «Как же это человеку удается извлечь из несовместимых цивилизаций золотую середину и соединить? — думает Сашенька. — Соединить нелепо, и из этого получается кольцо Мебиуса, имеющее одну непрерывную плоскость».
Пауза, старательно выдерживавшаяся уже несколько лет, за которой должна была последовать настоящая жизнь, эта пауза теперь безнадежно прервана.
Дом Женечкин на окраине. Скромный дом; по обе стороны ряды таких же новопостроенных домов. Женечка по выходным его красит, чинит, достраивает, не понимая панического ужаса Сашеньки при всяком упоминании о тридцатилетней рассрочке. Именно это ведь и хорошо в местной цивилизации: стабильность, возможность планировать на долгий срок — это-то и прекрасно! Представления о прекрасном у них не совпадают, более того — прямо противоположны. Но ведь любовь важнее, ведь они знают друг друга так давно, думает Женечка. Золотые Женечкины мускулы, удлиненные теннисом и бегом, всем этим инженерным спортом, походами на байдарках с пением песен, все это пришлось здесь очень к месту. Чудовищный акцент не вызывает смущения, узкая специальность оказалась совершенно необходимой для прогресса человечества, и название ее тут всем известно. Конечно, Женечку мучает тоска по своим. Кроме того, обидно и тревожно за Сашеньку. Почему даже здесь Сашеньке не выдали полагающихся премий, признания и блистательных успехов? Но в остальном, если только с Сашенькой все будет в порядке, в остальном все хорошо. Только непонятно — что происходит с Сашенькой?
А Сашенька каждый день уходит из дому. Люди, которых принято считать нерешительными, не представляют себе возможности терпеливо развязывать узел. Для Сашеньки — узлы можно только перерубать, только побег возможен. Но побег уже был, оказался недостаточным. Можно сбежать из дома с тридцатилетней рассрочкой, но все будет продолжаться в том же бабушкой вскормленном и залеченном теле. Что еще ужаснее — с тем же сознанием, постоянно перемалывающим навязанные правила и законы, опять и опять отказывающимся от этих правил, которые и отказа-то не стоят, которые необходимо полностью стереть, забыть и больше не знать, как в младенчестве…
Город все-таки единственное, что не оказалось подделкой и дешевкой. С городом трудно поспорить, город ничем не старается быть, он такой, какой есть, и никому не принадлежит. Всем этим озабоченным, старающимся толпам, у которых время расписано по секундам, город не принадлежит.
Город принадлежит, может быть, тем людям, которых увидеть можно очень редко, на одной из главных улиц, где небо сияет особым золотом в свежеотмытых, кристально-чистых стеклах. На несколько секунд между подъездом и лимузином можно видеть этих людей с удивительно ровной, розовой кожей лиц, более высоких, чем обычные люди. И воздух вокруг них потрескивает, покалывает, как от присутствия шаровой молнии. Это присутствие огромных — фантастических, баснословных — денег. Денег, о которых раньше Сашеньке никогда не приходилось ни задумываться, ни догадываться, не имеющих никакого отношения к тем деньгам, которые считают, копят на черный день и получают за отработанные часы. Эти — сокровища с таинственных островов, возникшие из риска, лихорадочного вдохновения, разрушения правил, измен, преступлений, тайн.
Ничего скопидомского и практического в таких деньгах нет, а есть магическая способность сужать и раздвигать пространство, покупать талант и ум, менять внешность и пол, убыстрять и замедлять время. Людям, обладающим этими деньгами, принадлежит город.
Им принадлежит город, но не совсем. Они подвержены страху, который ограничивает их свободу. Чем больше Сашенька ходит по городу, тем больше проясняется: люди, которым город принадлежит целиком и полностью, слились с ним и превратились в него. Они состоят из мусора и отбросов, лежат на асфальте в одежде цвета асфальта, там, где из канализационных люков, из кишок города поднимаются сказочные столбы пара, там, где ночью помойные мешки верещат и поют крысами, щебечут, как весенние кусты, полные птиц.
В этих местах небо в окнах не отражается. Небо здесь видно внутри домов, в пустых проемах окон: небо и черные сгоревшие балки. Удивительно, когда небо не снаружи, а внутри дома. Люди, которые живут тут, которым принадлежит город, они уже не живут в своем прежнем теле, в своем прежнем мире. У них нет рассрочки на тридцать лет.
Убегать надо не по плоскости, иначе останется все та же ненавистная плоскость, удушающая золотая середина. Убегать надо или вверх, или вниз. Вверх — невозможно, вверх надо унизительно карабкаться. И правила, и страх — там, наверху, почти такие же.
А вниз можно падать, вниз можно лететь…
Ветер страшный дует в этом городе. Чувство самосохранения у Сашеньки почти что выветрилось.
— Как это не по-нашему! — ахает Женечка.
Женечке кажется, что и губить себя следует в рамках национальных традиций, а не при помощи экзотических субстанций. Что пороки тоже делятся на наши и не наши. Женечка смотрит в ужасе своими преданными собачьими глазами сторожевой овчарки: шаг вправо, шаг влево считать за побег…
Сашенька наклоняется к зеркальцу, на котором три белые дорожки. Направо пойдешь, налево пойдешь…
— Неужели тебе своего будущего совсем не жалко? Ведь все наши такие надежды на тебя возлагали. Мы теперь материально обеспечены, тебе остается только реализовывать свои таланты! Ну меня не жалко — ладно, но собственная-то жизнь тебе важна?
«Нет», — думает Сашенька.
…Темная кожа человека кажется поседевшей; она покрыта пепельной, растрескавшейся коростой, как у давно забытых слонов, медленно умиравших в нищенском зоопарке, куда бабушка водила когда-то Сашеньку. Видимо, для просвещения, видимо, чтоб с детства стало понятно, что пантеры и жирафы тоже живут в тесных клетках, что им тоже никуда не деться от скуки.
Они проходят по туннелю, где вонь принадлежит уже к иному миру — оглушающая, не совместимая ни с чем в прежней Сашенькиной жизни вонь, — и выходят к реке. Река стоит совсем рядом, прирученная, серая, как асфальт. Над головой яростно, неистово, чудовищно ревет и вибрирует многоярусный мост. Здесь город раскалывается уже окончательно, все усыпано осколками и блестит разбитым стеклом, стоят пахнущие гарью скелеты автомобилей, полупрозрачные презервативы валяются, как выброшенные на берег медузы. Место это для Сашеньки правильное, точное, как попадание иглы в вену.
И начинается настоящая, подлинная жизнь. Наконец-то все, о чем когда-то смутно помнилось, что забылось потом, оставив по себе только подробную, детальную, утомительную ненависть к унылой реальности, ко всему, слишком долго задерживающемуся в поле зрения, — это приблизилось теперь и уже почти видно, светится, просвечивает сквозь разрывающееся в клочки существование. Это и есть призвание, дело, которым нельзя заниматься вполсилы, то, чего всю жизнь не хватало. Все неинтересное проваливается теперь куда-то между моментами великолепного, острейшего интереса. Город теперь принадлежит Сашеньке.
А Женечке остается сидеть ночами, уставив нос в сторону двери, а позднее все чаще и чаще выходить в глухую ночь и разыскивать. А потом и дом с тридцатилетней рассрочкой пропадает, потому что работа, конечно же, летит к черту. Между прочим, коллеги очень горюют, и прогресс человечества на их квадратном сантиметре замедляется после непонятного исчезновения Женечки. И, по свойственной ли Женечке добросовестности и настойчивому желанию изучить, и понять, и сблизиться, потому ли, что иначе нельзя следовать за Сашенькой повсюду, охранять и защищать, — но довольно скоро экзотические субстанции они добывают вместе и делят пополам.
Сашеньке теперь хорошо. Пространство имеет десятки, сотни измерений, дня и ночи нет, страха, утомительности собственного физического существования, главное — нудного времени, равномерного, безостановочного времени, больше нет.
Только Женечка все еще есть. Иногда Сашеньке смутно вспоминается, что с этого ведь и началась новая, настоящая жизнь: надо было убежать от Женечки. Все остальное удалось, а Женечка все еще тут. Глаза собачьи, которые были раньше глазами жизнерадостной дворняжки, это вечное присутствие, проклятие это, тяжесть собачьей преданности, банальная прилипчивость любви. Как гиря, как якорь, как жернов на шее.
Но как раз сила притяжения и может тут, как ни смешно, помочь. Это все у Сашеньки обдумано. Они ночуют теперь в полуразрушенном фабричном здании из красного кирпича, все оконные рамы здесь выбиты и подоконники низкие, проемы огромных окон почти до полу. В окнах ничего нет, только ночное небо. Внизу гудит шоссе, кто-то кричит и ссорится на полузнакомом языке. Горят синие адские огни.
Сил у Сашеньки немного, но можно подползти, подтащить к окну, потому что не осталось уже в Женечке ни малейшей тяжести физической, никакого сопротивления, скорее даже содействие. Происходящее между ними тихое копошение, беззвучная возня у ночного окна представляются Женечке нежными объятьями. И, как всегда, Женечке необходимо эти объятия продлить, не отпускать Сашеньку. И, как всегда, Сашеньке необходимо выскользнуть, освободиться, наконец-то совершенно освободиться, вот только отлепить, отлепить от себя эти исколотые руки.
Так они, обнявшись, и полетели.
Переводчик на Вавилонской башне
В такси пахнет.
Это неудивительно. Таксисты часто бывают из новоприезжих, они не знают не только правил местной гигиены, что гораздо опаснее — они не знают местного языка и правил вождения. Однако в этом такси пахнет странно: плесенью, тлением и подвалом. Более того, под ногами чавкает и хлюпает. Как в фильмах ужасов.
А таксист вовсе не новоприезжий. Имя его по лицензии Дуайт де Бетанкур. Он, значит, из потомственной новоорлеанской французской семьи. Лицо мосье де Бетанкура на фотографии — скелетообразное, наркоманское, с кривым длинным воровским носом и небольшими спокойными глазами убийцы.
Я думаю: к человеку с такой физиономией все относятся подозрительно, он полжизни проводит ни за что ни про что в полицейских участках. И я пытаюсь завести дружелюбный разговор.
— Что это у вас так мокро?
— Затопило на той неделе.
Дальнейших объяснений он не дает. Ну, затопило — так затопило. Вот и сейчас: поблизости так себе, скорее моросит, но дальше, к горизонту, проходят полотнищами серьезные ливни. Горизонт здесь бесконечно далекий и совершенно ровный, как по линейке прочерченный; пейзаж состоит в основном из неба. Это очень плоская и низкая местность, Луизиана, как Голландия. Только вместо ветряных мельниц далеко-далеко на горизонте — нефтяные вышки.
— А что у вас с рукой?
Дело в том, что машину он ведет одной правой, а левая, в гипсе от плеча до запястья, выставлена во всю длину из окна. Из-за этого все обгоняющие нас машины нервно гудят: боятся, что мы куда-то сворачиваем.
— Подрался с пассажиром, — неохотно отвечает де Бетанкур.
— Сильный пассажир попался! — я изумлена откровенностью его ответа, и мне хочется ему польстить, для безопасности.
— Нет, — говорит де Бетанкур.
Через некоторое время он все-таки поясняет:
— Я за ним бежал. Он не заплатил. Я споткнулся.
Теперь мы едем мимо кладбищ. Это города из белого мрамора и гипса, с викторианскими поникшими ангелами, с усыпальницами всех размеров и стилей. В них есть таинственность, но никакой тоскливости, под землю тут никого не засовывают. Под землей тут нельзя, потому что гробы поплывут.
— Как мне жалко, — я продолжаю подлизываться к де Бетанкуру, — что я не умру в Новом Орлеане. У вас тут похоронная музыка одна чего стоит, и гробницы такие красивые.
Он не отвечает на мое заигрывание. Думает вроде о своем. Но через мили две-три говорит:
— А вы откуда знаете, что не умрете в Новом Орлеане? Вы на сколько дней приехали?
— Как же вы правы! — восклицаю я.
И чувствую, что мы подружились. Моей бывшей славянской душе приятно найти сотоварища по фатализму. В других местах страны на фатализм большой дефицит. В других местах на все есть страховка.
Я прошу у Бетанкура телефон, чтоб вызвать его машину на обратном пути. Тем более что она уже и подсохнет.
— О чем ты с этим типом все время разговариваешь? — спрашивает едущий со мной кузен Боря. — Ты все-таки переводи.
Кузен начал приезжать в гости, как только у них началась свобода. Раньше мы не были особенно близкими родственниками. Жену его, например, я никогда не видела; знаю только, что — святая женщина. Боря любит определять людей метким словом. Если человек совершает впоследствии поступки, не соответствующие изначальному определению, то он это объясняет выпендриванием и попытками корчить из себя. Я, например, недотепа и все переусложняю. Жена Борина Ирма — святая женщина. Больше я о ней ничего не знаю, кроме объема бедер, груди и под грудью, длины ног от промежности до щиколотки и сбоку, от талии, а также размера головы на случай покупки шляп. Все это у меня хранится, переведенное из сантиметров в дюймы, вместе с двумя кусочками картонки, старательно вырезанными по форме узких ее ступней. На основе этих цифровых данных я давно вычислила, что Ирма — идиотка. Зачем женщине с такой потрясающей фигурой быть святой?
Тем не менее одежду ей я покупаю дороже, чем для себя. То ли подействовал пример всеобщей заботы о заграничных обездоленных, то ли мне хочется Боре доказать, что я не такая уж недотепа и процветаю при капиталистической системе.
— Мы разговариваем про смерть, Боря. В Новом Орлеане это принято.
Ну, вот мы и приехали.
— Почему этот тип вам не помогает с чемоданами? — сочувственно спрашивает мой друг, однорукий мосье де Бетанкур. — Объясните ему по-польски, чтоб чемоданы взял.
— А ведь мы с тобой, наверное, первые евреи, которые в эти места заехали! — радостно говорит Боря за завтраком.
Евреи заехали в эти места триста лет назад, а может, и раньше. Официально их стали сюда пускать в начале восемнадцатого века. Но испанские евреи, бежавшие от инквизиции, приезжали уже крещеными. Они часто и сами не были уверены, кто они такие. Некоторые сохраняли из поколения в поколение странные обычаи — например, зажигать свечи по пятницам, произносить слова на непонятном языке. Только в последнее время их потомки вдруг стали догадываться, что все это значит. Некоторые даже ездят в Испанию — корни искать.
— Нет, уверяю тебя, ты тут не первый еврей. Ты даже и не первый выкрест.
Кузен морщится. Он не любит слова «выкрест», хотя значение его, как выяснилось, не вполне понимает.
Я узнала о его религиозном обращении, когда он начал у меня в гостиной делать утреннюю зарядку в сатиновых трусах. Сначала, пока он делал приседания, я креста не заметила, потому что Боря лысоват, но телом невероятно шерстист. Но когда он сделал «березку» и встал на свою лысоватую голову, то крест упал ему прямо на нос. Прямо на знаменитый Борин рубильник, на его несравненный шнобель упал золотой крест с голубой перегородчатой эмалью.
Надо сказать, что разные религии и деноминации я воспринимаю чисто эстетически. Моя любовь к православию ограничивается церковью Покрова на Нерли. Предметы же церковного обихода с перегородчатой эмалью и жемчугом вызывают у меня почему-то тяжелые ассоциации.
Я решила поговорить с Борей про это дело. Меня всегда интересовал вопрос: когда еврей обращается в христианство, причем не по настойчивой просьбе испанской инквизиции, как он выбирает между православием, католицизмом, протестантством или, скажем, вполне симпатичным квакерством?
Из разговора этого ничего не вышло. Боря все время думал, что я убеждаю его в том, что Бога нет.
— Но согласись, — сказал он под конец, — ведь лучше на всякий случай в Бога верить. Помешать это не помешает, а помочь может.
И это ведь он не у Паскаля вычитал, сам додумался.
— Без религии некомфортно жить на этом свете, — терпеливо объяснил мне Боря. — Я вот хожу в церковь, у меня там друзья, связи, в случае чего — помогут.
А я-то как раз всегда считала, что христианство предлагает комфорт только на том свете и что даже это как-то слишком своекорыстно. Мне казалось, что в некомфортности и должен быть весь смысл религии.
Боря хочет соборности, или, по-нашему, миньяна. Он в свое время и в партию для этого вступал.
Завтракать я Борю привела в маленькое кафе. Оно в таком дворике с замурзанным гипсовым амуром. Официантка сметает со столика лепестки тропических цветов, мясистые, розовые лепестки магнолии, каждый размером с блюдце, и мелкие слабые лепестки жасмина. Кофе подают с молоком, в больших белых чашках. Даже почти не жарко.
А не хочет ли Боря, пока я работаю, поехать на какую-нибудь экскурсию?
— Какую экскурсию? — удивляется Боря. — Я понимаю, был бы исторический город, как у нас. А этот город возник позавчера.
— Этот город возник через пятнадцать лет после твоего, — огрызаюсь я. Я этот факт где-то раскопала и не могу забыть: между Новым Орлеаном и Питером, где проживает кузен Боря, — пятнадцать лет разницы.
— Ну что ты за чушь несешь.
Борю не сбить. Он не любит переусложнять.
Пока я работала, Боря сидел в номере и смотрел телевизор без звука. Теперь я чувствую себя виноватой и, покончив с делами, организовала нам развлечения. У меня тут есть знакомая, можно сказать — приятельница; она мне когда-то предлагала показать город. Мы договариваемся встретиться во Французском квартале.
Французский квартал все время красят, чтоб нравился туристам. Красят в веселые цвета: желтенький, голубенький, малиновый, салатный. Любой другой город уже сиял бы, как луженый самовар. Но, видимо, у Нового Орлеана никогда не хватает денег, чтоб накраситься по-настоящему. Как обычно описывают француженок определенного возраста? Она, мол, знает, как шарфик повязать, как шляпку набекрень надеть, как старое платье перелицевать в новое…
Этот город знает, как перелицевать новое платье в старое. Он знает, где растрескаться по всему фасаду, где дохнуть из подворотни сырым подвальным холодом, где пустить через всю стену адский вьюнок, усыпанный кровожадными тропическими цветами, где прорасти зловещим ярко-зеленым мхом… Пахнет тут почему-то лошадьми, морем из устричного бара, но также, конечно, и перегаром, тлением, помойкой, прогнившим пивом…
— Вроде Ялты, — говорит Боря.
Он меня с ума сводит своими сравнениями.
— Да? А я думала — вроде Сочей. Боря, а помнишь, как когда-то джаз продавался на костях? Помнишь, на рентгеновских снимках? Как удивительно: ведь эта музыка здесь родилась, среди всех этих кладбищ и всяких здешних вампиров и привидений. А потом к нам прилетела, и опять же на костях, на ребрах, на грудных клетках анонимных русских туберкулезников. Помнишь?
— Конечно, помню, — тоже с нежностью вспоминает Боря. — Какие я деньги зарабатывал этими ребрами! Я ведь с Луи Армстронга свои первые джинсы поимел. Драные такие, заношенные, до сих пор перед глазами стоят… Пидеров тут, однако, полно. А негров — хуже, чем в твоем Нью-Йорке.
— Пидеров, по твоему изящному выражению, и у вас полно. Только там ты не отличаешь. Более того, ты даже не отличаешь, кто тут негры. В этом городе так все перемешано, что почти все черные — частично белые и многие белые — частично черные. Тут до сих пор проводятся балы дебютанток, куда девиц на выданье вывозят. А в девятнадцатом веке были еще и балы квартеронок, где белые мужчины выбирали любовниц. И дети их были всех оттенков…
— Здоровая идея! — восхищается Боря.
— Смотри, тут продаются средства для наведения порчи и приворотные зелья. Тебе никого приворотить не надо? Что бы ты хотел посмотреть?
Боре надо дешевую электронику, и посмотреть бы он хотел торговый центр.
— Собор не хочешь? Тут был пиратский рынок. Торговали контрабандой со всего мира, продавали ворованное, резня была каждый день…
Боря хмыкает. Я совершенно забыла, что эта тема — для него деликатная. Устыдившись своей бестактности, я покупаю для Бори знаменитый «ураган». Этот коктейль местный, патентованный. Продается в стаканах размером с ведро. Увидев ведро, Боря искренне радуется. Но, отпив, морщится. Я пробую. Действительно — мерзость.
И вот появляется Сюзанна, в золотых сандалиях и платье из красного шелка, с золотыми волосами.
— Продвинутый бабец! — одобрительно говорит Боря.
— Это мой родственник, Борис, — представляю я его и добавляю многозначительно: — Борис Карновский.
Интересно, знает ли Сюзанна местные легенды?
— Карновски? — изумляется Сюзанна. — Он из семьи Карновски?
— Нет, нет. Он не из семьи Карновских.
— Ну? — говорит Боря. — Переводи.
— Она спрашивает, родственник ли ты тем Карновским, которые тут работали в начале века старьевщиками.
— Это еще с какой стати? Я на старьевщика похож?
— Зачем вы это пьете? — вдруг пугается Сюзанна. — Это для туристов.
Она заходит в бар. Целуется и обнимается с барменом. Бармен начинает суетиться. А я пока объясняю Боре:
— Карновские, Боря, подобрали на улице маленького мальчика. Видел, как тут дети на улице танцуют и поют? Карновские решили, что он талантливый, и купили ему его первую трубу. Мальчик оказался — Луи Армстронг. Он с ними жил, они его обедами кормили каждый день, он ездил по улицам и кричал: «Старье берем! Старье берем!».
Сюзанна возвращается с ведрами настоящего «урагана».
— Ну, — говорит Боря, — так скажи ей, что это мои предки!
— Если я ей скажу, что Карновские твои предки, она тебя в кошерный ресторан поведет. Она уже предлагала на выбор — кошерный или французский.
— Кошерный? — спрашивает кузен в ужасе. — Неужели здесь еще такие дикие предрассудки?
Во французском ресторане Сюзанна опять целуется и обнимается с хозяином и метрдотелем и начинает морочить им голову по поводу иностранного гостя и чтоб черепаховый суп был как полагается. Мы с Борей не сможем отличить плохого черепахового супа от хорошего, но я тяжело задумываюсь над выбором вина. Мне хочется красного, но мы будем после черепахи есть рыбу, и для приличия я заказываю ненавистное белое. Боря, не задумываясь ни на секунду, заказывает штоф водки, и это приводит Сюзанну в восторг.
— Чем занимается ваш кузен? — спрашивает Сюзанна.
— Скажи ей, скажи, что у меня собственный магазин!
Конечно, скажу. Он раньше был экономист-плановик, а когда плановая экономика кончилась, завел ларек на Сенной площади, где торгует сигаретами и кока-колой. Для меня это такая экзотика, при мне на Сенной кока-колы не было, там все больше били женщину кнутом, крестьянку молодую. Я очень горжусь Борей. Он — первая ласточка свободного предпринимательства.
— Борис — предприниматель. Антрепренер. У него собственное дело.
Интересно, что она себе при этом представляет? Уж точно не ларек этот, тьму-тьмущую, холод промозглый, как Боря сидит там с утра до ночи, а святую Ирму не пускает сидеть, потому что торговля кока-колой — дело неженское. И как он за крышу платит и нелегальный наган под прилавком держит, в Турцию — из Турции с мешками таскается…
— Борис хочет узнать: а чем вы, Сюзанна, занимаетесь?
Ничего такого Боря узнать не хочет, ему бы и в голову не пришло о таком даму спрашивать.
— У Сюзанны несколько бизнесов, — перевожу я. — У нее брачная контора, ателье по пошиву подвенечных платьев, ресторан для проведения свадебных церемоний и дом-музей. — И к Сюзанне: — Дом-музей? Я вас правильно поняла?
— Да, да! Вот пойдем ко мне кофе пить, увидите!
Неужели она нас к себе домой приглашает? Неужели мой шерстистый кузен произвел на нее такое впечатление?
— Семья Сюзанны живет в Новом Орлеане уже двести лет, — перевожу я. — Нет, Боря, ты оцени, обычно все переeзжают каждые два-три года. А тут сидят на одном месте столетиями и вырождаются понемножку, просто «Вишневый сад» какой-то! В жизни ее рода было много превратностей. Они несколько раз наживали и теряли целые состояния…
При слове «состояния» Боря оживляется и предлагает выпить за здоровье прелестных дам. Сюзанна сияет, пьет водку и говорит по-русски: «На здравье!».
— Отец Сюзанны был большой оригинал и артистическая натура. Он наладил торговлю лягушачьими лапками и экспортировал замороженные лапки в другие штаты. Но у него были враги, они подкупили губернатора, в результате был принят закон, запрещающий экспортирование лягушачьего мяса за пределы штата Луизиана. Этот закон действует до сих пор. И всё потому, что он отказывался давать на лапу…
— Он за крышу отказался платить? — изумляется Боря. — Вот фуфло!
Я огорчаюсь. Мне эта история совершенно ни к чему. Не так давно у них там отменили цензуру, зародилось частное предпринимательство. По моему мнению, когда оно будет не только частным, но и честным, все станет там замечательно. Я через своего двоюродного братца стараюсь внедрить туда правила буржуазной морали. Я зажгу в его сердце пламя любви к законности и порядку, и он, первая ласточка, полетит туда и подожжет эту воронью слободку.
— Слушай, ты должен понять: у нас никаких крыш нет. А Луизиана — это совершенно особое место, здесь традиционная коррупция. Новый Орлеан — вообще не Америка. Тут даже и язык другой.
— Ты говорила, Нью-Йорк — не Америка. Теперь эта дыра тоже не Америка. А что у тебя Америка?
Действительно — что? Небраска?
— Ква-ква! — говорит Боря. — Ква-ква!
— Что это он?
— Он говорит: «Риббит. Риббит. Риббит».
— Как смешно! — удивляется Сюзанна. — Кува-кува?
— Что ты ей сказала?
— Я ей перевела. По-английски лягушка говорит «Риббит. Риббит».
— Бред! Совершенно на лягушку не похоже.
— А лягушка считает, что и ква-ква не похоже. Тоже мне, зоолингвисты нашлись.
— Кува-кува! — квакает Сюзанна и, выходя из ресторана, берет кузена под ручку.
— Его жену зовут Ирма, — сообщаю я ни к селу ни к городу. — Она святая женщина.
— Кува-кува! — отвечает мне Сюзанна. — Кува-кува!
— Ребит-ребит! — кричит Боря на весь Французский квартал.
И как бы в ответ на их неумелое кваканье издали начинает доноситься квакающая и мяукающая музыка.
— Похороны! — радостно кричит Сюзанна. — Как вам повезло! Похороны!
— Ну? — спрашивает Боря.
— Нам очень повезло, — перевожу я. — Кто-то умер.
Похоронная процессия появляется из-за угла. Толпа большая, и они не трезвее Бори с Сюзанной. Духовой оркестр в красных смокингах и цилиндрах приседает и пританцовывает, гроба никакого нет.
— Сюзанна, а где покойник?
Сюзанна объясняет, что покойника уже отнесли куда надо. По дороге на кладбище принято играть джазовую музыку религиозного содержания и плакать, а уж возвращаясь с кладбища, пускаются во все тяжкие. К моему ужасу, Боря и Сюзанна примазываются к похоронной процессии и идут, пританцовывая и явственно квакая.
А мне неудобно на чужих похоронах плясать. У меня нога натерта и уже от «урагана» и белого вина голова болит.
Вот Сюзанна, она такая субтильная, воздушная, нежная, как полагается южной женщине, новоорлеанской красавице. И носик у нее такой деликатный, французистый, почти ноздрей в нем не осталось после всех пластических операций. И тем не менее, она танцует на своих золоченых каблучках и виснет на моем жовиальном родственнике, что-то она в нем своим носиком унюхала.
Может быть, я ошибаюсь насчет Бори? Мне всегда казалось, что он принадлежит к такой породе слегка лупоглазых, слегка с брюшком, немного лысоватых жизнерадостных евреев, у которых над головой, как нимб, сияет слово «мудак». Я с детства презирала его за жизнерадостность. А может быть, в Боре — животная энергия.
Хотя почему животная? Сколько раз я видела, как животное лежит и думает: двигаться или не надо? Пора уносить ноги или обойдется? И решает: а-а-а… Совершенно как я. В этом смысле мы с животным похожи на Новый Орлеан.
Вот Боря, — он никогда не задумывается.
По дороге Сюзанна объясняет про свой дом. Первый этаж — девятнадцатого века, а второй — конца восемнадцатого.
— Первый — восемнадцатого, а надстройка — девятнадцатого? — поправляю я.
Оказывается — нет. У них такая геодезическая ситуация, что нельзя надстраивать на старом фундаменте. Дешевле старый дом поднять и поставить поверх нового. И улица, на которой стоит этот дом, историческая. Посредине — бульвар. Когда Новый Орлеан переходил из рук в руки, то одна сторона улицы была испанская, а другая — французская. А потом одна французская, а другая — английская. И бульвар этот был нейтральной полосой.
На доме табличка: «Дом-музей. Вход — 5 долларов».
Первое, что я вижу прямо перед входом в большой освещенной витрине, — огромное, как дракон, золотое и изумрудное, со страусовыми перьями, со шлейфом и кружевами, вышитое стеклярусом и фальшивыми бриллиантами карнавальное платье.
— Это мое платье, — объясняет Сюзанна вроде бы небрежно, — я была Королевой.
— Сюзанна! Вы были Королевой карнавала?
— Нет, что вы, конечно, не всего карнавала, только одного из парадов…
— Какого племени? — спрашиваю я. — Или это у черных племя, а у белых — общество?
— Общества Венеры, — отвечает Сюзанна и проходит на кухню варить кофе.
А у меня просто дух перехватило. Общество Венеры!
— Ты видишь это платье?
— Вижу. Безвкусица, — уверенно отвечает Боря.
Больше всего на свете я люблю витражи, калейдоскопы, карусели, фейерверк и цирк. Наверное, у меня вкус плохой. Я про Новоорлеанский карнавал немного знаю. Общество Венеры!
— Пойми, Сюзанна принадлежит к высшей аристократии! К Обществу Венеры! Это так… — я не могу найти нужного для Бори слова, — это так фирменно!
— Эксклюзивно? — поправляет Боря.
Русский язык нас не совсем объединяет. Я многих слов не знаю. Я говорю еще по-старому: фирменно, чувиха. А Боря говорит: эксклюзивно, путана. Я от него столько интересных слов узнала.
— Да, это крайне эксклюзивно, Боря! Это пафосно!
Кухонька у Сюзанны довольно захламленная и беспорядочная, видимо, она тут еду готовит. Это нечасто увидишь; чаще встречаются такие выставки кухонного оборудования, чистые, как морг. Двери открыты в запущенный, заросший сад с жасмином, олеандрами и магнолиями, с поломанными узорчатыми железными стульями.
— Сюзанна, расскажите Борису про карнавал, он очень интересуется. А ты, Боря, потерпи, и не надо так морщится. Ты лучше запоминай, потом дома будешь пересказывать.
— Карнавал начался, представьте себе, еще до Нового Орлеана. В первой французской колонии была исключительно трудная жизнь. Ну, они и решили, так сказать: let’s face the music and dance!
— Карнавал тут начался, когда твоего города еще в помине не было, — перевожу я несколько неточно.
— А потом карнавал то разрешали, то запрещали за хулиганство, непристойность и поголовное пьянство… Борис, вы хотите коньяку к кофе?
Боря хочет.
— Ну, и я за компанию. В середине девятнадцатого века карнавал уже совсем было решили запретить из-за преступности — преступность тогда была невероятная, почти как сейчас. Но тут приехал великий князь Алексей Романов, и с этого начался расцвет нашего карнавала…
— Что-что?
— Да, настоящий великий князь! Он был совершенно очаровательный мужчина, подлинный бонвиван… Прямо как ваш кузен! — шепчет мне на ухо Сюзанна театральным шепотом. — Весь Новый Орлеан в него влюбился. До этого королей не было; но тут решили, что представителя царской фамилии должен встречать равный по рангу. Королем выбрали банкира, звали его Луи Соломон. И это был самый замечательный карнавал в истории Нового Орлеана, в 1872 году…
— Боря, да слушай ты, не засыпай! Это значит через одиннадцать лет после раскрепощения крестьян и через десять лет после эмансипации рабов. Их владельцы друг другу сочувствовали: им нельзя было больше бить кнутом крестьянку молодую… И они тут Соломона Королем выбрали! То-то сын Александра Второго Освободителя должен был обрадоваться!
— У великого князя была здесь любовница, она пела в бурлеске, в водевиле «Синяя борода». В честь Алексея Романова ее песенка стала гимном карнавала. Тайных карнавальных обществ очень много — членство в наших обществах тайное. Мы весь год готовимся, а продолжается карнавал два месяца. У белых обществ древнегреческие и древнеримские имена. Самые главные — Комус и Рекс.
— Нет, Боря, Рекс — не немецкая овчарка, а царь по-латыни. Потом еще Момус и Протеус, то есть Протей. Венера, Эндемион… Боря, ты что, совсем осоловел? Ты мотай на ус: Момус, Комус…
Боря сидит в шезлонге, пьет коньяк и дышит жасмином.
— Я все слышу, — отвечает Боря.
Это правда. По семейной легенде, Боря проспал в институте все четыре года, а потом защитил диплом с отличием, как Илья Муромец. В мозгах у Бори уже спрессованы и Момус, и Комус, и Протеус, и великий князь, и черепаховый суп, и лягушачьи лапки, уж не считая точных цен на все виды электроники. Вот он сейчас пьет Сюзаннин коньяк, а дома ему еще сколько выпивки поставят за все эти экзотические сведения.
— Кроме того, есть черные общества, которые называются «племена». Раньше рабам не разрешали надевать маски, но они все равно наряжались… Между карнавальными племенами была такая конкуренция, что они шли стенка на стенку и рубились топорами, — перевожу я. — Топорами? Томагавками, наверное.
— Главное черное общество называется «Зулусский клуб социального обеспечения и развлечения». Зулусский клуб никогда не сообщает о маршруте своего парада, их надо разыскивать по всему городу. Люди бегут туда, откуда музыка доносится, а они уже ушли… Зулусы бросают в толпу золоченые кокосы, а мы — карнавальные дублоны и бусы. До конца шестидесятых бусы были такие красивые, из чешского стекла, но потом там начались какие-то социальные беспорядки…
— После подавления Пражской весны, — бойко перевожу я, — были введены экономические санкции, и бусы теперь пластмассовые…
— Балы во время карнавала закрытые, чтоб попасть на бал, надо быть членом общества. А это нелегко, потому что новых членов принимают, только когда из старых кто-нибудь умирает… Ой, ваш кузен, бедняжка, совсем устал! Ну давайте я вам покажу музей и поедем на озеро.
Мы поднимаемся на второй этаж, восемнадцатого века. Сюзанна показывает нам главную достопримечательность: по узкой винтовой лестнице мы взбираемся в крошечную башенку на крыше. Из окна видна река.
— Вдовья башня! Жены моряков и коммерсантов должны были сидеть в этих башнях, смотреть на устье Миссисипи и ждать возвращения мужей из дальних стран. Но, конечно, если…
Сюзанна подмигивает мне и отпускает такую непристойную шуточку, что я даже не решаюсь перевести кузену. Я не хочу вселять в него сомнения и подводить святую Ирму под монастырь.
На первом этаже девятнадцатого века главный экспонат — огромный письменный стол, Сюзанна утверждает, что он принадлежал лично Наполеону Бонапарту.
Самое интересное в этом музее, что он — Сюзаннино жилье. Она тут живет, причем совершенно одна. На наполеоновском столе — компьютер и валяются квитанции свадебного бизнеса. Некоторые предметы ее обихода в музейных витринах, но она их вынимает и ими пользуется.
Мы усаживаемся в старую побитую машину, разгребая на заднем сиденье коробки с флердоранжем. Наверное, у нее есть и другая машина, поновее, на которой она ездит по более приличным маршрутам, а эта — для камуфляжа. Потому что сейчас мы проезжаем по таким улицам, что даже видавший виды Боря говорит:
— Бедно живут…
Люди стоят на углах, некоторые сидят на корточках, свесив руки между коленями. На асфальте стоят бумажные пакетики, из которых горлышки высовываются.
Выражение на лицах такое, какое я видела в деревне у людей, ожидающих автобуса, чтоб ехать в райцентр за продуктами. А автобус, может, придет раз в сутки, а может, и не придет. И лица-то похожие — губошлепые, зубов нет, носы картошкой; только что намного темнее. Одних раскрепостили, а земли не дали. Других эмансипировали, и они думали, что им причитается сорок акров и мул. Так до сих пор и ждут этого мула.
Глупости это, конечно; но мне кажется, что я этих людей понимаю. Экономически я к ним гораздо ближе, чем к Сюзанне. А философски — ближе, чем к Боре.
Время-то — оно проходит, как ты его ни проводи, хорошо или плохо, оно все равно проходит. И что бы ты ни делал в течение дня, к вечеру главный результат тот же: еще на один день меньше осталось. Можно с тем же успехом сидеть на тротуаре, ожидая автобуса в райцентр или всемирного потопа.
Я бы сейчас с удовольствием вышла из машины, села бы с ними на тротуар. А Боря с Сюзанной пусть дальше катятся, особенно Боря. Они с миром примиренные. А мне примирение с миром дается только при помощи алкоголя. Поэтому у меня есть мечта: под старость лет заняться алкоголизмом всерьез, профессионально и переехать сюда, в этот город. Где же спиваться, если не тут?
Только не примут меня эти люди на тротуаре с ними сидеть. Это тоже ведь очень, очень эксклюзивное общество, закрытый клуб. У меня кишка тонка. Я не умею плясать на чужих похоронах.
И едем мы дальше, и уже темно.
— Let’s face the music and dance! — поет Сюзанна.
— Переводи!
— Она поет: раз пошла такая пьянка, режь последний огурец.
— Не морочь мне голову. Ты переводи дословно.
— Дословно: давайте повернемся лицом к музыке и будем танцевать.
— Почему лицом? Что это значит?
— Это значит: завей горе веревочкой.
— Ну переводи же!
— Стихи? Тебе в рифму или без рифмы?
Беды нас ждут впереди, Но пока Музыка есть, лунный свет, и любовь, и романс, Мы должны танцевать. Скоро придется бежать скрипачам, Скоро за все нам предъявят счета. Но пока У нас есть еще шанс, мы должны танцевать. Скоро исчезнет луна, Песню другую с тобой мы тогда запоем, Плакать мы будем потом. Но пока Музыка есть, лунный свет, и любовь, и романс.— Битлы? — спрашивает Боря.
— Нет, это тоже еврей один сочинил. Из Тюмени.
В час ночи мы доезжаем до озера Пончартрейн. Темно, луна почти не светит, и озеро кажется огромным, как море. Сюзанна привезла нас смотреть плотины, которые охраняют город от потопа.
Я даже не выхожу из машины. Я не хочу больше переводить, а им вроде бы и не надо. Они идут к ревущей темной воде и оживленно разговаривают. Мне точно известно, что по-английски Боря знает «сенкью», а Сюзанна знает «на здравье». О чем они беседуют?
С другой стороны — Ирвинг Берлин, Израиль Бейлин из Тюмени, он тоже имел ограниченный словарный запас. Более того, он не знал нотной грамоты. Это ему не помешало.
Сквозь шум воды я слышу, как Боря кричит: «Пластик! Пластик!». Неужели они разговаривают о кинематографе? Ведь это знаменитая реплика из фильма «Выпускник». Там дядя советует племяннику, на чем деньги заработать: «Пластик! Пластик!». Но ведь Боря этого фильма видеть не мог? Сюзанна хохочет, а Боря обнимает ее за плечи. Или, может быть, она уже его спрашивает, есть ли у него с собой резинки, то есть кондомы, а он спутал резину с пластиком, может, мне надо выйти и помочь им разобраться… Нет, это совсем уж бред.
Вот о чем я давно думаю: когда на Вавилонской башне все стали разговаривать на разных языках, это никак не могло помешать продолжению строительных работ. Я в этом могу убеждаться каждый день, живя в городе Нью-Йорке. Но вот когда появились там переводчики, интеллигенты вроде меня, со своими лингвистическими переливами и оттенками, и всем стали объяснять, что они, мол, не так друг друга понимают, — вот когда все развалилось.
Люди друг друга не понимают и с языком, и без языка, и совершенно им этого не надо, всяк вопиющий — в своей пустыне, всюду сплошное недоразумение, а жизнь идет. А я все лезу со своими объяснениями: не кува, мол, а ква-ква.
И совершенно прав Боря — я все усложняю.
В последний день я проснулась очень рано и потихоньку смылась, мне надо было одной по городу походить. Я дошла до Миссисипи. Было так рано, что жара еще не началась. Над городом вставало нежное, трепетное, многовековое похмелье; розовое, деликатное. В этом городе утром происходили не утренние, вечерние дела — уже продавались коктейли, уже кто-то играл на саксофоне. Вряд ли это было утро, скорее еще предыдущая ночь продолжалась.
Вдалеке, на берегу реки стоит белый клоун. Клоун — в шесть утра? Он мне ручкой машет, вроде прощается, и посылает воздушные поцелуи.
Интересно, клоун на самом деле или для туристов?
Есть города, которые сами под себя стилизуются. Париж, например, очень старается быть похожим на Париж и чтоб никто не забывал, что он город света и центр культуры. Там даже мелкий дождик идет нарочно, чтоб было похоже на Париж.
Нью-Йорк, наоборот, совершенно не беспокоится, соответствует ли он чьим-либо ожиданиям. Меняется всем назло. Все в нем гости, и все стараются ему соответствовать, а Нью-Йорк никому нравиться не желает.
А этот город, с пошлыми белыми клоунами на набережной, он носит дешевую, размалеванную, фальшивую маску, приторную, как коктейли для туристов. Мне кажется, что под ней должна быть настоящая маска, совсем другая, для своих, этой маске уже триста лет. И я хотела бы ее увидеть. А лица я видеть не хочу. Устала я, не надо мне никакой близости, не надо интимности. Увидишь лицо — а оно зареванное, или злость на нем страшная, или отчаяние. Лицо — это тоже только временная маска на черепе. А череп в этом городе и так чувствуется, всюду просвечивает. И весь он, этот город, такой хлипкий, ненадежный, и узор чугунный его колонн и балконов какой-то несолидный, как бумажные кружева, и аристократия цирковая, карнавальная…
Почему в этих водяных городах — в Венеции, в Новом Орлеане, в Петербурге всегда так чувствуется, что беды нас ждут впереди? Что скоро за все нам предъявят счета? Что ужо тебе, строитель чудотворный, и так далее?
— Слушай, так тут есть торговый центр или одни пивные? У меня еще пятьдесят долларов осталось, надо потратить.
— Да куда ж ты впихнешь?
— Возьму у тебя какой-нибудь старый чемодан.
— Да тебя в самолет не впустят, такой огромный перевес!
— Ты опять все переусложняешь. Заплачу за перевес, и все дела.
— У тебя ведь денег не останется!
— Ну? — удивляется Боря. — А у тебя кредитка. Кредиткой расплатишься.
Я почему так сочувствовала Дуайту де Бетанкуру? У меня тоже лицо неудачное. У меня на лице выражаются мысли и эмоции.
— Не беспокойся, — холодно говорит родственник, — если тебе уж так жалко, я потом верну.
Я напоминаю себе: Боря не вполне еще понимает концепцию кредита и считает кредитную карточку чем-то вроде неразменного рубля.
— Нет-нет, не надо ничего отдавать. А что это вы вчера про пластик кричали?
— Мы с ней договорились начать совместный бизнес, — неохотно объясняет Боря.
— ?!
— По производству пластиковых бус для карнавала. Им тут тонны этой дряни нужны, производство вредное. Когда надо гнать аврал, они сверхурочные платят. Короче, Сюзанна продвинутая, она узнала, что у нас можно без всей этой охраны труда, — сразу завелась!
— ?!
— Ладно, — говорит Боря. — Чего тебе все объяснять. Ты про бизнес ничего не понимаешь.
— А я думала — ты с Сюзанной флиртуешь!
— Да зачем мне нужно с сорокалетней бабой флиртовать? — возмущается Боря.
Сюзанне не сорок, ей пятьдесят пять. Дурак мой кузен, не распознал. Это мне как раз сорок, о чем он прекрасно знает.
Борю я больше никогда не видела; он у меня останавливаться перестал. Насколько я знаю, бусы они с Сюзанной производили очень успешно, но недолго. Он вроде бы вскоре перешел на настоящие алмазы. Потом он что-то делал с нефтью в Тюмени, но бросил, и притом очень вовремя: все его нефтяные друзья друг друга перерезали. А он выжил и стал не то чтобы олигархом, но в достаточной степени миллионером, отчего ему пришлось податься в бега. Теперь он живет под псевдонимом где-то в Андалузии.
Однажды он мне даже звонил, предлагал подъехать к нему в гостиницу. Но остановился он в гостинице у Центрального парка, там, где иногда останавливаются президенты и главы иностранных государств. Мне туда было неудобно идти — слишком пафосно.
А умирать в Новом Орлеане я тогда, протрезвев, передумала. Решила пока потерпеть. Обязательства всякие, дел еще много; дела, дела, каждый день дела. А Новый Орлеан, думала я, куда он денется?..
Старые книжки про будущее
— То, что все другие продают, — дешевый ширпотреб! У нас в магазине будут сексуальные игрушки совершенно другого уровня. Ким, который мой стеклодув, у него уникальные вещи. Ну посмотри: ведь здорово сделано.
— Не клади дилдо рядом с тортом!
Я испекла к Новому году для своей дочери торт, трудоемкий, как пекли до феминизма. Моя мать такие пекла еще в коммунальной квартире. Я ее завлекла этим тортом, потому что у нее расстроились планы, она с кем-то поцапалась в последний момент. Для нее Новый год вообще мало значит. Это для меня, по старой памяти, — мне и всякий-то раз обидно, что под Новый год ничего особенного и удивительного не происходит, а тут не то что век, тысячелетие кончается. И я отказалась идти в гости под предлогом материнского самопожертвования. Куда я собиралась идти, там никаких сюрпризов не ожидалось.
А она — она сюрпризов от жизни не ждет. Она живет активно, она сама все время сюрпризы устраивает.
— Но согласись, — говорит она, — очень красивая работа!
— Пропорции неправильные, — уныло критикую я. Не зря ж меня отдавали учиться на искусствоведческий. Или зря?
— Ты всегда критикуешь!
И меня критиковали. Надо сохранять семейные традиции. А дилдо стеклянное наводит на меня тоску — я боюсь, что оно в ком-нибудь сломается. И дочь мою, и этого ее бездарного корейца засудят.
— Ты ничего не понимаешь в бизнесе! Мы регистрируемся как общество с ограниченной ответственностью.
Я тоже хочу ограниченной ответственности. Что я вообще понимаю? В том мире, где я росла, не то что стеклянные члены — локти не полагалось класть на стол.
Если бы моя мать знала, что ее внучка захочет открыть лавочку по продаже секс-игрушек, она бы сказала: «Какое низменное занятие!».
И это она сказала бы про торговлю, а не про секс-игрушки, про которые она не знала, что это такое. А если б догадалась в глубине души, то даже самой себе не призналась бы. Уважающая себя женщина не могла о такой низменной гадости догадываться.
У нас было строгое воспитание; низменное не признавалось существующим. Даже некоторые функции организма в идеальном мире должны были отмереть, как деньги. Я лет до шести надеялась, например, что при коммунизме не надо будет ходить на горшок.
А когда мне объяснили, как делаются дети, я вовсе не смутилась и не расстроилась. Я сказала: «Такого не может быть. Может, так было в прошлом, до революции, но теперь это запрещено!» А Тамарка, которая в бараке жила: «Ну, — она сказала, — ну, с тобой дойдешь». — Она прямо загибаться начала, прямо ухихикалась. «Наверное, есть такие клиники, — объяснила я терпеливо, — диспансеры. Туда приходят, и государство выдает таблетки. По талончикам».
Эта барачная Тамарка, ограниченная, как всякий очевидец, была уверена, что виденное ею собственными глазами и есть единственная возможная реальность.
И в прошлом, когда я рассказывала эту историю, всегда все смеялись по невежеству.
А в результате — кто оказался прав? Мы с Олдосом Хаксли.
Прекрасный Новый Мир наступил. Клиники такие, диспансеры; правда, не по талончикам, а за деньги. А то, чем развлекались в Тамаркином бараке, теперь с деторождением не так уж и связано. Вроде как верховая езда уже не транспорт, а рыбная ловля и охота — не добыча еды. Поэтому нужны игрушки, аксессуары: подсадная утка, блесна, член искусственный.
— Я знаю лучших стеклодувов!
— Вот они тебя и надуют.
Ах, как бы мне следовало помолчать! Кончится тем, что мы опять поссоримся.
Дело не в том, что все меняется. Дело в том, что меняется не то, что ожидаешь. И остается неизменным то, что считал — сможешь изменить. Например, косность эта генетическая, митохондрия. Меня доставали, я ее достаю, она меня достать хочет, и внучка моя, правнучка моей матери, будет мою дочь доставать.
Для развлечения мы, как и миллионы других, пытались смотреть фильм Стэнли Кубрика «Одиссея 2001 года».
Классический тяжеловесный старомодный авангард шестидесятых годов медленно-медленно и многозначительно демонстрирует будущее. В космическом корабле услужливые стюардессы в обтягивающих комбинезонах бегают прямо-таки на цирлах перед серьезными и мужественными учеными-астронавтами. Ученые беседуют по видеотелефону со своими преданными женами, которые рассказывают им о школьных успехах детей и домашнем хозяйстве. Возникают проблемы с обидчивым компьютером; никто еще тогда не подозревал, что в ближайшем будущем возникнут гораздо более серьезные проблемы с обидчивыми стюардессами. Уже воображали машину, одаренную интеллектом и свободой воли, но жену, претендующую на те же качества, — такого ужаса еще никто вообразить не мог.
Мы когда-то любили научную фантастику. В «Аэлите», например, инженер Лось говорил: «Через несколько лет путешествие на Марс будет не более сложно, чем перелет из Москвы в Нью-Йорк».
Не только эта фраза, но и вся книга — глубоко загадочны. Автор только что репатриировался и еще не разобрался — куда. Улица Красных Зорь, с которой улетает на Марс ракета, была для автора не менее экзотична, чем выдуманный Марс.
Или Станислав Лем, например. Книжка называется «Астронавты».
«Много лет прошло уже после падения последнего капиталистического государства. Науке уже не нужно было заниматься созданием средств уничтожения. Международное бюро регулирования климата от скромных опытов по местному изменению погоды перешло к фронтовой атаке на главного врага человечества. Этим врагом был холод. Вечные льды, покрывавшие Антарктику, источник холодных подводных течений, омывающих берега Азии и Америки, — эти льды должны были исчезнуть навсегда.
Мысль ученых была простой: создать близ полюсов огромные „костры“ с температурой Солнца…»
У Станислава Лема тут получилась редкая удача. Обычно в предсказаниях будущего получается ход конем, такое неприятное смещение, которое долго распутывать. А тут он подошел очень близко к истине, только с обратной стороны. Отразил будущее, зеркальное отражение получилось.
Вот и «Туманность Андромеды», пожалуйста: «В век Переустройства были сделаны искусственные солнца, подвешенные над полярными областями. Мы сильно уменьшили полярные шапки…».
И дались им эти льды. Намерзлись люди.
Или, скажем: «Быть может, эмигранту, обезумевшему от продажи газет среди асфальтовых полей Парижа, вспоминается российский проселок очаровательной подробностью родного пейзажа: в лужице сидит месяц, громко молятся сверчки и позванивает пустое ведро, подвязанное к мужицкой телеге.
Но месячному свету дано уже другое назначение. Месяц может отлично сиять на гудронных шоссе. А сверчков можно будет слушать в специальных заповедниках; там будут построены трибуны, и граждане, подготовленные вступительным словом какого-нибудь седого сверчковеда, смогут вдосталь насладиться пением любимых насекомых».
Интересно отметить, что Ильф и Петров тут многое предугадали. Не про гудронное шоссе, конечно, которого как не было, так и нет. Но в конце века, году в 1995-м, я увидела по телевизору, как в Сибири для школьников младших классов устроили специальный зверинец, где им показывали животных: ежика, кузнечика, лягушку. Или, как я говорила в детстве: лягу-тяпу. Это были последние сохранившиеся экземпляры, остальные вымерли.
И еще они правы насчет эмигрантов, обезумевших от продажи, которые сохраняют память об исчезнувших и никому уже не нужных вещах. Вылитая я: обезумела от продажи и сохраняю память о русском языке.
И тут я вижу в руке у нее кухонный нож.
— Нет! — кричу я в ужасе. — Нет! Не режь! Положи нож!
— Почему нет? — спрашивает она спокойно.
— Не надо! Не надо!
— Во-первых, не кричи. Во-вторых, я только для этого и пришла. В-третьих, почему я должна ждать, когда можно сейчас?
Перечисляя, она начинает со сжатого кулака и выстреливает пальцы по очереди — указательный, средний, безымянный. Как у них, иностранцев, принято. Я, перечисляя, загибаю пальцы вялым славянским движением. Я пробовала научиться по-ихнему, но у меня и в руке акцент.
— Нельзя начинать с десерта!..
Но она уже погружает огромный мясной нож в сладкое шоколадное брюхо торта, с которым я возилась полдня.
— Как ты можешь так говорить, что только ради торта ко мне и пришла?
Я знаю, что ради торта. Она бы сейчас спокойно спала, отдыхая после месяца рождественских, ханукальных и буддистских вечеринок. А я бы не потратила день на торт, ела бы чужое. Они там, наверное, уже спорят сейчас о том, где люди были интеллигентнее — в Третьем Риме или в Северной Пальмире. Или говорят, как нас многое объединяет: общая культура, язык, общий бэкграунд и экспириенс. Все-таки свои люди, перемещенные.
А с ней мы вообще-то мало знакомы. Она недавно спросила, как пишется мое имя. И долго старательно перерисовывала незнакомую кириллицу; особенно эта буква Ш ее рассмешила, похожая на гребенку.
Но мне не нравится ее излишняя прямота. С возрастом от всей этой прямоты и откровенности устаешь. Откровенность не приносит пользы в жизни. Одно из моих новогодних решений было — побольше врать.
Например, я притворяюсь, что у меня от стеклянного члена и секс-лавочки в глазах не потемнело. Что мне совершенно до фига. Я хочу показать, что не отстала от жизни.
Этот 1999 год, который сейчас кончается, — с него начинались «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери, заселение Марса. Я никогда не думала, что доживу. Я думала — а если доживу, то мир так изменится, может, я буду уже на Марсе этот год встречать.
Но уж точно не в том городе, где я сейчас нахожусь, это ни в какую фантастику не лезло. Мы в глубине души не верили в реальное существование других стран. Это здесь люди боялись атомной войны, ожидали конца света. Мы хотели конца света. Мы боялись другого — что всю жизнь будет одно и то же. Поэтому мы увлекались фантастикой. Парижа-то нам точно было не увидеть, а Марс — кто его знает. То же и с техникой будущего. У них, как мы слыхали, у всех личные машины и телефоны. Почему бы не быть и машинам времени, и телекинезу? Потом, в фантастике у всех были иностранные имена: Эрг Ноор, Мвен Мас, Веда Конг, голова профессора Доуэля.
Со временем вместо научной фантастики мы начали читать разные политические утопии и антиутопии. Книжки про будущее: доживет ли, мол, это нехорошее государство до 1984 года. Статьи умные писали: если бы у нас завтра объявили свободу… Все потихонечку бунтовали, хотя это был сплошной Эдипов комплекс. Все мои знакомые хотели спасать родину-маму от государства-папы. Конечно, никто не предвидел возможности каких-либо на самом деле изменений, а уж тем более что от изменений тоже особенно лучше не станет. Кто мог предвидеть, что мама начнет кричать: «Где папа? Где мой папа? Что вы, подлецы, с папой сделали?».
Хотя что мы могли предвидеть, если даже существующая реальность была нам малоизвестна? Даже тот, кто написал про доживет ли до 1984 года, сам Оруэлла не читал, ему приятель рассказывал.
Я Оруэлла читала; у меня с Оруэллом даже история была — я из-за него и уехала. Мне принесли «1984», по-русски, в количестве десяти экземпляров, на сохранение. Тоненькие такие книжечки, издания ЦРУ, на папиросной бумаге.
Того, кто принес, вскоре забрали, и он от уважения к отцу-государству стал колоться. А я была беременна и пуглива и не решилась сделать того, что полагалось: распространить этих Оруэллов среди жаждущего правды народа. За товарное количество, за десять-то экземпляров, много можно было получить лет…
И подумать только, что уже тогда были люди, которые обладали такой внутренней свободой и здравым смыслом, что они подобные книги продавали за деньги! Мы их презирали, спекулянты, мол; а теперь я думаю — внутренняя свобода и подлинное бесстрашие невозможны без любви и уважения к чистогану. Чистоган — чистое дело, а нести правду в народ — дело сомнительное.
Я этого Оруэлла припрятала в дачном сарайчике. Потом приехали мы большой компанией встречать Новый год на эту дачу. Я пить не могла, на сносях была, и пошла доставать свой загашник Оруэлла — а он весь замороженный, такой ледяной булыжник. Такая глыба льда, а внутри книжки просвечивают. И тут мне ужасно стало стыдно. Ну что это за мелодрама, да и климат какой противный — книжки замерзают. И я приняла новогоднее решение уехать к едрене фене. Как сейчас помню — мы 1974 год встречали.
Но в день, когда она родилась, я страшный рассказ прочла, сидя в очереди в женской консультации. Прочла я рассказ уже на английском языке, потому что совершенствовалась перед отъездом. Там было про старуху, живущую в городе Нью-Йорке, которая начинает выживать из ума, забывает английский язык и не может больше разговаривать со своими детьми. Она им всю жизнь пироги пекла, а тут начинает петь песни периода революции 1905 года. Дети песен не понимают, да и автор не может привести примеры, а я-то знаю эти песни. Я тогда испугалась и до сих пор эту историю вспоминаю с опаской: не про мое ли это будущее.
А она родилась в тот же день; в роддоме как раз воду отключили, и акушерки таскали воду в больших кастрюлях, на которых черной краской было написано: «Вода для оживления».
Новорожденный был, безусловно, собственностью государства.
Про это можно почитать еще у Платона, в одной из первых книг про будущее. Там тоже размножаются по лимиту и под госнадзором. Или рекомендую «Город Солнца» Фомы Кампанеллы. Там даже есть специальные надзирательницы, которые решают, кому когда совокупляться, и отпирают двери — как коридорные в гостиницах и дежурные в общежитиях. Фома был прелесть. «Приятно видеть, как столько друзей, братьев, сыновей, отцов и матерей живут вместе в такой степенности, благообразии и любви. Каждому полагается своя салфетка, миска, похлебка и кушанье». Если б Город Солнца существовал на самом деле, то Фому следовало бы сравнить с Гербертом Уэллсом и Бернардом Шоу. Но сравнивать его, двадцать семь лет отсидевшего, следует с Чернышевским и Солженицыным, так как он сам выдумал этот город и сам решил, как его обустроить, чтобы все жили не по лжи. Особенно подробно, как всякий зэк, остановившись на сексе.
Хотя мне ребенка и выдали потом на руки, но вроде бы в аренду, на временное удочерение до школы. Вскоре пришла на инспекцию патронажная медсестра — патронажная, то есть представительница патрона, отца, государства. А я, лукавый раб, замысливший побег, закалывала дочерние пеленки специальной импортной пеленочной булавкой. Как же эта патронажная на меня кричала, пытаясь дрожащими руками расстегнуть совершенно не расстегивавшуюся булавку! «Вы ответите за это варварство!» Руки у нее дрожали, конечно же, от зависти: застежка на этой булавке была в виде такого голубенького слоника.
Ну, и мы улетели. Как говорил инженер Лось — через несколько лет перелет из Москвы в Нью-Йорк будет не более сложен, чем путешествие на Марс.
Я, и уезжая, не верила в реальное существование других стран. Во всяком случае, не больше, чем в жизнь на других планетах. Я, уезжая, считала свой отъезд концом света. Так мне важно было границу пересечь, что я и не планировала особенно — где приземляться. Я относилась к эмиграции, как к левитации.
Помню, я удивилась. Все мне показалось каким-то дореволюционным. Монахини живые по улицам ходили, маленькие частные лавочки. Эксплуатация человека человеком. Потому что произошло не совсем так, как бывает в научно-фантастических романах. Там обычно герой попадает прямо к главному начальству, к правителю всей планеты Тускубу, и женится на его дочке Аэлите.
А моя машина времени приземлились среди каких-то довольно темных хмырей, которые сразу же начали меня охотно эксплуатировать. По специальности, то есть по истории раннего Ренессанса, мне устроиться не удалось. Я итальянского языка не знала, почему-то это изумляло работодателей. Я умела довольно бегло читать по-английски, но этим здесь мало кого удивишь.
А говорить я плохо умела, разговаривать мы с ней научились примерно одновременно, хотя она — быстрее. Теперь передо мной стояла задача воспитывать иностранку. Я с ней праздновала незнакомые праздники, посылала ее в непонятную школу, где говорили почему-то даже не на ожидавшемся английском, а все больше на каком-то подобии испанского; притворялась перед ней, что знаю про местное прошлое, которому не была свидетелем.
Я многие проблемы воспитания списывала на то, что я — перемещенное лицо. Я все пыталась жаловаться на сложность воспитания детей в чужой культуре.
«Тут эмиграция ни при чем! Мы тоже не в такой культуре выросли, — горевали родители из местных. — Вы думаете, нам их легче понять? Мы жили в другом мире! Они же марсиане какие-то!»
Ностальгией здесь называют вовсе не тоску по родине, а тоску по прошлому, по тому, что называется — в наши времена. Теперь времена меняются быстро, а люди живут долго, так что всем приходится большую часть жизни проживать как перемещенным лицам — в тоске, неполноценности и растерянности.
Например, сейчас четверть двенадцатого, сорок пять минут до 2000 года. Мои это времена? Нет, не мои.
Вот у Станислава Лема в романе «Возвращение со звезд» про это очень хорошо написано. Герой прилетел со звезд, и космодром был совершенно неузнаваем. Наконец он увидел что-то знакомое — девушку с букетом цветов — и приободрился: значит, люди все еще встречают прилетающих с цветами. Он подошел поближе. Девушка поднесла букет к лицу и начала его есть. «Она спокойно жевала нежные лепестки, — пишет Лем, — и у меня перехватило дыхание».
Короче: меня воспитывали по заветам европейской литературы девятнадцатого века, а она будет жить здесь, в двадцать первом. Между нами двести лет разницы.
Но почему-то я не могу удержаться. Я ее поучаю. Я ей морочу голову. Это, наверное, митохондрия.
— Ты знаешь, что такое митохондрия?
— Знаю.
— Ну скажи, скажи, что? — я ее вечно проверяю, пытаюсь понять глубины ее невежества.
— Это генетический материал клетки, который передается по материнской линии и не меняется в процессе эволюции. То есть меняется примерно на два процента за миллион лет. Это для тебя — что, большая новость?
Ее всегда поражает глубина моего невежества.
— Откуда ты это знаешь?
— Это в средней школе проходят.
— У нас этому в школе не учили! — восклицаю я несколько патетически. Я всегда впадаю в пафос, когда пытаюсь объяснить ей про свое прошлое. — У нас за генетику сажали! У нас за кибернетику расстреливали!
— У вас за все расстреливали, я в этом не виновата. Ты вечно мелодраму разводишь и ужасы рассказываешь, — говорит она. — Можно подумать, что тебя саму расстреляли. Ты могла бы мне отрезать еще торта?
— Что ты знаешь про ужасы! Ты Оруэлла, например, читала?
— Оруэлла в школе проходят!
Что означает — не читала.
Не стану же я ей рассказывать, как размораживала Оруэлла. Я не хочу перед иностранкой позориться. Она и так в шесть лет, насмотревшись старых моих фотографий, объясняла подружке: видишь, у них там все черно-белое. Она и так в восемь уже лет меня спросила однажды: а у вас там луна была? Потому что ты говоришь, что у вас ничего не было.
Я приношу ей кусок торта, но я на нее злюсь. Почему она меня не слушает? Почему она меня учит? Это яйца курицу учат. Роковые яйца. Это я высидела какого-то динозавра будущего, как у Булгакова или у Спилберга. Классового врага высидела, слишком уж она все-таки чистоган любит. Все время она какие-то проекты и бизнесы придумывает, какие-то миллионы ей светят, какие-то, мягко выражаясь, рога и копыта. Просто Остап Бендер в юбке. Хотя в юбке — это я для красного словца.
— Знаешь, — говорю я, — у нас в школе дети из бедных семей одевались совершенно как ты. Вот была такая Тамарка из барака, так она тоже под школьной формой огромные сатиновые шаровары носила.
Она ничего не отвечает, вертит в руках фаллос и глядит на меня тяжелым взглядом. Мне бы лучше помолчать. Мы опять поссоримся.
— И спрячь этот чертов член! Разобьется, а мне его потом пылесосить!
У нас с ней об этом недолгом и уже давно прошедшем периоде, о восемнадцати годах, которые мы прожили вместе, совершенно разные воспоминания. Мне кажется, что я много совершила ужасных ошибок, но главное, чего она мне не может простить, — это что у нее никогда не было кошки. У нее и отца никогда не было, но этим она мало отличалась от своих одноклассников. Даже в моей школе, сразу после войны с фашизмом, и то у некоторых были отцы. Во всяком случае, тех, у которых отцы погибли где-нибудь под Сталинградом и Курском, учителя выделяли: называли безотцовщиной и объясняли, что из них ничего хорошего не выйдет.
А тут, после феминизма, после книг Бетти Фридан и Симоны де Бовуар, практически никаких отцов не осталось. Бетти и Симона в своих книгах объяснили, как в прошлом женщин угнетали и эксплуатировали и как в будущем женщины будут искать себя — и не мыть посуду, а ходить на работу. Это все частично произошло, но не совсем так, как предполагалось. Женщины действительно ходят на работу. Предполагалось, что мужчины будут стоять на подхвате и начнут на равных мыть посуду. Но посуду мыть никому не хочется, и мужчины в беспрецедентных количествах дали деру. Так что если у женщины есть дети, то между работой и посудой искать себя ей теперь совершенно некогда.
Но на кошке я провела черту. Я их ненавижу, особенно местных. Они в рекламе снимаются, морды у них наглые, а размер — не кошки, а кашалоты какие-то, живут по двадцать пять лет. И эта несбывшаяся кошка всплывает всякий раз, когда мы ссоримся.
Она смотрит телевизор. Уже не «Одиссею», которой много не выдержишь, а самую популярную программу «Друзья».
Брэдбери в «Фаренгейте» предугадал: там жена героя обожает некую программу «Друзья» и у нее всегда в ушах наушники. Она слушает такое маленькое радио. Брэдбери это радио придумал, а потом они появились, назывались транзисторы, а теперь их уже нет, только в антикварных лавках. Как и персонаж Брэдбери, дочка моя звонит знакомым и обсуждает, что с «Друзьями» произошло.
Но у Брэдбери книжки жгут. Олдос Хаксли тоже считал, что в Прекрасном Новом Мире книг не будет. Это сейчас даже смешно представить — чтоб государство стало бороться с книгопечатанием. Книг полно — и про бизнес, и про кухню, и про астрологию целые отделы, и про как улучшить мышцы живота, и как найти настоящую любовь за десять дней. Брэдбери и Хаксли очень переоценивали силу печатного слова. Это мы когда-то, в старые времена, длинные тексты наизусть выучивали, как у Брэдбери в «Фаренгейте», или переписывали от руки; это уже кончилось.
Но еще у Брэдбери эта женщина глотает таблетки. И у Хаксли употребляют сому, которая делает всех счастливыми. И в «Аэлите» под стеклянными крышами, под железными арками в каменном горшке дымится хавра.
И много лет моей жизни ушло на подозрения по поводу таблеток, на ночные размышления о возможном употреблении сомы, на поиски хавры в ящиках комодов…
Ну, не будем об этом на ночь глядя. Интересно, что она и ее ровесники никогда не интересовались освоением космоса. Они не мечтают об открытиях науки и изобретениях будущего — они и уже изобретенное едва успевают закупать. Это я не обзаводилась разными приспособлениями, которые позднее выходили из моды и объявлялись совершенно бесполезными; мимо меня целые периоды прогресса проехали. А она должна обязательно все это иметь.
Когда она приходит, вокруг нее всегда образовывается целая паутина проводов и кабелей, и все пищит, мигает и тикает. И во всех этих приспособлениях есть часы и часики, через которые, мне кажется, время гораздо быстрее утекает. И в телефоне, и в печке, и в телевизоре, и в кофеварке — как-то неуютно, что повсюду часы. Как дырки в вечность.
Я когда-то читала, тоже у Олдоса Хаксли, про некий утопический остров, где порхали райские птички-попугаи и напоминали населению: здесь и сейчас! Здесь и сейчас! Здесь и сейчас!
Читала я это, сидя в коридоре своей искусствоведческой редакции, — помню, на продавленном и вонючем, александровской эпохи, работы крепостных мастеров диване, который наши эстеты спасли на помойке, — и пыталась вчувствоваться в философию мудрых попугаев. Но, там и тогда, там и тогда — мне вовсе не хотелось быть. Именно что на преходящесть момента и была одна надежда.
Вот что мне надо сделать до конца тысячелетия. Мне надо ей объяснить, что я на самом деле думаю. Что в прошлом я все беспокоилась о будущем и надеялась на него, а в будущем буду вспоминать и сожалеть о прошлом, а настоящего так и не было, как я ни старалась его ущучить. Не было ничего настоящего, чтоб здесь и сейчас. Я хочу ее предупредить, поделиться про жизнь.
Мне надо ее предупредить.
Она телевизор смотрит. И по телефону разговаривает.
Я открываю рот, и вот что я говорю:
— Почему ты совершенно не беспокоишься о своем будущем? Ты думаешь когда-нибудь про завтрашний день?
Она вынимает втулки из ушей. Она еще и музыку слушала. Пытается припомнить, кто я такая.
— Почему я должна сейчас думать про завтрашний день? — спрашивает дитя Нового Света, выслушав мой бред с брезгливым недоумением. — Завтра и подумаю.
— Разве ты не помнишь, к чему эта безответственность приводила в прошлом?
— Прошлое кончилось, — терпеливо растолковывает она и уже начинает поворачиваться обратно к экрану, — бесполезно размусоливать то, что раньше было. В настоящий момент я тут пытаюсь говорить по телефону. Торт остался?
Она говорит, что прошлое кончилось, с уверенностью дрессированного попугая. И это все? Устами младенца? И их будет Царствие Небесное? Нет, это какой-то упрощенный вариант; Хаксли не о том.
Вот что мне надо ей объяснить, пока не поздно. Мне надо ей сказать, что в многой мудрости — много печали.
— Ты, — говорю я, — меня никогда не слушаешь. А между тем я многое знаю, у меня есть жизненный опыт.
— Да ну? — отвечает она. — И какая от твоих знаний польза? Что ты в депрессухе все время сидишь и на меня тоску навести стараешься? Слушай, — присматривается она ко мне подозрительно, — ты что, опять уже набралась?
…А может быть, она пришла ко мне не из-за торта? Может, она подумала: в их, мол, культуре Новый год очень важен, я должна с ней посидеть, а то она опять наберется. Вот чего я больше всего боюсь — может, как только я ее не вижу, она превращается в нормального человека, в неуверенного, неэгоистичного, сомневающегося человека? Может, только я ее такой вижу — как у Брэдбери Марсианина все по-разному видят? Потому что — вот доказательство — не ест же моя дочь в своей нормальной жизни торты. После этого торта она первые две недели нового тысячелетия будет акридами питаться. Что если и разговоры о несбывшейся кошке — тоже одна фрейдистская символика и подстановка?
Может, она у меня за спиной и книжки потихоньку читает?
До Нового года почти времени не осталось. По крайней мере, не все ужасы, которые предрекались, произошли.
Вот мой любимый писатель Элвин Уайт в своей книжке про наш город, написанной в пятидесятые годы, вдруг в конце предрекает: прилетят, мол, самолеты, как стая гусей. И разрушат, мол, башни.
Ну, так как двадцать минут осталось, то он, видимо, ошибся. И никакие уэллсовские морлоки нас не съели, и неоткуда этим морлокам взяться.
Более того, вот недавно профессор один из Калифорнии книгу написал: «Конец истории». Он не фантаст, он футуролог, это серьезная наука, со статистикой. Он говорит, что в будущем уже никакой истории — конфликтов всяких, войн, революций — не будет. Потому что холодная война закончилась и воевать нам не с кем.
Как человеку мне немножко жалко, что истории больше не будет; без нее как-то скучно, мы к ней привыкли. Но как мать я этой новой теории бесконфликтности очень рада. Я не хочу, чтоб моя дочь жила в интересные времена. Даже и в скучные времена я много о чем по ночам думаю.
Книга эта имела большой успех, профессор объехал весь мир с лекциями, так что я надеюсь, что он прав.
И действительно, город наш, он и раньше был неплох, а к концу тысячелетия стал даже как-то чересчур прекрасен. И люди, особенно ее поколения. Они до неприличия красивы и обшиты такой кожей, вроде на них никогда и царапинки не было, и комар их не кусал. У молодых людей бицепсы, у девушек ноги до ушей, силиконовые бюсты. Прямо как древние греки какие-нибудь или как у Уэллса в будущем — элои, которые всё резвятся.
Но все-таки я никогда не верю, когда мне говорят, что что-то совсем кончилось. Где-нибудь, что-нибудь, немножко да завалялось. Это мне приятель один объяснил; он директором склада работал. А потом стал священником. И обе эти профессии приучили его к мысли, что не все поддается учету.
— Что-что? Я тебя не слышу! — кричит она в свой крошечный телефон, пододвигаясь поближе к моему старомодному телевизору, включенному на полную громкость, — я тебя совершенно не слышу! Здесь такой шум!..
Никто никогда не узнает, где она провела эту ночь. Я ее понимаю — я тоже не хотела бы провести новогоднюю ночь в том месте, где выросла.
— Пора уже! Надо шампанское разливать, мы пропустим!
— Почему ты из-за этого Нового года такой хипеж устраиваешь? Это всё условности календаря, и притом это западное летоисчисление. По буддистскому, например, летоисчислению…
Есть такой рассказ научно-фантастический про буддистский монастырь на Памире. Монахи должны найти и назвать все возможные имена Бога, и тогда мир кончится. И им для ускорения работы дают самый совершенный в мире компьютер. Это было написано давно, когда компьютеры были малоизвестны.
И вот на горе сидят ночью двое ученых, которые приехали помогать монахам с компьютером. И уже пять минут до полуночи, через пять минут закончится поиск и все имена будут названы. Полночь наступает, ничего не происходит. Они разливают вдовы Клико или Моэта благословенное вино и начинают спускаться с горы.
«В темном небе над ними, — пишет неизвестный мне автор, — начали одна за другой гаснуть звезды».
Двенадцать часов пробило, и мы выпили вдовы Клико или Моэта, третье тысячелетие началось, ничего не произошло.
Торта кусок на завтра остался, но она с него все цветы съела. На нем были такие засахаренные фиалки с нежными лепестками, я в специальный магазин за ними ездила.
Потом мы вскоре пошли спать.
Это было уже довольно давно. Поссорились мы через месяц, она мне что-то сказала уж совсем чересчур. Или я ей, не помню. Но мы с ней не разговаривали больше полутора лет. Вот так-то.
Потом она мне все-таки позвонила, в тот день, когда третье тысячелетие на самом деле началось. Еще бы: на дом, где она тогда жила, целый день падал белый пепел. Тут закричишь «Мамочка родная!».
Мы тогда, в ту новогоднюю ночь, не знали, что двадцать первый век еще не наступил. И не только мы, никто на свете об этом не знал, кроме нескольких бедуинов в древних пустынях Аравии. Но бедуины к тому времени уже увидели свет своей путеводной звезды, и готовили свои дары, и уже знали, когда, где и как начнется будущее.
Серая шейка
Самым страшным грехом на свете Танин бывший муж считал почему-то непрактичность. Ему внушили с детства: самое главное в жизни — благосостояние. И втемяшится же человеку в мозги такая блажь — ни колом, ни печальным жизненным опытом не вышибешь.
Перед отъездом он долго собирал информацию, знающих людей расспрашивал. В результате они привезли с собой все, что тогда полагалось возить: янтарь, хлопчатобумажные простыни и льняные скатерти, гжельские фигурки, хохломские плошки, палехские шкатулки. Считалось, что на это огромный спрос на Западе. Всего этого добра было много, и, когда оно наконец дошло малой скоростью, то оказалось, что за перевоз, а главное, за хранение в портовом складе надо платить. Этого он не ожидал, как не ожидал и того, что продать здесь оказалось гораздо труднее, чем купить, и что существует такая вещь — конкуренция.
По образованию они с Таней оба были гуманитариями, но он решил, что об этом следует забыть и надо становиться крупным бизнесменом.
Через год он рассчитал, что гораздо практичнее им развестись и получать два пособия по бедности вместо одного. Хотя развод был, конечно, номинальным, но все-таки пришлось разъехаться. Получили две квартиры. В своей он проходную комнату нелегально сдавал жильцам, a к Тане каждый день приходил обедать. Но так получилось, что, будучи разведенным, он начал спать со своей жиличкой. Хотя деньги с нее еще полгода брал.
Каждый отдельный его поступок был разумным, практичным и даже не особенно подлым. Подлой казалась вся цепь событий, да и то как посмотреть. Тане было свойственно становиться на чужую точку зрения, и до такой степени часто она ставила себя на место другого человека, что на своем-то собственном месте ее почти никогда не бывало и собственная точка зрения была ей не вполне ясна.
Такое отсутствие своекорыстия тоже не соответствует естественному порядку вещей, и не потому ли все ее отношения с людьми рушились и проваливались, как трехногий стул, потому что в человеческих отношениях каждому полагается по своекорыстию и по точке зрения, иначе равновесие теряется? Кроме того, несмотря на понимание, отвращение-то она все-таки чувствовала, именно постояв на чужом месте, и чувствовала особое отвращение.
Хотя жиличка, то есть новая жена мужа, оказалась вполне безобидным и даже симпатичным человеком. Мужа Таня ей уступила довольно охотно, но вот с дочкой были сомнения. Муж решил, что второго ребенка он не может себе позволить. Поэтому Танину дочку они приваживали, на все выходные, и праздники, и на лето брали, и к старшим классам жиличка ее почти удочерила. Ну и что? Без нее Таня просто бы не справилась, не вытянула бы девочку. Она не ревновала.
Бывший муж потратил первые годы после переезда на решение волновавшего его вопроса: а как тут надо врать? Врать тут оказалось очень несложно, просто стиль вранья был другой, зато народ гораздо доверчивее. Постигнув эту науку, он вскоре умеренно преуспел, и Лиле в их доме больше нравилось, чем у Тани.
Вообще не поэтому Таня чувствовала себя иногда бездетной.
Дочка росла такая уравновешенная. Никогда не надо было за нее беспокоиться. Например, она была некрасивая девочка, но никаких мучений ей это не доставляло, в школе ее никто не дразнил. Ее скучно было дразнить. В младших классах стало очевидно, что Лиля немного туповата. Например, не могла ответить на вопрос: растворим ли песок. «Ну как же, Лилечка, помнишь — лето, пляж?» Она только сопела и сварливо повторяла: «Мы этого не проходили! Нечестно спрашивать, чего не проходили!».
В голове у нее вроде бы было две полочки — на одной лежали те знания, по которым пишут контрольные и сдают экзамены, на другой — знания из жизни. Эти два вида знаний никак между собой не связывались и никак не перекрещивались, хотя именно на этом перекрестке и возникают иногда у людей самостоятельные мысли.
Но потом, в старших классах, все дети начали опаздывать, хулиганить, мечтать на уроках, ворон ловить, а в ней никаких детских фантазий и безалаберности не было, она шла вперед, как маленький, приземистый, неказистый танк, усваивала материал с трудом и свято в усвоенное верила. Она верила в защиту окружающей среды, в консервацию энергии, в натуральные продукты, во вред сахара и пользу отрубей и, более всего, во все теории полного равноправия, которым ее учили. Она верила, что все рождаются равными: и не только цветные, но и такие, как она, бесцветные. Лиля прилично сдавала экзамены, на которых предлагали три-четыре готовых ответа и надо было выбрать тот, который экзаменаторы считали единственно правильным, и поставить крестик в кружочке. У Лили прямо инстинкт какой-то был на крестики и кружочки.
В колледже Лиля несколько раз писала жалобы на профессоров, поставивших ей низкую оценку. Таня приходила в ужас — она сама преподавала и знала, что после таких жалоб люди иногда теряли работу. Но Лиля жалоб не забирала, даже говорила о суде.
Было непонятно: почему она, собственно, так собой горда и довольна? И никому не хотелось связываться, ей всегда уступали то немногое, что ей от жизни было нужно. Нужны были Лиле анкетные данные, понятные факты: ей полагались диплом, карьера, муж и позднее, когда будет собственный дом и сбережения, — ребенок. В юности она показывала Тане свой план и как она выполненные пункты вычеркивает и отмечает крестиком. Таня опасалась, что и в день свадьбы дочка не забыла вычеркнуть пункт и поставить крестик.
— Я всего добилась сама, — гордо говорила Лиля. Ее образование и бесконечных репетиторов оплатили родители, все трое. Видимо, она имела в виду божественное провидение, от которого никаких даров и талантов не получила, но, вот же, всего добилась сама, все высидела и выжала. А у многих красивых и умных полного комплекта не было.
Отношения Танины с дочерью были хорошие. Ровные. Только ей часто казалось, что невозможно всерьез любить ребенка, которому никогда не было ни страшно, ни грустно, ни одиноко и ничего от тебя не было нужно, кроме регулярного питания и карманных денег.
Иногда дочка приглашала Таню на обед, она считала, что необходимо поддерживать семейные отношения. Самым приятным в этих визитах бывали поездки на электричке, особенно обратная дорога, когда визит был уже закончен. Дочка жила в благополучном маленьком городке со смешным, бесконечно длинным индейским именем. Так странно было думать, что Лиля живет в тех самых местах, куда хотели убежать в поисках приключений чеховские мальчики.
— Я должна радоваться, — напоминала себе Таня, — что она здорова, благополучна, что они с мужем всегда будут счастливы. То есть не счастливы, это слишком сильное слово. Всегда будут удовлетворены своей жизнью. Хотя бы по отсутствию воображения.
Она везла с собой мешки со всякой снедью. Хоть накормить-то своего ребенка — все-таки какой-то символ любви, близости. Бывало гораздо легче, когда семейные обеды происходили у Тани. В дочкином доме всякая иллюзия близости пропадала. Дом сиял учрежденческой, госпитальной чистотой, был ярко и равномерно освещен и обставлен предметами обстановки. Вещи были как иллюстрации в разговорнике для начинающих: «Это моя гостиная. Это мой стол. Стол стоит на ковре. Ковер лежит на полу. Посмотрите на мой газон. Мой муж стрижет газон».
Ах, как все это было нехорошо. И до обратного пути на электричке оставался еще целый вечер.
Хуже того, Таня собиралась впервые в жизни попросить дочку о личном одолжении, о небольшом денежном займе. Ей необходимо было достать откуда-нибудь денег на короткий срок. Один из ее курсов неожиданно отменили. Такой идиотской ситуации уже давно не случалось; на квартиру-то было, но на проезд и минимальный прокорм уже совсем ничего не оставалось.
По профессии Лиля принадлежала к многочисленному классу людей — социальных работников, психологов, экономистов, адвокатов, которые обучали бедных, как быть бедными. Если проследить логику их теорий, то получалось, что бедность есть продукт безалаберности и инфантильности самих бедных и что если обучить неимущих практичности и организованности, то порождаемая ими нищета просто исчезнет.
Даже и сам Иисус Христос считал, что бедные всегда будут с нами, но социальные работники верили, что может воцариться всеобщее благополучие. Как мир во всем мире. Лилины коллеги получали гранты на исследование причин бездомности. Они строили карьеры на изучении статистической зависимости между доходом родителей и успеваемостью детей.
Как и в Лилиных мозгах, теоретические знания и реальные факты тут никак не перекрещивались. Жизненные детали социальных работников раздражали, портили дотошно разработанную систему. Кого-то эта система обеспечивала. Если не бедных, то, во всяком случае, составителей анкет, форм и циркуляров, которые необходимо было иметь в трех копиях — беленькой, желтенькой и голубенькой.
Тане всегда казалось, что чем глупее люди, тем сложнее у них мысли. Ей казалось, что причина бездомности в том, что человеку нечем заплатить за квартиру. И что бедные, к которым она имела все основания причислять и себя, гораздо лучше, чем дочка, разбираются в том, как прожить, когда денег на жизнь совершенно нет. Таня была ассистентом профессора и преподавала язык и литературу в двух колледжах. Она была почасовиком, то есть работы ей давали ровно столько, чтобы не было права ни на какие страховки и льготы. Платили садистически мало, так мало, что со временем ее стало удивлять, что у других людей есть деньги на жизнь, просто есть, всегда, предполагаются, как вода из крана. Она же, когда удавалось к концу месяца свести концы с концами, всегда восхищалась так, будто получилась у нее вольтова дуга: искры летят, фейерверк, концы с концами сошлись, ура!
Таня сидела последнее время, как Серая Шейка в полынье, и по льду уже приближалась, ползла на брюхе лиса.
Когда нет денег на жизнь, то жизнь постепенно скукоживается. Экономишь копейку, как экономят дыхание в застрявшем лифте, и от этого ничего не предпринимаешь. Засушиваешь свои потребности на корню, и всякое легкомыслие и поверхностность пропадают, последние признаки молодости. От такой сдержанности и самоконтроля, от такого плаванья туда-сюда в постепенно замерзающей полынье и с лисой смиряешься — ведь можно себя поставить и на место лисы…
Дочка выслушала ее, солидно насупившись.
— Подожди, — сказала она, — я пойду проверю свое расписание. Посмотрю, когда у меня есть окно.
Она села к компьютеру и сообщила, что, хотя расписание у нее очень плотное, она может назначить прием на следующую пятницу, у нее есть сорок пять минут.
— Принеси обязательно все налоговые бумаги, квитанции, копии счетов. Я наверняка смогу порекомендовать, куда обратиться. Для начала составим бюджет и определим твои финансовые проблемы и возможности…
Она совершенно явно проговаривала стандартную форму, которую употребляла с новыми клиентами.
— До меня ты должна обязательно пройти собеседование с Дугласом. У него прием во вторник в семь пятнадцать утра. И не опаздывай, — Лиля посмотрела подозрительно. Сама она вставала всю жизнь в шесть, никуда не опаздывала и не понимала людей, которые не способны проснуться вовремя.
— Только, пожалуйста, — попросила оторопевшая и растерянная Таня, — ты хоть там никому не говори, что я твоя мать.
— А… у тебя с этим психологические затруднения? — Лилю учили, что у клиентов часто бывают психологические проблемы, что надо продемонстрировать сочувствие. — Я безусловно не буду сама вести твое дело, я только проведу интервью и первоначальную консультацию. Тобой будет заниматься кто-нибудь из коллег…
Она закрыла компьютер и перешла с профессионального тона на семейный.
— Все-таки вот я устроила свою жизнь, — когда Лиля говорила на свою любимую тему, то даже ее обычная вялость исчезала, она смаковала каждое слово, как будто леденец обсасывала. — Я всего добилась сама. Жаль, что ты не сумела устроиться. Могла бы в свое время найти спутника жизни. Или, по крайней мере, поменять квалификацию, получить диплом в более востребованной области…
Таня закладывала тарелки в посудомойку и представляла, как будет сидеть на приеме у дочки и отвечать на вопросы: Возраст? Пол? Образование? Семейное положение?
Ах, Таня верила в Конституцию, но ей вовсе не казалось, что все рождаются равными. Дочка и племянник Егорушка — ну разве они родились равными?
У нее когда-то был племянник по мужу, маленький Егорушка. Такой был удивительный мальчик, светился изнутри талантом. Очень они дружили. Таня ему потом, после отъезда, подарки посылала, а когда у них там были тяжелые времена, то и деньги несколько раз. Но позднее они потеряли контакт. Она иногда думала: что с ним произошло? Кем он, интересно, стал?
Этот Егорушка объяснял ей однажды очень серьезно, что человек должен почаще смотреться в зеркало, чтобы убедиться в том, что он есть. Вроде как к врачу на проверку ходить. А если не смотреться в зеркало регулярно, то даже не заметишь, что тебя уже нет, что ты пропал.
К Дугласу она почему-то отправилась. Все равно не спала всю ночь, почему бы и не пойти к семи пятнадцати.
Чиновник этот, Дуглас, был черный человек. Тоже, как и Лиля, всего сам добившийся.
На семь пятнадцать утра Дуглас назначал прием двадцати-тридцати клиентам одновременно. Он появлялся в восемь. Перед его кабинетом сидели девочки-подростки с младенцами, старухи с ходунками и костылями, инвалиды в колясках. Почти все приходили с родственниками, с множеством детей всех возрастов. Таня была тут белой вороной, то есть чуть ли не единственной белой женщиной и наверняка единственной с высшим образованием.
Время от времени Дуглас появлялся в дверях, предупреждал толпу, что если не прекратится гвалт, то прием будет приостановлен, и вызывал очередного клиента.
Знал он или не знал о родственных связях Тани, но поучительную лекцию он ей брезгливо прочел. Надо же, думала Таня, всю жизнь мне читали лекции идиоты. Сначала — потому что я была маленьким ребенком, а там, где я родилась, детей не уважали. Потом — потому что я женщина. Позднее — потому что говорю с акцентом. Здесь, где мне предстоит умереть, не уважают пожилых.
Она не обижалась на Дугласа, она вполне могла понять его точку зрения. Он постоянно имел дело с людьми, перекладывающими свои практические проблемы на плечи налогоплательщиков, и считал защиту налогоплательщиков от непрактичного и безответственного отребья своим профессиональным долгом. Более того — своим призванием. Ведь смог же он сам всего добиться!
Вполне возможно, что количество просителей, которых он считает недостойными материальной поддержки, доходит иногда до ста процентов. Начальству такое рвение не должно нравиться, подобный отсев наводит на мысль о ненужности их учреждения вообще и возможности его ликвидации. Начальство думает масштабно и видит общую картину. Сам же Дуглас всегда видит — и ненавидит — только сидящего перед ним просителя, и лица этих просителей сливаются в одно лицо жулика, чьи мелкие силенки целиком направлены на грабеж налогоплательщиков.
Он считает, что все люди мелкие жулики, думала Таня. Это, конечно, неправильно. Некоторые могут быть крупными мошенниками, некоторые просто злодеи. Встречаются, наконец, и люди совершенно порядочные. Если не по моральным убеждениям, то хотя бы по лени: быть мелким жуликом очень хлопотно.
От Дугласа Таня поехала в колледж, где прочла свою собственную лекцию, и притом на животрепещущую в тот день тему, о семействе Мармеладовых. Лекция получилась вдохновенная, Таня много импровизировала, проводила параллели с современностью.
Ее теперь поражало, до какой степени у Достоевского всё про деньги да про деньги. В молодости ей казалось, что у него про страсти и про тайны человеческой психики. Только теперь она поняла, как много про деньги, вернее, про их отсутствие и про то, что это отсутствие денег делает с человеческой психикой. Тогда, в молодости, в прежнем-то мире, деньги не всё решали. Не были последней инстанцией. Скорее страх был последней инстанцией, никакие деньги от страха там не спасали. Был такой короткий, отдельно взятый исторический период, когда мерилом всех вещей являлись не деньги, а страх. Теперь, по-настоящему столкнувшись с деньгами, она Достоевского лучше понимала. Проще.
Никто, конечно, не знал, что она высказывает собственные мысли. Студенты были уверены, что им цитируются авторитетные источники. Но все стрательно записывали, и Таня знала, что прочтет свои мысли в их курсовых и диссертациях.
Дома Таня уснула, хотя было еще неприлично рано. И, засыпая, думала не про Сонечку Мармеладову, а про злосчастную Серую Шейку.
Вот, Маленькие Лебеди ножкой ножку бьют и хотят быть принцессами, Гадкий Утенок хочет быть лебедем, а Серая Шейка всего только и хочет — быть полноценной уткой, и того ей Бог не дает.
Бог особенно заметен тем, кому он говорит «нет». Он тебе скажет «нет» и опять «нет», и когда он тебе скажет «нет» в двунадесятый раз, тут ты его и заметишь, и задумаешься. Когда он говорит тебе «да», ты не задумываешься — слишком много развлечений. Тщету всего земного особенно замечаешь, если всего земного тебе никто не предлагает. Серую Шейку добрый охотник кладет за пазуху и уносит в теплую избу зимовать. Не верила Таня в добрых охотников. Утащит он эту Серую Шейку к шестипалой неправде в избу… откормит и слопает…
Среди ночи она проснулась и обнаружила, что автоответчик попискивает и мигает. Мужской голос, по-английски. Говорил он чисто и грамотно, но с манерным носовым акцентом, как говорит на белом свете только одна группа населения: выпускники романо-германского отделения МГУ. Человек сообщил, что Таню разыскивает ее племянник Егор, находящийся проездом в городе. И что, если она и есть разыскиваемая Егором тетя Таня, то ей следует после семи позвонить по такому-то телефону и назвать такой-то дополнительный код.
Звонить было уже поздно. Надо было ждать до следующего вечера, и она чрезвычайно взволновалась. Неужели это был Егор, и он так прилично говорит по-английски? Или нет, он, наверное, попросил кого-то позвонить. На сколько же он приехал и у кого остановился? Ему сейчас должно быть уже больше тридцати пяти. Значит, за границу ездит, значит, чего-то добился.
Она вспомнила, как в первый раз увидела маленького Егорушку. Она была еще совсем девочка, на первом курсе, только начала встречаться со своим будущим бывшим мужем, и они поехали за город, к его родственникам.
Был июль и очень жарко. По всему дачному участку валялись в траве игрушки. А Егорушка сидел в ванночке, в нагретой на солнце воде. Вода была колодезная, но от солнца уже совсем горячая. Ей разрешили его вынуть, завернуть в полотенце. Как от него пахло! Такой он был плотненький, тяжеленький, как белый гриб. Так получилось, что он был первый ребенок, которого ей дали подержать на руках, ей до того не случалось. Ах, какой он был замечательный! И такая у них любовь началась и продолжалась все восемь лет, пока Таня еще там жила. Даже рождение дочери этой любви не изменило.
Как все вокруг него кружилось тогда на даче, и не потому, что он был избалованный, просто в нем была энергия, как будто он насиделся в нагретой солнцем воде и сам стал как слиток солнечного золота, сгусток энергии. Такую он излучал радость.
Егорушка на ее жизнь повлиял, если вдуматься. Из-за Егорушки ей вдруг захотелось ребенка, иначе она бы и замуж тогда не вышла, и дочь так рано не родила. Она думала, что дочь будет, как Егорушка. И потом она думала — может быть, если бы она не отпускала Лилю к отцу так часто… Если бы Лиля там выросла, в той культуре, прочла бы Пушкина, Достоевского… Ведь вот Егорушка наверняка вырос сложной, интересной личностью, понимает шутки…
Звонок на другой день, после семи вечера, оказался непростым. Ответила девица с безукоризненным английским, уже без всякого университетского акцента. Таня назвала код и начала объяснять, что, мол, я ваша тетя и так далее — но в трубке уже звучала музыка сфер, ее куда-то переключили. Следующим ответил грубо рявкнувший мужик, по-русски. Таня, надеясь, что ошибается, осторожно спросила: Егор? Мужик, который был не Егор, Таню долго и подозрительно расспрашивал. Хотя — его-то какое дело? Потом помягчел, извинился, и опять зазвучала музыка сфер. Наконец-то ответил тот голос, прежний, с университетским прононсом.
— Егор! Егорушка! Наконец-то! — обрадовалась Таня. Но выпускник МГУ вежливо прервал ее, сказал, что ей перезвонят, и повесил трубку.
Телефон зазвонил минут через пятнадцать. Это был Егор. И как же она могла его с кем-то спутать! Вот это действительно был Егор: голос у него был замечательный, мягкий, интеллигентный, образованный, прекрасная дикция — такого Таня уже давно не слышала. Он сказал, что очень хочет ее видеть, что часто, очень часто о ней вспоминает. Но приехать на другой день не сможет. И остановиться у нее не сможет, к сожалению. Да, ему есть, где жить; кроме того, он с подружкой. Его не будет три дня, а вот в понедельник, если только ей удобно…
Разговор был короткий, так как Егор уезжал, она ни о чем не успела даже спросить.
Таня решила, что лучше пригласить его куда-нибудь.
— Лучше я тебя в ресторан хороший свожу, да? — мысленно говорила она. — Попробуешь французскую кухню, я тут знаю одно приятное место…
Знать-то она знала, и уже много лет, но внутри этого роскошного заведения никогда не бывала.
В нескольких кварталах от Таниного, довольно убогого района, начинался район очень и очень хороший. Каждый раз, проходя мимо углового ресторана, она заглядывала в окна, видела в полутьме белые скатерти, цветы, камин, пожилых официантов и уже заранее знала, о чем начнет размышлять: о буржуазном благополучии, обеспеченности, о людях, которые живут на одном месте поколениями, учат своих детей правильно держать нож и вилку, ходят в один и тот же ресторан из года в год… Это была мимолетная эмоция, конечно, потому что Таня сейчас же себе напоминала, что никакого традиционного, наследственного буржуазного благополучия нет нигде на белом свете уже с тысяча девятьсот четырнадцатого года…
Таня заказала столик. Не по телефону, а сама пошла, чтоб посмотреть меню. Эта ресторанная идея была, конечно, чистым и абсолютным безумием. Даже если она будет заказывать на всех сама и выбирать очень осторожно, все равно уйдет все остающееся на кредитной карточке. У нее эта карточка была только на самый пожарный случай.
Тем не менее, это была встреча с Егорушкой. И встреча с ним — это какой-то этап жизни, финал, развязка. Ей хотелось сделать для него что-то особенное. А лиса ее съест так или иначе, не раньше, так позже.
В понедельник Таня пришла заранее. Столик ей дали, конечно, поганый, возле кухни. Она беспокоилась, что не узнает племянника. Разве что по неуверенному, немного заискивающему выражению лица, которое всегда бывает у приезжающих оттуда, да и у нее еще осталось, не извелось, после стольких-то лет…
Она узнала его немедленно. Узнала и поняла, что произошло недоразумение, что она перенесена в альтернативную реальность. Он еще не успел дойти до Тани, а все кругом уже стало изменяться, перемещаться в связи с ним и по отношению к нему, метрдотель уже приглашал ее перейти к другому столу, возле камина, официанты подобрались и забегали, как дрессированные собаки, услышавшие свисток на ультразвуковых частотах, недоступных человеческому уху.
Было совершенно ясно, что он смотрится в зеркало часто и что если у него и возникают какие-либо сомнения по поводу собственного существования, то сомнения эти остаются между ним и зеркалом, а к остальному человечеству он уже поворачивает лицо, безусловно и окончательно существующее. Лицо это было не обременено такими мелочами, как выражение, и не тратило лишней энергии на ненужную мимику. Это было даже не лицо, а, как теперь стали выражаться, бренд. Было, например, совершенно ясно, что лицо это часто показывают по телевизору, что оно знакомо сотням тысяч, если не миллионам, людей. Оно было даже не совсем человеческого, скорее электронного цвета. И хотя ей было известно, что слово это — бренд — означает на английском языке еще и клеймо, которым метят скот или которым бог шельму метит, но она сразу же поняла, что ни скотом, ни шельмой племянник Егорушка не стал.
Стал он, видимо, сверхчеловеком. Таня совершенно не следила за текущими событиями, потому что эти события вызывали у нее ощущение вроде зубной боли. Поэтому она никогда не видела племянника ни по телевизору, ни на фотографиях, да и не догадалась, не узнала бы вне контекста. Фамилию он, скорее всего, изменил.
С ним должна была быть свита, но никаких телохранителей не было заметно, кроме девушки, упоминавшейся им по телефону подружки. На две головы выше всех в ресторане, включая и племянника, она шла, загребая ногами, как это делают модели, притом на очень высоких каблуках. Вряд ли она носила бы такие каблуки, если бы он возражал. Значит, ее рост принадлежал Егорушке, как и другие символы статуса: невидимая свита, неброские платиновые часы, скромный костюм от лондонского портного. У подружки была нежная, денежная, светящаяся кожа и сияющие шелковые волосы. Таня почувствовала и остро осознала каждый из своих физических недостатков, включая даже такие, о которых никто не знал и никто никогда их не видел. Да что говорить, она вся была один сплошной физический недостаток. Считать, что они обе — женщины и тем самым в чем-то схожи, было бы неуместной и оскорбительной шуткой.
При виде Тани лицо племянника совершенно преобразилось. Такая искренняя, обаятельная, радостная улыбка расцвела на его лице, так замечательно тепло он сказал:
— Тетя Таня! Как же ты великолепно выглядишь! — что она почти поверила, невозможно было Егорушке не верить. Хотелось кричать, как Станиславский из зала: верю!
— Знакомься, Алисочка: это Таня, любимая моя тетушка. Она уехала, когда мне было восемь лет…
Он говорил, и не надо было ни о чем беспокоиться, можно было просто расслабиться и греться в этом обаянии, в энергии, от него исходящей. Естественно, она ничего для них не заказывала. Заказывал он, перешучиваясь с метрдотелем и официантами, мешая безукоризненный английский с не менее безукоризненным французским. Не нужно было ничего делать, ничего решать в его присутствии. Чего уж ей, Серой-то Шейке, — было совершенно ясно, что и главы больших корпораций и небольших государств на совещаниях с ним такое же приятное расслабление чувствуют: делать и решать будет наш Егор.
Джентльмен в смокинге, с серебряным штопором на атласной ленте подавал Егору список вин. Они консультировались и, не найдя, видимо, ничего соответствующего его стандартам, посылали официанта куда-то.
Лицо у Алисочки было, как у марионеток бывает: вроде бы две пуговки и ротик, и ничего не движется — ей, наверное, полагалось за каждую улыбку двадцать минут массажа, — но очень выразительно, и много эмоций прочитывается. Развернув салфетку, она смотрела в нее со сдержанным отчаянием. Вполне возможно, что на салфетке было неотстиранное пятно. Таня уже и так поставила себя на место Алисочки и осознала паршивость ресторана — даже цветы в огромных китайских вазах на камине были срезаны не сегодня. С другой стороны, Таня в таких местах бывала раза два в жизни. Учитывая, как выражалась дочка, ее финансовые проблемы и возможности, этот французский обед вполне мог оказаться последней вечерей.
Она не задавала вопросов о том, чем племянник занимается. Было совершенно ясно, что делать этого не следует. На какие-то вопросы он, впрочем, отвечал. Она спросила: куда он уезжал на два дня? Думая, что он возил Алисочку во Флориду или на Ниагару. Но он ответил, несколько удивленно, что должен был слетать в Японию и Южную Африку. Всплывали иногда факты: он действительно закончил романо-германский. Но упоминалась вскользь и аспирантура в Лондоне, и Сорбонна, и Казахстан, откуда он вывез Алисочку. Таня спросила — на скольких же языках он говорит? Он задумался, ответил, что на шести, но прилично только на двух-трех. На другие вопросы он не отвечал вообще, просто улыбался, молчал и глядел на нее ласково, и она чувствовала, что наталкивается на мягкую, ватную стену. Было ясно, что подписей под картинками не будет, но картинки были интересные и без подписей.
Подавали паштеты в замороженных, запотевших серебряных блюдах, подавали, само собой, икру. Приносили огромные тарелки со свежайшей, очень просто приготовленной, пахнущей океаном рыбой.
Она сказала, что преподает язык и литературу, и он не стал задавать идиотских вопросов — любят ли здешние студенты Пушкина? Он спросил — ассистент она или полный профессор? Он спросил — собственная у нее квартира или она снимает? В академической жизни он явно разбирался, как и во всем остальном. Он все понимал. Когда она уезжала, он был маленьким мальчиком, а она — молодой женщиной. Теперь они стояли по обе стороны среднего возраста, он только входил в него, а она уже выходила. Хотя куда из среднего возраста может быть выход? Разве что в расход.
— А что твои родители? — решилась спросить Таня.
На самом деле хотелось ей спросить не про родителей, родители у него были скучные, как и все семейство мужа. Хотелось ей узнать — как, когда и почему он все это успел, с чего это началось, как он видит мир со своей точки зрения, на которую Таня при всем желании встать не могла даже в самом безумном воображении, потому что эта точка зрения находилась, вероятно, на вершине Эльбруса. А Таня никогда не могла понять, за каким лешим люди лезут на Эльбрус. Зачем, зачем ему все это надо? И зачем понадобилась ему она, Таня? Почему он ее до сих пор помнит? И почему он, при своих возможностях, не мог приобрести какую-нибудь более естественную, немного более бескорыстного вида девушку, не Алисочку?
Алисочку, которая взглядывала иногда на племянника с мышиным страхом.
Бедный грызун, подумала Таня. Она любила животных.
И в этом страхе отражалось то, чего Таня в племяннике не видела, чего он ей не показывал. Ей представилось, что перед отъездом Егорушка просто спустит из Алисочки воздух, и она растечется лужицей блестящего пластика, он эту пустую шкурку поднимет и задумается: класть ли ее в чемодан? Или перед следующей поездкой приобрести Региночку или Кристиночку новой модели?
— Они живут у моря, — коротко ответил Егор про родителей.
Черного, Белого, Средиземного? Более точного адреса он не сообщил. На случай, если Таню изловят и будут ей загонять иголки под ногти и родителей возьмут в заложники? Страх. Переходный исторический период: уже деньги важны, но еще и страх. Вот и антураж тоже, невидимые телохранители, чье присутствие чувствовалось. Ведь они не только для пущего престижа.
Подали десерт — конструкцию из шоколада и крема, поднимавшуюся в воздух, как небоскреб. Непонятно было, как к ней подступиться, но Таня вломилась в десерт решительно, ей было все равно, у нее голова кружилась, она решила наслаждаться.
Пили коньяк. Повар в высоком колпаке приходил раскланиваться. Егор говорил ему французские комплименты, и было видно, что и повар, и джентльмен со штопором, и метрдотель совершенно счастливы, что им лестно обслуживать настоящего ценителя…
— Тетя Таня, — сказал Егорушка, — а помнишь, как ты мне двести долларов прислала?
— Нет, совершенно не помню, — искренне изумилась Таня. Неужели целых двести долларов?
Она всегда ругала и поносила себя за то, что у нее правая рука не знает, что делает левая. Когда ей напоминали о давно забытых благодеяниях и услугах, она удивлялась. В ретроспективе благодеяния всегда казались ей безответственной глупостью, донкихотством, от них прямая дорожка вела к попрошайничеству у собственной дочери и к мистеру Дугласу.
— Ведь я тогда, тетя Таня, на эти деньги смог себе купить свой первый… Неважно, но ведь с этого и началось…
Его не то чтобы развезло. Конечно, не развезло. Просто он мог себе позволить иногда даже и искренность, семейное тепло.
Таня всерьез испугалась. Что он себе тогда смог купить? Первый компьютер? Первый наган? Или самолет. Тогда ведь можно было и самолет купить. Егорушка купил самолет. Например, перевозил нелегальное оружие в Африку. В Анголу. Там до сих пор поля заминированы. Потом купил больше самолетов, больше оружия. Вечно ее идиотские благодеяния глупостями кончаются, но это уж чересчур. Это — чересчур.
Эта ее доброта, услужливая доброта, она ведь происходит от отсутствия настоящей алчности, не к деньгам, конечно, а к жизни вообще алчности, настоящей страсти. Всегда она могла обойтись, согласиться, уступить, боялась взять грех на душу. А Егор, конечно же, он весь и состоит из алчности к жизни, страсти к жизни, это и была та солнечная энергия, которая в нем еще с младенчества чувствовалась, и уж он-то не боится взять грех на душу… И нет тут ни добра, ни зла — масштаб другой, детали неразличимы. Только страсть, воля к жизни, дьявольская воля к жизни. Не практичностью же достигается то, чего он достиг…
И все-таки — как странно думать, что она когда-то заворачивала его в китайское полотенце, и капли скатывались с его веселого атласного животика, капли горячей колодезной, солнечной воды. Такой был замечательный мальчик. Ну что может человек поделать, если в нем такой вот триумф воли, если он родился в интересные времена? И Таня была уверена, почти абсолютно уверена, что сам, лично, Егорушка никогда и никого не убивал. Господи, да отчего у нее вообще такие мысли? Разве что из-за неуместной Алисочки…
А она, значит, тетя Таня — для Егорушки вроде амулета и талисмана. Поэтому он ее и разыскивал. Это он зря, зря. Непонятно, чем он занимается, но понятно, что в его деле сентиментализм не помогает. Нечего Карамзина разыгрывать, к пруду бегать.
— Бог с тобой, Егорушка, — забормотала она, — ты всего добился сам… Устроил свою жизнь…
Когда подали счет, началось короткое препирательство об оплате. Таня начала было свою заранее заготовленную фразу: «Нет, я тебя пригласила. А ты лучше купи своим подарки…». Но осеклась. Тем более что Егор быстро ей уступил — видимо, не хотел и не мог тратить время на обсуждение такой ничтожной суммы.
Официант взял ее заветную кредитную карточку, ту, которая на всякий пожарный случай. Таня и не поглядела на счет — чего глядеть-то? Но вино это, которое приносили неизвестно откуда, и нектар, и амброзия, и коньяк, и шоколадные небоскребы… Она вдруг явственно себе представила, что официант возвращается, что карточку завернули, что она перешла лимит… Однако обошлось.
Охранники, конечно, были. Как только Егор поднялся из-за стола, один, пивший минеральную воду в баре, начал что-то бормотать в лацкан пиджака, другой, отпихнув ресторанного швейцара, открывал двери. Алисочка уже втянула свои длинные ноги в глубину длинной машины. У почтительно открытой дверцы стоял третий амбал…
Надо было прощаться.
Егор взял Таню под руку и начал прогуливаться взад-вперед по тротуару. Это было явным нарушением протокола, и охрана — ох, их было человек десять — забеспокоилась. Как тараканы черные.
— Ты уж иди, Егорушка. Люди ждут, неудобно… — попросила Таня, понимая глупость сказанного.
— Тетя Таня, — сказал племянник, заглядывая ей ласково в глаза, — у меня здесь есть недвижимость. Можно я тебе подарю квартиру?
— Нет, — ответила она быстро и тоже ласково, как будто ждала этого предложения весь вечер. Как будто он хотел подарить ей букет цветов или до дому подвезти. И вроде бы ответ у нее был уже заранее продуман и готов. — Нет-нет. Этого совершенно не надо. Я просто рада была тебя увидеть после долгих лет, и я счастлива, что у тебя все в порядке…
До дому она пошла пешком, все тридцать кварталов.
Было так тепло, и так пахло весной, и так долго она шла по таким старым местам города, вернее, по таким новым местам, где трущобы выкорчевывают и устраивают гнездовища для миллионеров. Эстетика небольшого расчищенного пространства — от сих до сих. Хром, сверкающее стекло, одежда по цене бриллиантов, еда на вес золота, антикварные кадиллаки, склады, помойные мешки, просачивающиеся гнилью, развороченные дома, как ободранные туши. И красный колониальный исторический кирпич, узкие окна, граффити, и река Гудзон все время появляется рядом, блестит между домами.
Казалось, что мир полон возможностей, что теплый воздух пахнет приключениями, что все впереди. То есть не все, конечно, до такой-то степени она еще с ума не сошла, а что есть еще слабая надежда, что впереди что-нибудь есть. Но это была иллюзия, так как был, тем не менее, январь. И впереди предстояло не что иное, как февраль. И даже если бы это был апрель, то ожидать новых удач и приключений не приходилось.
Она все время останавливалась и прыскала со смеху, каждая приходящая в голову мысль казалась ей необыкновенно смешной. Что амбал был так похож на амбала и держал дверцу машины совершенно как в кино. А чего стоит, что она только что отказалась от квартиры, принцесса экая выискалась на горошине, с понтом под зонтом, Зоя Космодемьянская, Настасья Филипповна с купюрами в камине. И что она — она! — на свои последние кормила и поила — кого? Егорушку, да еще и Алисочку!.. А квартира-то ведь была не фигура речи, а вполне реальная, с полом, потолком и унитазом, и в приличном небось районе. Или ей представилось на секунду, с нехорошим удовольствием, каким непрактичным показался бы Егорушке ее бывший муж со своим глупым янтарем. И ведь все они — и амбалы, и полированная Алисочка — совершенно явственно дрожали от страха, от животного, кишки сворачивающего страха перед племянником Егорушкой. А она — нет. Она не дрожала. И никого из них она никогда больше не увидит, как не увидит и своих нескольких сотен долларов, потраченных на этот безумный обед.
Так ей смешно все это казалось, что она даже останавливалась и говорила какой-то бред самой себе, и смеялась, и радовалась, что теперь это можно, никто не обращает внимания — думают, что разговариваешь по мобильнику. Уже подходя к дому, она протрезвела и думала о том, что никакого финала и развязки не бывает, текст обрывается без сносок, ссылок и комментариев. Но моменты, замечательно смешные, все-таки бывают. Очень бывает иногда смешно.
Следующий месяц Таня провела в обществе Настасьи Филипповны, Катерины Ивановны Мармеладовой и сестры Раскольникова Дунечки, питаясь в основном макаронами. И этот вечер казался ей уже легендой, и человек, которого она в этот вечер встретила, уже никак не связывался с тем давним маленьким мальчиком…
Тем более что, когда в конце месяца она получила ежемесячный отчет от своей кредитной компании, то никакого французского ресторана, никакого обеда, ни Алисочки, ни коньяка, ни, тем более, племянника там не было.
Как корова языком слизнула.
Лёв многострадальный
С вечера гремят и дребезжат стекла, дует страшный ветер. Лёв знает, что утром будет очень холодно и что я на него обязательно надену куртку. Лёв не хочет мне объяснять, почему второкласснику нельзя идти в школу в такой куртке. Чтобы объяснить, надо сказать нехорошее слово — «гомик». В сиреневом и розовом ходят гомики. Но со мной и Виктором нельзя разговаривать про неприличное и употреблять уличные выражения. Мы — интеллигентная семья.
Когда я прихожу поцеловать Лёва на ночь, он мне ничего не говорит, а я не спрашиваю. Мне еще идти работать в ночную смену. Мы с Лёвом уже месяц не успеваем почитать на ночь. Раньше я ему читала привезенные с собой книжки, рассказывала длинные истории из жизни его плюшевых зверей. Прежний плюшевый скот, который у Лёва там был, вывезти не удалось. Виктор сказал, что это абсурд и что все равно их всех на таможне распотрошат. Ну, в этом Виктор оказался прав. Действительно, одного медведя Лёв взял, его распотрошили у нас на глазах.
Прежние, тамошние, были в основном медведи. Этих я покупала уже здесь. Их у нас опять довольно много — коза, осел, даже единорог какой-то. И бегемот. Всякий раз, когда Лёв болел, я ему покупала какого-нибудь недорогого, но интересного плюшевого зверя. В первое время он часто болел, и диатез у него был ужасный. От цитрусовых — я его перекормила, на витамины накинулась.
Я выключаю свет. Куртка висит на стуле, в темноте цвет ее почти неразличим, она кажется серой, но все равно на рукавах оборочки и карманы вышиты ромашками. Куртка Лёву велика, и карманы с ромашками болтаются у колен. Ну и что — так теплее, коленки прикрыты.
Лёв прекрасно знает, что с ним будет в школе, но он молчит, потому что не хочет, чтоб мы с Виктором опять ссорились. У нас и так нехорошо.
Эту куртку, сиреневую, почти розовую, Виктор принес от соседей. Соседская девочка из нее выросла. Муж соседки тоже без работы, поэтому они с Виктором дружат и часто встречаются поговорить об умном. Сама же соседка сразу устроилась по специальности, хотя они приехали позже нас. Мы с ней прекрасно понимаем разницу в нашем социальном положении, и она относится ко мне с легким презрением.
Утром перед работой я провожаю нашего сына в школу, а днем теоретически его встречает Виктор. Но Виктор — человек мыслящий и рассеянный. Я подозреваю, что он иногда не приходит. Подозреваю, но притворяюсь, что не знаю, Лёва не спрашиваю.
У меня полмозга заполнено тем, о чем нельзя и не надо думать и вспоминать. Как будто дом, в котором комнаты заперты, сплошные чердаки и чуланы, куда нельзя заглядывать, где живут привидения. Почти любая тема размышлений привела бы к бессоннице, если бы мне чаще удавалось лечь спать. Но сплю я редко, я работаю несколько ночей в неделю.
В случае чего, думаю я, он пойдет домой вместе с Кристофером. Это с моей стороны вранье и чистое жульничество, чтоб себе спокойнее было. Кристофер Ким не защита, он скорее магнит для потенциальных неприятностей. У Кристофера столько недостатков, которых в этой школе не прощают. Из недостатков умственных — он отличник, с фотографической памятью, со старомодным прилежанием. Из физических — Ким, естественно, кореец, причем кореец очень маленького размера, щуплый такой, мельче даже небольшого Лёва.
Классовой принадлежностью Кристофер тоже не вышел. Виктор все еще думает, что мы принадлежим к интеллектуальной элите, и несколько раз замечал, что странно ребенку из интеллигентной семьи дружить с сыном лавочника.
Виктор нечасто выходит из дому. Он не понимает, что мы прежде всего — люди с акцентом, то есть не совсем белые люди. Лёв получает бесплатный завтрак вместе с остальными небелыми детьми. У детей, получающих бесплатный завтрак, почему-то принято дразнить друг друга бедностью.
А мистер Ким владеет зеленной лавкой. Именно там многие ученики нашей школы тренируют свои таланты и навыки, готовясь к будущей уголовной карьере. Мистер Ким их гоняет, борется с ущербом своему бизнесу. Об ущербе, наносимом ежедневно маленькому Кристоферу, наследнику фирмы «Фрукты — Овощи — Холодное Пиво», он если и беспокоится, то виду не подает.
Тут у родителей принято на вопли детей: «Это несправедливо!» — oтвечать не задумываясь: «Ничего не поделаешь, жизнь несправедлива. Привыкай». Поговорка такая. Мне это таким ужасным показалось. Ведь это самое страшное, до чего додумываешься в процессе существования, ведь с этим так трудно смириться — с несправедливостью, с незаслуженностью. А тут прямо на детской площадке, среди песочниц и качелей, детям объясняют библейские истины: жизнь несправедлива, не всякому воздается по заслугам. Живи и не жалуйся.
На самом деле в тот день Кристофер убегает домой один, в соплях и в расстроенных чувствах. Он получил четверку по арифметике. На всё ниже пятерки, предпочтительно пятерки с плюсом, Кристофер реагирует так, как будто получил приговор о расстреле.
Лёв выходит из школы без Кристофера и уже без куртки. Ее отобрали Мартинес, Фернандес и маленький, но крайне шкодливый Рой Браун еще во время большой перемены; свернули в шар и играли ею в футбол. Потом закинули в огромный мусорный контейнер. Дежурная учительница видела, но не захотела вмешиваться и рапорт писать. Она ела бутерброд.
После школы Лёв некоторое время ждет своего папу. Но вместо папы появляются опять они: Мартинес, Фернандес и Рой Браун, из третьего класса. Лёва они заметили еще в прошлом году, в связи с акцентом и диатезом, но с недавнего времени занялись им всерьез.
Раньше Лёв думал: если придет какой-нибудь бандит или убийца, то он ему объяснит, какой он хороший, очень хороший ребенок. И убийца ничего с ним не сделает и уйдет. Раньше Лёв думал, что если с кем происходит что-нибудь страшное, то в результате их же плохого поведения и невежливости. Например — Колобок. Зачем он хвастался и дразнился: «А от тебя, Лиса, и подавно уйду». Лиса его и съела, и вовсе не подавилась. Вот тебе и подавно.
Лёв так думал полтора года назад, до переезда. Теперь он так не думает. И сказку эту больше не вспоминает. «Я от бабушки ушел…» Лёва увезли и даже не предупредили, он ничего не знал. Он только перед самолетом понял, что происходит, когда бабушка вдруг плакать начала. Дурак этот Колобок.
Мартинес, Фернандес и Рой Браун волокут его, и подсаживают на помойный контейнер, и советуют поискать там модную свою курточку. Потом начинают задушевно и красочно описывать, чем и как занимаются его друзья — гомосеки. Они разыгрывают в лицах разные интересные сценки, принимают всяческие позы и спрашивают Лёва — что из этого репертуара он обычно предпочитает?
Но люди они не очень сосредоточенные и, полюбовавшись некоторое время многострадальным Лёвом на куче отбросов, вскоре отвлекаются, затевают драку между собой, бьют друг друга рюкзаками, из которых разлетаются тетрадки и записки от учителей к их родителям, скопившиеся за последние два месяца.
Осторожно переступая по вонючим и скользким помойным мешкам, Лёв умудряется сползти вниз и бежит через улицу в «Элладу».
— Патриотка, — говорит Попандопуло, — патриотка, вы послушайте меня. Венгерская брынза дешевле на доллар. Но вкус?! Я хочу, чтоб вы остались довольны, мадам. Сравните, попробуйте греческую.
У старухи большой нос, она в черном с ног до головы и в черном платке. Она наклоняет голову набок и вдумчиво жует ломтик брынзы.
Лёв когда-то стих такой знал — про Бога, и кусочек сыра, и черную птицу с клювом. Это было на другом языке, еще там, с бабушкой. Лёв помнит картинку, а слов уже не помнит и, как птица называлась, забыл.
— Ах, патриот, патриот, всегда вы меня уговариваете, и я трачу лишнее. Ладно, возьму греческую, иначе ведь вы от меня не отстанете…
Мы с Лёвом уже поняли, что по-гречески слово «патриот» означает просто — «земляк». Совсем не то, что означает у папы Виктора. Как понимает это слово Виктор, я и не пытаюсь Лёву объяснить, мне самой это не вполне ясно.
Я люблю приводить моего сына в «Элладу», потому что мне кажется, что это хорошее место для воспоминаний о детстве.
В «Элладе» стоят большие бочки с разноцветными специями. Специи мистер Попандопуло продает на вес, загребая совком. И шоколад тоже на вес — толстый горький шоколад, Попандопуло рубит его большим ножом. Пахнет тут замечательно. Сухофрукты, орехи и экзотические крупы в стеклянных ящиках, брынза всех сортов, бастурма, орехи, нанизанные на веревочку и залитые виноградным соком, — у нас это называется чурчхелой, халва, пахлава на меду. Нигде такого нет, кроме этой старой греческой лавочки, — таких мягких сдобных лепешек и гигантского чернослива. Тут уютно.
А для меня все окружающее еще так чуждо. Я думаю: что же моему сыну в воспоминания о детстве останется? Не то чтоб я часто размышляю по этому поводу. На экзистенциальные проблемы и какие-то роскошные несчастья просто времени не хватает. Даже обычных человеческих настроений у меня нет никаких, просто спать хочется.
— Попандопуло, — шепчет старуха с брынзой во рту, — а чего этот мальчик у вас околачивается?
Лёв жмется у дверей. Попандопуло неплохо относится к детям, и на вора мой сын не похож. Но кто знает, думает Попандопуло, с теперешними-то детьми…
— Ты, мальчик, что-нибудь хочешь купить?
Лёв прибежал в «Элладу», потому что тут на дверях табличка: «Зона безопасности». Этому учат в школе. Когда к тебе кто-нибудь пристает с нехорошими целями: избить, ограбить или извращенец хочет утащить и изнасиловать, то надо бежать в магазин, банк или кафе, где написано — «Зона безопасности». Надо объяснить, что происходит, вызвать полицию или родителей и там ждать.
Но объяснять, что именно происходит, Лёв не хочет. Вон они стоят у химчистки: Фернандес, Мартинес и Рой Браун.
В «Элладе» есть кошка сказочного размера, каких на самом деле не бывает, похожая на огромную квашню с небольшой головой и на тонких ножках. Она выходит из-за бочек и сейчас же начинает тереться и надрывно мурлыкать.
— Кошечка, — говорит Лёв, притворяясь, будто он маленький. Маленькому, в первом классе, можно прийти в школу в розовой куртке с вышитыми ромашками, и не изобьют. Может, даже не назовут гомосеком.
— Чего тебе надо, мальчик? — повторяет Попандопуло. — Поиграл с кошкой? И иди. Здесь не зоопарк.
Лёв выглядывает на улицу и, сам как кошка, примеривается, высчитывает расстояние. Фернандес, Мартинес и Рой Браун опять отвлеклись — бросили рюкзаки на асфальт и бьют друг другу морду. А у входа в «Овощи — Фрукты — Холодное Пиво» сидит работник-мексиканец, полирует чистой тряпочкой одинаковые ярко-красные невкусные яблоки и раскладывает их в пирамиды. Работник Лёва знает. Можно пробежать к мистеру Киму. Бегает он быстро, он шустрый, Лёв.
У мистера Кима очень чисто, овощи-фрукты разложены аккуратными горками, но ничего необычного нет, и ничем замечательным, как у Попандопуло, не пахнет. Мистер Ким дома, в Корее, был инженером.
В магазине пусто, даже за кассой никого нет. Только из подсобки слышен голос мистера Кима, говорящего что-то по-корейски, однообразно и ритмично, с повторяющимся хриплым, резким вскриком. Корейцы вообще всегда говорят так, как будто ссорятся между собой. Даже когда мистер Ким заказывает по телефону продукты с базы, он читает список так угрожающе, как будто хочет проклясть своего оптовика навеки.
Лёв заглядывает в подсобку. Там мистер Ким бьет Кристофера.
Ужасно не то, что бьет. Лёву иногда пытаются врезать по попке, а он всегда увертывается и удирает, устраивает из этого салочки.
Ужасно то, что Крис стоит неподвижно, согнувшись, вцепившись в ящик с дынями. Ужасно, что мистер Ким бьет Криса не по-человечески, рукой, а при помощи какого-то специального предмета, какого-то приспособления для битья. Бьет и приговаривает, бьет и приговаривает.
Ужаснее всего, что штаны у Кристофера спущены и лежат восьмеркой на посыпанном опилками полу, и внутри штанов белые, не очень чистые трусы.
Лёв выскакивает из лавки и бежит. Он даже не помнит про Фернандеса, Мартинеса и Роя Брауна, не замечает, гонятся ли за ним. Лёв бежит от Кристофера.
Лёв — совершенно другой, совсем не такой, у него ничего нет общего с этим Кристофером, лучше и не помнить его имени, никогда не садиться с ним рядом, никогда с ним не ходить. Кристофер сам виноват, потому что он — рохля, он — слабак. С Лёвом никогда ничего такого не будет. Лучше быть как Мартинес, и Фернандес, и Рой Браун. Не надо ничего понимать, не надо знать, не надо помнить. Ни Криса, ни бабушку. Зачем они все плачут?
Бежит Лёв, не глядя. Он в последний момент увертывается от машины, врезается с разбега в фонарный столб, рассекает себе лоб и даже теряет сознание на минуту.
Когда я прихожу домой — на двери записка. В больнице я застаю их сидящими на оранжевых пластмассовых стульях. Лёв сидит сам по себе, прямо, не притулившись к Виктору. Он прижимает ко лбу большой комок бумажных салфеток. И он не плачет, даже лицо незаплаканное. Это уж совсем страшно.
Я сразу же начинаю благодарить Виктора — он не стал дожидаться моего возвращения с работы, а сам, самоотверженно, теряя драгоценное время… Я хвалю его неумеренно, так как мне очень не хочется лекций и скандалов. Но на лице у Виктора мрачная дума, и он немедленно уходит.
Зал ожидания похож на вокзальный во время войны, с ранеными. Кто-то стонет, кто-то плачет, кто-то кричит и ссорится. А нас всё не вызывают. Позже выясняется, что Виктор, придя, не записался, где надо, не зарегистрировался. Еще через час попадаем к доктору. Доктор — замученный гаитянец, и между нами возникает непроходимое болото густых акцентов.
Лёва проверяют на сотрясение мозга, которого, насколько я могу понять, нет. Ссадину промывают, заклеивают, делают укол от столбняка. Лёв не плачет.
На обратном пути берем такси, что само по себе признак беды: мне ли на такси ездить.
Дома я поднимаю с пола окровавленные бумажные салфетки, выбрасываю окурки, мокнущие среди чайных пакетиков, расчищаю заваленный газетами стол.
Окурки — следы Витиных умственных трудов и душевных метаний. Он работает над большой статьей: «К вопросу о тенденциях в концепции…». Или нет: «К вопросу о концепции тенденции…».
Надо греть ужин.
Я весь день убираю отличные ванны, кухни, столовые и спальни других людей, а по ночам — их конторы и рабочие кабинеты. И классные комнаты. Виктор любит намекать в письмах, что я работаю в музыкальном училище. Да, работаю. Свое жилье я игнорирую по принципу сапожника без сапог. Лёв вырастет, думая, что то, как мы сейчас живем, — нормально, что так и должна выглядеть кухня: серая, с липким ободранным линолеумом.
Это одна из вещей, которые я собираюсь изменить. Вот только отосплюсь немного и вымою кухню. Стены покрашу. Начнем читать перед сном.
Я звоню соседям, где Виктор опять просидел весь вечер. За это соседка меня тоже презирает, и я ее понимаю — ей после работы приходится еще и моего мужа чаем поить и слушать о концепции тенденции.
— Лев! — произносит Виктор торжественно. Не Лёв, как мы его всегда называем, а официально: Лев. Это значит, что он все-таки будет его сегодня воспитывать.
Виктора недавно в очередной раз не пригласили на какую-то социологическую конференцию, и он теперь направляет много сил и амбиций на воспитание моего сына. Виктор мне объяснил, что в трагических условиях изгнания родители должны проявлять суровость и даже жестокость к детям, чтобы не поддаться деклассации. Как аристократы, в послереволюционные времена обучавшие голодных детей приличным манерам и иностранным языкам. «А зачем? — думаю я. — Зачем? Почему детей надо истово готовить к какой-то жизни, которой у нас не было, которой у них никогда не будет? Вот меня учили, учили. Лучше бы меня выучили полы быстро и рационально мыть».
— Я хочу спать, — шепчет Лёв.
— Говори по-русски. Ты знаешь правила.
Правила изменились. Вначале Виктор требовал, чтобы ребенок говорил исключительно по-английски. Но за прошедшие полтора года английский стал для Лёва родным, а отец его забуксовал на том уровне, где предстояло ему буксовать еще десять лет.
Виктор начинает объяснять Лёву, как должен себя вести настоящий мужчина. Когда он говорит на эту тему, мне всегда мерещится, что он лично дошел до Берлина, стоял на Сенатской площади и, возможно, даже защищал Фермопилы.
— Ты мужчина, — говорит Виктор, — и ты должен уметь постоять за себя. Ты потерял подаренную тебе куртку. Где я возьму деньги на новую куртку?
Где обычно. Деньги он берет из моей сумки. Даже в банк не ходит, так и не научился.
— Одежда, внешность — это поверхностное.
Виктор, между прочим, в прежние времена именно внешностью отличался. Виктор у нас красавец. Трудно теперь даже представить, какой романтической фигурой он мне казался всего лишь полтора года назад, до переезда.
Теперь мне его жалко. Он пытается флиртовать с соседкой, и он все еще красавец, но на соседку это не производит никакого впечатления. Она тоже работает сверхурочно. У нее своя романтическая фигура дома сидит.
— Ты должен презирать мнение этих ничтожеств, твоих одноклассников, иначе сам станешь таким же ничтожеством и быдлом…
Виктор любит это слово: «ничтожество». Он живет в постоянных мучениях и ненависти к себе. Куда ему нас-то с Лёвом любить… Он, наверное, постоянно размышляет: не ничтожество ли и он сам. Вот сказано: возлюби ближнего, как самого себя. А если себя ненавидишь и ближнего соответственно — означает ли это, что Виктор на этом свете мучается и жалуется, а потом еще и будет гореть в геенне огненной?
Иногда я на это надеюсь.
Лёв стоит в расстрельной позе, отвернувшись к стенке. Трудно поверить, что столько отчаяния может сосредоточиться у маленького ребенка в затылке, в этой шейке с ямочкой под отросшими, мною же плохо обстриженными волосами.
В глазах у него я никогда не вижу отчаяния. На меня он смотрит с надеждой, с просьбой. Он еще недавно сердился на меня, когда дождь шел, — ему казалось, что и дождь, и солнце от меня зависят, что я могу все ему подарить, как подарила плюшевых бегемота и осла. И я знаю, что это время кончается, уже на волоске висит.
Потому что — ну что я могу сделать? Ведь я не хозяин, пригласивший Лёва в гости. Все мы на белом свете в гостях — и родители, и дети. Не от меня зависит, сколько тут угощений, не я эти угощения приготовила. Просто я раньше в гости пришла, а Лёв — позже.
По крайней мере, не надо о себе думать, все сжирать, век его заедать, надо побольше ему оставить.
— Немедленно повернись к отцу лицом, — говорит Виктор. — Ведешь себя, как девчонка, как баба. Ты рохля, — говорит Виктор. — Ты слабак.
Что же это такое? Ведь я Виктора убью. Расходиться надо немедленно, иначе убью. А убивать его нельзя, потому что меня тогда посадят и Лёв попадет в приют. Я чувствую, что сейчас, сию минуту, что-то произойдет, совсем уже страшное.
— Рохля и слабак, — повторяет Виктор.
И тут Лёв орет. Мой Лёв, ребенок из интеллигентной семьи, орет, вопит что-то страшным, совершенно не своим, не прежним голосом. Я от него такого крика никогда не слышала. Это не жалобный вой детской боли, это физическая угроза, ненависть, злоба, зло. Как будто не Лёв это, а оборотень, перевертыш, как будто взорвалось в нем что-то, что росло все последние месяцы и достигло предела.
И никогда уже больше моего маленького Лёва не будет, после этого дня я его больше никогда не увижу.
Слов мы не понимаем. Мы интонацию понимаем, а слов таких мы не знали тогда по-английски, а уж тем более по-испански. Лёв узнал эти новые выражения от Фернандеса, Мартинеса и Роя Брауна.
Вот что он кричит — по-испански, как потом обнаружилось:
— Засранцы! Недоноски!
И ведь это же всё я, я. Ведь я-то знаю, что я его предала, силы экономила, врала, притворялась, не защищала. Нарядила кикиморой и вывела на посмешище.
— Засранцы! Недоноски!
Лёв кидается в свою комнату, захлопывает дверь и закрывает задвижку — в первый раз тогда дотянулся.
— Засранцы! — кричит Лёв за дверью. — Недоноски!
— Немедленно открой дверь! — кричит Виктор. — Неблагодарное ничтожество!
— Виктор, — говорю я, — я сейчас тебя убью, сейчас же, сию минуту. Убью. Поверь мне.
Вскоре после развода я работу по специальности нашла. Лёв одно время пробовал дружить с Мартинесом и Фернандесом. Но мы переехали. Мы живем теперь в прекрасном доме с прекрасной, сияющей чистотой кухней. Мне удалось вывезти нашу бабушку.
Лёв говорит с ней по-английски. По-русски он с того дня говорить перестал.
А Виктор потом уехал обратно, репатриировался. Это когда там в девяностые годы демократия была. Ну, не совсем демократия. И недолго. И в те годы он даже был членом парламента. Депутатом Думы. Очень это слово подходит Виктору. Бывало, попросишь тарелки вымыть, а у него дума.
Вообще-то все на свете бывает недолго. Некоторые думают, что и настоящее, и прошлое, и будущее существуют одновременно. Про будущее — не знаю, его ведь еще не было. Но прошлое существует, я уверена, даже иногда чересчур.
Юный Вертер
…Но я не помню, в чем она была, когда уходила. А если нужно будет давать описание внешности? В полиции скажут: дура, не может даже описать собственного ребенка.
Какая полиция, еще рано о полиции думать, сейчас часа четыре, она ушла в половине одиннадцатого вечера. Сейчас даже не четыре, а три часа сорок семь минут. Можно подойти к окну и смотреть из окна, тогда сразу увижу.
Описание внешности: карие глаза, волосы каштановые, завязаны в хвостик. Рост примерно пять футов два дюйма, она еще растет. Да, возраст. Возраст — пятнадцать лет. Джинсы, куртка. Какого цвета обувь? Какая на ней была обувь? Можно пойти в ее комнату и проверить, что осталось, тогда я буду знать, в чем она ушла. А если она придет, а я как раз в ее комнате рыскаю?
Вот теперь уже четыре часа.
Из окна видна вся улица, если она от автобуса пойдет, я сразу увижу.
А в полицию все равно незачем до утра звонить. Бесполезно.
Его я могу описать подробнее. Ненависть гораздо более внимательное чувство, чем любовь. Все детали замечаешь, когда ненавидишь. Общее даже не замечаешь, а именно детали. Например, он руки всегда прячет в рукава. Они только иногда высовываются, как пауки. Руки у него — как пауки.
Это дверь? Уже сто раз казалось, что дверь. Да, это дверь. Как она потихоньку входит. Значит, все-таки боится меня разбудить. Это хорошо, это очень хорошо.
Описание внешности: рост примерно пять футов три дюйма. Возраст: пятнадцать лет и четыре месяца. Глаза карие. Волосы у нее теперь черные, с одной стороны выбриты, а с другой довольно длинные.
Ушла из дому утром. Штаны на ней были черные, блестящие. Как клеенка. Как резиновые. Черная майка, на плече прорванная, рисунок белый: черепа и что-то написано. Сапоги вроде как военные.
Еще полчаса потерплю и буду звонить в полицию. Уже почти шесть утра.
Ключ в двери? Да — это ключ в двери. Теперь все. Спать. Теперь все будет хорошо.
Описание внешности: рост пять футов три дюйма. Возраст — пятнадцать с половиной лет. Глаза карие. У нее глаза такие шоколадные, блестящие. Металлические кольца — в брови и в носу. Юбка очень короткая. Черная помада, черный лак. Сейчас пять утра, значит, она ушла из дому почти восемнадцать часов назад. Ничего, ничего, это не в первый раз, все будет хорошо.
Если бы не он, я бы так не боялась. С подростками бывает. Это он, а все остальное ерунда.
Он входит в мой дом, проходит мимо. Я даже голоса его никогда не слышала. Ей он отдает команды шепотом, бормочет что-то из-под своего капюшона. Он всегда в капюшоне — плащ у него такой, дождевик романтический. В любую погоду. Я и лица его никогда не видела. Темнота под капюшоном. Как смерть на карикатурах. Так грабителей показывают на серых видео, банковская камера всегда сверху. Он так голову держит, вниз и вбок.
Я однажды его глаза увидела, да. У него ресницы накрашены. Честное слово.
Описание внешности: рост пять футов три дюйма. Вес — да в ней почти и не осталось никакого веса. Фунтов девяносто в ней вес. А было сто десять, когда я ее в последний раз к педиатру водила, год назад.
Подумать только, еще год назад я ее к детскому врачу водила.
Хорошо только, когда она в постели и спит. Когда она уже приходит, она сразу же засыпает — ребенок. Можно зайти и посмотреть. Так хорошо. Даже если она во всей одежде спит, все равно хорошо. Только худая очень.
Я ведь раньше могла заходить к ней в комнату. Это теперь она замок повесила. Раньше я заходила, убирала.
Я нашла у нее список. Он ее просвещает. Эта серая вошь ее просвещает. Из книг — маркиз де Сад. Фильм «Андалузская собака» Бунюэля. Репродукции — часы текут, как яичница, шляпы в воздухе без голов. Пошлость, пошлость. И эти комиксы японские всюду.
Она однажды, когда она еще со мной разговаривала, объяснила: он выше всего человеческого.
Как же можно быть выше человеческого? Ниже — да. Ниже можно быть. Все эти сверхчеловеки только одного и хотят: убить кого-нибудь. Только для этого и надо быть выше человеческого.
Ресницы у него накрашены — это чтоб эпатировать буржуа. Тоже мне, юный Вертер. Какое дело буржуа до его поганых ресниц и капюшонов? Это он хочет быть похож на типичного сверхчеловека. Пошлость, серость.
Вот этот изгиб шеи вниз и вбок — это у него, выродка, свое, от природы. И руки эти паучьи.
Описание внешности: рост пять футов и, наверное, уже пять дюймов. Вес — сто сорок, если не сто сорок пять. Какая-то она распухшая. Она стала похожа на какого-то страшного вспухшего младенца.
Возраст — пятнадцать лет и десять месяцев. Почти шестнадцать. Розовая мини-юбочка. Такой ядовитый химический розовый цвет, ужасный этот розовый цвет. Розовые носочки, туфли лакированные, с ремешками и пуговками, как у маленьких детей. Как это когда-то называлось? Пупс. Она как пупс целлулоидный. Ничего, ничего. Все будет хорошо. Это просто он хочет, чтоб она была похожа на японские комиксы.
Она и в три года была не такая. Ничего розового, всегда такая юркая, ее за мальчика принимали. Джинсы только, юбок не носила. Веселенькая.
Волосы у нее теперь белые. Как у альбиноса. Инфантильные косички с ядовито-розовыми бантиками, и одна черная прядь закрывает правый глаз.
На шее ошейник кожаный, черный, со стальными шипами. И в нижней губе тоже стальные шипы.
А глаз, левый-то, который виден — все еще совершенно шоколадный, и белки голубоватые. Совсем еще детские глаза у нее, еще изумленные. Совсем новые глаза. Ничего, ничего. Все будет хорошо.
А откуда деньги на все это? На ошейник, на шипы? Откуда?
Он питается сладким. Когда он приходит, она бежит по его приказаниям и притаскивает мешками сладкую дрянь, какие-то конфеты и жвачки химические, печенье, вафли с розовой начинкой. Целлофан потом у нее на полу валяется, шуршит. Весь пол завален пестрым целлофаном.
Они слушают классическую музыку последнее время. Вагнера. И — знаете что? Я уверена, что у него есть пистолет или нож.
Но она не курит. Это хорошо, это очень хорошо. Когда ей было двенадцать, я поймала ее однажды с сигаретой. А теперь не курит. Это хорошо.
Я могу, конечно, пойти в полицию. И что? Я даже его имени не знаю. Возраста не знаю. Ему, может, семнадцать лет, но может ведь быть и тридцать. Не знаю.
Ну не буду его пускать в дом, так ведь только хуже будет. Что я могу им сказать в полиции: мне, мол, кажется, что у него есть пистолет или нож? Мне кажется, что она в один прекрасный день больше не вернется, вот так возвращалась, возвращалась — и не вернется? Мне, мол, кажется, что он предложит убить ее, а она охотно согласится? Для красоты.
Она ведь даже еще не понимает, что если убьют, то навсегда.
Нет, что за ерунда. Теперь все подростки такие. Может быть, и не так все плохо. Вот он ей книжки рекомендует. Вагнера. Может быть, я ревную, вполне возможно. Она начнет со мной разговаривать. Она в школу ведь ходит? По крайней мере, уходит куда-то по утрам.
Главное, я теперь знаю, как его зовут, этого юного Вертера.
Я у нее на плечике прочла. Она себе сделала наколку. Венок из цветов, крест. И в венке имя — Курт Кобейн. Теперь я знаю, как его зовут. Это очень важная информация: его, значит, зовут Курт Кобейн.
Тут в полицейском участке мгла такая. Люминесцентное освещение. Мигает.
Я просто не понимаю, как же я заполню эту бумагу, заявление. Они мне эту бумагу дали: форма, полагается форму заполнить.
Дали карандаш, а он не пишет. Вот, опять уронила. Какая у них пыль под столом. Теперь надо подняться, не сидеть же под столом на корточках, надо сделать усилие и подняться. Сесть на стул. Как я все медленно делаю.
Форма эта, которую заполнять, — буквы слепые, ничего не видно, ничего прочесть не могу. Конечно, как раз когда надо, тут-то я очки и забыла.
Что же будет, Господи, что же теперь будет — без очков? Я ничего не вижу. И места тут совершенно нет, на этом заявлении. Кто же может писать такими крошечными буквами.
Как я все медленно делаю. Ведь если я не заполню это заявление как следует, то они ее и искать не станут.
Нет, это все-таки полиция. Когда я им позвонила, они ведь сразу же сказали: приходите в участок, заполните бумаги.
Очки. А у нее были линзы. Почему я говорю — были? У нее линзы. Я сначала испугалась, не поняла — почему у нее такие глаза? Мне же надо это поместить в описание внешности: линзы у нее теперь в глазах, розовые линзы. Глаза кажутся красными, но это ничего. Все будет хорошо.
Она до этого целую неделю сидела дома. Почему? Только все время, все время с ним по телефону разговаривала. Днем, ночью. О чем они договаривались? Самое страшное, что она почему-то комнату свою убирала, все выносила черные пластиковые мешки. Выбрасывала, значит, что-то.
Они тут, в участке, сказали, что имя-то Курт Кобейн у нее на плечике, это неправильно я поняла. Это не его имя. Это музыкант был, невероятно знаменитый. Они мне объяснили: этот Кобейн застрелился, и теперь у молодежи мода… Не надо об этом думать. Все будет хорошо.
Надо подробно объяснить, как она уходила. Ведь она на меня посмотрела, когда уходила. Это ведь важная деталь.
Я не выдержала, потому что она чемодан с собой взяла — надо будет дать им описание чемодана, маленький такой, как для косметики, тоже розовый, — я не выдержала и стояла у входной двери. У нас коридор длинный, длинный такой. И темный, мгла. Как в этом полицейском участке. Люминесцентный свет.
И она уходит по нашему длинному коридору — знаете, как при люминесцентном свете все дрожит и вроде размывается? Вот, она так уходит, и всё дрожит, расплывается, и уже почти ее не видно, мгла такая. И тут она оглянулась и на меня посмотрела. Так что все будет хорошо.
Аленушка
Количество добрых дел, которые она делала и услуг, которые она людям оказывала, было просто уму непостижимо. Она уговаривала знакомых врачей устроить в больницу знакомых старушек, за что знакомые старушки дарили ей семейные реликвии, из которых она только самые редкостные себе оставляла, а просто хорошенькие безделушки передаривала знакомым секретаршам, за что секретарши устраивали творческие поездки ее знакомым режиссерам, за что знакомые режиссеры одаривали ее билетами на свои спектакли, а билеты эти она раздавала знакомым врачам — и так круг замыкался. Круг замыкался, и все участники хоровода смотрели на Аленушку восхищенно, как смотрят дети на новогоднюю елку.
Если же кто отказывался от участия в бесконечной цепи взаимных любезностей и одолжений, то происходило это, скорее всего, по самоуверенности просто сатанинской, которую никакая уж ласковость, никакая лесть и прелесть не проймет и не удивит.
Или по грубости манер. Только невоспитанный человек мог устоять перед ее мягкостью. Она отказа искренне не понимала и не замечала даже. Отказать ей можно было только с неприличным скандалом, унижавшим прежде всего самого отказчика.
Аленушка будила в людях все самое лучшее, провоцировала их на щедрые, добрые поступки.
Бывают люди солидные, обеспеченные, известные, вроде бы влиятельные. Но в серьезной ситуации обращались не к ним, к Аленушке. Она могла весь город на уши поставить, добиться невозможного.
Вот, помните начало фильма «Крестный отец»? Помните, как он говорит: «Когда мне помощь будет нужна, не забывай, что я тебе помог». Он пугает людей, он их на пушку берет. А у Алены были только прелесть и очарование.
Без неутомимой и бескорыстной Алениной деятельности насколько скучнее и труднее была бы жизнь окружающих!
И ведь для себя она ничего не хотела; она только хотела помочь режиссерам съездить в творческие поездки, а врачам сходить в театр, и секретарш порадовать безделушками, уж не говоря о старушках. Она была в полном смысле этого слова бессребреницей. Имущества не любила и часто об этом рассказывала.
— Не хочу я добра наживать, — говорила Алена. — Может быть, это и глупо, но мне жалко людей, которые считают копейки, откладывают, ограничивают себя… Пустая трата времени, а нам его так мало отпущено… Главное богатство — друзья. Не имей сто рублей и так далее — вот в это я верю. Бог даст день, Бог даст пищу.
Она говорила, что мир держится взаимной любовью людей друг к другу. Что все получается, если среди своих, близких, родных. Не в порядке общей очереди. Без казенщины. И у нее справлялись — через кого обратиться, с какого конца, сколько, кому и как…
А подпись на каком-нибудь дурацком документе Аленка подделать могла — да за милую душу! Такая она была рисковая, такая легкая на подъем. Вообще — легкая.
Например, она была легко, естественно элегантна, хотя почти ничего себе не покупала. Если кто-нибудь восхищался, скажем, ее замшевой курткой — тогда это было верхом моды — или кашемировым свитером, Аленушка ласково смеялась:
— Да куда ж мне такое укупить? Ведь это бешеных денег стоит! У меня бы просто рука не поднялась, когда кругом столько нужды. Это мне от Таточки моей ненаглядной досталось.
Не то чтоб Таточка тут в пример ставилась… Но хотелось присоединиться к числу дарителей. Подарки Алене со временем стали чем-то вроде вознесения даров паломниками. Хотя чудес никаких в результате не происходило, не считая совершенно чудесных, лучезарных, струящихся, услаждающих душу благодарностей и дифирамбов… Но разве не чудо это? Разве не этого мы все и жаждем? А?
Аленушкины слова были всегда такие гладкие, обкатанные, как речная галька. Хотелось по ним ходить босиком. Хотелось запомнить, спрятать на память особо красивые выражения. Правда, когда переставала журчать и литься ее задушевная юбилейная речь — потому что она обращалась ко всем и каждому так, как будто поздравляла с круглой датой — без этой юбилейной велеречивой поздравительной интимности фраза часто оказывалась не перлом мудрости и не сияющим сердоликом, а самым обычным комплиментом, строительным щебнем блата. И человек, оказавший Алене какую-нибудь полезную услугу, смотрел в изумлении на оставшийся в его руке сереющий и высыхающий камешек.
Хотя — при чем тут блат? Это слово тут некстати, его следует забыть. Блатом занимается грубое, неотесанное быдло. А разочарование — оно длилось только до следующей встречи, до нового потока искренних, задушевных слов.
Потому что — кому ты отдашь свое королевство? Тем, кто изливает на тебя потоки сладкого елея, или той, которая заявляет, что любит тебя — как соль? Уж конечно Регане и Гонерилье, а не придурочной Корделии. Десерт-то нам подороже соли будет.
Кстати говоря, о соли. В еде Алена тоже была неприхотлива, сама практически не готовила, но замечательно разбиралась в кухнях всех народов, так что люди считали за честь пригласить ее на званый обед. Не было большего удовольствия, чем накормить Аленушку чем-нибудь вкусненьким и полюбоваться на ее детскую, радостную реакцию.
Недвижимость она к имуществу почему-то не причисляла. В конце концов, крыша над головой необходима каждому. Да и свалилась ей эта крыша на голову совершенно неожиданно, по завещанию одной престарелой дамы. Эту старушку Алена не только в лучшую больницу пристроила, но и нашла для нее девочку, тихую мышку, убиравшую и таскавшую продукты. Мышка осталась Алене навеки благодарна, потому что тянулась к культуре, а старушка была высококультурная и много ей всего успела порассказать за первые два года, хотя в последние три уже не двигалась и говорить не могла.
Ну вот, а Аленушке досталась эта неожиданная квартира в придачу к той, которую оставил бывший муж. И эти две удалось великолепно обменять. С обменявшейся семьей — и с родителями, уехавшими в старушкину хрущобу, и с молодыми, уехавшими в бывшую мужнину на далекой окраине, Алена в процессе обмена так сдружилась, что ни копейки доплаты с них не потребовала. Даже, как говорила она всем, отказалась бы, если бы предлагали.
И теперь она жила в большой старой квартире с дубовым паркетом, с лепниной на потолке. Своего собственного мужа Алена больше не заводила, хотя кругом всегда толпилось много чужих. У нее жили подолгу люди почти незнакомые. Жили совершенно бесплатно, только помогали с хозяйством, с покупками, с уборкой и с ремонтом, который там требовался, потому что квартира вначале была очень запущенная.
Аленушка много ездила. Оформлялись для нее липовые командировки, а гостила она всегда у друзей или у знакомых друзей. И когда Аленушка появлялась на пороге, радостная, с маленьким чемоданчиком — путешествовала она налегке, до такой степени налегке, что перед возвращением приходилось какой-нибудь дешевый баул для нее покупать, чтоб сложить все подарки, — хозяева всегда были счастливы и сердца их замирали в сладком предчувствии комплиментов…
Алена не представляла себе, что может быть кому-нибудь в тягость, потому что ей самой никогда не в тягость было чувствовать себя обязанной, быть перед людьми в долгу. Благодарность переполняла ее и изливалась безудержно. Интроспекцией и самоанализом Аленушка не занималась, и расчета у нее никогда никакого не было. А если и был, то мимолетный, неуловимый.
Безналичный такой расчет.
И на фоне общепринятого уныния не только приятно, но и поучительно было видеть человека, принявшего раз и навсегда волевое решение радоваться жизни, наслаждаться тем немногим, что дано, и твердо это решение выполнявшего.
Тем более что все знали, как тяжело сложилась Аленина жизнь.
Ее бывший муж эмигрировал и увез с собой их маленькую дочку. И Алена дала согласие, подписала разрешение на отъезд.
А как еще мог поступить в те времена интеллигентный человек? Она пошла на страшную жертву, чтобы ребенок вырос в свободном, цивилизованном, комфортабельном мире.
Григорий решил когти рвать с горя, после того как они разошлись. Он был музыкант, и положение его в оркестре да и вообще в жизни определялось недвусмысленно: вторая скрипка. Это если повезет, а чаще — третья.
На аэродроме Гришка неотступно ходил за Аленой со своим скрипичным футляром, и Сашка семилетняя тоже тащила маленькую скрипку-четвертинку и цеплялась за Аленину руку.
Потом с девочкой еще и приключилась истерика. Она отказывалась уходить туда, за стеклянную перегородку, хваталась мертвой хваткой за все пластмассовые стулья, поручни, дверные косяки, пограничные будки, за всех евреев, таможенников и гэбэшников.
Провожавшие оторопели от скандала в таком государственном, пограничном и достаточно опасном месте.
Но обошлось, самолет взлетел в небо.
Алену друзья увезли к себе, оставить ее одну в такой момент было невозможно. Долго пили. Говорили о страшной сцене с Сашенькой в плане зверств тоталитарного режима, разлучавшего мать и ребенка.
…И многие годы потом Аленино решение и разлука с девочкой обсуждались во всех известных ей салонах, а известны ей были салоны самые рафинированные. Обсуждая эту трагедию, много было выпито кофе, чаю, вина, коньяка; на многих диванах Аленушка посидела уютно, с ногами, до глубокой ночи; с подругами да и с друзьями мужского пола.
И сколько ей было подарено утешительных подарков этими подругами, и как их мужья ее утешали, как утирали навернувшиеся на ее карие глаза слезы, как прижимали ее несчастную непутевую голову к своему крепкому мужскому плечу, как гладили ее мягкие, каштановые, душистые волосы — этого и не упомнишь. И вообще — какое вам дело?
Потом времена изменились. Уже и во Францию, и в Италию она съездила, и в Германию… Уехавшим друзьям хотелось увидеть свое процветание Алениными глазами, услышать от нее восхищение своей заново построенной жизнью. Или просто посидеть с ногами на диване, проговорить до глубокой ночи… Им, уехавшим, иногда казалось, что именно Аленка воплощала все лучшее в их утраченном прошлом. Аленушка наша, с ее милой задушевностью и теплотой, с ее замечательным интеллигентным говором, с ее юношески легким отношением ко всему материальному. Где тут такое найдешь… Но, посмотрев на себя ее благожелательным взглядом, они убеждались, что и теперешняя жизнь удалась. Даже семейные отношения улучшались.
А Григорий — недотепа, мямля — не мог родную мать к дочке выписать! Нет, Алена так не говорила, конечно. Она ни о ком не отзывалась дурно, тем более об отце своей девочки.
Это ее друзья и знакомые так говорили. Она же, наоборот, защищала и оправдывала Григория: он Сашку в частную школу отдал, он Сашку на скрипке учит, он Сашку — только не надо смеяться, пожалуйста! — к дорогостоящему психотерапевту водит по два раза в неделю. Да, да, конечно… Психотерапия — идиотизм. Мы как-то без психотерапии выросли, и ничего. Но они, на Западе, в это верят, как в религию вуду.
…А ведь Гришке и в голову бы не пришло увезти с собой Сашку, спасти дочь от беспросветного будущего, дать ей шанс. Нет, человек слабый и беспомощный, он собирался уезжать один. Алена этого никому и никогда не рассказывала, не хотела окончательно портить Гришкину репутацию. Но ведь именно от нее исходила инициатива. Она сама пошла на жертву, предложила Григорию увезти девочку.
Алена навсегда запомнила его оторопелый, изумленный взгляд.
Когда эта девочка родилась, Аленушка с восторгом, подробно и красиво всем описывала ее упоительно аппетитные локоточки с маленькими ямочками, совершенство ее ноготков и пальчиков, умилительный затылочек с завитками. Рассказывала о появлении у девочки первого зубика, о запахе ее волосиков, от которого просто плакать хотелось…
Плакать Алене в тот год действительно хотелось, и часто. Каждая минута первого года была томительно скучна, как будто Алена в капкан попала, как будто в одиночке ее заперли с этой орущей девочкой… Это было еще в той, мужниной квартире, на окраине, там даже и метро тогда не было…
Но в те времена женщины обязаны были наслаждаться материнством, и Алена никому не могла признаться — ни в коем случае не самой себе — в том, что дочка ей нравится только спящей, что она предпочла бы видеть Сашеньку со всеми ее зубиками и локоточками — спящей двадцать четыре часа в сутки. Ну, двадцать три.
Потом они с Григорием разошлись, стало легче. Он часто и подолгу забирал девочку. И друзья, жалея мать-одиночку, охотно соглашались помочь.
Алене удавалось улизнуть от материнства в нормальный мир, где ее ценили за то, чего девочка оценить не могла: за остроумие, интеллигентность, светскость, душевную деликатность. Где достаточно было сказать человеку несколько нужных, добрых, правильных слов…
Девочка ни на какие слова, ни на какие комплименты не реагировала, от нее нельзя было получить ни малейшей поблажки.
И она была такая плакса, такая рева-корова! Когда она подросла и Алена по вечерам оставляла ее одну — случалось это нечасто, ну один, ну от силы два раза в неделю, — Саша, уже почти семилетняя, закатывала настоящие истерики.
Хотя рядом, за стенкой, в соседней квартире жили Раиса с Петькой; постучать — сразу прибегут. Алена с ними на этот случай и сдружилась. То есть не только на этот случай, они и люди были чудесные. Такие колоритные самородки. Совсем простые и немного выпивали, но добрые, очень добрые. Петька на аккордеоне ужасно смешно наяривал.
Саша ползла по полу, вцепившись в Аленины щиколотки, и судорожно подвывала, и все пыталась стащить, содрать с материнских ног любимейшие выходные шпильки с острыми носами. Между тем известный дирижер, привезший Алене в подарок эти шпильки из заграничных гастролей, сидел уже в машине у подъезда и нетерпеливо гудел. И от трубного, призывного гудка все в Аленушке просто переворачивалось, рвалось туда, вниз. Не ее же вина, что материнство есть скука прежде всего, что бы вам там ни говорили, — скука, скука, скука!
Хотелось в такие минуты наподдать Сашеньке ногой. Но Алена никогда себе этого не позволяла.
Что еще важнее, чем она гордилась, — не позволяла поддаться на провокацию, раскукситься и остаться дома. Даже голоса не повышала, а, ловко подхватив Сашку, весело приговаривая: рева-корова, плакса-вакса-гуталин — закидывала ее в ванную и закрывала дверь. Нет, не запирала, конечно, но у Сашки занимало некоторое время эту плотно прикрывавшуюся дверь открыть — а Алена уже летела вниз по лестнице, выбегала на свежий воздух, на вечернюю улицу…
Она смешно потом рассказывала про свои материнские злоключения в разных компаниях.
— Мне бежать надо, спектакль через полчаса, а чадо мое тут валяется в ногах, как стрелецкая женка! — Алена была не совсем уверена в сравнении, но звучало хорошо. — Мне так ее жалко, и сердце мое материнское разрывается — но! Тут нельзя уступать. Про это и доктор Спок говорит, и еще был такой Жан Пиаже… Я сама не читала, но мне друг врач объяснил. Должен произойти процесс отстранения. Разделение личностей… Необходимо провести границу между матерью и ребенком.
— Ну вот, теперь ты и провела границу, — ляпнула после проводов в аэропорту толстая Таточка, не отличавшаяся особым умом. — А я бы не выдержала… Я бы бросила все и уехала со своим ребеночком…
Повисла на мгновение ужасная пауза, потому что некоторые и сами уже думали о том, что ляпнула бестактная Таточка.
Но ведь это было немыслимо! Все чувствовали, что Аленушкины таланты и обаяние, что вся она… Она была такая своя! Своя в доску, плоть от плоти, кровь от крови. Представить нашу Аленку в каком-то другом, чужом мире, где все построено на деньгах, на расчете, на холодном и безразличном законе? Где ей придется стоять в общей казенной очереди? Без взаимопомощи, без душевной щедрости и тепла? Нет, это было невозможно.
Чтоб замять бестактность, все стали друг другу наливать, обнимать Аленушку, а известный дирижер целовал ее тонкие пальцы и горячие розовые ладони и вскоре увез к себе домой. Впервые они провели вместе всю ночь до самого утра, и ночь эта ее разочаровала. Особенно утро, от которого Алена ожидала вовсе не мирного семейного похрапывания. С этого утра началось ее охлаждение к дирижеру.
…И вот прошло десять лет, девочка заканчивает школу, ее принимают в какой-то колледж.
Григорий наконец-то присылает денег на поездку.
Алена ждет поездки со свойственным ей веселым азартом и жизненным аппетитом. Планирует сориентироваться в обстановке, по возможности продлить билет, остаться на подольше, объездить всех друзей.
Приезжает она с маленьким, почти пустым чемоданчиком. В нем только подарки — самое лучшее из ее обильного загашника передариваемых даров. Фигура у Алены всё еще девичья, и первое время она собирается носить дочкины тряпки, а потом уж разорить Гришку и побегать с Сашенькой по распродажам.
Но уже в аэропорту Алена понимает, что тут будет нелегко.
Нет привычных восторгов, визга, объятий. Она не ожидала, что девочка почти совсем забыла язык. Что она выросла такой нескладной, угрюмой, такой страшно худющей. На фотографиях это как-то не просматривалось. Хотя письма и звонки от Григория были унылые и виноватые: Санечка приболела, Санечка выздоровела, Санечка опять прихворнула… Но на цветных фотографиях их заграничная жизнь выглядела вполне приемлемо.
Дом, в котором живут Григорий с Сашей, — явно не элитный. Соседи — малорослые, короткошеие и крикливые, из Латинской, видимо, Америки.
Квартира поражает своим убожеством. Сильно пахнет кошкой.
Алена не любит убожества. Нет, ей не нужны комфорт и респектабельность. Многие ее друзья живут скудно, богемно. Но в их нищете есть своя эстетика. Как говорил один Аленин сердечный друг: уж лучше быть нищим, чем малоимущим.
Нравятся ей только те убогие, в которых есть какая-то исключительность: безногие, безумные, безнадежно и романтически спившиеся. Заурядные же убогие, люди с непривлекательной внешностью и скучными детьми, работающие на малоинтересной и плохо оплачиваемой работе, — особого сочувствия не вызывают. Ее знакомые — люди незаурядные. Даже старушки не просто бабуси, а престарелые дамы с интересным и богатым прошлым.
Так вот почему Гришка присылал такие мизерные, просто смешные деньги и подарки! А она-то думала, грешным делом, что он жмотом стал… Нет, каким он был, таким он и остался: неудачник.
У Григория и Сашки сохранились одеяла, полотенца, настольная лампа грибком, которые уже и десять лет назад были старомодными, те самые, которые Алена когда-то собирала для них по знакомым, на первое время. И все это еще в пользовании, застиранное и ветхое.
Надо срочно что-нибудь похвалить.
— Гришка, да у нас же все это теперь раритет! Реликвии советской эпохи — только в антикварном и увидишь. Прелесть какая: китайское одеяло! Чайник шестидесятых годов, полотенце вафельное! Просто музей, ну, как здорово, как здорово…
Ужинают они на кухне. Явно не предполагается никакого званого обеда в ее честь, никаких знакомств с новыми людьми из Гришкиного окружения. Какое там окружение! А она-то собиралась рассказывать весь вечер о невероятных событиях, произошедших за десять лет на их родине…
В Сашиной комнате нет ни одной Алениной фотографии. Саша сидит в глубине, в углу незастеленной кровати, со старой кошкой на руках. И они смотрят исподлобья в четыре глаза. От их угрюмого, загадочного взгляда Алене становится неуютно; того гляди — укусят. Кошка тоже какая-то смурная, всклокоченная, с очень заурядным, неоригинальным окрасом.
— Ты уж прости, Алена, что Санечка с нами не сидит, — говорит Григорий вполголоса. — У Санечки очень хрупкая психика. Она тяжело перенесла переезд. Первые годы даже в театр приходилось с собой таскать… Я в оркестровой яме, а она где-нибудь в гримерной занимается… На четвертинке своей… потом на половинке… Ты всего не знаешь, я не писал. Не хотел тебя зря расстраивать… Зато теперь ее приняли в Оберлин…
Видно, что ему очень хочется выложить с запозданием всё то, чем он раньше не хотел ее огорчать. Почему-то людям хочется все рассказывать с ужасными, ненужными подробностями, от которых и рассказывающему не легче, и собеседника одолевает тоска…
— Гришенька, я ведь все, все понимаю. Даже и рассказывать не надо. Без слов понятно — ты у нас абсолютный герой. Подвиг совершил, настоящий, подлинный подвиг. Тебе это зачтется. Ты не представляешь, как я вами обоими горжусь. Я каждый день начинаю с молитвы за вас. Я ведь, Гришенька, была воцерковлена. Завтра, вот отосплюсь немного, обо всем поговорим…
Но он все шепчет про Санечкины феноменальные способности… Про то, как он рад, что Санечка не унаследовала его страх перед аудиторией… Про то, как трудно попасть в этот неведомый Оберлин, какое это счастье, какое везение…
— Так что же, Оберлин этот лучше, чем Джуллиард? Я ведь темная — про Джуллиард слышала, а про Оберлин не слышала… Гришенька, но ведь у тебя наверняка большие связи в музыкальном мире, неужели нельзя было ее пропихнуть в Джуллиард?
Саша в своей комнате начинает пиликать. И, как только Саша запиликала, Григорий закрывает глаза, откидывает назад голову и отключается. Алена запинается на полуслове.
Но сколько можно сидеть, разглядывая клеенку на столе? Советскую клеенку образца семьдесят пятого года…
— Доченька, — решительно и громко говорит Алена, прерывая пиликанье, — хотя всем известно, что мне медведь на ухо наступил, но даже я понимаю, что у тебя великолепная техника! Из тебя может получиться настоящий музыкант! Ну, котик, пойди, наконец, сюда, сядь, расскажи маме про себя.
— У меня нет слов, — говорит Саша.
— У тебя нет слов? А что ты хочешь выразить, зайчик?
— У меня нет материный язык.
— Что? — изумляется Алена.
— Она хочет сказать: материнский. Здесь так говорят: материнский язык, в смысле — родной. Она хочет сказать, что у нее нет родного языка, материнского.
— Ага, а у нас родной язык — матерный, — шутит Алена.
Но получается не смешно, не изящно. От дочкиного тяжелого взгляда и хмурого молчания гладкость и плавность речи начинают Алене изменять. Она давится словами, как Демосфен с галькой во рту.
В Гришкиной комнате, на его узком монашеском ложе, Алена засыпает мгновенно. Но среди глубокой ночи просыпается. За стеной Саша продолжает пиликать, нет — плакать на своей скрипке. Алене и вправду медведь на ухо наступил, и качества Сашиной игры она оценить не может. Но звуки скрипки неприятно напоминают те задыхающиеся рыдания, с которыми Сашка когда-то пыталась стащить с ее ног выходные туфли.
Мало того что обстановка тут музейная, бедная девочка тоже — музей. Имени отца. Несмотря на все Аленино всепрощение и уживчивость, Григорий ее всегда порядком раздражал. Бесил своей внутренней несвободой. Непонятно: почему между решением и действием должен проходить долгий срок? Почему, если хочешь чего-то — не протянуть руку и не взять? Почему не попросить как следует? Люди ведь хорошие, добрые, если к ним по-доброму…
Что же Сашка все пиликает и пиликает — неужели так всю ночь будет? Ах, какая у них тоска… Как их жалко. Надо будет завтра же позвонить в Бостон Катюшке, договориться о приезде…
…Мир казался Саше бесконечно уязвимым и незащищенным. Из всего этого мира удалось ей спасти от страдания только уродскую свою кошку, только ее одну из всех брошенных, страдающих на земле кошек, собак, детей, иногда даже растений и отдельных зданий, к которым Саша чувствовала резкую и мучительную жалость. Взрослых людей она жалела меньше всего, тут дело шло не о справедливости, а о самосохранении, тут она выработала некоторую защиту, чтоб не замучиться совсем от жалости к отцу. В отце, конечно, сходились в одну невыносимо болезненную точку все несправедливости, обманы и жестокость мира. Чтобы так любить музыку — и без ответа, без никакого ответа! Потому что Саша, человек одаренный, понимала всю безнадежность отцовской преданной, робкой бесталанности.
Взрослым плюнь в глаза — скажут божья роса. Вот они и про детей так думают: перемелется, мол, мука будет. И какая же из этих детских обид мука будет, скажите вы мне на милость, какие из нее блины печь? Не мука это, а мука мученическая, причем на всю жизнь.
У маленьких детей бывает столько неприятностей. За день — а день такой огромный, составляет такую большую часть пока что прожитой жизни — столько нехорошего может произойти, столько позорных ошибок, обманов, разочарований.
Выходит кто-нибудь за дверь — и, если ты маленький ребенок, то думаешь, что навсегда.
Саша есть отказывалась месяцами, не могла уснуть, отказывалась выходить на улицу. В отрочестве она резала себе руки, руки у нее до локтей были покрыты шрамами. Несколько раз снотворные таблетки заглатывала. И не помнила ничего. Как ни бередили больную Сашину душу бесконечные психотерапевты, психиатры, социальные работники — она ничего не помнила. Все время до переезда совершенно не помнила. Слов языка не помнила. Сильнее всего Ее не помнила. Не помнила, какая Она была красивая, ужасно красивая. Не помнила, как Она уходила по вечерам.
И совершенно не помнила, как потом, в темноте, ключ поворачивался в двери, как приближался в тусклых сумерках запах лука, курева, перегара… Не помнила слов, которые бормотал Петька: «Проверить надо, как тут наша девочка, проверить надо, как тут наша малявочка…».
— Представляешь, — рассказывает Алена вечером, сидя на террасе Катюшкиного дома в Бостоне, укутанная от весенней сырости в большой мягкий Катюшкин плед, — ведь я недели не прожила, а успела нарваться на совершенно неожиданный скандал!
Говорю Сашке: «Ты, кролик, попроси у папы денежек, мы с тобой побегаем по магазинам, наверстаем упущенное…». Собиралась ей показать, как быть женственной, как одеваться по-человечески, по-европейски. Ведь хочется, знаешь, побыть мамой…
А она вдруг как ощерится на меня, просто оборотень какой-то! И — шмяк на стол англо-русский словарь! А у нее там закладочки, закладочки, закладочки — всю ночь, небось, трудилась, список моих грехов, донос ужасный, слова подобрала! «Лицемерие! — кричит. — Лицемерие! Лицемерие! Криводушие! — кричит. — Равнодушие! Двоедушие! Двуличие! Льстивость, лживость!»
И кричит, вопит! А до того молчала вглухую… Только на скрипке своей днем и ночью, днем и ночью… «Синисизм!» — кричит. Что это еще за синисизм? Сионизм, что ли? Цинизм? Это я, я — циничная? Катечка, ты видела когда-нибудь менее циничного человека, чем я? Какое-то еще целомудрие приплела. Я вообще никогда этого целомудрия не слышала в разговорной речи у нормальных людей! Катюля, у меня от этих лицемерий и целомудрий просто голова кругом пошла… Тут я, знаешь, глаза закрываю и начинаю считать от ста обратно, как меня Дима научил: девяносто девять, девяносто восемь… Помнишь Диму? Он такой чудесный, удивительный. Он теперь экстрасенсом работает, но при этом он вовсе не жулик, у него подлинная аура. И я ей говорю — медленно, тихо, как Дима учит: «Я тебе все прощаю. Я уже все простила. Ничего не было. Я этих слов не слышала. Пусть из этой дисгармонии возникнет гармония. Запомни, доченька: людям надо говорить только хорошие, добрые слова. Никогда, никогда не говори людям злых слов! Даже если ты и права. Какое счастье в правоте? Посмотри на свою маму. Я — счастливая. Я всем, всегда, при любых обстоятельствах говорю только добрые, ласковые, ободряющие слова. Я всех люблю…». Катенька, красавица моя, заинька, котик мой! Я каждое утро начинаю с молитвы о них. Я ведь, Катенька, была воцерковлена. И я им совершенно не нужна! Григорий все: Саня, Саня, он с ней как с писаной торбой. Сидят со своим целомудрием в этой тоскливой, нищенской дыре! Сашка с драной кошкой, а у Григория даже бабы нет. Нежить, уныние… Он считает, что Санечка — гений. Может быть, она и гений, но вот что я тебе скажу: трахнул бы мою Сашку кто-нибудь поскорее, давно уж пора.
— Аленушка, ты просто феномен! — ахает бостонская Катюшка. — Это нам всем пример: как ты справляешься, как ты держишься в такой тяжелой ситуации! Ничего себе, сказанула про родную дочь! Если б я не знала, что это ты шутишь с горя, бедненькая ты наша, не знала бы твою ангельскую душу, твою самоотверженность, и сколько ты хорошего людям сделала — я ведь подумала бы сейчас: ну и стерва же! Тебе подлить?
Запоздалые путешествия
Скушно, господа, всю инкарнацию томиться в родном и том же отечестве.
Саша СоколовРассказ с примечанием
Более того, даже если ты уже родился дважды и знаком тебе до слез этот город, приютивший тебя в своих утесах, город, который любую гагару научит наслаждаться битвой жизни — да именно гагары и наслаждаются тут битвой жизни, гагары открывают по утрам двери своих ресторанчиков и магазинчиков в утесах огромных зданий и тело жирное в дверном проеме своего владения, своего замка и крепости гордо демонстрируют, победители в битве жизни…
Этот город, да… Так вот: даже из этого города хочется иногда отправиться в те места, на которые смотрели мы когда-то с завистью и ностальгией из своего прежнего отечества, из той, изначальной, инкарнации. Места, увиденные нами сначала в черно-белом, а потом и в цветном изображении. Из закордонных, заэкранных широт долетал до нас изредка какой-нибудь лоскуток, обломок, звук, понюшка табаку, и мы, как радостные мартышки, подолгу лелеяли и приспосабливали это сокровище к употреблению в нашем хотя и коммунальном, но необитаемом — в смысле для обитания не приспособленном и к обитателям враждебном — пространстве.
Не пора ли, не следует ли вспомнить свои юношеские иллюзии, не пора ли гагаре, сильно утомленной битвой жизни среди прейскурантов, адвокатов, смет и назойливой бухгалтерии нашего малопоэтичного быта, из здешней бури, и утесов, и скалолазания ежедневного, в запоздалое путешествие отправиться? И в какую же сторону нам ностальгировать? Не в прошлое, конечно, не в страну первоначальной инкарнации. Это было бы хронологической неопрятностью и продажей нашего первородного права свое родство и близкое соседство вольно и заведомо презирать. Нет, ностальгия наша — по неосуществленным мечтам юности. Их можно теперь пощупать, понюхать, физиологически устаревшее свое существо погрузить в различные средства передвижения за умеренные деньги, оказаться внутри декораций, по ту сторону экрана. Пора эту несостоявшуюся третью ипостась, несбывшийся вариант примерить.
Как не оглянуться на места, к которым уносились наши юные мечтания — с некоторой насмешкой, но все-таки и с нежностью: ты жива еще, моя старушка?
Короче говоря: не пора ли съездить в Европу, тем более что из Нью-Йорка билеты недорогие?
* * *
Англия — не Европа. Франция выпендривается, но она всего лишь только Франция, а не вообще Европа.
А здесь — вообще Европа. И названия городков такие, что можно питаться одними названиями: сырные, сытные. Каждый житель говорит если не на трех, то уж наверняка на двух языках, и у страны два имени, даром что маленькая страна. Вся — как комната, как растение на подоконнике, в банке, скажем, из-под сгущенного молока. Улицы такие одомашненные, как будто не улицы уже, а коридоры. Как будто внутри ты, в интерьере, а не в пейзаже.
Колокола в соборах звонят очень долго; видимо, времени много накопилось.
И трамвайные колокольчики звенят, трамваи ползут по туманному Амстердаму. Как же его окраины похожи на центр моего бывшего Ленинграда пустынностью своею и сыростью, и как же центр этого Амстердама похож на некоторые окраины моего Нового Амстердама, вторичной моей инкарнации… И у нас тот же красный кирпич, те же узкие дома, море-океан, меркантильность, многоязыкость благословенная…
Вначале здесь каждое окно принимаешь за витрину. Думаешь: антикварный магазин? Или магазин мебели? А потом понимаешь, что это гостиные выставлены для всеобщего обозрения: занавески вешать не принято. Внутри белые стены, люстры. Украшений немного. На подоконниках иногда вазы, или скульптуры, или свечи зажжены. Такая японская лаконичность. Абсолютная чистота.
Иногда один-два члена семьи сидят. Для натуральности.
Потом я забуду, как неуютно было ехать в декабрьской темноте, искать адрес пансиона на незнакомой окраине, тащить чемодан. Хорошо еще, что расстояния здесь короткие.
Как сказал поэт: «Расстоянья таковы, что здесь могли бы жить гермафродиты…».
И вот тот пансион, где я буду ночевать. Окно огромное, но почти все окно занято чем-то огромным — неужели это хозяйка? Та самая?
Знаменитая амстердамская блудница, героиня западной, такой завидной для нас сексуальной революции, та, чью книгу мы с подружкой читали когда-то со словарем, хихикая от смущения. Думали, это — юмор. А книжка была совершенно всерьез написанный учебник. Инструкции, правила: для каких частей тела взбитые сливки употреблять, куда лед класть, как тренироваться, как специальные интимные упражнения делать.
Мы-то были уверены, что в этом искусстве существуют только импровизация, вдохновение и полная самодеятельность. Мы ведь и штаны, и юбки себе сами шили, а уж любовью-то занимались — совершенно как бог на душу положит.
Теперь она сдает комнаты туристам, и я сняла из интересу. Она ли это в окне, необъятная, как Марлон Брандо в фильме «Апокалипсис»?
Да, это она, блудница Апокалипсиса, эк ее разнесло!
Фотографии развешаны по всем стенам. Фотографии, впрочем, не ее целиком, а особо занятных фрагментов ее анатомии: лоно, перси, ланиты, цветок любви, который приосенял крылом пушкинский непотребный голубь. Цветок любви в различных ракурсах, повторяющийся многократно, как Мэрилин Монро на картинах поп-арта того же периода. Фотографии замечательные, сделанные знаменитыми фотографами для порнографических журналов, в те времена еще революционных. Теперь это называют: сексуальная индустрия. А ведь тогда за порнографию и в свободном мире сажали. То есть в ее персях был некий оттенок троцкизма. Ее причинное место было лобное место, носило общественный характер, это был символ эпохи, как борода Че Гевары.
Вот она сидит, как идолище поганое. По ее могучим чреслам ползают два сиамских котенка, два крошечных зверища на блуднице. Дурачатся и играют, приосеняют бывший цветок любви лапками.
И не успеваю я поставить чемодан, как она уже рассказывает мне про свою профессиональную карьеру.
В какой-то момент она поняла, что ей очень нравится спать с мужчинами. Так почему бы не заработать деньги тем, что тебе действительно нравится, к чему у тебя талант? Дело у нее пошло замечательно. Вскоре она уже совокуплялась не сама, а наняла большой штат, и списки клиентуры росли.
Это она молодец, потому что здесь, конечно, конкуренции много. Я забрела сегодня в район, где в окнах выставлены девушки. Ничего стерильнее, чище, здоровее и вроде бы добродетельнее этих девушек нельзя придумать. Ну не может живой человек быть более похожим на пирожное с кремом, чем амстердамская жрица любви. Такие зефиры и безе. Да и занимаются ли они на самом деле этим… Ну, знаете — этим… Не сувенирные ли они? Не муниципалитет ли их оплачивает? Такие славные, сливочные, в бельевом кружеве, как пирожное на бумажной одноразовой кружевной салфеточке. Подвязки у них на ногах как бумажные фестончики на жареном гусе, — ах, какие гастрономические шлюхи! Пальчики оближешь! Полная свобода бюргерского секса.
Рассказываемая хозяйкой пансиона история напоминает клаcсический сюжет женских романов. Бедная честолюбивая героиня использует свой талант — например, к закатыванию консервов, или выпечке пирогов, или в области кройки и шитья. Вскоре у нее своя лавочка. Живет она трудно, у нее много разочарований в жизни. Но к концу романа она — глава международной корпорации и обретает личное счастье.
Я читала книжку, где героиня под конец оказывалась примой-балериной, герцогиней и девственницей. Да, девственницей — на этом и держалось напряжение сюжета. Зато в последней главе она теряла девственность на сорока страницах, со всеми анатомическими подробностями, которые так любит моя хозяйка.
Людей мужского пола она описывает несколько необычно. Например: он был высокий голубоглазый блондин. Ну, это понятно. Но она говорит: высокий голубоглазый блондин, а член у него был такой, знаете ли, — и так далее.
Я чувствую себя недостаточно компетентной, как если бы разговаривала с завсегдатаем бегов о качествах скаковых лошадей. Но в то же время довольно уютно: атмосфера напоминает женскую консультацию, коммунальную квартиру, роддом…
У нее, как я узнаю в первый же час пребывания в пансионе, была одна беременность, да и то внематочная, от любовника — ортодоксального еврея, и закончилась выкидышем после ночи страстной любви с египтянином, кинорежиссером, очень маленького роста, но с огромным, огромным членом, а ей гинеколог строго запретил на время беременности допускать проникновение огромных членов куда не надо, но она совершенно забыла, просто вылетело из головы в тот момент, потому что ортодоксальный еврей ее не удовлетворял; а после выкидыша у нее была депрессия, она остригла свои длинные волосы и стала есть.
Есть она с тех пор не переставала, а лет прошло уже много. Так что результаты внушительные. Она мало похожа на свои фотографии.
Тут она начинает меня расспрашивать о моем житье и бытье, то есть о моих сожительствах и бытовом разложении. То ли допрос этот входит в оплаченную программу вместе с ночевкой и завтраком, то ли мой акцент ее заинтриговал.
Такое огромное, ужасающее божество сексуальной революции шестидесятых годов двадцатого века призвало меня на Страшный суд.
А что ты делала во время революции?
А мы что? Мы ничего.
Ну, мы умели слушать. С нами романы заводили, чтоб поговорить.
Нам полагалось побольше молчать, склонять голову направо-налево, кивать, понимающе улыбаться. Я поэтому считалась хорошей собеседницей. Я знала, что женщина обязана слушать и помогать мужчине сформулировать свои идеи, а не лезть с мыслями, выработанными в ее скудном умственном хозяйстве. Это из Толстого. Про эти мысли, выработанные в женском скудном умственном хозяйстве, я прочла в ранней юности у Льва Толстого. Очень было обидно, потому что мыслей у меня тогда было полно, намного больше, чем теперь, и очень хотелось их высказать. Но не поверить было нельзя — великий писатель.
Поэтому я молчала для женственности. Да и было о чем подумать про себя в лирические моменты. Наши проблемы и не снились маркизу де Саду: возможность аборта, например, или, по крайней мере — как в сортир коммунальный в чужой квартире пробежать, чтоб соседи не увидели, не донесли в милицию… А тут тебе Бердяев, и Флоренский, и «Философия общего дела»…
Она говорит: но у вас есть ребенок. Значит, у вас была большая-большая любовь? Страсть?
Какие все-таки шлюхи — наивные женщины. Дети им кажутся какой-то экзотикой. Детей они считают признаком любви. Но ведь непорочное зачатие — повседневное явление, если считать порочным всякое удовольствие для женщины. Хотя, может быть, порочность происходит от удовольствия, получаемого мужчиной? Этот вариант в религиозных рассуждениях почему-то никогда не рассматривается.
Большинство детей на белом свете зачинается безо всякой любви. Так бывало и в старые времена, до сексуальной революции. А теперь сколько детей рождается если не от духа святого, то на почве достижений науки.
Она, конечно, феминистка. Феминизм всегда упускает из виду, что проблемы происходят не от взаимоотношений между мужчинами и женщинами, а от взаимоотношений между мужчинами, женщинами и детьми. Обычная женщина, вроде меня, в общем и целом проводит за свою жизнь гораздо больше времени с детьми, чем с мужчинами. Большая, непреодолимая, на всю жизнь любовь, страсть — она, конечно, бывает. Но необязательно к мужчине. Чаще — к ребенку. И притом довольно часто совершенно безответная.
Книгу, которая принесла ей когда-то международную славу, она обсуждать не желает.
— Лучше почитайте мою книгу о еврейском вопросе.
Она, представьте себе, еврейка. Где только наш пострел не поспел!
Этот еврейский вопрос у нее все время стоит, как в прошлом — многочисленные члены ее многочисленных любовников. Впрочем, среди любовников были и лишенные членов: пять лет она сожительствовала с подругой. Что еще удивительнее — в какой-то момент ей так вся эта активность надоела, что она жила несколько лет в воздержании! Могу ли я этому поверить? Могу.
Потом у нее был инфаркт — видимо, от воздержания — но она нашла свое счастье в законном браке. Она впервые в жизни вышла замуж! Могу ли я этому поверить? Могу: хотя кошек у нее в доме полно, но есть и муж, очень тихий.
Вот что интересно: женщины, если им скажут про кого, что, мол, бабник, — будут осуждать и не доверять. Мужчины же наоборот. Если женщина общедоступна, они к ней немедленно чувствуют не только физический интерес, но и искреннюю душевную симпатию. Почему-то им кажется, что из всех видов торговли именно этот — признак золотого сердца.
Она рассказывает, как они дружной семьей ходят вместе плавать в бассейн для нудистов. Могу ли я себе это представить? Могу, но не хочу. Я только что смотрела выставку Рубенса, но тут и Рубенс бы содрогнулся.
Нет, спасибо, не хочу я читать ее книгу о еврейском вопросе. Ни о судьбах еврейства, ни об экологии не хочу читать, ни о мире во всем мире. Я устала. Я уже в молодости про умное начиталась, предала сексуальную революцию, просидела на обочине.
Не достроил, и устал, и уселся у моста… По мосту идут овечки…
Пансион декорирован тематически: такой бордельный диснейленд. Подушки на моей кровати из красного шелка, в виде сердец и сердечек. Почему-то напоминают, скорее, об ее инфаркте.
Вместо овец я пытаюсь на сон грядущий подсчитать свои немногочисленные романы, и мне становится мучительно стыдно перед грозным Судией за то, что не была я активным участником революции, а всего лишь наперсницей разврата…
За ночь меня посещают два-три кота, требуют любви.
Утром хозяйка не появляется — она, по старой профессиональной привычке, спит поздно. Посредине стола сидит один из моих ночных клиентов. Серый, гладкий, похожий на кувшин с ушами.
Молодой человек неопределенного пола, не то прислужница, не то нахлебник, скорее гермафродит, подает мне завтрак. Он, она из Аргентины, мы почти соотечественники — из одного полушария. Узнав, что я еду во Францию, оно ужасается. Все жители нашего полушария ненавидят и боятся французов. По крайней мере, ту группу французов, с которой им приходится сталкиваться — французских официантов. Он рассказывает мне о том, как ему назло дали непрожаренное мясо, а она ведь не ест с кровью. Это очень интересно: в Аргентине, на родине говядины, не едят непрожаренного мяса. Жаль, что я не успеваю его, ее расспросить — за такими колоритными деталями люди и отправляются в путешествия. Но мне пора ехать дальше.
* * *
По дороге в Дельфт много овец и толстых коров в тумане. В Дельфте звонят колокола и играет шарманка, пахнет копченой рыбой и клубникой, базарный день. Уличная еда тут — селедка, сама по себе, без хлеба. А рядом с базарной площадью магазинчики, где в витринах сладости и печенья из семнадцатого века, из голландских натюрмортов. Здесь пахнет кондитерскими. Не обычными человеческими кондитерскими, а теми, небесными, платонической идеей кондитерской, снившейся в раннем детстве.
Серебряные коньки, мальчик с пальчиком, заткнувший дыру в плотине.
Детям продают фиолетовые воздушные шарики. Шарики эти улетают в небо, а выдохшись, плавают в каналах вперемешку с крякающими утками. Через каналы перекинуты легкие вангоговские белые мостики. И, конечно, вдоль каналов множество ларьков с луковицами сувенирных тюльпанов и с бело-синим дельфтским фарфором.
Обедаю я в закусочной среди рабочего класса: булочки с копченым угрем, гороховый суп с черным хлебом.
Бог эту нацию не особо одарил внешностью. Костей в лице не наблюдается. Так, ежедневные лица. Это можно увидеть и в живописи Золотого века, и у малых голландцев заметить, если не обращать внимания на богатство всей этой масляной краски, и на сосредоточенность живописца, и на прелести мазка и всей этой пастозности и лессировки. Посмотрите-ка на лица. Не очень красивая нация.
Из Дельфта в Гаагу идет трамвай. Идет он полчаса, но, видимо, есть какая-то грань между Гаагой и Дельфтом, считающаяся сельской местностью, потому что опять начинаются коровы, овцы, бараны. Может, потому и спится в этой небольшой стране так глубоко: овец много, есть кого считать.
Гаага — хороший город, жаль только, что его как будто эвакуировали. Людей нет, населения. Пусто и дождь накрапывает. Иногда, впрочем, проезжает кто-нибудь на велосипеде. Трамваи ходят. Учрежденческий город, много здесь всяких учреждений и кафкианских международных судов.
В некоторые страны ездят пить минеральные воды, или прыгать на лыжах с гор, или охотиться на львов с фотоаппаратом. В Голландию надо ездить спать. Спишь в этой Гааге, как на гагачьем пуху. Комната белая в маленькой гостинице. Тихо: улицы-то пустые, только трамваи позванивают. А кровать сияет, особенно простыни. Чистые такие, будто их в корыте стирали, на стиральной доске терли и утюгом гладили. Толстые и шершавые. Занавески на окнах вишневые, из панбархата. Картинки на стенах, выложенные из цветной фольги, из крашеных серебряных бумажек: фрукты, цветочки — но почему-то не противно.
И спишь, и во сне тебе снится, что ты спишь… Целые сугробы сна, переходящие один в другой, как белые овцы, как небо из окна самолета… уснул обратно в детство, начитавшись книжек до одурения, и снится про вычитанные далекие места, и снится, что еще есть дальние, чужие, необъезженные страны.
* * *
В поезде, не успели отъехать, сразу и стемнело.
Поезд едет медленно, останавливается на тоскливой станции в захудалом городишке. Видна только стена кафельная, освещенная люминесцентным светом. Подростки околачиваются, как они околачиваются по всему миру, в надежде, что произойдет что-нибудь интересное и неожиданное. Если только смеяться и громко орать, и что-то жевать и сплевывать, и подталкивать друг друга в бока — вот-вот что-нибудь такое-этакое да и произойдет. Тоскливо им должно быть в такой глухой дыре…
Поезд сдвигается с места, медленно ползет мимо платформы, мимо станции, мимо надписи «Утрехт».
Это — Утрехт?
Мы на все эти имена и названия только облизывались в юности, вожделели к их недоступности. И все эти имена так и остались в юности, а реальные места, в которые мы притащили свои уже немолодые кости, оказались совсем не такими. Только изредка что-нибудь не обманывает — Дельфт, например. Там шарманка играла и пахло клубникой. Или Венеция… А вот Лондон — ведь он совсем не такой оказался. Наш Лондон был черный и темный. Трубы, трубочисты, цилиндры, цилиндрический черный бюст королевы Виктории, черные мокрые столбы газовых фонарей, черные сюртуки и стоячие воротнички жестоковыйных стряпчих и жестокосердых подьячих…
Лондон оказался светлым, довольно квадратным. Дружелюбный город. Широкие улицы, почти южная толчея… И Утрехт этот, он, может быть, и прекрасен, но в моей жизни навсегда останется долгой стоянкой у грязной кафельной стены. Больше я Утрехт не увижу.
* * *
И его, думала, не увижу. Думала, что встречать он меня не придет. А если придет — не узнаю.
Еще как узнала. Вот он идет по платформе в длинном широком пальто, очень у него европейский вид. Так всегда было, даже и там он казался европейцем, иностранцем, чужаком. У него интересное, элегантно поношенное лицо, со сложными морщинами, заработанными трудной жизнью в нескольких цивилизациях, с таинственно приплюснутым носом.
Это хорошо, что меня встречают, потому что тутошний серый рассвет мне не нравится. В этой стране мне неуютно. Тут говорят «ахтунг». Тут говорят «аусвайс». Мне все время кажется, что скажут: «Хенде хох!». Я знаю, что это несправедливо, но лучше бы им было в процессе национального раскаяния и язык поменять. «Ахтунг!» — ну куда же это годится?
Он живет в маленьком университетском городке. Мы сидим в кафе. Внизу какая-то немецкая река. Например — Шпрее. Или Стикс. Или Лета. Разговаривать нам не о чем, вроде как камешки в реку Стикс кидать и смотреть, как круги расходятся.
Теперешняя его жена тоже присутствует и к задушевности не располагает. Она здешняя, нос у нее уточкой. У нее есть иллюзия, что она умеет говорить по-русски, и совсем нет чувства юмора. Это не сразу замечаешь. Как, бывает, у человека странное выражение лица, а потом понимаешь, что один глаз стеклянный.
Мы все время сворачиваем на разговор о прежнем нашем месте жительства. Я эти разговоры не люблю. Уехали — так уехали. Нечего претензии предъявлять, пусть они там сами разбираются. Они же и отдуваться будут, не мы.
Но как и почему он живет в маленьком немецком городке — об этом я тем более не хочу расспрашивать. В доме повешенного не говорят о веревке. С ним произошло тут, в Европе, страшное несчастье: он всю жизнь проработал на обычной работе, с восьми до пяти. Жена, славистка эта, заставила. А ведь предполагалось, что он книгу напишет, философский роман, станет знаменитым…
Поэтому мы обсуждаем то, что происходит в местах нашей прежней инкарнации. Он говорит, что не ездил туда ни разу с тех самых пор, как начали нас, бывших покойников, пускать. А ведь мы можем там появляться. Как зомби. Вроде бы входить в контакт с прошлым. Хотя контакт-то какой? Про это я могла бы ему порассказать. Я там была, мед-пиво пила: мы кидаемся обниматься и ловим воздух, руки наши проходят друг через друга, целуем призрачные лица, как много раз целовали во сне. Общение ускользает, между пальцами проскальзывает. Ах, ты совсем не изменился! Ах, я бы тебя сразу узнал!
Как бы не так.
А наша-то встреча? Я теперь начинаю понимать, как сильно он изменился. Он говорит много лишнего и заведомо очевидного.
Например, он говорит о своей неприязни к возникшим там после нас явлениям, особенно к жутким неологизмам. Я эти неологизмы тоже ненавижу, они оскорбляют оба моих родных языка — и английский, и русский. Как будто у тебя любимые кошка и собака, а какие-то подонки их скрестили и заставляют производить на свет монстров и химер. Это уже не лингвистика, а вивисекция, остров доктора Моро.
Но ведь чтоб прощать и даже любить жаргон, надо его знать еще с зарождения. Вот и противного подростка с прыщами любишь, если знал младенцем.
Я его все меньше узнаю. Зато себя узнаю, не теперешнюю, а прежнюю: я автоматически начала слушать, кивая и поддакивая, чего уже давно не делаю. Привычка, значит, где-то сидит.
Наши герои, битые по голове и всячески униженные в своем мужском достоинстве — как мы их жалели! Неправильно считается, что в русском языке нет приличного эвфемизма, обозначающего секс. Есть он. Это дело называется: жалеть. Его одна баба жалела. Она Ваську пожалела и забрюхатела. То-то и оно.
А в нашей интеллигентской среде жалость выражалась и в виде страсти, и виде интеллектуального подобострастия.
Там, где я теперь живу, такое бывает только в черном гетто. Если группу населения унижают скопом и в историческом масштабе, то мужчины начинают много думать о чести и уважении, или, как теперь по-русски говорят — о респекте. Получить это негде, кроме как от женского пола. У нас в Нью-Йорке аристократическое понятие чести существует только в городских бандах, у них же и забота о респекте. Им необходимы женская самоуниженность и самоотверженность. Черные женщины, ну совершенно как мы когда-то — работают, содержат семьи и мужчин своих жалеют непрестанно.
Жена его все говорит: «Я будет уходить, я будет уходить», но никуда она не уходит. Она, видимо, принадлежит к распространенной породе славистов, которым все мерещится, что от них скрывают тайну русской души, этакий философский камень из сказки Бажова. Они всегда сидят до победного конца, прислушиваются к пьяным разговорам, надеются уцепить эту Душу. Как будто им тут же за это и полную профессорскую ставку дадут.
Славистов я не люблю. Не переношу я их. Очень неприятно, когда тебя изучают заживо. Один славист целый вечер просидел в моем доме, а потом возьми и спроси: «Скажите, до какой степени вы типичны?». Задушить тебя мало, думала я тогда. А теперь думаю — очень даже была я типична со своими домашними пирогами.
С другой стороны, может, она будет уходить, будет уходить — а сама ревнует к соотечественнице? За такое человеческое чувство можно ее и простить. Но не нравится она мне. Косноязычие ее мне кажется безнравственным. Если уж чистоплотность считается богоугодной, то чистота речи — тем более. И притом она ему договорить не дает, все время перебивает.
А я слушаю проникновенно и истово. Как паства в черной церкви: Аллилуйя! Аллилуйя! Воистину!
Хотя ничего особо интересного он не говорит. Все, что он говорит, я знаю заранее, более того, я уже когда-то так думала, а потом перестала. Чужое мнение надо уважать, но очень трудно уважать свое собственное устаревшее мнение, свои собственные прежние глупости. Однако я дарю соотечественнику почтительное женское внимание, как сувенир прошлого. Вроде пачки «Памира».
Но, к сожалению, он начинает мне объяснять про мою теперешнюю страну, про ее ужасные недостатки. Это теперь в Европе модно. Это ему ночная кукушка накуковала.
Ну и пусть, пусть объясняет. Не могу ведь я ему рассказать за пять минут, чем прекрасен остров, на котором я живу, не могу за раз преподать суровую науку: как любить Нью-Йорк (см. Примечание).
Тут и славистка вступает:
— Это типично для русский эмигрант — национализм, где страна живешь. Почему защищать этот американцев?
— У меня ребенок американец, — отвечаю я бестактно.
И утрись. Я против тебя совершенно ничего не имею, бездетная утконосая славистка. Но не трогай мою где страна живешь. Не учи меня про эмигрантский национализм, а я с тобой не буду ни о чем, начинающемся на наци…
— До свидания, — говорю я.
Какое там до свидания, больше мы не увидимся. И сказать нечего, и времени нет. Дни как шелуха, как кочерыжки объеденные, как труха на дне старого ящика, к употреблению непригодные… Ни утра, ни вечера, сон наплывает с полудня…
Но в маленьком немецком городке уснуть невозможно. Говорили мы о какой-то ерунде. Но не молчать же. Молчание и все приближающееся к нему, как сказано в одной старинной книге, напоминают об альковных тайнах. Об альковных тайнах нам вспоминать теперь ни к чему.
Он жил в узкой комнате, где одна только койка и помещалась, в коммунальной квартире на далекой окраине, и много там творилось всякого греха. Пили мы исключительно коньяк «Плиска», хотя один раз достался нам валютный «Наполеон», потом мы бутылку под свечку приспособили. Свеча горела на столе, такая романтика. Окно было всегда занавешено байковым одеялом, потому что на первом этаже. И холсты висели впритык по всем стенам, авангард и нонконформизм всяческий, довольно жуткие картины. А комната была не просто маленькая, как келья, она и вправду была бывшая келья. Когда-то там был монастырь. Подворье монастырское. Грачи летали. Колокольня, но никакого колокола, ни тем более креста.
Он был таинственный, к чему-то всегда причастный, каким-то боком относился к истории. Его в детстве так мучило скудоумие ровесников, что он и взрослый побаивался людей, подозревал в них удачно мимикрировавших двоечников. Комплекс вундеркинда. Там, в стране взаимной умильности и взаимно напудренных мозгов, где добродушие сливается с равнодушием, он был совершенно не к месту. Очень неприятно выделялся со своей вежливостью и корректностью.
Со мной-то он не был вежлив, и я считала, что это — большой комплимент. Но так продолжалось несколько лет, и мне надоело быть для него каникулами, плавать в невесомости. Выдохлась я, как дельфтские воздушные шарики.
Он скрылся по ту сторону горизонта и только присылал иногда письма из миража, а мираж этот казался совершенно несуществующим, возникшим на почве моей жажды и безнадежности окружающей пустыни. Какие там пальмы, какой оазис — голову напекло в коммунальной, на пять семей и четыре конфорки, кухне… А потом, в теперешней инкарнации, в скалистом моем городе, на суровом моем острове, где простая и непреложная бухгалтерия доказывает невозможность никаких разлюли-малина романтических воспоминаний, и европейских капризов, и безответственных каникул — до того ли было?
Но все же вспоминала и думала, что встретимся и что-то разъяснится…
Теперь это полуразвалившееся подворье покрасили, крест позолотили, религию реабилитировали, газовые плиты у дверей больше не стоят. И та замечательная комната теперь опять келья, свечки в ней зажигают с другими целями. Но греха там, я уверена, полно. Под кроватью небось опять запрещенные книжки спрятаны. Только теперь — унылая монашеская порнуха, а не стихи, романы и религиозно-философские трактаты, не самиздат, как у нас…
Мне попадался и другой учебник, сочинение маркиза де Сада «Сто ночей Содома». И опять поразило меня количество правил, списков, дотошных расписаний, и одна, самая удивительная фраза: «Все оргии должны завершаться в два часа ночи». Ах, маркиз, маркиз, да где ж ты такие оргии видал, которые «должны»? Да еще в два часа ночи?
Они ведь похожи были — самиздат и адюльтер. Незаконные свидания на одну ночь, наслаждение, обостренное опасностью… Прочти и передай, извините за выражение, товарищу. Свободная любовь, свободная литература, тяжелые последствия…
А объективные качества наших партнеров, как и объективная ценность прочтенной нами тогда литературы были неизвестны и останутся неизвестны… Лучше не смотреть в ту сторону, не перечитывать.
Вот что я о нем знала, чего никто не знал: он всегда так боялся скуки и обыденности, как люди боятся крыс и темноты. Кто чего боится, то с тем и случится. И будет случаться, каждый день, с восьми до пяти, до самой смерти.
…Кузина, помнишь Грандисона?
* * *
Во Франции, в приближающейся Франции, есть у меня не то чтобы кузина, а дальняя родственница, скорее подруга. Приятельница.
Днем я буду бегать по городу, а ночевать у Дашеньки.
Дом старый, внизу булочная, и дом весь как булка, с лепниной. Я похожие узоры лепила когда-то из теста на пирогах для неблагодарных славистов. В подъезде изразцы с порочными модернистскими извивами, болотного, извращенного цвета. Узорчатые перила лестницы; по таким лестницам в фильмах, стуча каблуками, сбегают убийцы. Древний, красного дерева, трясущийся лифт. Очень красивая трущоба.
Дашеньку не видела я много лет. Она рыжая, кузина Дашенька, широкая душой и телом, тициановская и роскошная.
Она предлагает мне борщ. Квартира пахнет капустой и махоркой. Видимо, в Европе их не обеззараживают, не дезинфицируют, как нас в Новом Свете. Мы уже давно не пахнем, тем более — капустой.
Весь первый день Дашенька поит меня спитым чаем из гжельского чайника, побуревшего от частого употребления, с ущербным горестным носиком. К вечеру, то есть с пяти часов, мы пьем водку.
Я отвыкла сидеть часами за неубранным столом, покрытым к тому же платком с бахромой, с пятнами борща и свекольного цвета розами. Посредине стоит резная славянская шайка с окурками.
Мы вспоминаем прошлое. Она почему-то думает, что в прошлом у нас было много общего. Но ее прошлое было гораздо интереснее. Ей бы с амстердамской блудницей познакомиться. Впрочем, между двумя такими массами эксгибиционизма может произойти не притяжение, а отталкивание.
Хотя страсти у Дашеньки, конечно, другие. Страсти ее не только не доходные, а всегда убыточные. Она романтик, у нее собственная жизнь с прочитанной сливается.
Все дело в том, как ты об этих страстях первоначально узнаешь. Вот теперь для детей учебники выпускают, и там написано, что у пап бывают краники, а у мам — дырочки, и эти нудные краники и мерзопакостные дырочки входят в контакт исключительно с демографическими целями.
Как говорила королева Виктория: «Зажмурься, дочь моя, и думай о Британской империи».
Оправдывается этот ужас тем, что иначе дети узнают о фактах жизни от своих ровесников, получат искаженную и вульгарную информацию.
Я получила информацию от ровесников, но тоже про империю часто вспоминаю. Нас информировала бледная и недокормленная восьмилетняя Раиска, жившая на фабричной заставе. И рассказало это дитя народа следующее: «…Пришел Пушкин к императрице Екатерине Великой. Она ему показывает и говорит — это что? А это что? А это? Пушкин все назвал. Тогда императрица Екатерина Великая говорит: „Ложись, Пушкин, на поле Алтайское, звони в колокола Китайские, суй штык Наполеона в пещеру Соломона!“».
И что же тут, скажите вы мне, вульгарного и что тут неправильного, кроме небольшой хронологической ошибки с Екатериной?
Так это и слилось неразделимо в наших девичьих мозгах: штык Наполеона, и поэзия, и история, и необъятные просторы Алтая, и «Песнь Песней», и храбрый Пушкин, дающий всему имена, как праотец наш Адам.
Голландская сонливость у меня прошла совершенно — или это было с перелета? В четыре часа ночи за окнами шум, как во всяком бедном районе, а в квартире душно и все насквозь прокурено. И подумать только, что когда-то и я курила! Теперь даже вспомнить странно.
Я встаю с дивана, пробираюсь в незнакомой темноте к столу, выкидываю окурки из шайки. Подхожу к окну с бронзовой задвижкой, с мраморным подоконником. Из окна виден и вправду мокрый бульвар, дрожат фонари в лужах, по бульвару и вправду под мелким дождем спешат люди с зонтиками — видимо, парижане. Утром я отсюда сбегу.
Утром на бульваре и вправду жареные каштаны продают. Серо, мокро, свет перламутровый. Я в Париже? На углу под деревьями — вход в метрополитен. Самый красивый в мире, порочный и растленный шрифт модерн. Но там, внизу, я еще не была. Я и изразцов в подъезде больше никогда не увижу. Меня кузина не отпускает. Окно заперто, она по старинке сквозняков боится. А внутри квартиры из французского — только голубенькие пачки «Голуаза».
— Чего ты там не видела, — говорит Дашенька. — Дождь, простудишься. Скучный город, уверяю тебя. Никакой в нем романтики. Лучше поговорим, посидим. Хочешь чаю? А водочки? И ничего не рано. Я борщ могу разогреть. Помнишь, как…
Дашенька закупает водку в канистрах: одна ручка сбоку и дополнительная ручка у горла, иначе не поднять. Это под крышами Парижа так можно, а у нас, если о прошлом размышлять, как раз без крыши над головой и останешься. У нас больше про завтрашний день задумываются.
Я не совсем в Париже. Я совсем не в Париже. Дашенька с большим трудом достала где-то гречку, специально для меня, и угрожает сварить гречневую кашу, и не верит, что живу я в таком городе, где мирно сосуществует еда не только всех народов, но и всех эпох.
А из нашего общего прошлого я помню только одну ночь.
Она прибежала ко мне поздно вечером, без звонка, с очень тяжелым чемоданом, набитым книгами, с бутылкой водки и двумя дефицитными свежезелеными огурчиками. И книги, и огурчики принес в ее дом иностранный журналист. Водку она купила сама.
Весна была, шел проливной дождь. Дашка переоделась в мой халат и сушила свои огромные, дикие, замечательно рыжие волосы.
Вначале предполагалось, что мы немножко выпьем, она пойдет домой, а я припрячу эти опасные книжки на неделю. Они с мужем боялись обыска. Но выпить немножко она уже и тогда не могла. Кроме того, до самого моего дома за ней шел какой-то тип.
— Ну ни в жизни не догадаюсь: это слежка или он ко мне пристает? Может, хвост. А может, я ему просто понравилась.
Чекист шел за Дашенькой или сексуальный маньяк, а все одно лучше было пересидеть. Тем более что потом даже гроза началась.
И она целую ночь рассказывала мне про свой тогдашний роман.
Рассказывала она, с одной стороны, с глубоким психологизмом и с множеством литературных параллелей, с другой стороны — с деталями, достойными амстердамской блудницы. Замечательная рассказчица была Дашенька. И замечательный конспиратор: имени своего возлюбленного так и не назвала.
Под утро она убежала домой, муж ее к тому времени уже с ума сходил, думал, что загребли ее тепленькую с чемоданом.
А я осталась размышлять о странностях любви и перечитывать принесенные ею сокровища. Оруэлла, который воспринимался особенно остро, так как мог в любую минуту перейти в реальность. «Доктора Живаго», который наводил на мысль о том, что чего не бывает, любовь зла.
Полюбишь и козла — по описаниям Дашкин возлюбленный показался мне сущим козлом. Дашенька считала своего козла гением, и было ясно, что он это мнение полностью разделяет, что он претенциозный пижон. Какую-то он собирался философскую книгу написать и прославиться на весь мир. И она, глупая, рыжая, пьяная Дашка, во все это верила.
«Доктор Живаго» производил тогда неизгладимое впечатление на наших молодых людей: высокая и самоотверженная любовь, которую герой чувствует одновременно к двум женщинам, и особенно — взаимное уважение и мир между его избранницами. Нам Лару и Тоню ставили в пример, и мы в своем скудном умственном хозяйстве старались смириться с этой несколько утопической гаремной идиллией. Но натура-то наша в самой основе и утробе своей косная, потому что детородящая, чадолюбивая — натура-то наша все равно втайне жаждала моногамии.
И ведь мне казалось тогда, как всем кажется в молодости, что жизнь у нас была самая обыденная и скучная. Ну, роман у Дашки. Ну, притащила чемодан. Тяжелый чемодан, тянет лет на десять. У подъезда ходит тип. То ли чекист, то ли сексуальный маньяк. Скучно все это, а настоящая жизнь начнется когда-нибудь позже, в Париже или в Утрехте.
Что с ней потом произошло, я все-таки понимаю смутно. Например — зачем она в Париже? В конце концов «Голуаз» теперь можно всюду достать.
— Дашка, — спрашиваю я, — а помнишь, ты мне рассказывала про свой роман?
В так называемом Париже идет дождь, и опять водка, и окурки, и опять Дашенька рассказывает про свой роман. Она уже не такая красавица, как была, не такая рыжая. Но все еще широкая и душой и телом, и прекрасная рассказчица.
Оказывается — нет, не всю свою жизнь она мне рассказала в первый же день. Оказывается, еще много чего произошло. Любовь ее к тому претенциозному козлу была величайшей любовью ее жизни. Так она его жалела, так жалела. Но они с мужем уехали на лето подальше от обысков в деревню, и там, среди еловых и сосновых лесов, и сбора грибов, и постоянного подпития, у них случилось короткое семейное примирение. И она понесла. Вот ведь интересная история: можешь понести. По пьяной лавочке. И из всякой ерунды — грибов, дождя, жалости — такое получается, что уже за всю жизнь не расхлебаешь.
Тут она начинает плакать.
Дашенька отказалась от своей любви. Она осталась с мужем, потому что хотела, чтоб ребенок рос с отцом. Ребенок и растет с отцом, а отец живет с совершенно другой женщиной в Англии.
А почему она в Париже? Ну, Европа все-таки, ближе к Англии. В саму Англию не получилось, визу не дают.
А что же возлюбленный ее, козел тот, который должен был прославиться? Он, оказывается, женился на какой-то зануде. Живет в маленьком университетском городе.
— В Германии? — пугаюсь я.
— В Германии? — удивляется зареванная Дашенька. — Нет, почему, он в Италии….
Франция, Англия, Германия, Италия… Бред.
— Ведь ты сама знаешь, — всхлипывает Дашенька, — каково жить на чужбине…
— Я не живу на чужбине, я в Нью-Йорке живу, — поясняю я автоматически и тянусь за пачкой «Голуаза».
Так мы и сидим, курим: ветераны революции.
Потом я вру что-то о перенесенном рейсе и от похмельной опухшей Дашеньки убегаю в Париж.
Гостиница оказывается постоялым двором, караван-сараем для перемещенных лиц арабского происхождения. Запах тут тоже тяжелый, основные составляющие всё те же: удушливая беженская тоска и французская махорка. Но хоть борща нет — тут кускус.
Зато в комнате жалюзи, скрипучий большой шкаф с незакрывающимися дверцами и специфически французский предмет, называется: биде. На завтрак выдают кофе и кусок сухого хлеба, называется: багет. Биде, багет, мелкий дождь, чего мне еще надо?
Я иду в Лувр. Музей этот очень похож на вокзал. Хорошо бы уйти в боковые комнаты, там посвободнее, там висят тихие натюрморты. Но долг — то есть долг на кредитной карточке, цена, заплаченная за авиабилет, — велит проталкиваться к Моне Лизе.
Среди толп и шума лучше гулять по улицам, хотя реальный Париж ничем не отличается от своих изображений. Голод мучает, потому что у французских официантов и вправду куска хлеба, то есть багета, не допросишься.
Ремарк, Эренбург, Хемингуэй, Генри Миллер, Сислей, Моне, Флобер, Жанна Моро, Жан-Люк Годар, Дюма отец и сын, Ренуары отец и сын… А далеко на севере, в Париже, холодный дождь идет…
Холодно в караван-сарае. Жалюзи скрипят, шкаф скрипит, биде бормочет.
И не спится. Какой-то мелкий, не опасный для жизни инцидент, вроде бумажного пореза, вроде разговора с Дашенькой, может быть остро болезненным, так что всю ночь не заснешь.
— Скажите, а вы типичны? — спрашивает меня во сне утконосая славистка. — Ведь вы типичны? Признайтесь, иначе я не будет уходить.
* * *
Зачем меня понесло в эту Европу, в эту альтернативную инкарнацию? Здесь слишком сложно. У нас проще. У нас считают, что врать — нехорошо. У нас не любят морального разложения. Приеду — хоть одежду выбрасывай, так все у Дашки прокурилось. У нас свободное время отчасти даже и позор, символ деградации, клеймо европейского разврата. А у них тут в Европе — торжество социализма, бездельники они. Каникулы, сплошные каникулы, сплошное вранье. Все эти мои встречи с прошлым — факт, но к реальности отношения не имеет.
Правильно сотрудники мои подмигивали, узнав, что я еду в Европу. У нас при упоминании Франции принято подмигивать, а при слове «Амстердам» смущенно хихикать.
Ну их всех — и я уже начинаю думать на другом языке. На этом языке я думаю проще и конкретнее. Как будто скидываю разношенные туфли и надеваю тесную деловую обувь. Не в шлепанцах же скалолазанием заниматься.
Надо будет в самолете путеводители почитать, названия соборов в Дельфте запомнить. Как эта река Стикс в Германии на самом деле называется? Эльба, что ли? И музеи, кроме Лувра. А то дома рассказывать будет нечего.
Вот уже и белые овцы облаков редеют и расползаются. По замусоренному светлеющему самолету разносят фальшивую еду. На экране самолетик прыгает, прыгает — приближается к родным берегам. Объявляют, какая там, внизу, температура. Надо же, дикий холод. Ничего, сегодня пятница, а к понедельнику, глядишь, дикая жара начнется. У нас бывает.
И уже начинают приближаться беспощадные кристаллы и сталактиты, розовые и аметистовые в ледяном рассветном солнце, и крошечным пламенем елочной свечки загорается веселый «Крайслер», скребет небо, подмигивает мне.
Никому он не родина, зато никому и не чужбина. Мой город, Новый Амстердам, где всегда — завтрашний день.
Примечание: Как любить Нью-Йорк
Знаком до слез весенней аллергии этот город, наплывающий сперва обонятельным облаком благоухания, заранее, еще за квартал до зримого облака розового и избыточно цветущего дерева; да чего уж там, даже и тревожащее, противозаконное и прельстительное облако марихуаны подплывает к тебе в весенних сумерках, анонимное и глубоко волнующее — вон, не от того ли хмыря… Да чего уж там, чего уж там — даже и яростная вонь хлорки, от которой глаза слезятся, щедро выплеснутой поздно ночью уборщиками на ступени лестницы, текущей вниз, в ад, в апокалипсис, в безлюдную, и нехорошо освещенную, и отнюдь не безопасную станцию — даже хлорку-то эту уже знаешь и любишь.
В глубине души своей вибрирующими костями наизусть знаешь и чувствуешь приближение в туннеле долгожданного и спасительного поезда, когда этот поезд еще и не начал даже высвечивать постепенно разгорающиеся туннельные рельсы.
О, как они разгораются, и скоро, скоро будешь уже сидеть в вагоне, и через час, через полтора уже и на поверхности.
А по дороге, на пересадках, пока тащишься по бесконечным кафельным подземным коридорам, сколько еще музыки услышишь. И саксофоны услышишь, и мексиканский аккордеон, и свирель с Анд, и маримбы, и тамтамы, и гулкие металлические котлы с Ямайки, и кореец возле эскалатора будет водить смычком по какой-то ноющей струне, и пожилая пара будет петь под гитару печальный испанский романс, заглушаемый визгом и скрежетом вагонных тормозов…
Чтобы играть в особо престижных местах — на платформе под 59-й улицей или в переходах под 42-й — люди проходят прослушивание, серьезный профессиональный конкурс. Здесь можно очень хорошо заработать, среди рева проносящихся поездов, неподалеку от бегающих по рельсам существ, про которых жители города любят туристам баки забивать, что это, мол, подземные белки.
Белочки у нас такие, с голыми хвостами…
А там только добежать до дома, до того места, которое на данный момент называется домом… Вернуться домой из тесной захламленной Европы…
И из этого дома можно и нужно уходить и ходить долго, очень быстро и очень далеко. Возникает тогда ощущение невидимости; ты проходишь и уходишь, и совершенно уже невозможно остановиться и ввязаться во что-то или заговорить с кем-то. Проходишь мимо и уходишь, и постепенно дохаживаешься до транса, до восторга такого, какой от музыки бывает, до экстаза собственными ногами дохаживаешься. И все-то думают, что идешь по делу с таким устремленным видом, а ты просто идешь мимо. Глядишь глазами, и ноги уже помимо тебя движутся, и ты соглядатай. А на самом деле интереснее всего соглядатаю. Соглядатаю мерещится тайный смысл, сюжет и интрига.
Расы и народы здесь все еще разноцветные, не перемешавшиеся до вялой европейской бежевости.
И погода здесь не мелкопротертая, как в Европе, а рубленая крупными, малоцивилизованными, колониальными кусками. Вьюги перемежаются тропическими ливнями. Вишни, расцветшие по ошибке в понедельник, к среде гнутся под сугробами мокрого снега. К пятнице вишни заледенели, и цветы во льду — как мухи в янтаре.
За ночь зима на лето сворачивает, температура поднимается градусов на двадцать. Ветер воет, как в аэродинамической трубе, железо скрипит и скрежещет, и возбужденные ураганом машины воют сиренами. Нью-йоркские автомобили очень чувствительны к погоде: ветра, грозы боятся и начинают выть, звать хозяев.
К утру огромные ветви старых деревьев будут валяться повсюду.
— Это Лаура? — спрашивают прохожие.
— Нет, это уже Матильда.
Имена ураганов. Ветра спрашивает мать: «Где изволил пропадать?»
Дома стоят вплотную, нет между ними промежутков. Там, раньше, в прежней нашей инкарнации, были эти промежутки между домами, ничейная земля, черные провалы в никуда, и подворотни, и арки дворовые; и все это вызывало чувство жалости. Предметы, тени от предметов даже вроде бы были несправедливо обижены. Тени от домов лежали незамысловато, тупо, покорно, под прямым углом. Желтая краска облезала со стен, серый снег рушился под ногами. И все вызывало это приторное, похотливое, достоевское чувство жалости.
Здесь ничейной земли нет, каждый дюйм обмерен и оценен. Здесь тени домов взлетают по фасадам, как акробаты, как обезьяны, отражаются, преломляются. Здесь и деревья между собой конкурируют, и листва на них шелестит не просто так, а для пущего пиара.
Как любить Нью-Йорк? Как любить этот город, которого не жалко?
Посредине города находится парк, посредине парка находится карусель, в пестрых ладьях и каретках, на расписных лошадках кружатся и кружатся дети под узорчатым шатром, и с утра до вечера несется оттуда механическая цирковая музыка.
В других городах находился бы в этом месте главный собор. Или правительственный дворец. Или мумия основателя лежала бы в мраморной гробнице под охраной очумелой стражи.
Тут — карусель. Такой фривольный город.
Кругом красота природы. Облака стоят над лугом, как концертные рояли в белых чехлах. На горизонте деревья, за ними — небоскребы. Летом на этом лугу будут филармонические концерты, придут тысячи людей, множество пестрых скатертей расстелют для пикников, будут пить вино и слушать музыку в сумерках, в постепенно темнеющем парке, и где-то после аллегро, в начале анданте — зажгутся фонари.
А пока деревья только занимаются, зелень еще скромнехонькая, совсем желторотая.
Но вот у богатых людей уже благотворительный вечер. Богатые люди, они уже загорелые, они очень хорошо смотрятся в весенних сумерках. Они кушают. В белых шатрах.
Сегодня такой вечер, когда все белое светится в сумерках. Кажется, что-то произошло: толпы, оживление. Но ничего не произошло, просто самый лучший вечер в году, в начале весны.
Много собак. Мелкие ничтожные собачки, дрожащие от истерической, почти кошачьей, любви к себе, и большие, доверчивые собаки с обслюнявленными теннисными мячами в улыбчивых ртах, сияющие рыжей шерстью на весеннем солнце.
Одна лежит на траве навзничь, подставив громадную грудную клетку для публичного чесания. Народ ее чешет, а линяет этот пес так, что от дуновения ветра шерсть летит на близлежащую свинину и курятину на всех жаровнях и прилавках.
И в то же время идет мимо демонстрация Харе Кришна. Не в знак вегетарианского протеста, а просто по совпадению, что городу свойственно.
Еще в траве школьники валяются, с тетрадями, учебниками и компьютерами, потому что по весне бог посылает студентам и школьникам экзамены, чтобы отвлечь их хоть немного от мыслей о сексе.
И тут же дама, с огромным трудом присевшая на корточки в тесном, почти лопающемся атласном платье, сосредоточенно раскладывает шлейф невесты на фотогеничной траве, и ассистенты фотографа высвечивают лицо невесты экранами-рефлекторами, а невеста, продукт работы множества профессионалов, давно уже, бедняга, за пределами добра и зла…
Да, мы дошли до музея… Если вы так настаиваете — зайдем.
Вот слепой, в инвалидной коляске, на экскурсии, с приставленной к нему искусствоведкой. Она описывает для него каждую картину. Это звездный час искусствоведки, наконец-то ей удалось своими велеречивыми словесами полностью заменить изображение. Слепой, по-видимому, был прежде зрячим, так как она ему описывает цвета: жемчужный, слоновая кость, синий, глубокий такой, как у Матисса. Слепой счастлив, он все поддакивает, энергично, с наслаждением: Да! Да! Да! Практически совокупляются люди.
Это, может быть, впервые и от искусствоведки произошла какая-то польза, от паразитической ее профессии. Бесплодная смоковница окотилась.
А вот Музей Латинской Америки. Восхитительный музей, каких теперь уже не делают: солидный, скучный, коричневый. Витрины и шкафы полированного ореха, с бронзовыми замками и засовами, на терракотовых ногах. В некоторых витринах этикетки, представляющие самостоятельную музейную ценность: напечатаны еще на пишущей машинке.
Сюда редко ступает нога человека. Музей находится в бедном и малопосещаемом районе, где живут люди из Латинской Америки. Однажды, лет тридцать назад, в самый нехороший момент, когда город был в финансовом и прочем кризисе, работники музея позвонили в полицию и сообщили, что произошла перестрелка и на ступенях музея лежит покойник. Полиция была в те времена так занята, что мертвое тело убрали только через сутки. А теперь — ничего. Даже посетители иногда бывают. Гойя тут, между прочим, висит.
Прелесть Музея естественной истории и этнографии в том, что он полон жителей Нью-Йорка. Многих посетителей можно поместить в витрину, даже не переодевая. Все время думаешь: насколько посетители отличаются от экспонатов? Ведь не на тысячелетие отстоят, лет на сто-двести от силы.
В витрине засушенные головы. На табличке написано: теперь у этого южноамериканского племени засушивать головы убитых врагов незаконно. Спасибо, объяснили.
Перед витриной на музейном ковре, изнемогая от скуки, валяются разноцветные нью-йоркские школьники.
Девочка, возможно, потомок того же племени, которое больше головы не засушивает, говорит корейской подружке:
— Какие они все были трудоемкие!
— Трудолюбивые, — строго поправляет грамотная кореянка.
— И су… су…
— Попробуй употребить это слово в предложении.
— В чудеса верили?
— Ты хочешь сказать: они были суеверные.
Но подруга уже не слушает, увидев витрину: «Ритуальное употребление наркотических средств».
— Моя религия! — вопит она.
Набоков пишет в мемуарах, что тут в фойе музея изображен его отец. Но ведь Набоков и соврет — недорого возьмет? Однако — правда. Вот фреска: «Подписание Русско-Японского перемирия». Над головой джентльмена в сюртуке, в виде нимба надпись: Набоков.
В галереях современного искусства на вернисажах все обычно стоят спиной к стенам. Разговаривают и знакомятся, пьют белое вино.
И правильно: спиной к стенам гораздо красивее. Можно смотреть на девушек с плоскими загорелыми животами и серебряными серьгами в пупах. По крайней мере они сделали свое дело, потрудились над животами, повысили эстетический уровень выставки.
Над самой экспозицией никто так не трудился, да и некогда было — все эти художники днем зарабатывают на жизнь какой-нибудь настоящей работой. Поэтому современное искусство отличается быстротой выполнения.
Главное — оно бунтарское, мятежное, провокационное, революционное и эпатажное. Оно эпатируeт буржуазию. А буржуазия любит, чтобы ее художники эпатировали. Она это прилично оплачивает.
Позднее, ночью, девушки с серьгами в пупах будут танцевать в клубах, где стены выкрашены черной краской, где в полной темноте ревет электронная музыка.
Девушки танцуют поодиночке, извиваются в трансе, как змейки заколдованные, их удивительные юные животы и прелестные лица освещены снизу таинственным голубоватым светом мобильников: танцуя, они не перестают виртуозно быстро перебирать одним большим пальцем клавиатуру, отправлять послания в ревущую тьму пространства, как будто каждая из них — радистка на своем собственном тонущем корабле. Они шлют сигналы туда, где хорошо, туда, где нас нет. Ищут и ищут чего-то еще более интересного, чем этот ночной клуб, такой закрытый, такой подпольный, что только по паролю в дверь пропускают.
Мы-то стены в черный цвет не красили, у нас и так было цветовое голодание.
Мы хотели ярких цветов, за которые дружинники арестовать могли. И одежду нам дизайнеры не рвали. Ее для нас снашивали иностранные стажеры и туристы, потом перекупали фарцовщики, и нам одежда доставалась на черном рынке уже такая полуистлевшая, как теперь и дизайнерам не снилось.
И еще наша юность имела в изобилии нечто совершенно подлинное, высшего качества: опасность у нас была настоящая.
А ведь молодежи необходима опасность, как оленям — соль полизать. Отверженность им нужна, романтическая мятежность. Вот они и приходят в эти клубы, как на солончак.
Ну а местное современное искусство, оно по большей части — да, ужасно. Но в других местах еще хуже, так как является имитацией здешнего искусства. Как у глупого школьника, подражающего выкрутасам главного идиота в классе.
Возле Музея гималайского искусства сегодня буддистская ярмарка.
Рыжий еврей, истощенный не свойственным еврею вегетарианством, на гималайской свирели играет. Предлагают лечить собак иглоукалыванием. Собирают деньги на афганских сирот. Интересно, что на эти деньги афганские сироты себе купят?
Все в восторге от собственной политической активности, на всех лицах — блаженные либеральные улыбки.
Вдруг раздается оглушительный, металлический, резонирующий грохот. Что ли, началось? Обещали демонстрацию танцев страны Бутан: Изгнание Неистовых Демонов, или Пляски Ужасающего Божества. Но нет, это помойная машина приехала, мусорщики грохнули урнами — такой мелодичный звук.
А когда начинается Ужасающее Изгнание Неистовых Демонов, то его и разглядеть и расслышать в общей толчее трудно.
Два монаха в халатах и митрах брусничного цвета сидят на ступенях. Они тихо тренькают медными тарелочками, изредка ударяют по расписным барабанчикам.
Потом дервиши выходят, шаманы бутанские. Одеты шаманы намного ярче, чем обычный нью-йоркский сумасшедший, но совершенно в том же стиле. На головах разноцветные косы, как войлочные веревки, тряпки разноцветные у пояса навязаны, обмотки на ногах, бубенчики. Вот они начали потихонечку подпрыгивать, иногда немножко кружиться.
Бутанцы обещали помочь городу Нью-Йорку по части очищения от дурных духов, и они очень стараются. Но наших злых духов такими танцами не изгонишь, особенно после недавнего биржевого краха. Сейчас по всему городу неистовые демоны разбежались, как тараканы по кухне от тараканомора. Но постепенно понимаешь, что цель этих нежных бутанских танцев — не изгнать бесов, а усыпить: многочисленные присутствующие дети и младенцы уже прикорнули.
Продают целебный напиток из таинственной комбучи, и оказывается, что это тот самый чайный гриб, который рос в виде отвратительной медузы на коммунальных подоконниках, в трехлитровых банках с чаем. Жители коммунальных квартир свято верили, что этот фунгус вылечит их от всех болезней, включая смерть. А теперь в это же верят просвещенные жители Нью-Йорка.
Большое здание, глухая стена, без окон, только огромная дверь, как ворота гаража. Сегодня ворота раздвинуты; перед зданием стоит фургон, выгружают мебель. Заглядываешь: неожиданно огромное пространство, в пыльной мгле золоченые ярусы лож, бархатные кресла партера. Все это в странном ракурсе, под углом, с правой стороны кулис. Тротуар здесь переходит прямо в сцену, улица превращается в подмостки — без всяких ступенек, без границы. И мебель несут не в чью-то квартиру, это не обычные столы и диваны, они актеры…
И город по основной своей профессии — актер. Крыши его, башни и шпили — как готические скулы Марлен Дитрих, суета улиц — как утиная походка Чарли Чаплина.
Даже и актерский псевдоним у него есть: Готэм. Так он называется в комиксах. Актер он в основном комический, отнюдь не первый любовник и ни в коем случае, ни в коем случае — не трагик. Он — клоун, шут.
…Может, хватит искусства? Поговорим лучше о еде.
Вот фермерский рынок — самое политизированное место в городе. Здесь постоянно агитация и пропаганда, демонстрации и протесты. Это, конечно, в традициях западной демократии: и в Древней Греции политика обсуждалась на рыночных площадях. Но в древнегреческие времена политика была сама по себе, а еда — сама по себе. Теперь же все политизировано: фермеры, покупатели, картошка, помидоры; особенно картошка и помидоры.
Сейчас фермер Джонс вам все объяснит. У большинства этих фермеров если не докторская, то степень бакалавра уж точно есть. Они говорят с покупателями о необходимости спасения маленьких семейных ферм, о применении в большом агробизнесе химикалиев и искусственных удобрений, о злокозненности западной цивилизации и индустриализации… У ацтеков существовали сотни видов картошки и помидоров, а индустриальная агротехника все стандартизировала… Падёж пчел связан с потеплением климата… Глобализация пчел загубила.
Несмотря на все докторские степени, есть однако же что-то в самом процессе обработки земли, что прививает фермерам некую пасторальную наивность: «Вот Обама, — говорит фермер Джонс, — все изменит».
— А где тут майки с Обамой продают? — спрашивает турист.
— Вон там, где Махатма Ганди стоит. Видите, маленький голый старичок? Там еще ларек с сыром, у них сыр замечательный — овечий с крапивой. А дальше добровольцы с бездомными собаками на усыновление. Между сыром и собаками Обамой торгуют.
Собаки улыбаются, покупатели улыбаются, продавцы улыбаются, младенцы улыбаются в колясках. Сияет солнце.
Счастливые улыбки местных жителей принято считать фальшивыми или прямо-таки дебильными. Это не совсем так. Вообще-то люди тут улыбаются, чтобы поддержать друг друга, проявить вежливость и доброжелательность к встречному или просто потому, что жизнь, несмотря ни на что, хороша. Особенно на рынке.
Посмотрите, например, на редиску. Она разложена по цвету: от белой к светло-розовой, к ярко-красной, к густо-фиолетовой, как свежевыдавленные краски на палитре. Баклажаны и формой, и размером напоминают гиппопотамов. Маленькие, бородавчатые, колючие огурчики тут продают, молодой чеснок-рокамболь, синюю картошку, лиловые помидоры — восстановленные высокообразованными фермерами реликтовые сорта ацтекской эпохи.
Что касается течения времени и непостоянства всего сущего и того, что нельзя вступить дважды в ту же реку, — это не относится к торговле пищевыми продуктами в этом городе, где время стоит на месте, замершее на том самом моменте, в который эмигранты покинули страну первоначального пребывания.
В некоторых местах эмигранты уж совсем барочные, маньеристские. Не просто евреи, а ливанские; не просто корейцы, а узбекские. Аргентинка, родившаяся в Риге, продает в кошерной пекарне песочное печенье совершенно мусульманского вкуса. В гастрономе бухарцы молятся — даже не бормочут, а вовсю поют. С ремешками, с коробочками на лбу, и тут же сгущенка в банках 50-х годов, кильки, гречка, маслята, «Мишки на севере». А что это у вас в мешках? Сушеные лимоны. Они их кладут в плов. Кто — они? Ну иранцы же.
А в мексиканской лавке висит плакат: «Оборудование для оживления находится за прилавком». И нарисованы на плакате подавившийся и спасающий. А рядом картинка: ацтекские боги, ведущие куда-то мертвого, — очень похоже по стилю. Также Матка Боска Гваделупска в рамочке с розами. И тут же делают фальшивые иммиграционные документы по дешевке.
Как любить этот город, которого не жалко? Как жить в языке без уменьшительных суффиксов?
Можно поехать якобы за копчушкой и гречкой, а на самом деле — за уменьшительными суффиксами, в те места, где густопсовая жизнь течет вне времени и пространства, переливается, как речка по песочку, из пустого в порожнее.
— Ленусь, солнышко, с чем пирожочки?
— С капусткой и с яблочком. Ну что, Танюсечка, как жизнь молодая?
— Ох, Ленок. Мой-то хрен моржовый опять без работы… Кинь мне еще с вишенкой и с грибочками.
И уходишь, объевшись сладкими пирожками и сладостными суффиксами.
Говорят часто: «в моей стране». Это про страну, откуда выбыли, и обычно про еду.
— В моей стране мы пекли картошку в углях… Выкапываешь молодую картошечку, разводишь костерик…
— Конечно! — умиляется собеседник. Он из Мексики, где картошку изобрели. — А зеленые бананы вы так не пекли! Никогда не пробовали? Вкусно!
— Тут нет смородины. Без смородинового листа нельзя огурчики засолить — не тот аромат…
— А папайя, а разве же тут авокадо? Разве же тут манго? В моей стране манго, его рвешь с дерева и ешь, и сок течет… Дети мои не понимают — американцы.
— И мой не понимает…
Зато мы прекрасно понимаем: и в его стране, и в моей стране на улицах в людей стреляют, полиция берет взятки, а мэры на бандитов работают. Мы оба рады, что дети не знают ни про смородиновый лист, ни про манго. И ни за какие печеные бананы мы их туда не отпустим…
В городском летнем лагере — родительский день. Родители стоят за загородкой и зовут на всех языках мира:
— Мерседес! Линь-Линь! Агнешка, Тадеуш! Светик! Йоселе, Ривка! Нассим! Ахмед! Радж! Мария-Тереза!
Бассейн весь плещется и кишит разноцветными детьми, и несется оттуда хором, на одном на наглом английском языке:
— Оставь меня в покое! Отвали! Потом!
И тогда родители поворачиваются друг к другу и начинают жаловаться:
— Ах, какие они грубые! Настоящие американцы! Ах, в моей стране, у нас в Тимбукту, в Тиране, в Ташкенте, в Тайпее, в Тмутаракани — да нас бы за такое родители бы убили!
Многие из них бежали, спасаясь от настоящего голода, от смерти. Люди пробирались сюда ночью через пустыню, на плотах через Рио Гранде, из Кубы — на автомобильных шинах. Вьетнамцы в лодках, африканцы из лагерей беженцев. Представляете, как неуютно в таком лагере ребенка растить? Ребенку уют нужен.
И вот они добрались сюда, до этого города, и смотрят теперь с гордостью, как в городском бассейне варится и кипит порожденная ими грубая, непослушная, наглая, самоуверенная американская нация.
Наши китайские, корейские, вьетнамские дети перерастают своих родителей на две головы, а ведь еще вчера, казалось бы, на их младенческих макушках дыбом вставал легкий пух иссиня-черных волос — нет ничего прелестнее макушек азиатских младенцев.
Наши еврейские дети играют в бейсбол во дворе ешивы, умудряясь сбалансировать все свое оборудование: и биту, и ермолку, и развевающуюся из-под пиджака бахрому талеса, и кожаную бейсбольную перчатку. И даже фетровую шляпу некоторым удается на голове удержать — такие они носят шляпы, как, бывало, носили члены Политбюро. А орут ешиботники еще громче наших испанских детей.
Вот они выходят из ворот католической школы, наши испанские дети, латиноамериканские наши девочки.
Идет такая чикита… Квинсенеру и конфирмацию еще не отпраздновала, а никакого амстердамского инструктажа ей не нужно.
На ней чулки-гольфы до колен, смуглые бедра едва прикрыты форменной клетчатой юбочкой, обтягивающий свитер с эмблемой монастыря Пресвятой Матери Кабрини, первой американской святой, покровительницы иммигрантов… В ушах золотые обручи, во рту жвачка…
Вау, чикита! Умри, Гумберт Гумберт… Именно что умри и даже не помышляй, потому что братаны-кореши уже поджидают нашу чикиту у ворот. Братаны в спадающих штанах гармошкой, в рубахах ниже колен, с татуировкой до зубов, а на зубах — золотые накладные фиксы, целая челюсть самоварного золота, как радиатор «роллс-ройса». Может, бандиты, а может, и тихие мальчики, с мамами каждое воскресенье к мессе ходят. Ну, приоделись по моде — красиво жить не запретишь.
Наши индийские дети целуются при всех в вагоне поезда, сидя друг у дружки на коленях, и шумят, и слушают модный теперь индийский рэп, и не собираются следовать заветам родителей, вступать в брак по сговору и решению старших.
Наши черные дети с наушниками на ушах отключены от всего мира. И не будьте так уверены, что рэп слушают. Может, партитуру Баха разучивают или роль в пьесе Беккета.
А если и рэп? Что есть Гомер, как не чистый рэп? С похвальбой: как наша банда ихнюю ухайдокала, и всех баб уделали, а у нашего пахана шмотки фирменые, а колесница-то у него обалденная, а золота-то у него сколько.
Цепи золотые так и остались, перешли из Гомера в рэп без всякого изменения, а также любовное описание оружия, сделанного и украшенного на заказ.
То, что европейцы называют местной бездуховностью, — вовсе не бездуховность. Уж точно не отсутствие религиозности. Просто между высоким и низким, массовым и элитарным тут не замечают и не признают никакой разницы. Между прошлым и настоящим нет почтительного музейного стекла.
Древние греки и римляне с трудом бы поняли белых людей, чья культура вроде бы от них произошла. А город Нью-Йорк с его разноцветным населением поняли бы отлично.
Вот они смотрят, древние греки — Сократ, Аристотель и Софоклы всякие, тут же и Шекспир примешался — смотрят они с фронтона Бруклинского музея на вакханалии и сатурналии Вест-индского парада.
Много в этом городе парадов, каждая нация и деноминация любит помаршировать. Но Вест-индский парад особенный. Вне конкуренции.
Костюмы такой величины, что шлейфы едут за ними на колесиках. Они танцуют… Ну, это не совсем танцы… Это скорее про штык Наполеона и пещеру Соломона. От музыки кости вибрируют, как от поезда, летящего из туннеля.
И идет этот парад не час и не два. Он начинается — нелегально — еще с предыдущей ночи и продолжается, уже под присмотром полиции, весь день до самых сумерек…
— Поймите, — перекрикивает грохот барабанов тринидадская медсестра, — вы поймите, мы же унаследовали от Британской империи эту сдержанность, мы стараемся не выражать своих эмоций, все держать внутри, важен фасад, важны манеры… Но раз в год! — у нас! — карнавал! Карнавал — наша тринидадская психотерапия!
А сын ее не пришел. Пока маленький был — заставляла, а теперь не хочет.
Мальчик не хочет смотреть на женщин, одетых только в блестки и стеклярус, виртуозно вращающих задами? На непристойные ужимки вакханок и менад, бешено трясущих колоколами китайскими? Это же, казалось бы, не Тургенева читать — от чего наши русские дети, понятное дело, отказываются.
Но нет, и это — родительское, традиционное, принудительное, вчерашний день…
Дети забудут все сразу, но и родители забудут постепенно. Будут помнить в виде неправдоподобных, заученных легенд, как чужие сны. Забудут суеверия и предрассудки, войны, резню и погромы, обычаи и запреты, патриотизм всех видов, амбиции и претензии. Забудут названия улиц в забытых родных городах. Все это вытеснится именем хозяина магазинчика на углу, актрисы в телевизионной передаче, номерами телефонов в смененных квартирах, перевранными и искаженными словами нового языка…
Город — шут гороховый, но он шекспировский шут, тот, который при короле Лире. Он дурака валяет, дразнится и слезам не верит. Но он ведет за руку ослепших от обилия новизны, онемевших без языка, раздавших и потерявших наследство, не дает их обидеть.
У нас в городе вообще-то не так легко кого-нибудь обидеть.
Один ястреб, живший высоко в вершинах домов на Пятой авеню, подвергся дискриминации. Этот ястреб, по кличке Бледный Самец, построил гнездо между кариатидами и, имея такой престижный адрес, брал каждый год новую жену.
Жители роскошного дома взъелись на ястреба, хотя некоторые из них и сами брали каждый год по новой жене. Квартиры там несказанно дорогие, а Бледный Самец не платил ни копейки и оставлял на зеркальных стеклах эркеров подтеки помета с прилипшим пухом.
Утром жильцы уезжали в лимузинах на биржу, а Бледный Самец улетал в Центральный Парк. Когда они, заработав миллион, возвращались обедать, он гордо парил перед их окнами с жирной крысой в клюве.
Обслуживающему персоналу приказали разорить гнездо. Это и было сделано, как раз когда очередная жена должна была вот-вот снести яйца.
Что тут началось! Какой сыр-бор загорелся!
Город встал горой на защиту ястреба. Квартирный вопрос у нас очень острый, и все население с доходом менее десяти миллионов в год было на стороне Бледного Самца. Пикеты и демонстрации начались в тот же день. Весной, в хорошую погоду, всякому приятно попротестовать. Тем более в одном из лучших мест Нью-Йорка, а значит, и планеты, а если нет на других планетах жизни — то и всей Галактики.
С другой стороны: теперь принято чрезмерно уважать и оберегать природу и недостаточно уважать цивилизацию. А цивилизация тоже хрупкая. Зачем было на кариатиды гадить?
Нет, у нас не так просто кого-нибудь обидеть. Можно. Но непросто.
Взять хоть ту бабушку. Дональд Трамп однажды захотел снести старые дома и построить небоскреб. Это часто бывает: богатые люди разрушают какой-нибудь кусок города с тем только результатом для обычных уличных людей, что небо там, наверху, отражается в новых плоскостях стекла, под новыми, еще невиданными углами; а внизу возникает новый ритм — для пешехода летом очень важный — безжалостной жары и временно милосердной тени.
Так вот, Трамп захотел построить небоскреб, все жильцы съехали, а бабушка не съехала. Отказалась. И пришлось Трампу строить вокруг бабушки. Она уже давно умерла, а небоскреб так и стоит с вмонтированной в него маленькой халупкой.
Вот и администрации здания на Пятой Авеню пришлось построить Бледному Самцу новое гнездо, со специально спроектированным поддоном для сбора помета. Жена снесла яйца. За первым самостоятельным полетом благополучно вылупившихся птенцов следили сотни жителей города, вооруженные биноклями и телескопами.
Заодно они надеялись подметить какие-нибудь интересные детали из жизни людей с доходом более десяти миллионов в год.
Там, наверху, где витает Бледный Самец с крысой в клюве, там шпили, и купола, и гигантские деревянные цистерны для воды. Их множество. Эти дощатые бочки на железных ногах, с коническими крышами похожи на спустившийся с неба десант инопланетян. Как будто не хватало нам всех других — еще и марсиане эмигрировали.
Строят эти бочки в течение многих уже поколений, с начала девятнадцатого века, два семейства мастеров. Редкая удача — увидеть их там, наверху. Они сидят на краю цистерны, на высоте двадцати-тридцати этажей, болтая ногами. Там, говорят они, не слышно шума городского, и суеты нет, и приятно поглядеть вверх на небо и вниз на человечество.
Трудно представить себе более высокую аристократию, чем эти поднебесные бондари…
Разве что — еще выше, на самом верху, видите, видите?
Тучи несутся между небоскребами стремительно быстро, как в ускоренной съемке.
И гигантская обезьяна Кинг Конг с зажатой в кулаке блондинкой взлетает, как акробат, карабкается по фасаду.
И летят над городом геральдические его символы, святые его комиксов, всесильные его покровители: Паук, Летучая Мышь, Супермен.
Всех суперменов и героев комиксов, гротескные святцы города Готэм, знаете, кто их выдумал? Их выдумали в сороковых-пятидесятых годах тихие интеллигентные мальчики из Бруклина и Бронкса, очкарики, чьи семьи бежали из Европы. Их звали Шустер, Сегал, Фингер.
Хорошо живется городу, который не обижает своих евреев.
Раз в год, осенью, в сентябре, поднимаются в небо два столба света, два световых призрака. И удивительно, и страшно видеть тогда, как по ночному небу приближается к светящимся колоннам самолет и пронзает одну, и потом другую, пролетает сквозь неуязвимые призрачные башни… И самолет летит дальше по темному небу, обычный рейсовый самолет, в свой Денвер или Лондон.
Нет, никого у нас особенно не обижают.
Перед райсоветом — мэрией — Бруклина установлен плакат, поздравляющий граждан с праздником Рамадана. Повсюду реклама арабской торговли недвижимостью. Район густо-арабский, тут должна быть очень хорошая еда. Но — Рамадан, а до заката еще далеко, поесть не удастся.
Благородного вида белые старички-добровольцы раздают листовки. Такие старички традиционные, англо-саксонские, сухощавые, что теперь уже и экзотические. Со Среднего Запада они, что ли, приехали? Нет, местные они: члены расистского общества Джона Берча. Листовки у них о вреде иммиграции. Ничего, пусть и старички порадуются напоследок.
Огромное не бывает обаятельным и не вызывает умиления. Как любить город, который к тебе равнодушен?
Нью-Йорк обаятелен почти с первого взгляда и, когда узнаешь его хорошо — умилителен. Его любишь, как домашнее животное, как большую собаку.
Глупо, конечно, испытывать к Бруклинскому мосту чувства, которые обычно испытываешь по отношению к любимым домашним животным.
Но, видимо, каждому человеку выдается на жизнь как оборотный капитал, как фишки в игорном доме, некоторый запас, некоторое количество любви. И этот запас надо обязательно весь целиком растратить. Если не рискнуть, не поставить на кон, хорошего ожидать не приходится. Оттого и кошки у старой амстердамской блудницы, а у моей Дашеньки — водочка, а у меня — дурацкая моя любовь к городу, от которого доброго слова не дождешься.
Что я — весталка какая при храме? Что ли меня с Бруклинским мостом обвенчали?
Вот в грязном окне плакат рукописный, исписан тесно и убористо, от края до края, так шизофреники пишут. Еще и в пленку завернут, какую в химчистках дают. Это и есть химчистка, прачечная. В окне для красоты были когда-то поставлены старинные угольные утюги, портновские манекены, все это не сдвигалось полвека и покрыто древней пылью.
И наверняка написано на этом плакатике, что лавочка закрывается, потому что хозяин уходит наконец-то на пенсию или потому что ренту повысили…
Нет. Вот что на плакатике написано:
Это не окончательная жизнь.
Это репетиция. Это не премьера, а только репетиция. Если бы это была премьера, то вы бы уже знали, что надо говорить и что делать.
Это — репетиция.
Это учебная тревога. Это не настоящая катастрофа. Если бы это была настоящая катастрофа, вам бы заранее объяснили, куда эвакуироваться и что брать с собой.
Это — учебная тревога.
Это контрольная работа. Это не экзамен. Если бы это был выпускной экзамен, вы бы уже знали весь материал и выучили правила.
Это — контрольная работа.
Это не окончательная жизнь…
— Ладно, — говорю я, — ладно. Хватит, хватит. Я все поняла, спасибо. Конечно, ты врешь, как сивый мерин, и все это ерунда. Но дорог не подарок, дорого внимание. Спасибо на добром слове, город.
Ближние
Как всегда, засиделись допоздна как раз не самые интересные люди, а те, кого он даже и приглашать не очень хотел. Две одинокие женщины, все не решавшиеся встать и уйти и тем самым признать, что вечер опять прошел безрезультатно. И давний, вернее, уже бывший приятель, постепенно в одиночестве спивавшийся.
Все трое пытались вести себя весело и развязно, особенно чересчур наряженные и напряженные женщины: они знали, что уходить надо и как можно скорее, иначе каждая лишняя минута будет завтра вспоминаться, прибавлять унизительности. Дам пригласили в последнюю минуту, и одна, старая дева, даже почти собралась отказаться и затаить горькую обиду.
Алкоголик позвонил и напросился сам, но он об этом не помнил. Ему уже через полчаса начало казаться, что его долго и настойчиво звали, что старый друг — отличный парень, восходящая звезда науки, что это новоселье станет переломным моментом в их жизни, что теперь он будет часто приходить в этот отличный, уютный семейный дом — и жена-то у друга красавица, умница, отличная девка, — что здесь, в этом просторном доме, окруженном деревьями, они снова начнут вести увлекательные ночные беседы, как когда-то на тесной кухне, и выпивать — но понемногу. Или даже помногу, но весело, весело, как когда-то…
Алкоголик пытался налить себе на дорожку, а хозяин, перестав даже притворяться хорошим хозяином — шел второй час ночи, — довольно грубо вырывал из цепких рук гостя последнюю оставшуюся бутылку и повторял: «Хватит тебе!».
Он уже унес все блюда и рюмки на кухню, уже вода шумно лилась на грязные тарелки, а гости всё не вставали из-за пустого стола, звали присоединиться, посидеть напоследок. Чего они от него-то ждут? Нашли спасителя.
Отдать последнюю рубашку всякий дурак может — вот алкаш всегда был на это любитель. А ты попробуй дать людям то, чего и у тебя самого нет: душевное спокойствие, равновесие, понимание. Попробуй это дать ближнему. Это тебе не последняя рубашка, тут шкуру с себя сдерешь.
Чем можно помочь? Вот алкаш — ведь была же в человеке когда-то и вправду искра, возможно, что и гения, и интуиция поразительная. Когда-то разговаривали они часами. Треп их по тем временам был опасен, что придавало трепу характер активного действия, почти что политической акции. Он потерял к этим разговорам интерес, как только пропал элемент опасности. Как человек, занимающийся точной наукой, он уважал интуицию, знал по опыту ее ценность и редкость; однако у алкаша на моменте интуиции все и кончалось. Он жил внутри момента, внутри одного бесконечно повторяющегося дня.
А теперь тонет человек, погибает в каком-то неуправляемом потоке энтропии, а попробуй его вытащи — он и себя потопит, и благодетеля.
Вот христиане новообращенные разлетаются к тебе со своей любовью, думал он, в первый момент и в самом деле как дурак веришь, что ты им так понравился. Но достаточно скоро оказывается, что они на тебе практикуются, что ты не более как ближний, которого надо на скорую руку полюбить, как самого себя. Только ведь это не чувство, а идеология, а идеологию, отвлекшись, забыть можно. Чувство-то, любовь, — оно потребность, его не забудешь. Оно мучает, как голод или жажда.
Эти раздраженные размышления относились более всего к его жене, женщине молодой, талантливой и увлекающейся; и увлекшейся года два назад, ни к селу ни к городу, религией, отчего начались у них гораздо более серьезные раздоры, чем когда-либо раньше. Он не мог удержаться и слишком много иронизировал над ее новообретенным и чисто умозрительным благочестием, которое никак не выражалось в снисходительности к ближним, к непосредственно и реально ближним — вроде него самого.
Более того, думал он, эти новоиспеченные христиане так уверены в своем человеколюбии, что любую свинью могут тебе подложить, какую и обычный воспитанный человек не подложит. Потому что обычный воспитанный человек знает, что не любит ближнего и судит его, как последняя собака, для того и правила приличия придуманы, чтоб ненароком кого-нибудь не обидеть по природному отсутствию человеколюбия.
Жена ушла наверх спать уже час назад, без всяких объяснений, что было на нее не похоже; и, оттого что она оставила его разбираться с завалами посуды и объедков, уж не считая этих троих выпавших в осадок недотеп, ему показалось в который уже раз, что покупка дома была совершенно не ко времени. Дело это было практическое, серьезное, нудное и связывало их вместе по рукам и ногам, в то время как все непрактические, веселые и несерьезные связи между ними на глазах расползались, и не очень-то было ясно, что именно, кроме всех подписанных форм, контрактов и счетов, кроме этого чужого, все еще сильно пахнущего прежними владельцами дома, — что же еще у них оставалось общего?
Ему начинало казаться, что одна из женщин, не та, что старая дева, а которая разведенная, вот-вот заплачет. Почему же они на пьяницу-то никак не реагируют, что ли, он и за мужчину у них теперь не считается? Потому что пьяница? Или потому, что не хотят они иметь дело с хорошо им знакомым отчаянием и одиночеством? Спасибо, мол, этого добра у нас и своего хватает; не для того мы сюда пришли, чтоб общаться с себе подобными.
Бывший друг, пьяница, пришел, чтобы выпить на людях. Выпивка в компании менее похожа на алкоголизм, скорее похожа на дружбу, человеческое общение, а не на химическую зависимость, не на полную отверженность.
Он был далеко не таким дураком, каким казался. Он прекрасно понимал, что алкоголизм определяется не тем, как много ты пьешь и как ведешь себя в пьяном виде. Вот хозяин дома: восходящая звезда, талант, уже знаменитой лабораторией заведует. Но ведь это теперь он такой сдержанный, благополучный, домовладелец, ни два ни полтора, серединка наполовинку — цивилизовался. Алкаш-то его помнил в прежние времена во всяких видах. Они тогда закладывали на равных.
Загвоздка была в том, как ты себя ведешь и чувствуешь на трезвую-то голову. И, сколько бы ему ни хотелось считать себя человеком просто поддающим, выпивохой, любителем заложить, экспериментальным путем доказывалось, что он — алкоголик. Два дня трезвости приводили его в состояние растерянного ужаса и распада. Следовало признать, что на трезвую голову он уже существовать просто не мог. На трезвую голову он ненавидел ближних, мироздание, себя; особенно себя.
Ему теперь казалось, что там, в прежней жизни, он вечно всем оказывал услуги, что на него всегда всех собак вешали, а он готов был отдать последнюю, то есть единственную рубашку. Он и теперь был готов, но здесь все как-то обходились без его рубашки, и ни он, ни его услуги никому не были нужны. Ему намекали, что лучше бы он из уважения к ближним свою несвежую рубашку почаще менял или, по крайней мере, заправлял как следует в штаны. Его дурачком считали; это он знал и не обижался. Он знал, почему это происходило: говорил он плохо, сбивчиво и все о странном, сложном и непонятном. А слушать его не слушали, прислушиваться к нему внимательно как-то было не принято. Все были слишком заняты. Люди теперь собирались редко и, собравшись, хотели отдыхать, а не вдумываться. Они не хотели, чтобы им говорили неожиданные вещи.
Вообще-то его идеи надо было записывать, они не подходили для легкого компанейского трепа, их надо было излагать в письменном виде, доводить до ума, редактировать, со сносками, с аргументами. И он знал, что это — неподъемный труд. Пока этот труд был впереди, ему было совершенно все равно, считают ли его шутом гороховым. Но надо было начать, и он каждый день собирался начать. Раньше он думал, что как сюда приедет, где свобода слова и все такое, так сразу и начнет. Но сразу было некогда, а теперь непонятно: чем один день отличается от другого, почему именно с сегодняшнего обычного дня должна начаться новая эпоха? Сегодня надо было выпить, выпить напоследок — потому что завтрашний день будет уже совершенно другой. А сегодня можно себя не ограничивать, уж в последний раз, перед началом большой работы…
Они с женой опять совершили ошибку, которую он зарекался повторять — пригласили разноязычную толпу: людей из прежней жизни и теперешних коллег, сослуживцев, аспирантов из лаборатории. Дело было не в том, что он считал старых друзей и знакомых сиволапыми провинциалами, которые могли его дискредитировать. Да, разведенная дама вцепилась в рукав его непосредственного начальника и заныла свое: «Мне необходимо с кем-нибудь поделиться… Я нахожусь в состоянии глубокой депрессии…». И конечно, алкаш ко всем приставал, пытаясь излагать заумные теории на чужом языке, хотя он и на своем-то никогда не мог двух слов связать.
Но хозяин дома уже знал по опыту, что сослуживцы будут чрезвычайно этим вечером довольны, что любая нелепость и несдержанность вызовет только живой интерес, теплое сочувствие к экзотическим чудакам, представителям этнического меньшинства — и ему неприятно было именно это оживленное любопытство посетителей в зоопарке; не хотелось видеть своих друзей экспонатами, особями, носителями славянского духа. Не хотелось слышать хорошо знакомые вопросы и достаточно банальные рассказы об историческом прошлом. Ему казалось, что многие уже здорово подзабыли, как именно и чем их обижала советская власть, но каждый считал себя специалистом по историческому прошлому, и только потому, что он в те времена и в тех местах жил. A ведь большинство людей ни уха ни рыла в своем прошлом не понимают.
В понедельник сослуживцы будут подходить, благодарить за удивительно интересный вечер, пересказывать услышанные от его знакомых истории: «Ах, какая тяжелая была у вас жизнь! Какие у вас были сильные люди! Я бы такого не перенес!».
Перенес бы, как миленький, думал он злобно. Ощущение, что другим не так больно, как мне бывает, чего я бы не перенес, а другие иначе устроены, они прекрасно обходятся без канализации и личной свободы, им не надо того, что мне совершенно необходимо, — это ощущение было ему ненавистно. Он хорошо знал физиологию человека, хотя это и не относилось к его непосредственной специальности. Болевой порог — и физический, и душевный — действительно у всех разный. Только это никак не зависит от того, в каком месте и в какую историческую эпоху тебе повезло или не повезло родиться. Просто людям хочется думать, что ближнему не так уж и больно, — это помогает поддерживать стерильность совести.
Многие из его старых знакомых вполне способны были пройтись по поводу чучмеков и низших рас. Они не признавались даже себе, что здесь и они сами превратились в своего рода чучмеков. Он, глава лаборатории, с монографиями, грантами и международной известностью, мог себе позволить роскошь осознавать это. Да — он все равно остался и будет оставаться до некоторой степени чучмеком. Конечно, никакой дискриминации и насмешек ни в коем случае не было. Напротив, повышенная внимательность, предупредительность, заботливость — как при общении с глухонемым или страдающим аутизмом.
Разведенной даме удалось в течение вечера несколько раз поделиться историей своего развода, но удовлетворения она не получила. Некоторые из гостей эту трагедию уже знали — развод произошел не то чтоб недавно, лет пять назад. Но и те, которые слышали о ее несчастьях в первый раз, не реагировали так, как ей бы хотелось: они равнодушно сожалели или, хуже того, утешали тем, что ничего удивительного в ее жизни нет, и не такое случается, бывает намного хуже.
Но ведь для того она и рассказывала, чтобы удивить. Людям хочется считать неудачи, которые на них незаслуженно обрушила судьба, чем-то уникальным… Людям хочется не утешений, а изумления.
Алкаш был ей малосимпатичен, но теперь уж совсем некому было рассказывать.
— Мне необходимо с кем-нибудь поделиться, — начала она, положив руку на его рукав.
Он осторожно взял у разведенной дамы пустой бокал, опрокинул в рот и потряс немножко в тщетной надежде.
— Я нахожусь, — продолжала она упорно, — в состоянии глубокой депрессии…
Почему люди не понимают, что нельзя кидаться на ближнего с перечислением своих нужд и проблем, мрачно думал хозяин, увязывая помойные мешки. Почему слово «поделиться» чаще всего означает жалобы и нытье, особенно у женского пола? Почему дрянью всякой они жаждут поделиться, нет чтоб чем-нибудь полезным…
Разговоры жены с единоверцами поражали обилием специальной терминологии — ничего на свете человек так не любит, как употребить только что выученный термин — и этим тоном междусобойчика, тоном людей своих, причастных, принадлежащих к избранному кругу. Честное слово, несколько лет назад жена с точно таким же заговорщицким видом обсуждала с подружками комиссионные магазины: где что можно достать, где есть знакомый продавец. Эти праведники вели себя так, будто у них был блат в раю.
А кто знает? Он достаточно прошел за свою жизнь конкурсов, комиссий и собеседований, чтоб его не удивило существование блата и на Страшном суде. Вполне возможно, что и там свои знакомства, свой жаргон, свой междусобойчик, что и там надо знать, как подступиться: не подмажешь — не поедешь.
Конечно, это нехорошо — вечность все-таки, не аспирантура, даже не армия, даже не двадцать пять лет без права переписки…
Но вполне возможно, что вечное блаженство достанется какой-нибудь Матрене, всю жизнь прикладывавшейся к образам и ставившей свечки, и шея набок, и на голове платочек — как у жены теперь… Или Двойре, ни разу не смешавшей ни одной молекулы молочного ни с одной молекулой мясного, и в парике, чтоб поуродливее. Или Абдулле, который особенно усердно исхлестал себя плетками на Шахсей-вахсей и ходил на хадж; даром что дюжину ближних во время хаджа насмерть в толкучке затоптал…
А почему бы и нет, ведь миллионы людей именно этому и верят? И достанется вечное блаженство вовсе не тем, кто своей головой думал-мучился, как Марк Аврелий или Монтень какой-нибудь, как Ван Гог или тот же Сахаров. Или тетушка покойная, вырастившая его после ареста родителей, ведь тоже была безбожница и богохульница — никакого она блаженства не получит…
Старая дева ходила за хозяином, принужденно смеялась, мешала убирать.
Она не боялась одинокого возвращения в свою квартирку, такую уютную и даже почти выплаченную. Но она приехала на машине. Теперь она была трезвая, раздраженная, переевшая — особенно торта — и боялась, что придется развозить по домам этих унылых неудачников. Она боялась пьяных и боялась, что алкоголик начнет к ней приставать.
Роман — настоящий, со спаньем — был у старой девы только однажды, давно, и сдалась она в тот раз на пошлые домогательства только в надежде на замужество, рассматривая свою девичью честь как аванс, вроде вклада, внесенного за квартиру. Ничего из этого не вышло, и она с тех пор никому авансов не давала и боялась попадать в двусмысленные ситуации, чтобы не пришлось отбиваться от приставаний.
При этом она изо всех сил хотела выйти замуж и уезжала с тайной надеждой выйти за иностранца. Этого предполагаемого иностранца она намеревалась привлечь прежде всего начитанностью и теплом своей души.
Когда она думала о замужестве, представлялось ей не семейное благополучие, даже не белое платье с фатой и уж конечно не исполнение брачного долга, а международные звонки. Как она будет звонить своим бывшим подругам и однокурсницам, а они будут звонить в разные страны, ведь все кто куда разъехались. И все будут говорить о ней, о том, что она вышла замуж, кто бы мог ожидать, и не за эмигранта какого-нибудь, а за коренного местного жителя, за иностранца, кто бы мог подумать!..
Пришлось везти маму, которая была для нее обузой в новой жизни. Больше всего она боялась, что придется еще долгие годы тащить на себе безнадежно провинциальную маму, тратить на нее душевные силы, упускать возможности.
Но катастрофа, издевка судьбы заключалась в том, что вышла замуж не она, а мама. Притом именно за иностранца: жизнерадостного вдовца с множеством крикливых внуков. Мама жила теперь в так называемом счастливом и — об этом неприятно было даже догадываться — явно не платоническом браке. Так она и свалится с инфарктом в один прекрасный день среди этих визгливых Джейсончиков и Дженниферочек, среди огрызков пиццы, крика, топота, беготни, телевизионного рева и писка электроники — неужели мама не боится, что из нее домработницу сделали?
Сводные родственнички звали ее на все семейные обеды, пиршества и празднества — непонятно, когда эти люди работали, — но при этом не заботились о ней по-настоящему, ни с кем не знакомили, считая, видимо, ее одиночество то ли свободным выбором, то ли ситуацией, совершенно безнадежной и окончательной. Да разве вообще кто-нибудь о ком-нибудь думает, разве кто-нибудь входит в твое положение?
Поэтому она и приехала на новоселье к полузнакомым людям. Замечательный подарок, между прочим, купила. Тратишь кучу денег, чтобы показать свой вкус, а люди даже не понимают разницы.
Она долго решала — ехать на машине или так. Предположим, она встречает кого-нибудь и в конце вечера предлагает его подвезти. Это очень хороший вариант: ты делаешь мужчине одолжение и тем самым сразу показываешь, что тебе никто не нужен. Кроме того, если женщина за рулем, то мужчина не станет распускать руки — тоже ведь разбиться не захочет. Но если она встречает кого-нибудь, а он на своей машине? Так они и разъедутся в разные стороны? Может, лучше без машины? Да, но если тебя подвозят, то ты вроде чем-то обязана и можешь попасть в двусмысленную ситуацию.
В последний раз она попадала в двусмысленную ситуацию на рождественской вечеринке, около полутора лет назад.
Она боялась, что придется везти алкоголика. Но она боялась ехать и с разведенной дамой, выслушивать неуместные откровения, тратить эмоции на какую-то жалкую одинокую женщину.
— Только такая абсолютная мазохистка, как я, могла столько лет… — жужжала дама.
— Слушай! — совсем уж было задремавший алкаш вдруг открыл глаза и радостно встрепенулся, как будто в голову ему пришла абсолютно новая и блистательная мысль. — А ты вот чего… Ты того… Ты попробуй… кому-нибудь посочувствуй. Вот что я тебе скажу! Ты подумай про кого-нибудь другого, а? Тогда про себя будешь меньше думать. А вспоминать — чего? Чего ты все вспоминаешь? Времени не останется. Вот я тебе скажу — чего ты морочишь людям голову? Пожалеть — не пожалеют, а уважать перестанут…
При этом он ласково улыбался и все пытался приподняться и то ли погладить ее по головке, то ли поцеловать в щечку, хотя они были на вы и мало знакомы.
Она быстро отошла, не дожаловавшись, и села в углу. Она была потрясена до глубины души.
Жена употребляла свою религию как антисептик. У них на работе, в связи с эпидемией гриппа, стояли повсюду бутылочки с антисептиком: нажимаешь рычажок, подставляешь ладонь, протираешь руки, избегая заразы и болезни. Вроде как причастие или исповедь. Как произнесение благословений и молитв — сделал и готов. Все новообращенные праведники, а теперь и жена, использовали религию именно так, как антисептическое желе. Использовали как броню — не броню, как у танка, или как латы, а как предохранение от призыва в действующую армию, от опасности, от боли, от гибели. Религию они употребляли, чтоб не мучиться, не решать каждый свой шаг в индивидуальном порядке. Отдыхать душой: есть ритуальные блины, куличи, мацу, опресноки; креститься справа налево, слева направо, целовать мезузу, перебирать четки, не мешать мясного с молочным, кланяться в сторону Мекки три раза на дню, блюсти посты…
Ну а что лучше? Лучше, как у него — интроспекция, сомнение ежеминутное, чувство вины, в котором плаваешь в состоянии вечной подвешенности, но, увы, не невесомости?
Конечно, были люди, которые о таких вещах и не задумывались никогда, считали, что жизнь состоит из обстоятельств и необходимостей, что в большинстве случаев нет выбора. Но он-то считал, что выбор человеку всегда предлагается — пусть даже между веревкой и удавкой. И так получалось по его раскладу, что виноватых нет, кроме тебя самого. И что ты должен нести это свое проклятие — свободу воли — до победного конца. Скептицизм предполагает способность думать своей головой; эта способность не у всех есть, зачем же от нее отказываться? Это же грех — отказываться от того, что тебе дано. Нет уж, каждый должен делать свое. Кто может, тот пусть решает и думает за себя самого, кто не может — пусть повторяет акафисты, брохи и мантры и кланяется Мекке.
Но ведь у жены-то мозги были замечательные… Он, человек внешне общительный, но внутренне нелюдимый, только с ней и мог раньше говорить на равных. Жена предала его и оставила в полном одиночестве.
Особенно его удивляло, что она могла вежливо выслушивать рассуждения своих единоверцев о безбожии науки и о превосходстве над нею религии на уровне известного советского журнала. Чистая «Наука и религия», думал он, с теми же доводами, только направленными наоборот. Неспособность понять простое разделение между областями человеческого познания вызывала у него брезгливость, как умственная неопрятность, как ненавистная ему душевная лень. Не так уж трудно понять, что наука занимается только вопросом: как и что, а в вопрос: зачем и почему? — совершенно не лезет и лезть не должна.
А ведь профессия у них была одна; правда, для жены наука была только профессией, а для него — естественным способом существования…
Ну и кому какое дело до философских взглядов жены! Если б не было еще и отчуждения, ухода в себя… Особенно в последние недели, после переезда в новый дом, она была все время отключена. Как можно считать религией это полное равнодушие ко всему, которое она демонстрировала в последнее время, эгоистическую сосредоточенность на себе? Даже выражение ее лица казалось ему фальшивым, ханжеским и притворным. Что это за отрешенность, самоуглубленность, — вполне была раньше нормальная, довольно злоязычная женщина… И особой любви к ближним за ней не замечалось. Ему казалось, что и подурнела она за последние недели, обабилась — нарочно. Из религиозных соображений.
Пока они вчера и сегодня готовились к новоселью, жена все на него поглядывала, явно хотела завести разговор, а он все уклонялся. Ничего нового она сообщить не могла, ничего хорошего от этого разговора он не ожидал. Не надо объяснений и трагедий. Вот развод начнется — достаточно будет трагедий финансовых и объяснений с налоговой инспекцией и адвокатами.
Ему иногда казалось, что ее религиозность была какой-то карикатурной, утрированной формой ностальгии. Иначе — что у нее могло быть общего с людьми, которые считают, что Бог болеет именно за их футбольную команду?
Сам он категорически отказывался философствовать по поводу эмиграции и обычно говорил, что может подсчитать причины своего отъезда арифметическим путем, без метафизики: люди его квалификации оплачиваются здесь во много раз выше, чем там. Кроме того, его наука зависела от качества лабораторного оборудования; ему надоело изобретать велосипед и строить приборы своими руками.
Он говорил: я не считаю себя ни борцом за свободу, ни искателем правды, я уехал как неудовлетворенный потребитель. Но оказалось, что и к потребительству надо иметь свой талант, что он не относится к разряду людей, для которых приобретение земных благ и изысканного имущества является призванием и любимым развлечением по гроб жизни. Удовлетворив все основные нужды, он не испытывал никакой жажды дальнейшего накопления.
Тем не менее дом они купили большой и дорогой; он не хотел возиться с перманентным улучшением благосостояния, с перестройками и перепродажами.
Покупка дома была бесспорно выгодна и экономически разумна. Но в глубине души у него была еще и надежда укорениться, то есть пустить корни. Может быть, если своим жильем владеешь, то оно становится родным домом, избавляет от постоянного чувства временности, вокзальности, которое было во всех снимавшихся после переезда квартирах. Эту гипотезу еще предстояло проверить, если удастся…
Он подсчитал экономические выгоды покупки, но не признавался даже себе самому, что выбрал именно этот дом из-за очень старых, неизвестной породы деревьев, которые росли вокруг вместо обычного газона. Он подозревал, что деревья эти снижают ценность дома; ведь с ними надо возиться, они растут слишком близко, могут повредить фундамент. Кроме того, они затеняют комнаты. В августе, когда они переехали, это было хорошо; но теперь, в конце сентября, дни становились короче. Сегодня весь день дул сильный ветер, листья придется убирать.
Надо все же посмотреть, как они называются, эти деревья, познакомиться с ними. Позор — до сих пор не собрался заглянуть в справочник. Тоже ведь признак развала, предвестие того, что им тут недолго жить, с этими деревьями…
Старая дева уже стояла в дверях и решительно одевалась. Она все-таки не ожидала вечера до такой степени противного. Хозяин своих гостей чуть ли из дому не выталкивал. Хозяйка вообще ушла, не попрощавшись. Алкоголик с проповедями! Хуже всего — торт был такой упоительный, невозможно было устоять, она съела два куска, а если честно, то три. Теперь она боялась, что неделя строжайшего голодного режима пропала, такие усилия потрачены зря. И уже два часа ночи.
Вообще жизнь — сплошная трата времени и сил.
Хозяин недоглядел, вынося мешки с мусором, и алкаш успел-таки залечь на диван и уснуть. Теперь его в такси не засунешь. Старая дева уехала, а разведенная — все-таки нельзя просить женщину везти мертвецки пьяного.
Значит, это новоселье будет продолжаться и завтра утром. Жена уедет к заутрене, положив в карман свою ханжескую белую косынку — он ее попросил не повязывать голову дома, видеть он этого не может. А ему разбираться с этим ближним, дышащим перегаром. Уговаривать его, что все в порядке, что неважно, мол, ничего особенного. Выслушивать извинения, смотреть на его помятое, несчастное лицо, наливать на опохмелку… Вот тоже: почему люди так любят каяться на миру вместо того, чтоб тихо и молча бороться с собой?
И все это никому, никому не нужно. И новоселье это целиком и полностью никому не было нужно.
Засыпая, алкаш успел пообещать себе, что завтра все изменится, что это был последний день безволия и безобразия. Завтра начнется новая жизнь. Он в это верил; тем более что ему казалось, что он уже доехал и находится у себя дома.
А разведенная дама все сидела в углу, пристально глядя на алкаша. Честно говоря, она смотрела на него другими глазами. Ну клоун. А может быть, не такой уж и клоун. Да, грубиян. Но, в конце концов, он был первый человек, который не соврал ей, сказал что-то живое. Он ее, можно сказать, услышал. «Пожалеть не пожалеют, а уважать перестанут» — почему ей это никогда в голову не приходило? Почему она только о сочувствии и жалости беспокоилась, а не об уважении?
Бросивший даму муж был человек очень противный, но трезвенник. У нее не было никакого жизненного опыта по этой части, и она не подозревала всего безумия своего внезапного наития, не догадывалась о предстоящих трудностях, то есть о почти полной безнадежности задуманной ею кампании по спасению ближнего. Было уже два часа ночи. Она решительно встала и подошла к дивану.
— Яшенька, — зашептала она, осторожно расталкивая пьяного, — попробуйте, голубчик, встать. Я такси вызвала, я вас подвезу.
Его так давно никто не будил, не расталкивал, не шептал «Яшенька» и уж точно не называл голубчиком, что он немедленно очнулся и даже немножко протрезвел от удивления.
Во всяком случае, достаточно протрезвел, чтобы хозяин, рассыпаясь в благодарностях и любезностях — впервые за весь вечер совершенно искренних, — смог выволочь удивительно тяжелого алкаша за дверь и поместить в желтое такси, которое уже стояло в темноте под деревьями, освещая фарами яркие желтые листья.
Ну и ну, подумал он, люди уезжают навстречу своей таинственной судьбе.
В прежние времена они с женой обсудили бы такой поворот событий. Вот сейчас бы началась самое веселое. Жена бы рассказывала в лицах многочисленные происшествия, сцены и конфликты, которых он не заметил. Она бы объясняла, со сложными психологическими деталями и удивительно смешно, взаимоотношения между гостями, неведомые ему интриги. Его всегда удивляла ее живая заинтересованность и внимание ко всякой чепухе, происходящей с другими людьми, ее способность обижаться, восхищаться и разочаровываться, вообще — обращать внимание.
Теперь таких разговоров больше не бывает, потому что злословие, как известно, — грех. Нехорошо судить ближнего, и так далее.
Ну ладно. Во всяком случае, теперь наконец можно сделать то, чего ему давно уже смертельно хотелось. Он ждал, чтоб все ушли, чтобы можно было сесть, посмотреть молча на деревья, на его собственные деревья, медленно качающиеся за окном.
А жена хозяина лежала наверху, глядя в потолок, стараясь дышать равномерно и осторожно, стараясь сдержать, уравновесить дурноту. Это было не от выпитого — она почти ничего не пила — и даже не от усталости. Она уже несколько недель была сама не своя. Как будто ей заложило уши, и весь мир был не в фокусе, все было тяжело и замедленно. И это странное состояние не было болезнью, немощью, недомоганием, но было работой, тяжестью. Она терпела свое странное состояние, не вызывавшее обычного противодействия, которое вызывает болезнь: поскорее бы прошло, перемоглось, — и терпение постепенно нарастало и наполняло ее; терпение, которое становилось самым ей нужным качеством, самой необходимой добродетелью.
Она понимала, уже не просто чувствовала, а точно знала — почему она сама не своя… И теперь ей казалось, что она знала с самого начала. Это произошло в первую ночь после переезда, когда они остались вдвоем в совсем пустом, еще чужом, почти враждебном доме. Даже еще и кровать не была куплена. И деревья качались за окном.
Значит, вполне возможно, что этот дом — и вправду их дом, а не случайность. Настоящий, их собственный, родной дом. Именно этот дом будет первым и единственным домом, родным домом, этот чужой пригородный поселок — родным городом для кого-то, кто уже существует.
Она не вспоминала недавно выученные молитвы. Но смирение, которое ей было совершенно не свойственно, которому она так старательно и неумно пыталась научиться через возвышенные разговоры, богословские трактаты, литургию, — это смирение теперь переполняло ее и было не только совершенно естественным, но и единственно необходимым. Терпение, тревога, которые будут сопровождать ее до конца жизни. Страх, который, наверное, и называется страх Божий.
Другие женщины рассказывали, но только теперь, когда это — наконец-то — происходило с нею самой, только теперь она начинала понимать. Это же чудо, настоящее, смешное чудо, ведь это же фантастика! И только потому, что это происходит постоянно, сплошь да рядом, со всеми и каждым — никто не замечает, как это фантастично, странно, чудесно, нелепо: один человек находится внутри другого человека. И ведь потом он начнет двигаться. Будет толкать ее своей собственной, совершенно отдельной ногой в живот — изнутри!
Вот это ближний так ближний! Она была сама не своя и уже никогда своей, только себе принадлежащей и только за себя отвечающей не будет. Впервые все было важно не потому, что было событиями ее жизни, а потому, что было жизнью уже другого человека, и время будет теперь измеряться не ее возрастом…
Она лежала тут в темной спальне и была не одна — никто об этом еще не знал, но она тут, в пустой спальне, была не одна. И деревья качались за окном.
Раздался опять этот странный скрип, этот странный, почти скрипичный, звук, который слышала она в полусне и в предыдущие ночи. Теперь она увидела, что это скребется дерево. Дерево раскачивалось на ветру, и его протянутая к дому лапа скреблась в стекло, лапа с желтыми листьями, освещенными снизу светом из окна кухни. Внизу, на кухне, сидел хозяин дома, ее муж. Смешная роль у мужчин в этом деле — ничего не знать и не ведать. Вот завтра она спустится со своей благой вестью, как архангел Гавриил…
Деревья со всех сторон, думала она, засыпая, и даже всхлипнула от уютного умиления, из-за деревьев я именно этот дом и выбрала… Как гнездо. Семейное гнездо. Можно качели повесить. Как хорошо: ребенок будет расти, глядя на старые деревья…
Вьется по ветру Веселый Роджер
Он никогда в жизни нигде не служил, брался за случайные, иногда экзотические работы. Но деньги всегда зарабатывал; хотя ему казалось, что платили ему просто за его качества, за врожденные способности и личные увлечения, за вещи, которые он и так бы делал. Он охотно делал то, чего от него никто не требовал, но требований, команд и призывов к чувству долга не выносил. Хотя и долгов — денежных — у него никогда не было.
После эмиграции он водил экскурсии по городу, который изучил быстро и досконально. Подрабатывал переводчиком. Однажды написал за кого-то диссертацию. Это заняло меньше месяца и очень хорошо заплатили, но противен был элемент жульничества, больше он на такую деятельность не соглашался.
Ближе всего он подошел к границам законности в самом доходном из своих увлечений: он великолепно играл в покер. Умел сохранять совершенно непроницаемое выражение лица. Впрочем, покер был так же легален, как шахматы.
У него были обаяние и способность внушать людям доверие. Он, по мере возможности, старался никогда не использовать этого доверия на пользу себе. Хотя грань тут была, действительно, тонкая, но он не лицемерил, не любил никого по долгу службы. Его раздражали мелочность и хлопотливость, связанные с ложью. Поэтому, наверное, его браки и романы тоже были краткосрочны.
Он много путешествовал. Если надо было перевозить особо срочные и важные пакеты и посылки и человек мог сорваться с места в любой момент, курьеру оплачивали дорогу.
Постоянную работу ему предлагали неоднократно, так как все эти случайные дела он делал очень хорошо. Но контрактов он не подписывал.
Началось это отвращение к контрактам и подписаниям договоров еще в детстве. Первый и единственный в его жизни договор был подписан не им самим, а мамой.
Они шли в парикмахерскую, только что вернулись с дачи. Он был в таком возрасте, когда детей еще держат за руку, особенно на переходах, но дети этого уже стесняются: ему было около десяти. Позднее он думал, что все произошло из-за отросших за лето волос, что на обратном пути, уже постриженного, ассистентка режиссера его бы не заметила. Но ассистентка заметила, остановила, попросила привести на пробу этого очаровательного мальчика — роскошные кудри, ах, какие же у нас локоны, а глазки-то у нас какие светло-серые! А как же нас зовут? Мама сказала, что зовут его Борис, Боря Коган.
Ассистентка задумалась, спросила:
— А по маме как?
Мама сказала, что Коган и есть ее фамилия. Ассистентка ответила невнятно:
— Ну ничего, ничего, все равно приходите.
Его взяли на главную роль. Мама подписала договор со студией, хотя понятия не имела, что это означает. Роскошные локоны вытравили пергидролем, придумали новое имя: Алеша Светов. Его собственные имя и фамилия показались режиссеру недостаточно романтичными.
А кино предполагалось очень романтичное. В те времена любили романтику. Рабочее название было «Вьется по ветру веселый Роджер» — про положительных свободолюбивых пиратов. Боря должен был притворяться маленьким пиратом по имени Джим. Иностранцев в кино и в литературе принято было тогда называть Джимами.
В десять лет Боря — Алеша Светов — знал, что интереснее кино ничего на свете нет. Он был совершенно не готов к выматывающему душу занудству киносъемок. Как же могло из такой скуки такое интересное получаться?
Киностудия оказалась скучнее даже школы, и будили его еще раньше, чем в школу. Кинопавильон был совсем не похож на павильоны выставок или те павильоны, где музыка и мороженое: огромный ангар, черный, с пыльными завалами какого-то барахла вдоль стен, с кабелями повсюду и с убогой декорацией бригантины, вернее, куска бригантины, посредине. Утром в павильоне было холодно, а потом включали прожектора и начиналась страшная жара.
В первые дни он все надеялся, что скоро начнут играть как в театре на сцене, разыгрывать интересную историю; но потом понял, что в кино никто и никогда не играет. Разве что дядьки, которых зовут осветителями и статистами, играют в перерывах в карты.
Киносъемки заключались в том, что все всё время чего-то ждали. Ждали оператора, ставившего кадр и бесконечно возившегося с объективами. Он был как придурочный с этими объективами, любил их, даже клички им давал… Потом ждали, когда гримеры поправят уже потекший грим. Потом ждали, чтоб режиссер заново объяснил свои режиссерские задумки и продемонстрировал Алеше Светову, как именно тот должен кривляться, размахивать руками и говорить ненормальным голосом…
— Делаешь два шага — вот до этой отметки. Смотришь вдаль мечтательно, тяжело вздыхаешь, вот так: «А-а-а-а-а…». Думаешь о будущем! Понял? Голову вправо наклони! Вправо, тебе говорят! Вправо! Ты что, сено-солома не различаешь?
Потом режиссер орал истошным голосом: «Мотор!» — он очень любил кричать «Мотор!» истошным голосом.
И тогда Алеша Светов поднимал руку, как в школе, и просился в уборную.
Он это делал нарочно. Они с режиссером Малеевым друг друга возненавидели с первого дня. Малеев выкрасил ему волосы и поменял имя, он был притворщик, жулик, дурак и сам не знал, чего хочет. Алеша Светов плохо себя вел в надежде, что его разжалуют из актеров и освободят.
А режиссер Малеев и погнал бы Алешу Светова с картины, если б не оператор.
— У тебя, что, глаза нет? — кричал оператор на режиссера. — Совсем глаза нет? Ты не видишь, что ли, что мальчика камера любит?
— Не кричи на меня! — кричал режиссер. — Это моя картина! Этот пащенок мне разрушает творческое настроение! Он не умеет подчиняться командам! Я ему даю мотивации, я предлагаю приспособления, а он в носу ковыряет! Он не способен понять сверхзадачи! И подтекста! И вообще, у меня уже есть один Коган. Чего мне стоило эту практически запрещенную песню протащить через комитет!
Другим Коганом был автор песни «Бригантина» Павел Коган. Комитет же имелся в виду не тот, которого боялись все, а Комитет по кинематографии — которого боялись только самые избранные, особо талантливые и привилегированные.
Песню давно уже разрешили, и повсюду открывались кафе «Бригантина» и молодежные клубы «Бригантина», и уже молодые люди из еще одного комитета — ЦК Комсомола — хорошо нагрели на этих бригантинах руки и уже готовились прибрать вскорости к своим теплым, умелым рукам средства производства и натуральные ресурсы страны.
Но Малееву хотелось показать, что он рискует головой; во всяком случае, он хотел, чтоб над его головой сиял нимб. По его смелой творческой задумке «Бригантина» все время звучала за кадром. Пираты пели ее под гитару.
— Подтекст у тебя, Бармалеев? — угрожающе шипел оператор. В группе только он звал режиссера Бармалеевым прямо в лицо, они были однокурсники по ВГИКу. — Эти твои воображаемые фиги в кармане — подтекст? Ты из этих кукишей картину собираешься сделать, да? У тебя и текст не прочитывается, какой уж тебе подтекст. Уйду. Снимай сам, брат Люмьер.
Режиссер трухал. Он все-таки в глубине души знал свое место. Когда он бился в истерике и убегал на полдня творчески страдать, съемки продолжались и без его крика «Мотор!». Но без оператора продолжаться ничего не могло: только он мог превратить убогие декорации в какие-то моря, которым люди Флинта гимн поют.
Оператор велел ему тихо, но строго:
— И чтоб ребенка в просмотровом зале не было! Незачем мальчику материал смотреть. Ты его своими замечаниями только сковываешь, он из-за тебя становится зажатый. Предупреждаю: кина не будет.
Поэтому за все время съемок Алеша Светов ни разу себя на экране не увидел.
В начале съемочного дня Малеев затягивал свою «Бригантину» — для вдохновения — и требовал, чтоб все подпевали.
Алеша путался. «За презревших грошевый уют» он не понимал. У них дома говорили по-человечески: грошовый. Он пел: «За презревших крошево, уют». Крошево было его любимой едой — томатный сок с крошеным зеленым луком и черным хлебом. А про уют мама всегда говорила: «В любом месте можно создать уют. Даже в коммуналке мы не должны жить, как свиньи».
Кроме того — Малеев пел про яростных, про непохожих, но от Алеши Светова требовал полного подчинения, сплошного обезьянничанья. Даже лицом гримасничать, как он, даже глаза таращить, как он.
Малеев говорил: «Ты должен меня слушаться, как родного папу!»
Ему ассистентка объяснила про отсутствие папы, но Бармалей забывал детали.
Не только мальчик, все в съемочной группе не любили Малеева; но вначале они рвались на картину, потому что предполагались натурные съемки на Одесской студии, экспедиция, полтора-два месяца на море. Выяснилось, однако, что Малеев, на которого орали не только директор объединения, но и собственный директор картины, не сумел добиться даже выезда на натуру.
Теперь всё снимали в павильоне, на фоне хилых дорисовок, с допотопными впечатками. Дополнительный метраж моря и волн брали из фильмотеки. Даже декорации по большей части не строили, а приносили со склада, только подкрашивали.
На площадке стояла атмосфера развязной и циничной халтуры. Ограничивалась халтура только тем, что картине могли влепить третью категорию и не заплатить постановочных, которые несколько возмещали тщедушность зарплат.
Пока устанавливали кадр и возились со светом, Алеша не должен был стоять на положенном месте. Гример Нюша мазала его отвратительным гримом, сюсюкала и называла деточкой. Вместо него стоял маленький циркач-дублер.
Этот каскадер Артур Куэ, — он был из знаменитой цирковой семьи Куэ, — стоял на указанном ему месте терпеливый, сосредоточенный, маленький и жилистый, с бритой головой, с мышцами, уже обработанными годами тренажа. Он профессионально выполнял свое неинтересное дело, не жаловался, что скучно, жарко, что ноги устали.
Но зато и все по-настоящему интересное, требовавшее храбрости и умения тоже делал каскадер Артур. Он натягивал на свою коротко остриженную голову блондинистый парик и взлетал стремительно по вантам. Он сидел, болтая ногами, на конце реи. Он прыгал с мачты, раскачивался на корабельных канатах, плавал в грязном студийном бассейне, по которому гнали ветровой установкой морские волны. Он умел все. А Алеше даже попробовать не разрешали. Ни разу не разрешили попробовать.
И Алеша Светов чувствовал себя жуликом хуже Бармалеева: с чужим именем, с крашеными дамскими волосами, с гримом на лице. Ему нос пудрили! Он должен был говорить дурацкие слова, называвшиеся репликами. Хотя запоминал он эти реплики мгновенно — он и в школе стихи выучивал с одного раза.
Каскадера Артура никто не пудрил, и глупостей он не должен был говорить.
С Алешей Световым приходила на съемки бабушка, а с Артуром — тренер, тоже из семьи Куэ. Все свободное время они проводили в дальнем углу павильона: они занимались. Старший Куэ тихонько покрикивал на их непонятном сказочном цирковом языке:
— Фордершпрунг на две ноги! Ап! Не расслабляйся, Артур! Флик-фляк! Ап! Артур, расслабляешься! Становись на бублик, ап!
Артур становился на голову на маленьком каучуковом колесике, видимо — бублике, и тренер говорил ему одобрительно:
— Вот постоишь так пятидневочку, и будет у тебя не террор, а кураж.
Они приходили в малеевский павильон из другого мира, где никакой халтуры не существовало просто в силу необходимости.
Можно фальшивую ноту взять, можно писать пошлости и глупости, но за пролетающую трапецию надо хвататься всякий раз точно и вовремя.
Алеша Светов восхищался каскадером Артуром издалека, постоянно за ним подсматривал. Но они почти никогда не разговаривали. Артур Куэ не обращал на Алешу Светова никакого внимания. Только по утрам бросал на ходу:
— Привет, Джим!
И Алеша Светов отвечал:
— Сам ты Джим!
Или:
— От Джима и слышу!
Но этим их дружба и ограничивалась.
Кадр ставили по Артуру. А потом вызывали Алешу Светова, и он делал свое — то есть просто присутствовал перед камерой, и камера, в руках злого и зверски талантливого оператора, его любила.
Уже все, работавшие на картине, знали, уже слухи ходили по студии: мальчик оказался одним из тех редкостных людей, которые остаются на пленке совершенно живыми, даже намного живее и естественнее, чем в жизни. Ассистентка на нем карьеру сделала, о ней потом говорили: «Она та самая, которая Алешу Светова на улице нашла».
Не понимали этого ясного всем факта только двое: режиссер Малеев, по бездарности, и сам мальчик, который ни одного отснятого кадра так и не увидел. Да и увидев, не понял бы ничего: без звука, в бессвязных, отрывочных эпизодах.
Он ненавидел ломаться и кривляться. Поэтому после каждого вопля «Мотор!» он действовал назло Малееву. Не повторял, как ему было велено, малеевских гримас, жестов и ужимок. Наоборот: старался почти не шевелить лицом, ничего не изображать из себя, не суетиться, не мельтешить.
И это, конечно, было идеально. Камера это любила.
Когда включали камеру, он не притворялся никаким Джимом. Он сам не знал как, но в глубине души он превращался в каскадера Артура.
Одного только Тёму камера любила больше, чем Алешу.
Артур и тренер приносили Тёму на съемки в большой картонной коробке. Тёма был серый, толстый, сдержанный, как все цирковые. Он играл роль корабельного кота. Тёма был пожилой, на полгода старше Алеши и намного профессиональнее — умирал по команде, ходил на задних лапах, подавал короткие, отрывистые реплики.
Отснявшись, ученый кот шел в свою коробку и немедленно засыпал.
Оператор, осветители, звукооператор, микрофонщик, cтарики-бутафоры Степан и Соломон — халтурить-то они халтурили, бессмысленно было на этой картине выкладываться, — но все были на своем месте. Каждый худо-бедно, но делал свое отдельное дело.
Кроме Малеева. Режиссера Малеева камера не любила.
Хуже того: он не любил камеры, не понимал увиденного в объектив. Он все прищуривал глаза, и ему казалось, что бригантина поднимает паруса, он видел что-то воображаемое и желаемое, романтическое, без подробностей и деталей. Вовсе не то, что появлялось потом на экране просмотрового зала. Он много говорил о своем режиссерском видении и не замечал тени от мачты на рисованном небе. Самым главным кадром в фильме для Малеева всегда был титр с именем Малеева.
Бюджет ему постоянно урезали, он заставлял сценариста делать поправки, требовал переносить эпизоды с палубы в клаустрофическую декорацию рубки. Интерьер снимать было проще и дешевле. В конце концов даже тихий сценарист, писавший верлибры и глубоко презиравший кинематограф, на него наорал.
Тогда и сам Малеев решил в один прекрасный день поорать на кого-нибудь. Орать он решил на Степана и Соломона.
Вся группа, рабочие цехов и даже снимавшие в других павильонах сбежались смотреть с восторгом и ужасом, как Бармалей орет на бутафоров.
Его не любили, но особого зла ему никто не желал, поэтому его предупреждали. Предупреждение не подействовало, и теперь оставалось только наблюдать — и наблюдать с удовольствием, — как человек засовывает зажженную петарду в собственную задницу.
По легендам, Степан и Соломон начинали свою кинематографическую карьеру еще в киноателье Ханжонкова.
Теперь они стояли перед дураком Малеевым, потупившись, изображая самоуничижение и рабскую покорность, — у них был большой опыт работы в массовках, — чесали в седых головах и бормотали что-то несусветное, стилизованное под исторический фильм про крепостное право: «Да уж как прикажете… Своя рука — владыка… Хозяин — барин… Да мы чего, да мы ничего…».
Малеев, решивший показать себя настоящим мужчиной, употреблял мат.
В группе даже пари держали: что теперь будет? Ожидался несчастный случай на производстве. Например, что старики слегка приложат Бармалея каким-нибудь крупным предметом реквизита. Не так чтоб ноги протянул, а чтоб отделался легким переломом.
Но они просто устроили аполитичную и недоказуемую советскую забастовку: совместив приятное с полезным, ушли в запой. Увольнение им не грозило. Только они знали, где что лежит на складе еще с довоенных времен.
Хотя на самом деле пил только Соломон. Степан, непьющий, потихоньку уехал на свой садовый участок подрезать клубнике усы и окучивать смородину.
Малееву пришлось узнать на опыте, кто — базис, а кто — надстройка, и чего стоят его подтексты и мотивации по сравнению с топором и долотом Степана и Соломона. Картина встала. Четыре дня простоя, сроки сдачи летели, а у Малеева и так полезного метража почти еще не было.
Малеев убежал творчески мучиться.
— Кина не будет! — с нездоровым оживлением говорил старшему Куэ оператор. — Ручаюсь, Альберт Арнольдович, что у вас в цирке такого цирка не бывает.
— Почему, все бывает, — рассудительно отвечал Куэ. — Во всяком искусстве всегда кто-нибудь кому-нибудь завидует. А у нас и хуже бывает. Могут лонжу перерезать по зависти. Могут зверей попортить.
— А какая ж тут зависть? Кто на этой картине кому завидует?
— Малеев всем завидует. Вы, я, Артурчик мой, да тот же Тёма — мы работаем и кайф ловим. А у режиссера вашего ни куража, ни кайфа. Одни амбиции.
Этот разговор Алеша Светов услышал. Он сидел на полу возле коробки с Тёмой и всячески подлизывался: чесал его, гладил, а тот и головы не поворачивал, даже не мурлыкал.
У каскадера Артура есть кураж, у оператора есть кураж, у Тёмы — у кота! — есть кураж.
У дурака Бармалеева и у него, Алеши Светова, куража нет.
Малеев все кричит, поет про какую-то серебристую мечту, а интересное кино снимать не умеет.
А он, с крашеными волосами и фальшивым именем, не умеет вообще ничего. Ни на голове стоять, ни на мачту залезать, ни флик-фляк. Он даже плавать плохо умеет.
И он завидует, да еще как. Каскадеру Артуру. Никогда ему не быть таким, как каскадер Артур.
Но зато уж начальником, как Малеев, он тоже не станет никогда. Начальники — дураки. Все настоящее за них делают другие, а сами они ничего не умеют.
Бутафоры вернулись. Соломон как ни в чем ни бывало продолжал чинить и таскать реквизит и лапать женский персонал под видом старческого добродушия.
Статисты, для которых Малеев определенных задач не имел, изображали на заднем плане что-то этакое морское и драили медяшку.
Осветители потихоньку от бабушки выучили Алешу Светова великолепно играть в покер.
Оператор смотрел в объектив и радовался тому, как удивительно отражают свет серые глаза мальчика, как пластичны и выразительны его движения, как организуется вокруг него все пространство кадра.
Оператор Алешу в лицо никогда не хвалил, но сводил его в цех комбинированных съемок, показал маленькую, ювелирно сделанную лодочку-бригантину, плавающую в аквариуме.
И потом повел в монтажную, где была полумгла, светились экраны мовиол, остро пахло целлулоидом и ацетоном.
Главная монтажница Надя показала им уже смонтированную сцену бури: маленькая бригантина ныряла в волнах, плыла в флибустьерском дальнем синем море, совершенно как настоящая.
Надя была в белом халате, с русой косой, замотанной на затылке, похожая на передовую доярку с плаката, а не на киношницу. Она усадила Алешу Светова рядом с собой за монтажный стол и показала ему, как пленка накладывается дырочками перфорации на металлические штыри, и как надо осторожно смазать пленку маленькой кисточкой с грушевым клеем и — хрясь! — прижать сверху зажимом. Она дала Алеше кучу пленочных обрезков, и Алеша Светов сам сделал склейку, соединил два плана. Сначала был Тёма крупным планом, с выпученными глазами, пасть оскалена в беззвучном шипении. Потом, на общем плане, бежал актер. У Малеева он бежал куда-то доносить на благородных пиратов. А у Алеши Светова он бежал от страшного гигантского кота! Намного лучше, чем у Малеева.
— Видишь, у кошки зрачки двигаются справа налево? — объяснила Надя. — И потом Васильчиков бежит, получается, что кошка за ним следит. Плавный монтаж.
Оператор наклонился и, продолжая смотреть на экран, задумчиво поцеловал Надю в шею. И она, перематывая пленку с бобины на бобину, поежилась, завертела шеей, как от мухи:
— Что ты ребенка смущаешь…
Алеша Светов ужасно покраснел — хорошо, что они смотрели на экран.
Выйдя из монтажной, где курить было нельзя, оператор вытащил пачку «Союз — Apollo», закурил и сказал:
— Вот, такие-то дела, старик…
И они вдвоем молча пошли в павильон.
Вечером Алеша Светов разматывал маленький ролик пленки, свою собственную монтажную склейку, показывал маме на свет:
— Видишь, глаза у Тёмы двигаются влево? И человек бежит?
— Кадрики такие маленькие, трудно рассмотреть, — оправдывалась мама.
— Вот был бы у меня монтажный станок, я б тебе прогнал эпизод, ты бы увидела!
Он в тот вечер понял, что ему давно уже нравится на киностудии.
Малеева он ненавидел, и грим ненавидел, и дурацкие реплики. Но киношные ему уже давно нравились. Особенно Степан, кормивший его клубникой и смородиной. И особенно Соломон, про которого бабушка говорила: «У Соломона Григорьевича была трудная жизнь, семья погибла в Киеве. Но он — настоящий джентльмен». И особенно осветители, выучившие его играть в покер.
Ему нравилось, как все они работали вместе.
Больше всех ему нравилась Надя. И оператор. И как оператор сказал «Молодец, Надька» — и поцеловал ее, но это было не противно.
У оператора и у Нади был кураж, они ловили кайф. Они были ничем не хуже цирковых.
И — все хорошо, что хорошо кончается, а если и не очень хорошо, то все-таки кончается, потому что существует срок сдачи картины и против плана не попрешь.
В последние дни все работали с утра до поздней ночи, доснимали те дополнительные кадры, о которых Бармалей совершенно позабыл. Алеша Светов очень устал, но он не сачковал, не капризничал: без этих кадров Надя не могла закончить ни одной сцены диалога с перекрестным монтажом.
К этому времени он уже столько раз смотрел в глазок камеры — оператор ему разрешал, — что точно знал, как надо в кадре двигаться, чувствовал камеру, как будто между ними ниточка была протянута.
Он отвечал людям, которых перед ним не было, вглядывался в несуществующую морскую даль, ловко увертывался от воображаемых ударов. Они снимали все эти дополнительные планы один за другим, и Алеша Светов ни одного не запорол. Даже дублей снимать не надо было.
Где-то в двенадцатом часу ночи ему показалось, что это и называется кайф и кураж.
Надя, про которую было известно, что она может из любого дерьма конфетку сделать, слепила из малеевских экзерсисов кинофильм. Монтажницы работали по четырнадцать часов в день, и за вредность им давали молоко.
А Малеев на прощание вызвал Алешу Светова на серьезный разговор.
— Я тебе должен сказать что-то очень важное. Постарайся, для разнообразия, хоть один раз не ковырять в носу, а слушать меня внимательно. Бывает, что дети сыграют в фильме у такого режиссера, как я, и начинают воображать, что у них есть талант. Потом всю жизнь рвутся в кино, и ничего у них не выходит… Что может быть позорнее, чем дилетант, бездарь, лезущая в искусство? И ведь почему все лезут? Потому что думают: в кино деньги, слава, женщины. Никто не понимает, какими муками, какими сомненьями и тягостными раздумьями достаются эти деньги и слава!
Тут Малеев стал скорбно жевать усы и углубился в себя, а Алеша Светов начал потихоньку, почти совсем незаметно, пятиться к двери.
— Стой! Ты куда? Кто тебе позволил уходить? Так вот: ты светился отраженным светом моего таланта. Теперь тебя могут даже приглашать на пробы. Мой совет — не ходи. Лучше и не пытайся, чтоб потом не разочаровываться. Лучше сразу понять, что кино — не для тебя. Сейчас — я ведь вижу — они в группе все с тобой нянчатся. Так это они из жалости. Они немедленно о тебе забудут. Хуже, они способны над тобой смеяться за твоей спиной… но мне их любви не нужно… я лично панибратства не переношу. Все они мастеровые, ремесленники… Да, они — краски на моей палитре… глина… Я — сила. Творческое начало, без которого не осуществимо высокое, значительное, нетленное…
Во время долгой паузы Малеев опять занялся жеванием усов, а мальчик стоял неподвижно, задрав голову и глядя в шлакоблочный потолок с люминесцентными лампами. Одна лампа перегорела. В углу было большое пятно. Он старался не сморгнуть, чтоб из глаз не вытекло.
— Да, так вот… Учись, старайся получать приличные отметки. Станешь врачом каким-нибудь… или, ну там, инженером… Этот труд тоже в своем роде почетен. А для работы в искусстве нужно призвание, искра божья. Тебе тут делать нечего. Ну всё. Кранты. Финита ля комедия. Иди домой, Боря Коган.
Потом был торжественный просмотр для группы. Пошли мама и бабушка. Боря притворился больным. Притворяться-то он умел.
Они дошли, наконец, до той парикмахерской. Он попросил, чтоб его остригли почти наголо, и вскоре волосы отросли уже темные. Некоторое время афиши висели по всему городу, на них был мальчик на вершине мачты — Артур. С пририсованным лицом Алеши Светова. Мальчик размахивал революционным флагом с черепом и костями.
И Боря старался никогда не вспоминать о своем позоре. Просто шел в парикмахерскую, ну и дошел, и остригся наголо. Никакой ассистентки режиссера вовсе не было.
Вообще, ему шел уже двенадцатый год, он спрятался в переходный возраст, в угрюмость, насупленность, нелепую одежду. Ни на какого лучезарного Алешу он больше не был похож. И лет пять он не ходил в кино.
Он даже девушкам, когда вырос, не хвалился своей кинокарьерой. Ему и не нужно было: девушкам Борис и так чересчур нравился. После недолгого периода подросткового озлобления и неуклюжести к нему вернулась способность внушать всем доверие, задерживать внимание.
Еще в школе он начал покупать и продавать книги. Покупать книги ему и так хотелось. Но, достав, купив и прочитав книгу, он терял к ней интерес — как охотника мало интересует уже подстреленная дичь. Покупать и продавать было увлекательно и доходно, и он смог бы на это прожить. Но такие занятия считались спекуляцией. Частных букинистов называли чернокнижниками и книжными жучками.
Этот образ жизни — без ежедневной дыры с девяти до пяти, без контрактов и отчетов, — был невозможен, подсуден.
Склад его характера не соответствовал существующему режиму.
После эмиграции Борис пробовал одну работу за другой, и все получалось легко, и все было не особенно интересно. Все эти временные роли были коротки, не касались его сути. Он чувствовал, что живет как-то боком.
Он тут начал опять смотреть кино и смотрел очень много, запоем. Диссертация, которую он сочинил за кого-то, тоже была по киноведению.
Довольно часто ему снился павильон, жар софитов, свечение экранов в монтажной, запах целлулоида и ацетона, крошечная бригантина, огромный кот, разевающий пасть в беззвучном шипении… Все его разнообразные дела и заработки были просто делами, которыми занимаются люди, не способные работать в кино. Люди, у которых нет таланта. Ему снилось, что голос судьбы ему что-то говорит.
Но голос судьбы — он обычно как объявления на вокзалах: громко и страшно, но совершенно непонятно.
…И так прошло много лет.
Он шел в сумерках по одной из боковых улиц возле Линкольн-центра. Как часто случается перед Рождеством, было совсем тепло. В воздухе висела мельчайшая морось и стоял туман.
Вдоль улицы тянулась цепочка автофургонов с освещенными окошками, с железными лесенками. Из фургонов слышались голоса, входили и выходили люди.
По тротуару к нему приближался прихрамывающий человек с маленькой собачкой — нет, с очень большим котом на поводке, в попоне и ботиночках.
— Привет, Тёма, — бросил Борис на ходу. Кот был смешной и действительно похожий на Тёму, если б не одежда. И, уже пройдя несколько шагов, вдруг услышал сзади:
— Привет, Джим.
— Сам ты Джим, — сказал Борис, останавливаясь. Он почувствовал неожиданную радость, почти счастье: — От Джима и слышу.
В фургончике пахло хвоей — в углу стояла елочка. Артур жил с женой-жонглером, а сыновья — Альберт и Арнольд, воздушные гимнасты — в соседнем фургоне. Все кругом было размещено на расстоянии протянутой руки, точно и компактно.
На манеже Артур уже не работал: травма.
— Но режиссер и тренер я хороший. Придумал кое-что из трюков, вошло в репертуар: артур и двойной артур. Во всех цирках так и называется.
Все цирки означало — по всему миру. Артур, как только разрешили свободный выезд, полностью утратил постоянное место жительства. Жил он, тем не менее, в очень солидном, традиционном, уютном коконе. Во всех странах жили родственники Куэ, говорили на одном языке. Фордершпрунги были всюду те же, хотя сальто-мортале при советской власти переименовали в просто сальто, посчитав мортале чересчур пессимистичным.
Артур жил внутри профессии, место жительства для него значения не имело. Работа и семья были одно, и жизнь была предрешена, выбор сделан очень давно, переходил из поколения в поколение. Он делал свое дело, делал так, как его научили. Свое собственное не должно было выделяться, оно вплеталось в общий пестрый венок, который уже более двухсот лет плела семья Куэ.
Борис подумал: как остро я всегда ощущал странность чужих мест, странность своих случайных работ. Нигде не чувствовал себя своим.
— Ума не приложу, — сказал Артур, — а почему ты не работаешь в кино? Родители были против? Ведь они у тебя, если правильно помню, из публики? — У Артура весь тот мир, который не сцена, и все те люди, которые не актеры, называлось — публика. — Я, бывало, на тебя смотрел и восхищался…
— Ты восхищался? Почему?
— Еще бы! Вначале я думал — извини — взяли мальчика за красоту. А потом понял: нет, талант. Ну, завидовал немного. Я-то был каскадер, статист…
— Завидовал? Ты смеешься, что ли, Артур? Ты же чудеса вытворял, все умел!
— Ну, ты, Джим, даешь! Какие чудеса? Это техника. Мой Альбертик в пять лет сальто лучше меня делал, не в том суть. А вот старший мой, Арнольд, может просто посреди манежа стоять, он может паузу держать, и публика на него смотрит не отрываясь. Вот это — чудеса. Этому хоть учи — хоть не учи… Талант, как у тебя, был. Да ты, может, и фильма с тех пор ни разу не видел?
— Я, честно говоря, этого фильма и тогда не видел. А что — его смотреть можно?
Вот что было написано на диске:
«Вьется по ветру веселый Роджер». Классический остросюжетный фильм народного артиста СССР режиссера Б. Р. Малеева (1936–1995) стал любимым фильмом советской детворы 80-х годов.
Полюбили его и взрослые. В фильме прозвучала c экрана полюбившаяся народу романтическая бардовская песня «Бригантина». В годы перестройки Б. Р. Малеев рассказал о двойном подтексте фильма, но что любимое произведение было изуродовано цензурой.
Интересные факты.
Полюбившийся зрителю звезда фильма маленький Алеша Светов больше в кино не снимался. Гример Нюша Лебедева стала третьей женой Малеева и родила ему дочурок Ксюшу и Анжелику. Анжелика полюбилась зрителю в созданном Б. Р. Малеевым первом отечественном эротическом фильме «Ночные березки».
В цирковом фургончике возле Линкольн-центра они смотрели фильм так, как только теперь можно смотреть: забегая вперед, останавливаясь, заглядывая назад, перелистывая зрелище, как книгу.
Копия была неотреставрированная, серенькая и дрожащая, явно пиратская.
Действие происходило в какой-то неопределенно-заграничной южной стране у моря. Трудолюбивые рыбаки продают свой улов богатею-скупщику за бесценок. Скупщик соблазняет и губит сестру маленького Джима.
Все эти события не показываются, а рассказываются старым пиратом Флинтом, курящим трубку. Из клубов трубочного дыма появляются кадры-иллюстрации. Например: страдающие глаза соблазненной сестры.
Рыбаки, замученные эксплуатацией, решают уйти в пираты.
Маленький Джим прячется под столом в романтическом иностранном кабачке, подслушивая разговор капитанов. Он узнает, что в плавание отправляется галеон с грузом золота.
Маленький Джим руководит операцией по ограблению галеона.
Пиратское судно входит в гавань, на мачте вьется веселый Роджер, пираты раздают золото трудолюбивому народу.
И так далее, и тому подобное…
Почти все любят кино, но никто не любит кино так, как люди, которые его делают. Для них это еще и семейный альбом. Они сидели с Артуром, гоняли фильм опять и опять, останавливали, вглядывались.
Маленький пират Джим состоял из трех ипостасей: по мачтам взбирался Артур, озвучивала какая-то сюсюкающая актриса, лицо было — Алеши Светова.
И самым замечательным в фильме была не операторская работа, не Надин монтаж. Все это казалось теперь домодельным, стертым временем, безнадежно устаревшим. Каждый делал свое дело в меру добросовестности и способностей, но из-за полного отсутствия режиссуры все шли не в ногу, кто в лес, кто по дрова. Оператор, например, впервые получивший в руки крайне дефицитный в те времена трансфокатор, так увлекся возможностью плавных наездов и отъездов, что кадр не стоял на месте ни секунды, и морская болезнь возникала даже в сценах кабачка.
Не имеющим никакого отношения ни ко времени, ни к моде, ни к сменяющимся стилям, ни к отсутствию режиссуры был только этот невероятно естественный и занимательный, ужасно живой, пугающе живой, совершенно незнакомый мальчик — Алеша Светов.
Алеша Светов был намного живее на экране, чем Борис Коган, сидящий теперь перед экраном.
Он попрощался с Артуром, но не пошел домой, долго ходил по улицам.
Какой, однако, поганый фильм, думал он, и по форме, и по содержанию. А теперь и вправду развелись эти пакостные люди Флинта, братья по крови горячей и густой… Маркс был неправ: история вполне может быть сначала фарсом, а потом трагедией. Времена детства и юности были комедией, тривиальным водевилем. Малеев был народным артистом, пираты — романтическими героями, пели чушь под гитару, море изображалось разрисованной тряпкой…
Вот теперь и на самом деле пираты, без всякого трепетного тумана и серебристой мечты. Все по-простому: раскаленное дуло Калашникова в руках оголодавших идиотов, вонь, жара, патронташи на шеях, как ожерелья из пуль… Калашниковы-то и тогда были совершенно настоящие, хорошо сделанные, ловко придуманные, производились в неограниченном количестве, распространялись по всему миру. Остались в полной исправности, когда все распалось и развалилось…
…Мир разваливается, думал он, убыстряется, идет вразнос. Как соскочившее с оси колесо, эксцентрическими оборотами, все быстрее и быстрее. Ничто не передается по наследству, отцы уже ничему не могут научить сыновей… Рыбаки перестали рыбу ловить, стали пиратами… И только цирк остался, Артуров цирк — остров, тихий остров, семейный, разумный, с трапециями, огненными обручами, котами в сапогах…
Главное было не думать и не вспоминать в двухтысячный раз про тот вечер, когда он бабушкину вазу разбил и закатил истерику — первую и последнюю в жизни.
Ведь звонили тогда со студии. Даже оператор звонил.
Мать уговаривала попробоваться еще хоть на одну роль: «Ну почему бы не попытаться? Тебя ведь не убудет. Не примут, так и черт с ним».
А он, двенадцатилетний, огрызался: «Нет, никогда, ни за что! Отстаньте от меня! Ты не понимаешь! Ты не знаешь ничего!»
И тогда бабушка встала на его сторону, сказала маме: «Ты ведь там не была, не сидела часами в этом ужасном павильоне. Ведь это только со стороны кажется: ах, кино, ах, интересно! А на самом деле киносъемки — такая гадость, такое мучение, такая скучища… Пыль…»
И вот за это, за эти слова, он чуть не с кулаками накинулся на бабушку, он запустил бабушкиной вазой об стенку. Страшный был скандал. Соседи прибежали.
И он возненавидел это бабье царство, потом несколько лет оставался, что называется, трудным подростком…
Значит, вот чем он должен был заниматься. Притворяться, изображать жизнь. Скучать, наблюдать, подсматривать, из скуки интересное делать. Это было его призвание. А он всю жизнь отлынивал. Прогульщик он, свое призвание прогулял. Струсил. Купился, Бармалею поверил.
Решил на самом деле быть искателем приключений и авантюристом — а ведь это всякий дурак, всякий трус может.
…И так он ходил и ходил по улицам, в моросящем не то дожде, не то тумане: средних лет человек без определенной профессии.
И говорил себе, что жизнь будет продолжаться, что проживет он предстоящие годы нормально и даже, может быть, не без некоторого удовольствия…
Кто как устроился
Истории о том, в деньгах ли счастье
Однажды у Марка с Шурочкой собралась компания. Все мы люди работающие, загруженные, но дело было на праздники, на четвертое июля — длинный выходной, так что засиделись до ночи. Надо вам сказать: давно ужe так хорошо не сидели.
И разговор зашел, что часто бывает в эмигрантской среде, про то, кто как устроился.
Сначала рассказывали обычные случаи устройства: про лаборантов, программистов, таксистов, славистов. Про психологов — среди эмигрантов много психологов. Про врачей — кто десятый год экзамены сдать пытается, кто в младший медперсонал переквалифицировался. А потом хозяйка дома Шурочка говорит:
— Да что вы все занудство рассказываете? Я тут для вас два дня возилась. Под такую выпивку и закуску, да на ночь глядя — неужели нельзя что-нибудь поинтереснее рассказать? Про какие-нибудь несметные богатства и блистательные успехи. Вот, например, помните мою Татку Гуткину?
— Ну помним, — отвечают гости.
— А вот знаете магазин такой есть на Пятой авеню, называется «Татьяна Фаберже»?
— Ну знаем, — отвечают гости.
— Так вот… — говорит хозяйка дома Шурочка, и рассказывает нам следующую историю.
Татьяна Фаберже
История о том, что богатство не приносит счастья
Она сразу поняла, что есть два пути.
С одной стороны, можно стремиться к ассимиляции, к уничтожению акцента в языке и в стиле поведения, мимикрировать под окружающую среду. Но вообще-то уничтожение акцента невозможно. Кроме того, этот путь означает скучную и тяжелую работу и — даже при относительном успехе — маловыразительную и невзрачную жизнь.
А маловыразительная и невзрачная жизнь у Татки Гуткиной уже один раз была.
С другой стороны: можно акцент акцентировать. Можно сделать из него свой стиль и как раз главную приманку. Этот вариант предполагает артистизм. Тут открываются неограниченные возможности. Тут требуется постоянная игра, тут надо неустанно заниматься выращиванием и продажей развесистой клюквы. Мимикрировать под окружающую среду не нужно, но и самим собой оставаться тоже нельзя. Кому нужна Татка из Кишинева? Мимикрировать надо под те клюквенные представления, которые у окружающей среды про тебя существуют.
В первые месяцы мы, беженцы из Империи зла, были в моде. Нас в гости приглашали, опекали, предлагали помощь. Но, найдя какую-никакую работу, мы быстро превращались из экзотических страдальцев в провинциальных бедных родственников, опекунам становилось неинтересно. И мы сами погружались в текучку: хлопот был полон рот, и хлопоты наши были прозаичные.
Татка не стала искать работу. Первоначальные скудные пособия кончились, и жила она сурово, питалась в основном в гостях. Но в гости ходила часто и не потеряла ни одного из приобретенных вначале знакомств. Более того — постоянно расширяла круг.
Благодетели рекомендовали ее друг другу как оригинальную русскую, способную придать экзотичности любой вечеринке.
Дело в том, что от обострения и убыстрения мыслительного процесса, вызванного переездом, — или с голодухи — в Татке прорезалась впервые за тридцать лет скрытая раньше гениальность. Все самые блестящие идеи озарили ее именно в те первые месяцы.
Во-первых, сарафан.
На сарафан ее вдохновил, как ни странно, не Билибин какой-нибудь, а Бунин. Это у Бунина написано про бедную дворянскую девушку, которая носила сарафан «не в стиле а ля рюсс, а в стиле бедности». Татка была вполне начитанная. Все мы тут накидывались на западные шмотки, покупали черт-те что, потому что на качественное денег не хватало. Даже и на плохое не хватало в необходимом количестве, чтоб каждый день на работу менять. А Татка сразу поняла, что слияние с толпой местного населения не является ее задачей. Сарафан она сшила сама, вкривь-вкось, с большими розами и с позументами по подолу и на плечах. Сарафан не надо было каждый день менять. Впоследствии у нее были летние и зимние сарафаны, а также кацавейки.
Со временем Татка отрастила волосы, выкрасила их в русый цвет, а потом еще съездила в специальный парикмахерский салон в Гарлеме, где ей приплели длинные косы. Их так, в виде кос, и мыть приходилось.
Ее при этом не смутило мнение — надо сказать, что резко отрицательное — вашей покорной слуги, подруги Шурочки, превратившейся тут в Сандру для облегчения жизни окружающим. Татка никому не собиралась облегчать жизнь. Она не позволяла корежить свое простое пушкинское имя Татьяна, оказавшееся труднопроизносимым для англоязычных.
Знакомясь, она уже заранее знала, что предстоит, и поджидала со спокойствием хулигана, подставившего однокласснику ножку.
— Татыана! — говорили туземцы.
— Нет, нет: Тать-я-на, — настаивала она.
— Татиана? — мучился собеседник.
— Таня. Та-ня.
— Таньиа?
— Ну — Танька.
— Танка?
— Танка — форма японской поэзии! — мстительно отвечала она, и экзекуция продолжалась.
Мучительные попытки произнести Татыану, Таньиу и Танку заставляли знакомящихся туземцев чувствовать себя ущемленными и неадекватными, а Татка попадала в носительницы древней культуры с косами и позументами.
Никто и никогда Татыану уже не забывал: ни имени, ни высокого роста, ни сарафана, ни голубых глаз. Глаза эти считались зеркалом древней славянской души, несмотря на полусемитское Татьянино происхождение, которого она вовсе не скрывала. Так как еврейство тут идет не как национальность, а исключительно как религия, оно не мешало ни славянству, ни сарафану.
Соответствовать надо было именно фантастическим представлениям, не переусложнять их реальностью, иначе Татьянина развесистая клюква не пользовалась бы широким спросом. Например, многие тут уверены, что все русские изъясняются также и по-французски. Именно французский Татка с грехом пополам учила в университете, а потом с грехом пополам преподавала в вечерней школе. Если собеседник совсем уж не мог понять Таткиного английского или, хуже того, имел наглость ее поправлять, она просто переходила на французский. Наглец ретировался, все слушали Татьяну с изумлением. Американцы вообще-то считают, что французы говорят по-французски из чистого снобизма, назло и чтобы всех унизить. Но высокая голубоглазая женщина в розах и позументах с непроизносимым именем — ее французский язык был бесспорно аристократичен. Многие сообщали ей о своей любви к императорскому семейству и просили поделиться воспоминаниями о Распутине.
В молодости Татьяна считалась у нас не то чтобы уродом, но имела кличку: «гренадер». А также: «Николай Первый» — из-за водянисто-голубых навыкате глаз. Взгляд у нее был тяжелый и напоминал о шпицрутенах и самодержавии. Талантами, по нашему мнению, она тоже не отличалась. На аспирантуру не потянула, и вообще ни на что не потянула, пошла работать училкой. Тяжелые годы службы в вечерней школе и общение с рабочей молодежью научили ее стращать, контролировать, давить как танк. Вот тогда, видимо, и накопилась в ней мрачное желание пробиться, безжалостность к себе и к другим, вот такие-то люди и…
— Шурочка, ты кончай фрейдизм разводить, — говорит умный Марк, — давай ближе к делу.
…От тоски в вечерней школе Татка начала в самом конце застоя делать ожерелья и брошки. Для души. Свои изделия она дарила подругам. Подруги брали и благодарили, но не носили, потому что она не завязывала, как полагается, узелков между бусинами, бусы у нее рвались и рассыпались, а от брошек отваливались плохо приклеенные английские булавки. Татка одно время даже в Измайлове пыталась торговать, но ничего не вышло.
При переезде Татка объявила себя художником-ювелиром, с упором на художника.
Татьяна и была художником, как впоследствии выяснилось: художником жизни. Не зря тут жульничество называют искусством, а жулика, афериста, авантюриста — артистом.
— Буквально можно перевести: «артист доверия», — вмешивается умный Марк. — Богатый термин, понимать можно неоднозначно. То ли артист-аферист верит в собственные байки, то ли вызывает доверие у жертвы.
— У лоха. Теперь говорят: «лох», — поправляет эрудированный Ленька. Он недавно посетил покинутую нами родину и привез оттуда целую тетрадку уморительных неологизмов. Мы их изучали и много смеялись, но, будучи эмигрантами уже не первой молодости, вскоре все перезабыли. — Лох. А еще: отморозок.
— Вы хотите про Татку или нет? Я готовила четыре дня, вы все в момент слопали, а теперь перебиваете и не слушаете, — говорит хозяйка дома Шурочка.
Мы до сих пор таким манером между собой разговариваем. Уехали давно, никто нас по имени-отчеству никогда не называл, так что можно сохранять иллюзию вечного студенчества.
— Мы слушаем, слушаем! — отвечают гости.
И Шурочка продолжает:
— Здесь Татка обнаружила уличные ярмарки и понесла свое творчество на продажу. На уличных ярмарках, как вы, наверное, заметили, каждый второй ларек торгует ювелиркой. Таткино добро отличалось только тем, что все рвалось и разваливалось. Несколько раз покупатели приносили покупки обратно для починки или даже требуя возврата денег. Требовали бы и чаще, но ярмарки всякий раз на другой улице, да и связываться мало кто будет за копейки. А продавать Татке приходилось за гроши…
— Ну, пока что история ничем не отличается… — говорит умный Марк.
— Это тебе так кажется, ты не заметил: возвращали. Значит — покупали. При такой-то конкуренции, при полной непривлекательности Таткиного барахла — довольно часто покупали. А всё почему?
— Сарафан? — спрашивает скептическая Ленка.
— Ага — сарафан. И кацавейка, и акцент. И голубой глаз.
— Ты хочешь сказать, что на одном сарафане она карьеру сделала? — спрашивает скептическая Ленка.
— Ничего такого я вам не хочу сказать. Я вас за дураков или, как выражается Ленька, за лохов и отморозков — не считаю. Был, конечно, Джеймс…
— Ага! — сказали Ленька, Марк и тихий Вова. Они уже давно исповедуют феминизм на работе и даже частично дома, но между собой втайне блюдут старую веру. — Ага! — сказали они. — Не обошлось-таки без нашего брата Джеймса!
— Стоит однажды Татка в своем ларьке и следит с тоской, как тень небоскреба уползает от нее все дальше и дальше. Жара страшная. Справа динамики ревут, музыкой торгуют, босановой и зайдеко, блюзами и рэпом. Слева — наматрасники антиклопиные продают. Жареным пахнет: пончики, кукуруза, тортильи, кебабы. И посреди всего этого — голодная Татка в сарафане с золотыми розами по лазоревому полю и даже, извините за выражение, в кокошнике.
— Ну уж прямо так и в кокошнике?
— Я не вру: небольшой кокошник типа диадемы. Косы гарлемские висят по бокам, вроде как у Брунгильды.
И подходит к ней моложавый такой джентльмен. Покупает какую-то брошку не глядя. Вообще на товар не смотрит, а смотрит во все глаза на Татьяну. Представляется: Джеймс Морган. Татьяна с ним свою обычную языковую экзекуцию начинает проводить и, даже для пущего эффекту, — прыг сразу во французский. Однако не тут-то было. Джеймс Морган тоже что-то лопочет по-французски и отчасти по-итальянски. Татьяну с ходу начинает называть «Беллиссима», избежав тем самым всяких для себя неловкостей. Я, говорит он, предприниматель и агент по торговле искусством. Меня, говорит, исключительно заинтересовало ваше творчество, Беллиссима. Пойдемте, говорит, пообедаем в итальянском ресторанчике, поговорим об искусстве. Я плачу.
Одет Морган очень прилично, несмотря на жару не в майке, тапочках и шортах, как вся остальная толпа. Легкий льняной костюмчик голубенький. Рубашка розовенькая, розовенький платочек в кармане. Даже шляпа соломенная.
Пошли обедать. Морган рассказал про себя, что в Нью-Йорке он тоже вроде как эмигрант. Родился и вырос на широких просторах Канзаса в простой фермерской семье. Папа-фермер владел территорией размером со Швейцарию, но Морган тосковал среди коров, тянулся душой к высокому; его интересует искусство, жизнь заграничных народов. Он предпочитает общество творческих личностей, таких, как Беллиссима…
— Я понимаю, Беллиссима, что это с моей стороны крайне самонадеянно… Вы — одаренная аристократическая натура, а я всего лишь скромный бизнесмен. Но меня поразил ваш удивительный облик! Аромат древней культуры, который от вас исходит…
Татка почувствовала, что Морган хочет ей предложить не то законный брак, не то сожительство, и с голодухи решила серьезно подумать и над тем, и над другим.
И Джеймс Морган сделал Татке предложение:
— Не хотите ли вы, Беллиссима, начать совместный бизнес? Я займусь деловой стороной, а вы — представительством. Вы будете лицом нашей фирмы. Мы создадим уникальную коллекцию драгоценностей…
Татка немедленно оправилась от матримониальных надежд. Замужем она уже однажды была, за этим самым Гуткиным, который был ростом Татке по плечо, и внешность — плюнуть некуда, но жуткий бабник. Из-за переживаний с Гуткиным она и решила эмигрировать. Так что идея брака ее не очень прельщала. А вот совместный бизнес ей никогда в жизни не предлагали.
— Будем создавать пасхальные яйца в стиле Карла Фаберже! — сказала Татка.
Морган знал это слово: Фаберже. Лицо его осветилось улыбкой. Некоторое время он молчал. Видно было, что в душе его борются надежды и опасения.
— Беллиссима! — прошептал он. — Я задам вопрос, который вам может показаться странным — но не торопитесь, подумайте… А не родственница ли вы Карлу Фаберже?
Всю свою последующую жизнь Татьяна Фаберже гордилась не своими доходами, не магазинами на Пятой авеню и в Далласе (и вскоре открывающимся новым филиалом в Дубаи!), и даже не своим блестящим положением в высшем обществе нашего города Нью-Йорка. Гордилась она тем, что между этим вопросом и ее ответом прошло не более секунды.
— Как? — спросила Татьяна, и взяла Моргана за руку. — Вы знаете?
— Что знаю? — удивился Морган.
Тут Татьянин акцент до такой степени загустел, что дальнейший их разговор напоминал спиритический сеанс. Причем Татьяна, в развевающемся сарафане до полу, размахивая узорчатыми рукавами, изображала собою как бы явившийся дух и бубнила и шептала что-то впечатляющее, но совсем уж неразборчивое и легально ни к чему не обязывающее, то есть неподсудное. Агент же Морган толковал ее бормотание подобно медиуму, подталкиваемый алчностью с одной стороны и желанием все той же неподсудности — с другой.
В результате возникло у них из чистого эфира невыраженное словами не то взаимное понимание, не то взаимное недоразумение: Татьяна является троюродной правнучкой Фаберже, но из сочувствия к бестолковости потребителя будет именоваться в рекламных материалах просто внучкой этого величайшего русского художника, представленного в коллекции Музея Метрополитен.
Следующий шаг был простой: смена фамилии. Морган получил под Татьяну Фаберже очень приличный кредит в банке. Татьяна Фаберже, бывшая Гуткина, в парчовом сарафане и кокошнике, гипнотизировала банковских работников своим голубым николаевским глазом и говорила что-то, а Морган якобы переводил.
В самом начале между ними произошел небольшой конфликт. Татьяна серьезно верила в существование таких вещей, как «дар» и «вдохновение», а также в свои потенциально неограниченные возможности. Ей казалось, что между ее брошками и яйцами Фаберже — один шаг, долгий и плавный балетный прыжок с магическим зависанием в воздухе, и что она может не только Фаберже, но и Бенвенуто Челлини перепрыгнуть.
Морган был, однако, абсолютно уверен, что Татьяна уже нашла свое призвание, является гением самоизобретения и самопродажи и должна полностью сконцентрироваться на представительстве. Ее творческие поползновения он задавил в зародыше, очень тактично и деликатно. Он объяснил, что потенциальный потребитель, средний американский миллионер — просто не дорос и не поймет.
Для собственно трудовой деятельности Морган нанял группу безработных: прикладников, скульпторов и ювелиров, в основном китайцев, чехов и русских, которых обучали в художественных академиях соцлагеря не абстракционизму, а серьезному ремеслу. В арендованном Морганом подвале они занялись дизайном и производством первых изделий фирмы «Татьяна Фаберже». Морган выплачивал своим чехам и китайцам полагающуюся по закону минимальную зарплату.
И надо отдать Татьяне должное: она быстро осознала, что является с этого момента не человеком, а концепцией, что поддержание своего образа и марки фирмы — само по себе нелегкий труд. По слухам, Татка и с Йоко Оно познакомилась. А с Дианой фон Фюрстенберг они просто вась-вась. Ну, это понятно — обе из Кишинева.
— Йоко Оно из Молдавии? — изумляется простодушная Машенька.
— Диана фон Фюрстенберг. Ее семья из Кишинева. Замуж выходила на короткий срок за аристократа, из карьерных соображений.
— Из соображений брендинга и маркетинга, — перебивает эрудированный Ленька, — теперь называется: позиционирование имиджа.
— Ленька! Пей и молчи!.. Татка в своих сарафанах неустанно занималась партийной работой, то есть ходила на разные парти…
— Пати, — поправляет Ленька, — по-русски теперь принято говорить: пати.
— Ленька! — возмущается хозяйка дома Шурочка. — Если ты такой эрудированный, ты и рассказывай! Я неделю готовила, а теперь меня перебивают!
…Так вот, уж не спрашивайте как это получилось — если бы я знала, как такие дела делаются, то не работала бы социальным работником на полставки — но через два-три года фирма «Татьяна Фаберже» стала старинной. И легендарной. Славится фирма в основном тем, что очень знаменита. А знаменита она тем, что широко известна. И блюдет ореол исключительности…
— Эксклюзивности? — подсказывает эрудированный Ленька.
…Хотя, естественно, основные деньги зарабатывают не на бриллиантах, а на мелких безделушках, сувенирах и духах. На приемах Татьяна Фаберже появлялась с Морганом, их считали парой. Но никогда ничего между ними не было, никогда Морган не выходил за пределы нежной почтительности. Вначале Татьяне это даже нравилось, но не до такой уж степени ей Гуткин вкус отбил к личной жизни. Тем более что Морган был очень привлекательный, благоухающий духами, носил роскошные итальянские костюмы в талию, платочек всегда в кармане, и шляпа, и галантность, и непьющий, и на баб не зарился — воплощенная мечта настрадавшейся русской женщины.
Однажды вечером она все не могла дозвониться Моргану, который собирался работать допоздна. И секретарь его, китаец, на звонки не отвечал. Она и решила дойти до их конторы, благо рядом с ее особняком, и погода была хорошая. Открывает дверь в моргановский кабинет, а там Морган на диване с китайцем-секретарем. Так заняты, что даже телефона не услышали.
Ну конечно, немая сцена.
Морган пал Татке в ноги, как Потемкин матушке-императрице, вскричал: «Беллиссима!» — и начал каяться. И так он истово каялся, что китаец успел собрать свои манатки и потихоньку стушеваться.
А Морган с Таткой вынули из шкафа коньяк и проговорили до глубокой ночи.
Морган признался, что вовсе он не из Канзаса, Канзас он придумал экспромтом при встрече. Для простоты и доходчивости, для клюквенности. На манер кокошника.
А на самом деле был он из города Хобокена, из которого и Фрэнк Синатра произошел. Даже Синатра всю жизнь стеснялся о своем хобокенском происхождении вспоминать, так что Моргану простительно. Городишко затхлый, провинциальный, но самое ужасное — вид из него через реку прямо на панораму Манхэттена, на эту горную цепь с небоскребами, и восходами, и закатами, и жемчужной россыпью во мраке ночи. Рукой подать. Короче говоря: сижу за решеткой в темнице сырой. Издевательство.
Морган в отрочестве сбежал из дому, смылся, исчез, — имя его, кстати, вовсе не Морган, да и китаец оказался вовсе не китаец, а бывший тибетский монах, — перебрался на другой берег, сияющий и манящий, и поддерживал свое скромное существование мелкими аферами, иногда довольно удачными, но всякий раз поддавался непреодолимой потребности смыться и исчезнуть.
К моменту встречи с Татьяной у него только и было за душой, что голубенький костюмчик и розовенький платочек. А у нее — лазоревый сарафан. Два таких голубых ангела.
Морган признался, что у них с тибетцем уже давно любовь. Только ради любви — и из-за глубокой привязанности к дражайшей мадам Фаберже, конечно — Морган не смылся и не исчез. Он вечно убегал, не от страха разоблачения, а именно когда афера перерастала в нечто вполне законопослушное и реальное. Законность его пугала, хотелось начать на новом месте, под новым именем. Со всеми наворованными у фирмы деньгами, конечно.
Желание начать на новом месте — это как раз Татьяна могла понять. Ужасно обидно было другое. Татьяна Фаберже давно уже замечала, что трудится неустанно на ниве пиара, возникает в светской хронике, устраивает благотворительные балы, а доходы как-то перестали соответствовать. Мало у нее Гуткин в свое время зарплаты из сумочки перетаскал, теперь и Морган туда же! Нашла себе мечту настрадавшейся русской женщины! Не раскусила, не распознала по своей эмигрантской темноте и доверчивости!
Но Татьяна Фаберже не подала на Моргана в суд. Она как раз прочла одну книжку по бизнесу, и в этой книжке было про то, что надо устраивать дела полюбовно, чтоб всем была выгода и никому не накладно. Чтоб и овцы паслись довольные на зеленых лугах, и волки удовлетворенно ковыряли в зубах зубочистками. Вполне возможно, что если бы она прочла книжку противоположного содержания, то сидел бы сейчас Морган в тюряге. Татьяна — натура артистическая и впечатлительная.
Тут дамы наши начинают между собой спорить, что если бы секретарь был не далай-лама какой-то, а хорошенькая секретарша, то Татка бы Моргана ни за что бы не простила. А мужчины наоборот говорят, что если бы хорошенькая — то можно и понять по-человечески.
Теперь она держит Моргана в подчинении и страхе. Живут все втроем в Татьянином особняке. Первый этаж Таткин, на втором Морган, в мансарде — секретарь.
Особняк обставлен в стиле а ля рюсс — положение обязывает. У нее несколько собак, все русские борзые, хотя она больше любит немецких овчарок. Расписные самовары повсюду стоят. Малявин и Кустодиев на стенах. В фойе портрет Татки работы Глазунова, инкрустированный драгоценными камнями.
Разговаривают они с Морганом по-французски с оттенком итальянского, и Татка сильно отупела. От косноязычия ведь тупеешь — тут обратная связь. Говоришь не то, что имеешь в виду, а на что словарного запаса хватает.
Татьяна Фаберже иногда звонит своим бывшим знакомым и спрашивает робко: «Ты меня не презираешь?». И на Новый год присылает подарки, ювелирные изделия сувенирной ценности.
Тут хозяйка дома Шурочка уходит в спальню и возвращается с горой бархатных коробочек, из которых вываливает на стол нетронутое и не ношенное содержимое. Самоварное золото с пестрыми камешками виновато поблескивает на скатерти между крошек и винных пятен.
— А мне вот это колечко даже нравится. Я бы надела, — говорит простодушная Машенька. — Хотя оправа аляповатая, — добавляет она, потому что окружающая интеллигенция морщится и фыркает. Мы в молодости приучены были презирать мещанство и дурной вкус, который четко отличается от хорошего. Отличие это нам известно еще со студенческих лет, и мнения своего мы не меняли, других забот хватает.
— А Татьяну все-таки жалко: несчастная женщина, без мужа, без детей… — говорит простодушная Машенька.
И все мужчины ей поддакивают, а дамы переглядываются с недоумением.
— И без вкуса! — добавляет скептическая Ленка. — Как можно жить среди борзых и Глазунова? Я бы ни за какие деньги… А вот Семочка и Симочка — помните их? — их жизнь только и состояла из хорошего вкуса. Хлебом не корми — дай Пруста почитать. А чем кончилось? Аппликациями.
— Какими аппликациями? — спрашивают гости.
И Ленка рассказывает такую историю.
Аппликации
История о том, что даже гениальный ребенок не приносит счастья
Мы живем в стране самовыдуманных людей. Встречаешься с кем-нибудь, кого знал много лет назад, и начинаешь очень осторожно выяснять: кем он себя выдумал? Кем он себя теперь считает? И даже необязательно, чтоб человек был в кокошнике.
Вот семейство: Семочка и Симочка. Всю свою жизнь в эмиграции прожили на богом забытом полустанке, то есть в заштатном университете. Создали свой зыбкий мираж, в претенциозной провинциальной изоляции, в газообразном каком-то состоянии, выморочные, выдуманные. Имеют свои вымышленные традиции, какие-то в своем тумане измерения. И на что их шаткий мир опирается, что именно они считают непреложными истинами?
Несмотря на мужа, по Симочке всегда было заметно, что она задумана старой девой и на каком-то астральном уровне таковой и осталась. Аура у нее такая — скудная и ядовитая. И Семочке тоже было предназначено прожить холостяком при какой-нибудь тиранической и капризной мамаше. Но досталась им счастливая планида, они встретились и поженились. И не разводились, как мы все. Понимали, наверное, что никто больше на их прелести не польстится.
— Ленка, — говорит простодушная Машенька, — ты такая скептичная. У людей ребенок больной, а ты ехидствуешь.
— Про ребенка и рассказываю.
— Ты судишь, — говорит умный Марк, — без достаточной информации.
— Я имею право судить, — огрызается скептическая Ленка.
— Право имеешь, сведений не имеешь. А без достаточных сведений это называется не судить, это называется — судачить.
Между Марком и Ленкой всегда начинаются такие разговоры, близкие к скандалу и обычно не имеющие никакого отношения к теме. Спорят они о чем-то другом, о чем — мы не знаем, и это что-то было так давно, что уже неинтересно.
Хозяйка дома Шурочка тактично заговаривает о пользе и прелести сплетен, без которых нам и поговорить было бы не о чем. Или, хуже того, эрудированный Ленька завел бы сейчас спор о современной русской политике, о которой у нас и вправду достоверных сведений нет…
— А про Симочку и Семочку я сведения имею, она мне много лет из своей академдыры звонила, — говорит скептичная Ленка. — Семочка Симочку ужасно разочаровал: он не получил Нобелевской премии. Симочка была уверена, что получит; они и эмигрировали, чтоб жить поближе к Нобелевской премии. Семочка оказался неудачником, застрял на уровне профессора, хотя и полного, и почетного. А Симочке необходима была слава и, предпочтительно, переезд в Европу.
Чтобы светский салон был, и экономка, и чуть ли не камеристка, и бонна для ребенка.
Дело в том, что вместо премии совершенно неожиданно появился у них ребенок, дочка их с крошечными ручками и прозрачной кожей, которую не отпускают они от себя ни на секунду, ни на дюйм от себя эту вялую Дюймовочку не отпускают.
Непонятно даже, как это произошло? Как эти два существа, умозрительные, рафинированные и тщедушные, могли произвести на свет живого человека, и как они смогли справиться с ребенком, причем с ребенком, постоянно дышащим на ладан? Хотя рассказам о девочкиных редких и наукой непостижимых хворобах мы не верили, и утонченная болезненность Дюймовочки считалась у нас легендой — вроде экономок, бонн и камеристок, роль которых выполняла одна эмигрантка из Львова.
Признаки гениальности начали проявляться в зародыше будущей Дюймовочки уже на втором триместре беременности. По рассказам Симочки, она затихала в утробе, слушая «Хорошо темперированный клавир» в исполнении Глена Гульда, но именно что Гульда и только Гульда. Она из утробы отличала. Можно себе представить, что она вытворяла после рождения.
А кругом, между прочим, Америка. Самая что ни на есть антипрустовская атмосфера.
Всяк тут тебе друг, товарищ и брат, без тонких различий хорошего вкуса и образования. Все говорят о спорте. Известен их университет исключительно своей футбольной командой.
Даже частной школы на их академическом полустанке нет, дети профессоров и поваров ходят все вперемешку в обычную городскую.
До десяти лет Симочка обучала Дюймовочку сама. Но домашнее образование оказалось ей не по силам: надо было сдавать подробные отчеты в тамошнее гороно и водить ребенка на экзамены, где строго проверялись знания обязательной программы, то есть совершенно ненужных вещей вроде американской истории, которую Симочка не знала и принципиально знать не хотела.
Кроме того, надо было пользоваться этим ужасным, вульгарным новомодным изобретением, компьютером.
Пришлось отдавать ребенка в школу. К великому счастью родителей у Дюймовочки к десяти годам уже не было желания общаться с ровесниками.
У нее, по утверждению Симочки, уже выработалось и укоренилось сознание своей элитарности.
Она, по рассказам Семочки, ничего, кроме Беккета и Джойса, не читала, отличалась изяществом манер и проводила все время одна, запершись в своей комнате.
— Ну и чем эта печальная история отличается от всех прочих печальных историй?
— А тем, что все это было вранье! Никакого Беккета Дюймовочка не читала, и никакого Баха она не слушала. Что правда — то правда: ребенок был болезненный. Чего еще ожидать, если девочка на улицу почти не выходит, сидит весь день, запершись в своей комнате, и даже ночью не спит?
Все эти годы Симочка и Семочка потратили на безнадежную борьбу с разрушающей страстью, которая овладела бедной Дюймовочкой…
— Господи! — ахает простодушная Машенька. — Неужели наркотики?
— Нет, какие там наркотики! Симочка долгие годы запрещала Семочке покупать компьютер. Телевизор у них в доме был, однако они утверждали, что смотрят только передачи из жизни животных или британские экранизации классики.
Симочка клялась, что ее дочь к компьютеру пальцем не прикоснется.
Но однажды Дюймовочка увидела компьютер и прикоснулась к нему пальцем — и как Спящая Красавица пальчик свой уколола и погрузилась в многолетний сон. С этого момента вся жизнь Дюймовочки была посвящена видеоиграм.
Она перевоплотилась в воинственную принцессу в стальном бюстгальтере, лакированных сапогах до бедер, с перекрещенными патронташами и могучими бицепсами. Из ее комнаты день и ночь раздавались выстрелы, пулеметные очереди, взрывы и электронные завывания: это Дюймовочка защищала световым мечом подвластное ей кровожадное племя амазонок, побеждая в бою динозавро-драконов и гигантских роботов-пауков. Неделями она говорила с худосочными родителями на клацающем свистящем языке своего видеонарода — это Дюймовочка-то, про которую они мечтали, чтоб она говорила не на вульгарном американском диалекте, а с британским прононсом, как баронесса на Би-би-си.
На последние профессорские они возили дочь то в Париж, то в Лондон; и не столько чтоб культурный кругозор расширить, сколько чтоб разлучить ее хоть ненадолго с предметом страсти. Но предмет страсти рос и развивался вместе с Дюймовочкой — и рос в том смысле, что становился все меньше и портативнее. Вот уже и в Париж можно было его с собой повезти, вот уже и в карман можно было его положить…
Они скрывали от всех позорное пристрастие дочки, не видели перед собой никакого будущего…
А потом Дюймовочка возьми да изобрети аппликацию.
— Изобрети — чего?
— Аппликацию, вам говорят. Ап. И не один, а вроде уже два или три апа. И у нее все апы купили.
— Для айфона, — поясняет умный Марк, — для любимого нашего айфончика.
— И что они делают, ее апы?
— Ну вот, например: идешь по улице, а тебе сообщают — что на какой кухне готовится. Где сладкий суп с оладьями, где свинина с кашей.
— Врешь ты все! — вмешивается хозяйка дома Шурочка. — Это же из «Свинопаса» Андерсена. Ты еще скажи, что при этом айфончик поет: «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин…».
— А еще какой ап?
— А еще такой ап, что ты ему говоришь: катись, яблочко, по блюдечку, наливное по серебряному, покажи, где земляника растет, где цветик алый цветет, по какому адресу Финист Ясный Сокол проживает.
— Да что ты брешешь! Ты лучше скажи, что она на самом деле изобрела…
— А еще есть такой ап, который сообщает, какие мимо по улице идут заинтересованные в знакомстве девушки или мужчины…
— А это зачем? — удивляются гости. — Мы, повторяю, уже не первой молодости, от жизни отстали и не понимаем, как и на чем теперь ловится основной кайф.
— Еще есть аппликация-будильник, который может следить за глубиной твоего сна… гостить он будет до денницы и на шелковые ресницы сны золотые навевать. Да не вру я! Вот Марк подтвердит.
— Есть такая аппликация, — подтверждает умный Марк.
— Короче, не знаю я, что там Дюймовочка изобрела, а тем более — зачем это нужно. Но только она код пишет — как дышит. Аппликация — миллион, аппликация — миллион.
— Действительно, — говорят гости, — сказка со счастливым концом.
— Подождите, это еще не сказка, а присказка.
— Приквел, — солидно поясняет эрудированный, но уже сильно назюзюкавшийся Ленька. — Теперь по-русски говорят: приквел и сиквел. Это приквел, погоди — сиквел будет впереди.
…Симочка держала Дюймовочку под замком, как Рапунцель в башне. Осуществляла через дочь свою несостоявшуюся судьбу старой девы. Но в компьютерной игре, в своей далекой видеостране Дюймовочка познакомилась с Прекрасным Принцем, скрывавшимся под ником… или как его — аватаром — Заколдованной Лягушки.
И появился в один прекрасный день на Семочко-Симочкином пороге некий молодой человек, лысый, лупоглазый и губошлепый.
И они развиртуализировались и поженились.
Семочка может больше профессором не работать. Симочка работать никогда и не собиралась, а Дюймовочка работать неспособна по слабости здоровья, она только в видеоигры играет и апы эти самые придумывает, что для нее — не работа. А Заколдованная Лягушка их продает, он главный представитель компании. Аппликация — миллион, аппликация — миллион. Вкалывает он, как черный негр, что так оно и есть. Потому что он, лягушка, — мало того что из простой семьи и Пруста не читал, он еще даже и черный!
Симочка у нас не политкорректная и на этой почве заболела редким видом тяжелого нервного расстройства с неопределенными болями в разных частях тела.
— А вот у одного эмигранта жена красивая была, — говорит эрудированный, но назюзюкавшийся Ленька, — это я про политкорректность. Он жену пристраивал в разные конторы, а потом они судились за половую дискриминацию. Что смотрят на нее не так — не руками трогают, а только смотрят и тем создают неделовую обстановку. Она блузки специальные носила, не захочешь — посмотришь. А на суде адвокат говорил: у нас не Иран.
— Это тот самый адвокат, который моему другу Сереже компенсацию сделал, — говорит умный Марк, — когда Сережу дубом в Центральном парке пришибло. Сережа с тех пор как сыр в масле катается.
— Какой Сережа? — спрашивают гости. — Сережа-правдоискатель, которого когда-то по диссидентству таскали?
— Именно он, — говорит умный Марк и рассказывает следующую историю.
Сережа-правдоискатель
История о том, что не в правде счастье
Сережа из тех людей, которые непонятно зачем уехали. Ему ведь не нужно было от жизни ничего такого, чего нам с вами нужно. Мы хотели карьеры успешной, собственного дома, для детей светлого будущего, по миру попутешествовать. Ну, и — свободы слова, например. Нам всего этого не хватало, а Сережа просто не замечал некоторых нехваток и перебоев. Если бы электрификацию всей страны отключили и осталась одна советская власть, он бы даже и не заметил. Ему была нужна только советская власть, чтобы с ней бесстрашно бороться. Он бы и при лучине свои открытые письма писал.
И зачем он рванул из Империи зла в наши вегетарианские края, где и бороться вроде бы не с чем, кроме запрета на курение?
— Его Надька вывезла, его сажать собирались, — говорит тихий Вова.
…В эмиграции Сережа с первого же дня, с чем мог, с тем и боролся.
Еду местную есть отказался сразу же, потому что в ней гормоны и химикалии. Ездил через весь город за гречкой, а по праздникам ел пельмени. На бесплатных курсах по изучению языка немедленно начал бороться с орфографией, пунктуацией и особенно — с идиомами, в которых он не видел ни логики, ни тем более богатой образности, присущей идиомам русского языка. С курсов его выгнали по просьбам трудящихся-одноклассников, потому что он постоянно задавал дотошные вопросы и отнимал время.
Потом Сережу устроили в русскую газету, где его жалели и содержали довольно долго. Правда, почти не платили. Но дамы тамошние специально для него хранили в редакционном холодильнике пельмени, а главный редактор много и охотно с ним пил; впрочем, с другими сотрудниками редактор тоже пил охотно.
Профессионалу, которому есть чего ожидать в день получки, никакие другие оправдания своей деятельности не нужны. Но если человеку не платят, он начинает искать совершенства и абсолютной истины и рвется служить культуре; все эти радости несовместимы с рентабельностью и сроками.
Сотрудники газеты были профессионалы. То есть специального образования они не имели, но им немножко больше платили, и они понимали, что без опечаток газеты не выпустишь, всех безграмотных не прокорректируешь, что перевирать факты просто необходимо для краткости и что попытки менять убеждения читающей публики плохо отражаются на подписке.
Сережа, хотя его выгнали с третьего курса не какого-нибудь, а именно филологического факультета, не был профессионалом и морочил людям голову. Его терпели, только постепенно всю работу на него свалили: тебе больше всех надо, ты и делай. Никто особенно в газету не вчитывался, и долго не замечали, что Сережа-правдоискатель потихоньку переписывал почти все тексты, заостряя их идейное содержание. Но потом он зарвался и перешел от публицистики, прозы и поэзии к рекламе, то есть к материалам, которые внимательно и ревниво перечитывались рекламодателями, платившими за слова поштучно. Когда политическая заостренность и антисоветская направленность была обнаружена владельцем похоронного бюро — а на рекламах похоронных контор и на некрологах и держалась тогда вся эмигрантская печать — вот тут-то Сережу и выгнали. Хотя в рекламе похоронного бюро антисоветская тематика выглядела вполне органично.
— Мы тогда некрологи для развлечения читали и со смеху покатывались, — влезает эрудированный Ленька. — Все время умирали какие-нибудь кавалергарды, фрейлины, бывшие министры, тени забытых предков… какой-то незабвенный Веня, которому помещали поминальные объявления на половину первой страницы, да еще отдельные эпитафии от членов семьи, со стихами… И не один раз, а на каждую годовщину. Видимо, хорошо устроилась семья.
— Вот в молодости мы смеялись, а ведь скоро… — начинает было простодушная Машенька, но ее испепеляют взглядами.
…Потом Сережа служил в грузчиках и попробовал бороться среди них с наркоманией; но там коллеги с ним и объясняться не стали, просто побили.
Он и путешествовал, но не как мы — не в музеи сходить или по горам полазить. Он переезжал из страны в страну и всякий раз надеялся найти край обетованный. В Израиле он боролся вначале против арабов, а потом за них. Уехал в Южную Африку, его оттуда Надька спасала…
Простодушная Машенька скромно молчит, хотя она лично вывозила Сережу из Претории — а ведь у них к тому времени и романа-то уже не было.
— Когда вернулся, его тут пристроили на курсы медбратьев, которые он каким-то чудом закончил.
— Не закончил он ничего, — перебивает Шурочка, — я ему сертификат устроила в нашей конторе. Чего мне это стоило!
…Но в первый же день работы в клинике, во время утреннего обхода, он сделал выговор врачам за неуважительное и равнодушное отношение к пациентам — что, конечно, чистая правда, причем тыкал главного в плечо указательным пальцем и декламировал ему клятву Гиппократа. И к вечеру его выгнали из медбратьев.
A тут еще и советская власть кончилась, Империя зла распалась… Что делать? Кто виноват?
Химикалии в овощах, запрет на курение, алогичность английского языка, врачи, арабы, евреи — все это были мелочи. Настоящим его призванием всегда оставалась советская власть. Он все эти годы открытые письма писал, на демонстрации ходил. Аэрофлот пикетировал…
В ненастный сырой день Сережа-правдоискатель в крайне подавленном настроении бродил по Центральному парку. Вполне возможно, что он к тому времени в парке и жил. Шумела буря, гром гремел, во мраке молнии блистали. И один дуб упал прямо на Сережу…
— Отчего он стал еще более подавленным, — говорит скептическая Ленка.
— Ой, Леночка, ну как ты можешь! — обижается простодушная Машенька. — Он получил контузию!
— Да, — подтверждает умный Марк, — ему врезало дубом по кумполу. И теперь у него огромная пожизненная пенсия от города, потому что вовремя трухлявый дуб не срубили. Говорю же — адвокат замечательный.
— А Сережа борется? Ведь вроде бы советская власть опять началась? — спрашивает эрудированный, хотя и подгулявший Ленька.
— В том-то и дело, что ни с чем он больше не борется! Правды не ищет, писем не пишет, на демонстрации не ходит, а купил дом, ездит каждую зиму на острова, возвращается загорелый, здоровый стал, как бык, женился наконец-то на Надьке… И, главное, непонятно — это изменение личности вследствие удара дубом? Ведь мы всегда говорили, что у Сережи бзик в голове, может удар пришелся как раз по той точке, где в мозгу центр правдоискательства дислоцируется?
Или это его большие деньги так испортили, которых ему никто и никогда раньше не предлагал?
Ведь теперь не узнаем, и наука не докажет: неправильный, нечистый получился эксперимент.
— Нехорошо это, — говорит тихий Вова, — приятно было думать все эти годы, что мы, обыватели, занимаемся суетой сует, но и в нашем поколении есть блаженный…
— А я рада за Надьку, — говорит простодушная Машенька, — Надька с ним намучилась, а теперь она устроена.
— Это Надька устроена? — хмыкает мрачная Элка. — Вот у меня была сослуживица Анька…
История с Анькой
История о том, что и щенок не всегда приносит счастье
— Гуляли мы раз с Анькой, — говорит мрачная Элка, — жара, зашли в корейскую лавочку купить воды. Стоим в очереди, все покупают лотерейные билеты. Мне хочется пить, и я начинаю зудеть: мол, что это такое? Лотерея — циничный налог на глупость. Математическая вероятность выигрыша равна практически нулю.
А Анька — она очень заводится поспорить и упрямая как осел. И назло накупила этих идиотских билетов. В основном таких, которые надо монеткой поскрести, и прямо сразу на месте видишь печальный результат. И один такой, где надо цифры загадывать, а результат через неделю.
Тут Элка опять мрачно молчит.
— В чем смысл истории? — спрашивают гости.
— Тише! — вдруг кричит умный Марк. — Тихо все! — и поспешно разливает нам всем коньяк.
— Ну да, — говорит Элка мрачно, — выиграла она через неделю свои пять миллионов… И теперь Анька мне — мне! — постоянно жалуется! Бывший муж с ней судится, с сестрой поссорилась. Квартиру купила — говорит, что неудобная. С работы ушла, хотела заняться творчеством, но все не может решить каким. Встречаться со мной после пластической операции отказалась, теперь только по телефону. И деньги скоро кончатся.
— Ну, это история обычная и ничем не отличается… — говорит умный Марк.
— Нет, вы главное послушайте! Завела она себе щенка — она и раньше мечтала про песика, но вечно жаловалась, что ветеринарные врачи дороже человеческих. Теперь и на щенка жалуется. Влез, говорит, прямо в сердце… Ухожу, а он сидит, смотрит… глазами своими… Нет у меня сил еще в кого-то влюбляться… Ну уж если человеку щенок не может принести счастья, то кто ей может помочь?
…Да на эту Аньку как-то и сочувствия не хватает. И печальная мысль приходит в голову, признак начинающегося протрезвления и даже похмелья: может, вообще невозможно устроиться так, чтоб раз и навсегда было хорошо. Или даже чтоб временно, но уж во всех отношениях.
— Вау! — говорит простодушная Машенька. — Какая история! А вот моей соседке Ирке повезло: она такая здоровая, спортивная женщина, марафон в Бостоне бегала и все такое, но тут у нее живот заболел, и она все терпела-терпела, а оказался гнойный аппендицит, и чуть перитонит не сделался, и ее едва успели довезти до больницы, операция прошла хорошо, но потом ей внутривенное не туда воткнули, жидкость залилась в легкие, медсестры не заметили, ее раздуло в четыре раза, она жалуется, что ей плохо, а доктор говорит: посмотрите на себя, у вас сорок фунтов лишнего веса, одышка, чего можно ожидать, надо следить за собой, а она его убеждает, что до вчерашнего дня сорока фунтов не было, что марафон в Бостоне бегала, что она необычайно здоровая; доктор пригляделся, вытащил внутривенное из легкого, извиняться не стал, чтоб не было легальных оснований против него дело возбуждать, а Ирка, еще и дышать не могла, тут же позвонила адвокату, и даже до суда дело не дошло, не хотели в больнице скандала, взяли подписку о неразглашении, и теперь ей идут пожизненные выплаты.
А жизнь у нее будет — тьфу, тьфу, чтоб не сглазить — долгая, потому что она закаленная очень. Ей так медсестра и сказала: не будь вы такая здоровая, вы бы от нас живая не вышли. Правда, она теперь в инвалидной коляске.
Всё. Пора расходиться.
Ленька и Ленка
История о том, что счастье — в любви
Все мы расходимся, садимся в свои потрепанные «хонды» и «тойоты», разъезжаемся по своим пригородам. Только скептическая Ленка с эрудированным Ленькой долго стоят у машины и препираются:
— Я поведу, ты назюзюкался, — говорит Ленка.
— Вовсе я не назюзюкался.
— Ты хорош.
— Ни в одном глазу.
— Ты зенки залил.
— Ты еще скажи, что я — в стельку!
— Нет, но ты тепленький.
— Ничего я не тепленький. Даже и не под мухой.
— Под градусом и изрядно кирной.
— Я не кирной, не бухой и даже не поддатый.
— Вижу ведь, что нализался.
— Пропустил по маленькой.
— И под конец лыка не вязал.
— Я только слегка дерябнул.
— И окосел.
— Я как стеклышко.
— Ты наклюкавшись.
— Я не наклюкавшись, я слегка приложившись.
— Ты в подпитии.
— Мы с Мариком раздавили одну красного.
— И уговорили коньяк.
— Коньяк мы дегустировали.
— А потом водки надрались.
— Да, я откушал водочки!
Они так долго могут: у них дружный брак и оба любят Хармса.
Жизнь коммивояжера
Я разбираю свои чемоданы в номере, поздно ночью; а по телевизору показывают «Смерть коммивояжера» с Дастином Хоффманом. Я Хоффмана не люблю, потому что он чересчур проникся системой Станиславского и все время перевоплощается и служит искусству. Очень любит говорить с акцентом и входить в образ.
Но «Смерть коммивояжера» мне очень нравится: как он надеется разбогатеть и особенно — как он в конце приходит к своему начальнику и просит, чтоб ему больше не ездить. Я его очень понимаю, потому что я тоже не хочу ездить. Я и так перемещенное лицо.
Когда я делю номер с другими коммивояжерами, они держат телевизор включенным все время, часто под него и засыпают. А я слишком деликатная, чтоб пожаловаться, ухожу в ванну и сижу там, глотая слезы и вспоминая рассказы диссидентов о громкоговорителях в Институте Сербского.
Если я одна, то телевизор стараюсь не включать. Но, с другой стороны, что делать? Есть люди, которые, войдя в номер гостиницы, не начинают тут же рaзмышлять о смерти, но я к их числу не отношусь. Войдя, полагается закрывать дверь на два запора и цепочку. Это чтоб убийца не вошел. При этом видишь на двери инструкцию с планом: куда бежать в случае пожара. Хотя я-то знаю, что никуда не добегу. Номера эти часто жутковатые, темноватые, ковры в них часто оранжевые с шизофреническим, наводящим бессонницу орнаментом, обои часто малиновые с мелким золотым дрипом. Окна запечатаны наглухо, на них тяжелые шторы, а у штор желтая клеенчатая подкладка, напоминающая о гражданской обороне или даже прямо о морге; есть в ней такая клееночная склизкость. Если раздвинуть эти занавески, приложив к тому большие физические усилия, то за окнами вид тоже неутешительный расстилается: бесконечные поля, засеянные автомобилями, шоссе, дорожные развязки, какие-нибудь одинокие небоскребы там и сям, или корпоративные хутора, или торговые центры, или огромные склады. Все это по сути своей очень пустынно и неуютно, и всюду одинаково; разве что если пальмы, то, значит — Калифорния.
Смотреть я на это не люблю, мне страшно, и я включаю телевизор. В конце концов, если люди, живущие в данной цивилизации, что-то делают, то этому есть причины. Возможно, это наиболее рациональный способ приспособления к условиям окружающей среды, и, сколько поначалу ни топорщишься, а кончаешь тем, что делаешь более-менее то же, что и все остальные.
По телевизору показывают обычно не «Смерть коммивояжера». Обычно переключаешь с программы на программу, а видишь одно и то же: человек с пистолетом в руке, или с автоматом, или с двумя пистолетами, или два человека с четырьмя пистолетами, так что начинает казаться, что люди тут так и рождаются с маленькими пистолетиками. Счастливые родители смотрят и умиляются: «Посмотри, какие у него ноготочки! И курочек крошечный! Посмотри: чихнул! Прицелился!».
Кроме того, в каждом номере есть Библия, потому что в незапамятные времена одному богобоязненному коммивояжеру было откровение и он основал общество, снабжающее Библиями все отели Нового Света.
Можно почитать Библию. В Библии, однако же, стреляют и из пращи, и из лука, и кожу сдирают, и оскопляют, и истребляют всех поголовно вплоть до младенцев в утробе матери. Это все я могу и по телевизору посмотреть.
А о бренности всего земного и что все прахом будем, мне напоминать не надо. Для этого я могу пойти в ванну. Там все облицовано пластмассовым мрамором, над раковиной зеркало во всю стену, а над зеркалом люминесцентные лампы. И в этом люминесцентном зеркале можно увидеть, как ты будешь выглядеть на собственных похоронах. Особенно если входишь в этот номер после полуночи, если просидел весь день уже где-то на небе, над толстыми ватными облаками и зная прекрасно, что там, куда ты летишь, никто тебя не ждет и ничего тебе не светит.
Есть, наверное, люди, которые в ванных комнатах отелей не думают о бренности существования. Даже наверняка есть, судя по количеству внебрачных и новобрачных отношений, которые в отелях осуществляются. Адюльтер, в котором изначально заложена идея бренности, разлуки да и возможной смерти от побиения камнями, — адюльтер еще можно понять. Но вот свадьбы меня искренне удивляют.
Очень часто после окончания нашей торговли нас поторапливают сворачиваться, упаковывать сундуки и чемоданы, в то время как в холле перед дверями торгового зала официанты уже готовят столы для свадьбы. И, по мере того как мы освобождаем помещение, они начинают вносить столы, по два сразу, один поверх другого. Делается это так: стол накрывается полностью, со всеми салфетками, стоящими конусом на тарелках, со всеми бокалами, с букетами посредине, того же цвета, что салфетки, и координированные с цветом свадебных приглашений и платьев подружек невесты; иногда уже и масло поставлено и начинает таять, и булочки подсыхают — и потом два официанта высоко поднимают один стол и ставят поверх другого и вносят оба в зал.
Делается это якобы для экономии пространства и времени, но также и для щегольства — всякому человеку хочется довести свое ремесло до уровня циркачества.
И вот, пока они вносят эти столы, начинают уже появляться подружки невесты в платьях цвета салфеток, приглашений и букетов; а за ними шафера с исключительно зализанными и зачесанными волосами, в смокингах, в шелковых поясах цвета платьев шафериц, салфеток, приглашений и букетов.
Все уборные отеля наполняются подружками, нервно проверяющими свои лакированные лица и волосы, стоившие им больших денег.
И тут появляются жених с невестой, и невеста довольно часто жуткая из себя, и я думаю — хорошо, что она нашла свое счастье; и еще думаю — неужели она не чувствует этого легкого запаха дезинфекции, этого запаха якобы лесной хвои, и вроде бы лимона, и фальшивой лаванды? И неужели она действительно хочет провести свою брачную ночь в номере с люминесцентной ванной и малиновым ковром?
Но вот уже и утро наступило, в соседнем номере брак приведен в исполнение, а мне пора идти завтракать.
Как всегда при виде гостиничного завтрака я вспоминаю про Оруэлла.
Почему на тарелке передо мной лежит подтекшая под себя глазунья, а посредине в нее воткнут свернутый кульком ломтик апельсина и большой вялый лист петрушки? Что общего между собой имеют жидкая глазунья, апельсин и петрушка? Пробовали ли вы когда-нибудь есть жидкую глазунью вилкой?
Я когда-то ела глазунью в колхозной столовой. Человек вышел на задний двор, вынул из-под курицы два яйца — слышно было, как курица закудахтала, — и отдал поварихе. Я почувствовала себя д‘Артаньяном, которому трактирщик ловит жирного каплуна и нацеживает вина из бочки. И они дали мне эту яичницу — наверху она была сырая, а внизу сожженная в уголь. Ту яичницу тоже нельзя было есть, но это ничего, это было понятно. Они масло украли, у поварихи болела голова после вчерашнего. В этом был здравый смысл и не было апельсинов. Апельсины эти меня преследуют в отелях, принимая различные виды и обличия — некая символика роскоши, подозрительная, как густой грим на рябой роже.
Вот как раз про это Оруэлл и написал в своей книге про бродяжничество. Он работал подсобным рабочим в отелях и ресторанах и подтверждает то, что мне давно мерещилось. Суть дела, то есть удобство и прокорм гостей, совершенно никого не интересует, даже и в голову никому не приходит. Потому что люди, делающие дело, заняты только удовлетворением тех, кто ими в этом деле руководит. Все перерастает в чистую символику и, как я подозревала, а Оруэлл подтверждает — именно чем дороже, тем хуже. Именно в дорогом ресторане наверняка десять человек твой бифштекс переворачивали, укладывали на тарелку, прижимали ладонью, чтоб не топорщился, а лежал, как полагается по разнарядке. Может, еще и плюнули на него, чтоб блестел.
Пока я размышляю обо всех этих неаппетитных вещах, кругом появляется все больше и больше коммивояжеров, приехавших на эту большую ярмарку. Со многими мы знакомы, раскланиваемся. Приятельница моя Лиз подсела за мой стол. Она рассказывает про свой бизнес, можно не слушать, а только улыбаться и ловить глазунью.
Когда Лиз наговорится про свой бизнес, надо будет ее расспросить про племянницу.
Лиз
Лиз очень много читает. Она по вечерам в номере надевает очаровательный пеньюар с рюшами, вытягивает на кровати свои стройные ноги с педикюром и читает книжки. Она мне объяснила, что выбирает только такие книжки, в которых нету плохих слов. Я сначала изумилась такой жесткости требований: ведь если выбирать только книги, в которых все слова хорошие, то что остается? Ну, Шекспир, Диккенс, Гёте, из русской литературы — один Пушкин. Хотя в переводе хорошие слова имеют неприятное обыкновение превращаться в плохие, так что ей остается только Шекспир и Диккенс. Однако быстро выяснилось, что Лиз имеет в виду названия половых органов и действий, с ними ассоциирующихся. Своей привычки к чтению Лиз стесняется, понимая, что следовало бы это время потратить на что-нибудь более полезное. Поэтому она объясняет мне, что читает только перед сном, потому что не любит принимать снотворное.
Другие, например, часто хвалятся что, мол, много читают. Рассказывают, что у них в доме столько книг скопилось уже прочитанных, и всё руки не доходят, чтобы их выбросить или отнести куда-нибудь и продать — потому что есть много людей, которые покупают уже прочитанные книги.
Но у Лиз отношение к этому делу атавистическое, прямо с хутора под Киевом, где жили когда-то ее предки. Чтение она считает бездельем и отчасти развратом, чем напоминает мне Чехова. Чехов тоже, описывая человека разложившегося, опустившегося и безвольного, не забывает упомянуть кроме выпивки, обжорства и неопрятности еще и беспорядочное чтение. Какой-нибудь доктор провинциальный читает до трех часов ночи и при этом имеет графинчик и соленый огурец, который кладет прямо на скатерть. Или дамочка какая-нибудь впадает в тоску и дочитывается до мигрени, лежа на диване. Этого вполне очевидного отношения Чехова к чтению почему-то не замечают, видимо, вследствие чрезмерной оригинальности. А чего тут непонятного? Вот сидит человек и смотрит телевизор до трех часов ночи, и всем ясно, что он или идиот, или впал в тяжелую депрессию; но, во всяком случае, бездельник. Если же он читает печатный текст, то это вроде бы занятие почтенное. А почему? Глаза еще хуже портятся.
Книги, которые читает Лиз, маленького размера, в бумажной обложке и написаны женщинами. Продаются они обычно в супермаркетах, очень дешево; но экономная Лиз берет их в библиотеке. Одну я одолжила и прочла.
Героиня — молодая, красивая, преуспевающая, но незамужняя, работает в большой корпорации. Однажды она и другие начальницы должны провести вечер с целью сбора денег на женскую профессиональную организацию. Долго решают, что именно делать, и одна предлагает замечательную идею: устроить мужской стриптиз, а потом раздетого мужчину разыграть в лотерею. Всем идея очень нравится, и одна дама предлагает на эту роль своего кузена, молодого преуспевающего врача, неженатого. Вечер проходит очень успешно. Дамы едят салат, пьют белое вино и выслушивают речи о пользе женских организаций, после чего появляется молодой доктор и начинает раздеваться. Подробно описываются эмоции молодого доктора: как он стесняется раздеваться перед всеми этими начальницами, но подбадривает себя мыслью, что поможет собрать деньги на женскую организацию. Описываются переживания героини и ее нарастающее волнение. Описываются его широкие плечи и узкие бедра (хорошие слова), не описываются его задница и половой орган (плохие слова). В конце он раздет, оставаясь, впрочем, в небольших плавках, и наша героиня выигрывает его в лотерею! В назначенный день они идут в ресторан, где едят салат и пьют белое вино, и он ей рассказывает случаи из практики. В этом и заключается выигрыш в лотерею. Но так как она почувствовала легкую слабость в коленях и он почувствовал, как его горло сжалось от какого-то доселе неиспытанного чувства, когда он увидел, как ее узкая рука с длинными пальцами отметает с высокого лба темно-золотистый локон, упавший на глаза цвета синего предгрозового неба (хорошие, очень хорошие слова!), короче говоря, оттого что между ними пробежала некая магическая искорка и они почувствовали, что между ними растет и зреет некая бесценная ниточка, — то история продолжается, причем очень томительно. Что-то постоянно удерживает героев от того, чтобы сорвать друг с друга одежды, и одежды эти срываются только в самом последнем абзаце. Так как все действующие лица преуспевающие и неженатые, то причины, по которым они не срывают друг с друга одежды, автору придумывать довольно трудно. Происходят разные мелкие недоразумения; например, герой сам своего счастья не понимает и хочет еще попастись на травке. Или героиня беспокоится, что замужество помешает ее карьере и продвижению по службе. Но и травка, и карьера — конечно же ерунда, в основном автор полагается на извечную человеческую страсть читать о том, как ничего не происходит. Однако и на этом одном — на том, как ничего не происходит, — женский роман тоже бы далеко не уехал. Главным двигателем сюжета, его, так сказать, внутренним мотором, является динамо.
Мужчины любят читать про оргазм, описанный плохими словами; женщины любят читать про динамо, описанное хорошими словами.
По этому принципу делится все популярное искусство — и литература, и кино.
История для мужчин, после быстрого введения в действие, все убыстряется и убыстряется, пока не доходит в конце до абсолютной погони и повальной стрельбы, и в конце все лежат мертвые, кроме главного героя, который, встряхнувшись, отправляется на поиски дальнейших приключений.
В историях для женщин происходит томление и страдание, страдание и томление, и в конце герои уходят к горизонту. Так как томление отнимает гораздо больше времени чем, скажем, драка, то в женской литературе к концу проходит уже много лет, и все такие старые и истомившиеся, что если Джейн Эйр и выходит замуж, то уже за слепого. И со своей подпорченной наградой за добродетель уходит к горизонту.
Лиз семьдесят пять лет. У нее много интересных качеств, но самое интересное, что она — украинская крестьянка, и сама этого не знает. Она вдова врача, они сделали удачные капиталовложения, и у Лиз два дома: один в Мичигане, где она живет летом, а другой во Флориде, где она живет зимой. Работает она по шестнадцать часов в сутки, торговать ездит каждую неделю; однажды приехала, к моему ужасу, с кровоточащей язвой. Каждую потраченную копейку она знает в лицо и по имени и оплакивает при расставании. Лиз даже знает немного по-украински, говорит: Кыив, Львив. Но она совершенно не осознает, что именно заставляет ее стоять по три часа на аэродроме, на стройных, но все-таки семидесятипятилетних ногах, ради экономии десяти долларов на билете. И почему она должна таскать тяжелые чемоданы собственными, в сапфировых кольцах руками, с тем чтобы не потратиться на носильщика.
И самое смешное, что нигде таких украинских крестьянок, с такой жадностью и с таким трудолюбием, уже нет. Кроме, разве что, Канады.
Это довольно часто встречается — всякие идеи, привычки, поверья и эмоции, вывезенные из Литвы, Норвегии и Ирландии и сохранившиеся, как мамонты в леднике. Просто времени не было у последующих поколений, чтобы задуматься по этому поводу; слишком все заняты были.
И еще есть у нее крепкая украинская любовь к мишпухе. Когда-то, лет пятнадцать назад, Лиз имела несчастье разыскать свою мишпуху где-то под Киевом, где они очень хорошо жили, имели дом и участок, а неприятностей с властями не имели, а даже, говорит Лиз, кажется, наоборот. Лиз несколько раз к ним ездила, возила подарки. И вот теперь, когда началась свобода передвижения, Лиз выписала к себе в гости троюродную внучатую племянницу Халину.
Приезжаю я в Сан-Франциско, а навстречу мне радостная и элегантная Лиз. А Лиз всегда очень элегантная, юбки носит выше колен, шелковые блузки под цвет, серьги, кольца, брошь — всё под цвет. Я Лиз всегда хвалю, а она бывает польщена и смущенно хихикает. Единственным недостатком Лизиной внешности являются багровые щечки. Приближаясь к восьмидесяти, Лиз уже не так хорошо видит, как краситься. Щечки ее из розовых превратились в красные, а потом в багровые и даже свекольные. Тем не менее для человека с кровоточащей язвой Лиз выглядит удивительно.
И рассказывает мне Лиз, что внучатая племянница Халина приехала, и не одна, а с мужем Майклом. Что им удалось очень быстро получить разрешение на выезд, потому что Майкл работает, кажется, ну знаете… В КГБ, что ли? — грубо спрашиваю я. Лиз кивает и возбужденно хихикает. Халине и Майклу очень нравится в Мичигане, Халина даже немного помогает по хозяйству, потому что Лиз отвыкла готовить каждый день на троих.
Месяца через два встречаемся мы в Далласе. Лиз, с не менее радостным возбуждением, рассказывает, что Халине необычайно понравилось в Мичигане, и, когда срок визита вышел, она решила не возвращаться обратно в Киев. Лиз уже наняла адвоката, который выхлопатывает Халине политическое убежище. Кроме того, Лиз дает Халине ежедневные уроки английского языка. Пытается также учить Майкла, но он только смеется и очень много ест.
Через некоторое время делили мы с Лиз номер в Филадельфии. Она мне призналась, несколько печально, что Майкл, видимо, привык жить на всем готовом и чтоб ему всё подавали. Ест он очень много, а овес нынче дорог. Однако она устроила Халину убирать дома по соседям, и Халиной все очень довольны. Машину она водить не умеет, и Лиз развозит ее по уборкам сама. Все заработанные на уборке деньги Халина копит, на прокорм Майкла не отдает; об этом Лиз рассказала с уважением, понимая, что у эпохи первоначального накопления — свои законы.
В следующий раз мы встретились в Бостоне, и Лиз была очень озабочена, даже посоветоваться со мной хотела бы. Адвокат разобрался в бумагах и выяснил, что Майкл был вовсе не муж, а сожитель, то есть не кровная родня, то есть Лиз вовсе не должна была его так много кормить. Однако он все еще ел, а от уроков английского языка отлынивал. Халина все убиралась и копила. Дело о политическом убежище подвигалось медленно, а адвокат брал с Лиз много. Самое же страшное, что приближалась зима и время переезда во Флориду, и гости нацелились переезжать вместе с Лиз.
Я очень расстроилась. Лиз, говорю, эти люди считают, что могут сидеть у вас на шее, а посмотрите, как вы тяжело работаете. Они думают, что вы богатая, потому что у вас два дома… А я сама так не думаю? На самом деле, мне гораздо понятнее чувства, руководящие Халиной и Майклом, а именно: жадность и зависть, чем это таинственное чувство генетического долга, которым руководствуется Лиз. Зачем ей нужно разыскивать совершенно незнакомых людей, помогать им, одаривать и, если они высказывают хоть малейшее желание, — перетаскивать в Новый Свет? Все это делалось отцами и дедушками и продолжает делаться со страстью — тоже из категории мамонтов в леднике.
Женщина, совершенно нормальная, — два часа перед этим накладные выписывала — сообщает мне со слезами на глазах, что не умрет спокойно, если не разыщет хоть кого-нибудь из семьи отца под Краковом, откуда он уехал в возрасте шести месяцев в начале века. И она совсем не шутит; организации, которые она привлекла к этому делу, включают Красный Крест, ООН и Мормонскую церковь — мормоны, как известно, занимаются составлением списка всех потомков Адама и Евы и уже довольно далеко в этом деле продвинулись.
Лиз, говорю, вы добрая душа, вы сама не сумеете их прогнать. Позовите своего сына-летчика, пусть он с ними поговорит. «Да, да, — говорит Лиз, — а то я все пытаюсь с ними объясниться, а этот Майкл только смеется и столько ест, столько ест!»
А на каком языке они объясняются — непонятно. У меня было такое чувство, что больше я Лиз живой не увижу.
И действительно, мы долго не виделись. Но потом встретились в Чикаго, и Лиз мне рассказала, чем все кончилось. А кончилось все очень хорошо.
Майкл оказался не только не мужем, но и сожительство его с Халиной было очень скоропалительным и даже отчасти фиктивным. Халине, видимо, очень хотелось паспорт поскорее, а у Майкла возникло желание пожить в Мичигане. Вполне возможно, что одежды они друг с друга сорвали уже на Лизиных пуховых перинах. Любовь Халины оказалась некрепкая. Когда она поняла, что Лиз привязана к ней узами крови, а к Майклу не привязана, и что Майкл является ненужным балластом, она помогла Лиз прогнать Майкла обратно в Киев. Халина продолжала жить у Лиз, зарабатывала уборкой и копила.
— А потом, — рассказывает Лиз, — я решила пригласить в гости соседа. Он вдовец, уже очень пожилой человек, но порядочный и солидный. Мы посидели, выпили кофе, а потом он мне говорит: ваша родственница такая приятная женщина, скромная, молчаливая, но видно, что порядочная. Как бы мне ей объяснить, что я бы хотел с ней встречаться. И что же вы думаете! Уж не знаю, как они объяснились между собой, но Халина уже полгода замужем; теперь у нее свой дом, она огород развела и гражданство получила! И мне не пришлось адвокату платить! Она так счастлива, она мне помидоры из своего огорода приносит, великолепные помидоры! Выяснилось, что у нее в Киеве взрослый сын, теперь мы его выписываем.
Хочется думать, что и у сожителя Майкла все сложилось хорошо. С его прошлым и богатым опытом жизни на Западе он должен был стать директором, президентом и единственным держателем акций какого-нибудь внезапно приватизированного предприятия. Вполне вероятно, что у него уже есть дом в полюбившемся ему Мичигане и строится по специальному проекту другой во Флориде.
Ослепительные чечеточницы Далласа
Три сестры — мисс Мэри, мисс Сузи, мисс Анни — так ко мне привыкли за долгие годы нашего знакомства, что, когда мы остаемся наедине, они иногда даже перестают улыбаться.
Обычно лица техасских женщин всегда закрыты улыбкой. В других штатах тоже улыбаются, но это иногда легкая вуаль, иногда чадра или паранджа. В Техасе же — нечто вроде афганской бурки, полный, с ног до головы камуфляж.
То есть они и всем телом изображают сияющую улыбку, например:
завидев знакомую издали, техасские дамы визжат и бегут на полусогнутых, разводя заранее руки для объятий, закидывая головы для поцелуев;
добежали, обнимаются, энергично и долго хлопают друг дружку по спине, прижимаются щеками — но прижимаются осторожно, чтоб взаимно не испортить грим, чмокают воздух;
потом, пятясь, разошлись, посмотрели друг на друга в изумлении, опять визжат от счастья и опять кидаются обниматься — и так до трех раз;
а потом говорят: привет — привет, — и идут по своим делам.
Что же касается самой улыбки, то она на этом уровне ослепительности осуществляется уже не лицевыми мышцами, а напряжением жил на шее.
Три сестры называют друг друга мисс не потому, что они юные девушки. В южных штатах сохранился такой милый старомодный обычай: близкие называют замужнюю женщину не миссис, например, Смит, а мисс, скажем, Джейн. Они и меня называют мисс; мне это ужасно нравится.
— Почему ты, мисс, одеваешься в черное и серое? Почему не покупаешь малинового или бирюзового? И ты должна носить юбки покороче.
Видимся мы в Далласе раз в год. Они лет на двадцать старше меня и беспокоятся обо мне, матери-одиночке.
— Твои друзья тебя с кем-нибудь сводят? Нет? То есть как это — у вас не принято? Зачем тебе друзья, которые одинокую женщину ни с кем не сводят? А ты ходишь в бары, где знакомятся? Нет? У вас и это не принято? Как же ты найдешь мужчину? Ты что, о своих детях не думаешь?
Подумав о своих детях, я должна надеть юбку покороче, малиновую или бирюзовую, и пойти в бар, где знакомятся с мужчинами. Или в синагогу.
Вот Анни говорит:
— А твой священник? То есть раввин. Он, что же, не знает одиноких мужчин?
В синагогу я хожу еще реже, чем в бар. И пить, и думать о божественном я предпочитаю дома. Это дешевле; и я люблю эти два дела совмещать.
Я пытаюсь отшутиться:
— Зачем мне мужчина? С ним возиться надо.
— А уж это зависит, — строго говорит старая мисс Анни, — если человек с серьезными деньгами — можно и повозиться.
На это я ничего возразить не могу. Три сестры больше моего знают о серьезных деньгах.
— А как ваша жизнь? — спрашиваю я, зная заранее, что жизнь их прекрасна и замечательна.
— Прекрасно, замечательно! — отвечают сестры, — столько дел! Мы заняты, заняты! Крутимся с утра до вечера.
Это обычная формула счастья: занят, кручусь!
— Анни в прошлом году ездила в трансатлантический круиз. Мэри играет в гольф каждый день; и весь благотворительный базар на ней. Сузи думает опять серьезно заняться политикой.
Три сестры пригласили меня к себе не только чтоб напомнить о материнском долге и пользе укороченных юбок. Они интересуются политикой.
Сузи спрашивает:
— Почему все не хотят жить так, как мы?
Это она про политику. Это она задает главный вопрос американской внешней политики, вопрос, над которым ломают себе головы наш Госдепартамент и все виды разведок: почему все не хотят жить, как мы? Это она спрашивает: почему все прочие народы и государства не хотят подсесть на спроектированную нами необгонимую тройку? Мы бы и поставку лошадей организовали.
Я пытаюсь найти ответ, чтоб покороче и чтоб было лестно для Сузи. Я говорю:
— Им лень.
— То есть как лень? Ведь надо же что-то делать!
— Сузи, ведь американцев все терпеть не могут, знаете?
— Знаю! Но почему? Мы ведь всем помогаем.
— Считается, что американцев не любят, потому что они такие богатые…
— Но кто ж им мешает самим разбогатеть? Почему они не делают, как мы? Мы работаем.
— Вот я к тому и веду: я считаю, что американцев терпеть не могут не потому, что они богатые, а потому, что никто не хочет так много вкалывать и все время суетиться. Людям лень.
Этого Сузи понять не может.
— В голове не укладывается! Ты хочешь сказать — как наши черные? Которые все время жалуются — а чем уж их так обидели, лентяев бесхребетных, не все же им в саксофон дудеть…
Ну и ну. Притворимся, что мы этого не слышали. Сузи у нас немного старомодная.
Сузи когда-то работала на избирательную компанию Барри Голдуотера, знаменитого расиста и мракобеса. Я еще тогда ходила в школу в Москве, но помню карикатуры в «Крокодиле»: взбесившийся во мраке расизма Голдуотер. Как и Голдуотер, Сузи всегда ненавидела коммунизм, и это нас роднит.
Но мы с ней ненавидели коммунизм по разным причинам. Она, например, думала, что в безбожных коммунистических странах всем все давали бесплатно, а это порождает лень, что там не было богатых и бедных, а поощрялись хиппи, аборты, разврат и общие жены.
Я уверяла ее, что бесплатно совершенно ничего не давали. А богатые и бедные были. Только богатых намного меньше, чем в Техасе, а бедных — намного больше. Но вообще я стараюсь не морочить ей голову. Слишком сложно объяснять, например, что мое отвращение к организованной религии основано на том, что впервые я с ней столкнулась именно в виде исторического и диалектического материализма. И что жены — да, довольно часто были общие, но не по государственной инициативе. Это как раз была единственная область свободного частного предпринимательства.
Я вообще стараюсь говорить им о себе только то, что они могут понять, то есть отчасти вру. Это обычное эмигрантско-беженское поведение: говори то, чего от тебя ждут. Поэтому я никогда не верю никаким страшным историям, которые рассказывают по телевизору жертвы землетрясений и геноцида. Знаю я нашего брата. Причем вполне возможно, что с ними произошло что-нибудь еще и намного пострашнее; но об этом говорить никому не хочется. То же самое и с нищими; они всегда врут, что погорельцы или что деньги им нужны на операцию, а про свою настоящую жуткую жизнь рассказывать не станут. Профессиональная гордость.
Сестры уверены, что я томилась в застенках. Я — их личный борец с тоталитаризмом.
— Как ты думаешь, — бывало, спрашивала меня пытливая Сузи, когда мы только познакомились, — коммунизм скоро кончится?
— Нет, Сузи, не скоро. С чего ему кончаться? Мы раньше кончимся.
— Ах, — пугалась Сузи, — так нельзя думать! Ведь это — пессимизм.
Неотразимый аргумент: так нельзя думать — это же пессимизм! Нельзя так негативно думать! Все действительное — прекрасно и все прекрасное — действительно.
Не могла же я вместе с ней надеяться, что коммунизм вдруг кончится в ближайшие десять лет и в безбожной Москве возведут Макдоналдс.
Легкомысленная мисс Мэри, с другой стороны, интересуется не коммунизмом, а монархизмом. Она обожает императорскую фамилию: царя, царицу и Карла Фаберже. Тут уж я и подавно не лезу с объяснениями. Зачем ей знать про сложные взаимоотношения между царским семейством и русским еврейством, и уж тем более про мою личную ненависть к Фаберже.
К нам приходит целая толпа дам: улыбки, объятья, ликование. Все они — благотворительницы, дамы-патронессы.
Ярмарка, на которую я приехала, — благотворительный базар. Доход идет для какого-то фонда, дающего деньги какой-то организации, субсидирующей какую-то больницу. Мне вначале казалось, что было бы намного проще, если бы три сестры и, скажем, мисс Нора, которой принадлежит полгорода, или Аннина дочь мисс Бэрди — просто скинулись бы между собой и выписали чек. Эта Бэрди, то есть по-русски «Птичка», и одна могла бы небольшую больницу субсидировать. Потом я поняла, что всё это, конечно, не так: существуют какие-то сложные правила, законы, по которым такие дела делаются. Не зря же эти дамы вкалывают с утра до ночи на своих благотворительных базарах, бегают в хорошеньких передничках, расшитых изображениями национального флага и — не совру — нефтяных вышек, сидят на заседаниях всяких советов, устраивают приемы на триста человек…
А еще позже я поняла, что права была вначале: в смысле благотворительных денег Бэрди, Мэри и Нора в основном скидываются между собой, а все остальное происходит, чтоб им не скучно было.
Дамы целуются и ликуют. Но в этом их ритуальном ликовании тоже есть свои оттенки.
Мисс Мэри от природы жизнерадостная, на нее бы и в Псковской области орали: «Чего ржешь-то? Чего, дурища, нашла такого веселого?».
Но эта их мисс Бэрди, Птичка эта сорокапятилетняя, дочь старой Анни, — вот кого выдержать трудно. За прошедший год она, видимо, еще тысяч пятьдесят упекла в пластическую хирургию. Глаза у нее ввалившиеся, скулы обтянутые, просто Кощей Бессмертный, на чем только румяна держатся. И все время она взрывается механическим телевизионным смехом.
Почему-то они все эту Птичку обожают и обхаживают. Мисс Нора, та, которой принадлежит полгорода, принесла ей подарок. Птичка долго визжала, разворачивала папиросную розовую бумагу и вытащила невероятного уродства глиняного ангела. Они с мисс Норой вскакивают, чтоб удобнее было обниматься, хлопать по спине и чмокать воздух.
Все радуются: «Это для твоей коллекции! Птичка коллекционирует ангелов! Это для твоего нового дома!».
И тут Птичка кричит, что все мы должны перед банкетом посмотреть ее новый дом. Он тут за углом.
Два квартала мы проезжаем в автобусе, принадлежащем мисс Норе. Она купила большой туристический автобус и переоборудовала его для своих личных нужд: внутри панели красного дерева, мягкие кресла, бар и бармен. Прекраснее всего бармен, неописуемой красоты жгучий аргентинец. Шофер тоже ничего, но он, наоборот, блондин и косая сажень. По случаю праздника весь автобус увешан гирляндами орхидей, и у шофера с барменом орхидеи в петлицах смокингов. Кто-то из наших коммивояжеров сказал мне, сколько стоит каждая орхидея, и я их пытаюсь сосчитать, но за полторы минуты поездки не успеваю ни сосчитать, ни допить приторного коктейля.
Уже темнеет, и в сумерках почти достроенный дом весь светится, все четыре этажа — все веранды, балконы и эркеры и странные башенки на крыше. Мексиканцы, рабочие, сидели под стеной на корточках, и ужинали с пивом; они вскакивают и радостно приветствуют синьору Птичку. Шофер поддерживает Нору под локоток, так как газон перед домом незакончен, всюду колдобины. Бармен и мексиканцы хлопают друг друга по плечам, как лучшие друзья; они ему что-то про дом лопочут, а он с умным видом головой кивает.
Птичка извиняется — еще не на всех дверях есть ручки, будут антикварные. Но витражи — видите — уже готовы. Дамы пищат, что Птичка — гений! Ведь она сама все спроектировала! Сама нарисовала план! У нее так все продумано! На каждом этаже прачечная комната!
Птичка показывает — вот тут спальня с ванной, прачечной и отдельным душем, а это джакузи и маленькая прачечная. А большая прачечная тут, и здесь две спальни, при каждой ванна, отдельно душ и отдельно туалеты. А тут главная спальня, при ней две ванных, и тут тоже, конечно, джакузи. Тут большая прачечная и гладильная. А кухня двухсветная, в два этажа. Тут тоже две уборных и небольшой душ. А подвал — там спальни для гостей, ванна и стиральные машины.
Вообще-то с этим домом что-то не так. Хотя он весь пахнет свежим деревом и ярко освещен, и все мы бродим гуськом из одной беломраморной ванны в другую, из одной кафельной прачечной в другую, и все эти девственные унитазы и биде сияют, и никель сверкает, и нержавеющая сталь — но почему-то этот дом мне не нравится. Странный дом.
— Ах, — кричат дамы, — библиотека, прелесть, библиотека! Шкафы с пола до потолка, как в кино про английское поместье! Почти вся твоя коллекция ангелов тут поместится!
— Здесь, где газон, был глубокий овраг, — объясняет Птичка, — я пять месяцев назад, когда покупала участок, чуть было не передумала. Но мы всё засыпали. Здесь будет налево фонтан.
— Как — пять месяцев? — спрашиваю я в ужасе у мисс Анни. — Она все это за пять месяцев построила?
— Нет, она месяц делала план, а за четыре месяца построила.
— Я этот дом закончу и продам! — восклицает сверхактивная Птичка. — И буду строить другой!
Банкетный зал декорирован дамами — опять орхидеи, воздушные шарики. Перед каждым прибором сувенир — маленькая нефтяная вышка. Подается кура с ананасами. Три сестры посадили меня по блату за самый главный стол для организаторов и патронесс.
Птичка, главная распорядительница банкета, взлетает на сцену и вопит на последнем уже пределе восторга и ликования:
— Леди и джентльмены! Перед вами — согласившиеся осчастливить нас своим присутствием — поразительные — несравненные — ослепительные! Чечеточницы! Далласа!
И аккордеонист начинает наяривать. Это традиционная музыка Техаса, созданная когда-то мексиканскими батраками, которые наслушались чернорабочих — поляков, переняли у них краковяки и польки, но сильно добавили быстроты и темперамента.
На сцену вылетают чечеточницы. Их средний возраст — шестьдесят пять, чечеткой они увлеклись недавно, когда их дети выросли и надо было что-то делать. И так в этом преуспели, что стали выступать по всему штату, получают гонорары за выступления и отдают их на благотворительность. Костюмы у них крайне фривольные, декольтированные, расшитые блестками, чулки сетчатые, улыбки ослепительные, вставные. Огромные техасские шляпы, на поясах кобуры с револьверами — ну дают, ну дают!
И вот они уже приглашают желающих из публики! И все друг друга подталкивают и тянут за руки! Мисс Мэри — первая!
И все танцуют, все умеют чечетку. И Птичка на своих диетических ножках. И лучше всех — Нора, несмотря на стопудовый размер и следы патрицианской красоты; она ведь, кажется, из аристократов, то есть из первопроходцев и ранних поселенцев. Бьет копытом, вертится, сцепившись под локоток то с шофером, то с барменом. Их, видимо от демократизма, тоже пригласили; впрочем, они в своих смокингах совершенно вписываются. Некоторые дамы закованы в вечерние платья, чешуйчатые, как знаменитое техасское животное армадилло. Но большинство — в мексиканских платьях, малиновых, бирюзовых, вышитых огромными цветами.
Ослепительные чечеточницы из пистолетов стреляют — бум! бум! — каблуки как пулеметы стучат, шарики как бомбы взрываются! Однова живем!
Меня никто никуда не тянет.
Про меня давно уже решили, что я слишком сдержанная. Почему-то они считают, что если бы я была несдержанная, то тоже бы стала хохотать и отбивать чечетку. А я точно знаю, что при моем жизненном опыте, прошлом и настоящем, — зарыдала бы навзрыд. От того и сдержанная.
В моей ситуации, думается мне, они бы тоже не краковяк хотели отплясывать, они бы хотели того же, что и я: сидеть дома и совмещать любимые занятия, питье и размышления о возвышенном. Негативные размышления, потому что мне недавно стало казаться, что Всевышний посмотрел-посмотрел на меня, плюнул и сказал: «А пошла ты знаешь куда? Надоела». Так у меня обстоятельства складываются в последнее время.
Вот этого они и не могут понять, благотворительницы, когда спрашивают: почему мы не хотим жить, как они. Потому что у нас было много неприятностей. Это у них, на этих их целинно-залежных землях — сунь в землю зерно, оно и прорастет стопудовым урожаем. А у нас, жителей других, более потасканных и поношенных мест, у беженцев или у местных черных, которые, по Сузиному мнению, ленивы, — у нас коллективная память другая. Нас коллективно били по голове. Частная инициатива мало помогает, когда коллективно по голове бьют. Тут уж сидишь тихо, помогаешь друг другу не рыпаться. Работать стараешься поменьше, копишь энергию. А деньги не копишь — отбирали и отберут. А они посылают морскую пехоту спрашивать: «Почему вы не хотите жить, как мы?». Как ребенок с жучком: «Почему ты не хочешь ходить на двух ножках, как я? Гораздо удобнее. Давай, я тебе лишние восемь оторву». А жучок все равно на задних ножках не ходит, лентяй бесхребетный. А уж чтоб чечетку…
В полночь я бреду по коридору гостиницы, прижимая к груди нефтяную вышку, а туфли несу в руке, надеясь, что соседка моя, Юдифь Портной, уже спит.
Мегера Портной, исключительно противная еврейка из Нью-Джерси, не пошла на празднества. Во-первых, потому что ее никто не звал. Она всегда подозревает в таких случаях антисемитизм, но ее ненавидят не теоретически, а конкретно за мерзость характера. Кроме того, она простужена и потеряла голос. Поэтому я и согласилась делить с ней комнату — надеялась, что она будет молчать. Хотя частично и от страха. Мне кажется — я ей откажу, а она на меня донос напишет в налоговое управление. Миссис Портной тоже ненавидит большевиков — за страдания, причиненные еврейскому народу; но я-то прекрасно знаю, в какой политической системе она бы процветала и в каком бы учреждении работала.
Но не спит Мегера. Из темноты раздается шипение:
— Ну что? Вы тоже чечетку отплясывали?
— Ах, Юдифь, — пугаюсь я, — вы должны щадить свой голос!
— Я рада, что отказалась идти на эти гойские развлечения. А что дом? Шикарный, да?
Она долго кашляет в темноте, а я стараюсь лежать, не шевелясь. Притворяюсь, что сплю.
— Анни и Сузи всё курят? — сипит Мегера. — Когда в семье уже был один случай… Как, вы не знаете? Мэри в прошлом году делали операцию. Надо рассчитывать на худшее… Вы ничего не знаете. И тут у них семейный раскол, процесс этот нескончаемый…
— У трех сестер раскол?
— Почему трех? Их четверо сестер. Вы ничего не знаете. Луелла старшая. Она их совершенно обобрала на наследстве, притом невероятно богатая женщина. Богаче ли Норы? Сравнили!
Я рассмешила Мегеру, и это плохо кончается. У нее удушье.
— Представляю, что эта Нора перенесла, когда он ей сказал… Как кто? Сын ее, автобус-то вел, блондин? Нора, конечно, притворяется, что все это нормально, в порядке вещей, этот ужасный Диего у нее вечно в доме, как сын родной… Я бы на порог… Почему бармен? Он архитектор, он Птичке дом строит… А Птичка что? Держится?
— А чего ей держаться?
— Вы ничего не знаете? Она ничего не знает!
Портной от возбуждения начинает свистеть, кашлять и задыхаться:
— У нее же единственная дочь была, шестнадцати лет… Анджела… Полгода назад…
— Юдифь! Пощадите свой голос! Вам лучше помолчать!
— Бэрди ей подарила машину… и буквально через месяц…
Мегера хорошо выспалась за день. Она лежит в темноте, как упырь, и сипит, и шипит, и харкает; иногда ее почти не слышно, иногда только клекот какой-то, как будто полустертая запись старого шпионского магнитофона. И притом не агент наблюдения пленку записал, а активный диверсант, потому что удовлетворение в ее голосе, гордость у нее, упырихи, вроде не просто она знает то, чего никто не знает, а сама это лично и устроила.
— Дочку и этого саксофониста ее черномазого Сузи содержит… Внуки-полукровки… Я бы на порог…..Торнадо, и потом опять отстраивались… И нашли в машине марихуану… Взял у отца все кредитные карточки… В одном доме и десять лет друг с другом не разговаривают… Ураганом… Параличом… Запоем… Разводом… Она ничего не знает!
Бетти
Бетти человек необщительный, но говорливый. Говорит она очень невнятно, мямлит, бормочет. Если ее перебить, она замолкает и терпеливо ждет, а как только замолчишь — продолжает. Со своим чисто вымытым лицом, розовой помадой и белыми волосами, стоящими вокруг головы дыбом, Бетти похожа на пухленький божий одуванчик. Одевается Бетти в розовое и любит аппликации с медведями, зайчиками и т. п.
Вечером мы сидим в баре гостиницы и беседуем о проблемах алкоголизма.
Часть жизни Бетти провела в какой-то стране вроде Египта, потому что ее муж служил не то в армии, не то в большой корпорации. Это было еще при колониализме, когда все население четко делилось на белых и цветных, и ровно в пять часов пополудни во всех странах мира цветные выносили белым подносы, а на подносах стояли запотевшие бокалы, и в бокалах плавали разные лаймы и оливки. В этом Египте или Кении у Бетти был повар, нянька для детей и горничная. А сама она была из Южной Каролины, из очень простой семьи, в молодости работала секретаршей. Делать ей в этой Саудовской Аравии было совершенно нечего, кроме как ждать пяти часов.
Там же, в Кении или Индии, ее муж неожиданно умер. Дети были еще совсем маленькие, и когда она вернулась домой и пока выхлопатывала пенсию, то ей туго пришлось. Потом она устроилась секретаршей и на это, плюс небольшую пенсию, растила детей. Серьезно пить она начала еще в Египте, от одиночества и безделья. А потом, от еще большего одиночества и от выращивания детей, спилась совершенно. Хотя на работу продолжала ходить. Каждое утро поднималась и шла на работу, а после работы, по дороге домой, начинала в баре по маленькой, потом дома добавляла, понемножку, но безостановочно, пока не падала. Джин, конечно джин с тоником — любимый напиток женщин. Небось еще и лед не забывала, и ломтик лайма. Но в этом и заключалась вся ее хозяйственная деятельность, потому что детей она при таком режиме домашними обедами не кормила. Дети ели то, что обычно едят в таких ситуациях дети в Южной Каролине: кукурузные хлопья, белый хлеб с майонезом, печенье. Потом научились открывать консервные банки и зажигать газ.
Я говорю:
— Мужчины бросают пить, если им угрожает потеря работы, а женщины — если боятся потерять детей.
Это я прочла в книжке по психологии.
— Ну, это не так, — бормочет Бетти, — это необязательно. У меня дочка ушла из дому, когда ей было тринадцать лет — или двенадцать? Нет, тринадцать. Она была в шестом классе. Значит, двенадцать. Ушла из дому. Мне совершенно все равно было.
Происходящее между нами не следует путать с задушевным разговором. Бетти принадлежит к обществу трезвенников, и ее там научили всем рассказывать о своем алкоголизме и вспоминать прошлые ужасы; это дает полезный терапевтический эффект. А я умею хорошо слушать — искусство, приобретенное в те годы, когда я была русской женщиной и боевой подругой. Морщишь лоб, смотришь в глаза, а рот открываешь только для того, чтобы произнести какую-нибудь банальность ровно за секунду до того, как ее же собирается произнести твой собеседник. Это называется: понимать с полуслова.
В баре очень шумно, а Бетти говорит так тихо и невнятно, что я не особенно прислушиваюсь, а больше киваю головой. Мы в Техасе, и, кроме обычного шума, у них тут в баре происходят бега раков-отшельников. В большой коробке устроено нечто вроде ипподрома, и туда запускают этих бедных животных, которые бегут в своих раковинах, сами не знают куда, а иногда поворачиваются и бегут в обратную сторону. Посетители бара делают на них ставки, а у раков номера на спинах, то есть на раковинах. Это жители Техаса производят так много шума, а раки — они существа тихие. Интересно, что эти раки-отшельники, в отличие от нормальных раков, продающихся в пивной, сами на себе свой панцирь не выращивают, а находят себе уже готовую раковину. Если потом попадается раковина побольше и получше, то отшельник выползает из своей старой и нагишом со всех ног перебегает в новую.
И так, рассказывает Бетти, она пила до одного прекрасного утра, когда проснулась и решила, что больше пить не будет. Вот и сейчас — я пью джин с тоником, а она чай со льдом. Бетти не может мне вразумительно объяснить, почему она вдруг бросила пить. Говорит — испугалась, что умрет.
На этом терапевтическая часть разговора заканчивается и Бетти заводит про свое любимое — о торговле. Я не успеваю спросить, била ли она своих детей и водила ли к себе посторонних мужчина. Она бы мне охотно рассказала, но ее тянет перейти на более интересную, торговую тему, а мне не хочется в этом шуме прислушиваться.
Дело в том, что когда Бетти бросила пить, она завела себе хобби — стала подрабатывать коммивояжерством. И, выйдя на пенсию, продала свой дом и купила себе трейлер, дом на колесах. Ездит теперь в нем по всей стране и торгует. Постоянного адреса у нее нет, только почтовый, в том штате, где она раньше жила. Там же она платит налоги, голосует и так далее. Так как Бетти живет на колесах, то у нее нет ни соседей, ни друзей, и вообще никого, кроме коллег по торговле, людей, которые ездят из штата в штат и встречаются в разных городах. Приезжая в разные места, встречаешь разных людей, но Бетти встречаешь всегда.
И Бетти все очень любят. Не то чтоб она была особенно добра, или дружелюбна, или весела. Нет, как все серьезно завязавшие люди, она крайне занудна. Но Бетти у нас нечто вроде талисмана, престарелая дочь полка. Симпатия к ней происходит оттого, что она довела коммивояжерскую жизнь до абсолютного идеала. У всех у нас есть еще что-нибудь, бывают моменты, когда мы никуда не едем и ничего не продаем. А она — Летучий голландец розничной торговли, своего рода монахиня, невеста Гермеса.
Говорит она с интересом только о бизнесе. Бетти так любит говорить про свой бизнес, что ей неинтересно, когда мы переходим на какие-нибудь отвлеченные темы. Например — о качестве гостиницы, или о дурном обслуживании в ресторане, или о погоде.
Тихо, неторопливо, занудно и не очень внятно бормочет она о том, как прошла торговля во Флориде, как, по слухам, обстоят дела в Калифорнии, сколько покупателей пришло в Чикаго и сколько в Кливленде, что она продала в Далласе, как покупательница опоздала оплатить небольшой счет, что она собирается закупить в Вашингтоне, где она надеется продать кое-что из залежавшегося и что продалось с первого же раза, как ей придется вернуть товар, который пришел бракованным, какие у нее планы расширить ассортимент, как в этом месяце прибыль ниже, чем ожидалось, но все-таки выше, чем в прошлом году, как она надеется хорошо распродаться на той неделе…
Все это было бы гораздо интереснее, если бы назывались реальные цифры, но конкретные цифры не называет никто и никогда. Это категорически не принято. Я испытываю то же мучительное разочарование, которое испытал друг моей юности, когда пересек границу и увидел впервые гомоэротический фильм. Он жаловался, что на самом интересном месте у молодых людей было заретушировано — как раз то, что больше всего хочешь увидеть, они прикрывают!
Я, однако, догадываюсь что цифры у Бетти очень небольшие. Живет она в основном на свою крошечную пенсию. Это еще одна причина, по которой ее все любят. Все мы, как Вилли Ломан в «Смерти коммивояжера», мечтаем о большой удаче. Мечтаем, чтоб в нашей мелкой рознице произошло какое-нибудь оптовое чудо. Например: изобретаешь какой-нибудь товар, который хочет купить каждый житель земного шара. Или появляется вдруг миллионер, который хочет приобрести все, что у тебя есть, и за все заплатить тройную цену.
И после этого уже не надо никуда ездить! Существуют легенды о таких фантастических удачах, которые якобы произошли с некими коммивояжерами в старые времена — и я там был, мед-пиво пил, по усам текло, но в рот, к сожалению, не попало. Если бы не эти мечты, то нам было бы стыдно за свой образ жизни. Что же это мы бьемся из-за ерунды как рыба об лед? Но вот есть же человек — Бетти — которого эта жизнь совершенно удовлетворяет как есть, без всяких надежд на изменение. Это нам льстит.
Дети ее давно уже выросли. Дочь стала директором банка, превзошла мать доходом и образованием. Бетти о ней мало упоминает, а видится изредка с сыном. Сын ее — шофер грузовика. Эти грузовики, на шестнадцати колесах, длиной с городской квартал, осуществляют большинство коммерческих перевозок по стране и большинство серьезных автомобильных катастроф.
— Он месяц назад вез груз лифчиков, — рассказывает Бетти, — и поднял ящик как-то неудачно, повредил позвоночник. Но это ничего, потому что страховка у него от профсоюза хорошая, они всё оплачивают. Он все время ездит с восточного берега в Алабаму и обратно.
Я представляю себе фетишиста, повстречавшего грузовик размером с два железнодорожных вагона, битком набитый спрессованными лифчиками. Сколько же их там должно быть? По сколько штук на каждого мужчину, женщину и ребенка? Почему всего так много? Я имею в виду — вещей?
Вот Бетти — ведь было же в ней какое-то рациональное зерно, а потом это зерно замочили в спирту, а потом отжали досуха, и вот остался жмых, и жмых этот носится по свету без малейшего смысла. И, тем не менее, сколько ей всего нужно из вещей! И трейлер с отоплением, и бензин, и чтоб на свитере Винни Пух был вышит. А из духовного ей нужно только одно: познать тайну спроса и предложения. И с этого она имеет свой азарт, и гордость, и чувство, что день был прожит не зря. Это, конечно, немало — спрос и предложение. Это одна из мистических тайн мироздания. Вспомните, например, Алисины леопардовые штаны. Вот я, человек узко-нормативного сознания, трусоватый, для которого всё — слишком. Мне бы в голову не пришло, что кому-либо могут понадобиться леопардовые штаны такого редкостного размера, что есть на свете такой спрос. И уж ни за что я бы не стала вкладывать свое время и деньги в такое предложение. Ведь сколько для этого инициативы нужно, и какое понимание человеческого разнообразия, и какое уважение к оному!
К шестидесятилетию для Бетти сделали сюрприз — устроили ей день рождения. Решили праздновать, как шестнадцатилетие, которое по традиции отмечают очень пышно: все бывает очень женственно, девственно и покрыто взбитыми сливками. Сладкая истома, черемухи цвет.
Подарили ей много подарков, и все было розовое. Розовые свитера с котятами и зайчиками, розовый портативный телевизор для ее трейлера, одна женщина связала крючком розовое синтетическое одеяло, зал в гостинице был увешан шариками, и все ели большой синтетический торт, на котором Бетти задувала шестнадцать свечей и загадывала желание. Какое, хотелось бы мне знать, какое?
— Я, — сказала она мне однажды в процессе терапевтического разговора, — точно знаю, что бы я сделала, если б мне сказали, что я через день умру. Я бы начала пить и все двадцать четыре часа бы пила. Я даже знаю, что бы я пила.
Она мне показывала свой трейлер. Такая маленькая тюрьма на колесах, каждый дюйм рационально использован, все там есть — койка, плита, холодильник, душ, шкаф. Маленький столик, на котором она головоломки раскладывает. Одно время она собиралась кошку завести, но решила, что кошка не выживет. И в этой маленькой своей клаустрофобической тюрьме она мчится куда-то зимой и летом, днем и ночью. И не пьет, потому что она всегда за рулем.
Декоративное искусство
Я люблю Глорию.
Познакомились мы с ней так: я стояла за прилавком, а она проявила инициативу и живой интерес, который она всегда испытывает к этническим. Она любит этнических — дружит с буфетчицей-гречанкой из кафетерия на углу и с мексиканцем-швейцаром в своем доме, даже пыталась их поженить. Опекает молодого маляра-румына. Она однажды сдвинула расписную, восемнадцатого века ширму и показала в стенном шкафу целую полку больших жестянок, которые она для маляра копит. Они были отдраены до блеска, и все этикетки с них были совершенно отмыты. Тут я и стала задумываться — не сумасшедшая ли моя Глория.
Она заехала за мной прямо из своего спортивного клуба, привезла к себе, приняла душ и сидит теперь в белом махровом халате, и голова у нее обмотана полотенцем. Любая другая женщина за сорок выглядела бы в этом полотенце крайне неприятно, но Глорию можно хоть для журнала снимать. Она польских кровей, и она из тех полячек, которые оправдывают вечные поползновения этой нации на роль восточноевропейских французов; то есть у нее есть какая-то врожденная элегантность, несмотря ни на что. Это одна из причин, по которой мне Глория нравится.
Пока мы поднимались на лифте на ее этаж — Глорина квартира занимает целый этаж, — она все расспрашивала швейцара о его житье-бытье и шутила с ним. Но по вежливости его ответов я догадалась, что он относится к Глории, как и я, далеко не так искренне, как она к нему. Я стараюсь. Глория как человек гораздо лучше меня. Вообще она человек не бездарный, не ее вина, что покупательная способность в ее случае настолько перевешивает все остальные.
Муж ее — какая-то помесь стряпчего со счетоводом, но давно уже сам ничего не считает и ни с кем не судится. Он в основном теперь руководит и вращается и добывает для своей корпорации потенциальных клиентов. Сам он из простой ирландской семьи и, когда они познакомились, только что закончил университет по курсу счетоводства и сутяжничества, то есть бухгалтерии и судопроизводства.
А Глория, будучи и вовсе из польского рабочего района в Чикаго, закончила церковно-приходскую школу и, со своими славянскими скулами и голубыми глазами, работала у него в конторе секретаршей. Вот эти-то скулы и глаза и были ее вкладом в семейное процветание, а декорировать и закупать антиквариат она научилась позже.
— Тебе удобно? — беспокоится Глория. — Ничего, что мы на кухне? Я люблю на кухне, я все время тут сижу, но этот черный мрамор — несчастье. Зачем я только согласилась с архитектором, на черном каждое пятнышко видно, я хожу и вытираю, хожу и вытираю. Что ты будешь пить? Вина в буфетной, выбирай сама, я ничего в винах не понимаю. Эти бокалы ничего? Да, баккара-то это баккара, но только проверь — нет ли щербинки на ободке. Мне их надо отдавать в полировку. Два бокала разбились, нигде не могу найти замену, по всем каталогам искала. Как же мне всегда не везет — теперь у меня нету полных четырех дюжин.
Вот это меня и поражает в Глории — сколько она всего знает! Я и представления не имела, что хрусталь можно полировать. Глория щупает подшерсток в норке, стучит ногтем по фарфору, на самом деле она и про вино все знает; а ведь дедушка ее был шахтер.
— Считается, что у нас самый лучший адрес в Чикаго, — говорит Глория. — А зачем мне этот адрес? У меня тут даже прачечной нету. Ты бы видела мою прачечную в прежнем доме! Это можно было для журнала снимать: стенки я обила английским ситцем, мебель плетеная девятнадцатого века, цветы — всюду!
Глория, когда жила в прежнем доме, всегда жаловалась, что бассейн отнимает у нее полжизни. С бассейном, по ее рассказам, постоянная возня, чистить надо, стерилизовать, денег уходила уйма.
— И ведь он, — то есть ее муж, — даже меня не предупредил. Только я закончила декорировать, и тут он объявляет, что мы переезжаем. Ты не можешь себе представить, во что мне обошелся переезд. Одна покраска этой квартиры стоила…
Тут Глория называет цифру, которая раздвигает границы моего сознания. Эта способность Глории называть конкретные цифры — удивительна; но, видимо, в этом состоит для нее одна из прелестей общения с этническими.
— Самое ужасное в моей ситуации, — говорит Глория, — что он, то есть муж, отказывается мне честно объяснить наше финансовое положение. Я каждую ночь вижу во сне, как я иду по улице с котомкой. Ведь этим все кончится. Смотри, опять плинтус отстает! Ну как же, вон там, под шкафом!
Видимо, она рассматривает все, что у них есть, как уже потенциально утраченное. Все постоянно на ее глазах разрушается — цветы сохнут, потолки протекают, налоги повышаются, долги растут, баккара ущербная, плинтусы отстают. Я ей всегда сочувствую совершенно искренне. У меня нет опыта владения крупным имуществом, но опыт возни, безусловно, есть. Поэтому мне трудно вообразить радости, которые имущество приносит, зато легко вообразить чистку, починку, боязнь, что сломается. Все эти теории, что бедность упрощает жизнь и ведет к моральному совершенству, были придуманы людьми, которые не занимались домашним хозяйством. Кто думает о деньгах больше, чем плохо обеспеченные люди, особенно с родственниками на иждивении? Постоянно только о том и беспокоишься, чтобы не выйти из бюджета. Стираешь по ночам, чтоб к утру высохло, тащишься на край света, чтоб купить подешевле. Поэтому меня так и огорчает Глория. До встречи с ней я все-таки никогда не верила, что не в деньгах счастье. Но, видимо, чем больше у тебя имущества, тем более оно уязвимо.
Проблема у них вот в чем: Глорин муж имеет доход полмиллиона в год, а проживают они — миллион, потому что им необходимо делать вид, что у него два миллиона в год. Это он жертвует собой для престижа корпорации; лично ему нужны только бутылка пива и бейсбол по телевизору.
Квартира у них вся декорирована и стоила Глории трех лет жизни; только непонятно, как они тут живут, как слоны в посудной лавке. Всюду стоят всякие антикварные столы и столики, а на них красиво аранжированы всяческие безделушки, реликвии несуществующего прошлого, серебряные рамочки с портретами воображаемых предков, стопки книг повюду, некоторые тома красиво развернуты — Ренуар, например, или виды английских поместий, похожих на Глорину квартиру. И всюду эта полумгла и скрытое освещение, так что каждый предмет антиквариата отдельно подсвечен, совершенно как на фотографиях в журналах по интерьеру.
У нас была очень приличная, респектабельная коммунальная квартира, там жило только четыре семьи. У нас в коммунальной квартире была соседка Бася. Муж ее был работник Госконтроля, тоже адвокат и бухгалтер; хотя его деятельность в те времена, естественно, не могла иметь никакого отношения ни к законности, ни к реальным цифрам. В отличие от Глории, Бася с обслуживающим персоналом отнюдь не браталась. Бася понимала, что бедному трудно возлюбить богатого, и не любила их авансом. Бася разбиралась в классовой борьбе и знала о таком явлении, как экспроприация экспроприаторов. «На кухне, — говорила она, — надо постоянно прибедняться. Я иногда сижу и нарочно ем черный хлеб, чтоб соседки видели». Семья работника Госконтроля получала кремлевские обеды в судках, и у них было даже две комнаты; вернее одна, но разгороженная. И у них было трюмо, и на этом трюмо было все, что я впоследствии увидела во всех витринах всех антикварных магазинов всех столиц мира: те же балерины в фарфоровых ажурных юбочках, и те же красного стекла пульверизаторы для духов с резиновыми грушами и шелковыми кистями, и музыкальные шкатулки, и расписные пудреницы, и хрустальные и серебряные штучки. Кто его знает, может, это все было настоящий восемнадцатый век, мало ли где это могло быть награблено? Может быть, даже Глории что-то продали настоящее, не подделку.
На самом деле нет ничего удивительного, что Глорина квартира так похожа на Басино трюмо. Если вдуматься, то и Глорину бабушку звали Бася, только была она не еврейка, а католичка. Вот и Энди Ворхол был из тех же мелких восточноевропейских мест, и когда он умер, то выяснилось, что вся его личная коллекция была сплошное трюмо. Он продавал запуганным обывателям модернизм, а сам на вырученные деньги покупал декоративное искусство — мейсенский фарфор, и майолику, и хрусталь, и предметы, сделанные из золота, серебра, яшмы и алмазов.
Бася всегда к Новому году шила себе вечернее платье. Доставала отрез — тафту или панбархат — и вызывала Жанну. На дом Жанне работу не давали, потому что она боялась, что ее соседи донесут фининспектору. А Бася боялась, чтоб Жанна не украла материал. Все дамы считали, что портнихи воруют отрезы, потому что всегда всё получалось заужено. Я-то, задним числом, думаю — происходило это оттого, что заказчицы в процессе пошива продолжали жиреть. Потому что сколько эта Жанна могла украсть — на парчовые пеленки, что ли? У нее и детей-то не было и быть не могло, потому что мужа-репатрианта сразу по приезде расстреляли. А ее, настоящую парижскую портниху, припрятали в ведомственное ателье. Я всегда говорю, что декоративное искусство имеет свои большие преимущества. Будь она, скажем, скульпторша — расстреляли бы в два счета. Кроме сильного акцента, рот у нее был всегда набит булавками, что избавляло ее от необходимости говорить с заказчицами, стоявшими перед ней в своем ортопедическом белье, менявшемся раз в неделю. Но в глазах у нее было откровенное выражение полного ужаса и изумления. Шитью, вернее, моделированию, училась она в одном из великих французских домов и кроила прямо на человеке, накидывая парчу и панбархат на Басино убийственное исподнее, разрезая по диагонали, изобретая и закалывая на ходу. Платили ей немного, учитывая, что она получала еще и остатки обедов из Кремлевки.
И непонятно, почему мне эта Жанна вспоминается. Грех даже и думать, что все это имеет какое-то отношение к нам с Глорией. Глория не знает, чем меня и порадовать. Для долгих исповедей о предстоящем разорении она водит меня в лучшие рестораны Чикаго, где ее знают по имени. Например, ходили мы с ней во французский ресторан, там горел камин, между переменами подавали шербет — для освежения вкуса, и официант говорил с французским акцентом. Я с ним разговорилась, однако, о грибах; выяснилось, что он каждую осень берет отпуск и едет к себе в Италию собирать и сушить белые. Видно было, что этот разговор двух этнических о грибах доставил Глории неописуемое удовольствие, именно за это расплачивалась она своей платиновой кредитной карточкой.
Глория уважает меня. Она меня уважает за образованность. Муж ее делает большие пожертвования на городской музей, оперу, общество охраны архитектурных памятников, и она всюду состоит в почетных советах. Кроме того, она варит раз в неделю суп для бездомных и занимается в кружке вышиванием. И во всех этих организациях она должна поддерживать отношения с женами потенциальных клиентов и способствовать тем самым процветанию мужниной фирмы. И среди всех этих дам она постоянно мучается из-за своей церковно-приходской школы.
— У меня с этими женщинами, — говорит Глория, — нет совершенно ничего общего.
То же и родственники. Однажды она меня повезла на их семейный праздник, который сама ежегодно организовывает. Происходило это в городском парке. Родственников было около двухсот пятидесяти, они приехали на ста автомобилях и вытащили из багажников такое количество кастрюль, коробок, переносных холодильников и расставили все это на таком количестве столов, что я сказала: «Как на польскую свадьбу». Выражение это Глория услышала в первый раз и ужасно обрадовалась. Некоторые из этих поляков уже так ответвились, что стали мексиканцами и вьетнамцами. Были этикетки с именами и степенями родства: «Я — Долорес, жена Боба, внучатого племянника дедушки Тадеуша».
Но они были довольно хорошо знакомы между собой; меня предупреждали шепотом, чей салат лучше в рот не брать. Той Польшей, которая находится в данный момент в Европе, они мало интересуются, ни про какую «Солидарность» не слышали. Их Польша состоит из чикагских булочных и колбасных, где они закупают еду со странными названиями, считающуюся польской, и из анекдотов о старом алкоголике дедушке Тадеуше. Большая часть жизни уходит у Глории на посещение крестин, свадеб, конфирмаций, похорон и поминок. Она ездит по всей стране на эти празднества, и от нее ожидают дорогих подарков.
— У меня с моими родственниками нет ничего общего. Вот с тобой у меня столько общего.
Со мной? Может быть, бедная моя Глория — тоже перемещенное лицо; только не географически, а экономически. Благотворительные дамы не понимают ее прошлого, не ценят, сколько ей пришлось нового узнать и выучить. И, хотя внешне она на них совершенно похожа и они вроде бы принимают ее за свою, но в глубине души она знает, что все это — туфта, что она должна следить за каждым своим словом. И родственники — она-то их понимает и знает их образ жизни, а они? Разве они знают, какой путь она прошла, какие у нее проблемы. Они завидуют и считают, что она задирает нос. И сны ей снятся про разорение, а мне — что меня обратно сослали. Вот ведь жизнь какая, чересчур в ней много мобильности для душевного равновесия.
Вот брат ее никуда не сдвинулся, прожил всю жизнь с родителями. Ну и пал жертвой своей славянской генетики, умер с перепою. Глория рассказала мне о похоронах брата. Самое ужасное, что мать, ради экономии, хотела похоронить его в старом костюме. Как алкоголик, он давно уже не обновлял свой гардероб, и мать хотела его хоронить в коричневом костюме, в чуть ли не синтетической рубашке с обтрепанным воротником, в каком-то чудовищном галстуке. Глории пришлось идти и на свои деньги покупать итальянский костюм. Рассказывая об этом, она вытягивает перед собой обе руки, как бы с воображаемой рубашкой и воображаемым галстуком, и демонстрирует, как она старательно подбирала цвета. В результате ее усилий брат прилично выглядел в гробу. И его можно было хоть для журнала снимать. Ну и что, а фараоны? Глория, вроде древних египтян, рассматривает могилу как род недвижимого имущества, декорирует интерьер гроба.
— А сама я даже и не знаю, где меня похоронят! Я подозреваю, что он, то есть муж, у меня за спиной наши участки на кладбище продал.
Выясняется, что родители мужа подарили им на свадьбу четыре участка на кладбище — для них и для их будущих детей. Глория объясняет такой подарочек общей макабричностью и безумием ирландцев; однако четыре места на лучшем чикагском кладбище тоже на дороге не валяются. За тридцать лет брака эти могилы так выросли в цене, что на одни эти деньги Глория могла бы прожить после предполагаемого разорения.
— Ах, — говорит вдруг Глория, — вожусь, вожусь, и у меня до сих пор ни одна комната не закончена… Боже ты мой! Кому все это нужно!
И глаза у нее на мокром месте. Ну а это еще к чему, скажите пожалуйста? В чем виновата Глория, к чему ей такие горестные сомнения? Горит в ее голубом глазу некая искра, и непонятно, что это: то ли природная одаренность, задушенная обстоятельствами, то ли легкое безумие в связи с климаксом, то ли просто с жиру бесится. Вернее всего он — то есть муж — начал погуливать.
— Глория, — говорю я глупость, — что такое законченная комната?
Кровать в гостевой спальне устроена так, как я видела в деревнях, нечто вроде торта или трона. Подматрасник, наматрасник, наугольники, чтоб углы матраса не обтрепывались, чехол под простыню, самая дорогая в мире простыня — Глория ее в Париже брала, специально ездила со своим декоратором — одеяло, накидка на одеяло, подушки, думочки, подзор, рюши, фижмы, турнюры, профитроли, эклеры… Просто глупо, чтоб на такой постели лежала я, — я даже не знаю, между каким и каким слоем постеленного полагается засовываться человеку.
Ванна облицована чем-то вроде малахита. Сверканию труб и кранов я не удивляюсь. Глория мне объяснила, что все краны у нее в квартире покрыты золотом, это очень практично, всегда будет как новое. Но туалетной бумаги не видно, даже никакого приспособления на стене, где бы рулон висел. Есть маленькие гостевые полотенца с ручной вышивкой и кружевами, есть корзиночки с гостевым мылом в виде фруктов и цветов, и вазы с сушеными лепестками роз, и разноцветные ароматические соли, бронзовые лампы с абажурами матового, узорчатого стекла, и совершенно такие же, какие были у соседки: те же балерины в ажурных фарфоровых юбочках, красного стекла пульверизаторы для духов с резиновыми грушами и шелковыми кистями, и музыкальные шкатулки, и хрустальные, и серебряные штучки. Куда же засунула эта сумасшедшая туалетную бумагу? Ради которой я покинула родину, страну поголовной духовности, и стала перемещенным лицом и коммивояжером. Ведь я, когда перемещалась, я не хотела буржуазного благополучия. Нет, я точно помню: я хотела свободы слова. А из материального я хотела туалетной бумаги.
Тут я начинаю думать: а меня где похоронят? Хорошо было Толстому шутить — много ли человеку земли нужно. При таких ценах все ли мы в землю ляжем — это еще бабушка надвое сказала. Неимущих хоронят на Горшечном Поле. Это как Иуду, значит. Чем же мы такие иуды? Предали американскую мечту, не преуспели.
А завтра Глория купит у меня что-нибудь дорогостоящее, и ей надо будет сделать большую скидку. Глории это необходимо; не из экономии, а чтоб чувствовать, что мы настоящие подруги. А мне — чтоб самой себе доказать, что Глория меня интересует не только своей покупательной способностью, что я не какой-нибудь алчный обслуживающий персонал с акцентом и булавками во рту.
Иногда, когда она меня уж очень доводит своими жалобами, спать не дает до двух часов, я ей даже дарю что-нибудь бесплатно.
Ненавижу я Глорию.
Алиса и Мелисса в Хрустальном Городе
Алиса — большая блондинка. Это не описание внешности, а должность, вроде пожарного или полицейского. И пожарный, и полицейский, и большая блондинка осознают свое положение в обществе и знают, что от них требуется. У полицейского должны быть пистолет и дубинка. У большой блондинки должны быть волосы и бюст. Кроме того, и полицейский, и блондинка должны быть глупы. Некоторые из этих качеств, скажем, пистолет или бюст, бывают не от природы, а благоприобретенные. Алиса, например, вовсе не блондинка, а жгучая брюнетка, и ей постоянно приходится корни подкрашивать, такая морока. Но бюст и глупость у нее свои.
Большая блондинка и просто блондинка — вещи совершенно разные. Просто блондинка может быть нежная, дышащая на ладан. Или она может быть блондинка калифорнийского типа, тогда ей не бюст важен, а ноги; и волосы у нее не пышными локонами, а длинные, шелковые и льняные, и она должна быть очень молодая и спортивная.
При виде большой блондинки о спорте и свежем воздухе не думаешь, во всем ее облике чувствуется некоторая потенциальная горизонтальность. Зато блондинка калифорнийского типа теряет свою ценность после двадцати пяти лет, а большая блондинка как раз находит себя уже после тридцати и вполне годна к употреблению после пятидесяти. Некоторая потасканность ей даже полагается, как благородная патина на подлинном предмете антиквариата.
Праматерь всех больших блондинок — Мэй Вест, великая кинозвезда. Ей приписывают авторство многих народных поговорок и высказываний, вошедших в сокровищницу национальной мудрости. Например: «Это у тебя револьвер в кармане штанов, или ты просто очень рад меня видеть?»
Вот в этом добродушном сочувствии мужскому полу — «очень рад меня видеть» — и всегдашней готовности облегчить трудности мужской жизни и заключается смысл больших блондинок.
Мужской пол отвечает им на это, конечно же, черной неблагодарностью; и, хотя большие блондинки выходят замуж охотно и часто, но под старость всегда остаются одни и работают официантками в дешевых ресторанах, где дают мужчинам последнее, что у них есть, — полезные жизненные советы.
Алиса и Мелисса приехали из теплой Флориды, с родины Микки Мауса, в еще более теплый, то есть невыносимо жаркий, влажный, душный Вашингтон. Приехали они на большую торговую ярмарку в пригороде, называющемся Хрустальный город. Хрустальный он потому, что весь из стекла, стали и бетона, причем стекла гораздо больше. Впрочем, оно черное, дымчатое стекло, и все эти небоскребы в нерабочие дни стоят такие пустые и темные, что могли бы целиком из глухого бетона состоять.
Алиса уехала во Флориду за каким-то своим полюбовником, да там и осталась, наверное, потому, что там тепло и быстрее раздеваться. Мелисса же уехала во Флориду, потому что она пожилая еврейка и ей полагается. Все пожилые евреи живут во Флориде.
Я думаю — если бы какой пожилой еврей не уехал под конец жизни во Флориду, то смерть бы его просто не нашла. Так бы и бродила из Орландо в Майями и спрашивала: «Вы не видели Лео Лейбовица? У которого было скорняжное дело на Двадцать Третьей улице? У него еще жена Лилиан, полная такая?».
А в Нью-Йорке тем временем эта самая Лилиан проделывает старому Лео дырку в голове:
— Почему мы не можем переехать во Флориду, как все люди? Чтобы твои братья, эти свиньи, над нами смеялись — не смог, мол, даже на несчастный кооператив в Майями за всю жизнь накопить?
— А чего я не видел в твоей Флориде? — отвечает озлобленный Лео. — Чего мне там искать, смерти?
И даже сам не знает, как он прав. Самое же удивительное, что Лео уезжать не хочет вовсе не потому, что он такой провидец, а потому, что у него есть на стороне большая блондинка. Правда, она пожилая, уже на стадии официантки. Работает в мексиканском ресторане около Лейбовицев. И она пуэрториканка, так что можно себе представить — какая она блондинка. Однако старый Лейбовиц время от времени, как выражалась Мэй Вест, рад ее видеть. А Лилиан им брезгает и даже представления не имеет, что он еще способен так радоваться.
Мы договорились делить номер с Алисой, на что я всегда охотно соглашаюсь, зная, что проведу ночь в обществе Алисиных чемоданов, а сама она появится только под утро и на долгое время скроется в ванной, откуда будет выходить время от времени и спрашивать виноватым голосом: «Не очень заметно?». Я уверяю, что совершенно не заметно — опухших глаз, или запаха перегара, или засосов на шее, или о чем она там еще беспокоится — но Алиса опять идет в ванную и все старается сделать себя похожей на деловую женщину. Остается она, как и всегда, похожей на не застеленную кровать; так и кажется, что на ней крошки и что под нее бутылка закатилась.
Однажды мы с ней вместе летели откуда-то, и за время полета она мне рассказала всю свою жизнь: как был какой-то первый муж, сразу после школы, а потом второй, солидный человек, но при разводе с ней нехорошо поступил, состоянием с ней не поделился; правда, дом ей оставил. А потом был жених, или она думала, что жених, — он занимался поставкой редких животных для частных зоопарков. Это было дело очень опасное, хотя сам он не охотился, а занимался только финансами и деловой частью. Но за редкими животными теперь так следят, все время какого-нибудь очередного зверя запрещали к продаже, или они дохли по дороге от тоски и ужаса; и в конце концов он вылетел в трубу с этими своими носорогами. Тогда он уговорил Алису дом продать — ему нужны были деньги на страусиную ферму, он решил разводить страусов на мясо. Но Алису он бросил, как только они переехали во Флориду. Она даже не знала, хорошо ли у него пошли дела со страусами. Теперь она с сожителем, молодым человеком неопределенных занятий, покупает маленькую квартирку. Ясно было, что кончит она одной комнатой в дешевом пансионе, случайными хахалями, кофе себе будет варить на электроплитке и работать официанткой.
Еще, помню, я все время думала: как бы ей подошло петь Высоцкого под гитару.
Приезда Мелиссы я, однако, совершенно не ожидала. Мелисса постарше Алисы, и рассказала мне, как она за Алису беспокоится. Она за нее переживает. Она боялась, что Алиса подцепит СПИД. Хотя, по-моему, это было совершенно невозможно. Это было не в Алисином стиле, ей полагается старомодная гонорея.
А я боялась за себя — я была уверена, что именно мне достанется спать на диване. А после целого дня торговли на жестком диване спать не хочется. Торговать я не люблю.
Иногда, когда уж очень скучно и торговля идет медленно, я пытаюсь внушить себе мысль, что и покупатели созданы по образу и подобию Божию, но довольно быстро сдаюсь и начинаю думать, что в связи с перенаселением планеты многие из них созданы второпях и небрежно, а некоторые — явно в шутку.
Конечно, это заблуждение, ересь. В покупателях нет ничего дурного. Вот пойдите в любой музей — думаете те, на портретах, лучше были? Ничего подобного — у моих покупателей и зубы белоснежные, и пахнут они наверняка лучше, чем те, которые у Фрагонара и Фра Анжелико.
Но я вам признаюсь: в массе своей продающие не любят покупающих и говорят о покупающих дурно. Это единственная месть, которая нам остается. Мы, коммивояжеры, должны стоять часами на этих ярмарках, улыбаться всем с готовностью, как девица на танцульке, и никто нас танцевать не приглашает. Мы поддерживаем друг друга рассказами о невероятных глупостях, сказанных покупателями, об их полном невежестве и непонимании товара.
Тем более у меня опыта никакого нет. В стране, откуда я приехала, почти никакого товарно-денежного обмена не было. Там презирали товарооборот испокон веков, считали это занятие несовместимым с широкой душой. То ли дело — экспроприация. Экспроприация — дело веселое и духовное: дубинкой по голове, и пошел. Они и без денег могли прожить. Они бессребреники: лишь бы все их потребности удовлетворялись, и преимущественно за чужой счет; а потребностей у них было немного. Они придумали такую платоническую идею безналичного расчета…
Тут знакомый коммивояжер, ошалевший от скуки, ко мне подходит и спрашивает:
— Вы знаете, как проверять банкноты? Если вам дают крупную купюру, то надо проверить. Сейчас я вам покажу. Видите, надо потереть. Если краска сходит — то настоящие. А если не сходит — фальшивые.
Или наоборот, потому что я тут же забываю.
— А еще, знаете, — говорит он с застенчивой и ласковой улыбкой, — об них можно спички зажигать!
Мои коллеги очень тепло относятся к деньгам. Не к абстрактным, тем, которые в банках, которые называются состояние, доход, наследство, — к тем относятся серьезно, с уважением, а вот к наличным, к банкнотам, купюрам — с нежностью, как хороший мастеровой к своему инструменту. Пересчитывают их молниеносно, как игрок колоду карт тасует; складывают аккуратно, чтоб все президентами в одну сторону лежали. И никогда не мнут, даже пополам не сгибают.
Есть люди, рожденные с абсолютным слухом, и есть люди, рожденные для служения товарообороту и для акта продажи. Такой гений торговли видит свою деятельность как альтруистическую, а себя — как благодетеля и просветителя. Он открывает глаза покупателю на абсолютную необходимость владения предлагаемым товаром. Факт перехода денег от покупателя к нему, продавцу, становится тут почти вторичным, автоматическим. То есть, конечно, подпись-то на чеке он посмотрит и кредитную карточку на зуб проверит, но не в этом дело…
Другие люди, вроде меня, тупо думают только об одном — о получении денег. Но согласитесь — трудно поверить, что моим покупателям чего-то недоставало. Я-то знаю, что они могли бы остановиться и не покупать ничего лет пять. Ничего. Даже еды. У них достаточно заморожено.
Мы эти места называли: свободный мир. А тут принято говорить: свободный рынок.
Более того, теперь-то я знаю, что рынок не столько свободный, сколько насыщенный. Такой насыщенный, что меня по этой причине тошнило года два. И не от товаров — товары я ожидала. Гораздо неприятнее было то, что многие мысли и идеи, казавшиеся очень оригинальными и уникальными, высокими и глубокими, — оказались общим местом и банальностью. Рынок идей, он тоже оказался насыщенным до одурения.
Ненасыщенный рынок — он как Потерянный рай. А где-то за пределами Ненасыщенного, в сумерках подсознания, — мистическая легенда, порочный, беззаконный, исполненный опасностями и торговым героизмом черный рынок…
Черный рынок, оборотень! Худой, быстрый, не рекламирующий себя — прячущий, не продавца терзающий — покупателя. Во тьме, в подворотнях, на пустырях… О, я же помню его, помню; вижу в ночных снах! Вот он, над Вальпургиевой ночью барахолки по небу летит в развевающемся плаще-болонье, с Сальвадором Дали издания Скира в одной руке и парой почти неношеных замшевых сапог на шнуровке — в другой! Герой-одиночка, мятежный фарцовщик!
Какие там деньги… Не деньгами, жизнью и свободой готовы покупатель и продавец пожертвовать на черном рынке. На голых животах девственниц разложен там товар, при импортных свечах вершится торговля, как черная месса…
Мы-то выросли в мире уникальности, потому что скудость порождала единообразие, и все необычное выделялось, как прима-балерина на фоне кордебалета. А тут все пляшут кто в лес, кто по дрова, и каждый в свою дуду дудит. Какая уж тут уникальность, так, каша одна.
На диване, однако, мне спать не пришлось, эту ночь мы провели вдвоем с Мелиссой. Она очень беспокоилась за Алису. Молодой человек, с которым Алиса познакомилась утром, казался Мелиссе подозрительным, что-то в нем было странное. Он носил почему-то белую рубашку с короткими рукавами и галстуком, был стрижен ежиком и крайне вежлив, то есть был похож на миссионера или на представителя какого-нибудь религиозного культа — он мог оказаться серийным убийцей, или патологическим извращенцем, или даже девственником.
Мелисса полночи не могла уснуть от переживаний и рассказала мне всю свою жизнь. На самом деле Мелисса не намного старше Алисы, это ее жизнь укатала.
— Дети, — говорит она добродетельно, — дети. От них и стареешь. Вон у Алисы никогда не было детей, поэтому она такая резвая.
Она совершенно не права, тут как раз обратная зависимость. У большой блондинки никогда не бывает детей, и официально она об этом якобы скорбит и объясняет это гинекологией. Но на самом деле все ее материнские инстинкты уходят на мужской пол. Она считает, что мужское естество — болезненное состояние, и что женщины в нем виноваты, как микробы виноваты, когда у детей опухают железки. Если бы она так не торопилась помочь каждому мужчине в его беде, то и гинекологию свою так бы не потрепала.
Жизнь у Мелиссы была довольно-таки ужасная.
Сын, лет тридцати, попал в тюрьму за подделку чека, с трудом удалось вытянуть. Нанимали психиатра и определили у него раздвоение личности. Дочь была замужем за крупным политическим деятелем. Мелисса мне показала фотографию: дочь устраивает прием в своем доме. Она красавица, направо от нее — сенатор, налево — кандидат в президенты. После этих приемов, когда гости расходятся, муж ее регулярно избивает; всегда находит что-нибудь не так, какие-нибудь недостатки в хозяйстве или в ее поведении, и своей рукой учит. Дочь не хочет разводиться. Ей нравится быть в центре мировой политики. Мелиссин зять, к моему удивлению, был председателем областного комитета Демократической партии. Я почему-то думала, что жен должны бить преимущественно республиканцы; уж очень они много говорят о роли семьи и сохранении традиций.
Муж Мелиссы долгие годы служил во флоте. Тут-то она мне и объяснила про этот Хрустальный город, и почему на всех этих черных небоскребах нет ни табличек, ни вывесок, и почему они, хотя из дымчатого стекла, но всё равно похожи на бункеры. В одном из этих гробоподобных небоскребов был кабинет ее мужа, когда он занимался проектированием и постройкой атомных подводных лодок.
Потом у него был рак, он перенес много операций… Мелисса рассказала, что ей, как жене офицера командного состава, был дан телефонный номер с необычным количеством цифр. И, в случае если бы стало известно, откуда полетели бы ракеты с ядерными боеголовками, то Мелисса и другие семьи высшего командного состава должны были звонить по этому телефону и получать дальнейшие инструкции. Так ей никогда и не пришлось позвонить, и так она и не узнала, какие такие были инструкции. Но я позже статью прочла: под Вашингтоном были вырыты огромные убежища для высшего начальства на случай конца света, о которых остальному народу знать не полагалось, несмотря на демократию.
Алиса вернулась под утро, спросила, не очень ли заметно, и рассказала, что у них это серьезное и настоящее. Еще она рассказала много умилительных физиологических подробностей про молодого человека и поведала его тайну: он оказался не девственником, и не религиозным фанатиком, и не серийным убийцей, а агентом ФБР. Отчего и ежик, и вежливость.
Мелисса пыталась отравить Алисино удовольствие напоминанием об оставшемся во Флориде постоянном хахале. Алиса задумалась, но потом мудро ответила, что поживем — увидим.
Вечером того же дня мы все вместе сидели в баре. Алиса была гордая и счастливая, как мамаша с сыном, приехавшим из части на побывку. Молодой человек пил безалкогольные напитки и с Алисой был предупредителен, как будто собирался на ней жениться (нет, не собирался, и в тот же вечер исчез). На лице у него было выражение сдержанного, слегка скорбного достоинства, которое чаще всего видишь у очень глупых котов. Такого кота уже и вверх ногами держат, и из окна собираются уронить, а он все еще выражает на лице: «У мироздания много недостатков, но я-то полностью адекватен и за ваши глупости не отвечаю».
Но в коте это трогательно.
Между тем вокруг нас кипела религиозная жизнь. Когда было сказано, что трудно богатому войти в Царствие Небесное, то не предполагалась эта цивилизация. Очень принято входить в Царствие Небесное через большие, роскошные отели типа «Хилтона», но используются и маленькие гостиницы, и даже дешевые мотели.
Если вы — секта довольно туманного направления и вся ваша доктрина состоит в том, чтоб каждый день заключать в братские объятия не менее десяти человек и чтобы заключенные, в свою очередь, заключили еще по десять человек каждый и тем самым образовали Великую цепь любви, — тогда вам больше чем на мотель не потянуть.
Если же вы принадлежите к какой-нибудь более почтенной организации, например, к «Международному братству полицейских во Христе», то вы снимаете солидную недорогую гостиницу, где официантками в кафетерии работают пожилые блондинки.
Если же вы, например, «Дщери Иова» — организация для девочек-подростков, то вам нужен большой отель. Они прибыли не то из штата Айдахо, куда, по моему мнению, еще не ступала нога человека, не то из штата Небраска, который, по моему мнению, не существует вовсе. Их было человек триста дщерей и с ними еще сопровождающие дуэньи. Дщери делали то, что обычно делают дети в отелях: бегали из бассейна в бассейн босиком, в мокрых купальниках и завернутые в полотенца, визжали и капали в лифтах; играли в электронные игры и считали в ладошках мелочь, чтоб купить разноцветное мороженое, и капали им на ковер и визжали. Вечером у них происходили какие-то радения, и дщери одевались в свои лучшие нейлоновые платья нежных «мороженых» оттенков, с бархатными цветами и занавесочными кружевами.
Но позднее ночью дуэньи совершенно переставали следить за дщерями, потому что дуэньи были обоего пола, и женского, и мужского; они обжимались по углам, хихикали, и в данный момент, в баре, были даже не совсем трезвы. То ли застоявшийся дух разврата, накапливающийся в старых гостиницах, на них действовал, то ли весь остальной мир за пределами несуществующих штатов Айдахо и Небраска казался им чуть ли не Содомом, Гоморрой и Парижем — но мораль их оставляла желать лучшего и примера они не подавали.
Ошалевшие дщери носились по всем коридорам, разматывая рулоны туалетной бумаги. От этой полупрозрачной бумаги, висящей повсюду, и от их палевых, полупрозрачных платьев отель превратился в какое-то царство уцененных фей.
Был также слет какой-то черной баптистской секты. Встречая друг друга в лифте или в ресторане за завтраком, они воздымали руки к небу, восклицали: «Слава Иисусу!» — и целовались в обе щеки. Женщины были вальяжны и говорили нараспев. Кажется, их слет был как раз по обмену опытом в изгнании дьявола и наложении рук, и были они все дьяконицы, проповедницы и целительницы. Они были такие обаятельные люди, к ним хотелось примкнуть. Рядом с нами черная женщина изгоняла дьявола из какой-то зареванной белой девицы. Она пихала девицу ладонью в лоб и что-то приговаривала, а девица раскачивалась из стороны в сторону и завывала — причем было непонятно, то ли на нее благодать снизошла, то ли она так в баре назюзюкалась.
Однажды я провела три дня в «Хилтоне», в Калифорнии, когда там происходил съезд белых людей, христиан-блондинов. Их было несколько тысяч, и у каждого был значок с девизом: «Каждый день я ближе к Иисусу». К третьему дню эти слова начали приобретать оттенок мрачной угрозы; было ясно, что эти люди не шутят.
У них у всех на значках были имена. У женщин имена двойные, старомодные: «Привет! Я — Мэри-Лу! С каждым днем я ближе к Иисусу»; «Привет! Я Бетти-Сью. С каждым днем я ближе к Иисусу».
У мужчин имена были короткие, мужественные: «Привет! Я — Скип!»; «Привет! Я — Чип!»; «Привет! Я — Бад!»; «Привет! Я — Ред!».
Эти никого не обнимали. Спасаться они хотели сами, справедливо полагая, что автобус не резиновый. Вид у них был суровый, нелицеприятный, палец в рот не клади, и возникало ложное впечатление, будто они прошли огонь, воду и медные трубы. Я говорю о мужчинах, женщины никакого вида не имели.
Но если с ними поговорить, то обнаруживаешь, что, с точки зрения обитателей любой другой части света, жизнь свою они прожили как заговоренные, в неправдоподобном благополучии. Огонь, вода и медные трубы встречались им только в виде газа, водопровода и канализации, о которых, впрочем, они удивительно много знают, умеют их чинить и т. д.
И даже лаконичные их имена есть не что иное, как клички, данные им любящими родителями и друзьями по детской площадке. Все равно что взрослый мужчина бы представлялся: «Привет! Я — Бобик!»; «Привет — я Рыжик!»; «Привет! Я — Жиртрест-Промсосиска! С каждым днем я ближе к Иисусу».
Жизнь свою они предпочитают проживать на одном месте, не считая времени, проведенного в армии, потому что многие из них поступают в армию; причем просятся в войска особого назначения. Они верны семье, и если им уж очень приспичит изменить жене, то они идут и насилуют собственных детей.
Дети их, с деревенскими соломенными волосами и облупленными носами, таскали большие охапки религиозных трактатов и при родителях вели себя тихо и потупившись, запуганные дофрейдистскими методами воспитания. Без родителей, однако, они так же бегали в бассейн и из бассейна босиком, в мокрых купальниках, и капали и визжали в лифтах. На майках у них был изображен Микки Маус, и были приколоты значки с изображением Иисуса.
Из любви к этим детям родители их борются за введение всеобщей молитвы в школах. Это не будет противоречить принципу свободы вероисповедания, потому что маленькие нехристи, супостаты и язычники могут на время молитвы выходить из класса и ждать в коридоре. Обсуждение этого вопроса всегда вызывает яростное сопротивление со стороны всяких битых морд, пострадавших в сороковых и пятидесятых, когда подобные религиозные эксцессы и вправду допускались в школах, а они и вправду стояли в коридоре. Им разумно отвечают, что в наше время гуманные и просвещенные учителя проследят за безопасностью малолетних нехристей и ублюдков. Кроме того, битая морда укрепляет характер.
Эти мужчины со спартанскими именами постоянно должны бороться с разными каверзными законами, которые изобретает правительство. Например: правительство хочет запретить частное владение гаубицами и ракетами среднего радиуса действия. Или: больше десяти пулеметов в одни руки не давать. Между тем пулеметы им нужны, потому что скоро должен наступить конец света и они уже приготовились. Они закупили всё необходимое — то, что обычно закупают, когда правительство предупреждает их по радио о приближении урагана или тайфуна. Но в большем количестве. Ну, там, батарейки, фонарики, порошковое молоко и супы, кетчуп, майонез, бумажные тарелки и полотенца, картофельные и кукурузные хлопья, порошки разные для выпечки оладий, пиво и орехи к пиву — то есть минимум, необходимый для выживания. К этому им нужны пулеметы, чтоб отстреливаться от грешников.
Никаких богословских объяснений — например, зачем нужны маргарин и оладьи во время конца света; ну, пиво-то еще понятно — я дать не могу. Отчасти это объясняется психологическим феноменом, который тоже трудно объяснить, и который называется — снявши голову, по волосам плачут, и даже очень.
Конца света ждут не только они, но и все остальное население. Эсхатологическое сознание связано не столько с историческим пессимизмом, сколько с историческим неведением и невинностью. Большинство людей не догадываются, как давно все это началось: двадцатые годы, когда еще цветного телевизора не было, сливаются у них в умственном тумане с Джорджем Вашингтоном и Нефертити, жившими в Древнегреческом Риме вскоре после неандертальцев. Для них мир только что случился, и поэтому они симметрично помещают конец света в ближайшее будущее.
Даже те, кто не ожидают, что мир закончится в ближайшие два-три года, считают, что мы живем во времена неслыханного разврата и падения нравов, какого никогда на свете не бывало.
Даже те, кто не верят в моральное падение или кому как раз оно и нравится, верят в то, что мы достигли вершины цивилизации. Всякому человеку лестно думать, что он родился как раз к шапочному разбору.
В религии этих белобрысых людей есть удивительные концепции. Например, они считают, что у хороших людей несчастий не бывает, что за добродетельное поведение Господь награждает непосредственно на этом свете, в том числе финансово.
Иными словами, если уж приличному обеспеченному человеку трудно войти в Царствие Небесное, то сброду всякому и вовсе рассчитывать не приходится. Нищие и всякие там голодающие, вдовы, прокаженные и инородцы — того и заслуживают. Бог шельму метит.
Именно поэтому во время конца света им и придется охранять свое порошковое молоко и отстреливаться от грешников, среди которых, наряду с очевидными гомосексуалистами, интеллектуалами и инородцами, могут оказаться и разные прокаженные вдовы и сироты, но они сами на себя это накликали и того заслуживают. Ты всё пела? Это дело, так поди же попляши!
К инородцам относятся цветные, ООН и жители других штатов. Такие существа, как я, — за пределами, ко мне можно отнестись даже с симпатией, показывать меня детям, изучать мои повадки, предложить мне морковку или кусочек сахару. Во всяком случае, именно такого типа люди неоднократно предлагали мне выпить в обмен на расспросы о моем быте и нравах.
Поэтому за себя я не очень боялась, но к концу третьего дня стала серьезно беспокоиться за Иисуса, потому что становилось совершенно ясно, что им и вправду будет принадлежать Царствие Небесное, как принадлежит весь необъятный «Хилтон».
Я сидела с Алисой, Мелиссой и агентом, и Мелисса переживала. Она догадывалась, что федеральный агент имел странную иллюзию: ему казалось, будто бы он соблазнил Алису и ею воспользовался, и поэтому он не уважал ни ее, ни нас как подружек. Этим он только лишний раз доказывал, что секретные службы не умеют анализировать получаемую информацию. Во-первых, он мог бы вспомнить, что еще накануне утром не имел ни малейших поползновений. Во-вторых, он мог бы заметить, что это как раз Алиса сидит и вся ликует, а он не знает, как здесь и очутился. Более того, как настоящий мужчина, офицер и джентльмен, он оплачивает выпивку Алисы, которая годится ему в матери, Мелиссы, которая годится ему в бабушки, и мою, хотя со мной-то брататься ему и вовсе бы не стоило.
Я не переживала; но мне хотелось, чтобы очаровательные дьяконицы этой черной секты и из меня что-нибудь изгнали: во мне полно чего изгонять.
Вообще я считаю, что аферисты — профессия, в которой невозможно сжульничать. То есть можно притвориться, что ты умный, что ты богатый, очень легко притвориться, что добрый, практически все притворяются, что они образованны. Но аферист должен быть очарователен. Невозможно притвориться, что ты очарователен. Очарование надо предлагать сразу же, авансом, еще до того, как ты что-нибудь с этого поимел.
Но вообще мне и так было очень хорошо: мне посоветовали попробовать коктейль, который называется лонг-айлендский чай и состоит из рома, водки, бренди, джина, виски, нескольких сортов ликера и небольшого количества льда. Мне было хорошо и становилось все лучше, и я стала размышлять про этот Хрустальный город, с его небоскребами, как гробы повапленные, на попа поставленные, без табличек и вывесок.
…Я в детстве как-то решила заняться фотографией и сфотографировала возле нашего дома покосившиеся ворота, а за ними избушку; прельстилась их пасторальным видом. Тут же меня и отвели в милицию, засветили пленку, но фотоаппарат не украли, а почему-то честно вернули. Секретарша милицейская долго удивлялась, что я такая дура. «Что ж ты, дура, не заметила, что в эту избушку по утрам несколько сот человек заходят, а вечером выходят?»
Вот теперь я и размышляла: может, они из той избушки как раз под этот Хрустальный город и подкапывались? Может, им уже несколько метров оставалось, когда все кончилось так неожиданно? Может, они хотели прокопаться до этого валютного импортного правительственного убежища и сидеть в нем всем вместе, пока наши два талантливых и трудолюбивых народа маялись бы наверху от радиации. И им это отчасти удалось: многие из них прокопались из этой избушки и слились с заграничным начальством и состоят теперь во всяких импортных научных и исследовательских организациях, изолированных от окружающей среды не хуже бомбоубежища.
Ведь если вдуматься всерьез, то этим и отличается наша историческая эпоха — начальства всех стран объединились, а пролетариат так и остался сидеть каждый в своей отдельно взятой стране, сося свою отдельно взятую лапу…
Чай был замечательный, казалось, в нем были еще и текила, и чача, и саке, и кальвадос. И я думала об унылой грандиозности этого Хрустального города и об унылой монументальности мужского мира вообще, в отличие от женского. Почему-то сюда должны были прилетать межконтинентальные ракеты из тех мест, где бабы стирали белье в проруби, рубили дрова топором и делали аборты без обезболивания. Стирка подштанников в проруби — не бог весть какое дело, думала я, попивая свой чай. Но все-таки, как доказала история, гораздо полезнее и рациональнее, чем строительство подлодок. От стираных подштанников и тогда была польза, и впоследствии, когда они сносились, их можно было разорвать на тряпочки. А от подлодок и тогда людям было одно мучение, и теперь никто не знает, что с ними делать и как от них избавиться.
Секретный агент, думала я, допивая свой чай, до какой же степени ты похож сам на себя, и более того — вот их уже двое, кажется. Ежик у них на головах такой ровный, как палуба авианосца. А на самом деле от них меньше пользы, чем даже от большой блондинки. Вон от нее сколько всем радости, без нее и старая Лилиан Лейбовиц давно бы вдовой осталась.
Но большая блондинка никогда бы со мной не согласилась, с такими моими мыслями. Она не Лисистрата какая-нибудь, она любит все мужские дела — и револьверы, и баллистические снаряды, понимает, что это только альтернативная форма проявления радости: это у тебя револьвер в кармане штанов или… Ее лицо отправило в плавание тысячу кораблей, из-за нее еще в начальной школе мальчики били друг другу морды, причем совершенно зря, потому что она бы и этому дала, и этому дала.
Сколько же их, этих тайных агентов, думала я, и как они все блюдут государственные тайны и свое мужское достоинство. Дураки вы все, секретные агенты, думала я, добравшись до номера, засыпая на диване и вспоминая рассказанные Мелиссой государственные тайны Пентагона и, с особым удовольствием, рассказанные Алисой удивительные физиологические подробности о мужских достоинствах секретного агента, каковых подробностей я здесь не расскажу назло.
И снился мне «Хилтон», он же усовершенствованное Царствие Небесное… с золочеными зеркалами, с розами, лилиями и гиацинтами и люстрами, размером с дом… с залами, анфиладами и колоннадами, с плавными эскалаторами, возносящимися все выше, и выше, и выше… и сияет на горизонте Диснейленд, где каждый вечер, с регулярностью захода солнца, а вернее, вместо него — происходит десятиминутный салют… И рокочут выстрелы, как летняя гроза, и в бледном небе над шоссейными пальмами, над сувенирными магазинами, над ресторанами и мотелями, над ларьками и бензоколонками — расцветают разноцветные пальмы фейерверка, и медленно растут, и беззвучно растворяются в блаженных сумерках калифорнийского вечного лета…
Повести
Свалка истории
Тебе, Колумб, тебе венец!
Чертеж земной ты выполнивший смело
И довершивший наконец
Судеб неконченное дело!
Ты завесу расторг всесильною рукой —
И новый мир, неведомый, нежданный,
Из беспредельности туманной
На божий свет ты вынес за собой.
…………………………………………..
И миром новым естество
Всегда откликнуться готово
На голос родственный его.
Ф. ТютчевРита
Приехали они ночью. На другое утро она встала ни свет ни заря, взяла эти заграничные деньги, впервые увиденные только несколько месяцев назад и до сих пор отчасти шпионские какие-то, криминальные, и некоторое количество спрятала в карманчик, пришитый изнутри бюстгальтера еще там, на Войковской.
Необходимо было купить продукты. Где их тут дают — она не знала. Но это как раз было привычно. В прежней жизни она тоже никогда не могла знать заранее, где давали продукты.
Через полтора часа, однако, она уже стояла у плиты, глядя на курицу, варившуюся в вынутой из чемодана кастрюле.
Курица была совершенно валютная, парная. За обычный лук и морковку тоже пришлось платить долларами. Надо привыкать. Рита Александровна смотрела только в кастрюлю, чтоб не замечать чужой, отвратительно обгорелой плиты. Об этом не надо теперь думать. Надо следить за курицей: как быстро белеют в булькающей воде ее хорошие, крупные ножки. Такие питательные ляжки, покрытые тонкой, почти непупырчатой кожей. Розовые, а не синие…
Главное, категорически не надо было смотреть в окно. За окном зиял чудовищный город в головокружительном ракурсе шестнадцатого этажа. В лифте у нее ухнуло в животе и покачнулись ноги.
Плиту, вообще всю квартиру надо будет мыть щелоком. Кто знает, кто тут до них жил. Необходимо все дезинфицировать. Щелок она достанет. Вот куру достала, и щелок достанет. Не надо об этом сейчас думать. Надо будет сделать список. Газ горит хорошо, и в ванной напор такой сильный. Белье с ночи замочено в эмалированном тазике. Надо простирнуть и отполоскать.
Она с таким трудом этот тазик отмолила у дочери, тянули его в разные стороны, как две идиотки. Анюточка говорила, что не следует везти барахло, что на Западе будут замечательные пластмассовые тазики — красные, зеленые. Ну и что, говорила Рита, и наш эмалированный пригодится. Такой был скандал.
Стоять у плиты, как на палубе тонущего корабля, пену накипающую снимать половничком, как вычерпывают воду из лодки. И пены-то почти нет, такая роскошная курица.
Главное — не смотреть в окно. Она приехала исключительно ради дочери.
На следующей неделе Рита уже знала десяток бакалейных терминов. Цены во всех магазинах были разные, как при нэпе. Даже если бы она и знала язык, уличать этих жуликов было бесполезно — не только мелкие лавочки, но и огромные супермаркеты оказались все частные. Теперь до конца жизни ко всем тревогам прибавлялась еще одна: надо постоянно сравнивать цены, надо постоянно выбирать.
Жизнь была для Риты Александровны чем-то вроде хронического заболевания.
При любой встрече с людьми лицо ее принимало заведомо соболезнующее выражение, которое казалось ей таким же естественным для воспитанного человека, как рукопожатие.
— Ну что? — спрашивала она сочувственно. — Как вы? Держитесь? Надо, надо держаться, что поделаешь…
Если ей сообщали что-нибудь скорее положительное, то она выслушивала терпеливо, хотя и скептически. И никаким оптимизмом нельзя было ей мозги запудрить, от ее соболезнования отмотаться.
— А вы, значит, всё бодритесь, — говорила она с понимающей усмешкой. — Надо, надо бодриться, так лучше….
На свое существование она жаловалась, но искренне всем желала хоть такого благополучия достичь. Если вести себя во время хронической болезни с большой осторожностью, то можно избежать тяжелых осложнений.
— Не надо слишком надеяться, — говорила она Анюточке, — чтобы потом не разочароваться. От добра добра не ищут. Я готова все, все для тебя делать, лишь бы ты жила так, как я для тебя хочу.
Она была уверена в неспособности Анюточки даже хотеть для себя самостоятельно и не подозревала, что люди могут хотеть разного. Поэтому всякие личные, не всем свойственные, непонятные ей желания она считала выкрутасами и закидонами. Это надо было просто игнорировать, особенно в Анюточке.
Тем не менее Риту всегда считали доброй, душевной женщиной и через несколько месяцев у нее в Еврейском центре завелись приятельницы. Хотя в Центр она ходила не для развлечения, а из экономии — там пожилым давали бесплатные обеды. С приятельницами она проводила свободное время, которое у нее появилось впервые в жизни, потому что домашнее хозяйство, сколько она ни пыталась его усложнить и превратить в привычную пытку, получалось тут как-то само собой.
Приятельницы были Виктория и Эстер.
Виктория из Львова вначале показалась Рите умной и интеллигентной женщиной. У нее была манера кивать и поддакивать, даже не дослушав до конца, отчего создавалось впечатление, что Виктория все схватывает на лету. Но вскоре стало ясно, что Виктория соглашается с чем угодно, даже с вещами совершенно друг другу противоречащими: и с утверждением, и с отрицанием. Просто Гегель какой-то. Рита даже эксперименты проводила.
— Женщины здесь ужасно молодятся, — говорила Рита, — выглядят, как клоуны.
Виктория охотно соглашалась. Тогда Рита говорила:
— Дамы тут следят за собой, не то что наши распустехи.
— Да, да, здесь так принято, — еще более охотно соглашалась Виктория. Она прожила здесь уже пять лет и сама начала молодиться. Она настаивала, что на Западе отчество не принято, и чтоб они друг друга называли Ритуся и Викуся, как школьницы.
Другая приятельница, Эстер, была постарше Риты, настоящая американка, приехала лет сорок назад. Рита говорила с ней на смеси немецкого, который учила когда-то в школе, и зачаточного английского.
Эстер восхищалась Ритой, которая в прежней жизни была инженером и работала в конструкторском бюро. Женщина-инженер! Эстер говорила и читала свободно на трех языках, но у нее не было высшего образования.
Раньше Рите и в голову не пришло бы считать свою работу карьерой или как-то ее связывать с женской эмансипацией. Хотя она к инженерной работе имела талант, даже призвание, и в своем конструкторском бюро просто душой отдыхала.
Теперь, в переводе на иностранный язык, конструкторское бюро выглядело намного престижнее. Уважение Эстер ей льстило, и вообще приятно было иметь подругу настоящую американку.
Они иногда прогуливались у входа в парк, но никогда не заходили в глубину. В глубине парка природа проявлялась только в необузданных страстях буйных доминиканских подростков. Как эти подростки одевались! Рита всегда считала, что женщинам свойственно целомудрие и они должны противостоять похабным желаниям мужчин до последней возможности. Каковой последней возможностью является законный брак. Ее так воспитывали, и Анюточку она так воспитала: одежда должна скрывать все признаки того, что ты — женщина. Но тут все, от старух до девочек маленьких, ходили так, будто прикрывать некоторые части тела их заставляла не скромность, а полиция. Как только теплело, они раздевались и ходили практически голые. Иногда, в жару, даже завидно становилось.
— Вот Эстер великолепно одевается, совершенно как покойная мамочка, — объясняла Рита своим. — Костюм серый, представьте, из чесучи. А я-то думала, что чесучи уже и на свете нет. Шляпка соломенная с цветами, полуботинки. Даже перчатки белые! Настоящая дама.
Эстер держалась очень прямо, и со своей любезной, светской улыбкой объясняла Рите что-нибудь из местной жизни, о праздниках, обычаях и приличиях или даже про выборы, политику и историю. У Риты была хорошая память на факты. Она эти лекции пересказывала иногда Вике, гордясь тем, что она уже более американка, чем поверхностная Викуся. Да чего там! Она даже и Анюточке, даже и ему, зятю, сообщала несколько раз неизвестные им сведения.
С Викторией Рита делилась. С ней можно было самым задушевным делиться.
— Анюточка ведь у меня искусственница. Я ее развернула в консультации, а врачиха говорит: «Что ж это вы мне принесли? Вы, что ли, на химическом производстве работаете? Муж чем-нибудь болен? И зачем рожают, если не могут нормального родить! Посмотрите, какой у ребенка низкий тонус». Ведь это же нетактично так с молодыми матерями разговаривать! Тут у меня молоко и пропало. Такой позор, я скрывала ото всех. Вставать надо в пять утра зимой, бежать в молочный пункт за кефирчиком… Потом надо было Анюточку от всего удерживать, заставлять, чтоб полеживала, щадила сердечко. Чего у нее только не подозревали! Уже после института, когда астенический синдром определили, наконец-то она попритихла.
С Викторией хорошо было делиться. Она только самой собой интересовалась, а про чужие дела выслушивала и забывала, никому не пересказывала.
Кроме того, она была кладезем практических сведений: какие можно получить льготы, пособия, дотации, купоны, талоны, на какую экскурсию можно бесплатно записаться, на какой концерт выдают билеты… К пенсионерам тут довольно хорошо относились.
Эстер ничего не знала про социальные службы и государственные дотации, так как всю жизнь проработала в частном секторе и не разбиралась в радостях социалистического иждивенчества. Она все дарила Рите какие-нибудь мелкие подарки, из своего хозяйства — на покупные у нее денег не было. Однажды подарила комплект простыней. Не местных синтетических, а вышитых, накрахмаленных и выглаженных как будто еще в Берлине; такие довоенные простыни из исчезнувшего мира.
— Нам никто не помогал, когда мы приехали, — объясняла она застенчиво, — поэтому хочется хоть чем-нибудь вам помочь.
Эта непонятная логика поражала Риту.
— У нас бы сказали: нам никто не помогал, и вы сами кувыркайтесь. И все улыбается! Все они тут улыбаются…
— Наконец-то мои получили работу, — сообщила Рита подругам, — временную, конечно, пока что-нибудь не возникнет. Он пишущие машинки чинит. Не умеет устроиться. Анюточку взяли в издательство какое-то, то ли клуб для эмигрантов, то ли вроде собеса — я не совсем поняла. Но ведь интеллигентная работа! А он — подсобником в ремонтной мастерской. Никому тут не нужна его знаменитая диссертация. Он вообще витает в облаках. Имя ему такое пролетарское родители дали — Валера. А ведь он из номенклатурной семьи. Вот, я-то надеялась, что Анюточка у меня будет устроена. Чего-то он там натворил, чего-то понаписал в своей диссертации, пришлось ему вызов доставать, потом в отказе сидели, едва уехали…
— Не хотите, Ритуся, встать в список на апартмент? — спросила знаток льгот Виктория. — Пожилым дают апартменты от города, в роскошных билдингах. У меня есть все аппликации. Можно даже не студию, а просторную однобедрумную получить.
Прямо так и брякнула — не хотите ли жить одна, без детей? Никогда в жизни Рита не жила одна. Какой ужас!
Ночью, перед сном, она представила себе этот кошмар: как она приходит домой в совершенно пустую квартиру, никогошеньки нет и тихо, как в гробу. Всё на своих местах, где она оставила, вещи не раскиданы…
Жить одной в ее возрасте, старуха пятидесяти девяти лет! И что же она будет делать? На экскурсии ездить? Еще, может, кошку заведет, как бездетные? Она почему-то всегда считала, что наличие кошки у женщины есть признак полной капитуляции и ущербности и прямо ведет к стародевическому маразму.
Обед не надо будет готовить, только если захочется. Или когда к ней — лично к ней — гости придут.
Она представила себе эту квартиру, в которой она будет жить впервые в жизни сама по себе и эту опустошенную, легкую, необремененную жизнь, и вдруг зашипела в подушку совершенно незнакомым, хриплым, абсолютно неинтеллигентным голосом:
— А пошли вы все к черту! Всё — к черту! А ну вас всех к черту!
Кто — к черту? Что — всё? Это было так неожиданно и страшно, что она немедленно зарыдала, хотя уже не плакала давно, не плакала даже, когда они впервые сообщили ей о предстоящем отъезде.
На самом деле она не плакала так живо и с таким удовольствием уже много, много лет.
Она собиралась плакать и не спать всю ночь, но заснула довольно скоро. Проснулась она с жуткой зареванной мордой, что тоже приятно напомнило молодость, и с совершенно ясным пониманием происходящего.
Дети хотят жить самостоятельно. Ну, пусть попробуют. Не младенцы. И она возьмет себе небольшую собачку. Не такого урода тонконогого, как у Виктории, а простую добрую дворняжку из приюта. Самое главное теперь — добиться, чтоб дали не тесную студию, а хорошую однобедрумную.
Они с Эстер сидели в парке, беседовали и пили кофе с баранками. Рита очень полюбила здешние баранки. Они здесь оказались точно такие же, как продавались там в годы ее детства, а потом исчезли.
Было так хорошо. Середина октября, еще жарко, и деревья совсем зеленые — приближение осени было заметно только по белкам. Все кругом кишело белками, они прыскали во все стороны, отъевшиеся, серебристые. Они все что-то закапывали в землю, или, как казалось Рите, раскапывали чужое. Вся земля была усыпана желудями, но эти дармоеды предпочитали баранки, складывали лапки с фальшивой умильностью, вспрыгивали даже на скамейку. Рита шугала их, а Эстер защищала.
— Микробы, — объясняла Рита.
— Это не микроб, нет! Это белка!
— Микробы на белке! — втолковывала Рита.
— Как ваша дочь, как ее муж, все здоровы? Как ваш милый Пусьа? — вежливо спрашивала Эстер.
Рита престала брать Пусю на их совместные прогулки, потому что заметила, что в присутствии любой собаки все душевные силы Эстер уходили на то, чтобы не показывать своего ужаса. Пусю приходилось оставлять дома, хотя собаки добрее и ласковее Пусеньки на свете не было. Но она уже давно догадалась, почему Эстер всегда все носит с длинным рукавом, даже в самую жару. У некоторых пожилых дам в Еврейском центре она несколько раз видела татуировки на руках. Номера.
В тот день они сидели на солнце, среди настырных белок, и Эстер, положив на старательно выглаженную юбку свои сухие, легкие, красивые руки с длинными пальцами, объяснила ей, почему никогда не ходит на бесплатные концерты для престарелых. Музыка на нее плохо действует.
Выяснилось, что Эстер когда-то училась музыке очень серьезно, в Берлинской консерватории, и уже начинала давать концерты. Она говорила со своей обычной любезной улыбкой и как можно проще: подлежащее-сказуемое, подлежащее-сказуемое, чтоб Рите все было понятно.
Эстер объяснила, что раньше не говорила о своем прошлом, но недавно к ней приходила молодая девушка, которая работает для архива, они собирают воспоминания таких людей, как Эстер, потому что их на свете скоро уже не будет. Она рассказала девушке и теперь может рассказать Рите.
Рассказывала Эстер про Хрустальную ночь, о том, что с ее семьей в ту ночь произошло. Рита всегда думала, что немцы были звери, но очень культурные. А Эстер рассказала, что ее концертный рояль соседи обгадили и разбили на куски.
Совпадение дат поразило Риту. Она даже попросила Эстер написать дату веточкой в пыли, чтоб удостовериться. Да — тот же год, тридцать восьмой, и тот же месяц, ноябрь.
До того Рита никогда не придавала случившемуся с ее семьей исторического значения, так же, как и профессию свою не считала карьерой, так же как и всю жизнь свою считала малозначительным частным случаем, бессмысленной суетой. Мамочка велела ей никому ничего не говорить, а Рита так мамочку обожала, она не то что с другими, она и с самой-то собой никогда об этом не разговаривала. Только во сне видела. Но не часто, не каждую ночь.
Отца забрали в ноябре. Пока шел обыск, дворник сидел в отцовском кресле и всё курил, а окурки бросал на паркет и растирал сапогом. Он до того, этот дворник, перед отцом так лебезил! Папа-то был крупный инженер, директор завода. Папу увели. Мамочка уснула под утро. А она, тринадцатилетняя, встала ни свет ни заря и впервые в жизни вымыла пол. Она до этого росла белоручкой и училась на пианино. Ее ужасно баловали. У них даже жила домработница, Настя из деревни. Папа был директором завода, а она — единственная дочка, такая избалованная.
Эта скользкая половая тряпка, вонючие окурки на полу, как они с мамочкой через несколько дней уехали в глубинку, на периферию… Мамочка была красавица и такая беспомощная, неприспособленная — Анюточка вся в нее пошла. А Рита с тех пор на любые жизненные ситуации отвечала лихорадочной бытовой суетой. И окружающих дергала, не давала никому ни минуты покоя, и делала все с натугой, с усилиями, самым сложным и малоприятным способом. Как будто епитимью на себя накладывала, судьбу замаливала, чтоб ничего еще более страшного не произошло.
Рита могла уже разговаривать довольно свободно, особенно в продуктовом, но тут от волнения перезабыла все слова. Тема была такая неподходящая для иностранного языка.
Объяснялась она в основном пантомимой: скрещивала пальцы перед лицом, изображая решетку, повторяя: фатер, фатер — что должно было обозначать арест отца, делала подметательные движения, отжимала, морщась, воображаемую тряпку. От этого в рассказе появился совершенно несвойственный Рите юмор.
Эстер, однако, слушала серьезно и вроде бы все поняла. Не смогла Эстер понять только одного: по еврейской линии начали серьезно сажать уже после войны. Эстер не понимала: почему евреев стали арестовывать после войны с фашизмом? А отца Ритиного забрали в тридцать восьмом не как еврея, а как саботажника.
Папа-то как раз никаким евреем не был. И мамочка не была. У мамочки была татарская кровь, поэтому Рита была чернявенькая, и ей приходилось всю жизнь открещиваться, объяснять свою чернявость. А здесь наоборот — в Еврейском центре она старалась заминать вопрос. Хотя никто особенно не спрашивал.
Они так засиделись в тот день, что уже начинало смеркаться. Правда, в парке за последние годы стало намного спокойнее, новый мэр порядок навел.
Старая Вика раздражала ее все больше и больше своими постоянными жалобами на домработницу бесплатную, которую ей прислали от муниципалитета, такая оказалась дура… «А там-то, дома, во Львове твоем, тебе умных домработниц бесплатно присылали? — мстительно думала Рита. — Там бы ты уже бабуся была в платочке, а здесь в мохеровом берете иностранка! Кто тут тебе чем обязан? Всю жизнь в месткоме проработала, людей небось на правилки сгоняла, речи толкала про империализм! Кормят тебя, квартиру дали, все тебе мало…»
Конечно, Рита ей ничего такого не говорила, смотрела на Вику с выражением сочувствия, как привыкла смотреть на своих бывших соотечественников.
Но приятнее ей теперь было с Эстер, и она даже стала любезно улыбаться, как Эстер. Не всегда, изредка. По субботам и на большие праздники — на Пасхальный седер, на Суккот, на Хануку — она всегда старалась, чтоб их посадили рядом. Хотя Эстер была атеистка, но знала все обычаи. Рита тоже была атеистка, но тут полюбила праздники, особенно Пасху. Ей казалось, что про уход из Египта, про то, как в отказе держали, — ну совершенно как с ними было, с их семьей.
Правда, когда Эстер вступила в добровольное общество и начала помогать в парке садовникам, пропалывала клумбы на старости лет, луковицы всяких тюльпанов и нарциссов сажала, и все Риту уговаривала — ну, от этих ленинских субботников Рита отказалась. Достаточно она за свою жизнь бесплатно наработалась.
Рита теперь занималась тай-чи в группе, собиравшейся в парке.
Дамы в брюках, теплых куртках и мохеровых беретах стояли, разведя руки, растопырив локти, как будто держали перед собой огромные бочки, и медленно-медленно поворачивались, приседая и вытянув вперед одну ногу. Руководила занятиями старуха-китаянка, вдова, которая когда-то содержала последнюю в районе настоящую китайскую прачечную. На лицах дам было выражение полной сосредоточенности — не то тупости, не то нирваны.
Рита занималась тай-чи. В парке. С китаянкой. Зрелище это было завораживающее, и не только своей сосредоточенной замедленностью. Представить себе Риту, размышляющую о здоровье, об улучшении своего здоровья, а не о болезнях, не об ухудшении и немощи, то есть Риту, ведущую исчисление не от негативного, а от позитивного, — раньше это было невозможно.
В этой новой самостоятельной жизни Рита почувствовала себя носительницей культуры. Она перечитывала классику. Она постоянно ездила на экскурсии. Культура оказалась утомительным занятием. От музеев болели ноги. Приятельницы не слушали экскурсоводов и не особенно смотрели на памятники истории, зато много и увлеченно разговаривали между собой.
— Ну а вы что? А он? Зачем же вы к нему всё ходите, пытаетесь объясниться? Он же глаз на вас не поднимает — упрется в свои бумаги, и всё! Ни души, ни сердца. Нет, вы должна потребовать, просто потребовать, чтобы вам дали другого врача.
Это они не про любовь уже разговаривали — сладострастное любопытство вызывали теперь постельные дела другого рода, но они продолжали делиться задушевными физиологическими подробностями, как когда-то в юности.
Теперь здешняя изнеженность уже не казалась смешной. Теперь Рита понимала, что докторшу ту, в детской консультации, которая Анюточку дефективной назвала — да тут бы она ее просто засудила, засудила. И большие бы деньги получила, да.
Теперь ей все казалось, что она еще поживет.
И она привыкла к этому городу, к своему району, к улицам, по которым много лет выгуливала Пусеньку. Она давно уже призналась себе, что отъезд оказался не таким уж несчастьем. Она могла уже побеседовать с новоприезжими о том, что баранки теперь в сравнение не идут с теми, которые продавались когда-то, в год их приезда, в лавочке на углу. Тогда их пекарь делал вручную и стоили они только двадцать пять центов, теперь таких не найдешь…
Почти совсем хорошо было ей в те годы, намного лучше, чем когда-либо в жизни. И у них, у детей, все было в порядке… Анюточка приходила иногда поиграть с Пусенькой, очень она полюбила Пусеньку, все брала его к себе.
На праздники они собирались, Рита приносила еду с собой уже приготовленную, чтоб не стоять с ним вдвоем на одной кухне, не готовить в четыре руки. Она все хуже и хуже чувствовала себя в его присутствии, хотя поводов для этого не было никаких, совершенно никаких.
А разговор тот с Анюточкой был уже так давно, еще на Войковской. Двадцать лет назад, даже больше. Ему Анюточка тогда ничего не сказала, ей первой.
И Рита ответила: «Нет, абсолютно нет! Тебе нельзя, ни в коем случае, даже не думай. Мы не справимся».
А какой еще тут мог быть выбор, с Анюточкиным-то слабеньким здоровьем? И притом в отказе, и притом в малометражной квартире. Анюточка, конечно, кричала и плакала, как когда-то, когда ей запрещали на лыжах или летом на юг одной. Ему они ничего не сказали, ни тогда, ни потом.
Но почему-то Рите до сих пор было с ним неприятно. Все казалось, что он узнает как-нибудь, догадается.
И так прошло несколько лет, до того дня, когда он пришел к ней и что-то говорить начал про Анюточку, намеки какие-то неуклюжие начал делать, уже почти, почти совсем сказал, почти произнес слово, уже почти это слово дошло до Ритиного сознания — тут-то ее сознание отключилось, понимать она отказалась с этого момента навсегда.
На похороны — а ведь она представления не имела, кого это хоронили — ее привезли на микроавтобусе, в сопровождении дряхлой Виктории и медсестры. Она не плакала, потому что не знала, понятия не имела, кого хоронили, на него не смотрела и произнесла только три слова: «Ведь я предупреждала!».
Когда-то она обвиняла дочку в каждой детской болезни, всегда бывшей следствием неосторожности. Все болели нарочно, чтоб прибавить ей переживаний. И вот результат — теперь хоронили кого-то, она не знала кого, но ведь она предупреждала…
Она была уже достаточно стара, и достаточно с ней всего произошло, она имела полное право отказаться жить в том времени и реальности, которые всем другим представлялись настоящими.
Аня
Они приехали глубокой ночью, Аня спала долго, и утром ей начал сниться скучный запах материнской вареной курицы. Она открыла глаза, но не могла вспомнить, где находится. Голые стены, непривычно далекий потолок. Матрас лежал на полу.
Вчера их везли с аэродрома на автобусе. Пахло в автобусе предрассветной бессонницей — немытыми людьми, нестиранной одеждой. За время хождения по иммиграционным конторам она уже начала догадываться, что здесь никто не знает об ее исключительности. Ее бросили в толпу бывших соотечественников, людей, с которыми там, дома, она никогда не оказалась бы в одном месте, от которых и бежала. Никто тут не понимал, что она даже не говорит с этими толстошеими мужиками и визгливыми крашеными бабами на одном языке…
Как и всем в автобусе, ей было очень страшно.
На кухне стояла мать в своем сшитом для заграницы атласном халате.
— Какие у них тут куры! Сварилась за полчаса. Еще проварю минут сорок, для верности.
В ее бодром голосе была достаточная нота истерии, чтобы показать: эта бодрость и вообще эта курица стоили огромных усилий.
Аня посмотрела на фантастический пейзаж и начала ковыряться с рамой, пробуя открыть окно. Появление курицы на пустой кухне ее не удивило.
— Перестань — ты сломаешь, у них какие-то другие окна! Нас всех просквозит насмерть, надо немедленно повесить занавески.
— Я никакую куру не хочу, — сказала дочь, продолжая слабо дергать раму, — мы пойдем в ресторан. Здесь все ходят в кафе, в рестораны… Мы приехали в новый мир…
— Аня, — сказал ее муж, человек с неподходящим для интеллигента именем Валера, — а у нас в этом мире на рестораны пока денег нет. Он всегда говорил такие вещи.
Мир этот в первые месяцы был для Ани пустым и плоским. Реальными и знакомыми были только сны. Проснувшись, надо было вспоминать, где находишься.
Лингвистическое онемение вызывало онемение почти физическое, как от холода, когда губы не шевелятся, не чувствуешь ни рук, ни ног, себя не чувствуешь. Полное неведение, как будто вернулось младенчество. Телефон звонил редко, неожиданно и страшно, как звонят телефоны среди глубокой ночи. Ключ не попадал в скважину незнакомой двери.
Аня много и подробно размышляла и рассуждала заранее о ностальгии, но тут ностальгия оказалась недоступной роскошью. Они были невыездные и никогда до того не покидали пределов собственной цивилизации. Она не могла предугадать, что предстоит им не ностальгия, а пытка некомпетентностью, унизительные поединки с мелкими загадками чужого быта.
Все книги о дальних странах были написаны путешественниками и туристами. Людьми, приехавшими в гости, которые вошли через парадный вход и у которых был выход. Людьми, имевшими проводников и гидов, информационные бюро, лакеев, банковские счета, рекомендательные письма, жившими в отелях и передвигавшимися в собственных каретах шестериком или на экскурсионных автобусах.
Их впустили с черного хода. Ошибки, даже маленькие, были катастрофичны. Городской транспорт, едущий без всяких гидов и объяснений не в ту сторону, завозил ее в страшные трущобные районы, откуда приходилось идти пешком, потому что всю мелочь проглотил сломанный автомат и нельзя было никуда ни доехать, ни дозвониться.
Город вызывал ощущение металлического скрежета, гвоздя по стеклу, привкус ржавчины во рту. Город вонял разнообразно и отвратительно — запах чужой грязи, чужой бедности. Она боялась глубоко вдохнуть эту чужую вонь и так и прожила первое время, не дыша. Самым острым чувством в те времена было чувство унижения, собственной бестолковости. Память об этом позоре сохранилась у нее на долгие годы.
И все время, днем и ночью, как будто нарочно, чтоб мучить и пугать Аню, кричали сирены пожарных машин и неотложек.
У Ани всегда был такой вид, будто она упала и разбилась, раскололась, и ее подмели и высыпали неосторожно в углу дивана: руки, ноги, локти, колени, торчащие под углами, как у людей не бывает, только на картинах кубистов или у жеребят новорожденных. Она была очень худая, длинная, с огромными черными запавшими глазами и тонким носом. Все называли ее лицо иконописным и византийским, и в этот византийский кубизм влюблялись. Аня знала о своей красоте теоретически, но думала, что красота эта никому не нужна, пропадает зря.
У нее были любимые цитаты, которые она мысленно повторяла. Например: «Как я была тогда молода и как удивительно несчастна!». Или: «Душа моя — как дорогой рояль, который заперт, и ключ от него потерян!».
На диване она читала в прежней жизни Хемингуэя, или Фолкнера, или Экзюпери, или Кафку. И знала, что когда-нибудь кто-нибудь над ее хрустальным гробом — продавленным диваном — склонится, и все гномы, заботливые, но неинтересные — разбегутся…
Мама Рита видела Аню не как человека, созданного по образу и подобию Божию, а как свое имущество, которое, вполне вероятно, что подсунули бракованное. Во всяком случае, как всякое имущество, Аня была бесконечным источником хлопот, боязни ущерба и поломки, страха, как бы чего не произошло. Благодаря Ритиным хлопотам, с Аней не происходило ничего, кроме будничности, застиранной скуки.
Даже он, будущий муж Анин, был ее личной жизнью всего лишь несколько недель, пока Рита не узнала о его существовании и не стала разбирать его по косточкам, предупреждать и остерегать. Тогда он немедленно стал таким же постылым, как и вся остальная поднадзорная Анина жизнь, и замужество произошло уже без ее участия и не по ее инициативе. Просто произошло. Его, Валеру, тогда преследовали власти, и Анечке мерещились жены декабристов, звезда пленительного счастья. Но его даже не арестовали, просто продержали в отказе, в очень скучной нищете.
В отличие от матери своей Риты, Аня никогда не суетилась и ни в чем практическом не участвовала.
Мироздание не соответствовало ее запросам.
Теперь, когда она попала в эту иностранную жизнь, которую видела раньше только на экране, жизнь эта потеряла всякую экзотичность и привлекательность. Теперь она видела только грубые декорации, пыльные кулисы, тряпки занавеса. Привлекательным ей казалось теперь прошлое, темный зал с почти неразличимыми, знакомыми когда-то лицами. Только этим, в темном зале и хотелось рассказывать обо всем, их одобрение, зависть и восхищение были бы подлинным доказательством успеха. Но их уже не предстояло никогда увидеть. Переписка увяла через два года — глупо писать на тот свет. А тут, на сцене, она произносила заученные слова, улыбалась идиотской улыбкой и знала, что актриса она плохая, фальшивая, и что смысл пьесы ей не понятен и не интересен.
Там, на Войковской, всегда можно было позвонить трем-четырем-пяти людям и пожаловаться, горько пошутить, и заключить всем вместе, что ничего не поделаешь. Здесь дружба на этой почве не возникала. Здесь вместо сочувствия немедленно давали полезную информацию, советовали что-то делать. Это просто всеобщий психоз тут был: «Надо что-то делать!». С проблемами предлагали справляться самой или с помощью специалистов. Даже на головную боль или хандру нельзя было спокойно пожаловаться — немедленно советовали идти к невропатологу или, хуже того, заняться бегом. Как будто, избавившись от одной проблемы, не получишь другую, станешь совершенно счастливой. Она хотела совершенного счастья. Счастия.
И теперь она читала на своем диване Бунина, или Бердяева, или Набокова, или Лескова.
К тому, что делало жизнь непереносимой, относились, например, времена года. Зимой можно было только ждать конца этой темноты, пронзительного ветра, холода. Летом жить было невозможно из-за давящей жары, влажности, духоты, вони. Оставались демисезонные месяцы, но весна тут не была плавным переходом от холода к теплу. Весна была — крупно порубленная и грубо перемешанная смесь холода и жары.
И только восхитительная, элегантная осень оставалась, нарядная и светская, очень городская, многообещающая и эротическая.
Осенью и начался ее роман с сослуживцем.
В тот год произошло много всего. Рита переехала. Ане нашли работу, престижную и интеллигентную, за которую, к сожалению, практически не платили, в старой эмигрантской организации.
Сначала, по хронологическому недомыслию, Аня окрестила этого сослуживца «членом Временного правительства». Этого, конечно, быть не могло, он оказался не так стар, как Александр Керенский, который еще недавно здравствовал в этом городе. Хотя и значительно старше Ани. Он не принадлежал к ее поколению, но и ни к какому из известных ей поколений не принадлежал. Он был потомок аристократической первой волны.
После работы сослуживец предлагал ей прогуляться, и они шли по улице старых особняков, с самыми роскошными, европейского вида магазинами, где в витринах стояли в изломанных позах манекены в одежде от Шанель и Диора, с мстительно-брезгливым выражением на гипсовых лицах. Это были женщины интересной судьбы, женщины, с которыми что-то происходит, которые по вечерам пьют шампанское и курят сигареты в длинных мундштуках. Из всего этого Ане были доступны только сигареты, но Ярослав Кириллович, сослуживец, просил при нем не курить.
Аня старалась не смотреть на витрины, потому что в них отражалась она сама, чучело гороховое, пугало огородное, в юбке, перешитой мамой Ритой из доброхотных подаяний еще первого года приезда. Аня не замечала, до какой степени она — долговязая, неправдоподобно длинноногая, да еще и с презрительно-брезгливым выражением на лице, — замечательно была похожа на стилизованные эти манекены.
— Славная осень! — сказал сослуживец. — Морозный, ядреный, воздух усталые силы бодрит.
Он держал ее под локоть со старомодной учтивостью, никто из ее знакомых этого не умел.
— Анна! — сказал он, прижимая ее локоть и останавливаясь у витрины ювелира. — Ваша красота достойна этих яхонтов и изумрудов!
Изум’удов. Он говорил: изум’удов. Он еще и грассировал — это Аню и добило.
Он родился в этом городе, но вырос заботливо отдаленный от местной вульгарной жизни, от местных сверстников, не зная их массовой культуры, пошлой музыки и банальной литературы. Отвратительных песен и книжек из Совдепии он и подавно не знал и посему был человеком без поколения, обреченным бесконечно ходить по заколдованному, слегка пахнущему нафталином кругу, оставаться в эпохе даже не родителей своих, а дедушек. Анечка быстро поняла, что демонстрировать ему свою интеллигентность цитатами из Окуджавы совершенно не стоит, и вскоре обнаружила с удивлением, что даже Марина с рябиной находилась за пределами дозволенного. Елагина же и Адамовича она не читала, так что, во избежание дальнейших недоразумений, они вернулись прямо к первоисточнику и осуществляли свой роман, цитируя «Чудное мгновенье» и «На холмах Грузии».
Вот что оказалось удивительным в адюльтере: адюльтер происходил днем, напоминая Ане о детстве. Сон на свету, мертвый час, полдник. То, что она привыкла в супружеской жизни проделывать под покровом ночи, тайно, украдкой, в постоянном сознании присутствия мамы Риты за тонкой перегородкой — теперь происходило деловито и довольно торопливо, в будничном свете дня. Член Временного правительства немедленно засыпал, лежа на спине, задрав бородку клинышком, которая при других обстоятельствах напомнила бы ей вождя в Мавзолее, но тут казалась кадетской, эсеровской, даже юнкерской. Хотя про юнкеров она помнила только одну строчку: «И вновь запенятся бокалы у тех, кто были юнкера!».
Она лежала днем рядом с совершенно посторонним спящим человеком, никакие бокалы не пенились, становилось скучно, хотелось курить, она вставала неслышно и читала что-нибудь, как когда-то во время мертвого часа в пионерлагере. Или брезгливо раздвигала бархатные занавески — с карниза слетали жирные голуби — и смотрела вниз, в ущелье улицы, по которому текли автомобили: бежит Арагва предо мною.
К нему домой они никогда не ходили, хотя жил он один, а встречались в отелях возле 42-й улицы, которые глупо было бы назвать подозрительными — никаких подозрений они не вызывали, будучи незамысловатыми и простодушными притонами. Анечка не обижалась только потому, что экзотика, экзотика поражала ее. Что-то в этом было бунинское. Или, скорее, купринское. Красный загаженный бархат, зеркала на потолке. Как бы мама Рита испугалась, увидев тут Аню — испугалась бы микробов, венерических инфекций на простынях, полотенцах и унитазах!
Но ведь это был настоящий, взаправдашний грех? Тот, за который все религии почему-то грозили смертной казнью. Это было первое и единственное настоящее приключение, которое с Анечкой произошло.
День благодарения они праздновали со скучными гостями, с невыносимо провинциальным Сенькой, который принес шампанское. Она пила свой пенящийся бокал и думала: «В этом году я совершила смертный грех». «Вдова Клико», смертный грех — это было из элегантной, интересной жизни, как в фильмах, бывших когда-то заграничными.
Этот клоун Сенька принадлежал к прежней Анечкиной компании, но не на равных правах, а как всеми презираемый комический персонаж. У него первого появилась замшевая куртка, на вечеринки он приносил заграничную выпивку и приходил с красавицами, иногда даже с иностранками. Не совсем фарцовщик, но какой-то слишком приспособленный и комфортабельный. У интеллигентных людей это не принято было — комфортабельность, удачливость, активность. Заранее ведь было известно, что ничего не выйдет. Его терпели, потому что он умел доставать все, включая пластинки и книжки, причем отлично в них разбирался. И по-английски говорил феноменально, лучше профессиональных филологов. Как шутила когда-то Аня: тренировался с фирмачами на плешке и с иностранками в койке.
Потом у Сеньки начались неприятности, не по идеологической, конечно, а по презренной спекулянтской линии. И Сенька просто исчез. Как потом оказалось — стремительно, раньше их всех, уехал.
В тот вечер, когда все разошлись, Сенька все сидел, нетипично задумчивый, и, уходя, уже в дверях, предложил Валере вступить в дело, товарищество на паях, фирму открыть. Как они потом смеялись! Естественно, Валеру они от этой идиотской идеи отговорили.
Акции Сенькиной компании начали через несколько лет продаваться на бирже, и Сенька стал стремительно и сказочно богат. По слухам, у него появились все комические причиндалы богатства: рысаки и парусники.
И иногда она думала, когда видела в журналах, на стенах домов, на экране этот вездесущий символ Сенькиной корпорации: возможно, думала она, когда стоишь на собственной палубе собственного парусника и управляешь собственными парусами, а кругом солнце, вода, ветер, лакированное дерево; или когда твой рысак, какой-нибудь вороной, каурый или даже в яблоках нежно дышит и фыркает тебе в ухо… Может, это не так уж и смешно, вполне возможно, что это не хуже, чем лежать и думать о неоправдавшемся и несостоявшемся. Первоначальные Сенькины партнеры, однако, куда-то исчезли и этот факт частично утешал Аню, потому что она все вспоминала тот давний обед и Сенькино предложение.
Никто не подозревал, что она находится в острой и постоянной конкуренции, в раздраженном соперничестве со всем миром. Люди, что-либо делавшие, раздражали ей нестерпимо. Если бы она делала то, что они делали, то она бы это делала намного лучше…
Аня категорически отказывалась говорить на местном наречии с акцентом и ошибками, отчего не говорила вообще. Наоборот, она занималась исключительно сохранением чистоты родного языка. В эмигрантской организации, где она все более бесплатно работала, сохранить чистоту языка было нелегко. Сотрудники издавали общественно-политический журнал, сочиняли статьи о судьбах родины и ее великой литературе, но беседовали между собой об апартментах в хороших билдингах, о получении бенефитов и даже почему-то об арте. Каждый раз, выучив новое слово, они вставляли его в родную речь.
Аня с артом боролась, называя даже доллар — рублем, хотя доллар рублем не был. Отнюдь.
Когда человек живет в двух разных цивилизациях одновременно, всегда можно свои неудачи и свою несостоятельность в одной культуре объяснить с точки зрения другой, и наоборот. Всегда есть кусты, куда уйти. И если попеременно менять точку зрения, то можно всю жизнь прожить во взвешенном состоянии, как в самолете, где таможенного налога за духи и шоколад не взимают, где ты ни одной цивилизации, ни другой ничего не должен.
Ярослав Кириллович, член Временного правительства, пригласил Аню в ресторан, что случилось за все эти годы лишь несколько раз. Она бы с удовольствием пошла во французский ресторан с хрусталем и белыми скатертями, она в таких никогда не бывала. Но он выбрал старый украинский, находившийся в Доме землячества, похожий на унылую столовую. Чтобы, как он выразился, попотчевать ее родными яствами.
Он сидел задумчивый и старательно соскребал с вареной картошки каждую травинку укропа.
Укроп тут в первые годы после их приезда был малоизвестен, нигде его не было. Потом появился, но часто бывал совсем без запаха. Ане запах укропа напоминал летние каникулы, витамины, пикники — воображаемые радости прошлого. Аня тоскливо следила за методичным соскребыванием и аккуратным складыванием зелени на край тарелки и очень хотела курить.
Владимир Кириллович был профессиональный патриот, никакой другой профессии, кроме национальной принадлежности, у него не было. Но его патриотизм не был связан с личными воспоминаниями, и он не подозревал о ностальгическом значении укропа. У него были очень чистые, отполированные ногти и ботинки.
Задумчиво и серьезно он сообщил ей в конце обеда, что уезжает в Калифорнию. Он получил работу в важном учреждении, в аналитическом центре, где собирался служить делу освобождения родины.
— Анна, — сказал он, — Анна! Я буду, — сказал он, — трудиться на ниве добивания свободы нашего отечества.
Было не совсем понятно — собирался ли он добывать свободу для отечества или добить эту свободу окончательно, если какая еще где осталась. Но было совершенно ясно, что отношения их перейдут с этого момента в эпистолярную форму, самую трагическую и изысканную.
Аня почувствовала огромное облегчение.
Они переписывались несколько лет, потом она узнала, что за эти годы он приезжал многократно, но с ней не встречался. Тогда она написала ему последнее письмо, длинное, уничижительное, лучшее из всех ею написанных.
Через несколько лет она перечитала все его письма подряд и поняла, что измена ее была изменой хорошему вкусу. Ей стало стыдно, неприятно. Измена хорошему вкусу была для Ани безусловно смертным грехом. Но свои письма она время от времени перечитывала с удовольствием.
Итак, молодость ушла, и теперь она воспринимала само течение времени как личное оскорбление. Одного факта, что наступил уже вечер, что прошла уже целая неделя, что месяц кончился — было достаточно для тоски.
Теперь она задумывалась: сколько отняла у нее судьба! И вспоминала тот разговор с мамой Ритой, больше двадцати лет назад, на Войковской:
— Я готова все для вас делать, — сказала Рита, — но ребенка мы не потянем, это безумие. И такой риск! Куда тебе рожать, у тебя астенический синдром!
Аня плакала и кричала. Но у нескольких ее подруг недавно родились дети, и она увидела, как это противно. Это девятимесячное распухание, как в фильмах ужасов, отупение этих подруг, которые ничего не читали, Аню не слушали, внимания на нее не обращали. Молоко, моча, горы уродливой байки и фланели с кислым неистребимым запахом, младенцы, похожие на мороженых кур…
Вскоре они уехали, и тут проблема эта оказалась легко разрешимой, она была в безопасности… Но теперь она думала: как много отняла у нее судьба! Вот, был бы кто-то, кто принадлежал бы ей, только ей одной. Кто бы ее всегда обожал, любил, заботился бы о ней. С благодарностью перенимал бы от нее традиции высокой культуры…
Еще за несколько лет до появления симптомов Аня начала просыпаться в четыре часа ночи от огромной, непроницаемо-серой тоски. Размеры тоски не соответствовали масштабам небольшой боли непонятно где. Это была почти и не боль, а переходящее в плоть ощущение беспредельной тоски душевной, ужасной тоски предчувствия. Эта самая тоска предчувствия мучила когда-то по ночам Риту, но Рита тосковала об Анюточке, предчувствовала о ней. Аня, привыкшая быть объектом заботы и беспокойства, не имела никакого другого выхода для этой тоски, кроме самой себя. Жалеть себя намного страшнее, чем жалеть других. Когда жалеешь других — все-таки вы вместе, компания есть; а себя жалеешь в полном одиночестве. И просить их о сочувствии она не хотела. Зачем? Не она ли от их помощи много лет отбивалась. Как они ей надоели! Или, может быть, попросить постороннего человека, члена Временного правительства? На этой мысли она старалась задержаться подольше, потому что воспоминание о нем вызывало в ней теперь живую злость, облегчавшую на время серый ужас глухой, почти неощутимой боли.
Когда появились симптомы, она никому не сказала. Слишком неромантичные были симптомы, она ненавидела говорить про физиологию. Аня складывалась на диване, подтягивая свои бесконечные ноги почти к носу, в образовавшееся гнездо укладывался старенький Пуся, от которого хорошо пахло теплой, дружелюбной псинкой.
Муж Валера, возвращаясь с работы, находил их спящими и ходил на цыпочках, не догадываясь, что они так проспали весь день.
И эта болезнь оказалась единственным несомненно серьезным событием ее жизни. Как будто она всю жизнь лежала на своем диване, подготавливаясь. Как будто она была права, от всего отказываясь, ничего не предпринимая — все равно умирать. Жил, жил и умер. Вот и всё.
Валера
Город, в который их привезли с аэродрома, был полуразрушен. Все они впервые совершили трансатлантический перелет и приехали в этот город среди ночи и навсегда, безвозвратно. Они сидели, сжавшись в семейные тесные клубки, уронив головы друг другу на плечи, прижимая детей, в покорном овечьем отупении беженцев.
Огромный автобус медленно тащился между горами щебня, железными изгородями. В небо поднимались треугольные зубчатые обломки многоэтажных руин. Ещё выше, над осколками домов, перекрещивались стрелы гигантских подъемных кранов. В ярчайшем прожекторном свете копошились в котлованах стада бульдозеров и кое-где уже поднимались скелеты новых многоэтажных домов. Стоял страшный шум, непонятный для глубокой ночи. Что-то здесь случилось, что-то катастрофическое произошло в этом городе, а их никто не предупредил.
Он знал, что времени тут было около четырех ночи. В оставленной навеки стране и даже в Европе, которую они называли раньше Западом, давно уже был день. Но этот город был гораздо, гораздо западнее.
Он спросил шепотом сопровождающего:
— Это как есть называется улица?
Они переговаривались на языке, который Валера считал английским.
— Авеню Колумба. Тут у нас Елисейские Поля строят, а трущобы сносят, — ответил сопровождающий, молодой Давид.
Давид охотно и весело отвечал на его вопросы. Он почти каждую ночь ездил в таких автобусах, но любопытные люди попадались ему редко. Давид, аспирант, получил эту временную работу и был счастлив, при тогдашней-то безработице и инфляции. Город находился на пороге банкротства. Он сочувствовал этим людям, не подозревавшим, что им предстоит.
Автобус повернул на другую улицу, еще не разрушенную, широкую, с замусоренным бульваром посредине.
— А это как есть называется улица?
— Это Бродвей.
— Посмотри! — шепнул он Анечке — Это Бродвей! А где же театры?
Дома были вроде сталинской архитектуры, солидные, с украшательством, с кариатидами и башенками. Но в нижних этажах теснились мелкие несолидныe лавочки, и всё было увешано беспорядочными, одна на другую налезающими вывесками. В основном на английском, но несколько раз попадались и не с латинским даже шрифтом, а с кудрявыми древними буквами, которые были ему знакомы по Шагалу.
«Они нас в еврейское гетто завезли», — подумал он.
Ему казалось, что эти улицы он уже видел когда-то и очень скоро узнает и поймет. Как будто ему положили в руки будущее, как передают отцу в руки новорожденного младенца. Так же казалось, что какие-то черты он узнаёт, что-то предвидит, предвосхищает, восхищается заранее. И так же было совершенно ясно, что с этого момента вся жизнь его будет с этим городом связана, и уже шевелилось в сердце предчувствие любви, возможных разочарований, возможной безответности этой любви, и так же, как младенец, был этот город загадочен и чем обернется — непредсказуем.
У ног его стоял футляр с пишущей машинкой, вернее, с тем, что от нее оставил мстительный таможенник при пересечении границы. Но сам сказочный факт пересечения границы был важнее всего, намного важнее совершенного на его глазах насилия над любимой пишущей машинкой.
Машинка была, естественно, с кириллицей.
— Рита Александровна, вы уже возитесь? Откуда курица? Анечка, вот мы вскорости работу получим и будем есть лангустов, и омаров, и бланманже в шоколаде, и паштет, и страсбургский пирог, и ростбиф окровавленный, и жирных каплунов, и стерлядь с расстегаями, и галушки будут нам в рот прыгать, — он был очень счастлив и страшно голоден, так как от возбуждения не спал всю ночь.
— Надо чем-то питаться, — усмехнулась Рита. — Не всем же мыслить о высоких материях.
Ритина жизнь казалась ему каким-то слаломом — она лавировала между опасностями и необходимостями, за общее направление не отвечая, как человек, летящий с горы. В свое время у него была слабая надежда, что Рита не решится с ними ехать, откажется. И за эту надежду ему теперь было стыдно. Рита проявила героизм ради дочери, которой она, как-никак, своим идиотским и вредоносным образом, но посвятила жизнь.
Такой у них был жизненный расклад — семья, состоящая из мужа и двух жен. Довольно обычная ситуация. Рита была уверена, что все, находящееся за пределами быта, — несерьезно, неважно, Анечка считала, что неважно все, относящееся к быту. Обе были неправы, и обе приносили ему много хлопот.
Месяц спустя он шел в социальное агентство, где должен был как глава семьи получить жизненные советы и небольшое денежное пособие.
Никогда в жизни его так часто не называли главой семьи, и никогда он не чувствовал себя менее достойным этого патриархального титула. Во-первых, кастрирующее присутствие мамы Риты, во-вторых, отсутствие какой-либо профессиональной деятельности и собственного заработка. Но, главное, мешала потеря привычного чувства компетентности, информированности, прежней его щегольской почти ориентированности и во всем сноровки. Теперь это надо было заново приобретать, и как можно скорее.
Например: адрес агентства был старательно записан под медленную диктовку, но все же с маленькой въедливой ошибочкой. Восемнадцатая улица или Восемнадцатая авеню? Дорогу он спросить не пытался, зная по опыту, что не поймет ответа. И спросить было не у кого — в дополнение ко всем прочим загадкам, улицы были безлюдны, и даже машин не было. Он шел под пушистым и теплым снегом, пытаясь найти несуществующую Восемнадцатую авеню.
Было, между тем, очень красиво. В окнах магазинов диккенсовские и диснееевские персонажи праздновали Рождество. Большие куклы кивали головами, разводили руками, любуясь горами подарков. Все тонуло в хмурой сказочной полутьме, которая наступает днем при теплом снеге. Небоскребы, серо-гранитные внизу, поднимаясь, становились всё более бестелесными и таяли в небе, как столбы печного дыма. Небо, мелко шевелящееся снегом, постепенно стирало город. Вдруг зажглись фонари, желтый свет вокруг них задрожал хаосом кружащихся хлопьев. Всё остальное было серым, кроме нелепых среди дня желтых пятен фонарей.
На автомобилях лежали огромные перины снега, повторяющие их и размером, и формой, только в смягченном, округленном виде, как будто над машинами парили их белые призраки.
Несколько раз он видел в растущих у тротуаров мягких сугробах полезные вещи — почти целый стул, маленький столик, строительные доски, которые можно было приспособить под книжные полки. Пришлось все это пропустить, с надеждой подобрать на обратном пути, после просветительной беседы с социальной дамой.
В запущенном, когда-то роскошном доме, где находилось социальное агентство, вахтер объяснял ему что-то густым джазовым, шоколадным басом, смеялся добродушно, показывал почему-то на небо и даже стал предлагать стаканчик кофе из своего термоса. Все было закрыто. Видимо, по поводу ему неведомого, а всем известного национального праздника. Возможно, религиозного, потому что охранник на небо показывал.
Он пошел обратно, перелезая через нарастающие у тротуаров сугробы, прихватил все-таки по дороге столик и стул, на доски уже не хватило рук. И в знакомой стихии снега город казался ему более знакомым, уютным.
Телефон в агентстве не отвечал. В соседнем магазинчике, по сообщению Риты, два дня были перебои с молоком.
И только потом они узнали, что произошло. Падавший в тот день снег оказался величайшим снегопадом столетия, парализовавшим город. Остановились транспорт и биржа. Эта катастрофа стоила миллионов. Такое уже случалось однажды, в девятнадцатом веке, но точных статистических и метеорологических данных от того времени не осталось.
Тогда он впервые понял, что кажущееся ему обычным, знакомым — здесь почти невероятно.
Зато он стал свидетелем события, которого не упомнят старожилы, и начал приобщаться к истории города.
Зная язык по умным книжкам, он уличный разговор первое время не понимал совершенно и чувствовал себя соглядатаем, шпионом, как будто смотрел кино без звука, не понимая происходящего и предполагая сюжеты намного более интересные, предполагая чудеса.
Чудес, впрочем, в этом городе было и вправду достаточно.
Ему казалось поразительно — поразительно, что по этому городу можно было ходить совершенно бесплатно, что не взимали денег за вход, как на симфонический концерт или в оперу.
Если тебе хоть что-нибудь полностью удалось в жизни, например, ты живешь именно там, где только и стоит жить, то этого вполне достаточно. Население города состояло в основном из людей, раз и навсегда изумленных своим местом жительства. Они добрались сюда, решились, сорвались с места или были с места сорваны. Невероятным везением и, кто знает, какой ложью, какими преступлениями удалось оказаться именно здесь — этим можно было по гроб жизни кичиться, презирая все остальное население земного шара, находящееся по отношению к этому городу в провинции, на периферии, в глуши.
И все жили в постоянном страхе изгнания из этого сомнительного рая. Бездомные валялись повсюду в виде как бы наглядной агитации и пропаганды: вот что с тобой будет, если не расстараешься. Все время, днем и ночью, кричали сирены полицейских и пожарных машин и сирены «скорой помощи», напоминая о неустойчивости существования, о возможности в любой момент катастрофы. Кому-то было больно, кто-то горел, лишался крыши над головой, лишался отца, ребенка, надежды, свободы. Cирены этого города не завлекали, а отгоняли, врезаясь в каждую минуту иллюзорного равновесия.
Работы, между тем, не было и не было. В социальном агентстве объясняли с некоторым раздражением, что приехали они в самый неподходящий момент, можно сказать, к шапочному разбору: безработица, инфляция…
Но в феврале опять был какой-то праздник, повсюду были коробки конфет в красной фольге, сердечки и картонные амуры с луками и стрелами. Рита пришла из своего Еврейского центра с объяснением, что Валентинов, мол, день, День любви. Столько оказалось этих новых праздников, с которыми пока не было связано никаких воспоминаний, которые надо было еще научиться праздновать. Он все-таки купил Анечке и маме Рите по маленькой шоколадке. А потом еще пришел гость, Давид, заходивший иногда практиковаться в языке, и принес целый шоколадный набор с бантом.
Валера весь вечер чинил свою машинку.
Он объяснял Давиду, что там, в прежней стране, пишущие машинки были чуть ли не единственным средством производства, доступным и разрешенным для частного владения. Кроме, разве что, машинок швейных, которые, кстати, тоже использовались как средство самовыражения и протеста разными стилягами и фарцовщиками. Швейные машинки, по крайней мере, не подлежали регистрации. А пишущие, сивки-бурки, вещие каурки, находились на учете и подозрении, как и их хозяева. Для людей его круга и поколения машинка была почти как маузер для офицера, как лошадь для крестьянина.
К концу вечера «Эрика» заработала несмотря на разговоры на двух языках и на отсутствие каких-либо инструментов, кроме перочинного ножика.
И тут выяснилось, что у Давида есть дядюшка, Эпштейн, которому принадлежит мастерская по ремонту пишущих машинок. Старику необходим был помощник.
Мастерская Эпштейна находилась в финансовом районе, возле Биржи, в трехэтажном доме начала девятнадцатого века, втиснутом между двумя огромными конторскими зданиями. На второй этаж вела крутая, узкая деревянная лестница с протоптанными за полтораста лет коммерции, выкрашенными стертой красной краской ступенями. По этой лестнице взбирались заказчики, неся свою нелегкую металлическую ношу. Особо важным заказчикам взбираться не приходилось — к ним старик Эпштейн отправлялся сам, а впоследствии отправлял Валеру. Фирма была известна тем, что они приходили на дом со своим знаменитым саквояжем, похожим на старомодные докторские. И, как в докторском саквояже, помещались в нем инструменты почти хирургической точности, баночки с мазями и бутылочки с растворами…
Старик Эпштейн вел бухгалтерские записи в огромных гроссбухах, переплетенных в черный и коричневый дерматин, с тисненными золотом узорами и датами на корешках. В тридцать восьмом году родители Давида вытащили своего родственника из Центральной Европы. Даты начинались с тридцать девятого.
Наверху, под потолком, шла по всему периметру мастерской длинная полка, на которой размещалась уникальная эпштейновская коллекция. Вернее, менее ценные экземпляры. Самые редкие и ценные хранились в застекленных стеллажах, которые Эпштейн называл своим музеем.
Это были не простые, знакомые Валере «ундервуды» и «ремингтоны», а невиданные чудовища с тевтонскими именами. Тут стояли «бликенсдерфер» — голый, костлявый динозавр, на лакированной красного дерева платформе, желтый «миттерхофер», почему-то похожий на ткацкий станок, и безумная круглая «грандер-виктория», и загадочный «дарт» — большое колесо на двух маленьких колесиках. И еще великолепная, высокая, с гордым викторианским бюстом, украшенная перламутровыми гирляндами и золотой филигранью машинка «крэндал», изобретение Люсьена Стивена Крэндала. «Ремингтон» тут тоже был, но это был не обычный «ремингтон» — это была первая в мире пишущая машинка, «Ремингтон № 2». Номер первый, как часто бывает с новшествами и изобретениями, сгинул на стадии разработки.
Свои сокровища Эпштейн собирал долгие годы, расплачиваясь за них не деньгами — лишних никогда не было — а долгими часами работы, восстанавливая их из обломков и мусора. Среди его клиентов были многие знаменитости, даже несколько нобелевских лауреатов, чьи портреты с автографами украшали стены, и чьи машинки, полученные на обмен, тоже хранились за стеклом в музее, хотя были заурядные «Олимпии» и «Оливетти». Начиналась галерея портретом Марка Твена. Его машинку Эпштейн не чинил, но Марк Твен был первым, представившим в издательство машинописную копию своей рукописи.
Все это Валере предстояло осторожно чистить, смазывать, изучать. Ему еще предстояло узнать, что у пишущих машинок и вправду было общее происхождение с оружием и машинками швейными — на тех же фабриках их вначале делали, из того же чугуна и стали, хрома и никеля, те же инженеры их изобретали…
Но Валера тогда, в первый день, кинулся прежде всего рассматривать инструмент — отвертки, щипчики и токарные станочки… Многие были самим Эпштейном хитро модифицированы. Были еще и химикалии — ружейное масло, например, наилучшее для смазки движущихся мелких частей, растворители, полировочные препараты для реставрации хрома и лака, краски, кисточки и щетки десяти родов. И запасные детали — целые ящики резиновых валиков, по которым скользит бумага, по которым стучат клювики букв, ящики клавиатур, рассыпанные алфавиты многих языков…
Валера, человек, интересовавшийся крайне эзотерическими и абстрактными вопросами, имел также великую страсть к инструменту. Инструмент в этой стране был великолепен, и для всего на свете существовала какое-нибудь специальное приспособление, для каждого винта — своя отвертка, для каждой дрели — сотня насадок. От вожделения к инструменту Валера избавился только через несколько лет, когда вернулся к почти исключительному пользованию собственной сноровкой и перочинным ножиком и начал презирать дилетантов с их сияющими наборами дорогих и ненужных игрушек.
В мастерской почти всегда горело электричество. Свет плохо проходил через запыленное матовое стекло большого арочного окна, на котором было выгравировано: «Эпштейн и Сыновья. Ремонт пишущих машинок. Фирма основана в 1939 г.».
Сыновья на окне были приписаны для красоты. Как всякий уважающий себя беженец, Эпштейн провел всю жизнь в мастерской не для того, чтоб и дети его стали мастеровыми. Один сын был врач, другой — адвокат.
А света тут, в финансовом районе, вообще было немного. Именно здесь архитектура была такой, как ее представляют люди, никогда этого города не видевшие, — каньоны, ущелья и так далее.
Валера, к своему восторгу, попал прямо в город Желтого Дьявола.
Как каждую точку поверхности шара можно считать центром, так и город весь состоял из центров и вершин, включая и центры запустения, эпицентры разрухи и нищеты — причем каждый житель с непринужденной провинциальной бравадой был уверен в несравненном превосходстве своего околотка, чем бы он ни славился.
Равнодушные громады центральных авеню, уходящие в прямолинейную перспективу, гордились высочайшим доходом на душу населения. Но окраинные авеню точно так же гордились изобилием шлюх, обслуживавших по исключительной дешевке. Разоренные районы гетто гордились бурно зарождавшейся там новой музыкой и танцами. Рядом с районом банков, в заброшенных торговых складах рос центр авангардного искусства. И каждый этот мир, совершенно отделенный от других эпицентров, не только другим не завидовал, но знать не знал об их существовании.
Ощущение его в первую ночь приезда: что в городе произошли накануне огромные, катастрофические события — бунт, потоп, крушение цивилизации, набег варваров — это ощущение оказалось оправданным. И постоянным. Что-нибудь всегда происходило, неслыханное и полнокровное, на всю катушку, переливаясь через край. Баснословные, легендарные времена в этом городе не принадлежали прошлому. Гуща событий — вот она. Золотой век, век великих завоеваний — сегодняшний день.
Но истории, с ее катастрофами и моральными уроками здесь вроде бы не происходило. Сюда приезжали отдыхать от истории, жить внеисторической, частной жизнью. Десятки лет, пока во всех других странах боролись с мещанином во славу различных идеологий, боролись с мещанской, человеческой, частной жизнью, улучшали людей, а не поддающихся улучшению уничтожали — здесь, в этом городе, можно было спастись, не задаваясь никакими задачами, кроме своих личных. Здесь вместо истории происходил практический прогресс, местный, муниципальный прогресс. В основном — экономический, часто — кулинарный.
Далекие исторические катастрофы доходили сюда в виде экзотических блюд, чужеземных разносолов.
Вскоре после вторжения в Афганистан — еще первого, когда афганцев освобождали от шариата ради победы коммунизма — открылась неподалеку от мастерской Эпштейна маленькая дверца, за которой была крошечная лавочка. Два брата-афганца продавали самодельный и замечательно вкусный хлеб. Это были такие плоские, большие овальные хлеба, с бороздами, слегка пригорелые, и стоили копейки. Афганцев тогда считали мирным и трудолюбивым порабощенным народом, вроде чехов. Валера всегда покупал один хлеб домой и другой для Эпштейна. Когда за порабощенных большевиками афганских женщин стали бороться моджахеддинны, афганский хлеб продавался уже в знаменитой деликатесной, у еврея, сбежавшего еще в тридцатые годы от Сталина. Позднее братья открыли фабрику, хлеб их стал ватный, безвкусный и стоил два девяносто девять. Да и афганский народ никто уже мирным и трудолюбивым не считал.
После голода в Эфиопии — неизвестно которого, у них голода было много, — открылся эфиопский ресторан. Эпштейн повел туда Валеру. Эпштейн был старик любопытный, гурман и ценитель, все пробовал и живо интересовался гастрономическими новостями. Место оказалось дорогое.
— И зря Пушкин жаловался, что родился с умом и талантом в России, — говорил Валера Эпштейну, когда они ели нечто вроде дорогостоящей жареной саранчи. — Он-то мог и в Эфиопии родиться, там тоже нехорошо.
А поляк один, политический беженец, учившийся в Сорбонне, украл из парижской пекарни и провез закваску, которую французы называют маман. От его краденой маман и пошли все хорошие хлеба в городе. Конечно закваска с поколениями выдыхается. Это происходит и с поколениями эмиграции. Работал поляк на сына того самого еврея, убежавшего от Сталина. Еда у сына была не такая вкусная, как у отца, и намного дороже.
— У отца, из первого поколения, рука не поднималась такие деньги драть, — объяснял Эпштейн. — А сын вырос на всем готовом и считает такие развратные цены естественными.
Самой дешевой едой были мягкие, сдобные китайские булочки со сладковатой свининой, с бумажным кружочком, который трудно было отлеплять от пригорелого дна. Булочка и жидкий чай стоили один доллар. Наверное, потому что китайцы прибывали постоянно всё новые и новые, и новоприбывшие с ценами не зарывались. Так что цена эта не изменилась за все годы Валериной работы в мастерской.
За все двадцать лет.
И хлеб изгнания нам сладок и приятен.
В тот год, весной, мама Рита переехала. В результате этого неожиданного чуда их отношения с Анечкой должны были совершенно измениться. Когда этого не произошло, он занялся устройством дома, наконец-то ставшего их собственным. Он даже призывал Анечку к участию, но она только поднимала глаза от «Самопокаяния» или «Философии общего дела», смотрела на него с недоумением и продолжала читать.
Квартира их была обставлена в стиле ранней эмиграции: множество случайных, подобранных, кому-то ненужных да и вообще ненужных, полусломанных, похожих на что-то из прошлого, хотя и не совсем, употребленных не по назначению вещей, из которых Рита пыталась создать некое подобие Войковской. Большую часть этого добра он всучил Рите при переезде, многое выкинул, построил книжные полки и рабочий стол — ему часто приходилось брать работу на дом.
Он увлекся этим хозяйственным азартом и решил устроить День благодарения по всем правилам, спрашивал советов, собирал рецепты. Он вообще давно понял, что сделать что-то хорошо вовсе не труднее, чем сделать плохо, особенно в любом виде искусства, вроде столярного дела или кулинарии. Казалось бы, это требует дополнительных усилий. Ничего подобного, даже наоборот — плохую работу производишь с большими усилиями, мрачно. А хорошую — шутя и играя.
Небо в День благодарения было сине-коричневое, как на итальянских полустершихся фресках, листья бурые, сырые и изо всех окон пахло благодарственной птицей и специями, сладким, теплым, сытным запахом; и листья были цвета хорошо зажаренной птицы.
Собравшиеся у них гости не рассказывали о своей жизни, а выкладывали мнения, заключения и теории. О реальной жизни говорить никому не хотелось, все были еще очень неустроены. Это, однако, не могло помешать их интеллигентной умственной деятельности. Наоборот, при переезде у всех мозги встряхнулись и стали производить мысли. Все новое вызывало оценки и параллели с прошлым опытом. Оценки по большей части иронические — иронизировали, например, над индейкой, птицей патриотической, но невкусной — и параллели, находившиеся по отношению к прошлому опыту под прямым углом. Заключения, к которым они приходили независимо друг от друга и не сговариваясь, оказывались уныло похожими. Общее происхождение сказывалось — они улетали на свободу каждый в своей индивидуальной клетке. Или в пластиковом мешочке с водой, как продают рыбок.
Вскоре разговор перешел на обычную тему — невозможность настоящего общения с местными жителями. Мешали их бездуховность, узкая специализация, отсутствие культурных интересов…
Видимо, по интеллигентской деликатности никто не упоминал еще одной причины. Почти все они перед отъездом языком не занимались. Они ожидали, очевидно, что при пересечении границы шестикрылый серафим вложит в их отверстые уста жало мудрыя змеи.
Незнание языка было простым, но ужасным фактом, который всеми умалчивался.
За отдельным маленьким столиком сидели их дети и лопотали непонятно и безостановочно, и от новой дикции их пластичные, податливые, живые лица уже начинали постепенно меняться, менялось строение губ, рта, подбородка. Уже манера смеяться и перебивать друг друга, и то, что они выбирали из еды, и как они эту еду держали и откусывали — все это было уже собезьянничено у других детей и уже становилось, под окрики и выговоры родителей, второй натурой. Филология меняла физиологию.
Сенька не высказывал никаких теорий и не иронизировал над индюшкой. Он принес с собой несколько бутылок очень хорошего питья и закуски из очень хорошего магазина и пил и ел в основном свое.
В тот вечер, когда все ушли, Сенька предложил Валере замечательную аферу: вступить вместе в дело. Он уже нашел двоих, свои ребята, из Политеха, с хорошими мозгами. Каждый должен вложить по пять тысяч.
— Вы живете в трущобе, — тихо сказал ему Сенька в дверях. — Перевози своих в Нью-Джерси. При твоем английском, с твоими мозгами, с твоими золотыми руками — через год купишь дом.
— Он тебе предлагает бросить работу? — возмутилась мама Рита. — У тебя оклад, на который можно прожить! Ведь это риск! Наглый, явный обман и вымогательство.
Анечка осторожно и брезгливо повторяла «Сенька!», «Партнеры из Политеха!», и губы ее морщились, как будто ей дали попить чего-то скисшего, как будто сами эти слова — Сенька, Политех — были уродливыми, нелепыми ляпсусами.
— Чего он там собирается организовывать? Фирму по производству персональных компьютеров! Каких персональных компьютеров? Где он их видел? У кого они есть? Какая чушь, чушь, чушь!
— Бред — согласилась Рита с авторитетом человека, который, как-никак, имел инженерное образование и видел однажды компьютер — большую комнату в Институте информации на Соколе, где на пол ползла бесконечная перфолента…
Он воспользовался их возмущением.
На самом деле думать-то было нечего, надо было кидаться на это предложение, очертя голову. Именно такое поведение подсказывал этот город на острове, с сумасшедшей архитектурой и невозможной погодой. Деньги и успех тут доставались не за старание, а за способность всегда рассчитывать только на лучшее, играть в детские рисковые и раскованные игры.
Что такое персональные компьютеры, Валера уже знал, догадывался о предстоящих переменах и беспокоился за свои машиночки. И старик Эпштейн тоже начинал по этому поводу сильно нервничать.
Но не мог он себя заставить переехать в Нью-Джерси и иметь дело с Сенькой, слишком это было тяжело и безрадостно. Хотя Сенька его и восхищал, вульгарность его хищная очень нравилась. Но восхищал его Сенька вчуже и издали. Конквистадором, пиратом и мушкетером хорошо быть, еще лучше о них в книжках читать, но иметь с ними дело каждый день — очень, очень скучно, если сам не принадлежишь к этой замечательной породе.
А главное — ему уже тогда было жалко оставлять Эпштейна. И машинки, машиночки, с кареткой, едущей к концу строки, с нежным железнодорожным звоночком, празднующим каждый раз благополучное прибытие, завершение дальнего путешествия по стучащим шпалам букв, по долинам и по взгорьям слов. И потом — трудолюбивый откат, возврат к началу, напоминающий о смирении, о том, что искусство вечно, язык бесконечен, успех не гарантирован — и снова в атаку, в путь, до следующего торжествующего звонка.
Как стрелочник он сидел сиднем на одном месте, на глухом полустанке, и ему все казалось, что когда-нибудь и он отправится в свое путешествие на звенящей и стучащей этой машине времени, и на корме будет написано золотой вязью имя, как писали на старинных кораблях: «Мерседес». Как в «Графе Монте-Кристо». Как у кораблей, на которых прибыл сюда Колумб: «Нина», «Пинта», «Санта-Мария».
Машинки были красивые, как Анечка, нелепые и незащищенные, как Анечка, созданные для чего-то лучшего, чем ежедневная скука, которой их бездарный мир подвергал, как Анечку.
Он прекрасно знал, что в тот День благодарения не сделал выбора, который мог бы совершенно изменить их жизнь, и не было бы последующих двадцати лет в мастерской… Все равно как на шоссе, раз не свернувши в нужном месте, невозможно выскочить из потока, несущегося уже давно и безнадежно не туда.
Впоследствии Сенькины дела развивались великолепно, как развивались в те годы все дела в компьютерной области, тем более у таких редких людей, как Сенька, ориентирующихся в любой среде — от тюремной камеры до развитого капитализма в постиндустриальной стадии. Сенькина афера стала международной корпорацией.
Но он не мог понять, почему Анечка постоянно сердилась на Сеньку и вообще на людей и сводила с ними счеты. Если уж человеку свойственно со всеми конкурировать, то лучше размышлять не о чужих недостатках, а о собственных достоинствах. Но Анечка своих достоинств не осознавала. Менее всего она сознавала свою красоту, прелесть каждого своего нелепого, неуклюжего движения.
Язык, остававшийся для Ани утомительным чужим шумом, начинал их постепенно разделять.
Все труднее было с ней даже пошутить, потому что местной жизни она не знала, а объяснять было долго и не смешно. Анечка, которая была настолько моложе его, которая отчасти заменяла ему несуществующего ребенка, становилась почему-то не старше, а старее, принадлежала все больше и больше прошлому, ничего не зная и знать не желая о настоящем. И даже этот старательно безукоризненный язык ее приобретал какой-то нафталинный дух, она употребляла словечки, которые уже никто не употреблял и не помнил.
Перемена места меняет тебя не сразу, но время работает всегда в пользу места. Начинаешь со временем смотреть на мироздание из этого угла, из этого места, даже не прилагая к тому никаких мозговых усилий. Бывают мозги, в которых царит вроде бы полная дичь, куда, можно сказать, не ступала нога человека — вроде мозгов Ритиной подружки Викуси — мозги, которые за мыслями совершенно не гоняются. И даже такие мозги порождают со временем идеи, которые в прежнем месте проживания были бы необычайно прогрессивны.
Происходит это незаметно. Меняются даже не идеи, а их пропорции. То, что когда-то казалось парадоксом — теперь выглядит банальностью. Первое, что приходит в голову, — совсем не то, что раньше приходило в голову первым.
То, прежнее, тоже где-то есть, как эмалированный Ритин тазик рядом с пластмассовым. Только совершенно изменились пропорции, в результате точки зрения, угла зрения, угла, в котором сидишь, главное — времени, которое в этом углу просидел. Также, конечно, климата, информационного шума. И питания.
Но вот задача — если сопротивляться этому изменению всеми силами, все равно изменишься, только станешь мутантом. Сохраненный язык превратится в эрзац, в суррогат. И доллар рублем не станет, как его ни называй.
Анечка завела манеру говорить: наше правительство, наша история, в нашей литературе. «У нас сегодня опять была демонстрация!» Словом «наше» Анечка теперь называла только те места, из которых давно уже уехала. За происходящими там изменениями она ревностно следила и все там происходящее постоянно ругала. Поносила, критиковала, иронизировала. Но если он начинал говорить о здешнем, лицо ее скучнело.
Она рассказывала о политических прениях в своем реликтовом эмигрантском учреждении и много говорила теперь о верности: о верности прошлому, верности своей культуре, своим традициям, своей стране, которую должно прощать, какой бы жестокой она ни была.
— Анечка, ну какая верность, ты что? — говорил он. — Очень я это слово не люблю. Верность — это вроде бы любовь из чувства долга, на морально-нравственной основе. И как страна может быть жестокой? Климатом, что ли? В Исландии тоже темно и холодно. Жестоким может быть государство, то есть его идиотические законы, некомпетентность и косность. Зачем это прощать? И почему ты думаешь, что историческая роль России — учить человечество на своих ошибках? У Гаити тоже ошибок достаточно, не говоря про Румынию. Знаешь, я вообще больше не верю, что на ошибках учатся. Гораздо лучше учиться на успехах. Ошибок можно делать много, и от них получаешь не опыт, а комплекс неполноценности. И, Анечка, ты уж, пожалуйста, не сердись — но не верю я больше в очищающую силу страдания. По-моему, лучше жить хорошо, чем плохо, и получать от жизни удовольствие. И самоотверженность мне кажется неестественной для человека. Самоотверженность приводит к нехорошим последствиям. Все это самотерзание, самоотвержение и самоуничижение — это не жизненная философия, а невроз, честное слово, Анечка…
Тогда Аня говорила, что он стал узким прагматиком, до мозга костей утилитарным лавочником.
— Но, Анечка! — защищался он. — На лавочках держится цивилизация. Вот ты любишь свободу слова, а как она может существовать без лавочек? Они ее, конечно, не гарантируют, но без них-то она уж точно невозможна! У Бенджамина Франклина была частная лавочка, печатная мастерская, он с нее доход получал, с нее Американская революция началась. Получать доход — не жульничество. Ты думаешь, мы там только без свободы слова загибались? Мы без частной собственности загибались и без частной инициативы!
Но Аня презирала потребительское общество и хотела не просто свободы слова, она хотела, чтоб при свободе слова никто не говорил ничего глупого и пошлого, чтоб свободное слово было все как есть культурное и хорошего вкуса.
И вообще она хотела быть вольною царицей и владычицей морскою, то есть разговоры такие часто кончались слезами.
И тогда он думал со стыдом, что он, разводивший теории о моральности своекорыстного интереса, барыша и прибыли, высказывавший свои недопеченные идеи, — что он мог, ей, красавице, предложить? Не надо было с Анечкой спорить, просто поговорить ему было совершенно не с кем.
Было ясно, что Анечка ставит духовное выше материального не от хорошей жизни, а потому что материального у них всегда было в обрез. Легче было презирать потребительское общество, чем признаться что ей, красавице, красивая жизнь была совершенно необходима, все эти шелка-соболя полагались ей, для нее и были придуманы…
Предприятие Эпштейна держалось экономически не на починке антикварных редкостей, а на больших контрактах по обслуживанию банков и корпораций. Контракты гарантировали постоянный доход и обеспечивали работой кроме Валеры еще двух мастеров.
Когда банки и корпорации окончательно перешли на пользование компьютерами, Эпштейну пришлось мастеров сократить. Только Валера, будучи народным умельцем, продолжал чинить антиквариат.
Они с Эпштейном говорили мало, и никогда о личном, больше о еде, о смешных случаях, происходивших в городе. Главное, Эпштейн ни разу не расспрашивал Валеру о прошлом. О прошлом спрашивали все, с большим любопытством, но ответов хотели коротких и понятных, то есть лживых, и это со временем сильно надоело.
— Друг мой, — сказал однажды Эпштейн строгим, совсем не комплиментарным тоном, глядя на возрожденный из праха и тлена «Ламберт», странный аппарат с телефонной вертушкой вместо клавиатуры, — я надеюсь, — сказал Эпштейн, — что ты, когда молишься, не забываешь каждый день благодарить Бога за талант, который тебе дан.
Эпштейн обычно не разговаривал на религиозные темы и не соблюдал законы и праздники. Но он, видимо, был уверен, что нормальный человек молится, равно как и чистит зубы. И притом молитва его, как полагается у евреев, имеет вид не просьбы, а благодарности.
О таком отношении к собственному таланту Валера никогда не думал. Его воспитывали, как и всех, в духе скромности и самокритики. Скромность понималась как покорное осознание собственной неважности. Здесь такая скромность считалась психическим заболеванием, от этого лечили, даже и лекарствами.
Но, конечно же, можно с полной скромностью признавать свой талант, не зря же он называется — дар. Подарком глупо кичиться, но нельзя и не признавать подарка, быть неблагодарным.
О существовании своего дара он знал хотя бы по его тяжести, по бремени таланта, зарытого в землю. Не к реставрации машинок, конечно. Например, диссертация его незащищенная, беззащитная. Там эта диссертация привела к большим неприятностям, закончившимся отъездом. А здесь он сразу понял, что заниматься своим делом ему не светило. Сколько всего в жизни ему не удалось защитить.
Совершенно было ясно, что нет ничего важнее заработка, оплаты Ритиных уроков тай-чи, откладывания денег для Анечки на поездку в Париж — ей всегда так в Париж хотелось, может, она хоть немного взбодрится. Своим старикам, давно уже не номенклатурным, которые два года ему разрешения на выезд не подписывали, он по мере возможности что-то пересылал с оказией.
Когда он возвращался домой после работы, большинство людей, ехавших с ним в поезде, были такие же, как он. Какой-нибудь китайский разносчик из ресторана, который колесил по городу на вихляющем велосипеде, содержал семью в Шанхае. Швейцар на свои чаевые кормил целую деревню в Перу. Таксист мог оказаться вождем племени, пекарь — доктором наук, санитар — бывшим хирургом. Такой это был город. Он был в хорошей компании, и судьба его была обычная для этого века, беженская.
Просто некоторых людей Господь Бог спрашивает по поводу своего мироздания: «Что ты об этом думаешь?».
Задав этот вопрос, Он вовсе не заботится снабдить человека соответствующим характером и жизненными обстоятельствами. Он и бодливой корове рогов не дает — хотя зачем тогда делать корову бодливой?
Громче всего этот вопрос задается, видимо, бездарям и графоманам. Потом их все ругают: кто тебя спрашивал? Никто тебя не просил высказываться. А они знают — кто. Они должны глаголом жечь сердца людей.
Есть такие, которые вопроса почти не расслышали и занимаются всю жизнь чем-нибудь другим. Однако они мучаются смутным ощущением неисполненного долга. Они всё оправдываются наличием гораздо более серьезных обязательств.
Люди, которым никто никакого вопроса не задавал, делают свое дело очень хорошо, профессионально и ловко. При этом они даже не догадываются, что вопрос существует, что все сборные части, из которых они лепят свой новодел, были когда-то, изначально, созданы в процессе ответа на этот вопрос. Поэтому между профессионалом и дилетантом или графоманом нет ничего общего, а между гением и дилетантом общего так много, что их часто путают друг с другом.
Так почему же люди должны мучиться вплоть до смертного одра тем, что не ответили на какой-то невнятный, давно уже забытый вопрос?
Все это — дело мистическое и чреватое тяжелыми последствиями, так как связано с авторским самолюбием Господа Бога, который, потрудившись шесть дней, решил на седьмой спрашивать кого ни попадя: что ты об этом думаешь?
Домохозяин их пока не выселял, но цены кругом угрожающе росли, так как город, в годы их приезда почти погибавший, достиг теперь небывалого экономического расцвета.
Теперь тут было ощущение постоянно происходящего праздника, парада, триумфа. Весной деревья расцветали и становились малиновыми, лимонными, сливочными, до того еще, как стать зелеными, и парки пенились, как кондитерские магазины. Парки теперь превратились из прежних помоек в старательно культивируемые филиалы рая. Гигантские подсолнухи и какие-то цветущие кусты из Южной Америки, аристократические родственники картошки, светились на фоне голубой хвои сосен. Настурции и повилика поднимали сияющие личики цветов к небу, на котором теперь постоянно сияло солнце — видимо, когда город вышел из финансового кризиса, солнца тоже стали выделять больше, чем во времена банкротства. В летние месяцы детская любовь города к воздушным шарикам и разноцветному мороженому достигала апогея. Блестящие гроздья шаров плавали между небоскребами в неприлично идиллическом синем небе. Зимними ночами эти небоскребы сверкали, как очень дорогие рождественские подарки, как бриллиантовые ожерелья и диадемы, выложенные на бархат неба невидимой заботливой рукой ювелира.
Эта невидимая рука рынка работала, как мистическая случайность рифмы, и поэтому город был природным, стихийным явлением, как коралловый риф. Эстетика и поэзия мелкой частной инициативы, живой, нелепый, смешной триумф человеческого, триумф мещанства, которое так презирали и истребляли в течение всего этого двадцатого века. Хаотическая эволюция города проходила вопреки планам и решениям, без всякой связующей идеи, без идеологии. Город рос в результате миллионов актов индивидуального творчества, основанных исключительно на желании подзаработать, вырастить детей.
У каждого города есть своя тема, каждое место человеческого обитания имеет какую-то цель, некую идею выражает. У этого города, нeсмотря на его несерьезный, похабно-ернический, несолидный характер — идея сложная, цель его необычная. Город этот — свалка истории, склад потерянного. Здесь люди сбрасывают и оставляют то, что раньше казалось им совершенно необходимым. Не одеждой, а кожей.
Здесь они понимают, что представления, казавшиеся им несомненными, вовсе не универсальны, а провинциальны.
Кожу можно сбросить, но процесс линьки нелегок человеку, и не линька это, а свежевание, и конца этому нет и не будет, привыкнуть к новой коже нельзя. Да и не нужно: есть в этом свежевании залог свежести, лучше это, чем грязная одежда, прилипающая к телу.
Первое поколение не успевает завоевать этот город, он построен на костях первого поколения, этот огромный странноприимный дом построен на задушенных амбициях отцов ради детей, ради второго поколения. И — почти мистическая амнезия второго поколения, которое ничего уже не помнит, ничего не знает. Слишком много было памяти у родителей, дети видят разъедающее, отравляющее действие памяти и отказываются от нее. Если поколения понимают друг друга без всякого усилия — значит, за прошедшее между ними время ничего не произошло, это признак косности и отсутствия прогресса.
Дети выучивают в школе недолгую здешнюю историю, запоминают имена чужих предков, и из школьных раскрытых окон доносится ранней осенью речитатив, хор, распевающий список кораблей Колумба: «Нина! И Пинта! И Санта-Мария!».
Эта дикая колония, ставшая центром мира, как она все прежние центры мира раздражает.
Принадлежащая богатым детям — а их будет Царствие Небесное, им принадлежит рай на земле, малым сим, нищим духом, испорченным, избалованным, наивным детям — эта колония всех раздражает.
Потому что, увидев будущее, люди обычно кричат: «Варварство! Варварство!».
Народ этот — поздний, немного отсталый ребенок, которого Бог жалеет и задаривает, хранит в безопасности. Никогда тут не происходило всеобщего несчастья, такого, от которого частная инициатива не помогает, небо над этим городом никогда не разверзалось…
— Вы на Бога рассчитывайте, он не дает нам ношу, которую мы не можем вынести. Он вас испытывает, потому что Он вас научить хочет, — утешала его сиделка.
С тех пор, как он в первый раз отвез Анечку на «скорой помощи» в больницу, он постоянно выслушивал богословские рассуждения. Он сиделкам не говорил того, что на самом деле думал, а именно: ваш Бог, чем хлопотать и помогать, лучше бы не устраивал такой гадости с самого начала. И было бы редкостным садизмом со стороны Бога так мучить Анечку, чтоб кого-то чему-то научить. И лучше бы они сами помогали Богу не проповедями, а подходили бы к пациентам, когда их зовут… Но отнимать у сиделок удовольствие душеспасительных советов глупо было бы и жестоко.
К ночи, когда он уходил, ее лицо, так испугавшее его утром, уже казалось хорошо знакомым, и он боялся забыть его, это сегодняшнее лицо, потому что завтрашнее, он знал, будет уже другое, еще дальше уйдет. Сначала ее иконописный кубизм превратился в готику, предельное напряжение всех костей, сухожилий, устремленное вверх. Потом этот готический собор казался уже сгоревшим, пепельным костяком. Потом была уже клетка, за тонкими прутьями которой все билась и не могла освободиться Анечкина душа. Медицина была направлена на то, чтоб клетку эту чинить и укреплять, не отпуская ее душу на свободу как можно дольше. Он думал об этом — о явной несомненности Анечкиной души, которая проступала все яснее, чем меньше значения имела почти уже несуществующая плоть. Плоть-то он знал всю, досконально, с молодости, знал гораздо подробнее, чем самого себя, каждый миллиметр ее кожи изучил. А теперь и под кожей видел все: сухожилия, прикреплявшие к костям истлевшие остатки мышц, конструкцию каждого сустава. Но происходящее в душе ее было загадочно. И теперь, когда она не могла говорить — не более загадочно и не менее, чем за всю их долгую жизнь вместе. Не было для него более непонятного человека, чем Аня, потому что никого другого не пытался он понять так долго, с такой полной безнадежностью. Он давно знал, что женился по несчастной, неразделенной и безответной любви. Несчастная любовь далеко не всегда заканчивается разрывом и разлукой, вполне может включать и свадьбу, и долгую совместную жизнь.
Он думал о том, что вся путаница происходит на уровне простейшей терминологии и что слово «любовь» употребляется часто и без толку. Словом «любовь» называют всё — от чрезвычайного эгоизма до абсолютного альтруизма, от любви к жареной курице до жизнь отдать за други своя. Как будто всей этой любви — залейся; между тем это чрезвычайно редкая субстанция. Сказать: «я люблю» — это большой самому себе комплимент.
Можно ли называть любовью смесь темного страха перед силами судьбы и тяжкого, безрадостного чувства ответственности, которое чувствовала Рита? Так сильна была эта любовь, что от самой Анечки хотелось сбежать, отдохнуть, не иметь ее пугающего, чреватого опасностями существования перед глазами. Ведь Рита, когда он с ней осторожно заговорил об Анечкиной болезни, намеки какие-то неуклюжие начал — ведь она именно с этого момента отключилась, полетела в сенильность и маразм.
И даже: любовь ли то, что он к Анечке чувствует? Вот когда она еще на ногах была, он доводил ее до госпиталя, и, избавившись от медленного, нестерпимо медленного шага умирающей, как же он припускал ходу, и город бежал рядом с ним, как верная собака. От госпиталя до остановки автобуса заботливо сопровождал его город, присутствовавший при смерти этой славянофилки, этой ностальгирующей изгнанницы, — потому что из ностальгирующих изгнанников он, город, и состоит. Для них его улицы прозаично и доходчиво пронумерованы, чтоб они, в угаре тоски своей и ностальгии, не особенно заблудились. Потому что — у кого здесь спросить дороги? Ответят тебе на смеси суахили и португальского, на черном и еврейском жаргоне, спутав несколько наречий китайского, а может быть, и на халдейском — халдеи тут живут, управдомами работают…
Обо всей этой чуши он думал, испытывая животную, предательскую радость, что он-то еще думает, что его-то ноги еще движутся, идут, без боли, без особых усилий, и эгоистический страх за самого себя, страх перед предстоящим ему полным, уже окончательным одиночеством, и пронзительный, до священного восторга доходящий ужас перед тем, что с беззащитной Анечкой могут в любой момент проделать болезнь или медицина.
В тот день он мог прийти в больницу попозже, так как ее утром забирали на очередное обследование. На обследования и проверки теперь тратились ежедневно тысячи, которые так бы ей пригодились раньше, она могла бы приобрести немного простых радостей, которые привязали бы ее к жизни. Им нужно было постоянно проверять — правильно ли она умирала или были в ее смерти какие-то отклонения от их науки. Ей делали анализы и на цифры в анализах реагировали дорогими лекарствами, но с обезболивающим санитарки вечно запаздывали… Это уже превращалось в быт, и раздражение его было мелкое, бытовое.
Одеваясь, он включил телевизор. Показывали с утра пораньше какой-то боевик про конец света. Его теперь все раздражало, раздражал даже этот боевик со стандартными толпами статистов, бегущими по узким улицам, вроде улиц финансового района, возле мастерской. Статисты бежали прямо на камеру, спасаясь от апокалиптической стены черного дыма — на специальные эффекты, как всегда, не поскупились. Но были и претензии на оригинальность, например, крайне реалистичная съемка трясущейся ручной камерой, и, для драматического напряжения, апокалипсис происходил при солнечной погоде. Башни эффектно, медленно, хотя и неправдоподобно, рушились на фоне аквамаринового, идиллического, голливудского неба, белоснежных облаков, таких же, как сегодня, небо на экране было точно такое же, как за окном, и общий план массовки все никак не кончался, не перебивался крупным планом героя…
Все это он увидел на экране краем глаза, натягивая свитер, проходя на кухню. И долго еще — секунд двадцать — продолжал собираться, как бы не понимая, хотя руки его уже начали дрожать.
Первые два дня он ходил к Анечке пешком. Ему дали маски, респираторы. Запах был едкий, не просто пожара, а электрического, технического пожара. В первый день в больнице готовились принимать пострадавших, и стояли длинные очереди, еще с улицы, сдавать кровь. Очереди были терпеливые, хорошо организованные, и все происходило в обстановке взаимной предупредительности и деловой сосредоточенности. Прохожие на улице улыбались друг другу.
На третий день Анечка умерла. Он поехал в мастерскую. Поезда уже ходили. На каждой станции все удушливее становился запах гари.
— В связи… — сказал кондуктор, запнулся, стараясь найти подходящее выражение, и решил употребить стандартную форму, — в связи с происшествием на улице Чамберс поезд здесь не остановится.
Все в этом городе становилось местным, мировые катастрофы превращались в уличные происшествия. Поезд медленно проползал по глубокому туннелю, и ад находился не внизу, где ему быть полагалось, а наверху, над их головами…
Его документы три раза проверяла Национальная гвардия — сначала пожилой, скандинавского типа дядька, потом молодая толстая латиноамериканская женщина, потом почти подросток, испуганный, явно нездешний.
Он долго возился с замком, ключ не проворачивался.
Взрывная волна выбила окно с «Эпштейном и Сыновьями». Мастерскую заливал ослепительный свет и дрожащий, белый, едкий туман.
В этом районе каньонов и ущелий небо всегда было дефицитом, текло узким ручейком над головой, а теперь тут было целое море неба. Всё было пепельное, призрачное, как Анечкино лицо в последние дни. Из сугробов пепла поднимались белые призраки пишущих машинок. Даже запертые в застекленном шкафу «бликенсдерферы», «бракенберги» и ранние «ремингтоны» были припудрены как будто изморозью. Сложные механические цветы западной цивилизации, чугунные и хромированные, хрупкие динозавры, долгие годы эпштейновского труда, любви и охотничьего азарта, долгие годы его старания и искусства… Из побелевших рамок смотрели почти неразличимые нобелевские лауреаты и изумленный Марк Твен.
Трудно было поверить, что даже и сюда, до этого богоохраняемого острова, служившего для всех убежищем, добрались наконец-то герои с энергией и твердой верой, с самоотверженностью, необходимой для улучшения человечества, для избавления людей от их мелочных пороков.
— Все в порядке, мистер Валера, сэр?
По лестнице поднимался полицейский Ву, уполномоченный их участка по связи с бизнесом, он обходил их всех каждый месяц, принимал жалобы и предложения. То ли по личному характеру, то ли по китайской своей сути, офицер Ву был крайне почтителен к старшим и к частному предпринимательству. Родители-профессора, бежавшие от Культурной революции, привезли его сюда младенцем. Он вырос рядом, в Китайском городе, уроки делал за столиком родительского ресторана, а теперь заканчивал Училище правоведения.
Офицер Ву сдвинул белую маску респиратора на лоб и вокруг его рта остался круг, как у клоуна, лицо было запудрено белым пеплом, респиратор торчал на лбу клоунским колпачком.
— Всё в порядке, мистер Валера, сэр?
— Спасибо, всё в порядке, офицер Ву.
И они улыбнулись друг другу этой странной, семейной улыбкой, как улыбались в те дни жители города. В их полицейском участке недосчитывались семнадцати человек. Валера хотел сказать офицеру Ву что-нибудь приятное.
— Как ваша младшая сестра? Мы все гордимся, что Элизабет поступила в Гарвард!
Валера был так счастлив, что Ву каким-то чудом оказался жив, он почти плакал от счастья.
Риту привезли на микроавтобусе, в сопровождении дряхлой Викуси и медсестры. Эту медсестру он запомнил, потому что после похорон она его поцеловала. Волосы ее были убраны в сложную традиционную прическу — кукурузными рядами, именно тем квадратно-гнездовым способом, которым Хрущев в шестидесятые годы приказывал сажать кукурузу. Эта затейливо декорированная древнеегипетская голова возвышалась над их славянской низкорослой толпой и сидела на замечательно длинной, круглой и твердой шее, как будто вся медсестра была выточена из одного куска красного дерева.
Отведя бабушек обратно в автобус, усадив и пристегнув, она решительно вернулась, нагнулась над ним, положила ему на плечи руки с удивительно длинными пальцами и фантастическими серебряными ногтями, тяжело, по-деревенски, вздохнула и поцеловала его в щеку своими фиолетово-серебряными губами.
— Бог вам поможет. Вы на Бога рассчитывайте. Он не дает нам ношу, которую мы не можем вынести. Всем сейчас тяжело. Он нас испытывает, потому что Он нас научить хочет.
После смерти человека сюжет все-таки заканчивается. Неразрешимые проблемы так и не разрешаются, а просто исчезают, по той причине, что продолжаться дальше некуда. Персонажи, которым по сюжету не полагалось знать друг друга, сидят в углу, курят, переговариваются, совершенно выйдя из роли. И мир, который даже и для других был до какой-то степени миром умершего, на который они должны были время от времени смотреть с его точки зрения — просто кончается, исчезает. Этой точки зрения больше нет, и нет связанных с нею конфликтов и ограничений. Взаимоотношения между остающимися меняются так, как при умершем это было бы невозможно. Любой может рыться в белье, копаться в бумагах, узнавать никому уже ненужные тайны.
Оказалось, что ломал ей жизнь, разбивал ее сердце, помогал ей быть молодой и удивительно несчастной вовсе не он, а совершенно посторонний человек. Она почему-то хранила не только все его письма к ней, но и черновики своих длинных ответов.
Он сразу же понял, что этот многолетний роман был и остался совершенно платоническим и эпистолярным.
Когда-то, в молодости, он уговаривал Анечку не врать маме Рите, а просто поступать так, как она считает нужным. Даже цитировал: «заговоры, приличествующие рабам…». Он, в крайнем случае, старался ее цитатами убедить. Она верила в цитаты. Но свобода для нее была возможна только ворованная, незаконная.
И это было теперь неважно. Важно было — вот, он идет по улице, а Анечка уже не может. Он встает утром, и этого счастья — спустить ноги с кровати — она лишена. И никакой погоды, не только солнца, но и унылого ледяного дождя с шуршанием изморози, самой безнадежной погоды для нее нет.
Прошлое уже явно и нескрываемо потеряло всякую ценность, он теперь плохо ориентировался в своем прошлом.
Настоящее, хотя и очень реальное и со всех сторон наступающее, к нему самому практического отношения не имело, как будто показывали ему всё на экране, да и в зал он проник без билета.
В течение его жизни личных событий так мало произошло, примечательного в ней было только, что прожита она была в двух разных цивилизациях, экономических формациях и исторических эпохах, что однажды он как бы умер заживо, что мир, в котором он родился, за его спиной распался, рассыпался и исчез, как плохой сон, как Атлантида, как град Китеж. Историческое время двигалось быстро, хотя личное по большей части стояло на месте. Он проделал все то, что полагалось делать первому поколению, но второго поколения у них не было, и со смертью Анечки выбор его оказался тупиковым, бессмысленным. И еще — ему свойственно было так много думать, но никто его не спрашивал и некому было рассказывать, и со временем его мысли устарели. Все эти табу, которые он так мучительно нарушал, эти тотемы, которые он разбивал, об их существовании уже никто не помнил. Он был теперь человеком неактуальным.
Более того, он замечал, что старые мнения вдруг обновились, предлагались теперь в новых и улучшенных ярких обертках, смешные и курьезные, не вызывая ни у кого прежнего страха и отвращения. Как будто вампиров и вурдалаков можно было теперь держать в виде домашних ручных животных, выводить на поводке. И если бы он стал кричать: «Осторожно! Это очень опасно, с этой идеей нельзя играть, я был свидетелем…» — его бы просто не поняли: «Почему? Посмотрите, какая она забавная!».
От бедности время стирается, уходит незаметно, ничем не отмеченное, в постоянном ожидании. У обеспеченных людей другое время. Не только с деньгами у них лучше, но и со временем.
К каждому сезону они готовятся заранее, готовы им наслаждаться при его наступлении. Или вообще место жительства меняют в соответствии с сезоном. Каждую минуту жизни обеспеченные люди используют и декорируют соответственно, каждый день высасывают до последней капли, весь сок витаминный из каждой минуты извлекают, как будто находятся в этом мире в туристической поездке, все оплачено, и нельзя ничего упустить.
Бедные дожидаются распродажи в конце сезона. Под Рождество в бедных районах декорируют магазинчики и харчевни хлипким пластиком и пестрой бумагой, и потом полинявшие и обтрепанные украшения висят до самого лета. И поэтому нет в городе тоскливее времени, чем январь, и февраль, и март, когда все рождественские и новогодние надежды на перемену фортуны давно выцвели и полиняли, и будут пылиться до самой летней жары, до августовской уже бесцветности. Когда в августе от белой жары бедные люди будут тратить свое уцененное время на сон, забытье среди дня, жизнь свою просыпать в жаре, в липком унизительном поту нищеты.
Но для победителей, что ли, создан мир? В конце концов всякая жизнь заканчивается большой неудачей.
Старуха его видеть не хотела. Он справлялся о ней через медсестру, которую звали Моиша, и передавал таблетки с забытыми именами — цитрамон, валидол, — в которые старуха верила. Он ездил за таблетками на край земли, к морю. Район тот выглядел чуланом, выходящим к самому морю чуланом, заваленным старьем. Или подвалом скорее, если принимать во внимание эстакаду над головой, гремящие поезда, под которыми происходила бестолковая жизнь. Он выходил к морю, к мусорной кромке прибоя, и смотрел на не имеющее ни к чему никакого отношения небо. Небо и океан продолжались бесконечно и беспрепятственно, до самого прошлого, до прежней страны пребывания. Оттого и жители этого района создали здесь свой филиал провинции, теплое гнездо нищенского процветания. Море, видите ли, напоминало им о доме. Странная роль для моря.
Медсестру звали Моиша, что на суахили означает — «жизнь». Она взяла это имя уже в колледже, когда увлеклась афроцентризмом. Хотя работала она, эта Жизнь, на переправке в царство мертвых. Вроде как Хароном. И микроавтобус ее был как челн. Говорила она с карибским акцентом — теплым, гортанным акцентом, вальяжным и неторопливым, вроде украинского.
У Моиши с цитрамоном были свои проблемы. Давать пациентке лекарства, не одобренные Отделом здравоохранения, она, естественно, не могла. И профессиональная этика не позволяла, и вообще это могло ей стоить карьеры и лицензии. Создавшаяся ситуация злила Моишу чрезвычайно, так как была хорошо знакома. Она всю жизнь должна была отучать своих родственников от употребления снадобий и средств, привезенных еще с Карибских островов, а туда — из Африки. А теперь еще и это варварство, дикарство.
Но заповеди, внушенные ей церковью, куда она ходила всю жизнь и каждое воскресенье, были еще важнее, чем заповеди Отдела здравоохранения. Нельзя было отнимать у хорошего человека радость — потрудиться для старухи, единственной родственницы. Она брала подозрительные пузырьки, высыпала из них странные пилюли и наполняла безвредными витаминами.
Иногда Моиша угощала его своей едой: тушеным мясом козленка или бычьим хвостом, курицей, запеченной дочерна в обжигающих тропических специях, жареными бананами и оранжевым сладким картофелем, серым рисом с черными бобами, тушеной зеленью, мягким белым кокосовым хлебом. В детстве он о таком читал в книжках про приключения, под одеялом, с фонариком. А теперь это была обычная еда, она стала для него привычной, успокаивающей, как когда-то картошка в мундире, макароны по-флотски, серый общепитовский кофе, школьные бутерброды с засохшим сыром…
Он всю предыдущую августовскую ночь наклеивал на предметы своего имущества ярлыки с ценами. Хотя имущества оказалось мало. И по большей части имущество это было явно никому не нужно.
Теперь он сидел на полу, кругом валялись старые письма: переписка первых лет после приезда, заглохшая через два-три года, пачка Анечкиных романтических писем к постороннему человеку. Он, найдя их тогда, читать не стал, но и не выбросил. Книги тоже валялись. Полки продались, а книги никто не купил, хотя он потратился на объявление в газету и цены снизил под конец до десяти центов. Он перелистывал и ронял эти книги, непонятно было, зачем они ему будут в этом новом мире, таинственном и туманном мире, куда он отправлялся.
Он отложил томик с кучерявым эфиопским профилем на обложке — в подарок Моише. Открыл словарь, который удалось когда-то вывезти с таким трудом.
Решил словарь взять с собой.
Я пользуюсь языком и помню все слова. Но я уже давно не пользуюсь некоторыми понятиями, которые обозначаются некоторыми из этих слов. И я уже никогда эти слова не произнесу без удивления, не задумываясь. Я смотрю теперь на язык из другого угла, и его звучание, созвучия, этимология, корни — гораздо заметнее.
Я буду жить со своими иллюзиями, а вы живите со своими. Только не трогайте меня, не лезьте ко мне со своей якобы объективной реальностью. Нет ее.
В восемь вечера, как они и договаривались, снизу раздались гудки. Он выглянул из окна. В перспективу улицы уходили одинаковые круглые кроны деревьев, черные в тени, ядовито-зеленые в свете фонарей. Он знал их так давно, помнил тощими подростками-сиротами в трущобные времена, в вытоптанной земле вокруг них тогда валялись пластиковые пакетики из-под наркотиков, окурки. Теперь они выжили и укоренились и были солидные деревья-горожане, липы-бюргеры, цветущие и процветающие, как и весь их заново расцветший район.
Внизу стоял маленький автобус и знакомая голова видна была сверху, с квадратно-гнездовыми косичками, в которые сегодня было еще и вплетено множество нежно позвякивающих серебряных шариков.
Из автобуса слышался писк и визг, и мелькали в темноте тоненькие ручки-ножки. Это возились и дрались Моишины близнецы, мальчик и девочка, Дерек и Тони. Моиша начала им что-то выговаривать про хорошие манеры и плохие отметки. И близнецы завели дуэтом, речитативом знакомый список кораблей Колумба:
— Ни-на! И Пин-та! И Сан-та-Ма-ри-я!
И-Ни-на-и-Пин-та-и-Сан-та-Ма-ри-я!
Cын товарища Поликарповой
Уродился я бедный недоносок,
С глупых лет брожу я сиротою;
…
Чужая семья не полюбила;
Сударыня жена не приласкала.
А. С. ПушкинЕго никогда не били. Он родился в приличной семье. Они жили в центре, на Сретенке.
Это он даже во сне помнит. Но во сне он идет из комнаты в комнату, шарит по стенам, а свет не включается. Выключатели не щелкают, они мягко, страшно проворачиваются; хотя при этом в серой мгле светятся со всех сторон огоньки электроники. Он что-то опять сломал. В непонятном, не ему принадлежащем мире он за всю свою жизнь так и не научился ничего чинить. Сломанное всегда пытался спрятать. Но невозможно спрятать тусклую тьму целой квартиры, их огромной сретенской квартиры. В серой мгле, в посмертном сумраке его окружает ужас детства, его окружает присутствие матери, товарища Поликарповой.
Он просыпается в тяжелой темноте тропического шторма и лежит некоторое время, приходя в себя после сна, узнавая давящую тоску, которая всегда овладевает им перед ураганами. Это появилось в последние годы: унизительная, бабская зависимость от природы.
Непонятно, как начинать день в сырых сумерках штормового утра. Он постоянно забывает, что живет в экзотическом климате, в портовом городе, потому что думает об этом чужом городе только в терминах недвижимого имущества, престижного и не престижного жилья, завоевания какого-то своего места в иерархии.
Темно.
Там, в детстве, по вечерам лампочка в абажуре иногда начинает гаснуть, становится красноватой и мигает. Это называется: слабый накал. Страшно, как до революции. До революции были темные времена, водились динозавры, цари, колдуны. Вместо доброго дедушки Калинина был Кощей Бессмертный. Мальчик смотрит на красноватую лампочку, и ему кажется, что опять начинается до революции…
Выл тогда, подвывал от первобытного ужаса, как пещерный человек. Потом слухи ходили, что это на реактор все электричество перебрасывали, на атомные испытания.
Вот сюда бы бомбу и сбросили. Тут старые знаки на домах сохранились с тех еще времен, когда Олега Поликарпова там, на другой стороне мушки и прицела, гражданской обороне обучали. Здесь до сих пор висят полинялые и проржавевшие щиты, на них круг желто-черный, разделенный на секторы. Это значит: атомное бомбоубежище в подвале. И продукты питания были у них заготовлены на случай атомной атаки. Так почти полвека и пролежали. Крыс развели.
Вот и ухнули бы прямо по этим кварталам, где он теперь живет. Хотя — кому этот район нужен? Малоинтересный, непрестижный район.
А там они жили в самом центре, недалеко от правительственной трассы. По праздникам проснешься — и сполохи пламенного революционного света дрожат на подушке. Полумрак красный, чай в стакане кровавый, всюду плавают отблески, как раздавленная клюква. Окно затянуто кумачом, пылает, за ним бьются, трещат флаги.
В кухонном окне просвечивает гигантский левый ус, в коридорном окне — правый. Это усы дедушки Буденного, или дедушки Калинина, или дяди Берии, или дяди Молотова, или дяди Маленкова… Нет, дядя Маленков без усов. Олег еще совсем маленький, и он путается, но старается всех запомнить. Чтоб похвалила мама. Внизу толпа гудит, как пожар. Людей собирают на демонстрацию.
А главные усы и мудрая, доброжелательная, отцовская улыбка — посредине дома, на несколько этажей.
Во время праздников из подворотен выползают тайные люди, вроде колдунов. Мама, товарищ Поликарпова, объясняет, что это — спекулянты, жулики, частники. Частники — они как ведьмы и Кощей, как в сказках про до революции. Они занимаются злым сказочным делом: частной торговлей. Это им почему-то разрешается по праздникам. Частники продают прыгающие на резинке мячики из сморщенной креповой бумаги, бумажные вырезные веера, красных и зеленых леденцовых петухов на палочке, плетеные корзиночки. Леденцов нельзя: микробы. Резинка на мячике тут же рвется. Но соломенную цветную корзиночку иногда разрешают, и она такая яркая, что ее хочется полизать.
Мать обнаруживает преступление по зеленому языку и кричит: что за проклятущий ребенок, ему создали счастливое детство, а он не ценит. Это же анилин, отрава; заболеешь — мне некогда за тобой ухаживать. Выпороть тебя надо, выпороть, чтоб неделю сесть не мог. Непослушный, неблагодарный, ничтожный, наглый, несознательный, никому не нужный, несоветский мальчик.
Но его никогда не били. Только очень громко кричали.
На кухне уже звякает посуда — Зойка пришла готовить для гостей. И уже с утра пораньше включен ее вечный джаз. Старые трубниковские записи, непрофессиональные, с хрипом.
Как он ненавидит джаз; еще с той поры, со времен их юности… И не потому, что запрещено и опасно было — нет, сам, лично ненавидел. Варварская музыка, все наперебой.
A ведь тут джаз к классической музыке уже успели причислить. Тут что старше десяти лет, то уже и классика. Как будто нет разницы между серьезным искусством и эстрадой.
Зойка курит, отводя локоть в сторону странным, только ей свойственным движением. Ему кажется на секунду, что ей трудно очнуться от своей музыки, сфокусироваться, вспомнить — кто он такой, откуда взялся на своей, между прочим, собственной кухне.
Курит она вдвое больше с тех пор, как ее Трубников умер. Нормальная женщина, наоборот, испугалась бы и бросила. Тем более что здесь это совершенно не принято. Атавизм и бескультурье.
Сегодня придут гости. Олег одно время предпочитал общаться с новоприбывшими. Они почти всегда растерянные, впечатлительные люди. В этой стране есть своя иерархия, а у Олега всегда был на это нюх. Иерархия здесь зависит даже не от денег, как он раньше думал, и уж совсем не от культуры, это он сообразил сразу, — а от того, кто раньше приехал. Только что приехавшие всегда стоят на ступеньку ниже. Как во всех прочитанных им описаниях тюрьмы: новичка кладут у параши.
Он новоприбывших обычно просвещает. Про демократию им говорит. Так, будто лично ее изобрел и отстоял на реке Потомаке во время войны за независимость, с мушкетом в руках. Иногда самому смешно. Ведь в глубине души он не так уж и ассимилировался. На самом деле он считает демократию явлением очень милым и культурным, но, безусловно, несолидным, эфемерным. Временным. Он считает, что демократическая слюнявость и разговоры про равноправие хороши только до первого жареного петуха, который никогда не клевал эту избалованную нацию в ее упитанную задницу, но рано или поздно клюнет, обязательно ведь клюнет.
Пока он ходил на работу с девяти до пяти, ему казалось, что он в этой жизни полностью освоился и совершенно с нею слился. Но теперь его сократили и дали полпенсии. И выяснилось, что все контакты с местной жизнью и особенно с местными жителями существовали только в связи с работой и через нее.
Сойдя с протоптанной дорожки, он, как в первый год после приезда, оказался на воле, сам себе хозяин. Мир представлял собой невнятицу.
В первый год, когда Олег сам еще был новоприбывшим, если начинали говорить о чем-нибудь, что у него не помещалось в голове — а в голове у него не помещалось многое, у него оказался какой-то прокрустов ум, — он просто не слушал, отключался. Он не прислушивался к советам, как пассажиры в самолете не вслушиваются в описание спасательного жилета, кислородной маски и совсем уж безнадежного плавания в Атлантическом океане на сидении.
У непривычной мысли его прокрустов ум отсекал и конец и начало, и предпосылку и вывод, и оставшийся обрубок казался ему бредом: и вправду это был уже бред.
У него в голове тогда поехала табель о рангах — и обвалилась с грохотом, как стремянка. Потом Олег долго выстраивал новую пирамиду, но так и не восстановил абсолютной незыблемости…
Сегодняшних гостей он знает мало. Позвал их, чтоб познакомить с другом Толей, они могут заинтересовать его как потенциальные клиенты. Толя — человек на редкость общительный, хотя все его знакомые вскоре оказываются клиентами, на недоходные дружбы у него просто времени нет.
Главное, чтоб пришел сам Анатолий. Надо собраться с силами, поставить вопрос ребром. Вернее, надо собраться с умом. Назначить срок отъезда. Время уходит.
На теперешних событиях трудно сосредоточиться: проблемы тридцатилетней давности всё крутятся в голове, требуют решения. Мысленно выясняешь отношения и оправдываешься перед людьми, которые о твоем существовании уже забыли, которых, может, и на свете уже нет.
Раньше он так комфортно чувствовал себя во времени; время не было тогда враждебно. Он был беззаботен — даже ему в молодости была дана некоторая беззаботность, хотя бы в отношении времени. Тратил его впустую, валялся в нем, разметавшись, как ребенок на мягкой и безопасной постели.
Теперь он ощущает, что находится на самом краю своего времени, не видя этого лишь по слепоте своей, по темноте сознания. И он боится сделать резкое движение, большой шаг; боится планировать, чтоб не свалиться в затаившуюся рядом — но неизвестно, как близко и с какой стороны, — окончательную пустоту.
Ведь вот и мать — даже она умерла. Взяла и умерла, как обычный человек. Была на банкете, стало нехорошо, отвезли в ведомственную больницу, умерла.
Из людей, среди которых он живет теперь, реально мать видела только Зоя. Но теоретически товарища Е. М. Поликарпову помнят все…
После праздников дворничихи подметают пестрый разноцветный сор. Опять тихо звенят трамваи.
В песне поется: «Никогда, никогда не скучай!», но Олегу все время скучно. Он сидит на сером мраморном подоконнике и смотрит из окна вниз. Там, под сумрачными деревьями бульвара, прогуливаются парами группы крошечных гномов в остроконечных треугольных капюшонах. Это дети в прогулочной группе. Капюшоны на одинаковых детских пальтишках похожи на букву «А» или на крышу страшной избушки на курьих ножках.
В прогулочную группу его не записывают из-за микробов. Некогда матери возиться с больным ребенком, а Олег вечно квелый.
Буква «Я», с выпученным, как у буржуя, пузом, с нагло расставленными ногами, — последняя буква в алфавите.
Это мама объясняет, если он жалуется или просит чего-нибудь: «Я — последняя буква в алфавите». Маму зовут товарищ Поликарпова. У нее болезни на нервной почве. Нельзя оступиться, сотрясти эту нервную почву, болото болезней.
Все предстоящие сегодня разговоры — кроме разговора с Анатолием — Олег представляет себе заранее: что он будет говорить, что они будут отвечать. Что было, что будет, чем сердце успокоится… Он вообще очень многое теперь может представить заранее. Прошлое — его понять труднее, оно с годами меняется.
Лучше уйти до вечера. Пойти в торговый центр, где не жарко и не душно, сделать покупки к отъезду. Лучше не оставаться с глазу на глаз с Зойкой. Пусть она тут готовит.
Вот она сидит у стола, отдыхает перед уборкой. Сколько раз он просил Зойку, причем требовал, настаивал: следи за собой, не сиди в этой русопятой расслабленной позе. Здесь так не принято. Здесь люди всегда и везде контролируют свое лицо, всегда у них бодрый, заинтересованный вид. Но вот, опять: сидит. На лице забыто какое-то случайное выражение.
Олег берет аккуратно отпечатанный подробный список того, что Зое еще понадобится к вечеру, берет положенные рядом деньги. Это неприятно, но не может же он оплачивать Зойкину страсть к экзотической кулинарии.
После того как Олег ушел с работы — сам ушел или его ушли, кому какое дело — он стал больше времени проводить в магазинах.
Возможность говорить на языке, с таким трудом освоенном, теперь представляется только там. И то не всегда. В магазинах электронного оборудования язык непонятен. Казалось бы, что есть на свете проще, чем покупка, — были бы деньги — но тут необходимы не только деньги, но и учебники, руководства, инструкции, напечатанные неумолимо, издевательски микроскопическим шрифтом.
Он маскируется, задает солидные вопросы: «Какова мощность памяти?» и так далее. Но на самом деле не понимает ответов. Какая память может быть у пластмассовой фитюльки? Крохотная электронная игрушка повисает и болтается на проводке, как прыгающий бумажный мячик на рвущейся резинке, придуманный алчным частником, — такая же жульническая, ненадежная.
Но не такая желанная. Когда-то он вожделел к шмоткам, жаждал всякой пестрой трухи. Ведь никогда ничего у него не было. Ходил он у матери, можно сказать, в затрапезе. В москвошвеевском, в ботинках от «Парижской коммуны». По идеологическим соображениям — у товарища Поликарповой сын не должен был расти стилягой. Потом, уже обжившись тут, привыкнув к обилию ширпотреба, он просто считал, что необходимо обладать тем, чем обладать принято.
Теперь пропал весь интерес к потреблению. Олег не хочет достижений электроники, хитрых приспособлений, связанной с ними мороки. Но нужно закупать побольше всяческой дешевки — Толик велел. Везти туда для подарков и взяток.
Туда. Они с Анатолием, адвокатом, поедут туда.
Толик тоже любит пошутить про демократию. Весельчак Толик. Глазки у него блестят. Когда Толик появился в конце девяностых годов, он вообще весь поблескивал: костюм белый, с каким-то вроде люрексом, желтая рубашка. Мода конца века. Веселый, с небольшим желтым животиком, как крутое яйцо, разрезанное пополам.
Олег вначале пробовал и Толика опекать. Давал снисходительные советы, объяснял, что о работе по специальности мечтать не следует, — хотя было неясно, какая именно у Толи специальность, говорил, что надо соглашаться на что дадут, идти на компромисс. Но Толик оказался из какой-то другой формации новоприбывших. Он начал заниматься адвокатским делом сначала нелегально, потом полулегально, теперь у него и лицензия каким-то образом появилась. Он весь подтянулся, следит за собой, и костюмы у него теперь серые.
И та острая потребность своего не упустить, которую Толяня вначале не умел и не считал нужным прятать, теперь у Анатолия совершенно незаметна за дружелюбием и непонятно откуда взявшейся, старомодной почти что учтивостью.
Толик объяснил, что доверенность, по которой Олег когда-то оставлял поликарповскую огромную квартиру на Сретенке, по теперешним временам, очень даже можно оспорить. Липовая была доверенность.
Теперь и Олег в это верит. Теперь он чувствует себя прямо-таки Дубровским, лишенным родной вотчины, отчего дома, отчизны… Его семейное, родовое, историческое поместье, его краснознаменное детство.
Они живут в бывшем доме бывшего Страхового общества.
Страховое общество — это где делают страх. Дом с чугунными воротами, со статуями. В нем живут ненастоящие люди.
Настоящий человек был только один, во время войны, он летал без ног. О нем писатель Полевой написал повесть. Повесть — большая красивая книжка, на обложке приклеена картинка настоящего человека, летящего в небе бомбить врагов. По этой книжке Олег сам научился читать.
Настоящие люди железные. Настоящие люди не боялись ни жары и ни холода, закалялись, как сталь. Остальные люди — соседи, продавщицы, деревенские няньки — быдло. И даже отец ненастоящий человек, и уж конечно он сам, Олег Поликарпов — ненастоящий. Они не на самом деле, а понарошку. Как розовая колбаса и горы винограда в витрине продуктового.
Неизвестно, когда он перестал так думать. Возможно, что никогда. Вот ведь, когда границу впервые пересек, мясо увидел, думал: чтоб в открытой продаже такое мясо? Не может быть. Чтобы любому такое мясо? Муляж.
Сретенская квартира была родным домом, единственной реальностью, данной ему в ощущениях, в непререкаемых ощущениях детства. Он сбежал из родного дома, каких-то калейдоскопических изменений ему захотелось.
А ведь от добра добра не ищут, как говорит Толя.
— Решайте сами, — говорит Толя. — Как вы есть теперь человек капиталистического общества, то должны понимать, что такая квартира — не фунт изюма. Недвижимое имущество. На свете ничего нет важнее недвижимости. И теперь она вполне в сфере досягаемости. Если, конечно, взяться за дело с помощью знающего человека.
Уже после возникновения у них с Анатолием смелого и заманчивого плана, благодаря чудесам Интернета и обилию свободного времени, Олег исследовал всю историю семейного гнезда.
Доходный дом был построен, когда завертелись на короткий срок колеса цивилизации, удушенного в самом младенчестве капитализма. Когда-то в их квартире обитал почетный гражданин, купец первой гильдии, миллионщик. Наивный купец верил в демократию и социальные реформы, давал деньги на революцию. Вскоре после революции его, по недостоверным сведениям, утопили в проруби.
А Cтраховое общество верило в безопасность, и к девятьсот четырнадцатому году много кого успело застраховать от потери жизни и имущества, а также от всех видов увечий и членовредительства. Ничего из этого не вышло, как и из всех человеческих попыток спланировать и проконтролировать будущее. В самом роскошном из построенных Страховым обществом домов, в здании на Лубянке, разместилось впоследствии именно то учреждение, которое занималось исключительно увечьями, членовредительством, изъятием имущества и ликвидацией жизни.
Страх и безопасность укрепились, но решительно размежевались: страх достался частным лицам, безопасность — государству.
Казалось бы, после этого люди должны были навеки отказаться от всякой страховки и оглядки, от всякого накопления впрок. Вся индустрия предохранения от будущего должна была кончиться.
Но нет: и в доме Страхового общества во все времена люди копили, строили, надеялись.
Адвокат Толик к деньгам, счетам, распискам относится презрительно. Оплату признает только наличными, а наличные небрежно, не глядя, сует в карман.
— По-нашему, — говорит Толик, — по старинке. Я на чеки не работаю.
После долгих лет жизни в крохоборческом западном мире, со всеми их банковскими отчетами, графиками, статьями бюджета, Олегу видится в наличных уютная старомодная прелесть. И ему приятно, ностальгически приятно подчиняться, отдавать без расписки, подписывать таинственные доверенности. Такое забытое блаженное чувство потери своей воли, отрешенности, как бывает у человека на больничной койке: от меня ничего не зависит, поумнее меня люди будут решать…
Толя уже полгода как копает туннель, подкоп в сторону сретенской квартиры. Ведь черт ногу сломит в правах владения, в степенях незаконности многократно переукраденного жилья, бывшей купеческой огромной квартиры, разгороженной коммуналки, которую мать присвоила в личное владение, расширила, как империю, прорубив не то что окно — стены прорубив.
Да, сегодня надо решительно поговорить с Анатолием. И потом с Зоей. Зое он ничем не обязан, кроме денег. Но деньги он как-нибудь вернет. Например, квартиру можно на часть года сдавать. Или опубликовать мемуары о матери. Показать мать в правильном разрезе, в нужном освещении. Там такая книга пойдет нарасхват.
Вот даже Толик, хотя он необразован и в некоторых вещах достаточно диковат, но и он слышал имя Е. М. Поликарповой, уважает ее, говорит: ваша мама была настоящим менеджером и патриотом. Ей следует памятник поставить. Ему, Толику из Кемерова, лестно способствовать сыну товарища Поликарповой в таком важном деле, как возвращение законного наследственного имущества.
Олег совершит свой подвиг. Он спустится в ад своего детства. И все изменится. Он еще увидит небо в алмазах.
Очень мало уже остается времени на небо в алмазах.
Вначале была одна комната — часть разгороженного бывшего зала.
Огромный черный камин, украшенный отсеченными головами, жуткими существами и гирляндами, они используют под кладовку, чтоб метраж не пропадал. А до революции в каминах разводили огонь.
Как страшно жили люди: огонь внутри комнаты, ревущее пламя, костер. До революции было еще страшнее, а ведь и так страшно: волки, шпионы, хулиганы, клопы, вредители.
Бормашина.
Полуголые женщины на улицах мелко трясутся, взламывая отбойными молотками асфальт. Санитарка обхватывает Олега сзади и держит, зубной врач приближается с бормашиной, улыбается доброжелательной, мудрой, отцовской улыбкой…
Однажды ночью подслушал разговор родителей — мать часто по ночам кричит на отца — и понял, что у них много было других, ненастоящих детей, которые не то умерли, не то вообще не родились. А он вот родился. Потому что недоглядели. Он — обуза.
Мать — важный человек: она жертвует собой. На работе — для партии. А дома — для семьи. Папа работает по ночам в ведомстве. Он ездит в командировки, возвращается с чемоданом, который воняет больше, чем остальная квартира; в нем лежат завернутые в газету грязные носки и рубашки.
Вонь же, вонь была всюду, но никогда не упоминалась. Обоняние игнорировали, как интеллигентные люди. Теперь физиологию покорили. Теперь бесстыже говорят о физиологии, а ведь раньше даже упоминать не решались, в подсознанку загоняли.
В молодости он восхищался прогрессом. А теперь все чаще думает: ну и что? Ну прогресс. Лично его, Олега, в результате прогресса вообще на свете бы не было. Не было бы никаких детей у товарища Е. М. Поликарповой.
Тут никто не знает про ту бормашину. У них не болят зубы. Если и болят, то не так. Вот в чем самая главная разница: они зубных врачей боятся не из-за боли, а из-за денег. У них всё деньги, деньги. Хотя бы вот этот торговый центр, набитый людьми, продающими друг другу ненужные, яркие, недолговечные вещи. Права была когда-то Пашка про американское мещанство. Очень тут все вульгарно.
Толику, к сожалению, тоже важны деньги. Если Олег запаздывает с необходимыми для судебных расходов деньгами, Толик очень и очень сердится. Спускаться в ад с таким довольно алчным Вергилием страшновато. У них так мало общего.
Толик не помнит имперской окаменелости поликарповского детства. Он непуганый, этот Толик. Или пуганый, но не допугали его.
Однажды, совсем еще маленький, проснулся ночью от тишины. В комнате стоял страх, густой, как туман. Родители на своей тахте, по другую сторону обеденного стола, дышали ровно и тихо, как дышат во время игры в прятки. Он услышал сначала тишину в комнате, а потом уже — ровный рокот мотора под окном. Ему мерещилось, что кто-то очень тихо поднимается по черной лестнице. Кто-то беззвучно сползает по узкой черной трубе камина.
Потом внизу, во дворе, послышались приглушенные голоса. Люди тихо переговаривались. Хлопнули двери, машина отъехала.
Тогда в темноте чиркнула и загорелась спичка, запахло папиросным дымом. Потом на тахте началась тихая возня, тяжелое пыхтение отца, придушенный вскрик матери. Потом вскоре храп. Всё.
Это было так давно, что он не знает: было или потом придумал. Могло быть.
Водопроводный кран на кухне капает, и обмотан гниющей тряпочкой, как флюс. Выход из квартиры не по бывшей парадной лестнице, а по черной, спускающейся во двор. Трубы, провода уходят в никуда, повсюду забитые двери. Нет никакой возможности вырваться из этих тупиков. Стены дома толщиной в метр, окна заклеены и заложены ватой.
Один раз подарили на день рождения картонную трубочку с дыркой — калейдоскоп. Внутри были снежинки: не белые, а сумасшедшие — цветные, светящиеся, ярко-прозрачные. Ничего квадратного и серого, все треугольное, косое, изменяющееся, переливающееся.
Но мама, товарищ Поликарпова говорит, что калейдоскоп нельзя: это глупость. Опасная игрушка. Осколок попадет в глаз и можно ослепнуть. Матери некогда со слепыми возиться.
В «Снежной королеве» Каю попала в глаз ледышка. Но он не ослеп, он просто всех перестал любить. Зато он был сирота и путешествовал. А если осколок цветной, из калейдоскопа, то вдруг наоборот — всех станешь любить? Всех, кого полагается любить: и маму, и папу, и великую родину. Или, еще лучше, можно осиротеть и убежать из дому.
Олег одно время довольно много путешествовал. Вернее сказать, ездил; кто теперь путешествует? Он умеет авторитетно пересказывать путеводители, иногда подробно рассказывает о странах, где у него была только пересадка. В путешествиях он ничему не удивлялся и считает это свое качество — способность не удивляться — достоинством. Признаком эрудиции.
Вообще-то Олег приучен с детства считать все свои качества недостатками. И внешность, и здоровье, и характер. А теперь еще и возраст, которого он стесняется так же, как стеснялся когда-то своего позорного малолетства.
Толя — тот все свои качества считает достоинствами и, как многие любящие себя люди, часто говорит о себе в третьем лице: «Анатолию можно доверять», «Толяня себе во какие бицепсы накачал!», «Толечка у нас тортики обожает…».
Это придает ему наивное обаяние, перед которым невозможно устоять. В обществе довольного собой человека гораздо веселее и приятнее, чем в обществе человека самогрызущегося и снедаемого раскаянием. В этом смысле литература и религия несут чушь.
Хотя возможно, что религия имеет в виду таких, как Зоя. Зойка о своих качествах не размышляет вообще. Какие есть, такие есть. Это занудство, наверное, и называется святостью. Это, и готовность делать все скучные и неблагодарные дела, от которых никакого следа не остается.
Увиденное в путешествиях кажется Олегу второсортным, провинциальным. Но он знает, что в глазах здешних жителей — например, его бывших сослуживцев — он и сам человек из глухой и комичной провинции: из Восточной Европы. А ему местные жители кажутся неинтеллигентными людьми, просто папуасами. Чрезмерное обилие информации подрывает убеждения. Насмотревшись на всё и со всех сторон, глаза его стали многогранными, как у насекомого, как у мухи…
Что если мы вообще живем на захолустной провинциальной планете, в глухом околотке Вселенной?
Раньше люди просто имена свои писали на любой скале, на всяком историческом памятнике. А теперь, пользуясь достижениями техники, любое быдло ведет летопись своих передвижений и переживаний, личные свои дела на всемирное обозрение вывешивают.
Такое же бесстыдство, как с физиологией, — никто ничего не боится, никто ничего не скрывает.
Хотя и он соберет после обеда гостей вокруг компьютера, гости будут вежливо смотреть на отсвечивающий экран, а он — настойчиво стучать по клавише: «Ну что ж это… подождите, сейчас загрузится… А! Вот тут я — ну как же не видите: вот ацтекская пирамида и вот я, в левом углу…».
Ему хочется сохранить какую-то часть своего существования, переписать свою память в мозги окружающих, чтоб не пропала и не стерлась случайно. Ведь никто не помнит того, что помнит он.
Олег «Снежную королеву» и «Повесть о настоящем человеке» прочел еще перед школой. Сам выучился, в четыре с половиной года. Он и стихи умеет с выражением. У него фотографическая память. Мать говорит, что он должен заслужить, очень, очень стараться и стать совершенно хорошим мальчиком; и тогда она будет его любить.
Но в школе все, что сам выучил, не считается. В школе учат читать правильно, по складам. Если сбиваешься и читаешь бегло, классная руководительница говорит: не лезь, не лезь поперед батьки в пекло, будешь выскочкой — схлопочешь кол, у нас для всех одни правила.
Нет, не для всех. Его перед школой отвели в парикмахерскую, обрили наголо. Девчонок не бреют, им полагаются косы — а ведь у них тоже могут быть вши. Может, мальчиков бреют не из-за вшей, а просто заранее приучают: они потом станут солдатами. Или окажутся не нашими, врагами, и их арестуют.
Все делится на хорошее и плохое, наше и чужое: неодушевленные предметы, растения, животные, люди.
Рожь, пшеница, красная гвоздика — спутница тревог, конница Буденного, овчарка Джульбарс, чугун, сталь, гранит, булыжник — оружие пролетариата. Они — наши.
Канарейки, болонки, розы, герань на окошке, золото, бриллианты — не наши. Очень много не наших людей. Еще бывают бывшие люди и чуждые элементы. И враги, — их разоблачают.
В школе оказалось, что у детей правила и язык, о которых он ничего не знает. Он знал: давали мануфактуру, взяла отрез. Дают колбасу, возьми кило. А тут он узнал: его папку взяли, дали срок. Его маманя всем дает.
И еще узнал: Поликарпов — трус. Поликарпов — подлиза вонючая. Поликарпов — ябеда.
В школе его не бьют. Хотят, но боятся. Мать иногда заезжает за ним на служебной черной машине, и учителя следят, чтоб его не трогали, — знают, что он не из каких-нибудь Поликарповых, а сын той самой.
Одна семья соседей съехала — нищенка с девчонкой — и у них теперь своих две комнаты: большая с камином и чуланчик.
У них не только камин есть, в квартире даже и ванная есть с газовой колонкой. В ванной стоят корыта с замоченным бельем, на стенах пузырится болотного цвета масляная краска, на веревках всегда что-нибудь сушится и шлепает по лицу — соседские простыни, или отцовские кальсоны, или, хуже всего, материнские ужасные матерчатые протезы с петлями, пуговицами, крючками и вялыми свисающими резинками… Все женщины — инвалиды, как инвалид Семен, отстегивающий свою ногу. Все женщины как-то таинственно изуродованы от рождения и не могут существовать без упряжи страшных крючков и резинок. Из этих застиранных резинок вылезают бледные жилки, как из куриной вареной бледной ноги… мать натягивает резинку, раздраженно пытается зацепить застежкой край фильдеперсового чулка, от которого идет душный, затхлый запах…
Однажды в третьем классе всех привели в физкультурный зал. Включили кинопроектор и стали показывать кино про пытки. Проектор хрипел, серый кадр мелко дрожал на простыне. Фрицы пытали Зою. Когда она попросила пить, ей в рот залили керосин из керосиновой лампы. Потом ее гоняли ночью, босиком, по снегу. Фриц бил Зою кнутом. Потом Зою повесили. Ему было жутко, противно и стыдно, но некоторые дети вертелись, перешептывались, даже хихикали.
По подземному небу метро летят рабочие и колхозницы, солдаты в развевающихся плащах. Мать подтягивает за руку вверх, вверх, чтоб осторожно переступал опасную гребенку в конце эскалатора, чтоб не затянуло вниз, вниз. Там свет под эскалатором светится. Там, наверное, прикованные люди вертят большие колеса, чтоб эскалаторы двигались.
Еще внизу подвалы, в которых живут дворники. Они опасные, и их дети опасные. Они татары. Еще что внизу? Все части тела, которые внизу, нельзя трогать, потому что они грязные, нехорошие. Не наши.
Как-то во время болезни и жара, когда никто не обращал внимания, обнаружилось, что части тела, находящиеся внизу, представляют жгучий интерес. Это — страшная тайна. За это, он уверен, арестовывают и расстреливают. Под одеялом, в полубреду, он все проверяет и проверяет это ужасное и замечательное открытие.
Воняет дустом, в квартире морят клопов. Мать кричит на няньку, посылая ее за лекарствами: «Не ходи в угловую, дура. Беги сразу в бывшую Ферейна».
И с тех пор он живет, ожидая разоблачения. Ждет, что его поймают, уличат, накажут. Для его же пользы накажут. Потому что он вроде как шпион.
Тоскливый уют жара, удушливый уют вечной болезни, скученности, скуки, семьи.
Теперь, после очередного развода, он живет один. Хотя — вот Зоя приходит, опекает его. У нее, видимо, неизрасходованный запас благотворительности. Но они почти не говорят между собой. Выяснять им уже давно нечего.
Так что лучший его друг на сегодняшний день — Анатолий. Несмотря на разницу в возрасте, несмотря даже на то, что Толя родом из Кемерова. Дружба с ним Олегу льстит. Он похож на тех одноклассников, которые Олега хотя и не били, но могли и угрожали. Толик предприимчивый. Толику принадлежит будущее; надо быть на его стороне — и тогда не пропадешь.
Олег Толе рассказывает о прошлом. Нельзя сказать, чтоб Толика интересовало прошлое, он дальше последнего десятилетия ничего не знает. Но прошлое Толяню жутко смешит: как все было старомодно, нелепо, непродвинуто. Толик вообще весельчак.
Олег ему рассказал, например, о психушке, он умеет о психушке смешно рассказывать.
Конечно, не все. Без ненужных деталей.
Попал он туда в последнем классе из-за тригонометрии.
В гуманитарных предметах можно приспособиться. По истории почти на каждый вопрос следует отвечать: «мелкобуржуазная стихия захлестывает», а по литературе он может цитатами шпарить. Но в точных науках нельзя угадать, какого ответа от тебя ждут, какое решение больше понравится учителю. И вот он получает тройку в четверти. Сын товарища Поликарповой Е. М. может лишиться золотой медали.
Отец в командировке, его бросили чуть ли не на уран. Мать собирает семейный совет. Родственники сидят вокруг полированного стола, на котором для усиления трагической атмосферы нет даже никакой еды или чая, только в голой полировке отражаются их унылые торжественные лица и вздрагивают, когда мать колотит по столу кулаком. Они теперь встречаются редко. Мать пошла далеко, она — номенклатурный работник, а они так и остались мелкими чиновниками.
Мать кричит, что она не переживет, у нее колоссальная ответственность перед партией и народом, у нее сердце, недомогания на нервной почве, и тут еще это неблагодарное, распущенное ничтожество! Ведь он загремит в армию. Сын товарища Поликарповой — в армию! Как она будет смотреть в глаза подчиненным? Чужие люди будут над ней смеяться! Выпороть его надо, выпороть! Чтоб живого места не осталось. Чтоб месяц сесть не мог! Он должен быть благодарен, что растет в приличной семье, где его пальцем не трогают.
Жена дяди, работающая в Минздраве, поеживается, понимая, куда идет дело.
— Но ведь так просто справку не дадут, — говорит она, — ведь необходима госпитализация…
Тут Олег ревет позорно. Клянется, что исправит тройку, получит золотую медаль. Уж очень он психушки этой боится, дурдома. Боится косить под шизофреника. Он почему-то уверен, что с мозгами у него и на самом деле не все в порядке и что проницательные психиатры это обнаружат.
Товарищ Поликарпова улыбается усталой, мудрой, материнской улыбкой, прижимает его голову к своему материнскому плечу. Этим кончается каждый скандал: ритуальным примирением и объятьями. Насильственно прижатый, с расплющенным лицом, он сжимает глаза, зубы, задыхаясь от запаха духов.
Родственники любуются трогательным зрелищем, позорищем.
А ведь как все хорошо обернулось, если подумать…
Психушка сыграла в его жизни ту роль, которую здесь, в странах Запада, выполняют частные школы и дорогие колледжи, увитые, как и психушка, плющом — там он впервые завел знакомства, круг друзей.
Больница помещается в огромном парке, на дальней окраине, в столетнем полуразрушенном особняке с деревянной резьбой, с террасами и башенками. В окнах верхних этажей светятся разноцветные витражные стекла, как в калейдоскопе.
Психушка — хорошо известное в интеллигентских и начальственных кругах, в своем роде даже модное место. Существует, например, легенда, что в бывшем особняке водятся привидения: призрак не то княгини Шаховской, не то балерины, наложницы фабриканта.
— Это тебе не Алупка и не Анапа какая-нибудь пошлая, а Канатчикова дачка, скорбный дом, — объясняют Олегу его новые друзья, молодые психи, — это место элитарное…
У всех ненормальных какие-нибудь ущемления в правах: они под угрозой отчисления, в академическом отпуску, в лучшем случае — на вечернем. Одним нужна отмазка от армии, другие прячутся в психушке, чтоб не подзалететь за тунеядство.
Даже традиционный вид спорта тут есть — всяческое сопротивление лечению. Это удается довольно легко, потому что все они в элитной психушке более или менее по блату. Отсутствие лечения зависит от уровня блата. Сына товарища Е. М. Поликарповой не трогают вообще, но другим дают таблетки, которые надо прятать и выплевывать.
Лето дождливое и сырое. Часто льет проливной дождь, психи сидят в палатах, на железных кроватях с отбитой белой краской, с черными пятнами. На скорбные родимые березки похожи эти ободранные железные кровати психушки. В дождливые дни они с побудки до глубокой ночи пьют чай и разговаривают о литературе, философии, истории и любви.
Когда немного подсыхает, они продолжают разговоры, гуляя по огромному, заросшему крапивой парку в арестантских пижамах и отсыревших шлепанцах. Их бесконечные эзотерические беседы состоят из незаконченных цитат, недоговоренных шуток и малопонятных намеков. Они отказались от всякого честолюбия, не желают вступать в торги и играть в азартные игры, которые могли бы так легко, при своих талантах, выиграть. Они раскладывают свою жизнь, как пасьянс, наедине с собой, бесцельно, и находят изысканное удовольствие именно в бесцельности своего существования.
Этот странный для очень молодых людей образ жизни — форма протеста, вроде самосожжения. Невозмутимости и фатализму психи научились у Ивана Денисовича, а также у Юла Бриннера из фильма «Великолепная семерка». Эти два основополагающих произведения они знают наизусть.
Олег понимает, что психи — не наши люди, и общаться с ними нельзя категорически.
Но ведь все равно он в чем-нибудь будет виноват. Товарищ Поликарпова всегда говорит: «Сейчас не виноват — потом чего-нибудь наделаешь. Тебя есть за что наказать. Надо быть самокритичным, надо самому искать ошибки. Лучше первым признаться во всем матери, ведь потом только хуже будет».
Все, что ему когда-либо доставляло радость, что он запомнил из общей серой мути, было украдено, подтибрено, на шармачка, тихой сапой.
Ни на кого, кроме себя, не надо надеяться, да и на себя не очень.
Психи — чужие, экзотические, какие-то дефицитные и почти импортные люди. То есть они наверняка нищие и оборванцы, но при этом уж точно не быдло. Они не подходят ни под какие поликарповские определения.
Дима — поэт. Называет себя Димитрий, сочиняет совершенно непонятные стихи. Называется это: герметическая поэзия. Он записывает свои стихи по одному драгоценному слову на странице, что придает его поэзии особую ценность и значимость, потому что писчая бумага — большой дефицит. В его стихах часто появляется слово «Бог» с запрещенной заглавной буквой.
Тощий Трубников, по кличке Труба, или Трубадур, сдуревший на джазе. Реальной трубы, сакса, у него нет. Он перебирает пальцами по воздуху, демонстрируя аккорды, закидывает голову, возносит воображаемую трубу к небу и говорит только о джазе — безостановочно и, по мнению Олега, очень скучно. Он знает жизнь всех джазистов, состав всех групп, программы всех их концертов, знает, в какой момент кто из них перешел с кокаина на героин. От всех известных Олегу людей Труба отличается тем, что он постоянно и совершенно искренне счастлив.
Некий Алеша. Этот — просто антисоветчик: в комсомол не вступил, чуть ли не из пионеров его выгнали. Так что он нигде не учится. Изучает Конституцию и Уголовный кодекс, говорит об улучшении общества.
И даже настоящий живой иностранец среди них есть: Максимилиан Паркер, сын аристократа и члена Коминтерна, участвовавшего в Испанской войне вместе с Хемингуэем.
Говорит иностранец, к сожалению, без акцента, но виски у него по-иностранному узкие, и на висках бьются нервные, голубые, шизофренические жилки. Максимилиан по-иностранному долговязый, вялый, близорукий и, вдевая нитку в иголку, надевает очки. Катушка с иголкой и очки без футляра болтаются в кармане его пижамы.
Олегу, никогда раньше не видавшему иностранцев, он кажется загадочным, как заграничный киноактер. Даже полосатая дурдомовская пижама висит на нем так элегантно, что мерещится галстук бабочкой…
Нитка с иголкой Максу нужны, чтоб сшивать крохотные тетрадочки, в которые он записывает свои открытия. Максимка Паркер занимается исследованием им самим придуманного праязыка и стремится найти изначальные названия всех вещей. Для этого он сравнивает известные ему слова на разных наречиях и находит многозначительные созвучия. Постигнув праязык, он должен расшифровать смысл мироздания.
Олег подозревает, что из них всех именно Максимка — настоящий шизоид. Зато авторучка у него совершенно иностранная — ему прислали оттуда!
И с этими людьми Олег проводит день за днем почти как свой, почти на равных. Впервые в жизни никто не называет его ни трусом и подлизой, как в школе, ни ничтожеством и распущенным лентяем, как дома. Никто не ругает за выпендреж и не обличает в зазнайстве. Орут на него только медсестры и санитарки; но они — быдло, на них можно не обращать внимания.
Конечно, не до такой степени Олег одурел, чтоб доверять психам. Любые слова — и свои, и чужие — он уже давно научился заведомо считать враньем. Мысль изреченная есть ложь. Сам он даже и не врет особенно, он просто умеет поворачиваться к внешнему миру то одной, то другой стороной: хочешь жить — умей вертеться.
С психами Олег в основном боится ляпнуть глупость. Но он быстро обучаем. Всегда может к месту привести цитату, он все собрания сочинений прочел, которые проходили. Может очень смешно повторить шутку, пересказать содержание разговора почти дословно. Памятью на хронологию он удивляет даже высокообразованных психов.
Кроме того, из дома присылают передачи, не такие, как y других, а поликарповские: продукты из цековских пайков. Его друзья штурмуют еду, как Бастилию, экспроприируют бутерброды с бужениной и семгой, поедают, улюлюкая, эклеры и наполеоны, вгрызаются в цыплят табака, лопают экзотические бананы, обжираются с чувством исторической справедливости: поликарповские передачи являются репарациями. И он улюлюкает вместе со всеми, покупая их дружбу жратвой.
С утра до глубокой ночи они разговаривают и пьют чай. Чай в дурдоме принято заваривать чрезвычайно крепкий, такая традиция у психов. Называется чифирь.
Выписавшиеся пациенты часто приходят поговорить с умными людьми, приносят иногда даже выпивку и закуску: тушенку, сайру, хлеб, которые всегда нечем открыть и нарезать. Кормят в психушке из лагерных жестяных мисок, ножей нет.
Хотя и в обычных вольных столовках тогда ножей не было. Ножи были недоступны, как свобода слова. Но ведь и здесь, в свободном-то мире — как только с терроризмом стали бороться, тут же из аэропортовских ресторанов столовые ножи убрали и за глупые шуточки на территории аэропорта начали арестовывать. Так что жареный петух — он клюет, клюет…
Но именно в элитарном дурдоме свобода слова вроде бы существовала. В то лето Олег узнал от ненормальных вещи, которые ему раньше и не снились, и менялся так быстро, как никогда до того не менялся. Даже язык, на котором он говорил, изменился.
Это было почти как эмиграция.
И именно там, в сумдоме — как это давно уже было — в дальней, заваленной битым стеклом и кирпичом сырой и темной аллее парка, где жужжали тучи мух и комаров, щебетали воробьи и курлыкали голуби, и накатывал густой аромат то сирени, то черемухи, то помойки — он встретил Зою.
Шла ему навстречу какая-то щуплая, как гном или эльф, с мышиными волосами, в белом, светящемся в полутьме помятом платье, с тяжелой авоськой.
Зойка пришла в дурдом навещать свою соседку по общежитию, которая лечилась от несчастной любви. Молодых пациентов в психбольницу приводили армия и любовь.
В молодости не представляешь себе, как долго все может продолжаться. Но вот: человеку восемнадцать, и лето, и вся остальная жизнь оказывается только продолжением и последствиями того лета.
Она его первая узнала. Сказала: «Мы с тобой ведь были соседями, не помнишь?» Зойка с матерью жили когда-то в чуланчике поликарповской квартиры. Они первые съехали, остальных уже товарищ Поликарпова сама выселяла.
Потолки в квартире были такие высокие, что соседкин чуланчик у дверей, за фанерной перегородкой, казался ему тогда колодцем — в высоту больше, чем в длину и ширину. В колодце стояло пианино, и на нем Зоя разучивала гаммы. Соседская Зойка была самый бесполезный, самый ненастоящий человек: девчонка. То есть еще ничтожнее, чем даже сам Олег. Мать говорила, что Зойка — безотцовщина, а соседка — нищенка с пианино, цирлих-манирлих, возможно, что из бывших.
Мать была, как всегда, права: сработало классовое чутье. Уехали они тогда, оказывается, в Казахстан. В Казахстане отыскался реабилитированный Зойкин отец.
О своей жизни Зоя рассказывает так мало, что он не сразу понял: общежитие у нее вовсе не фабричное, как можно подумать по Зойкиному занюханному виду, а университетское. Она занимается чем-то непонятным, с математическим уклоном.
Еще более непонятно, с какой стати она стала к нему ходить. Он, правда, вначале попросил помочь по тригонометрии.
Все равно. То, что происходит между ними, — удивительно. Хотя это, конечно, неважное, ненастоящее.
А происходит вот что: Зойка — тонкокожая, бледная, и во время их долгих прогулок по парку ее кусают комары, и даже крапивой она обожжена в самых неподходящих и чувствительных местах. Это он знает, потому что к концу лета отношения их зашли уже достаточно далеко. Вернее, он с ней зашел и залез довольно далеко, отношений никаких нет. Зойка для него не больше чем учебное пособие. Он по Зойке женский пол изучает, как географию по карте мира. Она — невзрачная, щуплая, но все, о чем ему в школе рассказывали, что он вычитывал в книжках, высматривал на картинах, — все это у нее есть.
Олег ей даже слова говорит, которые говорить полагается. Просто для практики. И он читает стихи, которые в большом количестве помнит наизусть. Даже те, что у психов в машинописных списках и от руки переписаные, он уже успел запомнить. Зойка охотно слушает стихи, только попросила читать без выражения.
Тригонометрией они не занимаются.
Сама Зойка молчит. Про свою прежнюю жизнь в каких-то своих безнадежных провинциях она не рассказывает вовсе, хотя он упорно расспрашивает. Он особенно хочет знать подробности про отца. Он ведь не уголовник был, а политический, про это можно пересказать психам. Это как раз то, чем они интересуются: всякие истории про зэков.
По его просьбе Зоя приносит пакетики индийского и грузинского чая. Он не спит сутками, а когда засыпает, ему снятся замечательные цветные сны, цветные, как калейдоскоп, как витражи больничных окон. Во сне он отправляется куда-то, уезжает навеки из дома Страхового общества.
И среди всего этого сумасшествия он впервые в жизни почти забыл о матери, о товарище Е. М. Поликарповой.
Мать приехала в психушку на «Чайке» с шофером, вошла прямо в палату и застукала их всех, доедающих пайковый сервелат и даже не вполне трезвых. Зойка в тот день каким-то образом пролезла к ним, и мать увидела сидящую рядом с ним Зойку.
Естественно, крик был страшный: в подоле принесет, алименты всю жизнь платить, триппер подцепить хочешь. Сопляк! С кем ты связался? С ненормальными! Не переставая кричать, она потащила Олега в кабинет главного врача, потребовала немедленной выписки и справки. Врач выдал справку и даже получил в подарок импортный складной зонтик.
Так закончилось его счастливое лето в скорбном доме.
Олег прекрасно помнит тот день, и зонтик тот помнит, бордовый такой; и как врач сначала ужаснулся появлению в своем кабинете лично Е. М. Поликарповой, а потом оправился, благодарил за подарок.
Но представить себе товарища Поликарпову человеком, вспомнить, как она выглядела, Олег не может. Он описывает себе ее атрибуты, помнит ее портрет маслом, с орденом на пиджаке. Помнит только ощущение от нее, ощущение тупого физического страха. Необоснованного страха — ведь его никогда не били. И как она заполняла его жизнь, во всем присутствовала. То есть не она, а страх. Благодаря постоянной конспирации о реальной его жизни мать никогда ничего не знала. Он только боялся все время, что узнает.
Даже после ее смерти — особенно после смерти — он всегда спиной чувствовал, что она может крикнуть: стой! И всегда был готов все бросить, остановиться, всю свою жизнь уронить, поднять руки.
В последний год перед смертью товарищ Поликарпова вроде совсем окаменела. Она держалась очень прямо, глядела вперед, не поворачивая шеи ни вправо, ни влево, говорила медленно и глухо. Голова у нее иногда начинала мелко дрожать. Это было ужасно, как внезапно задрожавшая в стакане вода перед землетрясением.
Мать всегда ему угрожала, что умрет. Умрет, надорвавшись в борьбе с волюнтаристами, мировой военщиной, мягкотелыми либералами, завистниками и карьеристами. Но, главным образом, умрет от отвратительного поведения неблагодарного бесхарактерного Олега.
Смерть матери была ее собственным именным оружием, угрозой по отношению к нему и ко всему миру. Но это было — как ядерное оружие, нечто на самом деле невозможное, к реальности неприменимое. Ведь никто никогда не верил, что будет на самом деле атомная война, вот и он не верил, что его мать когда-нибудь на самом деле умрет.
И ведь он был в какой-то степени прав. Мать умерла, и теперь голова у нее больше не дрожит; во сне он никогда не видит ее лица, но знает, что она смотрит на него с гадливостью, как смотрела, когда он ломал что-нибудь или опять заболевал. Во сне он возвращается в дом Страхового общества, со скульптурами матери на крыше, летящими вперед, как Ники Самофракийские, как грозные и непримиримые Колхозницы, устремленные вперед и вперед, на борьбу с мягкотелостью, с мелкобуржуазной стихией.
Гости — все, кроме Толика, — уже появились. Перед обедом Олег угощает их выпивкой и орешками.
— Так здесь принято: аперитив, коктейли; с волками жить, по-волчьи пить, — шутит он.
Гости делано смеются: пить голую водку и вино без закуски, сидеть на слишком мягком продавленном диване, тянуться к низкому столику за скудными орешками им неловко и невесело. Как, впрочем, и самому Олегу. Ничего, пусть помучаются, цивилизованнее будут, меньше надерутся. На самом деле он не хочет садиться за стол без Толи, ради которого все и затеяно.
Олег заводит свой обычный культуртрегерский разговор о демократии. Здешняя законопослушность всегда удивляет приезжих, навидавшихся всех видов анархии и лицемерия. Олег объясняет, что в западной демократии всякая проблема бесконечно обсуждается, пережевывается, потом на каком-то компромиссе соглашаются, потом принимают закон и искренне, скучно закону подчиняются. Переходят улицу в местах, указанных светофором, пристегиваются в машине, входят в двери с надписью «вход», выходят в двери с надписью «выход».
Это новых эмигрантов неприятно раздражает и дезориентирует. Они презирают здешних за невинность, которую путают с наивностью.
Гости, однако, начинают потихоньку перебираться к столу, пробовать непонятные закуски.
Зоя не принимает в разговорах и умных спорах ни малейшего участия, только коротко поясняет: что, в каких сочетаниях и каким способом есть.
Она следит за реакцией едящих гостей цепким глазом профессионала, но эти гости не способны оценить Зоиного искусства. Они из тех людей, на которых особое впечатление производит витиеватость блюд, сложность: им льстит потраченное время и жертвенность хозяйки. Зоина кухня отличается обманчивой простотой и первозданной свежестью. Новоприехавшие удивляются чему надо и не надо, в настоящем качестве пока еще не разбираются. Они не знают, что именно еда, приготовленная молчаливой Зоей, могла бы расширить их горизонты и запомниться на долгие годы. Зоя выучилась и китайскому, и мексиканскому, и итальянскому. Даже на курсы какие-то ходила. Люди всегда думают, что если их кормят, то, значит, любят; но Олег давно уже понял, что Зою в кулинарии привлекает эксперимент и творческий процесс, а гости — только предлог.
Толика — который все еще не появился — она почему-то ненавидит, но молчит и кормит наравне со всеми.
Хорошо, что хоть молчит. Когда-то в их компании шутили, что Зоенька рта не открывает, боится ненароком сказать о ком-нибудь плохое. Шутка заключалась в том, что если Зоя говорила, то что-нибудь до такой степени проницательное и такое убийственное — притом беззлобно и непреднамеренно убийственное, — что ее редкие высказывания выслушивались с затаенным дыханием, сопровождались всеобщим взрывом хохота и становились поговорками, золотым фондом их фольклора.
Олег не любит зубоскальства. Психи считали, что у него плохо с чувством юмора. Но он умеет пошутить. Просто он их специфического висельного юмора не любил. Нечего зубы скалить, если заранее знаешь, что проиграл; глупо иронизировать над теми, кто сильнее тебя, кто еще на твоей могиле попляшет.
В Зое предполагались этакое неведение младенца и змеиная мудрость. А Зоя просто не знала, как себя прилично вести. Не было в ней тогда, да и теперь нет — светскости, любезности, умения и желания понравиться. И несмотря на всегдашнюю тихость в ней нет понимания своей женской маловажности, то есть вторичного бабского положения в жизни.
Когда у него гости, она охотно приезжает со своим оборудованием, с дорогой кухонной аппаратурой, расчищает и организует свое рабочее место. Но никакой приятной, хлопотливой женской услужливости в этом нет. Скорее это похоже на поведение человека, приехавшего рыбачить туда, где, как ему сказали, предстоит хороший клев.
На прoщанье Толя будет целовать Зойке ручки со своей непонятно откуда взявшейся старомодной учтивостью, а она их будет выдергивать и поджимать, как брезгливая кошка…
Если Толик вообще появится. Это беспокойство портит весь сегодняшний день. Последние две недели он куда-то запропал, ему не дозвониться. На электронную почту Анатолий не отвечает; он вообще не уважает это дело, как и чеки. Предпочитает общаться лично и устно. А ведь в прошлый раз Олег ему крупную сумму передал.
Олег ни с кем не обсуждает свой план вернуться, отвоевать квартиру и начать жизнь заново. Только мысленно, со своим многолетним воображаемым собеседником, с Николай Иванычем.
Николай Иваныч — всегда насморочный, простуженный, сочувственно кивающий головой. Во время того, очень давнего, первого разговора Олегу было не так страшно именно из-за насморка, из-за заскорузлого платка с клетчатой каймой, на котором Николай Иваныч все выбирал незасморканное место. Солнечный был день, перед весенней сессией на первом курсе…
Николай Иваныч поддерживает его планы. А Зоя, еще даже и не поняв, не разобравшись, с первого же намека эти планы осудила. Но как она может понять? У нее никогда ни кола ни двора не было, жила полжизни нищенкой. Это уже здесь у нее появилось свое жилье, но здесь у любого быдла хоромы.
А ведь деньги приходится занимать именно у Зои, потому что его собственные уже практически все ушли.
Трудно поверить, как хорошо она здесь вписалась. Зоя никогда не задумывается над количеством взваленной на нее работы, всю жизнь она вставала легко и необидчиво, если надо было принести, вымыть, поправить за другими. Она вроде и не сомневается никогда, что вся возникающая кругом работа именно ей предназначена, и над справедливостью такого трудораспределения не задумывается, а размышляет только — как бы всякую ношу половчее поднять и приладить. Здесь таких непритязательных трудяг уважают, здесь умеют из людей способности вытягивать. Здесь эти технари, знатоки точных наук, карьеру делают.
Сам он когда-то поступил на факультет, где никаких точных наук не было. Расплывчатая мелкобуржуазная стихия плескалась в головах профессоров и студентов. Курсы и семинары вливались в его сознание, ненадолго заполняя каждую свободную извилину мозга, и потом выливались на экзаменах и зачетах так же беспрепятственно и легко, оставляя только тину и пену и обломки цитат. И потом, особенно с его памятью, никаких усилий делать не приходилось. До самого переезда сюда.
Здесь бы он пропал, если б не Зоя. Зоя и ее блистательная карьера. Смешно, потому что — ну что же в Зойке может быть блистательного? Она ведь не особенно умна. Она, как все говорят, добра, а доброта напрямую связана с плохим вкусом. Терпимость, снисходительность. Способность к любому быдлу притерпеться.
На этом равенстве с быдлом демократия и основана, и он, Олег Поликарпов, такую демократию глубоко презирает.
Да, Зойка неумна, и так как люди в целом не особенно умны, то со множеством людей у нее легко завязываются теплые, ласковые отношения. Но не с ним. Между ними отношений никаких нет. Роман их быстро закончился. Потом она связалась с Трубой… Просто цепь случайных обстоятельств, начиная с того лета.
Молодость оказалась большим послаблением по сравнению с детством. Мать почти забыла о его существовании. Ослабила режим.
Товарищ Поликарпова внушает теперь суеверный ужас не только сыну, домработнице и непосредственным подчиненным, но и широким слоям общественности. В прежние трудные времена ее ни разу не посадили, при всех последующих изменениях курса никогда не сокращали и не понижали, ей ни разу не изменило политическое чутье, и все сменяющиеся ветра были для нее попутными.
И это кажется следствием везения почти сверхъестественного, связей на потустороннем, сатанинском, уровне.
Короче говоря, ее бросили на идеологию.
Но, в полной тайне от товарища Поликарповой, ее собственный сын продолжает общаться с идеологически чуждыми психами.
Вместе они бродят по городу, и всякий раз Олегу не хочется с ними расставаться, ему все кажется, что они уходят от него в гораздо более интересный мир, где происходят приключения, случаются неожиданности.
Отец, малознакомый молчаливый человек, уже давно круглый год живет на утепленной казенной даче, в город приезжает изредка. А мать часто ездит в загранку. Так что бывают дни, когда Олег становится почти что владельцем родимой своей жилплощади и может приглашать психов к себе. Делает он это, когда домработницы нет. У матери домработница в белом халате, как сестра-хозяйка в санатории.
Дома у них теперь мебель не из фанеры, как когда-то, и не треугольные хрущевские столики на подкашивающихся хлипких ножках. У них стоят шкафы и кресла из красного дерева и карельской березы, с казенными бирками: историческая дворцовая мебель. На материнском столе — письменный прибор из малахита и яшмы, с бронзовым медведем. Над столом висит портрет матери на трибуне съезда, с немного перекошенным ртом и глазами, но довольно похожий, и кругом иконостас из дипломов, грамот и групповых фотографий президиумов и делегаций.
Ему кажется, что друзья подсмеиваются над обстановкой. Ему кажется, что для них он не человек, а экспонат, экзотический зверь в зоопарке. Что на нем табличка: «Сын товарища Поликарповой. Обитает в доме Страхового общества. Питается бужениной, лососиной, колбасой твердого копчения. Труслив».
Разве они не понимают, какой подвиг с его стороны — привести их в поликарповскую квартиру, каково ему будет, если это обнаружится? Они не уделяют достаточного внимания материнскому имуществу, которого Олег боится, имея горький опыт. Это казенное домашнее имущество постоянно мстит ему за неуклюжесть и недотепистость. Стулья подставляют ножку, на полировке появляются зловещие круги от мокрого стакана — предвестники оглушительного скандала. Проклятые чашки из сервиза разбиваются, и их останки надо потихоньку выносить из дома, как расчлененный труп.
Психи живут безответственно. Они несознательные. Они не понимают, что существует осознанная необходимость, чувство долга, и долг этот прежде всего перед самим собой. Нет никакого выбора, нет никакой свободной воли; все это прекраснодушные байки. Он — сын товарища Поликарповой, он кругом повязан.
А эти живут как им бог на душу положит. Или, как они выражаются: Бог. Который им якобы дал свободную волю.
Психи, они психи и есть. Вялотекущая шизофрения, астения и прочие психозы сначала возникли у них как отмазка, для справки, но потом прижились в виде романтического творческого безумия. Все психи как-либо ширяются. Труба, за неимением кокаина и героина, достигает состояния транса самым экономным способом: питается неделями водичкой из-под крана. В трансе он сочиняет музыку и записывает свои беззвучные композиции. Он хорошо знает нотную грамоту, выучился в музыкальном кружке Дворца пионеров. Поэт Димитрий и Алеша-правдоискатель пьют «сучок» и «Солнцедар». Максимилиан предпочитает чифирь, возможно напоминающий ему детство, хрупкий фарфор и чаепития в поместьях.
Все они что-то придумывают и записывают. Все, кроме Олега. Герметические стихи, история джаза и теория праязыка ему одинаково безразличны, а правдоискательство и разговоры об улучшении общества активно неприятны: это же политика. Кому нужно в политику лезть? Мало того что опасно — это еще и глупо.
Он не рвется быть Галилеем. Вертится земля или не вертится — ему, Олегу Поликарпову, абсолютно без разницы. Вертеться надо самому. Прозаично, но необходимо.
Что плохого в естественном человеческом желании быть сытым и чтоб тебя не били? А земля пусть хоть плоская будет. Лично от Олега это не зависит, его не спрашивали.
Он изо всех сил старается психов презирать. Они все время выбалтывают все, что у них на уме; есть у них такая неодолимая потребность поделиться. И, несмотря на внешнюю невозмутимость и вроде бы иронию, они и вправду верят в исключительность своих талантов и даже в возможность будущего, они и вправду любят друг друга, считают себя настоящими людьми, не осознают, что всё, всё, всё — туфта.
Комсомольцы-добровольцы. Марш энтузиастов.
Молодые люди девятнадцатого века романтизировали чахотку, эпилепсию, проституцию — вещи малоромантические и унылые, если каждый день и с подробностями. В других мирах, в другие времена ждали первой охотничьей добычи, первого сражения, первой любви. Молодой жизни психов придает романтичность ожидание звонка и вызова. Психи ждут первого допроса.
А что, собственно, такого могут у них спросить на этом предстоящем — совершенно реально и неизбежно предстоящем — допросе? Содержимое их мозгов недозволительно. Помнить опасно, знать вредно. А они довольно много знают.
Они родились в переименованных городах, в реквизированных домах, в мире со сломанным прошлым, с тяжелым переломом памяти, провалом, амнезией. Теперь они читают по ночам литературу на тонкой папиросной бумаге: мемуары, романы, стихи — и все о физических мучениях, о голоде, холоде, арестах, допросах. Они воспитывались на замученных Зое Космодемьянской и Олеге Кошевом, на парализованном Корчагине, Маресьеве с отрезанными ногами, спящем на гвоздях Рахметове, расстрелянном Оводе; они удивительно много думают о тюрьмах и пытках. Они рассуждают о героизме и предательстве. Хотя времена теперь относительно мирные и очень скучные.
Героизм — предательство, предательство — героизм… Какой это все же был детский сад, и как они надоели ему тогда со своим героизмом. Все на свете гораздо сложнее, все не так просто. Черного и белого не берите, «да» и «нет» не говорите.
У Олега с Анатолием отношения зрелые, основанные на взаимной выгоде. Но и на человеческой симпатии, конечно. Противоположности притягиваются. Много в Анатолии таких качеств, которых самому Олегу всегда не хватало: решительность, простота мотивировок. Толя способен действовать необдуманно, не убедившись в безопасности, в гарантированности результата. Он все может поставить на кон. У него азарт есть, а главное — жизнелюбие. И Олег хочет напоследок предпринять азартный, рискованный, необдуманный шаг.
Но сегодня, из-за отсутствия Толика на этом давно запланированном обеде, Олегу становится все более тошно и страшно. Он уже час назад начал пить лишнее и к моменту важного разговора может быть далеко не в лучшей форме. Выпивка, богемность — совершенно не его стиль. Он боится потерять самоконтроль. Не любит делать глупости на людях, говорить лишнее.
Максимилиан у психов считается своим. А ведь у Паркеров квартира в ведомственном доме, и домработница у них тоже есть, причем из УПДК. Это странное слово — не сокращение слова «упадок», как вначале подумал Олег. Оно означает: «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса».
Пашка, сестра Максимилиана, посыпает пол, диваны и свою одежду пеплом американских сигарет. Она шутит, что тетя Клава имеет ранг лейтенанта: моет, готовит, стирает, стучит.
Со своим роскошным имуществом — у них все заграничное, хотя потасканное и потертое — Паркеры обращаются пренебрежительно. От Пашки Олег узнал, что потертость эта не по бедности, а преднамеренная. Что новое, с иголочки бывает только у буржуа и вульгарных американцев.
Его-то учили ненавидеть буржуев снизу, с точки зрения нищих пролетариев. Его учили, что настоящий большевик верит в исторический материализм, а не в материальные блага. Это — в теории, конечно. На практике руководящему составу нужны условия для работы. Тут вообще всегда было запутано. Рахметов или Павка Корчагин, ну, и остальные все — они боролись с идеализмом, идеалистов ставили к стенке. И ради этой идеи отвергали все материальное.
Но Олег давно уже не верит в то, чему его учили, он теперь верит в прямо и диаметрально противоположное. Он уверен, что никакой безработицы, бездомных и угнетенных на свете нет, что фабриканты-заводчики и кровососы-банкиры — прекрасные интеллигентные люди.
Семейство коминтерновского лорда выпадает из схемы. Они тоже презирают буржуазию, но они презирают ее сверху. В ненависти к мещанам, живущим ради вульгарной наживы, они смыкаются с коммунистической идеологией. Но коммунисты предпочитают простой грабеж, экспроприацию. А для аристократов уже было награблено в прежние исторические эпохи. У аристократов, если верить Пашке, вещи должны просто быть, сами собой.
Настоящее ее имя — Порция, но она требует, чтоб все ее звали Пашкой. Видимо, в школе натерпелась. Родители окрестили ее Порцией, не предполагая скорого побега в страну, где дочкино имя вызывает ассоциации не с Шекспиром, а с общепитом.
Пашка, как и Макс, говорит без акцента. Более того, она постоянно употребляет слова, которые Олег с первого класса слышал и часто произносил, но всегда в переносном смысле. Порция Паркер употребляет эти слова буквально, в прямом значении, и даже обычные глаголы — возьми, дай — у нее звучат ошеломительно похабно.
Лошадиная аристократичность Пашки Паркер не соответствует представлениям Олега о девичьей прелести. Но Пашка благоухает американскими сигаретами — которыми, однако, ни с кем не делится. Закуривая, она не вынимает пачку, а шарит в кармане и вытягивает по одной сигаретине. Но замша ее куртки поразительно нежна на ощупь, и еще нежнее ее импортное нейлоновое белье с кружевами, хотя она постоянно срывает с себя это удивительное белье в порыве страсти. Без импортного белья ее лошадиные прелести гораздо менее привлекательны. Олег даже не мог вначале разобраться — что с ней, такой дылдой, делать. У Зойки все было как-то под рукой.
Он чувствует себя идиотом в ее присутствии. Ему с ней стыдно и тоскливо. Что еще это может означать, как не любовь?
Любовь к Пашке стоит денег.
Мать не дает ему карманных денег в воспитательных целях. Он, конечно, круглый отличник, получает Ленинскую стипендию. Но на удовлетворение Пашкиных потребностей этого не хватает.
Есть, однако, отцовские книги в коже с золотым тиснением, таинственная библиотека в запертом шкафу, который Олег давно уже научился отпирать. У некоторых томиков торец страниц покрыт нежным золотом или расписан под мрамор, они восемнадцатого века, с ветхими страницами и с гравюрами, стыдливо прикрытыми полупрозрачной шелковистой бумагой. Некоторые из них очень интересные, некоторые — захватывающие. Тончайшая параллельная и перекрестная штриховка ласково огибает округлости, скрываясь в игривой таинственной тьме, нежно прорисовывая части тела, которых уже и на свете давно не бывает: перси, ланиты… Гравированные маркизы прелестнее живой, но страшноватой Порции…
Он почти уверен, что если некоторые книжки исчезнут, то отец не поднимет скандала, матери даже не пискнет. В нескольких украденных книжках между страниц заложены сотенные. Одно время Олег изымал спрятанные купюры, потом они перестали попадаться.
Отец, приезжая изредка с дачи, молчит, только вместо обычного равнодушия смотрит на сына с тяжелой ненавистью.
Старинные кожаные томики Олег берет из задних рядов, то тут, то там, чтоб незаметнее; загоняет своих маркиз на Арбате и водит Пашку в «Арагви». Заказывая, он говорит: два харчо, один шашлык — старательно избегая слова «порция».
Самого лорда Олег видел только мельком. Максимка рассказывал о нем удивительные вещи. Например, в испанской войне лорд участвовал вовсе не на той же стороне, что Хемингуэй. Он воевал по заданию Коминтерна на стороне генералиссимуса Франко.
Он был, таким образом, слугой двух генералиссимусов! А если ты служишь и тому и этому и не впадаешь в банальный энтузиазм, то на самом деле ты служишь только самому себе. Скольких людей коминтерновский лорд одурачил, никто и никогда всей правды о нем не узнал.
Удивительный человек. Даже фамилия его вовсе не Паркер.
Олег не записывает ничего. У него фотографическая память, он сотруднику все из головы пересказывает. Николай Иванычу.
С тех пор как его стали вызывать, он считает лорда чем-то вроде коллеги.
И ведь кто бы мог подумать, кто мог догадаться, что именно его вызовут первым?
В кабинете проректора сидит человек средних лет и внешности, с чудовищным насморком, сморкается в заскорузлый платок, улыбается благожелательной, по-отцовски мудрой улыбкой.
На столе лежит папка. Это личное дело Олега. Увидеть свое личное дело — как пройти по собственной могиле. Мистический объект, главный продукт эпохи. Все личное неважно, кроме личного дела. У многих и нет ничего личного — ни жизни, ни имущества — только бритая голова и дело, которое хранится вечно.
В бессмертие души никто не верит, но в бессмертие личных дел верят все.
В первый раз Олег почти ничего не говорил; скорее от ужаса, чем из порядочности. Хотя потом ему иногда казалось, что из порядочности. Он до сих пор вспоминает этот день и дает происшедшему разные интерпретации.
Не было у него никакого выбора! Ведь надо понимать, как жизнь устроена! Можно сколько угодно рассуждать о смелости и благородстве. А потом тебе объяснят в два счета, что смелость твоя — подлость. Что трусость — по-настоящему благородное, даже жертвенное поведение! Потому что все кругом заложники! Потому что нельзя нарушать равновесие! Ведь не стреляют пока что и почти никого не сажают. Своей шкуры тебе не жалко — а о других-то ты подумал?
Да, вначале он просто спасался от надвигавшейся опасности, вроде как Шехерезада. Но позже, как и Шехерезада, увлекся. Только в его отчетах все они становятся настоящими, реальными, государственной важности людьми. Людьми, которыми интересуются органы. Олег составляет из разрозненных событий их малозначащей жизни связный и дельный рассказ. Он создает историю в коротких, увлекательных — нет, не доносах. Скорее — репортажах.
Из первого разговора Олег смутно понял, что им лепят создание религиозно-мистической секты. Сам он о религии никогда не задумывался, но у правдолюбца Алеши и вправду было Евангелие. Крошечное такое, на папиросной бумаге, в мягком переплете, подаренное туристом.
Потом вопрос с религиозной сектой как-то сам собой рассосался. Вполне возможно, что именно благодаря ему. Вполне возможно, что если б не Олег, то к ним бы приставили другого, какую-нибудь сволочь. А друзья ведь и не узнают никогда, как он их защищает, какую роль он играет в их жизни: храбрый разведчик, маленький барабанщик.
Это Евангелие он у Алешки выпросил почитать и замотал. То есть на самом деле отнес сотруднику, а тот замотал. Сказал, что вещественное доказательство. Полгода спустя Алешка перекупил свое Евангелие у фарцовщика на книжном рынке. Хотя Евангелий было полно — их тогда много завозили — но Алешка опознал свое по пометкам и подчеркиваниям.
Это каким же идиотом надо быть, чтоб на такой книге записи своим почерком оставлять!
И теперь он называет Олега христопродавцем. Олег не может ни с Алешкой объясниться, ни Николай Иванычу претензии предъявлять. Он живет сложной, двойственной жизнью. Ему постоянно приходится быть и рассказчиком, и участником. Вызывать огонь на себя.
Евангелие он тогда прочел за одну ночь. Особого впечатления, честно говоря, не произвело. С тех пор не перечитывал.
Анатолий — вот он очень религиозный человек. Но его религия более понятна, напоминает детство: бронза, яшма, позолота, полотнища. Символика другая и бороды длиннее, но народность та же. Это понятно; быдлу необходима народность.
К разврату и распущенности у Анатолия теперь та же бдительная идеологическая ненависть, что у матери была. А ведь одно время Толик был ухарь-купец, и все Олега заманивал в какие-то развеселые бани.
А про Зойку он сотруднику не рассказывал никогда. Просто она того не стоила. Бессловесная, нечленораздельная. Не хотелось про нее говорить.
К тому времени роман между ними уже давно закончился. Те первые недели, когда он начал понимать, что прежде доступная и малоинтересная Зойка стала окончательно и навсегда недоступна и потому чрезвычайно, даже мучительно интересна, — он решил забыть. Он решил помнить, что Зойка ему надоела, что он бросил Зойку и влюбился в иностранку Порцию.
Были потом другие женщины, на нескольких он даже женился. Недостаток у них был один: полное несходство с Зойкой, с его учебным пособием, картой мира.
Зоя не возникала в беседах с сотрудником, даже когда началась история с джазом. С Трубой.
У Трубы наконец-то появился собственный инструмент: реальный, имеющий вес, сверкающий медью в бархатном гнезде футляра.
Пока его глухонемая музыка была никому не слышна, все они были одинаково ненастоящими. Все они жили в глухомани, в безнадежной провинции; и можно было привычно считать Трубу просто фуфлом, а его разговоры о джазе — туфтой.
И вдруг стало ясно, что Труба — вроде бы настоящий. И это даже несмотря на то, что Олег твердо знал: есть серьезная музыка, которой следует восхищаться, и есть дешевая эстрадная, к которой относится джаз. Более того, джаз его и вправду раздражал беспорядочностью и сумбуром. Однако по реакции окружающих стало ясно, что теперь тощий долговязый юродивый, этот трубадур со своей вечной радостью — занимает совершенно другое место в мире. Иерархия изменилась. Про Трубу стали говорить, что он, мол, гений.
Нет, Олег не завидовал Трубе. Он просто заметил, что Труба осмелел на радостях и начал подъезжать к Зойке. Хотя глаз он клал на Зойку и раньше. Олег удивлялся и почему-то злился: надо же, нашел себе наш трубадур прекрасную даму из Казахстана. Надо же, надо же: куда понесло девушку из провинции с математическим уклоном. Всякий урод найдет свою уродку.
Олег-то думал, что про любовь придумано нарочно, для удобства, для сглаживания отношений. Что люди говорят про любовь — как взятку дают. Чтобы умаслить и своего добиться. Просто слово такое. Слова есть, которые полагается произносить: нерушимая дружба, сплоченная семья, великая родина. Горячая любовь. Жгучее чувство. Пламенная страсть.
Но Труба выглядел так, будто у него и вправду была температура. А в Зойке появилась легкость и быстрота, как в птице. Что-то с ее мышиными волосами произошло, и они стали пепельными. Она вроде бы сама радовалась своему существованию. Она все время как будто улетала куда-то, торопилась.
Дату того знаменитого концерта он до сих пор помнит: в конце лета, в августе. Жара была около тридцати, к вечеру грозу обещали.
Вот как сегодня. С утра Олег все не мог понять — почему так давит на мозги эта погода. Вот такой же день был тогда.
И было это на территории Выставки. Чего он не помнит: к какому павильону помещение относилось? К «Пчеловодству» или к «Хлопководству»? Какая разница — да хоть к «Мирному атому». Но набилось в эту несанкционированную сараюшку сто пятьдесят четыре человека. Сто пятьдесят пять, если считать его самого. И на улице у входа он насчитал сорок восемь.
Он надеялся, что сорвется, что этот концерт не начнется вовсе. Но началось. И даже продолжалось долго, часа полтора — до прибытия наряда милиции и опергруппы.
Олег не хотел находиться с этой музыкой в одном помещении. Он ее ненавидел за издевательство над всеми нормами, за презрение к миру, в котором он вырос, к миру, упорядоченному страхом, организованному и приличному.
Даже в тех редких случаях, когда Олег убегал с уроков и бродил по городу и никто на свете не знал, где он находится, даже и тогда это ощущение не было таким полным, хотя он подозревал, что где-то в мире изобилует, прямо через край нагло переливается эта недоступная ему субстанция, что именно она-то и присутствует в загадочных поступках некоторых людей, таких как Труба и, как ни странно, — Зойка. То, чего у него никогда не было, хотя он знал теоретически, что это существует, называется — свобода. Которая не осознанная необходимость, а просто — свобода. Воля вольная.
Все эти полтора часа Труба дудел непрерывно, останавливаясь только для того, чтоб перевести дух, и отплюнуться, и снова, набрав в свое хилое тело спертого, предгрозового воздуха — взвыть, и взвиться, и замяукать похабно.
И даже продолжал еще минуты две, пока мильтоны к нему через толпу пробивались.
Олег недавно прочел в сентиментальных мемуарах, что продолжал он чуть ли не десять минут, что публика самоотверженно не пропускала мильтонов, спасая своего кумира, что в этот момент наконец-то ударила гроза и что Трубников якобы использовал удары грома в своей импровизации, исполняя дуэт с Ильей-пророком. Что эти десять минут — высочайший момент в истории джаза: не только в музыкальном отношении, но и как проявление личной свободы, и так далее, и тому подобное… И все это — чушь и ерунда.
Никто в те времена милиции, а тем более людям в штатском не сопротивлялся, никаким таким особенным кумиром Труба тогда еще не был, широкая известность у него появилась намного позже, а гроза к моменту облавы уже прошла.
Олег все видел. Он заранее хотел пристроиться где-нибудь у выхода, чтоб сразу выскочить, когда начнется. Но пришлось стоять впереди вместе с ребятами.
Мильтоны пробиться не могли просто потому, что народ сразу же запаниковал и повалил на выход.
Но, действительно, Труба продолжал дудеть. Непонятно зачем и непонятно для кого. Как в каком-нибудь боевике, когда в салуне драка, а оркестр наяривает. Хотя оркестра у него никакого не было, так что он наяривал совершенно один, пока его не повязали, да еще и врезали ему как следует, потому что этот кретин не отдавал свою дудку.
До сих пор Олег помнит, как бежал в темноте по газонам, по лужам, от фонаря к фонарю. И больше всего боялся не что поймают, об этом слишком страшно было даже думать. Боялся замочить ботинки — они были импортные. Его одевали только в отечественное, а тут мать из поездки пару венгерских ботинок привезла. Мать бы его убила за ботинки.
Травой скошенной очень сильно пахло.
А Зойку он сначала попытался с собой утащить, почему-то очень не хотелось, чтоб ее загребли. И она не давалась, рвалась к Трубе, через бегущую толпу обратно пробивалась.
Запах мокрой травы, запах счастья, чужого счастья.
С Трубой ничего особенного не сделали. У него оказался выбит один зуб. Ну и ничего: наша социалистическая бесплатная медицина новый вставит. А выгонять его уже неоткуда. Из института выгнали, из комсомола выгнали, а отец-полковник выгнал из дому. Ну, дудку отобрали.
И совершенно не факт, что облаву устроили якобы по злому доносу Олега. Он про концерт почти и не рассказывал, его вообще редко вызывают. Информацию можно получить и по другим каналам.
На самом деле, Олегу-то хуже всех. Ведь он впервые в жизни увидел, как человека бьют по его доносу.
Вообще, кто сказал, что Максимка, например, не ходит в спецотдел? У него-то с наследственностью еще хуже. Может, Максимилиан Паркер вовсю стучит по семейной традиции.
Олег пришел однажды к Пашке и застал старшего Паркера в запое. Лорд Олега не отпускал, заставлял пить, давал американские сигареты. Пил лорд вначале валютное виски и коньяк. И ругался по-русски. С акцентом — очень аристократично получалось. Потом потерял контроль, пил водку с портвейном и кричал уже на своем родном языке про эту проклятую страну, этот проклятый город.
Олег пытался довести лорда до уборной, но неудачно; потом подтирал за ним, потом сидел, прислушиваясь к бреду и бормотанию, жалея, что так сачковал на занятиях языком.
Лорд тоже был заложником, и Максимилиан с Порцией были при нем заложниками, так что в страхе лорд разбирался намного лучше Олега. В его коминтерновском бреду мешались католическое воспитание, какие-то расстрелы в подвале церкви, смуглое лицо его возлюбленной в Барселоне…
Олегу даже в какой-то момент показалось, что речь шла не о возлюбленной, а о возлюбленном… Тут он что-то упустил, видимо, неправильно понял.
Он принадлежал к всемирной аристократии заложников, лорд этот роскошный, и был он у матери, товарища Е. М. Поликарповой, и у ее славных соратников лакеем на побегушках. Даром что иностранец. Его как хотели, так и имели.
А сегодня Олег должен весь вечер разговаривать с назойливой парой, с новоприбывшими, которые любую тему сводят на свое трудоустройство; причем не скрывают желания устроиться лучше, чем Олег, по возможности — намного лучше. Жена откровенно объясняет, что никак не смогла бы жить в таком запущенном доме, как у него, в таком непрестижном районе.
— У меня бы тут дикая депрессия началась, — объясняет она.
Они оба не сомневаются, что Олегу очень хочется помочь им осуществить их искреннее желание жить намного лучше, чем он сам.
Приезжающие оттуда становятся Олегу все более и более неприятны. В прежние времена перед иностранцами трепетали, а он все же как-никак — иностранец. Он тут много лет прожил, много знает, накопил опыт. Неужели после возвращения туда он не сможет воспользоваться своим престижем и авторитетом западного человека?
В начале вечера его поддерживала мысль о предстоящем сказочном превращении своем из лягушки в наследного принца. Но теперь он начинает понимать, что решительного разговора не будет, что Анатолий не появится, и тяжело мрачнеет от выпитого и неприятных предчувствий.
— Как вы можете жить в таком интерьере, Олег? — говорит гостья. — Почему вы не сделаете евроремонт, вы же такой интеллигентный человек! У нас все интеллигентные люди делают евроремонты. Вот наш с вами общий знакомый, Анатоль, ведь вы знаете Анатоля? Он как раз на той неделе уехал домой заканчивать евроремонт у себя на Сретенке. Вы знаете, конечно, этот большой шикарный дом на Сретенке? У Анатоля там квартира, наследственная, семейная, с винтажным камином; он там жил с детства. Так он уже провел в ней шикарный евроремонт, а теперь прикупил квартиру на верхнем этаже, пробил потолок, будет делать дуплекс. Наверху тоже все винтажное. Лепнина — обалдеешь.
— От политики можно отвертеться, кому нужна политика — но от истории даже такой убежденный обыватель, как ты, Поликарпов, отвертеться не может. Все равно, если не войдешь в историю, так влипнешь. Вляпаешься.
Это поэт говорит. Выражает мнение.
— В таком мы месте странном живем, и время теперь странное: даже и самый комический персонаж может в трагедию попасть. То есть что у нас тут кругом происходит? Трагедия настоящая. А злодеи в ней — сущие клоуны. Ну что ты все вертишься, Поликарпов? Что ты, старик, все вертишься?
Сами они обыватели. Графоманы, психи несчастные. Они его комическим персонажем считают? Ну и пусть, и черт с ними. Вот они-то и есть коллективисты. Попробовали бы жить с его постоянной двойственностью. Они представления не имеют о настоящем трагическом одиночестве.
Психи в последнее время взяли моду говорить в его присутствии так, будто его вообще нет. Они его даже не сторонятся, во всяком случае не сторонятся в открытую. Все это вроде бы игра, вроде розыгрыш, подкалывания; но игра-то совершенно несмешная.
— Тебя, Поликарпов, заела диалектика. Погряз ты в ней, в диалектике. А сказано ведь: пусть слово твое будет: да — да, а нет — нет, а что сверх того, то от лукавого. От тебя, старик, простого ответа не добьешься.
Про да и нет и про лукавого — это Алешка из своего Евангелия. Перечитывал сто раз и запомнил. А Олег все усваивает с одного раза.
Что они к нему вяжутся? Шуточки, фразочки, переглядывания!
Хуже всего, почему Зоя, когда он с ней на улице пытается заговорить, только взглядывает искоса и продолжает идти, исчезает за углом, в толпе… У него остается ощущение позора. И некому этот позор и унижение всучить, передать. Никого нет слабее, ничтожнее его. Зойка, несмотря даже на выбитый зуб своего Трубадура, наполнена загадочной, совершенно чужой радостью и все время торопится куда-то, спешит, улетает.
А ведь объяснение может быть только одно: Николай Иваныч его продал. Их всех теперь таскают после того злосчастного концерта. Наверное, Николай Иваныч работает с ними и для облегчения работы заложил Олега.
Как же такое возможно? Человек, которому он так доверял, которому он так помог! Ну, вполне возможно, конечно. И все равно обидно. Ведь Николай Иваныч — единственный, кто понимает: Олег сам себе не принадлежит. По сравнению с работой, с исторической значимостью Е. М. Поликарповой он, Олег, — ничто. Неразличим невооруженным глазом. Он — дважды, трижды заложник.
Во время воображаемых их бесед Николай Иванович, сотрудник спецотдела, никогда не кричит, ничем не угрожает. Кивает головой, вроде соглашается, ставит галочки на пустом листе бумаги. Олег однажды заметил: лист — пустой, никаких вопросов, никаких записей. Но сотрудник ставит вдумчивые галочки. Может, там что-нибудь написано симпатическими невидимыми чернилами? В симпатических чернилах есть нечто таинственное и интимное. Иногда хочется спросить Николая Иваныча про что-нибудь личное. Например: жив ли он? Ведь вполне возможно, что еще жив.
Про Толика спрашивать нечего. Олег, конечно, уже давно подозревал, догадывался, думал по ночам, не дурак же он. Надеялся: а вдруг выйдет? Не может же человеку всю жизнь не везти.
Уехал он слишком поздно, вот в чем проблема. На десять лет позже Трубниковых. Все вдруг развалилось. Квартиру отобрала его тогдашняя очередная жена. Институт, где выдавали зарплату, расформировался. Все уезжали, он и решил, что надо, пора. И произошло это так стремительно, он даже задуматься не успел — какого черта, куда и зачем. Тогда со многими это происходило.
Физически он переместился быстро и комфортабельно, на «боинге». Но мозги его вроде бы продолжали плыть от берега одной цивилизации к берегу другой медленно, на пароме. На покинутом берегу пейзаж постоянно менялся, становился все менее знакомым и различимым, то одна, то другая его часть расплывалась в тумане. А новый берег, который вначале казался совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки — все не приближался и не приближался. Что-то сразу показалось понятным и узнаваемым; но почти всегда это первоначальное понимание оказывалось случайным сходством, иллюзией, порожденной катастрофической ограниченностью и скудостью его тогдашних ассоциаций.
И постепенно стало ясно, что этот паром и будет его местом жительства.
Когда-то у Олега были мнения, пусть не свои, но зато непререкаемые. Козырные тузы, пиковые дамы. В молодости он был уверен, что все мироздание полностью отражено в его засаленной колоде карт, и что есть в ней на все загаданное ответ, и будущее предсказано.
Язык у него был хорошо подвешен; иногда он бывал в ударе и выкладывал свои тузы с некоторым даже треском и фейерверком.
Но тут ему выдали совсем другую колоду. И тузы в ней были не те. Мысль изреченная есть ложь, но мысль, изреченная на чужом языке, в корявом переводе, есть ложь вдвойне.
Фотографическая память, которая всегда была его главным и, наверное, единственным талантом, которая и умом, и интеллигентностью раньше считалась, — теперь полностью обесценена. Память стала просто техническим термином, измерением мощности заурядных машин. Как это оскорбительно! Что ему остается?
После переезда была у Олега слабая надежда, что здесь и ему удастся дойти до степеней известных. Ведь он — представитель элиты, сын Е. М. Поликарповой. Как говорит Толик: такие гены на дороге не валяются.
И потом: Труба-то давно уже мертвый, а он, Олег, все-таки живой. Еще несколько лет назад он надеялся, что можно будет убедить Зою в этом очевидном вроде бы факте. Но потом понял, что для нее это не так.
Вполне возможно, что она и права, что это не совсем так.
Возможно, Зоя догадывается, что он тогда в августе Трубу заложил. Скорее всего, догадывается. То есть на самом деле — наверняка знает.
Была тут у Трубы короткая, но ослепительная карьера, и Зоя из унаследованных от него денег помогает целой куче каких-то неудачников и недотеп. Олег — один из неудачников.
Так что сам Труба ему тридцать сребреников и выплачивает.
Зоя уже собрала свои сумки, и рюкзак за плечами. Уже и наушники надела, отключилась на своего Трубадура. Сейчас уйдет. Она не стареет почему-то. Или ему так кажется, потому что привык? Нет, ведь в зеркале он видит каждое утро нечто неузнаваемое и расплывчатое. А она становится все четче, все более похожей на себя.
— Подожди, — говорит Олег, — поставь сумки, я помогу донести до машины. У меня к тебе серьезный разговор. Мы должны обсудить денежный вопрос. Деньги я тебе должен… довольно много денег… Ты, наверное, догадываешься, что я собирался в ближайшее время переезжать… туда. Я хотел сообщить сегодня, именно сегодня. Деньги я верну… можешь не беспокоиться. Слушай, я не могу говорить стоя. Сядь, пожалуйста, куда ты летишь? Чего ты вечно куда-то несешься?
Оба они прекрасно знают, что никаких денег он не вернет, и что она об этом не беспокоится, и что он начал свою бессмысленную речь только для того, чтоб Зойка задержалась еще на несколько минут. Она ему помогает справляться с жизнью — как будто откупиться хочет от какого-то долга перед их общим прошлым, а от разговоров с ним, от человеческого общения ускользает. За весь сегодняшний день они не сказали друг другу ни слова.
Зоя вздыхает, садится, закуривает.
— Почему ты все время куришь? Тебе же нельзя. И кроме того, это не принято. Такое безволие! Я хотел с тобой посоветоваться. Я рассчитывал на Анатолия. Как ты, наверное, поняла… возникла проблема… Тем не менее… можно еще добиться через суд… Я решил, что мое место — там.
— Трех сестер изображаешь? — спрашивает Зойка.
— Не надо шуточек. Предположим, у тебя были другие обстоятельства, у тебя сохранились только горечь и цинизм… но я хочу вернуться туда, где прошло мое детство. Неужели ты не способна меня понять?
Зоя смотрит с недоумением, и он пугается, что она может вот-вот сказать что-нибудь ужасное. Почему, почему ей всегда первым делом приходит в голову говорить правду? Ей это проще и дается совершенно естественно. А ведь правду говорить непросто, для этого требуется безжалостный свет логики, а кто этот свет может себе позволить? Ей логика не приносит боли. Свет операционной, направленный на твои развороченные кишки, свет допроса, режущий глаза, — кому, зачем это нужно?
— У меня с этой квартирой связаны светлые ассоциации… ну, знаешь, счастливое детство… наследственное, семейное…
— Наследственное? — удивляется Зоя. — Это была квартира моего дедушки, почетного гражданина города. А потом нас всё уплотняли и арестовывали и доуплотнили до чуланчика… Да сядь ты, не пугайся — что ты вскочил? Это же я просто к слову… Я думала — ты знаешь. Это ерунда; но вот откуда у тебя светлые ассоциации? Светлые ассоциации с мордобоем? Забыл, как тебя лупили? Ты всегда ходил с такой зареванной распухшей мордочкой…
— Какая мордочка? Ты с ума сошла! Что ты чушь несешь! Меня никогда не били, пальцем меня никто не трогал! Как ты смеешь! Оскорблять память матери! Позарилась на квартиру!
Это уже несколько раз случалось. Он кричит на Зойку, потому что так полагается вести себя с близкими, с родными. Он даже не замечает своего крика, но кончается всегда одинаково: теперь Зойка исчезнет на долгое время.
Вот она уже собирает свои сумки, вот и дверь захлопнулась.
Но он увидит ее опять, когда будет необходима ее практическая помощь.
Зачем она это делает, почему возвращается? Или она его так презирает, что он и оскорбить ее не может? Зачем, зачем подставлять человеку другую щеку? Чтоб сделать его еще большей сволочью? Для чего подставлять другую щеку, как не для соблазна, чтоб ввести в грех, в искушение? Для соблазна малых сих, слабых и ничтожных, жестоких от слабости и стыда. Что же ты со мной делаешь, подставляя другую щеку!..
Почему говорят, что страдания очищают душу? Ведь это не так. Вот Труба ходил всегда с улыбкой идиота, все время радовался, просвистел свою жизнь, и все на него радовались, гением считали. Он и умер молодым, во всем и всегда ему везло. А Олег всю жизнь мучился — и ради чего?
Человек может пройти через горнило страданий и выйти из него совершеннейшей сволочью. Чаще всего так и бывает.
Опять ему снится квартира.
Это уже перед отъездом: агитация и пропаганда на последнем издыхании и вскоре должны уступить место рекламе; усов давно нет, но окна все еще затянуты по старинке революционным кумачом, и в комнатах багровый полумрак. И в этом полумраке его гости бесчинствуют: Толик, и рядом сотрудник Николай Иванович, сегодняшняя дамочка с евроремонтом, Пашка, лорд… Они втаскивают через окно огромное знамя, отдирают полотнище с серпом-молотом, разламывают древко, разжигают камин. И начинается пожар: ревущее, дикое, древнее, дореволюционное пламя, то самое, которое мерещилось в детстве. Электричество отключается, только оранжевый тусклый слабый накал тлеет в лампочке, и багровый свет сочится из кумачового окна. В темноте под ногами хрустит небо в алмазах, рубиновые звезды, раздавленные кровавые осколки поликарповских парадных бокалов, а сотрудник бросает в камин бумаги, сотрудник заметает следы, жжет архивы, уничтожает его краснознаменное детство, его романтическую молодость, жжет его личное дело. Ничего от него не останется, ничего не сохранится вечно, ведь только в личном деле записано, как все было на самом деле!
Проснувшись в поздних сумерках — уже давно зажглись фонари, но за окном еще угасает незнакомое светлое небо, и непонятно, в какой части света, в каком году он проснулся; по потолку проезжают световые квадраты с тенями незнакомых веток, и он не может понять своего положения в комнате, в здании — и где же Зойка, почему Зойки нет, — проснувшись в сумерках, он не может вспомнить, что должно находиться за окном, там ли родной бульвар…
Потом вспоминает: окна выходят на железную дорогу. Прямо под окнами полоса отчуждения — поэтому и сдают так дешево — канава, заросшая голубоватой, пыльной, тухлой зеленью, а дальше слякотная индустриальная равнина, исполосованная рельсами, и небо над ней разлинованное, исхлестанное проводами. Щебень, кокс, контейнеры, склады. Железо, одно железо. Здесь он закончит жизнь, никогда не вернется в счастливое краснознаменное детство.
Не надо загадывать. Прошлое меняется постоянно. Может оказаться, что все еще было не так.
ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА
Возврат к исконно-русским традициям сегодня в моде и пользуется популярностью среди покупателей дорогой недвижимости. Данная тенденция прослеживается и в квартирах: лепнина, специально состаренный дубовый паркет, отреставрированный камин. Не обошлось и без антикварных раритетов. Высокие потолки и выход окон на две стороны света создает ощущение простора, легкости и свободы.
Наземная охраняемая парковка на внутренней охраняемой территории, датчики движения на окнах, датчики на затопление и задымление, а также круглосуточная система охраны обеспечивают вам надежную защиту.







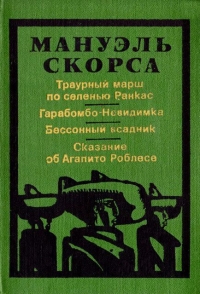

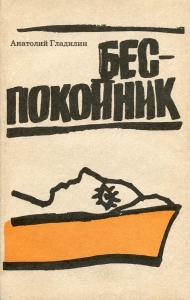
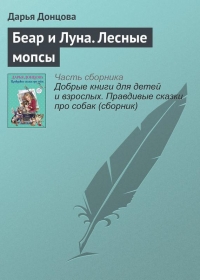

Комментарии к книге «Поправка Джексона (сборник)», Наталия Червинская
Всего 0 комментариев