Герхард Рот Тихий океан
Теперь, когда все укутано снегом, здесь, в сельской глуши, мне кажется, будто я в открытом море. По утрам, встав с постели, я смотрю из окна точно из иллюминатора в Атлантическом океане.
Герман Мелвим «Дневники»1
Ашер проснулся после тревожной ночи (в темноте он вскакивал за мотыгой, которую накануне нашел на чердаке в куче кукурузных початков, и положил ее у кровати), и взгляд его упал на еще не распакованный чемодан. Он вспомнил, что малодушно принял приглашение хозяина дома на фазанью охоту, и мысль об этом терзала его до вечера, но теперь, при свете дня, он как-то с нею примирился. В конце концов, хоть познакомится с жителями деревни и будет избавлен от необходимости лгать каждому по отдельности. Одеваясь, он мимолетно подумал о жене и дочери, а потом вышел из дома. В тумане он не видел ничего дальше ближайшей яблони. Он зашагал по улице к вершине холма, где ему встретился какой-то прохожий с рюкзаком на спине, и спросил у него, как найти дом распорядителя охоты, но не понял объяснений, однако по тому, в какую сторону тот махнул рукой, заключил, что идет в нужном направлении.
Как раз когда он входил во двор, который искал, охотник в широкополой шляпе вытащил из багажника машины оленя и поволок его на кучу листьев. Олень был уже серый, зимней масти. Теперь Ашер разглядел сквозь плотный туман и других охотников. Насколько он уловил по их пренебрежительным замечаниям, человека, что привез оленя, звали Август Роги. Ашер пришел с намерением познакомиться с местными, и потому особенно старался запомнить их имена. Кто-то принес синее эмалированное ведро с горячей водой и тряпку, и охотник бросил куртку на траву и принялся свежевать оленя. Подошел хозяин дома по имени Цайнер, взглянул на оленью тушу и, заметив Ашера, со скучающим видом сообщил, почтительно и не без напускной таинственности, что Ашер — биолог из Германии, из Института Макса Планка, и что здесь он будет поправлять здоровье после перенесенного вирусного заболевания, которым заразился во время исследований, пока не окрепнет настолько, что сможет вернуться в Германию. Это объяснение охотников вполне удовлетворило.
Окрестности окутывал бурый, пронизанный лучами солнца туман. Охотники затянули на животе патронташи. Над вершинами холмов висела золотистая дымка.
«Значит, я здесь застряну надолго», — безрадостно подумал Ашер. На красной блестящей корморезке лежало ружье.
— А ружьецо недурное будет, — сказал Рога, взяв его в руку.
Они сели в машины и сначала поехали в долину, в Унтерхааг, как, по словам Цайнера, называлась деревня. По дороге там и сям возвышались груды кукурузы, пирамидальными тенями выделявшиеся на солнце. Кроны фруктовых деревьев тоже сияли в золотистой дымке или темными силуэтами вздымались на фоне серого неба.
На стенах сеновалов, хлевов и конюшен виднелись предвыборные плакаты с портретами политиков. На плакатах Народной партии красовался глава земельного правительства, на плакатах Социал-демократической партии — заместитель главы земельного правительства вместе с федеральным канцлером.
— Кто на выборах-то победит? — осведомился Хофмайстер.
— Социалисты проиграют, — ответил Ашер.
— Он потому и спрашивает, что сам — член общинного совета Народной партии, — пояснил Цайнер, указывая на Хофмайстера.
— А вы вообще политикой интересуетесь? — спросил Хофмайстер.
— Я социал-демократ.
Они помолчали. Потом Хофмайстер добавил:
— Да ладно, чего там, каждый имеет право голосовать, как ему заблагорассудится.
Ашер украдкой взглянул на Хофмайстера. Первое, что бросалось в глаза, — это его гнилые зубы. Среднего роста, стройный, вот только с небольшим брюшком. Бледный, с морщинками в уголках глаз, с потрескавшимися бескровными губами, Хофмайстер говорил, непроизвольно помогая себе всем телом. Когда он смеялся, изгибался, когда задавал вопрос, поднимал брови, когда без слов выражал свое согласие с кем-нибудь, — закрывал глаза и несколько раз кряду быстро кивал, когда успокаивал собеседника, — хмурился, опускал голову, держа ее несколько набок, когда задумывался, — стоял, откинув плечи назад, выпятив брюшко, а когда снова вступал в разговор, внезапно подавался вперед. Однако на это Ашер обратил внимание только во время охоты. Хофмайстер владел небольшой усадьбой, женат был на сестре Цайнера и имел троих сыновей. Он работал посменно на кирпичном заводе под Гассельсдорфом, принадлежащем брату покойного главы земельного правительства. У Цайнера были густые темные волосы, нос картошкой и большие удивленные глаза. Ладони у него были широкие, а сам он — приземистый, коренастый. Цайнер, как догадался Ашер по нескольким фразам, которыми он с ним обменялся, за словом в карман не лез и насмешник был каких поискать. Запястье у Цайнера было забинтовано, он пять или шесть лет проработал шофером грузовика и теперь пытался выхлопотать себе под предлогом артрита небольшую пенсию, чтобы хозяйствовать без помех. На шее у него сидели пять едоков, а ферма ему, как и Хофмайстеру, досталась маленькая: кукурузные поля, несколько кустов красной смородины, две или три коровы, свиньи и лошадь.
Они свернули с дороги и пересекли речушку Заггау, медленно струившую под мостом темные воды. За мостом в тумане они остановились подождать других охотников, миновав две деревни, жители которых с корзинами овощей и фруктов собирались на праздник урожая. В тумане издалека доносилась музыка, наигрываемая маленьким оркестром. Ашер разглядывал проходящих мимо празднично одетых сельчан: они — кто в национальных нарядах, кто одетый по-городскому — шли по улице к деревенской пожарной части.
Он снова вспомнил о жене и дочери. Жена недавно поступила на службу в страховую компанию. Поначалу работа ей претила, и она постоянно сетовала, но под конец о ее работе они уже и не заговаривали. Скрепя сердце жена посоветовала ему перебраться в деревню. Впрочем, он пообещал ей беречь себя. Между тем музыка умолкла, а охотники, стоя без дела, стали совещаться, как быть дальше. В наступившей тишине один из них предложил подождать.
Ашер поднял глаза к солнцу, ярким пятном расплывавшемуся в дымке тумана. Снова заиграла музыка, потом зазвонили церковные колокола.
Наконец в тумане послышался шум приближающегося автомобиля.
Под желтыми кронами дубов они двинулись к лугу с возвышающимися на нем стогами сена, — за ним раскинулись кукурузные поля. К опорам моста водой прибило всякий хлам. «Следующего наводнения мост уж точно не переживет», — предрек Цайнер.
Сначала они прошли по недавно убранному полю, испятнанному пожухлыми кукурузными метелками, потом по перепаханным пшеничным полям, чередовавшимся с охряными кукурузными, и, наконец, по бесконечному жнивью. Откуда-то из тумана до Ашера донесся зов одинокого рожка, но охотники и бровью не повели. Тотчас после этого они уткнулись в заросли первого кукурузного поля и, оцепив его, спустили собак. Те в несколько высоких прыжков исчезли меж шуршащих стеблей, и охотники стали науськивать их, натравливать и бранить почем зря. Сами охотники расположились на расстоянии двадцати шагов друг от друга с ружьями в руке, подняв стволы. Где-то щебетали птицы. Как только собак спустили на дичь, Ашеру невольно пришла на ум собственная невеселая судьба. С другой стороны, сейчас он был в безопасности. Ну, кому он тут нужен-то? Неужели из-за какой-нибудь нелепой случайности все откроется? До города отсюда больше пятидесяти километров, и они с женой договорились, что она не станет его навещать, ни к чему пересуды. Только тут он заметил, что распорядитель охоты уже во второй раз спрашивает его о чем-то. О чем именно, он не уловил, поэтому просто улыбнулся и кивнул в ответ. Охотники перестали кричать «ату», чтобы не охрипнуть, и вместо этого стали понукать собак свистом. После того как собаки прочесали первое поле, к облегчению Ашера, не подняв ни одной птицы, охотники окружили цепью следующее. Размышляя в последние недели о своем будущем, он внезапно осознал, что более всего завидует тем, кто живет себе и живет, не мучимый бесконечной рефлексией. Вот и эти крестьяне такие же, незлобивые. Незлобивость эта у них, наверное, в крови.
Перепаханные поля лежали под паром. На проволочных изгородях висели гирлянды прозрачных водяных капель, на ржавых — даже розоватых. Тяжело ступая, они двигались по кукурузному полю, сжатому комбайном, утопая в стеблях до колен и волей-неволей так высоко поднимая ноги, что казалось, будто это марширует воинская часть; только марширует как-то вразброд, думал Ашер. На берегу Заггау торчали сухие, безлистные побеги арники, сплошь увитые паутиной.
Снова проехав немного на машинах, они остановились у лесопильни. По случаю воскресенья рабочих там не было. Они шагали по черной, рыхлой земле, слева и справа были уложены штабеля теса. Заггау, журча, перекатывалась через плотину. В сарае возле стальной пилорамы стоял старый, ржавый трактор. Дорога вела немного в гору, между фруктовыми деревьями и ульями, вдоль опушки осеннего, яркого лиственного леса. Ашер бездумно шел следом за охотниками и наслаждался. На холме собаки вновь исчезли среди зарослей кукурузы. Тотчас же раздался выстрел, и из-за края поля показался охотник с добычей. Ашер, снедаемый любопытством, двинулся ему навстречу. Кольца вокруг глаз у фазана были красные, темя — зелено-синее, воротник на шее — белый с черной и фиолетово-синей оторочкой, сама шея отливала золотисто-коричневым, на ней выделялись темно-зеленые кончики перьев, крылья, которые во всю ширину расправил для него охотник, — светло-коричневые и шелковисто-желтые, кончики крыльев — в бурых, серых и белых крапинках. Охотник невозмутимо протягивал ему убитого фазана. Птица будто вдруг сама далась в руки и заснула, только и всего. Ашер осторожно дотронулся до нее, и тогда охотник выдернул у нее несколько перьев и вложил их ему в ладонь. Ашер замялся, охотник, вероятно, неправильно истолковал его колебания, предположив, что Ашер не решается принять подарок.
— Да чего там, пустяки, — сказал он, ободряя Ашера.
Остальные уже ушли дальше. Туман рассеялся, засияло солнце, в небе ясно обозначилась оберхаагская колокольня. В условленном месте сбора распорядитель охоты откупорил двухлитровую бутыль вина и пустил ее по кругу. Потом они проехали еще через несколько деревень к следующему кукурузному полю. Какие-то музыканты примостились со своими инструментами на обочине дороги, заглядывали в проезжающие мимо машины словно в поисках знакомых и долго смотрели им вслед, когда они уже исчезали из виду. В одной деревне им пришлось остановиться, пропуская торжественную процессию, направляющуюся на благодарственный молебен по случаю сбора урожая. Возглавлял ее оркестр, игравший «Вознесем мольбы»[1]… Ашер улыбнулся. «И от злой судьбы», — наигрывал оркестр дальше. В сущности, он завидовал этим людям, — как-никак, у них есть вера. «У меня-то ничего нет, кроме моей рефлексии, — думал он, — а она разъедает душу». Поэтому, сравнивая себя с другими, он вечно ощущал себя предателем, притворщиком и обманщиком. А сейчас чувство вины мучило особенно, ведь окружающие ему доверяли. «В конце концов, итог моего самосозерцания и сейчас такой же, как всегда, — бездействие». «Нас Господь спасет», — доносилось до него пение сельчан, издалека похожее на простой непринужденный разговор. Только сейчас он сумел разобрать слова, до того их заглушала слишком громкая музыка. Он вспомнил, как много лет прожил, не испытывая никакой потребности в религии, как потом втайне пытался обрести веру и как эти попытки терпели жалкий крах, ведь в то самое мгновение, когда он уже был готов сказать себе, что уверовал, его вера рассеивалась словно дым. «Праведных оплот», — допели участники процессии. И теперь, при виде развешанных на стенах домов и на деревьях предвыборных плакатов с гигантскими лицами, мимо которых шествовала торжественная процессия, он думал, что, если бы он был жертвой, и притом жертвой невинной, все это казалось бы ему прекрасным. К тому же тогда его поддерживало бы неизбежное сознание собственной беззащитности и необходимости смирения. Но жертвой он не был.
— Ну, вот, еле тащатся, нога за ногу, — раздраженно бросил Хофмайстер.
— Да уж, — согласился Цайнер.
Он как раз обгонял процессию, сворачивавшую с дороги к церкви. Ашер украдкой взглянул на хоругвь и балдахин из шелка и парчи, который несли на шестах четверо мужчин, — под ним выступал приходский священник с реликварием в руках.
— Видели женщину? Вон там! — спросил Хофмайстер, тыча пальцем. — Двадцать два года тому назад я за ней ухаживал. А жила она во-о-он в том доме.
Ашер послушно выглянул из окна.
— Вон на той стороне, — уточнил Хофмайстер.
Они как раз проезжали мимо фруктовых деревьев с обмазанными известью стволами.
Тщетно оцепив еще одно кукурузное поле, — двое охотников упустили взлетевшего фазана, который, тяжело взмахивая крыльями, проплыл у них над головами, — они по широкому, скошенному лугу мимо почти облетевших деревьев и кустарников вернулись к Заггау. Внезапно раздались выстрелы. Охотники крикнули: «Фазан!», — Ашер быстро повернулся к просеке, откуда поднялся на крыло фазан, а Цайнер, оказавшийся рядом с ним, на лету сбил птицу, так что перья закружились в воздухе. На какую-то долю секунды выстрелом фазана подбросило вверх, после чего он рухнул на землю, словно в наказание за дерзкие попытки летать. У Ашера возникло странное чувство, будто фазан сейчас там, где ему и надлежит быть. Дробь пробарабанила рядом с ним по листьям. Ашер вспомнил об этом как о чем-то бесконечно далеком. Кукурузное поле, с которого взлетел фазан, отделял от него маленький ручей. Поблизости стоял дом, в открытом окне покачивался вывешенный для проветривания костюм. Потом им встретились две пригожие девочки в бело-голубом. Ашер предположил, что они возвращаются с процессии. Одна из них была лет восьми, значит, ровесница его дочери Катарины. Сидит сейчас, поди, бедняжка, дома и мучается от скуки.
Несколько охотников слонялись под фруктовыми деревьями и выстрелами сбивали яблоки. Ашер устал, однако не подавал вида. Прочесав последнее кукурузное поле, распорядитель охоты прокричал: «Ну, все, конец!» На обратном пути Ашера немного подвезли, а остаток дороги он прошел пешком.
2
К середине дня сильно потеплело. Яблоки с шорохом падали с веток и стукались о землю. Когда накануне он выезжал из города, в садике за домом еще дотлевал пепел, у крыльца стояла металлическая лейка и грабли дворника. Потом жена отвезла его на вокзал.
— Значит, уезжаешь, — сказала она.
— Да, уезжаю, — откликнулся он.
Прощание выдалось не из легких. Поезд, которым ему предстояло добраться до места, носил название «Красная молния». Несколько раз в день он курсировал по маршруту «Кёфлах — Грац — Виз» и обратно. Красный-то красный, но вот сравнение с молнией он никак не оправдывал. Тащился как трамвай и подолгу стоял на каждой крошечной станции. Выходили чаще всего два-три пассажира, а входили и того меньше. Дело было после полудня, и Ашер сидел среди фабричных практиканток, школьников и пенсионеров. Более всего его терзало, что поезд так полз, — поэтому ему никак не удавалось подавить в себе ощущение утраты. Глядя на школьников, он невольно начинал беспокоиться о Катарине. В школу и из школы ее никто не провожает, вдруг с ней по дороге что-нибудь случится? Да и жена из-за нее волновалась. Перед сном они обычно, лежа в темноте в постели, рассказывали друг другу, как прошел день. Часто разговаривали о дочери, а он любил слушать, как жена описывает во всех подробностях, что же она делала без него. Но в последнее время жена работала в страховой компании, а дочка часов до трех сидела дома одна и сама разогревала себе обед. Ашер ужасно страдал от мысли, что она каждый день предоставлена самой себе и присмотреть за ней некому.
Поезд выехал на равнину. Кукуруза на полях, среди которых он сейчас катил, казалось, совсем засохла. Осень выдалась без дождей, но в городе Ашер этого не замечал. В смешанных лесах лиственные деревья желтыми пятнами выделялись на фоне темной зелени хвойных. Чемодан у Ашера был такой большой, что не поместился на багажной полке, он поставил его в проходе и всякий раз поднимал его на колени, когда поезд останавливался и кому-то требовалось пройти.
На маленькой железнодорожной станции Гляйнштеттен Ашера уже поджидали Цайнер и его зять Голобич. Накануне Ашер отправил по железной дороге сундук с книгами и медикаментами, и Цайнер с Голобичем помогли ему донести сундук до машины. Потом ему рассказали, что Голобич жил с невесткой Цайнера, вдовой его покойного брата, кровельщика, который года три-четыре тому назад сорвался с крыши при строительстве собственного дома и погиб. Если бы Голобич на ней женился, она потеряла бы право на вдовью пенсию, а они никак не могли себе этого позволить, ведь Голобич перебивался случайными заработками и продал соседу уже почти все свое достояние: лес, луга и пашню. Да и дом его, где поселился Ашер, теперь принадлежал Цайнеру. Однако деньги, о чем Ашера уже предупредили, у Голобича никогда не задерживались. В общей сложности у него перебывало восемь мотоциклов, а прочему добру он счет не вел. Детали мотоциклов еще валялись где-то на чердаке, который Цайнер по-прежнему разрешал ему использовать. Голобич хранил там и кукурузу, которую выращивал на маленьком поле перед домом и целыми мешками увозил на мотоцикле на корм свиньям. Он был среднего роста, крепкого сложения. Волосы надо лбом у него поредели, он зачесывал их назад. Он всегда носил коричневую замшевую шляпу, низко надвинув на глаза. Лоб у него был широкий, выпуклый, глаза — серо-голубые. На разбитом белом «опеле» Цайнера они выехали из Гляйнштеттена и покатили по равнине, сплошь засаженной кукурузой.
— Когда-то, тысячи лет тому назад, — сказал Ашер, — здесь было озеро.
Когда перед ними пролетела цапля, Цайнер рассказал, что вот тесть-де его видал однажды, как прямо на этом самом месте упал аэроплан, а построил этот аэроплан наш, местный фермер, молодой парень из Пёльфинг-Брунна. Это был моноплан с низко расположенным крылом, с мотором в тридцать лошадиных сил и со съемным винтом. Вылетел он из замка Гляйнштеттен, сделал круг над Хаслахом и вдруг так и рухнул камнем с неба. Авиатор не пострадал, но в первые минуты не мог вымолвить и слова, а когда тесть вытащил его из обломков, просто улегся на траву. Месяц-два прошло, глядь, — а он снова летает. Потом в Первую Мировую погиб на западном фронте. Ашер внезапно подумал: «Человечество предается мечтам. А какой-то части человечества даже выгодно, чтобы другая часть безмятежно предавалась мечтам, и она делает все, чтобы мечтатели не очнулись». В поезде Ашер впервые услышал, как один их местных жителей упомянул о бешенстве. Цайнер пояснил, что в двух соседних районах введен карантин. Надлежит отстреливать всех кошек, которые убегут со двора, и всех собак, которых спустят с поводка и за которыми не уследят хозяева. Да и лис требуют отстреливать, если попадутся.
— Да что там, вы биолог, и так все сами знаете, — сказал Цайнер.
А потом спросил, правда ли, что человека от бешенства не спасти, сразу каюк?
Ашер подтвердил. Тогда Цайнер полюбопытствовал, как происходит заражение. Ашер ответил, что инкубационный период длится от тридцати до пятидесяти дней. Первые симптомы заболевания у человека — беспокойство и лихорадка. Беспокойство постепенно перерастает в неконтролируемое возбуждение, сопровождающееся обильным слюноотделением и мучительными судорогами в мышцах глотки и гортани. Смерть наступает обычно спустя три-пять дней в результате удушья, истощения или судорог и общего паралича.
Ашер нашел дом Цайнера по объявлению в газете в разделе «Сдаю», так что Цайнер и Ашер уже несколько раз встречались. Однажды Ашер даже доехал на автобусе до Пёльфинг-Брунна, откуда Цайнер забрал его на машине.
Дом, где он теперь поселился, был невелик: кухня с маленькими окошками и выложенной кирпичом печкой, маленькая комнатка и чердак. С потолка свисала облупившаяся штукатурка. Ашер заплатил за год вперед и за две недели до поселения успел съездить к Цайнеру еще раз, специально чтобы все проверить.
3
Весь следующий день Ашер разбирал вещи и устраивался в доме. Внутренние рамы на чердаке, где он спал, еще не вставили, плита в кухне была выложена кирпичами неплотно и, когда он попытался развести огонь бумагой, нещадно задымила, щели между стенами и деревянными полами предстояло законопатить стекловатой от мышей. Из деревянного ящика он достал микроскоп, который упаковала жена, и гистологический атлас. Он открыл атлас и погрузился в созерцание ярких изображений: вот увеличенная в двести сорок раз клетка вентрального корешка спинного мозга теленка, окрашенная кислотным фуксином, — она представлялась Ашеру красным полипом со спутанными щупальцами в мутной красноватой жидкости. Вот, в шестидесятикратном увеличении, пигментный эпителий сетчатки лошадиного глаза, клетки которого, даже неокрашенные, имели теплый, под стать меду, желтоватый цвет и шестиугольной формой напоминали пчелиные соты. Вот клетки гладких мышц мочевого пузыря кролика, окрашенные хромотропом и гематоксилин-эозином, которые в трехсотвосьмидесятикратном увеличении казались Ашеру чередой зародышей мальков в алой воде. Вот полученный методом прижизненной инъекции препарат печени кролика, в котором вену, чтобы показать все русло сосуда, закрасили синим раствором желатина, отчего она превратилась во множество маленьких протоков, петляющих по рыже-бурой земле и, наконец, впадающих в реку, дельта которой испещрена бесчисленными островками. Вот импрегнированные азотнокислым серебром капилляры жёлчного протока — черные веточки, отчетливо виднеющиеся в ярко-желтом тумане. Вот окрашенный азокармином по Гейденгайну срез плоского эпителия, взятого с эпидермиса крыла носа человека, — ни дать ни взять тектонические слои вулкана, в самом верху пылающе-красные, ниже — розовые, а в самом низу — переходящие в голубоватую воду. Вот неокрашенный плоский эпителий перитональной оболочки кошки, — при увеличении в двести сорок раз он чрезвычайно напоминал сухой, ярко-желтый суглинок в каком-нибудь индийском штате, на который обрушились полчища саранчи, и он сплошь покрылся трещинами, словно глазурь на обожженном кувшине. Ашер медленно переворачивал страницы. Вот нервная клетка вентрального корешка спинного мозга собаки в трехсотвосьмидесятикратном увеличении — сине-красный бумажный змей в облачном небе, вырвавшийся из рук мальчишки и, точно чешую, сбрасывающий клочки бумаги. Вот нерв кошки, без окрашивания увеличенный в сто пятьдесят раз, — он напоминал Ашеру чахлую траву на изрыгающем пузыри болоте. Срез слизистой оболочки языка в шестидесятикратном увеличении представал в его воображении завязью экзотического растения, цветы которого казались языками пламени, над которыми плясали светло-голубые облачка дыма. Ему вспомнился переливающийся всеми цветами радуги мертвый фазан, которого он видел накануне и который теперь ассоциировался для него с иллюстрациями в атласе. Вот увеличенный неполный поперечный срез человеческой трахеи, похожий на фиолетовую радугу. Клетки почек оборачивались странными водяными зверьками с прозрачными тельцами. Одни изображения представали перед ним срезами ярких граненых минералов, другие — просвечивающими листьями или очертаниями континентов на географической карте. Увеличенный в сорок пять раз срез коры головного мозга своим яростным пурпуром напоминал взрывы на Солнце, тогда как срез мозжечка мнился глянцевитым, блестящим растением с прозрачно-белыми прожилками. Импрегнированные азотнокислым серебром дендриты при стапятидесятикратном увеличении виделись ему желтыми, окаменевшими стеблями ископаемого бамбука. А еще красные и белёсые ночные бабочки спинного мозга, продольный срез спинального ганглия собаки, — просто голова дикой утки, плещущейся в мутной воде, да и только. В контурах евстахиевой трубы он различал фрагмент арабской мозаики на полу мечети, в очертаниях клеток глаза — яркие, разноцветные сады, в абрисе нерва — желто-красный цветок, сплошь состоящий из мясистых перепонок. Ашер ощущал то же любопытство, что и четверть века тому назад, в студенческие годы, только иллюстрации воспринимал иначе. Тогда они казались ему одновременно непонятными и притягательными, теперь они были связаны, составляли бесконечную, неразрывную цепь образов, каждый из которых переходил в другой. В этих крошечных клетках и скоплениях клеток таились леса, озера, растения, горы и облака, камни и раковины, насекомые, ракообразные и рыбы, птицы и цветы. Он достал микроскоп, взял иглу, уколол палец и нанес каплю крови на стеклянную пластинку, одну из тех, что нашел в жестяном пенале. А еще в сундуке, дожидаясь своего часа, лежали препарационные иглы, стеклянные трубочки для размешивания жидкостей, бритва, которой он делал срезы, принадлежавшая еще его отцу, предметные стекла со шлифованными кромками, флакончики с раствором едкого кали для препарирования насекомых, глицериновый желатин, объективы в кожаном футляре, волосяные кисточки, пипетки, бритвенные лезвия, покровные и часовые стекла и различные красящие растворы. Некоторое время он разглядывал каплю своей крови в окуляр, потом выдернул вилку микроскопа. В желтой деревянной шкатулке, много лет почивавшей в ящике письменного стола, он нашел свой анатомический набор; распаковал и учебники, которые давно хотел перечитать. Однако пока он поставил их в среднее отделение кухонного буфета, под застекленную полку. Накануне он звонил жене и дочери из магазина, расположенного в четверти часа ходьбы по улице. (Это было большое, полупустое помещение, в котором на металлических полках громоздились продукты и школьные тетради, конфеты, сигареты, карманные фонарики, ножи, пластмассовые ведра, швабры и всякая всячина). В соседнем помещении за двумя широкими столами на скамьях вдоль стен местные крестьяне пили пиво. Когда Ашер проходил мимо них к телефону, они на минуту подняли головы от пивных кружек. Ему было приятно услышать голоса жены и дочери.
Часть вещей он снова запихнул в ящик, а потом перетащил его на чердак. Микроскоп поставил на подоконник, предметные стекла убрал в комод. Отнес в сени купленные в магазине резиновые сапоги и, вместе с пузырьками лекарств, флакончиками с дезинфекторами, перекисью водорода, одноразовыми шприцами, набором игл и коробками стеклянных ампул, убрал в шкаф. В доме не было водопровода, поэтому он вышел во двор помыть руки под колонкой и промочил ноги. Потом вернулся в дом и уселся на кухне.
К полудню приехал на мотоцикле Голобич, слез и прислонил его к стене свинарника. Аккуратно сгреб граблями паданцы с улицы. Ашер следил за ним в бинокль и заметил, что Голобич разговаривает сам с собой. На багажнике мотоцикла Ашер различил какой-то предмет и решил, что это ружье, укутанное мешковиной. Покончив с паданцами, Голобич взял мешок и направился в дом. В мешке и правда оказалось ружье «монтекристо», а в придачу Голобич дал ему коробку патронов, да еще предложил купить у него «вальтер». Ашер захотел сначала опробовать оружие и патроны, но Голобич отсоветовал: мол, сосед Туррахер еще поднимет шум.
С тех пор как он попросил Цайнера продать ему оружие, Ашера терзали сомнения, стоило ли это делать. Однако, как только Голобич положил оружие и патроны на кухонную скамейку, ему сразу стало спокойнее.
— Ружьецо бьет — заглядение, — продолжал Голобич, — только целик чуть-чуть над мушкой приподнимайте, — и за сто шагов можно человека убить. Это я так, к слову пришлось, — добавил он.
Ему не терпелось заключить с Ашером выгодную сделку.
— Ну, что, взять ружье в овраг? — спросил он. — Там на пробу и постреляете, и из ружья, и из «вальтера», а если выберете что, тогда и цену обговорим.
Ашер не возражал.
— Наденьте-ка вы лучше сапоги. Мне еще надо спустить рыбный пруд, а то все дно заилилось да закисло.
Его заботливость тронула Ашера. Он не стал спорить и надел зеленые резиновые сапоги на шнурках. Как хорошо, что можно хоть с кем-то поговорить.
Голобич смотрел, как он зашнуровывает сапоги.
— За магазином одна вдова живет с сыновьями и с теткой. Если хотите, можете у нее столоваться.
Он сунул ружье и пистолет в мешок, и Ашер подумал: бывают мгновения, когда вроде бы ничего не происходит, а ты точно знаешь, что запомнишь их навсегда, на всю жизнь. Он замешкался в сенях, а Голобич, темным силуэтом выделяясь в дверном проеме, вышел во двор, держа в руках мешок с оружием. Вот и он сам, Ашер, однажды выходил так из здания суда, когда завершилось слушание дела. Из зала появилась его мать и растерянно спросила, что же теперь будет, и Ашеру вдруг стало ее жалко. В тот день она надела туфли без каблуков, словно от стыда хотела сделаться меньше ростом и смешаться с толпой. У выхода она случайно столкнулась с какой-то дальней родственницей и попрощалась с ней. Ашер солгал, что спешит. День тогда был солнечный… Вот и сейчас им овладело то же чувство, что и тогда, по окончании слушания. И сейчас поля и холмы вокруг освещало солнце. В такие мгновения жизнь казалась ему исполненной потаенной гармонии, доброй и прекрасной. Поэтому, садясь позади Голобича на мотоцикл, он на какую-то долю секунды испытал необъяснимый страх: а что если они разобьются?
Они свернули с проезжей дороги и, подскакивая на рытвинах и ухабах, покатили мимо заброшенной крестьянской фермы. Стены жилого дома и хозяйственных построек облупились, расшатанные ставни криво свисали в петлях, кирпичи были красно-коричневые, «как та капля крови под микроскопом», вспомнилось Ашеру. Вместо крыши торчали обломанные балки стропил. Там и сям в стенах зияли дыры, — кто-то уже успел растащить кирпичи.
— Вчера под Ляйбнитцем застрелили бешеного хорька, — прокричал Голобич. — Скоро бешенство и до нас доберется.
Лощина, по которой они сейчас ехали, была сплошь усыпана яблоками. Они завернули за деревянный забор и остановились во дворе перед домом. Всех строений во дворе и было, что одноэтажный деревянный дом с черепичной крышей, на коричневой двери красовалась оставшаяся от последнего Крещения надпись «К + М + В 78»[2]. Еще не до конца осознав, что это за надпись, Ашер почувствовал, будто волхвы хранят и его тоже. У стены перед домом валялся всякий хлам: испорченный комод, разбитые горшки, стул без спинки, — весь этот мусор так побурел от непогоды, что по цвету уже не отличался от стен дома. На плетях виноградной лозы, буйно разросшейся на передней стене, висели синие ягоды. Пока Голобич ставил мотоцикл в сарай, Ашер попробовал виноград. Мякоть оказалась сладкой и ароматной, но кожура настолько жесткой, что ягоду пришлось выплюнуть. Во дворе возвышалась целая гора тыкв. Беззубая крестьянка, высокая и стройная, в узорчатом платке на пышных седых волосах, выпрямилась и посмотрела на него. Голобич объяснил ей, кто такой Ашер, и она заторопилась было в дом, «чтобы приодеться», как она выразилась. За тыквенной горой виднелся деревянный свинарник с откидными дверцами, которые открывали, когда кормили свиней. На склоне холма примостилась маленькая пристройка с давильным прессом и погребом, напротив на гумне теснились брошенные тележки, старая мебель, отслужившие свое матрацы, инструменты и утварь. Голобич сказал ей, что они сию минуту идут в овраг, а значит, и прихорашиваться ни к чему. Ашер пожал ее холодную руку. Она что-то произнесла, но он почти ничего не понял. Она явно пошутила, потому что засмеялась, широко разинув рот, словно разверзлась черная дыра. Во дворе кудахтали куры. Из дома доносился собачий лай. Возле дома лежал дохлый крот с розовыми лапками. Крестьянка подняла его, завернув в лист бумаги, и кинула в мусорную кучу. Ашер долго смотрел, как она тяпкой разрубает тыкву за тыквой, поставив их меж босых ступней, потом, сидя на бочке и зажав половинку тыквы между колен, руками выскребает из нее семена и бросает мякоть в зеленую металлическую миску. Семена она потом выкладывала на оберточную бумагу и пристраивала под скатом крыши, чтобы они сушились на солнце. Из сушеных семян выжимали масло. Выдолбленные корки крестьянка мелко крошила и бросала свиньям, а потому не торопилась управиться со всеми тыквами сразу: куда ж ей такая пропасть-то, свиньям столько не съесть. Потом, в овраге, Голобич пояснил ему, что тыквенные корки скармливают свиньям многие крестьяне, но есть и те, кто их оставляет на полях как удобрение. Ашеру показалось, будто он перенесся лет на сто в прошлое. Вот так же он стоял и сотню лет тому назад, вот так же крестьянка чистила тыкву.
Его охватило странное чувство, словно он окаменелость, ископаемая улитка. Вот в доме снова залаяла собака. Мысленно он стал перечислять геохронологические эры. Сколько же ненужного вздора скопилось у него в памяти! И все-таки он наслаждался, созерцая игру своего воображения и ощущая, как слово или мысль, точно начертанная в воздухе надпись, предстают перед его внутреннем взором, как одно воспоминание влечет за собой другое, словно металлические стружки, одна за другой притягивающиеся к магниту. Голобич одолжил у кого-то грабли и косу и вместе с Ашером спустился к пруду. Сначала он скосил высокую траву у стока, чтобы на следующий день, когда из пруда уйдет вся вода, пересадить туда рыбу. Трава у пруда совсем засохла, выгорела на солнце до серебристого и золотистого оттенка и стояла высокая — все лето ее не косили. Вокруг пруда буйно разрослись камыш, рогоз и частуха, черная, непрозрачная вода отливала зеленью. Если долго вглядываться, можно было заметить, как плавают лягушки и жабы, ныряют юркие жуки-водолюбы и время от времени всплескивает рыбка. При каждом шаге сухая трава шуршала под ногами. Покачиваясь на узенькой доске, Голобич осторожно наклонился к стоку и попробовал вытащить деревянную затычку, подцепляя ее граблями, надетыми на деревянный шест. Однако затычка застряла так плотно, что Голобич, пытаясь ее вытащить, сломал шест, и грабли канули в темную воду. Ашер не отходил от мешка с оружием и наблюдал за Голобичем. Он по-прежнему не мог отделаться от ощущения, что он — живое ископаемое. Много лет тому назад он видел в Чехословакии образец горной породы с отпечатком болотного кипариса — taxodium dubium. В ту пору ему бы и в голову не пришло, что он когда-нибудь сам покажется себе такой окаменелостью. Отпечатки листьев ископаемого дуба и древовидных папоротников ему тоже приходилось видеть. Он наклонился за ружьем, вынул из коробки один патрон для «монтекристо», вставил его в патронник, взвел курок и прицелился в дерево. Выстрел прозвучал глухо; Голобич, который разделся до трусов и майки и примеривался, как бы войти в воду, повернул голову и проследил глазами в том направлении, куда должна была улететь пуля.
— Не попали? — спросил он.
— Нет.
Голобич пожал плечами и полез в ледяную воду, поеживаясь от холода. Ашер зарядил ружье и стал ждать, пока на берег не выпрыгнет лягушка, в которую он мог бы прицелиться. Но тут же отогнал эту мысль. Он не имел права убивать, он, ископаемый рак, придавленный бременем своей истории, то есть тектоническими слоями воспоминаний. Свое прошлое он оставил где-то далеко-далеко. Здесь, в глуши, на берегу маленького пруда, все было не важно. Голобич, который улегся на решетку стока и шуровал обломанным шестом в воде, молча свесился по грудь в пруд и, изогнувшись, принялся с усилием выдергивать пробку. Над водой с жужжанием промелькнула большая стрекоза, где-то защелкал черный дрозд, и в то же мгновение, когда он наконец выдернул ослабевшую затычку, едва не опрокинувшись на спину, со дна пруда с шумом хлынул и устремился в сторону леса поток бурой, грязной воды. Голобич поспешно выбрался на берег. В одной руке он сжимал обломанные грабли, в другой — большую деревянную пробку со стальным кольцом. От налипшей земли и влаги пробка позеленела, если местами не почернела, кольцо заржавело. Голобич уложил под перемычку на дно голый, без веток, тяжелый сук, а потом нарубил сосновых лап и воткнул их в землю перед стоком, чтобы они пропускали воду, но удерживали рыб.
Тут Ашер заметил, что к ним подходит молодой парень в шляпе, с сигаретой в зубах. Он молча встал рядом с Ашером и уставился в пруд. Голобич спросил у него, не хочет ли он пострелять, и тогда парень взял у Ашера ружье, зарядил его и поискал, во что бы пальнуть. Из древесной кроны выпорхнула стайка птиц. Парень тщательно прицелился, но, когда он выстрелил, ни одна птица не упала. Он положил ружье на джутовый мешок. «Без дроби в птиц разве попасть», — вынес он суждение. Он еще постоял немного, а потом направился к холму, за которым, как он сообщил, стоял его трактор. Голобич подождал, пока он не исчезнет из виду, потом оделся и показал Ашеру, как обращаться с пистолетом. Объяснять дважды ему не пришлось. Ашер на пробу пострелял по листьям, веткам и метелкам травы, после чего они по нескошенному лугу поднялись на холм. Голобич нес грабли и косу, Ашер — мешок с оружием. На лугу они нашли скорлупу фазаньего яйца. Лучи света, пробиваясь сквозь кроны деревьев, чертили на земле причудливые узоры.
Когда они вернулись на ферму, во дворе никого не было. Голобич прислонил косу и грабли к колонке. На стрехе Ашер заметил поблескивающую паутину и с удивлением ощутил, как далеко ушла от него вся его прежняя жизнь.
4
Несколько дней он не выходил из дома. По утрам в оврагах между холмами, видневшимися из его окна, клубился туман, превращая их в ледники. Иногда туман быстро рассеивался, иногда сильнее сгущался. Когда его пронизывало солнце, он ослепительно сиял, словно пар над плавящимся железом, а потом вновь редел, оборачиваясь молочно-белой прозрачной пеленой. Однажды он обнаружил у входной двери фасолевую плеть на подпорке, кем-то прислоненную к стене. Листья фасоли почти побурели, стручки пожелтели и пожухли. Казалось, все, что его окружает, порождено сияющей, почти прозрачной дымкой тумана, окутывающего луга и опушку леса. Он назвал их «туманами докембрия». Как-то раз он вышел из дома, вернулся с горстью листьев и положил их под микроскоп. Одни были желтые, в светло-коричневых крапинках, словно кожа ящериц или змей, другие — просто пожухлые и бесцветные, и потому похожие на пергаментные листы старинных фолиантов, иные — желтовато-белые или бурые, как табак, некоторые свернулись в трубочку, не успев опасть с веток, а некоторые уже успели полежать на земле, черные и прелые. Потом он какое-то время просто стоял в комнате и разглядывал их. Внезапно все показалось ему бессмысленным. Что же это за жизнь, без жены, без дочери… Он сел за микроскоп. От одного листа остался лишь скелет — разветвленные прожилки. Положив его под микроскоп, он вдруг вспомнил, как в свое время препарировал листья. Он нашел флакончик цапонового лака, нанес лак на лист, а потом, когда лак подсох, надрезал лаковый слой бритвой. Он взял острый пинцет, оттянул тонкую пленку лака с поверхности листа, положил лист на предметное стекло и закрыл покровным. Ему вновь почудилось, будто он заглянул в какую-то невероятно далекую эпоху. Для этого листа он, наверное, — окаменевший головастик, склоняющийся над ним и разглядывающий его сквозь линзы. А как бы он сам воспринимал ход времени, будь он, допустим, обычной мошкой? Какие зоны вечности взирали на него, когда он разглядывал рыбу? Он вспомнил летящего фазана: как же для фазана идет время, быстрее или медленнее, чем для него? Несколько месяцев он изучал микроскопических животных и растения в капле пресной воды. Всюду обитало бесконечное множество микроорганизмов, каждый из них существовал в своем собственном времени и ничего не знал о других эпохах. Может быть, и он — такое же крошечное одноклеточное, мельчайшая частица куда более сложного организма, и никогда не узнает, что это за организм и тем более никогда не сможет его постичь. Хотя он имел представление о том, что Земля вращается вокруг своей оси и летит сквозь космос, он никак этого не ощущал. Он никак не чувствовал течение космического времени, разве что течение своего собственного, личного, да и то не в полной мере. Значит, нельзя исключать, что он — часть некоего гигантского организма и что сам этот организм пребывает в движении. А если это Бог?
Он перестал убираться в доме. В пакетах для мусора скапливались консервные банки, упаковки из-под сардин, смятая алюминиевая фольга, в которую были завернуты галеты. Мухи жадно облепляли любую оставленную без присмотра еду, даже крошечный кусочек хлеба. По ночам шуршали мыши. Под деревянными перекрытиями потолка обитал какой-то зверек, по ночам он скребся, царапался и посвистывал. Кто это мог быть? Птица? Крыса? Места в этом доме хватало всем. Он попробовал было молиться, но потом решил, что молиться вот так, тайно, спрятавшись, — трусость. На суде все были убеждены, что ответственность лежит на нем одном. А ему постоянно казалось, что речь о ком-то другом, не имеющем к нему никакого отношения. Под конец у него хватало сил только удивляться, как же все просто. Но это ощущение простоты происходящего не покидало его только на суде, потом он вновь стал чувствовать течение времени. Взаимосвязь событий теперь распалась для него на отдельные поступки, а тогда, на суде, им придали какой-то смысл только задним числом, сами-то они были вполне бессмысленны. Вправду ли он был виновен? Он больше не верил, что обладает свободной волей.
Он вышел на улицу. У стен соседних домов громоздились поленницы дров. На обочине цвели дикая ромашка и пижма. Потом он разглядел над лугами колеблемые ветром пушистые светло-коричневые шарики — плоды уже отцветшей ястребинки. Широкие зеленые листья кормовой свеклы источили черви. На дороге виднелись оброненные початки кукурузы, и теперь он замечал все больше жнивья меж кукурузными полями, уходящими за горизонт. К стене одного крестьянского дома кто-то прислонил два отслуживших свое откидных стула из кинотеатра, с поднятыми черными сиденьями: на одном красовался крупный номер «сорок девять», на другом — «пятьдесят». Он двинулся вниз по склону, в деревню. По дороге он еще раз остановился посмотреть, как крестьянин с женой и сыном убирают кукурузу. Неочищенную кукурузу укладывали в ряд на борозде, а початки были навалены стогом. Они заметили Ашера, но не подали виду, а как ни в чем не бывало продолжали сре́зать стебли серпами. Шуршали кукурузные листья. Они обрубали стебли у самой земли, так что оставалась только коротенькая желтая стерня, связывали их в пучки и укладывали на борозде. Крестьянин на минуту прервал работу, сбросил куртку на краю поля, взял кувшин с молодым вином и отпил глоток, не выпуская из другой руки серп. Сын был в резиновых сапогах и бейсбольной кепке с рекламой какой-то строительной фирмы. Все, что они делали, казалось Ашеру правильным и уместным, и только он бродил тут неприкаянно, чуждый всему, что видел. Он не мог ощутить себя частью этой жизни. Кудахтали куры. У деревянного сарая выпятили пузо две бочки с красными крашенными стальными обручами. Луг вокруг кукурузного поля весь зарос клевером. Во дворе фермы на веревке между деревьями развевались штаны, подвешенные за штанины, порхали на ветру рукава рубах. Дом окружали яблони, голые, уже безлистные, но кое-где на ветвях еще висели яблоки. Под некоторыми яблонями в землю были вбиты доски, чтобы опавшие яблоки не скатывались в овраг. Там и сям под яблонями сидели на корточках женщины и дети, собирали яблоки в жестяные ведра, а потом высыпали их в прозрачные пластиковые мешки. Когда он добрел до Вуггау, один из крестьян, с которым он познакомился на охоте, догнал его на тракторе и предложил подвезти. За те пять минут, что он трясся по ухабам в кабине рядом с водителем, Ашер успел узнать, что глава окружного отделения Народной партии выступает с предвыборным обращением к избирателям и что поэтому сегодня в трактире будет тесно. На обочине ветер шевелил пучки высоких трав, их семена просвечивали на солнце, как стекло. Двор трактира заполонили тракторы, мопеды и машины, припаркованные под деревьями. Дорожки деревянного, полусгнившего кегельбана вместо шаров усеивали паданцы. Один из длинных трактирных столов был покрыт дырявой бело-зеленой клетчатой скатертью. Повсюду громоздились батареи пустых бутылок из-под лимонада. Вслед за своим попутчиком Ашер двинулся в соседнюю комнату, полную народу. Крестьяне сидели в расстегнутых куртках, а на их бархатных жилетах с круглыми оловянными пуговицами красовались яркие цветы, вышитые блестящими шелковыми нитками. Он протиснулся на свободное место. Справа от него сидел пожилой человек с подстриженными усиками. Лицо у него было выразительное, все в морщинах, он курил сигарету в деревянном полуобгоревшем мундштуке. Ашер едва успел сесть, как депутат от Народной партии вошел в комнату и был представлен присутствующим самим бургомистром. Пес трактирщика лежал под передним столом и мирно спал. Из хлева глухо доносились не то вздохи, не то шорохи, не то мычание. Сначала политик перечислил, что земельное правительство сделало для деревни. Разве оно не начало укреплять русло Заггау? Прежде, слушателям и самим это прекрасно известно, река весной часто выходила из берегов и затопляла не только поля, но иногда даже и крестьянские дворы. Но глава правительства земли с некоторых пор предпринимает меры для укрепления ее русла, так что вскоре исчезнут все основания для опасений. Кроме того, проводится асфальтирование дороги между Гассельдорфом и Вуггау, и, как он убедился лично, половина работ уже завершена. Ашер внимательно разглядывал оратора. Всю свою жизнь, произнося публичные речи, он мучительно боролся с ощущением, что вещает заведомую ложь. Ему казалось, что любое случайно вкравшееся противоречие разоблачает его обман. Но этот оратор, по-видимому, не испытывал решительно никаких сомнений, и потому Ашер искренне завидовал ему. Между тем кандидат зачитал заслуги земельного правительства и стал резко критиковать политику правительства федерального.
— Разве оно не повысило уже существующие налоги и не ввело новые? — вопрошал он. — Разве не возросла стоимость жизни, и разве фермеры не получают за свой труд все меньше и меньше? А государственный долг тем временем растет.
— А что принесла такая политика крестьянам? — спросил он наконец.
Он порылся в своих бумагах и полистал заранее заготовленные записи.
— А кому хуже-то стало, чем раньше? — вдруг спросил сосед Ашера, вынув изо рта сигарету.
Депутат оторвался от бумаг и поискал глазами того, кто осмелился его перебить.
— Вы спрашиваете, кому стало хуже? — Он неодобрительно оглядел усомнившегося. — Вот вы, крестьянин, разве проживете на доходы от своей сельскохозяйственной продукции? Разве вы не вынуждены искать дополнительный заработок, чтобы содержать ферму?
Депутат отдавал себе отчет в том, что вступает в дискуссию, чреватую для него провалом, ведь и Народная партия никак не сможет улучшить положение крестьян. Поэтому он быстро сменил тему и снова обратился к собравшимся:
— Я знаю, как высоко здесь, на селе, ценят и как трепетно берегут еще не родившуюся жизнь. Но какую позицию заняли по этому вопросу социалисты? Они полагают, что до наступления четвертого месяца беременности человеческой жизнью можно распоряжаться как угодно! А вот Народная партия, напротив, стремится защитить человеческую жизнь в любом возрасте и в любых проявлениях!
— Пусть каждая сама решает! — громко вмешался сосед Ашера, однако на сей раз депутат не удостоил вниманием его слова.
— Глава земельного правительства, — продолжал он, — поручил мне поприветствовать вас от его имени. Он просит отдать за меня ваши голоса.
С довольным видом он стал складывать свои бумаги, дожидаясь аплодисментов. Рядом с ним откуда ни возьмись появился молодой фотограф и стал снимать на «полароид» всякого, кому депутат пожимал руку.
Разговаривая с женой по телефону из трактирной кухни, Ашер наблюдал, как депутат садится в лимузин и опускает стекло. Его шофер развернулся, осторожно маневрируя между тракторами, и быстро укатил, взяв курс на федеральную трассу.
Пообедав, он отправился в обратный путь. Дверь пожарной части пестрела еще целыми и уже полу оборванными плакатами. Над дверью виднелось окно с распахнутыми ставнями. На глазах у Ашера в окно влетела какая-то птица и исчезла в сумраке пожарной каланчи. Чуть дальше на карнизе крестьянского дома созревали помидоры. В подвальном окне сидела кошка, рядом лежали ржавые клещи. В этих простых картинах он ощутил привкус вечности, и они показались ему невыразимо трогательными. Там, где крестьянин с женой и сыном убирал кукурузу, уже возвышались пирамидальные кукурузные стога. Он пришел в дом вдовы и уселся в горнице. Жилые помещения у вдовы были устроены прямо над хлевом. Из окна открывался вид на кусты красной смородины, росшей на склонах холма. Ближе к дому росли высокие вишни и груша, под грушей стояли стол и скамейки. Вдове было около шестидесяти, у нее были мягкие черты лица, серо-голубые глаза, черные волосы и пухлые губы. Ашер стал смотреть, как она готовит на белой, выложенной кирпичом плите. Над духовкой спали кошки. Собаки забежали в дом и облизали Ашеру руки. Вдову звали Юлиана Эггер. Ее муж более десяти лет тому назад умер от силикоза. Работал горняком в Томбахе, сказала она. В Томбахе было месторождение каменного угля, не так давно весь уголь кончился, и рудник закрыли. Горнякам приходилось вырубать уголь, лежа на животе в низких штольнях. После смерти мужа она осталась одна с тремя детьми; дочка потом вышла замуж, один сын работает пекарем, другой помогает ей управляться на ферме.
Он выпил стакан вина, который налила ему вдова, и спросил, может ли он у нее столоваться. Вдова согласилась. Потом он купил у нее пяток куриных яиц, и она завернула яйца в газету.
Овраги чередовались с рыбными прудами. Ему опять пришли на ум крошечные животные и растения, живущие в этих маленьких прудах, словно подвешенные в воде прозрачные одноклеточные, сине-зеленые и золотистые водоросли, простейшие, пресноводные губки, мшанки и коловратки. Сколько же их он пересмотрел в объективе микроскопа! Из солнечников ему особенно запомнился солнечник обыкновенный с кругленьким тельцем, который отдергивал ложноножки при любом прикосновении и питался инфузориями и десмидиевыми водорослями. С удивлением он наблюдал в микроскоп, как солнечники захватывают добычу своими прозрачными ложноножками и обволакивают ее всем телом. А теперь он смотрел, как по небу плывут полупрозрачные, сероватые облака. Над горами облака образовали сплошной мягкий, вздымающийся пологими холмами покров, сквозь который просвечивали лучи нежно-розового заката, и на его фоне горы на горизонте выделялись темно-синими силуэтами. Он вошел в дом, поднялся на чердак и забрался в постель. Зверек за деревянными перекрытиями снова ожил и принялся скрестись, и у Ашера даже потеплело на душе. Потом ему пришло на ум партийное собрание, и он автоматически припомнил крестьянина, который сидел рядом с ним. Вот уж кто верил в жизнь.
5
На следующий день, ближе к вечеру, в дверь постучали. На пороге переминался с ноги на ногу человек с носом, как подумалось Ашеру, похожим на птичий клюв, — явно сломанным, и сломанным не однажды. Тоненьким голосом, заикаясь, он попросил Ашера пойти вместе с ним к умирающему старику, который жил по соседству. Ашер согласился.
Старик этот якобы ни разу в жизни не бывал у врача. «Н-н-никаких врачей!» — заикаясь, выдавил из себя гонец. Ашер рассовал по карманам ампулы и шприцы и двинулся следом за пришедшим. Неужели они догадались, кто он? Неужели они знают? Небо было голубое, солнце ослепляло. Ашеру почудилось, будто его внезапно разбудили от глубокого сна. Когда пришел заика, он сидел в кухне и читал. Только теперь он заметил, что дует сильный ветер и гонит по небу белые облака, тени которых скользят по холмам. Одни холмы, луга, дома, деревья купались в солнце, другие на мгновение окутывала тень, словно от пролетающей в небе огромной птицы. Заика придерживал шляпу, Ашер бежал за ним, точно неотступно преследуя. Ему казалось, будто его, беспомощного, подхватывает и уносит порыв того ветра, что раздувал полы его куртки, чуть не выворачивая наизнанку, ерошил волосы, и так на всем пути в лес. С деревьев уже облетела почти вся листва, и потому казалось, что в лесу светлее, чем прежде. В овраг свалили яблочный жмых, оставшийся после выжимки сока, — подкормить лесную дичь. Дальше они шли полем. Заика обернулся и, вытянув руку, показал ему дом. Ашер кивнул. Он смотрел под ноги, чтобы не оступиться на мягкой земле, и сильно запыхался. Бегать он отвык, и ему мучительно не хватало воздуха. Заика отворил железную дверь. Ашер заглянул в темную комнату. Ее скудно освещали два маленьких оконца. Привыкнув к сумраку, Ашер понял, что его привели в кухню. В углу возвышался покрашенный в синий цвет шкаф, буфет тоже был покрашен синей краской. С потолка свисали гроздья кукурузных початков. В постели лежал исхудавший старик с пышными седыми усами и длинными, расчесанными на пробор волосами. Челюсть у него отвисла, взор невидящих глаз был устремлен в пустоту. Ашер подошел поближе и увидел круглые, кое-как замотанные проволокой очки на краю стола у постели. Священник как раз собирал все, потребное для причащения. Это был человек среднего роста, с крючковатым носом, придававшим его облику неприветливость и враждебность. Губы у него были тонкие, выражение глаз за стеклами темных очков различить не удавалось, волосы растрепаны то ли ветром, то ли еще после сна, а лицо непроницаемое, словно маска. Ботинки у священника скрипели при каждом шаге, а серый костюм настолько истрепался, что ткань на обшлагах и на локтях выцвела. На лице его застыла какая-то странная гримаса — не то вызова, не то просто усталости. Однако Ашер не мог избавиться от ощущения, что вызывает у священника непреодолимую неприязнь. Неужели он о нем что-то знает? Остерегается даже вступать с ним в разговор? Или это он всегда такой, угрюмый от природы? Священник поспешно вышел из дому с робкой, едва заметной улыбкой, словно за что-то прося извинения. Ашер подошел к умершему и закрыл ему глаза. Лицо у покойного было удивленное. На стене висел коврик, а к нему была приколота фотография, запечатлевшая покойного солдатом во время Первой мировой войны. Форма висела на нем мешком, кепка смялась, над одним из нагрудных карманов красовался орден. «Он никогда не выглядел молодо, — подумал Ашер. — Наверное, у него не было времени побыть молодым. Работа иссушила его еще в юности». На другой фотографии умерший был запечатлен среди крестьян в черных бархатных шляпах с зелеными лентами. К нему прильнул обритый наголо мальчик в кожаных штанах. Между кромкой штанов и гетрами у него виднелся белый краешек подштанников. Висела на стене и свадебная фотография покойного. На ней он был запечатлен с женой на опушке леса. Усы у него были молодцевато закручены, он щеголял в широкополой шляпе и белой рубашке, на шее у него был завязан бант, под расстегнутой курткой поблескивала цепочка от часов. Жена позировала, взяв его под руку. В платье до пят, с серьезным выражением лица, она держала завернутый в бумагу букет астр. Справа и слева, как часовые, стояли двое мужчин в шляпах, белых рубашках и с усиками. Но самым удивительным Ашеру показался маленький столик на высоких ножках, на котором перед новобрачными лежала какая-то книга. Ашер наклонился над покойным, чтобы рассмотреть ее название, но и вблизи не сумел ничего разглядеть. Кроме фотографий, на ковре висели в рамочках военные награды, в том числе железный крест. Только тут Ашер заметил, что в комнату вошла женщина. Она открыла шкаф и принялась в нем рыться. Тотчас появилась еще одна, пожилая, женщина, но, увидев Ашера, замешкалась на пороге. Первая была высокая, стройная, седовласая, в большом узорчатом переднике, вторая — совсем крошечная, вся в морщинах, словно печеное яблоко. Постояв в дверях, она робко подошла к шкафу и стала принимать вещи, которые передавала ей первая: простыни, одежду, одеяла, какие-то футляры, гребни, щетки.
— Не желаете присесть? — спросила маленькая.
Ашер покорно сел.
— Он вместо врача пришел, — пояснила та, что помоложе.
— Вы ветеринар будете? — осведомилась старшая.
— Нет, биолог.
— Ах, вот оно что, — быстро подхватила старшая. — Позволите вам стаканчик винца предложить?
— Нет, я не пью.
— Ну, маленький.
— Нет, спасибо!
— Уж и самый махонький стаканчик с нами не выпьете?
Старуха свалила вещи в ноги покойнику и достала из комода двухлитровую бутыль вина. Ашер перестал сопротивляться и принял полный стакан.
— Штаны еще крепкие, — констатировала младшая. — Нам сгодятся. И рубахи еще хоть куда.
Крестьянки совершенно не церемонились, однако младшая, видимо, догадалась, о чем он думает:
— Мы этот дом взяли в пожизненную аренду. Всем пришлось жить в одной комнате. Шкаф открывать он нам не разрешал. Вон в той постели спали мы с матерью, в этой — он. Вечно к нам приставал, что к матери, что ко мне, ему было все едино. Окочурился наконец.
Она вытащила из шкафа какую-то жестянку, чуть-чуть приоткрыла ее и заглянула внутрь.
— Нашла, — удовлетворенно заявила она.
Обе крестьянки вышли, закрыв за собой дверь. Ашер снова посмотрел на покойного. В стариках его восхищало то, что они сумели выдержать так долго. Ему казалось, что под старость человек уже в безопасности. Он встал, сложил платок и подвязал покойнику челюсть. Раньше смерть всегда изгоняла его из комнаты умершего, теперь он впервые остался с покойным. Мертвый, этот маленький, иссохший, измученный жизнью крестьянин уже не вызывал ужаса. Он словно излучал тишину. Ашер вылил вино обратно в бутыль. Ему чудилось, что покойный примирился со всем миром. Разве теперь его терзают грехи? Отягощают слабости? Он забрал их с собой. Здесь лежит лишь его оболочка, бремя, которое он нес всю жизнь. Женщины вернулись и поставили жестянку в шкаф. Теперь они переговаривались вполголоса.
— Гроб мы в старом доме поставим, там он хоть не будет никому мешать, — решила младшая. — Я спрошу, разрешат нам поставить там гроб или нет.
Старуха промолчала.
— Не можем же мы тут с ним вместе, в кухне, три ночи подряд спать, а в комнате тесно.
— Смотри-ка, выпили, а сперва не хотели.
— Да, — откликнулся Ашер.
Он попрощался с женщинами за руку и вышел из дому. Свежий холодный ветер ударил ему в лицо.
Вечером того же дня ему встретились женщины и заика, который приходил к нему днем. Они везли гроб на тракторном прицепе.
— Куда вы его? — спросил Ашер.
— В старый дом. А послезавтра перед похоронами обратно перевезем.
Трактор свернул с дороги, гроб соскользнул с прицепа, водитель выругался. Женщины не подали виду. В солнечном луче, словно парящие в воздухе крошечные пылинки, кружились мошки. Он разглядывал следы тракторных шин, глубоко отпечатавшиеся на пашне. Теперь солнечный свет казался ему мягким, рассеянным, утомленным. Ветер стих. В поле стрекотали кузнечики, а когда он двинулся к лесу, облака предстали ему языками пламени, охватившего кроны деревьев. Он зашагал быстрее. Внизу, в широкой лощине, за кукурузным полем сгущался туман. Из большого школьного автобуса, который медленно, вперевалочку, проезжал мимо, ему помахали дети. Дорогу, которая вела отсюда в Санкт-Ульрих, словно перья, испещряли кукурузные обертки.
В зале, обшитом деревянными панелями, сидели местные крестьяне и играли в карты. Не прерывая игры, они подняли глаза, по-видимому, любопытствуя, что он станет делать. Ашер нашел место за одним из столиков. К стене рядом с распятием было прислонено меню и синие картонки с рекламой пива. Тут он заметил, что в зале сидит и тот крикун, что мешал депутату на собрании. Стемнело. Его удивляло, что никто не испытывает к нему и тени недоверия. Не успел он об этом подумать, как фермер, которого он видел на партийном собрании, повернулся к нему и произнес:
— Вы нас не знаете, но мы за вами постоянно наблюдаем, даже если вы этого и не замечаете. Не воображайте, будто мы тут такие недотепы. Глаз у нас острый, хоть куда.
Ашеру стало не по себе. Что этот человек мог о нем знать? Что он от него хотел?
— Сегодня вас позвали к умирающему, — продолжал крестьянин. — Пару дней тому назад вы были на фазаньей охоте… А я вас, кстати, еще и на собрании Народной партии видал… Все, кто сюда приезжает, думают, нам и невдомек, чем они заняты… Они могут в одиночку бродить по лесам, и мы об этом знаем… По какому бы лугу, по какому бы полю ни прошли, — и это нам будет известно…
Насладившись изумлением Ашера, фермер кивнул и затянулся сигаретой.
На следующее утро Ашер написал письмо жене, а потом спустился в низину. Издалека донесся петушиный крик. Войдя в старый дом, он понял, что дом заброшен. Комнаты, в которые можно было заглянуть сквозь дверной проем, стояли пустые, без всякой мебели. Сорванные ставни лежали на полу. В задних комнатах у покрытой трещинами оштукатуренной стены валялись соломенные циновки. В кухне, преклонив колени у гроба, читали молитвы те две крестьянки, рядом, держа кепку в руке, стоял какой-то мужчина. Как только Ашер вошел, все с любопытством посмотрели на него. Гроб с покойником установили в заброшенном доме, где даже дощатый пол провалился. В доме еще сохранились кое-где на стенах клочки обоев, черных, как и деревянные балки под потолком, и тоже сплошь в желтеньких цветочках ручной росписи. Там, где обои были сорваны, к стене канцелярскими кнопками прикололи оберточную бумагу. Под ногами у него похрустывало битое стекло, по углам валялись газеты, в глубине комнаты ютился трехногий стул. Мертвые унесли с собой все, словно исчезли в глубине прошлого со своим скарбом. Ашеру казалось, что эта необратимость ухода и безразличие к оставленному миру исполнены достоинства. В комнате стояла заржавевшая железная печка, на которой когда-то разогревали корм для свиней. Повсюду валялись ящики, сколоченные из грубых деревянных досок, — в них раньше держали кур. Комнату с покрашенным белой краской деревянным потолком заливало солнце. Стены в комнате были желтые, в красных узорах, оконные ниши затянуты паутиной. Сюда долетали шорохи извне, под окнами росла сирень. Бо́льшую часть кухни занимала выложенная кирпичом заброшенная печь, на которой сидел чей-то ребенок. Все, что Ашер знал о мертвом, — это то, что он отжил свое, а он, Ашер, все еще запутался в собственной жизни и она крепко его держит.
Возле дома остановилось стадо, и Ашеру пришлось проходить между коровами. Под деревом осыпались сливы, издалека казавшиеся синим пятном в траве. Над ними жужжали пчелы. Тут Ашер заметил, что за ним кто-то бежит.
— Подождите! — крикнул человек в кепке, помахав рукой.
— Ничего страшного, так, пустяки, — пояснил он, поравнявшись с Ашером. — Вы ведь врач? Я слышал, вы доктор.
— Нет.
Ашеру стало стыдно. Ну почему он не отделается от этого настырного типа? Он знал, что солгав, только сильнее запутается, но ничего не мог поделать. Он даже заметил, что лжет вроде помимо собственной воли.
— Я хожу смотреть на всех покойников, — сообщил крестьянин и, нимало не смущаясь, зашагал рядом с Ашером. Вероятно, он всего-навсего хотел поболтать. — Я еще ребенком ходил смотреть на всех покойников, даже в дальние деревни. Если вечером слышал, что кто-то умер в округе, всю ночь от волнения не мог глаз сомкнуть… А на следующий день шел посмотреть.
Он был небольшого роста, с набухшими мешками под глазами, а так как сами глазки были маленькие, то лицо его казалось отечным. Он носил усики. Сообщив что-либо, он ненадолго замолкал, чтобы повторить сообщение задумчивым тоном. Подниматься по склонам холмов и снова спускаться в лощину было утомительно. Ашер то видел холмистый ландшафт сверху, то снова взбирался в гору, так что ему чудилось, будто он бредет прямо в толщу облаков, нависших над вершиной холма, ясно различая только свои ступни, камни на дороге или силуэт своего попутчика, то есть только то, что находилось поблизости. Но тотчас же перед ним открывался вид на всю широко раскинувшуюся местность, на холмы со смородиновыми кустами и низенькими, приземистыми крестьянскими домиками, на островки смешанного леса и луга́, — вплоть до высокой горы, возвышавшейся в дымке на горизонте. Он заметил, что крыша его собственного дома распласталась пологим черепашьим панцирем, словно дом приготовился встретить нападение зимы.
— И на самоубийц я ходил смотреть, — продолжал его попутчик, — вроде братца сегодняшнего нашего покойника… Он взял веревку, да и пошел в лес, — заключил он, остановившись, — то ли для того, чтобы заглянуть Ашеру в глаза, то ли для того, чтобы перевести дыхание. — Но не успел веревку на сук накинуть, как его поймали и силой притащили домой. Там на него навалились брат, которого завтра хоронят, и батрак, и удерживали, пока он совсем не выдохся и не утих. Они подождали, пока он не уснет, а потом сами легли спать. А на следующее утро хватились, ан глядь! — а его в кухне и нет. Сначала кинулись на гумно, посмотреть, не там ли. Пока жандармы не приехали, он так и висел, трогать-то они его не решились… — продолжал попутчик.
Перед ними теперь раскинулся широкий, пустынный луг, сбега́вший по покатому склону холма в низину, тянувшийся по дну низины, потом взмывавший на другой, крутой склон и обрывавшийся у самого крыльца Ашера. Оттуда открывался вид далеко на юг, и по вечерам Ашеру казалось, будто там, на юге, простирается волшебная страна, не нанесенная ни на одну карту. Его попутчик не обращал внимания на эти красоты:
— Вечером виноградарь, как у нас называют батраков, побрил покойника и так ему лицо изрезал, что его нельзя было и показать. А потом, обмыв и одев покойника, распустил слух, что он-де, хотя и повесился, не обмарался, и оттого всякие сплетни пошли в народе. Потому-то родные покойника и запретили ему идти на похороны, — добавил он.
Тут навстречу им попался отец соседа, — в черных наушниках и в шляпе, он толкал тачку. Он было притворился, что их не замечает, но, поравнявшись с ними, все-таки слегка улыбнулся. Между тем Ашеров попутчик почтительно стянул картуз и молча подождал, пока старик не скроется из виду, чтобы потом продолжить без помех.
— У него, у покойника-то, — пустился в подробности любитель похорон, — вся родня умерла не своей смертью, прямо страх берет.
Две дочери, когда забеременели невенчанные, отравились (он употребил выражение «сами себя окормили»), потому что их любовники сказали, мол, знать вас больше не знаем. Одна от боли несколько дней перед смертью кричала, не умолкая. Он помогал отнести ее в Вуггау, тогда ведь ни проезжей дороги не было, ни машин таких, чтобы до них можно было добраться. Два дня спустя она умерла. Теперь Ашер мог разглядеть вишневые деревья за домом, окутанные дымкой увядающих листьев, ярких, точно перья желто-алой райской птицы. Он свернул с дороги на луг и прямо по лугу, наискосок, направился к дому. Попутчик не отставал.
Началось, мол, все с того, продолжал он, что отец покойного спятил. Никому и невдомек, отчего бы это. Якобы он повсюду носил с собою все свои деньги. Все никак не мог решиться, то ли ему их в банк положить, то ли схоронить где в доме. Как-то раз хватился, — а денег-то как не бывало.
— Кто говорит, он их потерял, кто говорит, их у него украли, — горячился попутчик.
Ашер нагнулся поднять гнилое яблоко, вокруг которого на земле образовались белые круги плесени.
— Я вам надоел? — вдруг спросил попутчик.
Ашер заметил, что он задал этот вопрос, только убедившись в том, что сумел его заинтриговать.
— Продолжайте, — приободрил его Ашер и пригласил зайти в дом, до которого оставалось недалеко. На плите, выложенной кирпичом, приютились цветочные горшки с полузасохшими геранями.
— В это самое время батрак купил корову, — рассказывал попутчик. — Само собой, фермер стал его подозревать и донес на него в полицию. Его арестовали и продержали в заключении месяц или около того, но улик против него не нашлось, и его снова освободили.
Батрак даже от фермера не ушел, чтобы доказать свою невиновность. Однако фермер пошел к гадалке в Арнфельсе, чтобы узнать, кто же у него украл деньги, потому как никто ему втолковать не мог, что деньги он сам потерял. Гадалка-то ему и скажи, мол, это батрак украл деньги, а он и поверил. В тот же день он повредился умом. С той поры соседу пришлось за ним приглядывать, а не то он в приступах ярости бил и крушил что ни попадя.
— Они, — продолжал попутчик, — целыми неделями держали отца в комнате, запирали, пока он не образумится. А если он пытался просунуть руку между разбитой дверью и дверным косяком, то тесть, который сидел за дверью на стуле, колотил его по пальцам деревянным башмаком. Еду ему приносили в комнату, пока он спал. В конце концов он поутих и обещал вести себя прилично, и тогда его выпустили.
Но не успел он выйти из-под домашнего ареста, как тут же принялся буйствовать пуще прежнего и угрожал убить всякого, кто ему попадется. Тогда окружной врач постановил поместить его в психиатрическую клинику в Фельдхофе. В тот же день с равнины, из Заггау, пешком, — проезжей дороги-то, как я уже сказал, еще не было, — на ферму пришли два санитара. Один нес смирительную рубашку, другой шел себе и покуривал. Увидев санитаров, отец кинулся в сад. Но санитары и в ус себе не дуют, пришли на ферму, потом спросили у сына, который спрятался на сеновале, где отец. Еще осведомились, нет ли у него оружия. Потом попросили чего-нибудь выпить, а потом, завидев отца, бросились за ним. Нагнали его быстро, он кинулся по склону вверх, в яблоневый сад, а сам все кричал без умолку, за ветку зацепился и рубаху порвал, а под конец попытался отбиться от них дубиной. Но санитары быстренько сбили его с ног, скрутили и натянули на него смирительную рубашку. А он все это время кричал, просто надрывался. Но санитарам хоть бы что. Они совершенно хладнокровно его повели, подталкивая перед собой, и так шли лесом, по лугам и полям, пока не добрались до Вуггау, где их ожидала «скорая». Пока они эдак шли, крестьяне на полях отрывались от работы и молча смотрели, как они его перед собой толкают, а он кричит и кричит. Однако санитарам больше ничего не оставалось. За ними какое-то время и дети бежали, пока родители их не окликнули. Никто не плакал, потому что фермера этого не любили, а находились и те, кто над ним смеялся, то ли по глупости, то ли по черствости, а может и так, по привычке.
Ашер заметил паука, который тотчас уполз под листья. Однажды они с Катариной наблюдали, как паук в пустоте плетет паутину. Он приподнял конец брюшка и выпустил длинную шелковистую нить, и ее немедленно подхватил слабый, почти не ощутимый воздушный поток. Нить приклеилась к ветке, паук ловко приземлился на нее и сразу взобрался по нити, как по мосткам. Снуя туда-сюда словно челнок, паук медленно соткал свою паутину. Ашер очнулся от воспоминаний и поднял глаза на крестьянина, прервавшего свой рассказ.
— Не смею вас задерживать, — произнес он и ненадолго задумался.
— Владелец похоронного бюро неплохо на нас нажился, — помолчав, добавил он. — Его все знают, даже в Прединге и Ляйбнитце. У него весь дом, все комнаты и даже коридоры заставлены добром покойников, чего там только нет: и вещи, и инструменты, и приборы, и картины, и безделушки, оружие всякое.
— Странный он человек, — снова помолчав, присовокупил его разговорчивый попутчик.
Потом он задумчиво протянул:
— Да-да…
И заключил:
— Да мне и пора.
И еще немного потоптавшись, ушел.
Паук как раз спрятался в свернувшемся трубочкой сухом листке. Уходя, любитель похорон поднял лист и, бросив на него мимолетный взгляд, раздавил выпавшего паука ногой. Ашеру бросилось в глаза, что он был босой.
Он опоздал к обеду и застал только старую тетку вдовы. У нее было круглое, неподвижное лицо, на котором не отражались никакие чувства. Она была низенькая и проворная. Она никогда не отвечала сразу, поэтому Ашер вечно гадал, расслышала она его или нет. Отвечала она всегда кратко и недвусмысленно, подобно тому как никогда не делала ни одного ненужного движения. После обеда он никак не мог решить, чем заняться дальше.
В палисаднике возле дома Цайнера цвели георгины. На Ашера нахлынули воспоминания. У родителей его жены был маленький садик, в котором они выращивали георгины: желтую «Вирджинию», похожую на большие одуванчики, лилово-розовый «Эйприл доун» и красный, с желтыми кончиками лепестков, «Джескот Линголд». Он вспомнил тещу: она плохо видела, и он по садовым каталогам искал для нее сорта георгинов и заполнял бланки заказов. Из года в год поздней осенью она выкапывала клубни георгинов и, прежде чем весной посадить снова, подсушивала их на чердаке. Из года в год она разводила в саду все новые, пышно разраставшиеся сорта георгинов. Он улыбнулся, глядя на георгины Цайнера и мысленно повторяя знакомые названия: вот алый «Епископ Лландаффский», вот белый, с зеленоватой сердцевинкой, «Твайлайт тайм», вот фиолетово-розовый, больше метра высотой, «Президент Мес»…
Тесть Цайнера, старик с массивной лысой головой и подкрученными усами, нарезавший лучину, посмеиваясь, крикнул ему:
— Георгинами любуетесь?
— Да.
— Женщин разглядывать приятнее, — со смехом откликнулся старик.
В низине с какого-то поля взлетела огромная ворона. Она так быстро исчезла на дереве, что Ашер решил было, что она ему пригрезилась. Во сне самые обыкновенные животные и предметы часто представали ему гигантскими.
Вдалеке он различил очертания санкт-ульрихской церкви — большого, желтого здания с луковичным куполом. Штукатурка на нем осыпалась, и оттого стены казались влажными. В самой церкви играли и шумели школьники. На приалтарном столике лежали пучки салата, тыквы, яблоки и помидоры. Со времен праздника урожая на молитвенных скамьях с пюпитрами висели связки кукурузных початков. Ашер наслаждался собственным одиночеством. Школьники, разгоняясь, скользили по каменному полу, подбегали к церковной двери, смеялись, переговаривались и перешептывались. Ашер не сумел притвориться, будто просто осматривает церковь, когда на самом деле он мысленно молился. Ему оставалось только ждать, когда дети уйдут домой. Посреди церкви на помосте лежал венок, сплетенный из пшеничных колосьев в честь окончания уборки урожая. Когда дети, расшалившись, распахнули дверь исповедальни, он увидел под потолком лампочку без абажура. К скамье канцелярскими кнопками было приколото покрывало, на крючке висела стола священника. Прежде чем дети захлопнули дверь, он успел заметить, что деревянная решетка прикрыта целлофановой пленкой.
На обратном пути он купил несколько мышеловок, а дома, разложив в них в качестве приманки кусочки свиного сала, поставил в кухне и на чердаке. В магазине Голобич не без иронии сообщил ему, что видел в кухне мышей. Когда он вернулся, ящиков для цветов на плите уже не было, — вероятно, Голобич отнес их в погреб.
Он разыскал гистологический атлас. Снова стал рассматривать иллюстрации, но на сей раз не мог углядеть в них ничего необычного, а стоило ему вспомнить о широко раскинувшихся за стенами полях и бескрайних холмах, как собственные мысли показались ему мелкими и ничтожными.
6
Когда он вечером следующего дня вошел в заброшенный дом, с выложенной кирпичом плиты, к его удивлению, спрыгнула лиса, на долю секунды замерла посреди комнаты и уставилась на него. Впоследствии он никак не мог решить, сколько длилось это мгновение. То ему казалось, что лиса едва взглянула на него, то чудилось, что лиса смотрела на него долго, неотрывно, чуть ли не с угрозой. На самом деле, в то мгновение, остановившись как вкопанный и различив в полумраке лису, он испытал одновременно и радость открытия, и страх. Лиса глядела на него молча. Она замерла явно оттого, что Ашер, сам того не желая, отрезал ей путь к отступлению. Большими прыжками она кинулась в соседнюю комнату, одним махом вскочила на подоконник и была такова. Ашер бросился за ней и успел увидеть, как она исчезла в лесу между деревьями. Он подождал, глядя ей вслед, а потом вернулся в большую кухню, где стоял гроб. Какой легкой и изящной показалась ему лиса! Он запомнил ее ярким желто-рыжим пятном, тенью, промелькнувшей перед его очарованным взором. Может быть, она ловила в доме мышей, а может быть, зайца, а может быть, каких-нибудь насекомых. Клыки у нее были как у волка, лапы — короткие и сильные, хвост — густой, почти такой же длины, как и тело. Кирпичная крошка тоненькими струйками сыпалась с потолка, где были порваны обои. На них кое-где еще виднелся узор из цветов, теперь Ашер ясно их различал. Он медленно обошел весь дом. У дверей кухни он наткнулся на незнакомца с густыми кустистыми бровями. Незнакомец с любопытством и с удивлением взглянул на него, а потом, как показалось Ашеру, осторожно, на цыпочках, двинулся в кухню, словно боясь кого-то разбудить.
Ашер направился в магазин, здание которого делила ровно пополам граница света и тени. В скудно обставленном помещении рядом с торговым залом сидели мужчины и женщины в черном, и среди них Ашер заметил Цайнера и крестьянок, с которыми познакомился накануне в доме умершего. Когда он вошел, они с ним поздоровались. Ашер тоже поздоровался и заказал бокал вина. С изнанки витринного стекла виднелась какая-то надпись задом наперед белыми буквами. Ашер с усилием, словно разбирая важную весть, прочитал ее, — это оказалась реклама пива со скидкой. Он прислушался к разговору женщин. Над прозрачными, светло-голубыми горами за окном магазина широкой полосой сгустился туман. Ашеру он чудился то ли застывшим водопадом, то ли пеной белых облаков. В это мгновение он подумал, что мироздание прекрасно и что природа безучастна к человеческим страданиям. Перед магазином теснились машины и мотоциклы малоземельных крестьян, решивших пропустить стаканчик после работы. Они пили пиво из бутылок и задерживались на час, не больше, а потом внезапно начинали торопиться домой, словно вспомнив о чем-то. Поскольку столиков в магазинном кафе было немного, Ашеру пришлось сидеть среди фермеров. Они не обращали на него внимания, но и недовольства не проявляли. Ашер снова посмотрел в окно. Ему нравилось, когда по вечерам небо медленно темнело, а облака по-прежнему выделялись на темном фоне. Когда он собрался уходить, к нему подсел Цайнер.
— Завтра пойдем на фазанов и зайцев, — сообщил он заговорщицким тоном, склонившись к Ашеру. — Если хотите, я за вами заеду… Часиков в семь, если это для вас не слишком рано, — добавил он.
Ашер решил, что, наверное, ни к чему испытывать отвращение к охоте. С фазаньей охотой у него, к его собственному удивлению, были связаны довольно приятные воспоминания. В сущности, на охоте ему тогда было совсем не плохо. Да и Цайнер, кажется, обрадовался, что он пойдет вместе с ним.
— Так что, идете? — спросил он.
— Иду, — ответил Ашер.
7
Среди ночи Ашер внезапно проснулся. На чердаке и за окном, как прежде, царила тьма. Как прежде, поскрипывал пол в доме, посвистывали мыши, но Ашер тут же уловил какой-то другой, посторонний, шорох. Ему пришла на ум мотыга, которую он после первой ночи, проведенной в доме, вновь спрятал под кучей кукурузных початков. Черт, как глупо, подумал он. Какое-то время ему казалось, будто он различает шаги, но потом понял, что это всего лишь кто-то шуршит и скребется за деревянными перекрытиями. Как легко было начать молиться в минуты страха и одиночества! От стыда он вскочил с постели, включил карманный фонарик и огляделся. Из ящика стола он достал пистолет и переложил его под подушку. Он зажег свет, постоял у запертой чердачной двери и, снова выключив свет, лег в постель. «Если бы кто-нибудь сейчас меня увидел, я бы сгорел со стыда», — подумал он. И тут же заснул.
Свет утренней зари показался ему спасением. Кукарекал соседский петух, где-то поблизости ровно и глухо ворчал работающий мотор, только и всего. Рубашка, всю ночь провисевшая на спинке стула, была такой холодной, что ее прикосновение к коже вызывало дрожь. Когда он вышел на порог и перед ним открылся вид на фруктовый сад и начинавшийся за ним овраг, ему почудилось, что у него впереди еще целая вечность. Ашер пошел по дороге. Еще до поворота на шоссе ему навстречу выехал «опель» Цайнера, и он сел в машину.
В ногах под сиденьем свернулась легавая — серая, в бурых пятнах. Вид у Цайнера был усталый, глаза воспалены, за спинкой заднего сиденья лежали два ружья.
«Ну, что, совсем проснулись?» — спросил он, не ожидая ответа. Он включил стеклоочистители — протереть запотевшие стекла. Они подъехали к окруженному хозяйственными постройками дому, во дворе которого их уже поджидал старик. На нем был зеленый охотничий костюм, перепоясанный увесистым патронташем, шляпа, в руках он держал дробовик. Губы у него были синие, дышал он хрипло и прерывисто, как астматик. Ашер уступил ему переднее сиденье, а сам скорчился на заднем. Теперь в спину ему упирались ружья, а старик положил ему на колени дробовик и патронташ. Ашер не имел ничего против ружья. Его собственное ружье по-прежнему сторожило чердак. Он пообещал себе его спрятать, а заодно где-нибудь схоронить мотыгу. А если Голобич начнет их искать? Что он тогда ему скажет? Нет, уж лучше не трогать мотыгу, оставить ее там, где лежит. Но ружье он перепрячет так, чтобы можно было до него дотянуться, не вставая с постели. Свое ружье ему хотелось убрать куда-нибудь с глаз долой, а вот держать ружье старика ему почему-то, как он заметил, даже нравилось.
Машина, дребезжа, поползла вверх по склону холма, и старик сказал, что хозяин продуктового магазинчика из Заггау довезет его на своем грузовичке до опушки леса, а там он подождет загонщиков. Если окажется, что загонщики ушли, не дожидаясь его, торговец повезет его к следующей партии.
В долине они покатили мимо низеньких домиков и далеко отстоящих друг от друга сараев, на стенах которых виднелись предвыборные плакаты. Ашер вспомнил, что в следующее воскресенье выборы. Он молчал, его попутчики тоже не проронили ни слова. Наконец, в лощине за украшенной фресками капеллой, они подъехали к длинному крестьянскому дому. Цайнер затормозил и, вылезая из машины, разговорился с охотниками, которые поджидали его между грудами тыкв. Ашер передал им через окно ружья и, согнувшись в три погибели, выбрался с заднего сиденья. На стене капеллы прямо перед ним возвышалась фигура святого Флориана, который окатывал водой из деревянной бадьи горящий дом. Он двинулся вслед за Цайнером, и, не успели они присоединиться к охотникам, как кто-то сунул ему в руки стакан со шнапсом, и он, отпив глоток, передал его дальше. Легавые охотников тявкали, рыли землю, натягивали поводки, виляли обрубленными хвостами. Ашеру снова бросились в глаза массивные патронташи, стягивавшие животы охотников. На сей раз охотников собралось человек пятьдесят-шестьдесят, больше, чем в прошлый раз. Ружья они повесили на левое плечо стволами кверху, стояли покуривая и неспешно беседовали. Сам распорядитель охоты переходил от одной небольшой компании к другой, приветствуя вновь прибывших рукопожатием, а хозяин фермы, высокий седой старик в деревянных башмаках, стоял на пороге и с ничего не выражающим лицом посматривал на собравшихся. Время от времени кто-нибудь из охотников здоровался с ним, и тогда он едва заметно пятился, отступая в сени, где за его спиной прятались двое детей. На крышах ворковали домашние голуби.
— У вас что, ружья нет? — спросил высокий, полноватый человек со спаниелем на поводке.
— Я только так, пришел посмотреть.
Внезапно Ашеру показалось, что в тоне охотника он различил скрытую враждебность. Наверняка все дело в том, что он и одет не по-охотничьи, и ружья у него нет. Его собеседник тем временем медленно направился к распорядителю охоты и принялся что-то с ним обсуждать.
Пока толстяк что-то говорил распорядителю, тот смотрел на Ашера, но не произнес ни слова.
Цайнер присоединился к загонщикам, державшим собак на сворке, а Ашер, пока остальные охотники зашагали к близлежащему лесу, чтобы оцепить его, остался с десятком других, сам не зная толком, что делать.
Они подождали, пока не выстроятся все охотники, а потом двинулись через дорогу к лесной опушке на склоне холма, чтобы ее прочесать. Ашер заметил, как охотники на лугу и в поле, прислонясь к телеграфным столбам, уже поджидают, когда загонщики выгонят на них дичь. Тотчас после этого загонщики спустили собак. Они бросились вперед, шурша листвой, залаяли, стали обнюхивать землю и деревья, а загонщики подзывали, науськивали их и натравливали.
С другого конца леса донеслись выстрелы, однако загонщики, не обращая на них внимания, спешно двинулись дальше, а Ашер думал только о том, как бы не потерять из виду Цайнера. Очки у него запотели, он снял их, протер на ходу и снова надел. В ту же минуту неожиданно раздался тоненький стон, который так же внезапно оборвался. Цайнер рванулся вперед и закричал, и Ашер увидел, как прямо перед ним откуда ни возьмись появилась собака и, держа в пасти зайца, стала отряхиваться, чтобы поудобнее перехватить добычу. Глаза у зайца были темные, широко открытые, голова бессильно покачивалась. Ашер вообразил, будто пес поймал зайца в параллельном мире, и тот погиб, только когда попал в наш мир, не привычный для него. Белая шёрстка у него на груди покрылась крошечными капельками крови, но в этом зрелище не было ничего ужасного, обыкновенно ассоциирующегося с насильственной смертью. У Ашера снова запотели очки, и, снова их протирая, он смутно различил, как Цайнер отнял зайца у пса, проткнул ножом одну заднюю лапу, продел сквозь отверстие другую и повесил зайца на вытянутой руке. Все это произошло так быстро, что Ашер едва успел осознать смысл случившегося. Идя на охоту, он намеревался сохранять ясную голову и смотреть на вещи отстраненно, но сейчас он внезапно ощутил, как его стремительно затягивает водоворот событий. Он был не в силах отдаться естественному течению происходящего и заметил, как пытается от него отстраниться. Сейчас им владело то же чувство, что и во время его гистологических сеансов, когда он рассматривал в микроскоп клетки крови или инфузорий: они находились совсем близко, все более и более открывали свой истинный облик и одновременно были бесконечно далеки. Как-то раз ему пришло в голову, что эту близость между ним и препаратами создавала тишина его рабочего кабинета и что она же не давала ему полностью отдаться обманчивому ощущению этой близости, но здесь, на охоте, его присутствие никак не влияло на ход событий (подобно тому как древесный лист или солнечник выглядели определенным образом, а не иначе, вне зависимости от того, знал он об этом, или нет). Он мог лишь отвернуться и не смотреть, но и в этом не мог проявить свободную волю, потому что словно завороженный следил за происходящим. За молодыми деревцами собаки исчезли в зарослях пожухлого папоротника, напоминающих орнамент на абстрактной картине. Желтые увядшие листья продолжали качаться и шуршать, когда собак уже и след простыл. Загонщики замерли и стали ждать, потому что, как пояснил Цайнер, кто-то вспугнул фазана. При каждом шаге он с хлюпаньем вытаскивал ноги из болотистой земли. Ашер обрадовался, что наконец выдалась пауза. Он отер пот со лба и огляделся. Тотчас же возгласы загонщиков утонули в выстрелах, и вниз со склона холма, по которому он надеялся спастись бегством, кубарем скатился подстреленный заяц. Загонщики захохотали. Они стали ждать, пока охотник, подстреливший зайца, не засунет его в рюкзак. Ашер устыдился, что не разделяет их радости. «До чего же я тяжел на подъем», — подумал он. Неужели нельзя за них порадоваться? Ведь он не испытывал ни ужаса, ни отвращения. Он лишь сознавал, что не такой, как они. Он безучастно глядел, как пес того охотника с лаем подпрыгивает за убитым зайцем, стараясь цапнуть его зубами, и как затем, когда хозяин отогнал его легким пинком, снова принялся рыскать в зарослях папоротника. Заяц в рюкзак не помещался, поэтому охотник положил его и застегнул клапан поверх заячьей тушки, так что с одного бока свешивалась голова зайца, а с другого — задние лапы.
Ашеру впервые подумалось, что представления о смерти всецело определяются человеческим зрением. «Будь заяц не больше мухи, я бы его смерть даже не заметил». Вскоре они вышли из лесу. Внизу перед Ашером теперь открылся вид на поросшую травой лощину, небольшие пруды, в которых разводили карпов, облетевшие яблони и ферму, с которой они вышли на охоту. Над лесом стояло солнце, похожее на облачко света в тумане. Ферма в лощине сверху казалось совсем маленькой, бурые куры во дворе — крохотными точечками. Распорядитель охоты собрал подстреленную дичь и потащил ее по тропе. Теперь загонщики шли медленнее, и Ашер поспевал за ними без усилий. Они оцепили следующий холм и разговорились о чем-то, прежде чем спустить собак и двинуться за ними в лес. Ашер ощущал приятную усталость. Ему казалось, будто привычный мир остался где-то далеко-далеко. Охотник, за которым он шел, отдал зайца фермеру, его рюкзак и штаны сплошь покрывали темные пятна засохшей крови.
Внезапно спуск стал таким крутым, что собаки взвыли и, не удержавшись, кувырком покатились вниз. Чтобы не упасть, Ашер хватался за мелкий кустарник, тоненькие веточки и стволы деревьев, а потом с трудом взбирался на противоположный склон, еле видимый в туманной мгле. Под каким-то деревом он заметил горстку белых куриных перьев, и один из загонщиков предположил, что здесь лиса или коршун расправились с добычей — домашней курицей. Загонщик был в серой тирольской шляпе и армейской куртке, в руке держал складной охотничий стульчик и, словно тросточкой, указывал им в сторону полей. Было холодно, и его дыхание вырывалось клубами белого пара. Его верхнюю губу украшали темные усы, на концах которых виднелись капли. «Если не возражаете, пойдем помедленнее», — предложил он Ашеру. Они вышли на луг, откуда снова открывался вид на долину. По склону холма толпами, похрустывая яблоками, спускались охотники с ружьями за спиной и с собаками на поводке. На кожаных ремешках-тороках у них болтались ореховки с плотно закрытыми глазками, напомнившие Ашеру замерзших зимой певчих птиц, которых он видел в детстве. Загонщик, прошедший рядом с ним последний отрезок пути, нагнулся, подобрал с земли яблоко и протянул его Ашеру. Оно оказалось на удивление сладким и холодным, Ашеру даже почудилось, будто холод ударил ему в голову, как вино. Теперь перед ним простиралось широкое, глубокое русло равнины с известкованными перепаханными полями и желтыми стогами кукурузы, поставленными тесными рядами. Загонщики вновь устремились в лес. На них дождем сыпались листья, солнечный свет пятнал землю у них под ногами. Внезапно прямо перед собой Ашер заметил зайца, притаившегося за пнем и полускрытого опавшей листвой. Он в ужасе уставился на вспугнувшую его собаку, бросился бежать и не успел несколькими прыжками достичь вершины холма, как его настигли выстрелы и он, перевернувшись через голову, уткнулся в землю. Эта безумная попытка спастись, абсурдная и смешная, пробудила у Ашера в душе сострадание и какое-то непонятное облегчение. Едва застрелили этого зайца, как следующий, петляя, выбежал прямо на них из-за деревьев, и Ашер, наблюдая, как он пытается уйти, боковым зрением заметил, как Цайнер смутной тенью сорвал с плеча ружье, по слабому ветерку ощутил, как тот обернулся, услышал выстрел и увидел, как заяц исчез в маленьком облачке поднятой земли и пыли. Однако его тонкие, пронзительные стоны, заглушавшие тявканье собак, утихли не сразу. Загонщики остановились возле покрытого опавшими листьями рыбного пруда. Внезапно стоны зайца смолкли. Черный пес принес добычу подоспевшему загонщику. Охотник схватил его и сбросил вниз по склону. Заяц упал прямо под ноги Ашеру. Ашер нагнулся и поднял зайца. Странно, до чего он был тяжелый. Самую тяжесть заячьей тушки Ашер воспринимал как проявление смерти. Что-то подобное ему уже приходилось наблюдать и у мертвых, и он по привычке ожидал, что любое живое существо посмертно обретает эту странную тяжесть, даже легкий, проворный заяц, казалось, отяжелел только после смерти.
— Хотите, продам зайца? — спросил Цайнер.
Ашер покачал головой.
— Само собой, вы же один живете, к чему он вам, — сказал Цайнер.
Держа в руках зайца, Ашер нащупал под шкуркой косточки, твердые и неподвижные. Его пальцы до сих пор ощущали их жесткость и хрупкость. Ашер положил зайца на землю и отвернулся от Цайнера.
— Подождите минуточку, — попросил он.
Выше по склону, вдоль подвода воды к пруду, росли высокие хвощи. Хвощи доходили ему до груди. Загонщики двигались сквозь них, словно в воде. Ашер подобрал птичье перо, соскреб немного мха с древесного ствола и спрятал его в полиэтиленовый пакетик. Они стали спускаться, молча, запыхавшись, сгорбившись под низко нависшими, взъерошенными ветвями. Кое-где из-под опавшей листвы выглядывали грибы белого цвета, в лесу стало светло от солнца, но воздух еще не прогрелся. Издалека Ашер разглядел, как собака распорядителя охоты схватила зайца, но все происходило так быстро, что на таком расстоянии показалось утомленному дорогой Ашеру нереальным. На опушке они, тяжело ступая, шли по густой палой листве, загонщики тащили на спине бессильно висящих головой вниз зайцев. Тут они встретились с поджидавшими их охотниками, и Ашер, у которого уже все тело ломило от усталости, решил пойти с охотниками. Он подождал, пока они соберут зайцев, фазанов и ореховок, а потом следом за ними отправился в долину, а загонщики тем временем исчезли в лесу. Воздух был прозрачный. Солнце светило ярко. Перед ними открылся вид на два спущенных пруда, влажная земля на месте прудов поблескивала на солнце. Между прудами стоял маленький грузовичок с открытыми задними дверцами. Ашер блаженствовал, кожей ощущая тепло и наслаждаясь неспешным спуском с холма. Мышечное напряжение отдавалось во всем его теле, да и странное оцепенение всех его чувств еще не прошло. В багажнике грузовичка был припасен ящик пива, рядом с ним укладывали добытую дичь. Ашер мельком взглянул на серо-бурые шкурки зайцев, покрытые засохшими брызгами глины и крошечными алыми капельками крови, и на яркое оперение птиц. Снова выпрямившись, он заметил старика, которого утром подвозил Цайнер. Тот подставлял солнцу иссиня-бледное лицо. Старик посетовал, что подстерегать дичь было не в радость, в тени-де страшный холод.
Старик говорил дребезжащим, низким голосом, при каждом вдохе в груди у него, казалось, раздуваются и опадают мехи. Он отвернулся и уставился прямо перед собой.
Выпив пива, охотники двинулись по большому желтому сжатому полю в конце лощины к следующему леску. Стога кукурузы, словно зубцы корону, украшали поросшие травой пологие склоны холмов, простиравшиеся справа и слева. Где-то вдалеке постукивал мотор трактора, раздавались глухие выстрелы загонщиков, долбил дерево дятел. Ашер вдруг осознал, что утратил всякое ощущение времени. Он перестал смотреть на часы, больше не испытывал ни голода, ни жажды. Вот распорядитель охоты остановился и стал давать охотникам указания, как именно расположиться цепью. Объясняя что-то молодому охотнику, он вопросительно взглянул на Ашера, и тому не оставалось ничего иного, как встать рядом с юнцом.
Голоса загонщиков приблизились. Ашер не шевелясь стоял на мягкой земле и смотрел на дерево, в пышной листве которого притаилась стая птиц. Внезапно молодой охотник вскинул ружье, прицелился в выбежавшего из леса зайца, неспешно переводя за ним ствол, мгновение подождал, когда заяц метнулся в сторону (такой маневр зайца хотя и удивил Ашера, убедительно доказывал всю безысходность его попыток спастись в чистом поле), и выстрелил, однако заяц, подергиваясь, словно сотрясаемый судорогами, кинулся дальше, пока не выбежал на ближайшего охотника, и тот неторопливо наклонился и нажал на курок.
Где-то над их головами прогудел самолет. Ашер его не разглядел. Охотник подошел к зайцу, поднял его и, схватив за задние лапы, швырнул Ашеру и юнцу. Крики и возгласы загонщиков, среди которых Ашер уже начал различать отдельные голоса, слышались теперь совсем близко, как будто они находились на одном уровне с ним. Раздавались выстрелы.
Ашер все еще искоса посматривал на охотника, подстрелившего зайца. Его шляпу украшал пучок шерсти горной козы, на тороках, бессильно вытянув шею, болтался фазан. При каждом шаге охотника тушка фазана ударялась о его колено, отскакивала в сторону или вперед, а потом несколько раз оборачивалась вокруг своей оси, пока торока не врезались глубоко в фазанью шею, и фазан, медленно раскручиваясь, не начинал крутиться снова, снова ударяясь о колено охотника. Массивный патронташ с дробью в латунных гильзах придавал его облику дородность и осанистость, но одновременно жестокость. Он повертел и покрутил туда-сюда подстреленного зайца, показывая им входные отверстия пуль. Молодой охотник молчал, никак не перебивая удачливого, и, по мере того как тот красочно живописал свое везение, все более мрачнел. Время от времени он кривил рот и пожимал плечами.
— Это я ему в задние лапы попал, — сообщил он, когда тот отошел в сторону. — Заяц тогда в сторону метнулся, и тут-то я ему в задние лапы весь заряд и всадил…
Он раздраженно потерся щекой о воротник рубашки и несколько раз поправил висящее на плече ружье.
— Пойдем, — наконец сказал он Ашеру.
Они молча стали подниматься меж яблонь по склону на ферму.
На ферме охотники уже повесили ружья на прицеп трактора, на ветки яблонь и слив и на двери хлева и расселись на куче красных пустотелых кирпичей, сваленных возле хлева. Ашер заметил, как на поленницу, спасаясь от собак и людей, взлетели две пятнистые кошки. Рядом с добычей хозяин продуктового магазинчика припарковал свой грузовичок. Одного зайца так растерзали собаки, что сквозь разорванную шкурку виднелось мясо, из распоротого живота вылезали внутренности, а из задней лапы торчала кость. Потом в стеклянные кружки стали разливать вино и разносить их по кругу. Ашер грелся на солнце, пока охотники не собрались дальше. Он последовал за ними не сразу, а некоторое время наблюдал, как владелец магазина собирает и укладывает в кузов добычу. Сначала он прошел мимо фермы, возле которой на больших листах оберточной бумаги сушились кукурузные семена, потом спустился по лугу между полями и опушкой леса. Теперь по голубому небу плыли белые облака. Вокруг оврага выстроились цепью загонщики. Ружейными прикладами они упирались в вынесенное вперед колено. Из зарослей над оврагом и полями, пытаясь спастись на соседнем холме, свечой взмыла самка фазана, тут же в листве показался самец, раздались выстрелы, и фазан рухнул на землю. Охотник поднял его, не дожидаясь, когда он затихнет и перестанет бить крыльями, и Ашер увидел, что он держит птицу за голову, так что сверху из его сжатого кулака выглядывает клюв, а снизу, подергивая крыльями, беспомощно болтается тело. Полетели перья, но охотник по-прежнему не выпускал бессильно барахтающуюся птицу, и только потом, не сводя глаз с опушки, положил ее на траву, где она какое-то время еще билась между его сапог, медленно поднимая и опуская крылья. Ашер рассмотрел светлый испод фазаньих крыльев. Он подошел поближе, но не расслышал ничего, кроме шуршания и треска перьев. Охотник вопросительно посмотрел на Ашера и показал ему свою окровавленную руку:
— Это он когтями, — пояснил охотник. — Смотрите, вот сюда они впились, а вот отсюда вышли насквозь.
Он достал носовой платок и снова взглянул на опушку. Когда он отнял платок от раны, у основания большого пальца хлынула кровь.
В это мгновение откуда ни возьмись появилась лиса. Ашер поднял глаза от раненой руки охотника и успел заметить, как лиса выскочила из подлеска. Она бросилась было бежать по шуршащей листве, помедлила, сделала прыжок, другой, пытаясь спастись, но тут прямо в воздухе ее пронзили пули, и она, перевернувшись через голову, рухнула на землю. Охотник, подстреливший лису, был седой, невысокий, с бледным морщинистым лицом. Он неторопливо подошел к добыче, притворяясь, будто не слышит криков охотников и загонщиков, с любопытством высыпавших из леса на выстрел, наклонился и поднял лису за хвост.
Лиса была еще молодая. Мех у нее поблескивал, отливая рыжим, брюшко и морда были белые, на лапах и ушах виднелись черные крапинки. Язык свисал из пасти, как большая ягода.
Подошли другие охотники и загонщики, осмотрели морду и хвост и опять спустились в овраг. Ашер брел за охотником, волочившим по земле лису, пока они не добрались до сборного пункта. Он провел рукой по лисьему хвосту, потом по спине и пошел к ручью, где уже расположились охотники.
— Если вы до нее дотрагивались, помойте руки, — сказал один. — А то как бы вам не заразиться бешенством.
Русло ручья было завалено пожухлыми, прошлогодними листьями. Над ними струилась прозрачная вода. Однако, когда он мыл руки, он почувствовал, что вода нечистая. К ним подошел распорядитель охоты, из рюкзака у него торчали деревянные ножки складного стульчика.
— Я хочу купить лису, — сказал Ашер.
— На здоровье, лиса хоть куда, — откликнулся распорядитель охоты.
— Думаете, она не бешеная?
— Конечно, не бешеная.
— Вот закончим охоту и договоримся о цене, — сказал тот, что подстрелил лису.
Ашер и сам не понимал, что так притягивает его в лисе. Еще в заброшенном доме он восхитился лисой, выпрыгнувшей от него в окно. Кончик хвоста у нее был белый. Он купит лису и отдаст выдубить шкуру. Он представил, как пойдет жене рыжий меховой воротник.
— Я прошлой зимой вот так же уложил одну, когда она по мельничному пруду бежала. Пруд-то замерз наполовину, вот она сначала думала, прыгнуть в воду или нет, а потом все-таки повернула назад и решила бежать по льду. Тут-то я ее и подстрелил, — поведал охотник, поднимая лису с земли и волоча ее за собой.
С луга поднялось облако известковой пыли, и охотники, которые несли добычу, перешли на узенькую обочину, где известь лежала не таким толстым слоем. По-прежнему светило солнце. На холмах было совсем светло, но здесь, в низине, все покрывали тени. Ну, конечно, он купит лису. Он же знает, как она понравится Терезе. Нужно только найти кого-то, кто сдерет шкуру. Но за этим дело не станет. Тропинка вела к каменному, побеленному крестьянскому дому с деревянной надстройкой. Само собой, Терезе нельзя рассказывать ничего страшного, ведь она готова расплакаться по всякому поводу. Ашер невольно улыбнулся. Если он во всех подробностях станет описывать, как они подстрелили лису, она точно расплачется. Он должен преподнести ей лису так, между делом, когда они будут веселиться. Теперь лиса казалась Ашеру маленькой. Когда он замер в заброшенном доме, глядя на вспугнутую лису, она почудилась ему большой и даже — он готов был это признать — внушающей почтение. С другой стороны, охотники же подтвердили, что лиса красивая. Нижняя челюсть у нее была черная, мех на брюшке — нежный, а на спине, вдоль хребта, — более грубый, зубы острые, белоснежные, как слоновая кость. Распорядитель охоты остановился и снова поделил охотников: кому сидеть в засаде, кому отдыхать. Ашер остался с охотником, который волочил за собой лису.
Он зашел на ферму и, попросив разрешения, вымыл руки в коровнике. Из-за кучи песка, как из укрытия, его облаял дворовый пес. Чуть в стороне, громко переговариваясь, прошли загонщики. Владелец лисы не спешил и вместе с Ашером медленно побрел дальше, пока не вышел на асфальтированную дорогу, вдоль лесной опушки, на которой на складных стульчиках расположились охотники. Среди них Ашер заметил старика, который сидел на своем складном стуле, поджав губы, наклонившись и уставившись в сторону леса. На Ашера и его попутчика он и не взглянул. С его места можно было заглянуть в самую чащу. С охотниками, мимо которых они прошли, они не перемолвились и словом.
Когда лес опять сменился полями, они уселись на кучу досок отдохнуть. Мимо на тракторе проехал фермер с полным прицепом навоза. По мере того, как он разбрасывал навоз по полю, над ним поднимался пар. Потом на пикапе медленно подъехал хозяин магазина со стариком, притормозил и принял у них лису, которую охотник бросил в кузов как какой-то неодушевленный предмет.
Ашер решил не возвращаться к охотникам, а проводить старика на ферму. Он взял у него ружье и патронташ, патронташ надел на себя. Старик снял шляпу. Перед ними раскинулась широкая пустынная лощина. Время от времени издалека доносилось тарахтение трактора. Простиравшееся перед ними свежевспаханное поле, когда его не заслоняли яблони и телеграфные столбы, напоминало Ашеру бурую реку. Мимо капеллы с фресками они прошли к дому, и там Ашер вернул старику ружье и патронташ.
— Правильно, сейчас снова надену, — заметил старик, — нечего им смотреть, как из меня песок сыпется.
Он оглядел голубей, облепивших соседние крыши.
— Под конец мы всегда голубей стреляем. Перья валятся, будто снег идет.
Он достал из кармана таблетки и, проглотив одну, подошел к колонке, прямо из пригоршни запил водой. Они шли на ферму так медленно, что их уже догнали охотники, группами направлявшиеся к ферме с близлежащего холма. Они шумели, явно не беспокоясь о том, как они себя ведут и что о них будут говорить. Оказавшись в пределах слышимости фермы, один из них прокричал: «Улюлю!», а другие подхватили, сдергивая с плеч ружья. Вечерело. Ашер смотрел вдаль, в небо за холмами. На горизонте сгустились облака странной формы: черное облако дыма над горной вершиной словно появилось в результате бесшумного извержения вулкана. Переведя взгляд на голубей, он заметил у себя над головой тоненькие, белые, полупрозрачные облачка наподобие ледяных цветов на заиндевевшем стекле. Охотники собрались наконец во дворе, а крестьянин вместе с несколькими из них влез на крышу гумна.
— Пока они не взлетят, мы не стреляем. Сбиваем, только когда поднимутся в воздух, — пояснил старик.
Он откинул голову, словно собираясь бриться. На пороге дома Ашер заметил двоих детей крестьянина; сам старый крестьянин с невозмутимым видом следил за охотниками, сидя у кухонного окна.
— Там всё от голубиного помета белым-бело, — крикнул с крыши один из охотников.
— Когда он спустится, начнем. Осторожнее, — предупредил старик Ашера.
Он снял с плеча ружье и уставился вверх. Какой-то охотник с шестом подошел к голубятне, постучал по дощатой стене, оттуда, захлопав крыльями, словно из пушки вырвалась целая стая голубей, облетела вокруг дома, но, не успела она опуститься на крышу, как раздались выстрелы. Испуганные птицы снова закружились в небе, по воздуху поплыли пучки перьев, мертвые шмякались на землю, однако вся оставшаяся стая не решалась сесть. Едва какой-нибудь голубь пробовал опуститься на крышу, как выстрелы снова вспугивали его, пронзали в воздухе и низвергали на землю. Старик стоял, держась очень прямо, поворачивался на одном месте, как заводная кукла, словно уперев ружье в воздух, и стрелял, как только стая подлетала достаточно близко. После чего неспешно перезаряжал ружье. Охотники тоже не торопились. Они размеренным движением доставали патроны, перезаряжали ружья и стреляли дробью в самую гущу испуганной стаи. Ни одного поспешного движения. Ашер поискал глазами детей: они по-прежнему стояли в сенях с серьезными лицами, не выказывая никакого испуга. Разинув рты, они следили за происходящим, теперь к ним присоединились дед и бабка. Молча улыбаясь, глядели они на потеху. Едва стая садилась на крышу хлева, как ее камнями и криками вспугивали снова, она пыталась спастись на крыше дома, на крыше гумна, на крыше кладовой, но тщетно. В нее тотчас летели камни, ее пугали охотники, и голуби взмывали в воздух, где их настигали заряды дроби, и, окровавленные, они падали вниз. Снова и снова охотники, нагнувшись, поднимали голубей или, привстав, на ощупь доставали их из водостоков и подбирали по нескольку штук, держа маленькие тельца с растрепанными рябыми или бледно-серыми перьями, словно перевернутые букеты. Собрав достаточно, они клали их в груду битой дичи, которую крестьянин укладывал слоями и пересчитывал. Наконец, вышла крестьянка с кувшином плодового вина, и все стихло. Нескольких мертвых птиц шестами сбросили с крыш, один охотник залез на сливу и скинул вниз голубей, запутавшихся в ветвях. Ашер стоял среди невозмутимо переговаривающихся и покуривающих охотников у груды дичи, в которой рядом с лисой лежала пойманная собакой косуля, маленькая и худая. Увидев распорядителя охоты, Ашер спросил, сколько будет стоить лиса. Тот с важным видом наморщил лоб, подумал и произнес:
— Восемьсот.
— Она какая-то маленькая.
— Маленькая? Вы думаете, маленькая?
— Да.
— Ну ладно, тогда шестьсот. Шестьсот — моя последняя цена. Когда начинается эпидемия бешенства, нам приходится их сдавать. Тогда и цены растут.
Ашер отсчитал купюры и передал их распорядителю охоты.
— Останетесь довольны. Шестьсот — разумная цена, и лиса хоть куда. Есть один сосед, он шкуру сдерет. Если пойдете с нами в трактир, мы его там застанем. Годится? Ну, хорошо. Подождите, уберу ее в багажник. Если хотите, я вас подвезу.
Ашер поблагодарил. Они засунули лису в багажник, и он сел на переднее сиденье, рядом с распорядителем охоты.
— Вечер выдался ничего себе, — заключил распорядитель охоты.
Ашер поднял голову. За пыльным ветровым стеклом солнце окутывала сияющая золотистая дымка, а над холмами и горами серо-голубые оттенки неба переходили в нежно-желтые, словно окрашенные каким-то цветным газом. Он достал из кармана носовой платок, обнаружил в нем мох и птичье перо и внезапно ощутил тоску по тишине и покою своего дома, книгам и микроскопу, но не подал виду, а невозмутимо сказал:
— Да, вы совершенно правы, чудесный вечер.
8
Дома Ашер стал разглядывать птичье перо. Он подобрал не мощное маховое, а тоненькое, легкое пуховое. Он расслышал только металлический скрежет, когда отреза́л ножницами кончик перышка, чтобы положить его между предметным и покровным стеклом. Всякий раз, рассматривая что-нибудь в микроскоп, он поначалу не мог отделаться от ощущения, что он слишком невнимателен. Невнимательно брал в руку куриное яйцо, цветок, травинки, рыбью чешую. И все же, как сложно все устроено: например, крупинки соли, или серный цвет, или капелька меда. Когда-то ему нравилось доискиваться, пыльца какого именно растения осталась в меду. Чтобы решать наверняка, он приготовил серию эталонных препаратов зернышек пыльцы, которую вскоре заучил наизусть. Он до сих пор помнил, как они выглядят под микроскопом: пыльца подсолнечника по форме походила на колючие шарики (вроде плодов конского каштана), зернышки пыльцы лугового сердечника были кругленькие, поделенные на клеточки, ни дать ни взять — пчелиные соты, а зернышки пыльцы кипрея прорастали тоненькими, спутанными нитями. В зависимости от вида пыльцы он мог определить, где собран мед. Он рассматривал в микроскоп крылышки насекомых, человеческие волосы, чешуйки с крыльев бабочки, луковую шелуху. Препарируя чешуйки с крыльев бабочек, он невольно остерегался потерять или повредить мельчайшее зернышко пыльцы. Он поместил на предметное стекло каплю фиксирующего лака, снял чешуйки, проведя по крылышку тоненькой кисточкой, и осторожным движением кисточки, словно осушая лак на стекле, перенес в него чешуйки. Крылышки казались кусочками ворсистой ткани с тончайшими оттенками цвета и волосками по краям. Часть его коллекции составляли и целые насекомые, он ловил мошек в пузырьки из-под таблеток, наполненные семидесятипроцентным раствором спирта, и тщательно расправлял эти новые препараты, утяжеляя их половинкой свинцового рыболовного грузила. Под микроскопом они потом представали сказочными существами, навеки замершими в янтаре. Чудесный облик имела и головка овода с множеством фасеточных глаз, сложное строение которых он мог различить в гистологическом срезе. Они походили на крошечные, с мельчайшими ячейками, ситечки, оканчивавшиеся костистым сочленением-хоботком. Сейчас, положив под микроскоп птичье перо, он вспомнил, как однажды наблюдал за агонией личинки толстохоботного комара в щупальцах пресноводной гидры. Гидра попыталась ее съесть, но проглотить такой большой лакомый кусок оказалась не в силах, и потому выпустила добычу, но личинка уже погибла от яда ее стрекательной капсулы. Личинка была желтоватая и прозрачная, точно фруктовое желе, ее головка напоминала разрезанную грушу с темными глазками — семечками и крошечным клювиком — стебельком. Он вздохнул и принялся разглядывать срез перышка. От стержня отходили побочные стволы. На них помещались опахала, снабженные бородками, которые прочно соединялись с бородками на опахале соседнего пера. Удивительно, но когда он с усилием разъединял опахала, достаточно было лишь слегка погладить перо, и они вновь сливались.
Он вернулся к микроскопу и подкрутил фокусировку. Лиса сейчас, вероятно, все еще висела в сенях у крестьянина, у которого ее оставили. Широкая деревянная лестница вела из сеней на чердак. На одной ступеньке была вывешена для просушки только что снятая шкура другой лисы. Крестьянин сказал распорядителю охоты, зашедшему в дом вместе с Ашером, что лиса, мол, хоть куда, и положил ее в ящик с яблоками под лестницей.
— Лиса здоровая, — заключил он. — А потом, мех у нее уже зимний, значит, дольше проносится. Если у лисы зимний мех, мездра белая, а так — иссиня-красная.
Завтра, пообещал крестьянин, он ее сдерет и за денек-другой высушит. Ашер выключил свет и лег в постель. Когда его глаза привыкли к темноте, он стал различать ножницы, кувшин для умывания, которым он не пользовался, микроскоп. Ему вспомнились ружье и пистолет, и он подумал, а не продать ли их снова. Иногда он мечтательно представлял, как покончит с собой. Он представлял себе, как берет в руки пистолет, подносит его к виску и нажимает на курок. Он живо представлял, как его найдут люди, которых он впервые увидел или с которыми познакомился совсем недавно, и как начнут судачить о его добровольном уходе. Иногда при мысли о самоубийстве он со стыдом вспоминал о Катарине, но ему казалось, будто она где-то далеко-далеко и как ни в чем не бывало будет жить без него. Как знать, может быть, и Тереза без него обойдется.
Он настолько устал, что мысли у него стали путаться. Ему пришло в голову, что самое важное — пережить это темное время суток.
9
На следующее утро его разбудил Голобич, явившийся с просьбой: нельзя ли, мол, просушить у Ашера на чердаке кукурузу его подруги, а его собственную кукурузу почистить в доме. Этого еще не хватало, подумал Ашер, но потом решил, что так хоть не придется страдать от одиночества. После обеда он пошел к Цайнеру. На плите, выложенной белым кафелем с узором из розочек и розовых листьев, в жестяной кастрюле кипела вода. Тесть Цайнера воззрился на него с нескрываемым любопытством. Ашер хотел попросить Цайнера отвезти его в пятницу на станцию, — он собирался пробыть в городе все выходные, а заодно и проголосовать, — спросил, дома ли Цайнер, но старик покачал головой. Глаза у него были голубые, белки глаз и нос сплошь покрывала сеть красных прожилок. Было тихо, только в углу равномерно жужжала стиральная машина. Вдруг дверь широко распахнулась, в кухню вбежал ребенок Цайнера, и так же внезапно убежал опять. Тут и жена Цайнера вернулась из хлева. Она была высокая, темноволосая, но от ее веселости Ашеру сделалось не по себе, потому что он не мог взять в толк, как реагировать на ее улыбку или на брови, приподнявшиеся, словно она вот-вот рассмеется, сказав, что Цайнера нет. Когда Ашер уже собирался уходить, старик спросил у него, кто он. Он стал терзать его расспросами, а потом приступил к рассказам о собственном житье-бытье, и у Ашера появилось ощущение, что он мучил его только для того, чтобы поведать о себе самом. Вне всякой временной последовательности он принялся излагать события собственной жизни. Жена его, которая родила ему трех дочерей, уже давно в могиле. У себя в комнате он-де хранит футляр от скрипки из бурого дерева, сейчас пошлет за ним внука, — пусть-ка принесет, он сейчас Ашеру кое-что покажет. Сам он в продолжение всего разговора не вставал с места. Упомянув, что хочет, мол, кое-что показать Ашеру, он стал ждать, пока внук или дочь выполнят его желание. Изнанка скрипичного футляра была оклеена сине-черными обоями, подставка для струн богато украшена перламутровыми цветами. Старик протянул Ашеру скрипку, чтобы тот заглянул внутрь через резонаторное отверстие в форме буквы f. «Посмотрите-ка, что там написано!» — напутствовал он. Внутри корпуса Ашер рассмотрел пожелтевший клочок бумаги, на котором было напечатано: «Nicolaus Amatus, fecit in Cremona 16», а рядом кто-то приписал от руки число то ли тридцать семь, то ли восемьдесят семь.
— Ну, что скажете? — осведомился старик.
Ашер ответил, что, судя по надписи, это скрипка работы Амати. Старик кивнул.
— Скрипка-то ценная, вот только мне не хотят верить.
Да не подделка это, продолжал он. Он-де по происхождению итальянец, и фамилия его Зилли. В комнате у него висит большая овальная фотография, а на той фотографии запечатлена его жена. На кровати у него лежит пальто, он под этим пальто спит. Старик все говорил и говорил, не умолкая. Теперь он перешел к рассказу о доме, в котором они сейчас беседовали. До тысяча девятьсот двадцать второго года это, мол, был постоялый двор, а потом здесь кого-то зарезали на кухне, и хозяину пришлось свернуть дельце. Он, так, мол, и так, родился в апреле тысяча восемьсот девяносто девятого года. Оборотившись к окну, медлительно, в несколько приемов, согнувшись, он показал Ашеру свою родину, но перед тем протер оконное стекло ладонью. До нее каких-нибудь два часа пешком, в ясную погоду можно даже два белых дома различить. Ашер заметил, что на левой руке у старика не хватает большого пальца. Рука у него несколько лет назад попала в зернодробилку. Вызволять его тогда пришлось дочери — зять-то от страха дал деру. Ашер обратил внимание на то, с каким безразличием старик говорит о себе самом, словно ни на кого не возлагает ответственность за то, что с ним произошло, даже на самого себя. Жил и жил себе со своими увечьями, словно вовсе их не замечал.
Между тем вернулся Цайнер и задним числом представил Ашеру своего тестя. Тогда старик велел принести две большие стеклянные бутыли. В одной виднелся толстый слой ландышей: поблекшие, прозрачные цветы опали на дно, а когда старик взболтнул содержимое, всплыли в запузырившейся, винного цвета, жидкости до самой пробки, чтобы тотчас вновь медленно опуститься на дно. Другая бутыль была до краев полна темно-бурого бальзама, настоянного на еловых иголках. Точный его состав старик разглашать не стал. Однажды во сне, пояснил он, ему явилась женщина и велела исцелять больных. Он приказал дочери налить для Ашера небольшую бутылку своей «настоечки». Он сидел молча, тяжело дыша. Ашер спросил, а не лечит ли он себя сам. Старик ответил, что натирает грудь оливковым маслом, да и внутрь его употребляет. От этого ему-де сразу легчает. А случись зимой простуда, тогда он на грудь кладет жабу, привязав ее к шее веревочкой. И Ашеру то же самое советует.
Цайнер пообещал в пятницу отвезти его на станцию.
— Вы уже поправились? — спросил он.
Ашер объяснил, что едет в город, чтобы навестить знакомых.
— Это другое дело, — задумчиво протянул Цайнер.
Он предложил Ашеру стакан вина, и они молча, торопливо выпили в кладовой, где хранились бутылки. При этом Ашер постарался осушить стакан залпом, как Цайнер.
Он возвратился к себе домой и какое-то время сидел у окна, а потом достал из ящика стола подзорную трубу и стал рассматривать крестьян на полях. Сперва он различал только зелень, а потом какую-то фигурку с порывистыми, механическими движениями. Оказалось, что это женщина в низко надвинутом на лоб платке с бело-синим узором. Лицо у нее было без морщин, она не поднимала взгляда от земли, но время от времени распрямлялась, держась за поясницу. Тогда Ашер сумел разглядеть ее маленькие веселые глазки. Крикнув что-то кому-нибудь из односельчан, она мимолетно улыбалась, чтобы тотчас снова посерьезнеть. В мочках ушей у нее виднелись крошечные золотые сережки. Потом Ашер перевел подзорную трубу на следующего крестьянина. У него были жидкие волосы, крючковатый нос и толстые губы. Он долго не шевелил головой. На его лице Ашер не мог прочитать никаких эмоций, оно не выражало ничего, кроме напряжения. Когда один крестьянин разгибал спину и что-то кричал другому, Ашер пытался понять, что именно, но не мог ничего расслышать. Он замечал только, как широко раскрываются их рты, обнажая зубы. Иногда они по целым минутам не меняли положения. Эта безмолвная, ожесточенная работа словно превращала их в бессловесные автоматы, и он попробовал подсчитать, сколько они могут так проработать и сколько им потом потребуется проспать. С другой стороны, эти люди казались ему по-своему красивыми. Каждое их движение было исполнено смысла, ибо совершалось с чрезвычайным тщанием. Однако до конца он не мог в это поверить, поскольку скорее был склонен подозревать, что в это мгновение напряжения всех сил в их душе нет ничего, кроме различных оттенков пустоты и боли. Он снял очки, чтобы лучше видеть, и прижал окуляр к глазнице. Наверное, его собственное лицо во время работы имеет такое же выражение. (Он вспомнил, что в детстве ужасно хотел знать, какой вид бывает у него, когда он спит, и какой будет, когда он умрет. Он становился перед зеркалом и начинал, прищурившись, разглядывать себя, но отражение ему не нравилось, ведь он замечал, что с зажмуренными глазами выглядит как-то странно). У другой крестьянки по обе стороны рта залегли глубокие вертикальные морщины, будто она много-много лет только и делала, что посвистывала или с усилием втягивала воздух, спина у нее была широкая, сутулая, она так склонилась к земле, что напоминала какое-то скорчившееся животное. Казалось, она с бесконечным терпением не сводит глаз с чего-то в земле, — ни дать ни взять кошка, на много часов неподвижно замершая на лугу возле мышиной норки. Однако взгляд у нее был не сосредоточенный, а скорее отсутствующий. Ашер совершенно отчетливо это различал. Он посмотрел, какое выражение застыло на лицах других, и понял, что точно такое же. Один раз крестьянин глубоко вдохнул и выдохнул, женщины время от времени поправляли платки или отирали лоб тыльной стороной ладони. Потом они снова надолго застывали в неподвижных позах. На поле прибежал чей-то пес и, виляя хвостом, вставал лапами на грудь то одному, то другому; какая-то женщина то и дело опиралась на грабли и, не двигаясь, устремляла взгляд за горизонт, а спустя некоторое время молча возвращалась к работе. Всякий раз, когда Ашер по шевелению чьих-то губ догадывался, что происходит какой-то разговор, хотя слова до него не долетали, лишь большие, четко очерченные, яркие человеческие фигуры двигались перед самыми его глазами, так близко, что, казалось, до них можно дотронуться, ему представлялось, будто для него приоткрылся какой-то иной мир. Мир этот казался чрезвычайно непрочным, вот-вот рассеется без следа. Но потом Ашер вновь начинал различать эти пустые лица, не выражающие ничего, кроме напряжения всех сил.
В тишине, от выпитого вина он отяжелел и заснул. Спустя час проснулся, и первое мгновение никак не мог понять, где он. Возле дома затарахтел трактор. Он спустился по крутой лестнице. В сенях его встретили Голобич с женой и детьми. Связанные в пучки кукурузные початки дети несли, перекинув через плечо. На маленьком кукурузном поле уже работала вдова с теткой и старшим сыном. Пока дети таскали связки кукурузы на чердак, родители прочесывали поле и выламывали початки. Раньше-то, сообщила вдова Ашеру, на этой работе приходилось осенью надрываться месяца полтора, день за днем, а по вечерам еще вязать початки. А то иногда еще и снег выпадет, и тут уж совсем хоть плачь. Ашер слышал, как дети в доме, громко топая, носятся вверх-вниз по лестнице. Вот кто-то из них заплакал. Женщины стали срезать початки серпами, а сын вдовы помогал Голобичу скидывать их в кучу, так что получилось что-то вроде стога. В пучки они будут связывать початки только утром, сообщил Голобич, когда они слегка отсыреют и перестанут ломаться. Он успел отнести в кухню ковер и ящик груш, а дети собрали неочищенные початки в корзины и высыпали их в сенях. Ашер уже давно заметил, что у тетки вдовы от постоянного перетаскивания тяжести кривые ноги. Выражение лица у нее было такое, будто она работала механически, а сама думала о чем-то постороннем. Ашеру казалось, что ее повседневная жизнь так и проходит в оцепенении, лишь иногда она очнется, словно придя в себя после кошмара. В сенях сладковато пахло кукурузой. Оставшись один дома, Ашер невольно испугался, услышав в сенях какой-то странный шорох, но это всего-навсего прошуршали еще не очищенные кукурузные початки, просыпавшиеся из ящиков или соскользнувшие с вершины стога. Вошел Голобич, взгромоздился на стог, сорвал с нескольких початков листовую обертку, отогнул нижние листья и так связал ими несколько початков. Сделав таким образом сколько-то пучков и бросив их в корзину, он отнес ее на чердак и там развесил пучки на стропилах, а вернувшись, с торжеством заключил: «Вот как это делается». Потом он уехал вместе с женой и детьми. В кухне лежала в мышеловке убитая мышь. Металлическая проволока глубоко вонзилась ей в затылок, Ашер рассмотрел и маленькие зубки, и крошечные, круглые черные глазки, которые, казалось, вылезали из орбит. Когда-то он подолгу наблюдал, как его коллеги препарируют мышей, крыс и лягушек, и то тщание, терпение, кропотливость, с которой они проводили вскрытие, вновь превращало мертвых животных в сложные, замысловатые существа. Смерть только перевела их в другой разряд, и само существование этого разряда его успокаивало. (Теперь он был уверен, что смерть подвергала превращениям все, что ему приходилось видеть).
Когда стемнело, приехал Голобич с крестьянами, которые вызвались помочь ему вязать початки. Они уселись на стог и принялись связывать початки листьями и бросать их в корзины, а молодой парень таскал их на чердак. На окошке висела шляпа музыканта. Ашер заметил, что одно ухо у него заткнуто ватой. Он щеголял в красном, расшитом золотой нитью шелковом жилете, вставная челюсть была ему явно велика. Вероятно, он просто похудел. Впрочем, явилась и крестьянка, с которой он познакомился, когда вместе с Голобичем опробовал ружье и пистолет. Фамилия ее была Кюрбиш, она сидела рядом со своим гражданским мужем, похожим на китайца маленьким, толстеньким человечком в мятой шляпе. Он боялся поднять глаза, вязал пучки, низко опустив голову, словно опасаясь, что его вот-вот за что-то выбранят. О нем говорили, будто он батрачил больше сорока лет и, не имея своего угла, переезжал за работой с места на место. У Ашера сложилось впечатление, что он изо всех сил старается не привлекать к себе внимание. Стоило кому-нибудь к нему обратиться, как он еще ниже опускал голову. Пока он не напился, он ни разу не рассмеялся шуткам в свой адрес или в адрес своей жены. Едва его жена открывала рот, как его охватывал стыд, и он, если полагал, что никто этого не замечает, толкал ее локтем в бок. Тогда жена послушно придвигала ухо к его губам, чтобы выслушать, за что он ей выговаривает. Ашер то и дело посматривал на расписные мехи гармошки, которые в растянутом виде являли взору изображения эдельвейса, рододендрона и горечавки, а в сжатом — были сплошь красного цвета. Перламутровые кнопки от времени потеряли форму, хромированные инкрустации и темное дерево заблестели, как полированные. Музыка словно старалась попасть в ритм работе. Она строилась на простейших фразах, монотонных, повторяющихся, однако быстро сменяющих друг друга и требующих безупречности исполнения, и потому довольно трудных. К полуночи все початки связали в пучки. Одна из женщин веником вымела в сенях кукурузные листья, светло-желтыми и бледно-фиолетовыми пятнами испещрившие пол, корзины водрузили друг на друга. Когда кто-нибудь уходил, музыкант, наигрывая, провожал его до дверей. В кухне старушки танцевали с молодыми крестьянами. Последним, играя самому себе, ушел музыкант, скрылся во тьме.
Какое-то время Ашер лежал у себя в комнате. Потом до него донесся шум мотора. К его дому подъехала машина. Он ощутил что-то похожее на страх, сам не зная почему. Машина затормозила, мотор какое-то время еще работал, потом затих. Ашер включил свет и спустился по чердачной лестнице. Сходя вниз, он заметил на стропиле старое пальто, которое Голобич припас себе на зиму. Как легко было принять его за повешенного! «Хорошо, что это всего-навсего пальто», — подумал он. Он включил свет в сенях.
— Это ты? — послышался из-за входной двери голос его жены.
Ашер отворил.
— Я подумала, лучше приехать поздно ночью, тогда никто не заметит, — сказала она и обняла его.
«Я скрываюсь тут, как преступник», — пронеслось в голове у Ашера.
Его жена была невысокая, хорошенькая блондинка, коротко стриженная.
— А все-таки они тебя выследили, — возразил он ей.
Ашеру вспомнился человек в трактире, и он вполне верил тому, что тот ему сказал.
Ашер познакомился с Терезой, когда учился в университете. Она секретарствовала в частной клинике, где он работал. После того как они поженились, она ушла с работы. Она больше не хотела возвращаться на прежнее место, так как опасалась пересудов коллег. Когда Ашер начинал ее расспрашивать, она только отмахивалась: мол, пустяки, мелочи. Она никогда серьезно не задумывалась о будущем, но всегда с головой уходила в решение непосредственной проблемы. Родители Ашера развелись, отец не женился вторично, мать не вышла замуж. Отец владел аптекой, мать после развода бросила работу продавщицы и переехала к сестре, вместе с которой она время от времени отправлялась в какое-нибудь путешествие, впрочем, ненадолго и недалеко. У отца была подруга, однако она бросила его вскоре после развода, когда он заболел раком. Тем не менее, он прожил еще больше пятнадцати лет. Он хорошо ладил с Терезой, прежде всего потому, что она обладала чувством юмора и была довольно несерьезной (и Ашеру это пришлось по душе). Она приносила ему иностранные журналы, полевые цветы, фрукты, книги и сигареты. Ашеру нравилось, что у нее с его отцом свои секреты. Тереза занималась и воспитанием Катарины. Еще до школы она научила ее читать и писать. В сущности, прежде Ашер вел самую обычную, ничем не примечательную жизнь. Пожалуй, эту непримечательность можно было счесть самодовольством, по крайней мере, впоследствии у него возникло такое ощущение. Еще в сенях он рассказал Терезе о человеке в трактире, однако ее это только позабавило. Однажды, давным-давно, ему пришло в голову, что он — тугодум, а она — легкомысленная. Он никогда ей не изменял. Даже когда путешествовал в одиночестве, даже когда представлялся случай, — и вовсе не оттого, что его удерживал страх и что она могла узнать об измене, а оттого, что ему просто не хотелось изменять. С другой стороны, сам он не был до конца уверен в Терезе. Однако уступить собственным опасениям казалось ему мелочным, и потому они никогда не обсуждали тему измены. К тому же он был убежден, что его расспросы обидят Терезу, неважно, изменяла она ему или нет, а этого он ни в коем случае не мог допустить.
На чердаке было холодно. Когда он привел Терезу в комнату, ему особенно бросились в глаза ветхость и убожество дома. Перед женой он попытался сделать вид, будто ему все это совершенно безразлично. Все, что следовало бы обсудить, он обошел молчанием. На столе стоял микроскоп, и он притворился, будто так и надо. Однако втайне он был рад, что беспорядок в комнате оставляет впечатление, будто он занимается наукой, а не бездельничает. Потом он вспомнил о ружье и пистолете в изголовье. Он провел Терезу в кухню, притворился, что замерз, и вернулся в комнату. Там он вытащил оружие из-под подушки и спрятал его в бельевой ящик. Он подумывал, не вернуться ли ему прямо сейчас в город… Но что подумает Цайнер?.. Поэтому он промолчал. Лежа рядом с Терезой, он спрашивал ее, что за это время случилось в городе. Сам он лишь кратко упомянул о том, что с ним произошло. Следующим вечером он поедет в город, а Терезе об этом не скажет. Он обнял ее с заново проснувшейся страстью, удивившей его самого. В конце концов, он заснул, рано ли, поздно, он и сам не знал.
Проснулся он уже в полдень. Он нашел записку, на которой Тереза нацарапала несколько строк. На столе лежало чистое белье. Он собрал вещи и тут случайно обнаружил на столе картинку, которую его жена, наверное, привезла из дома и которую она подарила ему в начале их романа. Затем он отправился к Цайнеру и вместе с ним поехал в долину.
10
Он вернулся спустя неделю. Сгущались сумерки. В нетопленом доме стояла настоящая стужа. Пока они ехали по равнине, Ашер заметил, что Цайнер успел охладеть к политике. Хотя он и до выборов не очень-то интересовался политическими проблемами, теперь, стоило Ашеру завести об этом речь, он только пренебрежительно махнул рукой. По сути ничего не изменилось. Социал-демократы потеряли голоса избирателей, но смогли сохранить прежнее количество мест в ландтаге. Вдоль обочины — на коровниках, сараях, толстых деревьях — по-прежнему кое-где мелькали предвыборные плакаты. Неестественно большие лица политиков глядели на поля, пашни, деревенские улицы и луга.
Цайнер помог ему растопить печь в кухне.
— Вам придется купить дров, если собираетесь зимовать, — посоветовал он.
Из одного кухонного шкафчика послышался треск и хруст, а когда Ашер выдвинул наугад какой-то ящик, из него в беспорядке посыпались обрывки бумаги. Он сразу понял, что положенную туда оберточную бумагу изгрызли мыши, а открыв нижнее отделение, наткнулся на обглоданные пакетики чая, пачки сахара, упаковки соли и картонную коробку сухарей, от которых остались одни крошки.
— Это все мыши, — констатировал Цайнер. — Во время эпидемии бешенства мыши всего опаснее, потому что их никто не бережется.
Он помог Ашеру прибраться и расставить мышеловки. Всю неделю в городе Ашер жил очень уединенно, а уехав, решил, что жена и дочь вполне способны без него обойтись и особо не скучают. Иногда ему казалось, что он ни на что не годен. Возможно, стоило махнуть рукой на весь этот маскарад и просто сказать крестьянам, кто он и почему здесь поселился. Он же видел, какое скверное в деревне медицинское обслуживание. Раньше крестьянам самим приходилось оплачивать лечение, и потому они до сих пор неохотно обращались к доктору.
— Ладно, посмотрим, — сказал он себе в конце концов и попытался больше об этом не думать.
На следующее утро на листьях в лесу появилась белая сверкающая кромка льда. На лугах кое-где еще не увяли бедренцы, кокорыши и борщевики, с их широкими зонтиками, которые напоминали Ашеру брюссельские кружева, а теперь, покрытые инеем, больше походили на причудливые льдинки, упавшие с неба. Было еще рано. Он склонился над травой и стал с восхищением рассматривать прихваченные морозом цветки клевера, — ни дать ни взять колючие снежки меж травинками. Низиной он прошел в Санкт-Ульрих, купил там продуктов и не спеша отправился назад через деревню. На въезде в деревню стоял один из двух магазинов, в котором приютился и маленький ресторанчик. Наискосок от него располагался второй универсальный магазин, оба были построены недавно и почти неотличимы друг от друга. Из второго открывался вид на кладбище. Покупая продукты, Ашер расслышал слова какой-то женщины, что ее муж, мол, старшина Товарищества[3]. Флаг Товарищества Ашер уже видел в бальном зале церковного трактира[4], на стенке за стеклом. К кладбищу, кое-как примостившемуся на склоне холма, непосредственно примыкала церковь с домом священника, за ним протянулись частные дома, вновь отстроенная начальная школа, маленькое, покрашенное белой краской здание пожарной части и холм, на котором со скрипом вращался деревянный ветряк. На улице он никого не встретил. Из школы доносились детские голоса. Ему вспомнилось, как он познакомился со священником, и он решил к нему зайти. Когда он нажал на рычажок механического звонка, белая гардина на соседнем окне слегка отодвинулась. Спустя некоторое время священник отворил дверь.
— Что вам угодно? — сдержанно спросил он.
— Я случайно проходил мимо и решил зайти, — ответил Ашер.
— Входите, — пригласил священник, не выказывая особой радости.
В передней на подставке стояли один мужской зонтик и один женский. Только теперь Ашеру бросилось в глаза, что священник был в пальто и явно не собирался его снимать. Он провел его в кабинет, закрыл дверь и предложил ему сесть. В кабинете было два окна. Одно выходило на церковь, другое — на школу. В середине комнаты, под лампой со стеклянным абажуром, стоял стол, накрытый белой скатертью, а вокруг него — несколько стульев, в углу красовался выкрашенный розовой краской сейф, в котором, вероятно, хранились деньги, собранные на нужды прихода. Сейф был старинный, украшенный замысловатыми завитками. У стены виднелся письменный стол, на нем громоздились всевозможные предметы: чернильница, пресс-папье, прижимы для бумаг и тому подобное. В другом углу стоял шкаф со стеклянными дверцами, за ними выстроились ряды приходских метрических книг. Священник, не снимая пальто, сел напротив Ашера и вопросительно посмотрел на него. Лицо у него было удлиненное, узкое (теперь Ашер это отчетливо рассмотрел), нос крючковатый, уголки рта опущены, а верхняя губа — толстая и, как потом заметил Ашер, после долгого молчания приклеивалась к нижней, от которой с усилием отделялась только после того, как он произносил несколько слов. Его густые, темные волосы были аккуратно причесаны, но на затылке немного взъерошены. Он носил очки в темной роговой оправе. Его что-то мучило? Он от чего-то страдал? Неужели свободный человек мог производить впечатление осужденного на пожизненное заключение?
— Надеюсь, я вам не помешал? — осведомился Ашер.
Священник молча покачал головой. Его белые руки выделялись на столешнице. Внезапно он спросил, а в чем, собственно, дело? Этот вопрос удивил Ашера. Разве он не сказал ему, что он всего-навсего проходил мимо и решил зайти? И все-таки еще немного, и он начистоту рассказал бы обо всем, что его так терзало. Удержало Ашера либо то, что священник смотрел не на него, а в окно, либо то, что он чувствовал, как тяготит священника его присутствие. В любом случае, священник чем-то отталкивал Ашера, и это вселяло в него неуверенность. Он ответил, что это все так, пустяки, они же познакомились две недели тому назад, и вот он случайно зашел…
— У меня сегодня мало времени, — уклончиво ответил священник. — Через час ко мне придут прихожане за цветами…
И вообще он очень занят.
Ашер пристыжено молчал. Он не находил в себе силы встать и уйти. Ну зачем он вообще заявился к священнику? Разве тот не показался ему еще при первой встрече неприветливым и враждебным?
— Мне просто было интересно, вот я и решил вас навестить, — выдавил он из себя. — Видите ли, мне было любопытно…
Священник недоверчиво поглядел на него и снова отвернулся.
— Мне было любопытно знать, — продолжал Ашер, — как вообще здесь живут люди.
— Они не окончательно утратили веру, — к удивлению Ашера, произнес священник.
Он заговорил медленно, словно предварительно обдумывая каждую фразу:
— Когда меня назначили в этот приход, я собирал деньги на обновление настенных росписей в церкви. Тогда я, дом за домом, обходил всех прихожан, и ни один мне не отказал. Трудности возникают с теми, кто каждый день ездит на работу в город. Такие люди сильно меняются, и не к лучшему.
Он замолчал, и безмолвствовал так долго, что его верхняя губа снова приклеилась к нижней. Ашер проследил за его взглядом и тоже посмотрел в окно. У дома, позади школьного двора, раскинулась широкая крона каштана. Вдоль зеленого деревянного забора, отделявшего дом священника от школы, шли дети.
— Раньше здесь стояла маленькая готическая церковь, потом ее снесли и на ее месте построили новую, уже в стиле позднего барокко, — добавил священник спустя некоторое время.
Ашер поднялся.
— Дом, в котором мы сейчас сидим, — тоже старый. Его пора отремонтировать, — продолжал священник, а потом наклонился к стене и, упомянув о влажности в помещении, показал Ашеру черные пятна на крашеной штукатурке.
Он проводил Ашера и отворил ему дверь.
— Я же не знал, что вы придете, — сказал он извиняющимся тоном, на прощание подав ему руку.
11
В следующие несколько дней Ашер сходил пешком в Хаслах и Унтерхааг. По утрам он просыпался, чувствуя себя еще более разбитым, чем вечером. Когда он вставал и начинал заниматься по дому, ему некоторое время казалось, будто он заключен в глубине гранитной скалы. Он забрал лисью шкуру. Лапы и когти на ней сохранились, но вместо глаз зияли две черные дыры. Он отнес ее к себе в комнату. Вечером он завернул ее в бумагу и вместе с письмом отправил жене. Он ходил к спущенным прудам, отколупывал кусочки грязевого налета со стеблей тростника, камней и свай и рассматривал под микроскопом обнаруженных там живых существ, которых окрашивал нейтральным красным. Пруды часто производили странное впечатление. Их дно покрывали слоем извести, чтобы уберечь от болезней следующее поколение рыбы. В маленьких ложбинках, впадинках и углублениях образовались лужицы, покрытые маслянистой, поблескивающей известковой пленкой. Там, где когда-то проложил себе русло подвод воды, протянулась темная колея, узенькая, с неожиданными изгибами, точно человеческая вена. Ашер обошел пруды. Бумажные пакеты с известью громоздились возле мостков, с которых кормят рыбу. Он часто находил раковины беззубок, раскрытые здесь же, прямо на берегу. Раковины лежали на земле, как оторванные надкрылья жука. Внутри они были перламутровые. Он засовывал их в рюкзак. Иногда он обнаруживал на берегу свои собственные следы, уже успевшие наполниться водой. Однажды его позвали в коровник, где как раз телилась корова. Фермер обвязал веревкой передние копыта теленка, уже показалась его мордочка. После того как они вдвоем потянули за веревку, из красно-желтой массы выскользнул безжизненный теленок. Вялый и неподвижный, лежал он на полу. Ашер помог обтереть его свежим сеном; шкура у него была желтоватая, словно он вылупился из яйца. Потом фермер укутал теленка старыми одеялами, и тогда он попытался встать.
Вечера тянулись для Ашера томительно долго. Хотя на обратном пути он останавливался передохнуть в ресторанчике при магазине, темнело быстро, и иногда он возвращался домой на попутной машине, а то и на тракторе.
Однажды вечером он задержался у вдовы, и она стала рассказывать о руднике. На следующий день он отправился в низину возле местечка Санкт-Ульрих разыскать место, где раньше возвышался рудничный копёр[5]. На этом месте раскинулось широкое, перепаханное поле. Ничто не напоминало больше о руднике. Второй шахтный ствол целиком засыпали. Первоначально рудников было два. Оба принадлежали частным владельцам. Первый закрыл рудник, потому что добыча угля перестала приносить доход, а второй — потому что состарился и не имел сына-наследника, которому мог бы передать дело. Правда, угля хватило бы еще лет на десять-пятнадцать. Штреки-то, сказала вдова, были высотой всего полметра. Работать приходилось лежа. Рудничные вагонетки под землей тащили лошади, стойла тоже были устроены в горе. Об автоматической подаче воздуха тогда никто и слыхом не слыхивал: одному горняку вменялось в обязанность обслуживать вручную насос для подачи свежего воздуха. На том руднике, что поновее, электричество день и ночь производила огромная паровая машина. После смены крестьянам приходилось еще и в огороде копаться, и скотину кормить, и все же они очень жалели, что рудник закрывают, ведь многим теперь пришлось за тридевять земель ездить на работу. Тот, бойкий на язык, что то и дело перебивал оратора на предвыборном собрании, — Ашер успел рассказать ей об этом, — был на руднике членом производственного совета. Он больше двадцати лет добывал уголь, а когда шахта закрылась, не нашел другой работы. Само собой, он был социалист. И коммунисты у них водились. Однако с тех пор как рудник закрыли, их становится все меньше и меньше. В другой раз она рассказала о бургомистре, члене Национал-социалистической партии, которого в последние дни войны повесили партизаны. Однако многие поддерживали национал-социалистов, все потому, что были кругом в долгах, а закон их в одну минуту освободил от всех долгов. А потом, если бы не война, то где уж крестьянским сыновьям повидать мир: они побывали и в России, и в Африке; один, ее сосед, служил матросом на подводной лодке. Но, конечно, почти в каждой семье погиб отец, сын или брат. Она-де не знает ни одного двора, где бы хоть кто-нибудь не погиб. В часовнях и на кладбищенских стенах Ашер уже видел памятные доски с именами погибших. В Гляйнштеттене был воздвигнут памятник павшим во время двух мировых войн. У ангела, венчающего памятник, откололась голова, памятные доски с именами павших и гильзы снарядов скрыла разросшаяся туя. Как-то в воскресенье ему довелось увидеть шествие Товарищества. Мужчины несли во главе колонны расшитый стяг и, сплошь в штирийских народных костюмах, шли за ним стройными рядами, под марш, исполняемый местным оркестром. Говоря о Товариществе, люди обыкновенно называли его «Союзом ветеранов», потому что большинство его членов составляли старики, а молодежь, отслужившая в армии, вступала в него неохотно.
Однажды к нему примчался на мотоцикле Голобич и объявил, что один человек, живший неподалеку от Хаслаха, изнасиловал двенадцатилетнюю девочку. Он завлек ее к себе в дом, посулив денег, а потом переоделся в женское платье, и она перестала его бояться.
Он уговорил Ашера поехать с ним в Хаслах. Дом преступника стоял на окраине местечка. Ашер еще издали заметил возле дома небольшую толпу, оттуда как раз отъезжал на мопеде толстый жандарм.
— Поймали уже? — спросил Голобич, притормозив и слезая с мотоцикла.
— Да, — ответила одна из стоящих поблизости женщин. — Его вывели из дому и увезли на машине.
Она была высокая, худая, в темном пальто и домашних тапочках.
— Он что-нибудь сказал?
— Нет, ни слова.
Ашер заметил, что домик у преступника был маленький, всего одна комнатка и сени. Возле одного из трех окон стояли пчелиные ульи, покрытые полиэтиленом, на них лежали борти.
— Да и человек-то вроде неплохой, — сказала какая-то женщина. — С ним лет десять тому назад произошел несчастный случай, вроде как головой повредился. Он несколько лет пробыл дорожным рабочим, а потом вдруг оделся в черное и заявил, что он — священник.
Все, мол, приходскому священнику в Санкт-Ульрихе досаждал, все таскался к нему да «по-латыни» говорил, а сам-то знать не знал латыни. В конце концов, священник установил на двери глазок, и когда он звонил, ему не открывал. А еще он делал предложение нескольким женщинам, по большей части, пожилым, но ни одна за него не пошла, хоть он и грозил в случае отказа жизни себя лишить.
Женщина указала на маленькую часовню, вход в которую прикрывала отломанная дверца от шкафа. На крыше возвышался деревянный крест.
— А вон там он держал кур и кроликов, — продолжала она, махнув рукой в сторону покосившегося деревянного сарайчика.
За домом помещалась низенькая беседка, в которой сушилось белье. На белом шатком кухонном стульчике сидела жирная муха.
Из-за фруктовых деревьев по пыльной дороге подъехал грузовичок сельскохозяйственного кооператива. Из него вышли двое в рабочих комбинезонах и стали сваливать в кузов мешки с цементом, которые выгрузили накануне. Закончив погрузку, они присоединились к женщинам, и один из них спросил Ашера:
— Вы из полиции?
— Нет.
— Из газеты?
Ашер покачал головой, и тот в задумчивости умолк.
— В часовне у него, — добавил он спустя некоторое время, — вы бы только посмотрели, — балдахин из голубой ткани. Он надевал женское платье и в таком виде служил мессу.
— Он проповеди читает, представьте себе, — подхватил второй. — Проезжаю я как-то раз на грузовике и вижу: стоит он и читает проповедь, но я ничего, поехал себе дальше. Он на меня тоже внимания не обратил. Через два часа еду назад, — а он все стоит перед часовней и знай себе проповедует. Я для смеха посигналил, и его в дом как ветром сдуло, только и видели.
Он засмеялся, собравшиеся крестьяне тоже расхохотались.
Кто-то в толпе сказал: «Мне пора», и вслед за ним разошлись и остальные.
— А в погреб вы не заглядывали? — спросил водитель грузовика. — А стоило, такое зрелище: море пустых бутылок. А на чердаке платья, он их накупил целую кучу на блошиных рынках. — Он помолчал и подумал. — А человек он вообще-то неплохой… Щедрый… Я пару лет тому назад спросил, нельзя ли мне у него собрать паданцы для свиней. Он сказал: да на здоровье, и я с утречка пораньше, как сейчас помню, в воскресенье приехал, с двумя своими дочками, одной тогда шесть было, другой восемь. Мы в половине восьмого приехали, и он мне сразу же бутылку пива выставил, а девчонкам двухлитровую бутыль вина… А они тогда совсем маленькие были…
Водитель снова задумался.
— Кто знает, что там на самом деле произошло, — подытожил кто-то. — Нас-то там не было.
— Это точно.
На следующий день Ашер заметил в низине человека с ружьем, замершего у входа на крестьянский двор. Это был высокий, ладный человек, подстриженный «ежиком», каждое утро отвозивший на своем тракторе на молочную ферму бидоны с молоком, которые крестьяне оставляли на скамьях под окнами. Ашер помнил его по охоте. Несмотря на холод, он был в одной рубашке.
— Стойте, где стоите, не двигайтесь! — крикнул он, едва завидев Ашера.
Тут Ашер разглядел, как по двору бежит лиса. Шкура у нее была взъерошенная, нижняя челюсть отвисла. Она уселась на землю, уставилась на крестьянина, вскочила, и в то же мгновение на нее набросился пес, вырвавшийся из хлева. Жена крестьянина тоже хотела было выйти из хлева, но он крикнул ей, чтобы она не высовывалась.
Испуганные куры и утки взлетали кто куда или кидались прочь, а пес вцепился лисе в горло.
— Ко мне! — скомандовал крестьянин псу. — А ну, быстро ко мне, а то в тебя попаду!
Из пасти у лисы выступила пена, и когда пес неожиданно ее отпустил, она не двинулась с места, лишь разинула пасть. Она попыталась приподняться, но смогла только неловко повернуться, перекатилась на бок и впилась зубами в ствол дерева. В то же мгновение раздался выстрел, отбросивший лису в лужу, где она и осталась лежать неподвижно. Крестьянин выстрелил еще раз, но лиса больше не шевелилась.
Тем временем Ашер торопливо спустился к дому крестьянина. Дом был старый, одноэтажный, с дверью, выкрашенной в белую и зеленую полоску, и зарешеченными окнами. Во дворе стояла повозка, за хлевом виднелась навозная куча. Он подбежал к крестьянину, который склонился над лисой и внимательно ее разглядывал.
— Лиса бешеная, — заключил он.
Тут из хлева вышла его жена и остановилась в отдалении.
— А где собака? — спросил крестьянин.
Пес с окровавленной мордой вылез из-под повозки и стал обнюхивать убитую лису.
— Ни к чему не прикасайтесь, — предупредил Ашер.
В открытой пасти лисы застрял кусок влажной коры, к шкуре приклеились длинные нити слюны.
— Лиса больная. Придется мне застрелить собаку, — сказал крестьянин.
Его жена заплакала, утирая глаза концом передника.
— Лиса его укусила, видите, вон там, на морде, — сказал крестьянин.
— Вы можете посадить его на цепь и вызвать ветеринара, — предложил Ашер. — Только смотрите, осторожнее, не прикасайтесь к нему.
— Нет, не могу рисковать, — возразил тот. — Кто знает, вдруг еще укусит кого.
Он вскинул ружье, но в то же мгновение пес поднял голову и посмотрел ему в глаза. Крестьянин помедлил, но потом все-таки нажал на курок, сказав: «Сожалею». Не оборачиваясь, он понес ружье в дом. Жена пошла за ним следом. У двери она остановилась и спросила у Ашера:
— Не хотите плодового вина?
Ашер покачал головой. Женщина исчезла в доме и вскоре вернулась с кружкой вина. Следом за ней пришел ее муж. Вокруг собачьей головы уже натекла лужица крови. Из старого ящика, превращенного в садок, таращился кролик. В сарае аккуратной поленницей были сложены дрова, перед ней посреди целого стога стружек стояла циркульная пила. Пес лежал на боку, бессильно вытянув лапы. Крестьянин подошел к нему и произнес:
— Да, хорошая была собака…
Он отвернулся.
— Пейте! — сказал он Ашеру.
Шкура лисы казалась мокрой. Всклокоченная, взъерошенная, она покрывала отощавшее, костлявое тело, лапы были черные, уши внутри опушены волосками.
— Я ее из кухни увидел, — пояснил крестьянин. — Она уселась во дворе, и сидит себе, хоть бы что. Я, конечно, хвать ружье, она ни с места, тогда я из дому выбежал…
Он взял кружку и отпил глоток.
— Надо сообщить властям, — сказал он, помолчав.
К дому на тракторе подъехал другой крестьянин. Он с любопытством посмотрел на них из кабины, заглушил мотор и вылез.
— Я услышал выстрел, и дай, думаю… — начал было он.
Увидев пса и лису, он замедлил шаги.
— Мне больше ничего не оставалось.
Крестьянин кивнул.
— Это самое разумное.
— Надо сообщить властям, — повторил развозчик молока.
Он повернулся к жене и сказал, чтобы она сама позвонила. Заметив, что она колеблется, он прибавил:
— Это наш долг.
— Не трогайте его лучше, пусть так лежит, потом приедут и его заберут.
За неделю, проведенную в городе, Ашер прочитал о бешенстве все, что смог найти.
— У вас есть теплая вода? — спросил он. — Мы должны вымыть руки.
— Пусть кто-нибудь посторожит животных, — настоял развозчик.
Другой кивнул.
— Я тут ничего не буду трогать, — заверил он.
В доме они вымыли руки. Кухня оказалась просторной. Ашер обратил внимание на две металлические кровати, покрытые белой эмалью, и на диванчик у стены.
Женщина, вероятно, проследила за его взглядом:
— Здесь дети спят, они сейчас в школе.
В углу примостился столик с деревянным табуретом, над ним висело раскрашенное изображение какого-то святого, напротив стоял покрашенный белой краской буфет, рядом с ним раковина и железная печка. Отворилась дверь, и в кухню, опираясь на палку, вошла маленькая старушка. Она села за стол, прямо под юбками и платьями, висевшими на стене.
Жена крестьянина ушла звонить, а сам он принялся за хлеб с салом.
— Возьмите и вы, — предложил он бутерброд Ашеру. — А шнапса не хотите?
Он встал и до краев налил Ашеру маленькую стопку.
— Я его сам перегонял… Ну, как вам?
День выдался пасмурный, дождливый.
— Скоро уже снег выпадет, — сказала старушка.
Через час во двор свернул «фольксваген», медленно подъехал к самому крыльцу и затормозил. Из него вышел коренастый человек в шляпе. Теперь собаку и лису окружили человек двадцать. Человек поздоровался и направился осматривать застреленных животных.
— Ну, и что у нас случилось? — осведомился он, присев на корточки.
Внимательно выслушав рассказ, он достал из багажника чемоданчик и вытащил оттуда нейлоновые перчатки. Когда он уносил собаку, жена крестьянина расплакалась.
— Что ж поделать-то, — протянул крестьянин, — мне ничего другого не оставалось.
Толстяк, как объяснили Ашеру, был ветеринар из Арнфельса. Он убрал трупы собаки и лисы в герметичные пакеты и положил их в ящик, набитый мелкой соломой и обрезками бумаги.
— Все остальное вам сообщат, — объявил он и уехал. Крестьянин взял лопату и закидал лужу крови стружками.
— Останьтесь, отобедайте с нами, — пригласил он Ашера.
Все остальные, не сговариваясь, вдруг куда-то заторопились и разошлись.
— Триста шиллингов мне посулили за лисью шкуру, — сказал крестьянин. — Все лучше, чем ничего.
Рассматривая вечером под микроскопом хитиновые панцири насекомых, Ашер подумывал написать жене и рассказать обо всем, чему он стал свидетелем. Он поговорил с ней по телефону, но ни словом не обмолвился о том, что видел. Он начал было письмо, но потом порвал и снова стал разглядывать скелет навозной мухи. На свету он казался желто-коричневым. Многократно увеличенный, он превратился в экспонат технического музея, в какой-то древний аэроплан. Только по голове можно было узнать живое существо. Он медленно осмотрел тельце, крылышки и конечности, а потом снова вернулся к созерцанию головы. Какая здоровенная муха! Чем дольше он ее разглядывал, тем больше она превращалась в доисторическое чудовище. В его воображении она принимала облик гигантского монстра и парила над исполинскими хвощами и папоротниками.
12
На следующий день сотрудники окружного управления расставили стенды, из которых явствовало, что община объявлена зоной распространения бешенства. Охотникам вменялось в обязанность отстреливать лис, сокращать их поголовье, всех убитых лис предписывалось отправлять в Вену, в Институт ветеринарии. Собаки, бегающие без поводка, и кошки, покинувшие хозяйский двор, отныне считались бродячими, и их надлежало отстреливать. Деревенские жители обсудили все эти указания в универсаме и со всем согласились. Случалось, что Ашера приглашали в тот или иной дом зачитать листовки. Ашер ограничивался тем, что подчеркивал: надо тотчас вызывать врача и сообщать о случаях бешенства в жандармерию. Ни в коем случае нельзя прикасаться к обнаруженным трупам животных, кроме того, существуют профилактические прививки. Поначалу его слушали внимательно, но, как только он пытался подробнее объяснить ситуацию, крестьяне проявляли нетерпение или просто уходили. Детали интересовали только охотников.
В первый же день эпизоотии один из охотников подъехал на грузовике к магазину и посадил в кузов других охотников с собаками, — прочесать лисьи норы в охотничьих угодьях. Некоторых из них Ашер узнал.
— Хотите с нами? — крикнул ему из кузова Хофмайстер.
Ветви деревьев покрывал иней. Над лугами поднимался туман. Был ясный холодный день.
— Мы тут почти все норы знаем, — заверил Хофмайстер.
Какой-то охотник откинул приклад своего дробовика и подул в ствол. Раздался звук, похожий на глухой свист.
— Мы запускаем в норы собак и поджидаем у отнорков. А как лисы выскочат, тут-то мы их и подстрелим. Бывает, раним и собак, если они в норах сцепятся с лисами. Пару лет тому лиса оторвала моему псу нижнюю челюсть, с тех пор я собак и не держу, — сказал Хофмайстер.
Они затормозили и выпрыгнули из кузова.
Спускаясь между елями по крутому склону, Ашер с трудом поспевал за охотниками. Из низины до него донеслось журчание ручья.
— Сегодня вальдшнепов не добудем, — объявил Хофмайстер, пока они выжидали в засаде.
— Да они уж улетели, — добавил Роги. — На то они и перелетные.
Над полем напротив поднимался пар. Светило солнце. Старик в синем переднике и в штирийской куртке лопатой резал дерн и закидывал его в тачку. Он был в бесформенной шляпе и резиновых сапогах. Повсюду, где из земли торчали корни, травы или сорняки, поле покрывали белые крапинки, точки или линии. Снова послышался глухой свисток из откинутого ствола. Роги тут же спустил собаку.
— Улюлю! — крикнул он. — Улюлю!
Он опустился на корточки возле норы и пытался что-то там разглядеть. Собака принялась разрывать нору.
— Надо нам постараться выгнать лису из какого-нибудь отнорка. Это будет нелегко, — пояснил Хофмайстер. — Мы ведь даже не знаем, есть лиса в норе или нет.
Ашер кивнул. Роги лежал на земле рядом с Ашером, вытянувшись во весь рост и прильнув к лазу, так что теперь Ашеру оставалось только разглядывать его шляпу.
— Думаю, сегодня нам не посчастливится, — продолжал Хофмайстер.
Собака довольно долго и безуспешно рыскала по лисьей норе, после чего они двинулись дальше. Они вышли из лесу и пересекли луг. Ашер заметил, что трава в долине побелела от инея, а на вершине холма, на солнце, уже снова обрела естественный цвет. Солнечные лучи падали в окутанную туманом низину, напоминая прозрачные персты. В какой-то миг один из охотников сорвал с плеча ружье и выстрелил в ореховку, сидевшую на ветке. Судя по взметнувшимся перьям, Ашер решил, что он попал в цель, однако птица не шелохнулась. Они подошли ближе и увидели, как она медленно умирает. Она закачалась, потом какой-то охотник сдернул ее с ветки и сильно стукнул по голове палкой, на которую опирался при ходьбе. Было уже за полдень, и у некоторых охотников начиналась смена на кирпичном заводе в Дойчландсберге и в Гассельсдорфе. Они забрались в грузовик и поехали к магазину. Хофмайстер положил Ашеру руку на плечо.
— Знаете что, — сказал он, — приходите-ка ко мне на свадьбу моего сына.
— С удовольствием, — ответил Ашер.
— На следующей неделе. Я вам потом объясню, когда, куда. Придете?
— С удовольствием, — повторил Ашер.
— Вот увидите, не пожалеете.
Он сделал большой глоток шнапса из бутылки и снова ее убрал.
— Подождите только, когда снег выпадет, вот уж мы лис только так отстреливать будем, — сказал он, помолчав. — На пороше-то их следы видны как на ладони. Тут-то им и каюк.
— Он купил лисью шкуру, — сказал кто-то из охотников.
— Правда? — спросил Хофмайстер. — И сколько заплатили?
— Шестьсот.
— Шестьсот? Теперь, когда объявлена эпидемия бешенства, платить придется вдвое.
Они затормозили у магазина. Поблизости дети пили лимонад прямо из бутылок или слонялись без дела с ранцами за спиной, разглядывая охотников. «А ну, пошли домой!» — прикрикнул на них один из охотников, выпрыгивая из кузова. Дети таращились как ни в чем не бывало и уходить не торопились. Когда Ашер выбрался из грузовика, к нему подошел почтальон в длинном зеленом прорезиненном плаще и подал ему письмо. Ашер узнал почерк жены. Письмо было длинное, и прочитать его на месте он не мог. Он быстро пролистал его, добрался до конца и пробежал глазами последнюю страницу. Судя по всему, ничего страшного не случилось. Он сложил письмо и сунул в карман.
К этому времени с полей уже вернулись некоторые крестьяне. Их машины с открытыми дверцами стояли у магазина. В одной работало радио. Ашер вместе с несколькими охотниками остановился у магазина. В ясный день вроде сегодняшнего оттуда открывался вид до югославской границы. Только в низинах клубился пронизанный солнцем туман. Виднелись маленькие домики, но Ашер не разглядел ни одного человека, ни одной машины. На одном из холмов теснилось несколько деревянных строений. Красные крыши поблескивали в солнечных лучах. В такой погожий день нельзя было сидеть дома. И он и отправился к вдове и во время обеда рассказал ей обо всем, что с ним сегодня приключилось. Упомянул и о том, что Хофмайстер пригласил его на свадьбу сына. На плите стояли кастрюли со всякой едой, тетка вдовы шила рубаху. За окном Ашер заметил доску, исписанную детишками: «Отец Йокеля послал, чтобы тот пшеницу жал. Чтобы тот пшеницу жал, отец Йокеля послал. Йокеля отец послал, чтобы тот пшеницу жал. Чтобы тот пшеницу жал, отец Йокеля послал, а Йокель взял, и убежал»[6].
— Меня тоже пригласили на свадьбу, — похвасталась вдова.
Она поправила платок. Чулок у нее на пятке был порван. Она вышла замуж после войны, поведала она, вымыв посуду. С будущим мужем она-де познакомилась во время войны. Но после войны он у нее больше не появлялся. Она тогда служила в кухарках у приходского священника. Она уж и рукой махнула, а когда узнала, что у него появилась другая подружка, вот нисколечко не расстроилась. И тут глядь, он появляется откуда ни возьмись и спрашивает, а не выйдет ли она за него замуж. Ну, она, само собой, удивилась и сказала, что ей надо подумать. Недели через три пришла она в Санкт-Ульрих на любительский спектакль, а к ней подходит приятель ее кавалера и передает от него письмецо, а в нем значится: давай мне, мол, ответ, и немедля. Она за эти три недели успела полежать в больнице, ей вырезали аппендицит, и никто-то ее не навещал, ну ни одна живая душа. Вот она и подумала, что одной-то тоже несладко. Вспомнила, как в больнице одна-одинешенька куковала, и послала кавалеру своему письмо: мол, согласна.
Вечером пошел снег. Ашер сидел в кухне и жег последние поленья. До того он перетащил с чердака матрас. И теперь, устроившись поудобнее, читал письмо жены. Ему не хотелось, чтобы она хоть что-то от него утаила. Однако никаких скрытых намеков на неблагополучие он в письме не обнаружил и потому перечитал его еще раз. Потом положил его на стол, чтобы весь вечер иметь перед глазами и, когда захочется, перечитать.
Микроскоп он накрыл нейлоновым чехлом и вынес во двор. Пусть всю ночь остается под открытым небом.
13
К утру снег так и не перестал. Ашер оделся и вышел из дому. Винты фокусировки на микроскопе от холода вращались туже, чем обычно, он поискал костное масло и добавил крошечную каплю в смазку их подшипников. Любой предмет, который он откладывал в сторону, издавал приятный легкий звук. Пинцет, не терзая слух, царапал предметный столик, препарат скользил по предметному стеклу с отчетливым влажным писком. Первый снежный кристалл, который он рассмотрел под микроскопом, напоминал стеклянный цветок. Его лучи соединяла волнообразная линия, и потому казалось, что внутри одного цветка притаился другой… Как быстро он затуманивался и начинал таять… Следующий походил на какую-то архитектурную деталь с остроконечными балками, сами лучи украшало что-то вроде растительного орнамента. Потом он обнаружил шестиугольную звезду, на концах которой росли другие, поменьше, пятиугольные. Их очарование создавалось соразмерностью, геометрически точным повторением деталей. Он вспомнил, как в детстве его бабушка прорезала узоры в сложенном листе бумаги, и стоило его раскрыть, как взгляду представали сложные симметричные конструкции. Кристаллы от снежинок он отделял тонкой кисточкой, но, как ни старался он делать это осторожно, частицы снежинок все равно отламывались. Какое послание несли ему эти структуры? Частью какого порядка, различимого в мельчайших деталях мироздания и бросающегося в глаза в величайших, они являлись?
Он разглядывал снежинки довольно долго, пока не замерз, потом отнес микроскоп и инструменты в дом и решил сходить к вдове, чтобы разузнать насчет дров. Утром, едва проснувшись, он вспомнил о жене и вновь перечитал ее письмо.
Внизу, в долине, стояли деревянные козлы для сушки сена, стога кукурузы походили на заснеженные курганы, по белому лугу, высоко подпрыгивая, скакала ворона. В кухне у вдовы как раз разделывали свиную тушу. «На улице-то холодно», — пояснил мясник, когда Ашер с ним поздоровался. Вдова вошла в кухню с большим бидоном молока и так стукнула им оземь, что он задребезжал. Ашер спросил, не помочь ли ей, но она отказалась. Тогда он спросил, где можно купить дров.
— У соседа, — ответила она.
Мясник был седовласый, с выступающим подбородком. Его белый передник испещряли кровавые пятна.
На вопрос Ашера, не работает ли он забойщиком скота, он ответил, что вообще-то работает на лесопильне, а свиней режет так, «для собственного удовольствия».
— Вот увидите, какой он у нас замечательный музыкант, — заверила вдова. — Сорок лет в санкт-ульрихской церкви играет на органе.
Ашер заметил, что с вершины холма небо кажется разноцветным: там светлее, здесь темнее, там серое, там желтое, здесь белое, вон там оттенки переходят один в другой точно клубы дыма, тут оно матовое, однотонное.
По крутому склону холма он поднялся к соседу, навстречу ему с лаем выбежала овчарка и запрыгала вокруг него. Сосед был выдубленный непогодой, сухощавый человек с загрубевшей кожей в морщинах и светлыми глазами. Он носил небольшие усы, голову прикрывал шляпой. Ашер почти не понимал, что он говорит. Он пожал ему руку и объяснил, что пришел купить дров. Рука у соседа была жесткая и мозолистая, так что поначалу казалась неживым предметом. Ашер не сразу ощутил ее тепло. Сосед кивнул и произнес что-то непонятное, а потом повел Ашера показать ему мастерскую, которую, насколько уловил Ашер, он сам оборудовал в сарае.
— Верстак, — похвастался он. — Сам соорудил.
Сквозь окно внутрь проникал бледный зимний свет, за стенами простирались заснеженные луга.
В комнате сидели три девочки. Младшая держала в руках ножницы, то и дело повторяла «шшш», «шшш» и негромко смеялась неизвестно чему. Присмотревшись, Ашер понял, что она психически больна. Она была хорошенькая, белокурая, сидела, зажмурившись и качая головой в такт ей одной слышной мелодии. «Шшш… Шшш… Шшш», — безостановочно шипела она, а потом встала, вытянула руки и стала покачивать бедрами под собственное шипение. На ней была голубая куртка с капюшоном и красные резиновые сапоги, и Ашеру показалось, что она хочет с ним поговорить. Он погладил ее по взъерошенным волосам и взглянул на двух других девочек. Старшая смирно сидела за столом и вязала крючком платьице для куклы. Она тоже была хорошенькая, с полными яркими губами, большеглазая, черноволосая. Почувствовав на себе взгляд Ашера, она опустила голову. Рядом с ней примостилась средняя. Она была в одной полинявшей фланелевой рубашонке, черты у нее были тонкие, выражение лица беспрерывно менялось, во рту на месте переднего зуба красовалась дыра, губы были вымазаны какой-то едой. В руках она держала наперсток и иголку.
— Как тебя зовут? — спросил Ашер младшую.
— Йййа! — ответила девочка.
— Это значит «я», — пояснил отец.
Ашер сел на скамью в углу. В кухню вошла заспанная хозяйка. У нее были светлые глаза, в ушах виднелись крошечные золотые сережки. Она поставила перед ним стакан шнапса.
— Ну, залпом! — напутствовала хозяйка.
Ашер осушил стакан, и сосед рассмеялся. Он подтянул штаны, подмигнул и, слегка откинув голову, бросил на жену особый взгляд, который она тотчас истолковала должным образом и налила еще. Младшая девочка принялась кромсать ножницами большую фотографию. Закрыв глаза, она отрезала от нее уголки и полосы, которые падали на пол. Время от времени она издавала какой-то звук, кривила рот и повторяла этот звук снова. Потом отложила ножницы и снова зашипела, нашла на подоконнике какую-то шерстяную нитку, покачиваясь, стала обматывать ею голову, села на колени к двенадцатилетней сестре, снова соскочила и шлепнула ее по ноге. Не успела сестра дать сдачи, как она уже кулачками колотила в плечо мать. Ашер заметил, что на глазах у нее выступили слезы, личико стало подергиваться, словно она не могла решить, расплакаться ей или сдержаться. Она под столом подползла к Ашеру, и он усадил ее на колени. Отец и мать вопросительно посмотрели на него и стали обсуждать продажу дров. Из их разговора он понял только, что они никак не сойдутся в цене.
— А сколько вы нам заплатите? — спросил сосед.
Ашер в ответ спросил, сколько они запросят.
— Восемьсот за два прицепа, не дорого будет?
— Нет, меня устраивает.
— Ну, хорошо.
Хозяйка взяла деньги и вышла из комнаты, и Ашер успел заметить в сенях черный зонтик рядом с пучком кукурузных початков, а на стене — раскрашенную гравюру с изображением токующего глухаря. Он встал, но девочка тотчас заплакала и уцепилась за него, и ему пришлось какое-то время носить ее по комнате, чтобы успокоить. Вместе с девочкой он вышел на заснеженный двор, держа ее на руках, обошел свинарник, вокруг него запрыгал пес и положил ему лапы на грудь. Потом, когда девочка успокоилась, он опустил ее на землю и быстро, не оглядываясь, пошел к себе.
14
Направляясь к дому вдовы, Ашер с соседнего холма слышал, как поют жена и дети соседа; они помахали ему вслед и скрылись в сенях. В кухне у вдовы он наблюдал, как мясник вычищает из свиного черепа мозг. Размером он оказался с детский кулачок. Мясник разделывал свинью так сноровисто и умело, что и он, и вдова казались почти безучастными. Прежде, поведал мясник, когда о морозилках никто и не слыхивал, жирную свинью забивали раз в год. И это был настоящий праздник, потому что удавалось поесть свежего мяса. Теперь не то: забивай свиней, когда пожелаешь, только для пожилых людей это по-прежнему радостное, торжественное событие. Снег перестал, мясник разобрал электрический аппарат для глушения свиней и показал Ашеру, как он устроен. Он умылся, снял передник, спрятал его в рюкзак и надел шерстяную шапочку.
Вечером к его дому подъехал красный трактор. Сосед и его дочки сидели на поленьях с таким серьезным видом, будто Ашер и не заходил к ним утром. Сложив поленья в свинарнике, они немного подвезли Ашера в своем прицепе. Пока складывали поленья, младшая девочка безостановочно шипела, а теперь смирно сидела рядом с сестрами.
Последний отрезок пути до Санкт-Ульриха он прошел пешком, однако, не успел он поравняться с дорожным знаком, на котором красовалось название местечка, как его обогнала машина Цайнера, где, кроме Цайнера, сидели еще двое незнакомцев. Они остановились, опустили стекло и спросили, не хочет ли он заглянуть в багажник. Мотор они не заглушили, и один из незнакомцев, в охотничьем костюме и зеленой шляпе, вышел и открыл крышку багажника. Внутри на разостланном брезенте громоздились подстреленные лисы, брошенные как попало, в беспорядке, и все еще истекавшие кровью.
— Ну, что скажете? — крикнул ему из машины Цайнер. — Мы по лисьим следам шли до самой норы, там подстрелили одну и стали караулить, а потом всю их нору извели.
— Такое редко бывает, — добавил незнакомый охотник.
Ашер отошел, а охотник достал лис из багажника и положил их на обочину.
— Ваш друг считает, надо бы вам на них взглянуть, — сказал он.
Проезжавшая мимо желтая легковая машина сбросила скорость, притормозила, шофер открыл дверцу и восхищенно воскликнул:
— Вот это да! Где это вы столько настреляли?
— В Унтерхааге, — сказал охотник.
Он снова убрал лис в багажник и захлопнул крышку.
— На вид, вроде, здоровые, — заключил он.
Портной жил в каменном доме с балконом, откуда открывался вид прямо на церковь и виноградник. Это был человек среднего роста, с густыми седыми волосами и полноватым веселым лицом. Поначалу он принял Ашера сдержанно, но потом несколько оттаял, узнав, что Ашер знаком с несколькими жителями деревни и общины. Его мастерская находилась в маленькой комнатке на втором этаже дома, выходившей на балкон. В одном углу стояли металлический, крашенный белой краской умывальник, полный ржавой воды, и деревянный портновский манекен, в другом — стол и сундук. На двери висело зеркало. Когда портной желтой сантиметровой лентой снимал мерки, Ашер слышал его шумное дыхание.
Он открыл толстую книгу и показал ему маленькие прямоугольные образцы ткани, наклеенные на картонки: черный бархат, расшитый нитяными цветочками, синими, красными или желтыми, красный шелк с серебряными или фиолетовыми узорами в восточном стиле, блестящий с вышивкой золотой нитью, растительный орнамент по зеленому полю. На запястье он носил подушечку для иголок на стальном браслете.
Ашер выбрал бархат и с тем ушел. С крыш свисали сосульки, посреди улицы ехал на велосипеде ребенок, оставляя за собой черную колею.
В сарайчике на околице, налегая на рычаг пресса и двигаясь по кругу, выжимала яблочный сок женщина. Вот она остановилась, выпрямилась и стала крутить рычаг в обратную сторону. В это время Ашер заметил у сточного желоба юношу, — высокого, белокурого, в свитере и темных штанах. Широкий луч солнца упал на него сквозь щель в досках сарая и словно поделил его пополам: вот здесь он светлый, а вот тут уже темный. Юноша невозмутимо выдержал любопытный взгляд Ашера. Потом он отвернулся, насыпал яблок в бак и стал смотреть, как яблочный сок стекает по деревянному желобу у его ног. До Ашера доносился скрип пресса и шум шагов женщины. До магазина было недалеко, всего-то перейти улицу; он купил пачку сигарет и коробок спичек и снова вернулся. Юноша как раз отправлял в чан очередную порцию яблок, женщина налегала на рычаг. На вопрос Ашера она ответила, что вот так целый день давит яблоки, отлучалась только задать корму скотине и перекусить.
Ашер спросил, не курит ли она.
Она — нет, а вот двоюродный ее братец еще как дымит.
— А ну, иди сюда! — крикнула она ему.
Юноша бросил взгляд на пачку сигарет в протянутой руке Ашера и как ни в чем не бывало повернулся к прессу.
— Сейчас приду, — пообещал он.
Насыпав побольше яблок в чан, он спустился, отер руки о штаны и большим и указательным пальцами вытащил из пачки сигарету.
— Можете оставить себе всю пачку, — сказал Ашер.
Юноша недоверчиво посмотрел на него.
— Оставьте себе. Я не курю.
Юноша пожал плечами и сунул пачку в карман.
— Что ж, спасибо, — протянул он.
Женщина между тем снова взялась за рычаг, но не спускала с них глаз, чтобы чего не пропустить.
— Работка, наверное, не из легких, — предположил Ашер.
— Да, ничего, бывает и хуже… Что ж поделаешь? — ответила она и рассмеялась. В этот момент она как раз повернулась к нему спиной.
— Вот только скучно очень, — добавила она.
По дороге обратно ему встретился человек в сером пальто, который гнал перед собой пятнистую корову. Внизу, в долине, Ашер различил белое поле и домики. Это был Хаслах.
15
Когда два дня спустя он поехал с Цайнером в Айбисвальд, на полях по-прежнему лежал снег. В тени лес был белоснежный, на солнце темнел зеленью елей и голыми ветками. Стога кукурузы тоже окрасились на солнце желто-коричневым. В Айбисвальде Цайнер первым делом отдал оружейнику свое ружье, решив, что сбился прицел. Он, мол, как обычно, целился в косулю, но промазал. Потом во дворе у распорядителя охоты стрелял по мишеням, — и тоже мимо. Вот он и хочет, чтобы прицел проверили и, если требуется, выставили заново. Пока Цайнер разбирался с ружьем, Ашер гулял по Айбисвальду, бродил по берегу Заггау и разглядывал лед на реке. По краям он был белый, скрывался под снежной шапкой, ближе к стрежню ручья постепенно окрашивался серым и, наконец, прежде чем растаять у самого стрежня, начинал просвечивать, когда под ним обозначались желтые камни. Под коркой льда образовались воздушные пузыри, иногда такой пузырь уносило течением. По стрежню неслась черно-бурая, клокочущая вода.
Он вышел на мостик и остановился. Двое мужчин лопатами выгружали снег из тракторного прицепа и бросали его в ручей, рядом играли в снежки дети. В те минуты, когда им казалось, что никто на них не смотрит, они ели снег. Чуть дальше ледяной покров так утончился, что Ашер разглядел под ним косяки мальков. Напротив виднелась лесопильня с нештукатуреными стенами, разбитыми оконными стеклами, сложенными в поленницы досками и громоздившимися рядом стволами деревьев. Перед заржавевшим двигателем стоял карлик в берете и с любопытством заглядывал внутрь. В заснеженных кустах чирикали птицы, и, снова взглянув на воду, Ашер заметил у самой кромки высматривающего рыбу зимородка.
— Ну, что, долго я провозился? — спросил Цайнер.
Потом они заехали в Мальчах к гробовщику, так как арендаторши старика просили Цайнера оплатить от их имени счет за похороны. Цайнер собирался еще купить прокладки для водопроводного крана, зайти в мастерскую, посмотреть, не готова ли борона, которую он повредил прошлой весной, и еще подстричься в местном трактире. Там подрабатывает один человек, который в плену освоил ремесло цирюльника. Это дешевле, чем в парикмахерской, уверял Цайнер, да и пока ждешь, можно стаканчик пропустить. На стенах амбаров и риг на полях кое-где еще мелькали плакаты с исполинским портретом председателя земельного правительства. Дождь и ветер изрядно их потрепали, один, надорванный, свисал так, что от лица осталась только половина. Небо было серое, в золотистых разводах. Цайнер свернул с шоссе. Усадьба гробовщика состояла из нескольких больших построек. По левую руку располагалась мельница с погрузочной платформой, на которой лежали мешки. Позади платформы виднелся продуктовый магазин с пестрящей рекламными плакатами витриной. За стеклом хлопотала толстуха в черном свитере.
— Входите, он дома! — крикнула она из глубины магазина.
В передней с высоким потолком за столом стоял гробовщик, склонившись над каким-то предметом. Не успели Цайнер и Ашер войти, как он заговорил. Говорил он нервно, заикаясь, лихорадочно, безостановочно и так невнятно, что Ашер только спустя некоторое время стал его понимать. Стены сплошь покрывали картины и часы, причем на одних часах была изображена Дева Мария в широком красном плаще, и Ашер с интересом ее порассматривал. Плащ ее закрывал весь циферблат, тогда как голова и кисти рук казались совсем крошечными. А еще Ашер обратил внимание на стоящий в комнате старинный оркестрион[7], но сама комната все-таки производила впечатление унылое и скучное.
— Оркестрион я отреставрировал сам, — заверил гробовщик Ашера.
Он открыл его и завел. Под звуки неровной, визгливой мелодии Ашер смотрел, как вращается деревянный валик. Тем временем Цайнер расплачивался с гробовщиком. Гробовщик, на котором был серый рабочий халат, пересчитал деньги и рассовал купюры и монеты по карманам.
— Пока дороги не построили, батраки на телегах привозили покойников в церковь, — внезапно произнес он. — Вот, например, хотя бы хозяин церковного трактира в Санкт-Ульрихе, уж сколько он покойников на кладбище перевозил, а конюх Туррахера…
Он ненадолго замолчал, а оркестрион как ни в чем не бывало играл себе дальше.
— У одного крестьянина хранились погребальные доски[8], для торжественного прощания с усопшим. Вот эти доски забирала родня, а потом укладывала на них обмытого и обряженного покойника. Ночью родня и соседи устраивали бдение у тела покойного. Мужчины сидели отдельно от женщин и играли в карты, а женщины молились. Сейчас все реже устраивают прощание дома, там, где в общинах есть морг, мы забираем покойников и устраиваем прощание на кладбище…
Он бросил взгляд на стол, на котором лежали карманные часы.
— У меня два катафалка, столярная мастерская для изготовления гробов и прозекторская, выложенная кафелем. Где нам не проехать на машинах, покойников забирают пожарные и привозят к нам.
Прядь густых, зачесанных назад волос падала ему на лоб, а когда он говорил, становились заметны золотые зубы. Он был маленький, толстенький, с резкими, порывистыми движениями. Поглядывая во время своего рассказа то на Ашера, то на Цайнера, он сцеплял ручки на животе и потирал кончиками указательных пальцев подушечки больших, так что раздавался негромкий скрип.
— Если хотите посмотреть музей, я заеду за вами позже. А сейчас я спешу, — сказал Цайнер.
Когда он ушел, гробовщик представился. Он-де историк, ботаник, музыковед, реставратор, автор нескольких изобретений и препаратор. Кроме того, он помещик, садовник, ученый, композитор, художник и коммерсант. Он снял рабочий халат, повесил его на крючок, натянул пиджак и вышел во двор.
— Через два часа у меня похороны, поэтому придется поторопиться, — предупредил он.
Ашера вновь удивила его манера говорить. Едва начав экскурсию по музею, он перестал заканчивать фразы и ограничивался тем, что часто только намечал их содержание.
Он начинал излагать какую-нибудь мысль и тут же бросал, ухватившись за новую, и Ашеру показалось, что они, как ночные бабочки, порхают вокруг источника света: подлетают, приникают к нему и, падая, исчезают во тьме.
Ботанический сад был разбит у входа в дом и со всех сторон отделен лохматым кустарником. «Редкие виды флоры», — прочитал Ашер на белой табличке. На клочке земли росли несколько кактусов, пальм и жалких побегов. С противоположной стороны двора доносился шум перемалывающих зерно мельниц. Ашер заметил, что там под каменными арками громоздилась старая утварь и ненужные приборы. Гробовщик перечислил названия растений, уверил, что выписал их из Северной Америки, Азии и Канады, и показал ему высокую плакучую иву, упомянув ее латинское наименование. «Я сейчас как раз учу латынь», — перебил он себя, чтобы тотчас же пояснить, что плакучую иву посадил сам и что ее красота и бурный рост вызывают удивление и восхищение видевших ее ботаников и студентов. Ашеру вспомнился унылый больничный сад, по которому вяло бродили пациенты в казенных пижамах и халатах. Из окна своего кабинета он часто наблюдал, как они медленно, бесцельно обходят по периметру газоны, садятся на скамьи и разговаривают друг с другом.
Тем временем гробовщик указал на скопившийся под арками хлам, пропуская Ашера вперед для продолжения экскурсии. Когда они подошли ближе, Ашер увидел кофемолки, картонных марионеток, кинопроекторы, солнечные часы, клетки для птиц и всевозможные инструменты, в беспорядке сваленные друг на друга. В общем и целом, провозгласил гробовщик, у него сорок тысяч экспонатов. Вытянутым пальцем он тыкал в отдельные предметы и, заикаясь, глотая слоги, бессвязно бормотал объяснения, которые раз от разу делались все короче, переходили одно в другое и в конце концов поглощались следующим прежде, чем Ашер успевал понять, что гробовщик перескочил к очередному экспонату. Над дверью висел макет больших серебряных карманных часов с надписью «Первый Штирийский Музей Часов». Во дворе Ашер заметил зеленый деревянный колодец, на краю которого была закреплена жестяная птичка. Когда они вошли в реставрационную мастерскую, располагавшуюся в задней части дома, там тоже теснились канделябры, церковные картины, которые гробовщик, как он уверял, самостоятельно отреставрировал, старый рентгеновский аппарат, пианино, переносные исповедальни и зеркала. Все эти вещи, с готовностью пояснил гробовщик, ему привезли на реставрацию. Он, мол, известен тем, что, поскольку изучал в университете искусствоведение и славится «некоторой ловкостью и сноровкой», может отреставрировать и даже самые сложные вещи, от которых отказываются все остальные антиквары. «А это, сами понимаете, непросто», — заключил он. В мастерской пахло плесенью и затхлостью, так что Ашер старался пореже вдыхать, а гробовщик шумно дышал ртом. За пыльным дверным стеклом двор освещало солнце. Работник положил мотопилу на прицеп трактора, другой пришел откуда-то с мотком каната. Пока гробовщик читал доклад о церковной живописи и переносных исповедальнях, Ашер внимательно наблюдал за работниками. Из недр магазина, подскакивая, вылетел разноцветный резиновый мяч и укатился под груду хлама. Прежде Ашеру доводилось слышать, что гробовщик нанимает глухонемых или тихих пациентов психиатрической больницы в Фельдхофе: и в самом деле, один из работников поднял и подал мяч выбежавшему из магазина мальчику в спортивном костюме, не сказав ни единого слова. А гробовщик между тем так заторопился, что стал произносить уже не речь, а, как показалось Ашеру, какое-то подобие стенографической записи.
— У меня мало времени, — пояснил он, выходя из мастерской и почти бросаясь к дому.
Через переднюю они снова прошли на лестничную площадку, где гробовщик возобновил прерванный доклад. При этом он завел музыкальную шкатулку, вставив в автомат металлический диск и нажав на рычажок. На лестничной площадке, на полках и просто на полу в беспорядке валялись всевозможные рубанки, сапожные и портновские инструменты, пилы, сверла, клещи, молотки, ветеринарные инструменты, жаровни для кофе, горняцкое снаряжение, приспособления для пчеловодства, а также курительные трубки, мундштуки и кальяны самого разного вида и самых разных эпох.
Как похоронщик, уточнил он, он, разумеется, побывал в каждом доме и видел, что «древности», как он выразился, приходят там в упадок по недомыслию хозяев. Он их спасал. Многое из того, что он показал Ашеру, он спас от неминуемой гибели. Коллекционировать старинные вещи он начал после Второй Мировой войны. В ту пору никто не осознавал истинной ценности этих предметов, все были озабочены только тем, чтобы хоть как-нибудь выжить. Вот так он и приобрел за буханку хлеба, кусок сала или килограмм картошки шедевры своей коллекции. Бывало, он находил на фермах молоточковое пианино или старинный велосипед-паук, — они пылились где-нибудь на гумне, — и платил за них всего ничего, да и те деньги вычеркивал из счета за похоронные услуги. Сегодня — не то, люди стали недоверчивыми. Стоит ему приехать на «элегантном черном автомобиле» и спросить, за сколько, мол, они готовы продать то-то и то-то, как они тут же подозревают, что он не иначе как намерен их обмануть. Он уже давно не ездит по окрестностям, и только весной и осенью, когда работы невпроворот, — ведь погода весной и осенью изменчивая, вот старики и алкоголики-сердечники и мрут как мухи, — он помогает сыну. «Всеми делами занимается сын, я только так, на подхвате», — заключил он. Музыкальная шкатулка заиграла венскую песенку, и ее затейливая безыскусность казалась особенно странной по сравнению с незаконченными, невнятными фразами, произносимыми гробовщиком. И Ашер, до сих пор испытывавший к гробовщику опасливое любопытство, внезапно почувствовал к нему что-то вроде симпатии. У него сложилось впечатление, что этот человек не в силах ничего скрыть. Он так самозабвенно отдавался своим мыслям, страстям и намерениям, что просто не мог их утаивать. К тому же он, вероятно, полагал, что скрывать их бессмысленно. «Все свое время, — продолжал гробовщик, — я посвящаю музею, и знаете, как меня за это отблагодарили?» Хотя он лично приглашал президента земельного правительства, как-никак являющегося профессором этнографии и политиком, посетить его и его музей, тот отказался, даже несмотря на все уверения, что он об этом не пожалеет. Вот и его заместитель устроил себе предвыборный штаб в трактире в Мальчахе, а когда он через работника «отправил ему послание» с предложением посетить музей, тот просил передать, что, мол, у него нет времени. А вот времени сидеть в трактире, негодовал гробовщик, поднимаясь по ступенькам на следующий этаж, у него хоть отбавляй! На стенах висели под стеклом экспонаты коллекции насекомых, собранной на рубеже веков учителем начальной школы. Под каждым насекомым мелким, изящным почерком были указаны его название и место поимки. Иногда на иголки были наколоты существа столь крошечные, что казались точечками, и различить их удалось бы только под лупой. К тому же на лестнице было так темно, что Ашер волей-неволей смотрел под ноги, чтобы не споткнуться. На втором этаже висела фотография какого-то учителя, снятого в классе. На аспидной доске красовалась надпись готическим шрифтом: «Третий класс». Учитель, как и мальчики на фотографии, был обрит наголо, носил пенсне и бороду и позировал, скрестив руки на груди. Класс был смешанный, и Ашер заметил, что все ученики — и мальчики, и девочки — были босые. Гробовщик впервые помедлил. Он обратил внимание Ашера на портреты, которые выполнил сам, и подчеркнул, что взор изображенных повсюду словно следует за зрителем. На двери красовалась табличка: «Удаляться от экскурсовода запрещено под страхом полицейского преследования». Сколько же, наверное, сил этот человек потратил на то, чтобы предаваться своей страсти, подумал Ашер, какие страхи и опасения она в нем пробудила, каждый новый экспонат, наверное, заново разжигал его честолюбие, в конце концов, вещи все больше и больше завладевали им и невидимой стеной одиночества отделили его от остального мира. «Бо́льшую часть экспонатов, которые вы здесь видели, хозяева просто выбросили», — сказал гробовщик. Он доверительно сообщил Ашеру, что за время своей сорокалетней карьеры двенадцать раз сталкивался со случаями погребения заживо. Такой вывод он сделал, поскольку выкопанные впоследствии скелеты лежали лицом вниз. Он может гарантировать, что его похоронное бюро никогда, ни при каких обстоятельствах не допускало таких чудовищных ошибок. Кстати, когда у него на экскурсии был глава земельного управления здравоохранения, он обратил его внимание на эти прискорбные случаи. Однако глава здравоохранения, имеющий чин надворного советника[9], просто-напросто промолчал. «Ничего умнее ему в голову не пришло», — добавил он. Он попросил Ашера зарегистрироваться в большой книге в зеленом переплете и, пока тот расписывался, заглядывал ему через плечо. Ашер указал свою фамилию, а в графе «Профессия», отделенной от прочих тонкой красной линией, написал «Естествоиспытатель».
— Тогда вас, конечно же, заинтересуют мои препараты. А сюда впишите адрес, — сказал гробовщик, указывая на другую графу. Прочитав адрес Ашера, он наклонился над его плечом и произнес, явно польщенный:
— Так вот, значит, как далеко забрались!
Ашер, без сомнения, мог бы записаться под чужим именем или, по крайней мере, указать чужой адрес, но однажды он уже смутился, не назвав свою истинную профессию. Что подумают Цайнер и остальные, те, кому он представился биологом, когда узнают, кто он на самом деле, и поймут, что он им солгал? Послушно пробираясь вслед за гробовщиком по коридору, загроможденному паровыми машинами, киноаппаратами, распятиями, орденами, ящичками для меню и витражами, он услышал во дворе шум мотора и увидел в окно, как перед магазином затормозил развозочный грузовичок булочника. Он втащил большой полиэтиленовый пакет с булочками на высокую погрузочную платформу и толкнул плечом стеклянную дверь. Гробовщик, не заметивший булочника, внезапно замер и объявил, что к нему часто обращается уголовная полиция. Например, присылает ему объявления о розыске похищенных и утаиваемых предметов искусства и предупреждает о появлении аферистов, грабителей, охотящихся за музейными экспонатами, воров и лжеантикваров.
— Я уже давно сотрудничаю с уголовной полицией, — добавил он, а потом воскликнул:
— Дальше, дальше! — и подвел Ашера к нескольким вращающимся стеклянным витринам, в которых висели всевозможные часы, от подлинного, как утверждал гробовщик, нюрнбергского яйца[10], до часов, циферблаты которых покрывали лупы, старинных часов, показывающих дату, часов с вращающимися картинками на циферблате, часов на цепочках, сплетенных из женских волос, карманных солнечных часов, названия и принципы работы которых он перечислял так быстро, что Ашер не успел понять, какое описание к каким часам относилось. При этом он с таким воодушевлением вращал витрины, что часы в них бренчали и раскачивались, и, продолжая лекцию о часах, уже принялся один за другим брать в руки и показывать музыкальные инструменты: трубы, цитры, гармошки, арфы и скрипки, большие и маленькие, некоторые с наклеенными ценниками, которые он стыдливо отлеплял, заметив, что приходится их снять, ничего не поделаешь, а не то, если уж воры решат похитить у него какой-нибудь инструмент, непременно украдут самый ценный. Ашер еще разглядывал скрипки и арфы, а гробовщик уже обогнал его, просунул голову меж дамскими шляпами, граммофонами и стеклянными пеналами, в которых хранились монеты, и позвал его. Ашер снова посмотрел в окно и увидел, что во двор как раз сворачивает Цайнер. Он попрощался, объяснив, что вернулся Цайнер, который и привез его на машине, и что у него еще много дел, и пошел к выходу, а гробовщик кинулся за ним со связкой ключей в руке, торопливо запирая двери. С холма за мельницей скатывались на санках дети.
— А, вот и вы, — сказал Цайнер, открывая изнутри дверцу. — Показал он вам коллекцию препаратов? Нет?
— Вы приехали, как раз когда он собирался ее мне показывать.
— Если хотите посмотреть, можете остаться, я за вами позже заеду.
Однако он не повернул назад, как предложил, а поехал дальше. К тому же, возвращаться к гробовщику Ашеру не хотелось.
Они ехали между широкими, заснеженными равнинами, над которыми возвышались волнообразные черные холмики земли. Кое-где Ашеру попадались на глаза кукурузные поля, большие и поменьше, с охристой, загрубевшей стерней, вымоченной снегом и исхлестанной ветром, или темные бурые луга. Возле трактира стоял трактор с прицепом для перевозки животных.
Двери в залы были заперты, в кухне возле печки над большими блестящими кастрюлями хлопотала женщина в черном. Цайнер уселся за стол, заказал пива и спросил, когда придет цирюльник.
— С минуты на минуту, — ответила кухарка, презрительно взглянув на Ашера. — Вы второй будете, перед вами занимал полковник.
Полковник был стройный, седовласый человек, обслуживавший молодых людей за столиками. На вид он был еще молод и щеголял в пиджаке в черную и красную клетку.
— Он раньше служил в жандармерии, теперь в отставке, — пояснил Цайнер. — Хозяйке родня.
В углу стоял встроенный кухонный шкаф-стенка, на ней старенький телевизор, а из окна открывался вид на косогор, почти скрывавший дорогу. Ашер прислушался к разговору парней за соседним столиком. Один из них полгода проработал на бетонном заводе в Граце, но недавно его уволили. Другой сначала подвизался сантехником в Тироле и Форарльберге, но несколько лет тому назад вернулся и пошел работать на птицефабрику в Пёльфинг-Брунне. Ему уже полгода не выплачивают отпускные. А еще хозяин по настоянию отдела здравоохранения устроил на фабрике душевые, но автобус по окончании рабочего дня тех, кто хочет помыться, не ждет. Поэтому душем никто и не пользуется.
— Моя сестра, — продолжал он, — проходит практику в гостинице во Фрауентале — учится гостиничному бизнесу. Каждую неделю перерабатывает. Но сверхурочные ей не оплачивают, не говоря уже о том, что сверхурочно ей еще не положено работать по возрасту. Как-то раз она не выдержала, позвонила в профсоюз, а там спрашивают, состоит она в профсоюзе или нет. А как она может вступить в профсоюз, если хозяин не разрешает? Вот ей и сказали, ничего, мол, не можем для вас сделать.
— Они с нами что хотят, то и делают, — сказал светловолосый человек лет тридцати.
На нем была серая кепка военного образца без знаков отличия.
— У нас тут нет крупных предприятий, и если кто не понравится, — сразу за дверь, ведь нанять другого не трудно.
Он работал каменщиком в Гассельсдорфе, потом сломал на стройке ключицу. Вышел после больничного, а его больше не берут: за это время на его место взяли другого. Теперь он работает на лесопильне, ему и там неплохо. Профсоюзы есть только на крупных заводах и фабриках, где можно хоть как-то затеряться.
— Там, где каждого знают в лицо, лучше не высовываться, — подытожил он.
Однажды, он тогда работал на бойне (они каждый день забивали по тридцать-сорок быков и ночью отправляли туши в Италию), один подмастерье через какого-то своего влиятельного знакомого натравил на хозяина инспектора — то ли из профсоюза, то ли из Рабочей палаты[11], и тот приехал на бойню с проверкой. Сначала рабочих опрашивали по одиночке. Большинство заверили, что в целом все нормально, только двое или трое указали на нарушения. Тогда инспектор устроил очную ставку, и рабочие взяли свои показания назад и в присутствии инспектора попросили у хозяина извинения. Но инспектор все-таки сумел уличить мясника в злоупотреблениях, за которые ему пришлось уплатить пять тысяч шиллингов штрафа. При первой же возможности он уволил тех, кто свидетельствовал против него. С тех пор он и грозит рабочим, — чуть что не по нему, — он-де пожалуется в профсоюз. Предприниматели, крикнул он, в принципе против того, чтобы в округе появлялись крупные заводы и фабрики, они же знают, что тогда они лишатся власти.
Цайнер тоже слушал парней, не вмешиваясь в разговор. В трактир вошел низенький человечек с жидкими, зачесанными назад волосами и с длинным носом. Он тотчас же вступил в беседу. Из его замечаний Ашер сделал вывод, что он в свободное время помогает холостить свиней. Он достал из портфеля какие-то вещи, пододвинул кресло и несколькими глотками осушил стакан пива. Он спросил у Ашера, не хочет ли и он подстричься. Под всеобщий смех Ашер отказался, и цирюльник спросил, кто первый. Парни вернулись к прерванному разговору, а цирюльник набросил отставному жандармскому полковнику на грудь красное покрывало с рисунком из белых цветов с черными стебельками. На вопрос Цайнера, откуда такое покрывало, он отвечал, что, мол, жена дала. Он достал из портфеля расческу, ножницы и машинку для стрижки, и подключил ее в розетку. Ашер тем временем заметил, что полковник скатал из бумажного платочка шарики и заткнул ими уши. Поэтому он не удивился, что цирюльник громко кричит, спрашивая, как ему угодно подстричься. Машинка громко зажужжала. Когда цирюльник засуетился вокруг полковника, Ашер обратил внимание, что он хромает. Он откинулся на спинку стула, отпил глоток пива и стал попеременно наблюдать то за цирюльником, то за парнями. Один из них, донеслось до Ашера, прошлой осенью работал в городе на стройке. На работу надо было являться в семь. Вот он и ездил каждый день на мопеде — пятьдесят километров туда и пятьдесят обратно. Вставал в пять утра, возвращался домой в семь вечера. Поздней осенью, пока ехал на мопеде, так замерзал, что начинал громко говорить сам с собой. К тому же то и дело останавливался и отхлебывал из термоса чаю со шнапсом. Вот его и ославили как алкоголика. Промучился он так три месяца и в одно прекрасное утро просто не смог заставить себя встать. Не мог оторвать голову от подушки, и все тут. А потом, ему не хотелось возвращаться на работу и врать, что, мол, болел. Поэтому он какое-то время сидел на пособии по безработице. Потом весной подрабатывал на укреплении берегов Заггау. Работка ничего себе, а самое главное — не надо далеко ездить. Ашер снова взглянул на полковника. Едва цирюльник заметил, что Ашер на них смотрит, как отпустил шуточку, да и полковник попытался пошутить ему в тон. Сидя под красным покрывалом, он казался Ашеру осужденным преступником. Волосы у него были негустые, посеребренные сединой. С улицы вбежал мальчик и спросил эскимо на палочке. В дверную щель Ашер увидел, что мальчик прислонил к перилам дамский велосипед. Не снимая покрывала, полковник встал, стряхнул с плеч остриженные волосы и пошел искать в холодильнике эскимо, после чего снова уселся на стул в передней, а Ашер стал смотреть, как за окном мальчик с трудом поднял велосипед и попробовал ехать, одной рукой сжимая руль, а в другой держа эскимо. Однако ему все время приходилось отталкиваться одной ногой от земли, в конце концов ему это надоело, и он просто повел велосипед. Хозяйка, которая незадолго до этого вышла из комнаты, вернулась с корзиной дров и поставила ее у печки.
— Щас я тебе горло перережу! — крикнул цирюльник полковнику, потянулся, держа ножницы и расческу у живота, и стал подстригать клиенту брови.
— А вот я наоборот, здесь работу нашел. Внизу-то, в долине, меня никто не брал, кто ж наймет судимого, — сказал коренастый человек со сломанным носом, в шерстяной шапке. — Сплю я над свинарником, топить в комнате нельзя, но меня кормят, вот я и помогаю фермеру кормить скотину и подсобляю во время сева и жатвы. Если захочу, могу еще где-нибудь в окрестностях какую-нибудь работенку приискать, чем плохо?
— А где ваши кошки? — тем временем спросил Цайнер у хозяйки трактира.
— Всех перестреляли, — ответила она.
— Охотники всех перестреляли, — повторил жандармский полковник.
Цирюльник как раз закончил его стричь, и он встал.
— Еще весной у нас было семь кошек, а сейчас ни одной. У цирюльника на прошлой неделе застрелили собаку.
— Что делать, таковы предписания, — перебил его Цайнер, усаживаясь на «парикмахерский» стул. — Держите собак на цепи, и все.
Цирюльник достал бритву и сбрил ему волосы за ухом. Производя эту манипуляцию, он высунул кончик языка и прищурился.
— А почему же тогда у охотников не застрелили ни одной собаки?
Он быстро взглянул на Ашера и снова вернулся к работе.
— Я тут ни при чем, — ответил Цайнер.
— Понятно.
Цирюльник отер бритву о штаны, достал ремень, зацепил его за ручку окна и принялся быстрыми движениями точить бритву. При этом он снова взглянул на Ашера, и Ашер ему улыбнулся.
На сей раз улыбнулся и цирюльник, снова склонился к Цайнеру и стал подбривать ему волосы за другим ухом.
— А кому мне сообщать о случаях бешенства? Не то чтобы я собирался, но вдруг, так, на всякий пожарный…
— В окружное управление.
— А окружное управление что? Кто-нибудь хоть раз получил там хоть какие-то объяснения, когда застрелили собаку?
— А мне-то что. Я тут ни при чем, — повторил Цайнер, взглянув на цирюльника.
Тот промолчал. Ашер заказал бутылку пива и снова стал прислушиваться к разговору за соседним столиком.
— И все врали, — сказал блондин в шапке.
Он-де ходил на предвыборные собрания и Народной партии, и социалистов. И те, и другие наперебой утверждали, что выполнили все предвыборные обещания, а на самом деле они просто заодно.
— Неправда, — возразил полковник.
Он залез пальцами за воротник рубашки, выуживая мелкие волоски.
— Многое изменилось, только незаметно, меняется-то все медленно и понемногу, вот оттого и кажется, что все как всегда.
Он остановился у их стола, вытащил руку из-за шиворота и оперся на стол.
— Да знаю я, — ответил юнец. — С одной стороны, хотят этими медленными преобразованиями усыпить нашу бдительность, с другой, — пробудить выборами…
Он встал и расплатился.
— По мне, пусть выиграют коммунисты, — продолжал он. — Хуже мне точно не будет. Ну, что для меня изменилось? Работаю как раньше. Есть у меня хоть какое-нибудь имущество? — Нет.
Он вышел из трактира и завел мопед.
Когда Цайнер подстригся, они отправились в Арнфельс за лекарствами для его тестя, — он о них совсем забыл. Они проехали мимо широкого поля, на котором жгли сухие листья. Дым рассеивался в морозном воздухе. Небо, к которому они приближались и которое непрерывно отдалялось, отливало светло-желтым, желтым окрасился и снег. Когда они добрались до Арнфельса, землю окутал туман, светившийся на солнце, словно пары фосфора. Они остановились, и пока Цайнер ходил за лекарствами, Ашер бродил по деревушке. Цайнеру, похоже, пришлось сидеть в очереди.
Высоко в небе проплыл самолет, точно комета, оставляя за собой белый инверсионный шлейф. Однако ни свист, ни гул до Ашера не доносились. У въезда в местечко рядом со служебной машиной — «фольксвагеном», припаркованным прямо в луже, стояли двое жандармов в длинных серых непромокаемых плащах. Они взглянули на Ашера, который сначала не хотел отводить глаза, но потом все-таки не выдержал и отвернулся. Над входом в одно здание красовалась надпись «Кинокафе». Он заметил, что буква «е» в конце отвалилась. Между окнами висела маленькая витрина с тремя афишами. Он подошел поближе их рассмотреть, и ему тотчас бросилась в глаза приклеенная сверху полоска бумаги с надписью «Страсть по-шведски». Он снова прошел мимо жандармов. На сей раз они даже не посмотрели в его сторону, а облокотившись на служебный автомобиль, провожали взглядом проезжающие машины.
В доме врача Цайнер ждал в приемной. Рядом с ним сидела моложавая белокурая женщина с ребенком на коленях. Ребенок не вынимал палец изо рта. Оба они молча уставились в пустоту. Ашер быстро привык к тишине. Какой-то человек что-то нашептывал на ухо пожилой женщине, а потом закашлялся. Большинство сидело, сцепив руки на коленях. Цайнер, наконец, получил свои лекарства, и они отправились обратно. Как раз когда они проезжали мимо садоводческого хозяйства, в теплице включили свет, и из проносящейся машины листья на секунду показались Ашеру тенями на фоне ослепительного блеска.
— А сейчас нам придется поторопиться, — объявил Цайнер.
Он пообедал у вдовы, поиграл с собаками и вместе с вдовой и ее сыновьями отправился к соседу, у которого они собирались купить поросят. Булочник поехал на машине, старший сын возглавлял маленький кортеж на тракторе.
— Вообще-то, — сказала вдова, спускаясь с Ашером по глинистому склону между кустами красной смородины, — лучше было бы, если бы мой старший сын учился дальше, а младший хозяйствовал на ферме. Старший-то всегда хотел получить образование.
Когда он закончил школу, ей приходилось целями днями держать его взаперти в комнате, он ведь ни за что не хотел оставаться дома и крестьянствовать.
— А теперь уж всё, смирился, больше не бунтует, — заключила она.
Пройдя мимо полускрытого туей креста и скамеечки, сидя на которой, по утрам вдова доила корову, они зашагали в гору. Вдова рассказала, что несколько лет тому назад в соседский хлев ударила молния. Случилось это первого сентября, она-де до сих пор помнит все во всех подробностях. Дождя тогда не было, но тучи нависли черные. Сосед еще весной купил у какого-то коммивояжера громоотвод. Большинство крестьян боятся грозы (некоторые даже, как разразится гроза, выбрасывают за дверь детскую одежду, чтобы молния не ударила в дом, — есть, мол, такая старинная примета), но громоотвода нет почти ни у кого. По большей части молния попадает в высокие яблони да сливы, что растут вокруг дома. Если у Ашера есть время, она может показать ему деревья, расщепленные молнией. Вот и в ее собственную большую грушу раз ударила молния. Ее тогдашний жилец как раз вышел за дверь, хотел посмотреть, сильная ли разыгралась гроза, и тут молния как ударит, да как бросит его наземь! Она негромко посмеялась. Сама она за злоключениями соседа наблюдала из кухонного окна. На улицу выглянула из-за грома — так грохотало, что она сразу поняла: где-то поблизости молния ударила. Коровы мычали так, что слышно было по всей округе! Потом из хлева как вырвется пламя, как повалит дым! Да и гумно, и сено, и пустые бочки, все так и занялось! Пожарные из Праратерэгга и Санкт-Ульриха выехали быстро, но спасти хозяйственные постройки уже не смогли. Компания, которая устанавливала громоотвод, не возместила ущерб, а договора страхования сосед не заключал, вот и пришлось ему самому за все платить.
На бесснежной стороне склона младшая девочка и ее сестра, съежившись, сидели на санках. Они бросились к нему, и Ашер привез их наверх. В кухне маленькая девочка снова заладила свое «шшш…», «шшш…». В руке она держала платок в синюю и белую клетку, и этим платком Ашер вытер ей нос. Он посадил девочку на колени, положил перед ней листок бумаги и вручил ей карандаш. Однако девочка по-прежнему повторяла «шшш», «шшш» и смеялась, высовывая язык.
— Они ей дают тараканов, думают, она от этого выздоровеет. Растолкут и подсыплют ей в кофе, — сказал булочник с насмешливым видом.
Ашер ответил, что это все ни к чему, а вот заниматься с девочкой действительно нужно.
— Да кто ею будет заниматься? — возразил другой сын вдовы. — Все заняты.
Колготки на девочке были разорваны, из прорехи выглядывала голая коленка. Между тем соседка поставила перед Ашером чашку чая со шнапсом. Выходя, она заперла дверь снаружи. На вопрос Ашера, зачем это, старшая девочка ответила, что мама пошла за деньгами. А где она их прячет — секрет. Наконец, соседка вернулась, уже в бежевом пальто, аккуратно причесанная. Она села в машину к булочнику, но тут из погреба появился ее муж и захотел узнать, куда это она собралась.
— Уезжаю, — ответила она.
— А работать кто будет? — спросил муж.
Подняв брови, он выжидательно смотрел на нее. Оба молчали. В конце концов, женщина, опустив голову, вышла из машины.
По дороге на свиноферму вдова объясняла, что ей уже не раз делали предложения, но она всем отказывала.
— Все пьют, а как напьются, давай драться, или часами сидят на кухне, ругают жен, честят их на чем свет стоит, — сказала она.
А многие, мол, еще и ревнивы, спасу нет: вообразят себе невесть что и обвиняют беззащитных жен, что они-де им изменяют и кричат, и такими словами, даже при детях, хоть бы постыдились. Само собой, она одна, все хозяйство на ней, разве что старая тетка да сын помогают, батраков-то в их краях накладно нанимать, ну, может, только по часам или поденно, а все-таки замуж она ни за кого не хочет. Вот хоть бы муж ее, она упросила его, умирающего, привезти домой на «скорой помощи», и все потому, что его последним желанием было умереть дома, вот взять хоть бы его — человек он был добрый и работящий, но, с другой стороны, ни на что никогда не мог решиться, а многое из того, за что брался, просто бросал. Например, когда в тысяча девятьсот шестьдесят первом году во всей общине проводили электричество (до того все обходились керосиновыми лампами, а о радио никто и вовсе слыхом не слыхивал), он один не стал. То-то она наплакалась, когда ночью во всех домах в округе стало светло, как днем. Только год спустя, когда понял, что тут у него вышла промашка, отправился в электрокомпанию и подал заявление, чтобы провели проводку. А еще запрещал ей сажать возле дома красную смородину, говорил, все, мол, эти фрукты-ягоды ни к чему. А она посадила смородину сразу после его смерти — и вот вам, пожалуйста, смородина ей приносит главный доход. Хотя тяжело, конечно, на крутом склоне смородину подстригать, поливать и собирать (она для этого каждый год нанимает две югославские семьи за сущие гроши), зато вот посадила смородину, и может без трактора обойтись.
— А долгов все равно тьма, — заключила она.
Они доехали до свинофермы и вышли. Во дворе вдову уже ждали. Как только она вошла в первый свинарник, в нос Ашеру ударил резкий запах свиной мочи. Под лампами инкубатора копошились маленькие, визжащие поросята. Ашер внезапно осознал, что весь день только смотрел и слушал и что всматривание и вслушивание заворожило его настолько, что он задумался об этом лишь сейчас. Интересно, думал он, почему люди не пытаются скрыть свою истинную натуру, свои странности, те черты характера, которые, как нетрудно догадаться, неприятны окружающим, и предположил, что пытаться скрыть что-либо, видимо, вообще бессмысленно. В городе люди ничего не знают друг о друге, а здесь каждому известна история любой крестьянской семьи, вплоть до дедов и прадедов. Если дед или брат пили, сидели в тюрьме, были подвержены неуправляемым приступам бешенства или невероятно скупы, то об этом знали все. Все знали, что он продал и сколько проиграл в карты, изменил он жене или жена ему, знали, воровал ли он, воевал ли он, ходит ли в церковь и за какую партию голосует. Все знали, кто, к кому и когда забредает на огонек, кто с кем разругался и почему, и как у кого идут дела. Горожане ничего не знают о своих соседях, родственниках и коллегах по работе, ничего не знают и о том, что происходит вокруг, а если что и узнают, то только из газет, но в сущности прочитанное от них бесконечно далеко, никак их не касается и служит лишь поводом для разговоров и развлечением. Он обратил внимание, что усадьбы имеют свои собственные названия. Владевшие ими семьи менялись, но название усадьбы — никогда. Поэтому у каждого крестьянина было, так сказать, две фамилии: та, которой он подписывал бумаги, и вторая — по названию фермы, доставшейся от первого владельца. Поначалу он пребывал в замешательстве, когда его знакомого при нем называли по совершенно другой фамилии, но теперь он уяснил, что эти названия ферм служили чем-то вроде ориентиров. Поскольку старинное название фермы сохранялось, почти каждый даже и в отдаленном окружении знал, где он находится и какая фамильная история связана с этой фермой. Ашер вышел из свинарника. Свиноферма располагалась в тени санкт-ульрихской церкви, которую озарял золотистый свет зимнего заката. По бурой лужайке, поклевывая, расхаживали куры и белый петух. В низине Ашер разглядел спущенные рыбные пруды: припорошенные тонким слоем снега, они казались совсем маленькими. Свиновод во дворе приспособил для хранения картошки и кормов рудничные вагонетки, в одну из них была налита вода, а в воде Ашер, подойдя поближе, различил мальков. Фермер как раз вышел из свинарника и направился к другому зданию. Рядом с ним, держась за его штанину, теперь трусил ребенок. Вдова выбрала двух поросят, заплатила, и ее старший сын на веревке потащил их к тракторному прицепу. Едва он обвязал их рыльца веревкой и, пятясь, не спуская с них глаз, потащил их из свинарника, как они испустили протяжный испуганный визг. Не смолкали они и в решетчатом прицепе, пока их везли на ферму вдовы. Поскольку вдове понадобилось еще за чем-то в лавку в Гассельсдорфе, они снова сели в машину к булочнику и поехали вниз, на равнину. Стоило им оставить позади лес и по мосту переехать речку Зульм, как Ашер издали увидел высокую дымовую трубу и длинные красноватые здания кирпичной фабрики. Собранные в штабеля кирпичи на широком фабричном дворе были прикрыты белым полиэтиленом. На глинистой земле за фабрикой стоял экскаватор.
— Знаете, фабрика принадлежала бывшему главе земельного правительства, — сказал булочник. — А после его смерти перешла одному из его сыновей.
Из магазина, где было темно и где на полках теснились продукты, сельскохозяйственный инвентарь и посуда, Ашер позвонил жене. Он спросил, как дочь, и жена успокоила его. «Не волнуйся, я и без тебя справлюсь», — заверила она. Она по нему скучает, само собой, но снова привыкает жить самостоятельно.
Ашеру показалось, что ей даже нравится жить без него. Это его обрадовало. Когда настроение у нее было хорошее, его не так мучили угрызения совести.
Пока вдова покупала какие-то мелочи, булочник въехал на задний двор магазина. Там под навесом размещалась покрашенная в желтую и зеленую полоску маленькая бензозаправка, всего с двумя колонками. Поодаль громоздились яркие пластмассовые ящики с лимонадом, на которых устроились рабочие, держа между колен бутылки с пивом и переговариваясь.
— Как дела? — раздавалось со всех сторон, как только к ним присоединялся новенький. Он, в свою очередь, задавал тот же вопрос остальным. Ашер вышел из машины, уселся на перевернутый пивной ящик и стал ждать, пока булочник заправится. На фоне закатного зимнего неба выделялось дерево. До Ашера доносился запах бензина. Булочник попросил добавить в воду для стеклоочистителей антифриз, «а то чего в холод-то мучиться», — пояснил он.
Когда они вернулись на двор вдовы, маленькие поросята уже испуганно жались друг к дружке в хлеву. У вдовы, кажется, камень с души свалился. «Уж как-нибудь они ко мне привыкнут», — решила она.
16
Дома Ашер размышлял над тем, что рассказали ему вдова и ее сын. На потолке плясали отблески огня из плиты. Засыпая, он чувствовал холод матраца, посреди ночи проснулся от боли в суставах, а потом ему показалось, будто кто-то бродит вокруг дома, но все было тихо, только где-то вдалеке лаяла собака.
Утро было ярким и солнечным, и все маленькие окошки словно оставили светящиеся четырехугольные отпечатки на печи, на двери и на стенах. Он поднялся и стал смотреть вдаль, где за голой кроной орехового дерева над белой, бурой, синей, и совершенно пустынной равниной сияло огромное, золотое солнце. Он вышел на крыльцо без пальто и ботинок, и потому, поеживаясь от холода, вскоре вернулся в дом. Он растопил печь бумагой и лучиной, а когда занялось пламя, подбросил поленьев. В комнате стало светлее, оконные отпечатки на стенах поблекли, где-то совсем близко запела птица. Одевшись, он отправился за водой к колодцу. Ручка насоса была холодная как лед, а вода грязноватая. В низине простирались поля — где заснеженные, где еще обнаженные; в снегу виднелись стога сена, между ними выделялись охристые клочки лугов. В это мгновение он заметил охотников. Они шли по улице с ружьями за плечами, некоторые вели на поводке собак. Он нисколько не сомневался, что они его тоже заметили. Соседская собака с лаем бросилась им навстречу, и Ашер расслышал, как ее отозвали хозяева. Потом он увидел молодого соседа в зеленой курточке и его отца, тоже в охотничьем костюме. Охотники собирались в темной тени тучи. Соседка все еще звала собаку. Она схватила ее за ошейник и потащила в хлев, чтобы там запереть. Охотники недолго ждали во дворе, они быстро тронулись в путь и по лугу потянулись на опушку леса. Ашер забрался по лестнице в свою чердачную каморку и принес оттуда подзорную трубу. Из кухонного окна открывался хороший обзор. Он оперся локтями на подоконник, чтобы не дрожали руки, и навел подзорную трубу на опушку. Охотники уже успели выстроиться в низине с ружьями наперевес. На дереве, под которым стоял один из них, он разглядел в подзорную трубу желтые яблоки. Охотник, вероятно, тоже их заметил, потому что потряс ветки, и яблоки дождем попа́дали на землю и покатились вниз по склону. На какое-то время все замерло. Охотники, по-видимому, скучали, перекрикивались или, сгорбившись, сидели на одноногих складных стульчиках. Но вот раздался охотничий клич, возвещающий появление птиц, и охотники тотчас вскинули ружья, послышались выстрелы, и наземь упала ореховка. До Ашера еще донеслось ее пронзительное верещание, но тут к ней бросилась собака и вцепилась ей в горло. Потом картинки стали стремительно сменять друг друга. Сначала из леса выбежал заяц, в листве он был почти неразличим, Ашер увидел, как заряд дроби подбросил его вверх, он перевернулся через голову и повис на изгороди из колючей проволоки. Потом из кустов поднялись два фазана, по ним выстрелил какой-то пожилой охотник, сидевший на своем складном стульчике. Один фазан камнем рухнул на землю, а другой, неуклюже взмахивая крыльями, пролетел еще немного и скрылся в лесу за домом Ашера. Между тем по лугу пронеслись еще два зайца, добежали до полосы не растаявшего снега, тут их движения замедлились, словно они топтались на месте и с каждым прыжком только глубже увязали в снегу. Однако не успели они выбраться из снега, как, сделав в воздухе сальто, упали на землю. Охотники подняли с земли добычу и меж яблонями и сливами направились к его дому. Двое пошли в лес искать фазана. Вскоре они поймали его и принесли во двор соседа. Толстый охотник с рюкзаком, взяв за задние лапки, приподнял подстреленного зайца; шкурка у него на брюшке пропиталась кровью. И опять, как и в последнюю охоту, Ашер заметил его большие, широко открытые, вылезающие из орбит глаза, в которых, казалось, застыло выражение то ли ужаса, то ли удивления. Он рассматривал зайца, пока охотник не скрылся за вершиной холма. Чуть дальше, за домом, возле желтой капеллы, охотник появился снова и столкнулся там с отцом соседа, который, широко расставив ноги, поджидал его с убитым зайцем в руке. Когда охотники исчезли из виду, Ашер немного прошел за ними до ближайшего холма. Подзорную трубу он с собой не взял. В совсем крошечной лощинке охотники подстерегали дичь. Из леса время от времени доносились приглушенные возгласы, иногда слышались выстрелы. Лощину попыталась перелететь самка фазана, но рухнула на дальнем ее конце, хотя выстрел и не прозвучал. Ашер подождал, что будет дальше. В низине по-прежнему стояли охотники, но сейчас он узнал среди них отца соседа, который как раз пошел куда-то за рощу фруктовых деревьев. Навстречу ему выбежали дети с кувшином плодового вина, он отпил глоток и послал их в лощину, к другим охотникам. Ашер смотрел, как они по лугу сбегают вниз с холма; один ребенок неудобно держал на вытянутой руке кувшин, чтобы не пролить. Теперь Ашер медленно двинулся за отцом соседа. Сначала они остановились у маленького полуразрушенного домика винодела. Заглянув в маленькое оконце, они увидели развороченную плиту, выложенную кирпичом. На полу валялись ветки и пожухлая трава, с потолка свисала облупившаяся штукатурка. В доме было всего два помещения: кухня и комнатка, в которой когда-то жили человек шесть, а может быть, и больше. За домом был устроен небольшой свинарник. Вдруг Ашер услышал, как отец соседа говорит кому-то:
— Ничего не нашел. Все обыскал, самым тщательным образом, но так и не смог ничего найти.
— Надо же, — откликнулся его собеседник.
Ашер узнал в нем почтальона. Тот достал из кармана куртки яблоко, подбросил его в воздух и выпалил в него из ружья.
— Это я на всякий случай, если больше сегодня никакой дичи не добуду… — смеясь, прибавил он и вместе со стариком стал спускаться с холма.
На асфальтированной дороге им встретился какой-то человек в охотничьей одежде, с трудом передвигавшийся на костылях. Показав костылем на опушку леса, он крикнул:
— Они только что лису застрелили, как мне сказали.
— Вот оно что… — сказал старик.
Он остановился, улыбаясь и разглядывая носки сапог. Потом он стал спускаться в низину. Ашер обогнул дорогу и вышел на соседскую ферму. Из коровника по-прежнему доносился собачий лай. Жена соседа стояла на пороге с бутылкой в руках и предлагала выпить всем проходившим мимо охотникам. Она повернулась к Ашеру, тот встретился с ней глазами.
— Не хотите глоточек? — спросила она.
Ашер поблагодарил, отпил глоток и неспешно зашагал дальше, вслед за охотниками. Они выстроились с ружьями наперевес на холме, чуть ниже дороги. Ашер заметил самку фазана, которая пряталась под кустом. Из-под ветвей выскочила собака, бросилась к ней и вцепилась ей в горло. Фазан несколько раз слабо взмахнул крыльями, а потом замер, и собака потащила его в лес. Между желтых стогов кукурузы на поле показались загонщики. Склон холма освещало солнце, и снег на нем уже растаял. Некоторые охотники несли в обеих руках зайцев, а фазанов подвесили на тороках. Как раз когда они закидывали на плечо ружья, по полю помчалась за зайцем чья-то собака. Ашер увидел ее еще издали. Вот они добежали до стогов, заяц стал петлять, но пес не отставал.
— Чья это собака? — спросил толстяк, которого Ашер видел возле дома с зайцем в руках.
— Неизвестно, — ответил другой.
— Кто хозяин? — снова спросил толстяк.
— Крестьянин, он вон там живет, — сказал другой, назвав фамилию.
Толстяк скинул с плеча ружье и выстрелил. Ашер сначала подумал, что он попал в зайца, но вместо этого, как подкошенный, свалился пес, впрочем, тут же вскочил и, заскулив, скрылся в лесу. Следующим выстрелом толстяк подбил зайца, и тот перевернулся в воздухе.
— Я попал в собаку, точно вам говорю, — объявил толстяк.
— Надо тебе теперь ее поискать, — сказал другой.
Толстяк пожал плечами и сначала вышел на поле подобрать подстреленного зайца, а потом двинулся в сторону леса за собакой.
— Он по ней дробью выстрелил, — пояснил другой.
Остальные промолчали и направились к магазину. Наступил полдень.
— Любую собаку, которая бегает без поводка, надлежит пристрелить, — сказал сосед. — Такое нам дано предписание.
Они остановились у магазина. Пригревало яркое солнце, из магазина уже вышли рабочие с бутылками пива. Между охотниками слонялись школьники с ранцами на спине. На них были разноцветные шерстяные шапочки, некоторые сняли пальто и несли их, перекинув через плечо.
— Асфальт у магазина весь в пятнах — то ли бензин, то ли солярка, — сказал один охотник. — Может, лучше дичь за домом сложить?
Но остальные стали укладывать фазанов рядком. Каждого десятого они клали чуть в стороне, чтобы быстрее сосчитать, сколько же они подстрелили, потом выложили зайцев, ореховок и, наконец, лису. Она оказалась маленькой, мокрой, то ли от снега, то ли от травы.
— Лисицу придется сдать, — заключил сосед.
Вокруг слонялись усталые собаки. Ашер осмотрел подстреленных фазанов, зайцев и лису. Фазанов он насчитал примерно двадцать, двадцать с чем-то зайцев, и с десяток ореховок. На них упала тень столпившихся охотников, и он увидел, как охотник постарше расстегивает рюкзак и достает оттуда хорька. Шёрстка над глазами и на нижней челюсти у хорька была желтовато-белая, открытая пасть ощерилась оскаленными зубами. По темной шкурке стекала струйка крови, и тут Ашер заметил, что в крови и рука охотника.
— И ее мы сдадим, — сказал сосед, указывая на лису.
— Это еще зачем? Может, лучше, если я сдеру шкуру, повешу ее на чердаке, — пусть себе сушится, пока торговец не придет?
Сосед пожал плечами и покосился на отца, но тот глядел в другую сторону.
— Возьми ее пока с собой, — нерешительно сказал сосед.
Он украдкой посмотрел на Ашера, но тот сделал безразличное лицо и притворился, будто ничего не слышал.
— Ну, ладно, — согласился охотник. — Подожду, пока все уйдут, и тогда ее заберу.
Сосед промолчал.
Несколько охотников пили вино, усевшись на скамейку перед магазином, шутили и смеялись. Вернулся и толстяк.
— Ну, что, нашел? — спросил старик.
Толстяк покачал головой.
— Она обратно в дом убежала.
— Ну и что?
— Ничего.
Старик помолчал.
— Если они посадят пса на цепь, то все обойдется, — добавил он.
Ашер запомнил фамилию крестьянина — хозяина пса. Кроме того, он знал, где примерно находится дом, и двинулся в том направлении. Он прошел магазин, дальше простиралось поле, на котором догнивали в снегу пустые тыквы, точно скорлупа яиц какой-то гигантской ископаемой птицы. Бледно-оранжевые и зеленые, они лежали меж неубранными кочанами салата и капусты. За каштаном дорога вела вверх по склону холма. Дом он увидел еще издали. Маленький мальчик, которого он заметил у магазина, выбежал на крыльцо, остановился и закричал:
— Господин Ашер! Господин Ашер!
Ашер был поражен. Его фамилию явно повторяли так часто, что ее знали даже маленькие дети. Они просто так судачат, из любопытства, или и в самом деле что-то о нем знают? Неужели о нем ходят слухи? — Несмотря на все сомнения, он двинулся дальше. Дом был выстроен из темного дерева, вокруг дома, на крутых склонах холма, был разбит виноградник. Во дворе он увидел уток, хлев, мусорную кучу за бетонной стенкой в грязных пятнах. Из дома выбежали еще двое детей, мальчик и девочка, на бегу они тоже выкрикивали его имя, но бросились не к нему, а от него. Они исчезли за гумном, а он, направившись за ними, обнаружил, что там, где летом был засеян огород, сейчас на полиэтиленовой скатерти лежал пес. Дети остановились, молча показали на пса, но тотчас же снова убежали играть. И женщину, отметил Ашер, он тоже знает. Это была полная блондинка с румяным лицом и водянистыми глазами.
— Не посмотрите его? — с надеждой в голосе попросила она.
Между тем, дети успели взобраться на гумно и кричали «Ашер! Ашер!», просовывая голову меж столбиками деревянного балкона. Когда Ашер поднимал на них взгляд, они со смехом отскакивали и прятались, пока он снова не отворачивался. Наконец пришел хозяин дома, молча пожал Ашеру руку и перевернул пса на другой бок, чтобы показать Ашеру входные отверстия от дроби.
— Ничего не поделаешь, — посетовал он.
Он был еще молод, круглолиц, носил шляпу и синий передник. Пожалуй, Ашер его уже где-то видел, но никак не мог вспомнить, где.
— Вызвать ветеринара? — спросила хозяйка.
Ашер сказал, что да. Крестьянка не двинулась с места, да и ее муж не торопился идти за ветеринаром.
— Полчаса тому назад я его сюда перенесла, — пояснила она. — Не успела я положить его на скатерть, как откуда ни возьмись является охотник Шерр и спрашивает, большой ли, мол, в этом году собрали урожай винограда. А потом спрашивает, не застрелить ли, мол, вашего раненого пса, чтобы не мучился.
Она, само собой, отказалась, и он после этого ушел. Он-де к ним не то семь, не то восемь лет носа не казал, а тут на тебе, пожалуйста, является и давай расспрашивать про урожай винограда.
— Это еще почему? По какой такой причине? Зачем это ему понадобилось знать про наш урожай?
Она взяла пластмассовую миску и попыталась смыть кровь с собачьего бока.
— Соседка, — продолжала она, — увидела, как пес наш, раненый, лежит во рву. Она как раз помои за дверь выплескивала и тут заметила нашего пса. Она, само собой, не знает, кто его подстрелил, но я что угодно готова отдать, это был Шерр. Не просто же так он с ружьем-то пришел.
Хотя кровь из ран не сочилась, Ашер понял, что ранения смертельны.
Дети смеялись на гумне, высовывали голову из-за перил и ждали, что он на них посмотрит. Он не сразу откликался на эту игру, и поэтому они начинали хихикать, чтобы привлечь его внимание, посапывая и пыхтя, словно изо всех сил удерживались, чтобы не рассмеяться. Но стоило ему поднять голову, как они с визгом исчезали за дощатой стенкой. Хозяин дома ненадолго ушел и вернулся со стеклянной кружкой вина, а его жена достала из кармана передника фляжку шнапса и слегка смочила им раны собаки. Собака не шевельнулась. Вместо этого она захрипела, и из пасти у нее выступила пена.
— Пес умирает, — сказал Ашер.
Хозяйка ушла.
— Он умирает, — тотчас крикнул крестьянин вслед жене.
Внезапно пес перестал дышать. Дети уже успели вернуться в дом, и до Ашера доносились их смех и возгласы.
— Все кончено, — произнес Ашер, когда пес бессильно вытянул задние лапы.
— Кончено, — повторил крестьянин жене.
Потом он обернулся к Ашеру и сказал:
— Да и ни к чему было вызывать ветеринара. Только деньги потратили бы попусту.
— Всё, — еще раз крикнул он жене.
Потом они навестили соседку. Она вышла на крыльцо с маленьким ребенком на руках. За неплотно прикрытой дверью Ашер увидел котят, копошащихся в детском манеже в сенях. Соседка сказала, что она услышала выстрел, однако не решилась выглянуть на улицу, а наоборот, заперлась в доме и позвала жену крестьянина. Потом кто-то постучал в дверь и потребовал отворить.
Она курила сигарету. На ней было платье в цветочек. У входной двери был прибит высушенный березовый трутовик[12]. Она полагала, что отстрел собак происходит систематически. Их уничтожают не охотники, а те, кто хочет, чтобы на фермах не осталось ни одной собаки, чтобы удобнее было давить на жителей. Крестьянка возразила, напомнив, как охотник Шерр предложил ей пристрелить собаку.
— Выроем яму и похороним пса, — перебил ее муж. — Больше нам ничего не остается.
Направляясь к вдове и проходя мимо магазина, Ашер увидел охотников. Они по-прежнему стояли на улице, пили и смеялись. Их ружья лежали на передних пассажирских и задних сиденьях машин, битую дичь уже собрали. Витрины магазина так сильно запотели, что сквозь них он ничего не мог различить. Он услышал, как за его спиной осыпается и с мягким шорохом падает наземь снег с крыши.
После обеда он сходил к портному в Санкт-Ульрих за бархатным жилетом. По дороге, между вишневым деревом и мусорной кучей ему встретилась тетка вдовы. В руках она несла коротенький зонтик, тяжелый пустой бидон из-под молока и завернутый в целлофан букет. Во время обеда Ашер рассказал вдове о происшествии, однако та опасливо промолчала. Вместо этого она принялась рассказывать о своем детстве, когда у них со старшей сестрой была одна пара туфель на двоих. По воскресеньям они ходили в церковь по очереди: сначала к заутрене шла сестра, потом к одиннадцатичасовой мессе — она.
Потом он немного погулял по лесу. Земля была покрыта бурым, точно заржавевшим, пожухлым папоротником. Внизу, в лощине, виднелась белоснежная часовня, вокруг нее простирались поля. Кое-где слой снега на полях стал настолько тонким, что под ним просвечивала трава. Дойдя до часовни, он приметил двух землемеров, которые работали на месте бывшего рудника. Он почувствовал, как у него мерзнут ноги. Он быстро поднялся по улочке на крутом склоне в Санкт-Ульрих и купил в магазине резиновые сапоги на подкладке, шерстяные носки и теплые перчатки. К его удивлению, ему предложили стакан вина. Его усадили в кресло, и две продавщицы в синих нейлоновых форменных халатах завернули ему покупки. За это время, кроме него, в магазине не побывало ни одного покупателя. На металлических полках лежали рубашки, штаны, карандаши, фляжки для шнапса и сладости, с потолка свисали красные бумажные стрелки с надписью «Распродажа». Заплатив, он отправился к портному. Он вновь прошел мимо давильни для яблок, но сейчас она была заперта. К распахнутым дверям сарая кто-то прислонил мопед. По пути ему не встретилось ни души.
До прихода Ашера портной спал. Только когда Ашер позвонил во второй раз, он отворил и без особого восторга проводил его на второй этаж. Воздух в верхней комнате был спертый, отягощенный неприятным сладковатым запахом. Ашер примерил жилет, расплатился и не спеша отправился в обратный путь. С тех пор, как он в последний раз проходил мимо пожарной части, здание покрасили и повесили на фасаде новую табличку с яркой черной надписью. За пожарной частью, в винограднике, который, вероятно, принадлежал портному, возвышался деревянный ветряк. Чуть поодаль Ашеру встретился директор школы, окруженный детьми. Едва он вошел в здание школы, как дети принялись шуметь и носиться вокруг, хватая друг друга за ранцы. Какое-то время Ашер наблюдал за ними, а потом медленно направился в церковь, войдя через боковую дверь. Маленькая сельская церковь показалась ему очень изящной. На стенах — скульптуры святых, церковная кафедра — мраморная, украшенная позолоченными листьями, по обеим сторонам алтаря витражи. На алтаре приковывало взгляд большое алое сердце в центре сплетенного из роз венка. В сердце пылало пламя, озаряющее алтарь лучами… На Пасху, однажды поведала вдова, когда крестьяне в страстную неделю постились (тогда она сама съедала в день не больше тарелки супа с размоченной черствой булочкой), и мужчины, и женщины, бывало, теряли сознание во время службы и падали. Некоторые в изнеможении так и спали на скамьях. А некоторые для того и ходили в церковь… В углу кто-то прислонил белую шелковую хоругвь с золотисто-голубым древком. Да и Нагорная проповедь на потолке была изображена именно так, как описывала вдова. Обернувшись, он увидел священника. Священник смерил его взглядом и поспешно удалился. Вслед за ним вышел из церкви и Ашер. В школьном дворе по-прежнему играли дети, в доме священника стояла на подоконнике стеклянная ваза с цветами, по склону холма в деревню медленно вползал трактор. Ашер перешел улицу, решив передохнуть в соседнем трактире. За одним из столиков сидели трактирщик и человек, которого он видел на партийном собрании, и играли в карты.
— Были в церкви? — не отрываясь от игры, спросил «критик» с партсобрания.
В его вопросе Ашеру послышалась насмешка. Он вспомнил, что рассказывала о «критике» вдова.
— Ну и как, нравится вам наша церковь? — продолжал «критик».
Ашер ответил, что да.
— А, так значит, нравится! — воскликнул тот, по-прежнему не сводя глаз с карт.
Ашер, сам не зная, почему, не мог отделаться от ощущения, что «критику» хотелось не поговорить о церкви, а выяснить что-то о нем.
Перед «критиком» на столе лежал мундштук, он пристально вглядывался в свои карты.
— Сдаюсь, — провозгласил трактирщик и бросил карты на стол.
Он был широколицый, лысеющий, и носил очки. Ашеру доводилось слышать, что он играет на кларнете в деревенском оркестре. Он разводил рыбу, имел фруктовый сад и держал скот. Его дед был одним из сооснователей местной пожарной части, в главном зале трактира висела на стене фотография, изображающая деда трактирщика в сияющем шлеме с кожаным ремешком под подбородком. Рядом красовались еще несколько групповых фотографий в рамках, представляющих молодых крестьян и батраков, призываемых в армию. Все они как один щеголяли в шляпах с заткнутыми за ленту букетиками цветов, и все держали что-нибудь в руках: кто пивную кружку, кто курицу, кто фикус или герань в горшке, кто скрипку или флейту, кто сигару. На других фотографиях были запечатлены горняки на праздновании юбилея или свадьбы, причем музыканты лежали перед гостями в сугробе. «Иногда зал снимут на свадьбу, иногда на похороны; воскресным утром посетителей, пожалуй, наберется с десяток», — когда-то рассказал ему Голобич, говоря о трактире.
— Вы знакомы со священником? — спросил трактирщик.
Ашер ответил, что да, и упомянул, где они познакомились.
— Странный он человек, — сказал вслед за тем «критик», — он всегда ходит в перчатках и в пальто, даже летом.
Летом, скажем, его кухарка держит лестницу, а он обрезает ветки сливы, прямо так, в перчатках и в пальто. С ним несчастный случай произошел, вроде, когда он ехал на мотоцикле, и с тех пор он прихрамывает. А еще у него язва желудка. Кухарка, а ее он, кстати, привез из Верхней Штирии, из своего прежнего прихода, готовит ему диетическую еду. Проповедник из него никудышный, он даже надгробные речи не произносит. То ли дело его предшественник, родом из Баварии — тот навещал родню усопшего и расспрашивал обо всех перипетиях его жизни, не то что нынешний, этот просто всех избегает.
— И знаете, почему? — спросил «критик». — Он боится людей. Вот в чем дело!
Ашеру по-прежнему казалось, что, хотя «критик» и говорит о священнике, на самом деле имеет в виду его, Ашера. Он, конечно, мог и обмануться, но в душе чувствовал, что это не иллюзия.
— Наш прежний священник, — пояснил трактирщик, словно для того, чтобы смягчить впечатление от речей приятеля, — действительно наводил справки о биографии усопшего и потом так вплетал их в надгробную речь, что все присутствующие плакали. А когда заучивал проповедь наизусть, он так расхаживал по своему кабинету, что скрип его башмаков был слышен на улице.
— А нынешний наш священник, — продолжал он, — живет так замкнуто, что мы даже не знаем, как он готовится к проповеди. Хотя он и читает проповеди, он всегда строго придерживается Евангелия. В сущности, он все делает правильно, а все равно чего-то не хватает.
— Впрочем, не хочу его чернить, — заключил он.
Пока трактирщик распинался, «критик» улыбался и не сводил с Ашера глаз, а потом вдруг спросил, верит ли он в загробную жизнь и в бога? Бог существует? И какая она вообще, жизнь после смерти? Ашер глядел на маленькое, покрытое сетью морщин, насмешливое лицо, веселые, покрасневшие от многолетнего пития глазки, и ощутил потребность расположить к себе этого человека. Одновременно он удивлялся, какие разные чувства он способен испытывать. С одной стороны, он был готов обрести веру, с другой, — утрачивал ее, столкнувшись с человеком вроде его соседа по столу.
Жизни после смерти, вероятно, не существует, ответил он. Произнося эту фразу, он ощутил необходимость как-то это объяснить, но с другой стороны, ему пришло на ум, что нельзя объяснять, прибегая к слишком сложным терминам, а не то он вновь вызовет у «критика» недоверие. Как только прекращается работа мозга, продолжал он, прекращается и работа сознания. Он не представляет себе, что может быть по-другому. Без всяких угрызений совести он смотрел, как «критик» кивает и улыбается, а трактирщик сверлит его взглядом.
— Послушайте, — возразил трактирщик, — но кто-то же все это создал? Неужели Вселенная возникла случайно?
Казалось, он с нетерпением ожидает ответа, но Ашер тотчас ответил, что с таким же успехом можно спросить, кто создал бога?
— Совершенно верно! — возбуждено поддакнул «критик», а потом обернулся к трактирщику и с торжеством воскликнул:
— Ну, что я говорил!
— Но, если, скажем, через миллионы лет весь мир погибнет и исчезнет без следа, тогда получается, что все бессмысленно, — возмутился трактирщик.
— Через миллионы лет! Да плевать, что будет через миллионы лет! Что ты самому себе внушаешь всякую чушь… — вставил «критик».
Он стукнул по столу кулаками и засмеялся. Они еще некоторое время просидели за столом и проговорили. «Критик» рассказал, что он сначала служил конюхом на большой ферме, а потом у владельца рудника заболел подсобный рабочий, и он его заменял. В это время он немало натерпелся от жандармов: они ведь знали, что человек он вспыльчивый, вот и задерживали его и всячески провоцировали, стоило ему объявиться с повозкой и с лошадьми где-нибудь поблизости. А ему-де палец в рот не клади, вот он и сиживал частенько в каталажке. Ну а ему хоть бы что. Так он хоть мог отоспаться. Когда рабочий у хозяина рудника выздоровел, фермер больше не захотел его принять. Тогда он решил устроиться горняком. Каждый день по восемь часов лежал в штольне, долбил каменный уголь. Не проходило и нескольких часов, а на нем уже все мокрое от сырости, хоть выжимай. О перерывах никто и не слыхивал, разве что после взрыва ждали, пока рассеется дым и осядет пыль. Оплата была сдельная. Шахтеру платили в зависимости от того, сколько он добыл кубометров угля, так же рассчитывали и рождественскую премию. Однажды, было это, если ему не изменяет память, в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году, ему заплатили за какой-то месяц тысячу восемьсот шиллингов — это был самый большой заработок в его жизни.
— Мы долгое время жили на доходы от добычи угля, — продолжал трактирщик. — Когда шахты засыпали и землю распахали под поля, нам казалось, что все наше прошлое стерли с лица земли.
Но уголь по-прежнему можно копать где угодно. Он, мол, обладает правом вести разведочные работы и осенью за домом копает уголь на зиму. В кухонном окне он показал ему яму в саду, в которой торчала лопата.
— До вон той холодильной установки можно копать уголь. Только ближе к склону он залегает глубже.
Вечером Ашер рассматривал отпечатки снежинок, а потом достал из сундука черные футляры, которые, когда он только переселялся, положила в багаж его жена. «Микроскопические препараты» — было оттиснуто на крышке печатными буквами. В футлярах двумя рядами стояли деревянные подставки, а в их ячейках помещались стеклянные пластинки. На внутренней стороне крышки был приклеен пронумерованный список, в котором значились название и место нахождения препаратов. «Фораминиферы (глобигерины), Индийский океан, глубина 4000 метров», — прочитал он. Цианея Ламарка (медуза), щупальце, поперечный срез, Северное море… Планктон, побережье Голландии, губки, радиолярии… Препараты он когда-то выменял в Венском обществе любителей микроскопов. Во втором футляре нашлись поперечные срезы шипа розы, корня липы, почки конского каштана, человеческого сосуда, кожного эпителия саламандры, древесины сосновой ветки, головки новорожденного белого мышонка, продольный срез пшеничного зерна и еще кое-что. Один за другим он клал их под микроскоп, а под конец оставил почку конского каштана, в которой он смог ясно различить соцветие, серебристо-белое на алом фоне. Неужели, признав правоту горняка, он выдал себя? Теперь, оставшись в одиночестве у себя в комнате, он почувствовал, как прежняя уверенность исчезла. Ему показалось, будто он пытается занять такую позицию, которая позволит ему проявлять слабость. А теперь он утратил что-то важное, пусть даже всего лишь плод воображения, дававший ему обманчивое ощущение безопасности и уюта. Он подошел к окну и стал смотреть на сверкающие звезды.
Когда он проснулся, небо над горами успело окраситься желтым. Он спросонья глядел на свет, безмятежный и прекрасный, точно пролившийся из какого-то вечного, неуязвимого мира. Любуясь светом, он успокоился и заснул. Около девяти он проснулся снова. Теперь небо затягивали серебристо-серые облака, в лощинах все заволокло белым туманом. Одевшись, он обнаружил в мышеловках двух убитых мышей и выбросил их за свинарник. Потом до него донесся шум мотора — это приехал на мотоцикле Голобич и пообещал ему заделать стекловатой щели между стенами и полом. Ашер сразу дал ему денег, а Голобич на мотоцикле отвез его к вдове. Однако дом вдовы точно вымер. В вышине раздавались звонкие крики птиц, словно где-то сталкивались стеклянные шарики. Дикий виноград, обвивший дощатую стену давильного пресса, совсем засох. Ашер заглянул за дом. Пес, лежавший между двумя бочками, вскочил и бросился облизывать ему руки. Он подошел к окну, попытался заглянуть внутрь, но разглядел только, что в кухне пусто. Это не слишком его опечалило, ведь никаких особых дел к вдове у него не было. Он отправился в магазин и выпил там стакан вина с минеральной водой. На парковке затормозил оранжевый школьный автобус, из него вышел шофер и скрылся в подсобном помещении позади ресторанчика, чтобы позвонить. Улица возле магазина и парковка были заасфальтированы. Над крышами домов совершали свои беззвучные превращения облака. Ашер оставил на столе несколько монет и стал спускаться по лугу в низину. Проходя мимо старого дома, он услышал, как со стропил падает и с глухим стуком ударяется о землю черепица. Иногда она с треском разбивалась. Кто-то внутри длинной жердью снимал крышу. Две кухонные стены уже разобрали, деревянные балки уложили поленницей рядом с домом. Поэтому снаружи Ашер разглядел разрушенную плиту и дверь в комнату.
Он услышал, как человек в старом доме говорит:
— Завтра разберем кухню и увезем.
Ашер обернулся: этот человек обращался к нему.
Он остановился и стал наблюдать, как черепица соскальзывает по крыше, падает на землю, и как все больше обнажаются стропила.
— Дверь-то, — поведал невидимка в доме, — у меня купил архитектор. Пришел он ко мне и попросил продать ему дверь. А я спрашиваю, для чего, мол, вам понадобилась дверь. Повешу у себя, отвечает тот. Ну, я ему дверь и отдал.
— Ах, вот оно что, — откликнулся Ашер.
— Я-то сам внизу, на равнине, живу, — продолжал невидимка. — Дом этот мне достался по наследству. Весной пригоню сюда коров, пусть пасутся здесь до осени. Он перестал шуровать жердиной и, воздетая вверх, она ненадолго замерла в воздухе. Ашер промолчал, и невидимка снова стал по одной сбрасывать вниз черепицу.
Тропу в низине развезло. Еще издали он расслышал, как лает и хрипит собака. Подойдя ближе к дому, он понял, что собаку заперли. Там, где старуха (когда они с Голобичем ездили на рыбный садок и пристреливали ружье) чистила тыкву, теперь под полиэтиленовой пленкой лежал уголь. Темно-бурый деревянный дом стоял на теневой стороне и поэтому его до сих пор окружали сугробы. По снегу были протоптаны дорожки, и по ним от Ашера врассыпную бросились куры. Он поискал старуху и ее сожителя и для начала заглянул в давильню. На одном гвозде висело пальто, на другом — костюмы и платья. В давильне было темно, и глаза Ашера не сразу привыкли к полумраку. В уголке примостился велосипед, но большую часть давильного сарайчика занимали рычаг пресса и ходовые винты. Проходя мимо дома, он расслышал трепетание птичьих крыльев в голых виноградных плетях. В свинарнике было тихо. Он остановился у колодца, откуда открывался вид на раскинувшуюся низину с бурыми пятнами засохшей кукурузы, выделявшимися на фоне снега. Старики как раз ссорились на гумне, распиливая колоду. Ашер позвал их, но они расслышали его, только когда он подошел поближе. Старуха была в широкой, заплатанной кожаной куртке и, едва завидев его, кинулась прочь. Старик сначала сорвал с головы шляпу, потом стянул шерстяной шлем, оставлявший открытыми только глаза, нос и рот, сунул его в карман штанов и, снова нахлобучив на голову шляпу, повернулся к Ашеру.
— Я ровно нищий какой! — укоризненно воскликнул он.
Однако Ашер его не понял, и только после того, как старик несколько раз повторил это замечание, догадался: им обоим стыдно, что он застал их в таком виде. На козлах лежала деревянная балка, и он узнал на ней тот же цветочный узор, что уже видел в старом доме. Крошечные деревянные досочки прилегали к ней неплотно, и, нагнувшись, чтобы рассмотреть их поближе, он понял, для чего они предназначались: чтобы к ним прилипала штукатурка. Вся конструкция была задумана настолько изящно и просто, выполнена настолько точно, что Ашер на мгновение пожалел, что старики ее распилят. Старик вопросительно смотрел на него, не говоря ни слова. Зубы у него были пожелтевшие, меж пеньками там и сям зияли дыры. Ашер и раньше замечал, какие плохие у большинства крестьян зубы. Зубы у них гнили-гнили, потом выпадали, а им и горя мало. Встречал он и беззубых женщин. Это никого особо не заботило, не то что в городе — здесь, в глубинке, все давно привыкли к такому зрелищу. Зубы выпадали, ну, вроде как волосы могут выпасть, ничего особенного. Старики раньше никогда не носили зубные протезы. Некоторые заказывали себе вставные челюсти в Югославии, где это стоило дешевле, ведь какую-то часть расходов они оплачивали сами. Вот и находились такие, кто предпочитал обходиться без зубов. Сорока-пятидесятилетние уже привередничали, впрочем, тоже не все. Ашер обращал внимание, что у многих вставные челюсти были плохо подобраны или изготовлены. У одних крестьян они держались во рту неплотно, у других стучали зубы, третьим так плохо подходили, что вставную челюсть можно было узнать еще издали. Поскольку все носили скверные зубные протезы и никто не жаловался, дантисты особо не старались. Примерно так обстояло дело и с очками. В поле на работах или на охоте ему не приходилось встречать ни одного человека в очках. Некоторые старики, как ему рассказали, покупали очки на блошином рынке. Примеряли у торговцев и, если им казалось, что в них они видят лучше, покупали за двадцать-тридцать шиллингов. Некоторым очки доставались по наследству. Но немало было и тех, кто просто жил себе и жил, ничего не видя толком, — мол, что ж поделаешь. Ведь газеты читали, как правило, те, кто помоложе. Старики предпочитали сидеть в кафе при магазине, по вечерам смотрели телевизор, а так как на экране часто появлялись помехи, а телевизоры были черно-белые, старых моделей, то размытая картинка уже ни у кого не вызывала недовольства. Старуха между тем вернулась в зеленом свитере, чистом переднике и выстиранном платке. Ашер спросил, не продаст ли она ему яиц, и она ответила, что излишка у нее нет, но попросила пройти в дом. Однако старик попытался преградить жене и Ашеру дорогу и не пустить их в дом, Ашер сперва не понял, почему. Однако, увидев, как старик с опущенной головой поплелся в погреб, он понял, в чем дело. Голобич когда-то говорил ему, что эта пара — самые бедные крестьяне в округе, из числа тех немногих, кто даже не провел к себе электричество. Всю их скотину составляли две коровы и лошадь, которой было уже больше двадцати пяти лет. Весной, когда сеяли кукурузу, к ним приезжал один молодой сосед и трактором выравнивал почву, вносил удобрения и сеял за двести-триста шиллингов.
Старуха распахнула дощатую дверь. В комнате, на земляном полу, заливаясь лаем, рядом с соломенным веником сидела толстая пятнистая собака. На старых брошенных ящиках сидели куры. Единственная комната, в которой они жили, была не освещена. На стене висели две керосиновые лампы. На сдвинутых кроватях лежали пальто. Старуха стала трещать без умолку. Она то и дело задавала ему какие-то вопросы, но он понимал их с трудом, к тому же все его внимание было приковано к кухне. Рядом со столом, из которого старуха вытащила выдвижной ящик с яйцами, стояла зернодробилка с большим металлическим ковшовым колесом. Плошки и коробы были забиты кукурузной мукой, из которой старуха готовила мамалыгу. В темноте Ашер различил у противоположной стены железную плитку, а на ней — двух спящих кошек.
Старик, не поднимая глаз, вошел в дом, достал жестянку с табаком и стал скручивать цигарку. Ашер еще раньше заметил, что он хромает. Он спросил, что случилось, однако старик промолчал. Ашер явно говорил слишком тихо, потому что жена крестьянина прокричала его вопрос еще раз. «Он плохо слышит», — добавила она. Старик встал и, покручивая цигарку, устремил взор на Ашера. Когда он заговорил, то помогал себе всем телом, напрягая все силы. Жестами он подчеркивал каждое слово, глаза у него были широко открыты, он то подавался всем телом вперед, то отшатывался назад. Ашер сумел понять следующее: старик рубил тыкву и попал тесаком по голой ступне. Он завязал рану тряпкой, предварительно плеснув на нее шнапса, и натянул на ногу старый чулок жены. Ни он, ни его жена никогда ничем не болели, пояснил он. Однако рана все не заживала. Наоборот, «когда ходишь, болит, спасу нет», правда, он ее уже неделю не развязывал. Ничего, как-нибудь затянется, заключил он.
— Покажите мне ногу, — велел Ашер.
— Сказано тебе, покажи ногу! — громко повторила жена.
Крестьянин, не говоря ни слова, медленно опустился на низенькую скамеечку, на которой громоздились коробки и мотки шпагата, стянул чулок, а потом развязал тряпку. Рана оказалась глубокая, воспалившаяся, и гноилась. Ашер втолковал крестьянке, что он сейчас вернется и что ее муж должен подождать. Он пришел к себе, положил яйца на кухонный стол, рассовал по карманам лекарства и бинты, и пошел обратно, чтобы обработать старику рану. Пальцы на ногах у крестьянина были огромные, кожа на пятках — загрубевшая, желтая. Ашер помог ему натянуть носок и пообещал зайти дня через два. Он оставил на столе плату за яйца, но крестьянка не захотела ее принять. Вслед за Ашером она выбежала из дому, сунула деньги в карман его куртки и предложила ему кусок копченого мяса. И только когда он пообещал взять его в следующий раз, она отстала.
За ближайшим поворотом дороги луг усыпали маленькие бурые кротовые холмики. Издалека он увидел, как какой-то человек тащит в погреб пластмассовые бочки. Впервые он испытывал радость.
17
Хофмайстер жил в низком, кирпичном доме с желто-зелеными балками и белой дверью. Стоял ясный, холодный день. На солнце снег уже растаял, только на тенистой лесной опушке кое-где еще виднелись маленькие снежные заплатки. Выделялись и желто-бурые стога кукурузы на полях с отчетливыми длинными бороздами, оставшимися после перепахивания.
В кухне Хофмайстера Ашер столкнулся с толстухой-невестой, которая прихорашивалась у зеркала. Она застенчиво попыталась прикрыть волосы руками. Жених, проследовавший за ним в кухню, был коренастый блондин с румяными щеками, еще не успевший сменить повседневную одежду на приличествующий случаю костюм. Он подал Ашеру стеклянную кружку вина и предложил занять место в гостиной на старенькой скамейке, покрытой отслужившей свое занавеской. Ашер ни в коем случае не хотел никому мешать и потому тихо сидел там, где его усадили. Тем временем из задней комнаты приковылял кудрявый младший сынок, остановился и нахмурился. Он еще не умел говорить и стал ждать, пока его не накормит тетя. Ашер поставил кружку на кресло возле скамейки: он еще ничего не ел и не хотел напиться до обеда. Он толком не знал ни жениха, ни невесту. К его облегчению, вскоре пришел маленький, приземистый человек с загорелым, испещренным глубокими морщинами лицом и с густыми седыми волосами. Он повесил пальто на крючок и сел рядом с Ашером. Представившись, он тотчас стал во всех подробностях излагать свою биографию. Он явно наслаждался предвкушением свадьбы, а может быть, уже успел выпить по дороге. Ашер с трудом следил за перипетиями его жизненного пути, к тому же новый знакомец то и дело перескакивал с пятого на десятое, так что Ашеру приходилось постоянно переспрашивать. Сначала он поведал Ашеру дату своего рождения, упомянул, что прежде батрачил, а теперь живет почитай что на винограднике, в Гамлице. Ашер прикинул, что его собеседнику должно быть лет семьдесят. Он — дядя жениха, сказал бывший батрак. Он-де женат вторым браком, но супружница его осталась дома. От двух браков у него пятеро детей, пояснил он. Последнее время он жил у дочери — купил участок под строительство и отдал зятю часть своих сбережений, чтобы тот построил дом, — но с дочерью не ладит, а потому уехал от нее и прикупил домик в Гамлице… Он отпил большой глоток и тщательно вытер губы. Помолчав минутку, он продолжил, что, мол, почти шесть лет воевал. Все это время таскал с собой в вещмешке бутылку шнапса и обменивал на лишнюю порцию шнапса весь доппаек, шоколад или там карамель. А шнапс он пил перед каждой атакой. В общей сложности, побывал в восемнадцати рукопашных, из всей роты, кроме него, еще только пять человек вернулись с войны.
— Но поверьте, — горячился он, — война кончилась, а я потом еще целый год просыпался от кошмаров в холодном поту; как-то зимой вскочил и прямо в одних подштанниках бросился из дома на мороз, — все потому, что мне во сне привиделось, что русские напали.
После войны все в округе голодали. Хлеб, к примеру, продавали такой черствый, что его подолгу приходилось носить за пазухой, чтобы он хоть немного оттаял, а то ведь его даже зубами было не разгрызть. Первый удар он пережил, когда один из его братьев погиб на фронте, девятого июля тысяча девятьсот сорок третьего года, он как сейчас помнит, а похоронку он получил только месяц спустя (Всего-то у него было четверо братьев). Другой на войне был ранен в голову и сейчас живет в Лёйтчахе у жены. А третьему брату ампутировали ногу, из-за диабета, и того и гляди, ампутируют и другую, — он сейчас лежит в больнице и чувствует себя худо. Он задумчиво покивал, уставившись в пространство, а когда Ашер спросил, кем ему приходилось работать, сказал, что сначала батрачил у фермера Гампля Франца, без малого двенадцать лет. Тогда все гнули спину на полях, целыми семьями, от мала до велика. Дети до четырнадцати лет пасли скот, а потом уж работали наравне со взрослыми. За это им полагалась ежедневная кормежка. Ему, сверх того, платили еще шиллинг в день, а его жене — пятьдесят грошей. Так, мол, было в тысяча девятьсот тридцать первом году, и это положение вещей длилось до начала войны. Его работодатель Франц Гампль был винодел из-под Лёйтчаха и держал еще троих батраков и двух батрачек. После войны он в основном работал в имении Антхофен. Вот пробатрачат они с женой там пятьдесят пять дней — и получат крышу над головой и дрова на зиму. А за стол платили сами. Дети к тому времени уже разлетелись кто куда. Его первая жена спустя шесть лет после войны сорока лет от роду умерла от болезни сердца. И года не прошло, как он женился снова; ему тогда был сорок один, его новой жене — тридцать восемь. От первого брака у нее тоже был ребенок. С тысяча девятьсот пятьдесят второго по тысяча девятьсот пятьдесят шестой он ломал спину на крестьянина Поммера под Санкт-Ульрихом. Два месяца в году отрабатывал жилье, а остальные, как и до войны, батрачил в имении Антхофен. Платили ему как батраку двадцать пять шиллингов в день. Рабочий день длился с шести утра до восьми вечера. За все это время полагались только десять минут, чтобы перекусить, да обеденный перерыв — полчаса. И по субботам работали, само собой. Выходной один — воскресенье, но по воскресеньям за стол платишь сам. Он скопил денег на домик с виноградным прессом и винным погребом, на страховку на случай болезни и по старости, и теперь получает пенсию в четыре тысячи четыреста шиллингов. Приятно хоть в старости освободиться от гнетущих забот.
Но, как ни охотно повествовал батрак о своей жизни, он мог сообщить немногим более нежели сухие перечисления названий и фактов. «Той зимой было так холодно, я чуть руки не отморозил», «Работа потому была такая тяжелая, что склоны холмов крутые», «Летом от жары да от усталости я чуть в обморок не падал. Косить-то мы начинали еще в три часа утра, потому что к полудню жару и вовсе нельзя было выдержать», — таковы были его немногие личные впечатления. «Потом туда подался, потом там ломал спину, заработал столько-то и столько», — более он ничего не мог поведать. Остальное составляли воспоминания, которые можно было передать одной фразой. Ашер понимал, что все это соответствовало действительности, но некоторые мгновения, вероятно, требовали такого напряжения сил или были исполнены такого механического, совершаемого бессознательно труда, что самые точные воспоминания сводились к перечислению нескольких простейших понятий и осознанию собственных страданий.
В открытую дверь Ашер еще раньше успел увидеть приближавшуюся к дому машину, которая затормозила у высоковольтной опоры на подъездной дороге. Из спальни выскочил Хофмайстер в белой рубашке, галстуке и подтяжках, поздоровался с Ашером и батраком и бросился на крыльцо. Он явно беспокоился и снова скрылся в спальне, откуда, уже полностью одетым, выбежал к родственникам, которые несли завернутые в шелковую бумагу подарки жениху и невесте. Родственники степенно прошли в комнату, и Ашер с батраком встали их поприветствовать. Эти церемонии затянулись, потому что жених повел нескольких гостей в погреб, — показать цветы, приготовленные для невесты, а Хофмайстер с женой стали на пороге угощать вновь прибывших вином. Хозяйка дома почти все время молчала, кивала, предложила по очереди гостям и Ашеру булочек на подносе и снова ушла в дом. Справляя нужду, Ашер заметил на окне в клозете безглавое тельце пчелы. Когда он возвращался в гостиную, жена Хофмайстера окликнула его, предложила булочек, подлила в кружку вина и сказала: «Кушайте, кушайте». Потом она объяснила, что ее зубной протез не успели изготовить вовремя, к свадьбе, вот она и чувствует себя дурочкой: без зубов — ни поговорить, ни посмеяться. Тут она засмеялась, а следом за ней и Ашер. Смеясь, они вернулись в сени, по которым уже носились принаряженные к празднику дети. Со двора доносился шум ветра, раскачивающего ветви сливы, крик петуха, и какая-то старушка в черном повела малыша гулять. Остальные гости принесли завернутые в разноцветную бумагу пакеты и, стоя на пороге, передали их жениху и невесте. Старушки в косынках сидели в гостиной на скамье, мужчины в костюмах в тонкую полоску, с аккуратно приглаженными волосами, толпились, держа в руках кружки с вином. Хофмайстер, заметив, что Ашер остался в одиночестве, вывел его на крыльцо и показал ему свою ручную сороку, которая сидела на поленнице и недружелюбно косилась на Ашера.
— Она клюется, если близко подойти, так что лучше уж вы стойте там, где стоите, господин Ашер, — предупредил Хофмайстер. — Только когда проголодается, ведет себя прилично. Тогда она даже залетает в дом и требует, чтобы ее накормили. Поела — и снова садится на дрова или на садовый забор, а то еще улетит в виноградник, через улицу. Но дальше никогда не улетает. С тех пор как мы ее прикормили, даже и не пытается.
Потом в сенях подружки невесты рассказали, что она как раз надевает платье. При этом ее охватило такое волнение, что ей даже пришлось сесть. Хофмайстер улыбнулся Ашеру и пояснил, что обычно за невестой приезжает жених, но сын и его невеста и так уже давно живут вместе, а потом, на прошлой неделе уже зарегистрировали брак в мэрии, но праздник устраивают только после венчания в церкви.
— Так уж у нас принято, — заключил он.
Тут во двор как раз вошли музыканты в пальто и в шляпах, выстроились и заиграли. Трубы на неярком зимнем солнце отливали золотом. Кларнетист поставил между ног на землю черный футляр, из рукава пальто у него торчал кончик белого носового платка. Гости как по команде замолчали и поспешили к выходу. Из кухни появилась тетушка в черном, с картонной коробкой в руках, в которой лежали значки для гостей. Ашеру прикололи на лацкан пиджака бело-зеленый цветочек на тюлевой основе. Тетушка протиснулась к нему сквозь толпу и попросила пройти во двор. Ветер теребил у музыкантов поля шляп, иногда порыв ветра развевал полы пальто. Когда оркестр замолчал, гости снова зашумели, принялись пить вино, закусывая булочками, а дети — слизывать с пальцев сахарную пудру. Сразу после этого появились жених и невеста. Сначала Ашер увидел, как гости расступаются, а потом новобрачные остановились на верхней ступеньке, представ восхищенным взорам. В волосы невесты были вплетены белые ленты, платье на ней тоже было белое, до полу, в руке она держала букет гвоздик. Оркестр вновь заиграл, а гости молча, не двигаясь с мест, разглядывали молодую пару. Жених был не в штирийском костюме, а в обычном, бархатном, с серебристым бантом на шее, и потому казался чужеземцем. Тут Ашер заметил Цайнера и вдову. Вдова пришла пешком, а Цайнер со своим тестем остались в машине. Пройдя мимо припаркованных автомобилей, капот которых украшали садовые цветы, Ашер спросил Цайнера, не подвезет ли он его. Цайнер распахнул дверцу. Они подождали, пока оркестр доиграет, а приглашенные рассядутся в машины и проедут немного вперед. Последней в сопровождении отчима прошла к машине невеста, и Ашер заметил, что волосы у нее немного растрепались, а ленты начали распускаться.
Он не разделял всеобщей радости. Она казалась ему притворной, он и сам не знал, почему. Ему чудилось, будто присутствующие обманывают друг друга и сами готовы обмануться. Однако он не до конца доверял собственным ощущениям. Может быть, им и в самом деле нравилось праздновать по строгим правилам, может быть, особую прелесть этому собранию придавало именно то, что и хозяева, и гости твердо знали, что будет дальше, и никогда не ошибались. Возможно, сама устойчивость старинного обряда вселяла в них уверенность. Увидев, что свадьба детей празднуется так же, как когда-то их собственная, родители успокаивались. На какое-то время все оставалось неизменным, а поскольку будущее внушало родителям тревогу, им казалось, что, по крайней мере, пока у детей все хорошо. А еще такая свадьба означает, что дети разделяют ценности родителей, подумал Ашер. Вино ударило ему в голову. Их машина замыкала кортеж. Крестьяне высыпали на крыльцо своих домов и, молча, с любопытством, провожали глазами свадебный поезд. Ашер многих знал в лицо, но сейчас его словно отделяла от них неведомая стена. Цайнер и другие гости тоже не здоровались с зеваками. Перед следующим отрезком дороги, который шел в гору, их остановили.
— Они улицу перекрыли, не хотят нас дальше пускать, — пояснил Цайнер.
— Свидетель должен заплатить, а то и вправду не пропустят, — добавил тесть.
— Обычно на дороге разыгрывают маленькие сценки: то в хоккей начнут играть прямо на асфальте, то стенку строить, то машину ремонтировать, то служить обедню. И само собой, пьют вино, как же без этого. Приглашенным нравится, а мне как-то все равно.
Тесть согласился. Гости вышли из машин и, теснясь, направились смотреть, что случилось, Ашер расслышал, как они хохочут. Машина с оркестром тоже остановилась, музыканты выбрались со своими инструментами и снова заиграли.
Возле церкви уже поджидали гости: одни — окружив невесту, другие — столпившись вокруг жениха. Жених надел черное пальто, невеста мерзла.
Оркестр, взобравшись по ступенькам, наяривал теперь у дома священника, но сам священник не показывался. Ашер стоял рядом с Цайнером у «церковного» трактира. Какое-то время музыканты еще играли, но потом замерзли и начали переминаться с ноги на ногу. Наконец, появился священник. Он ожидал, что свадебный кортеж прибудет позже, как это обычно бывает, пояснил он. Он вернулся в дом и послал кухарку за причетниками, органистом и хором. Потом он пригласил Хофмайстера занять место в церкви. Но сначала молодая пара должна подписать бумаги у него в кабинете, напомнил священник.
— Можем идти в церковь! — громко крикнул Хофмайстер.
Гости молча ждали, пока органист и причетники, уже подходившие к воротам, не займут свои места в церкви. Только когда двери открыли и из церкви донеслись звуки органа, они расселись на скамьях. Ашер не сразу узнал органиста — это был мясник, которого он видел у вдовы.
Стоя у церкви и заглядывая в окно, он увидел, как священник надевает белоснежную свадебную сутану. Однако не успел он выйти из дома, как Ашер уже отправился в «церковный» трактир. В уголке батрак с каким-то толстяком играли в карты. У толстяка были жидкие волосы, большая голова, сильные руки, и одет он был по-городскому. Ашер обрадовался, увидев батрака, и спросил, нельзя ли подсесть к ним за столик.
— Почему бы и нет? — вопросом на вопрос ответил батрак, не отвлекаясь от карт.
Ашер заметил, что на груди у него приколот большой, черный значок Товарищества.
С толстяком они были, по-видимому, старые знакомые. Сыграв кон, они бросили карты на стол, и незнакомец заявил, что в душе он по-прежнему остается национал-социалистом. Единственный, кто хоть что-то сделал для крестьян, — это Гитлер, продолжал он.
— Кто ввел детские пособия? Кто, еще до войны, освободил нас от долгов, когда мы уже отчаялись? — повторял он.
Когда Ашер попытался ему возразить, он грубо его перебил:
— Я за диктатуру.
Батрак его поддержал.
— Послушайте, — сказал он, придвинувшись ближе, — я до войны служил в штурмовом отряде, я знаю, что говорю!
Ашер хотел было сказать ему, что обсуждать с ним это бессмысленно, но толстяк не дал ему вставить ни слова. Кроме того, Ашера раздражало, что батрак во всеуслышание поддерживал толстяка. Стоило толстяку произнести фразу, как батрак поддакивал: «Само собой!» В конце концов, Ашер встал и пересел за другой столик, и толстяку пришлось оставить его в покое. Тем не менее, он несколько раз выкрикнул «Я знаю, что говорю!», обращаясь к Ашеру. Ашер привык к подобным сценам. Однако он не понимал, почему батрак во всем соглашается с толстяком. Объяснить это он мог только тем, что батрак больше не находит места в жизни и жаждет ясных инструкций. Возможно, он хотел однозначно увериться в том, что правильно, а что нет. При диктатуре он точно знал, что от него требуется, а значит, мог вести себя, как надо, и предаваться иллюзии, что от него есть какой-никакой прок. В сущности, он, вероятно, хотел все делать правильно, а еще хотел, чтобы за это его вознаграждали. Если к нему относились равнодушно, выходит, не признавали его заслуг. Его воспитывали для подчинения, его приучали к подчинению, и теперь, на склоне лет, подчинения ему очень не хватало. Может быть, прежде он воспринимал подчинение как незыблемую основу мира, часть мироздания, и потому теперь не осознавал, а только смутно догадывался, что же с ним произошло. Может быть, он и чувствовал, что жизнь прошла впустую, но не хотел себе в этом признаваться, зачем он тогда вообще жил? Только для того, чтобы, во всем поддерживая власть, самому получать поддержку, прислуживаясь, рассчитывать на маленькие льготы и привилегии. Чем дольше Ашер об этом размышлял, тем более осознавал, что́ означало для батрака признание.
Гости вышли из церкви и выстроились во дворе трактира. Трактирщик заранее расставил там ряды столов, скамеек и стульев. Ашер смотрел, как стар и млад стали взбираться на столы, а родня уселась на стулья. Трактирщик установил перед группой камеру на штативе и принялся командовать, давая указания. Ашер, все время наблюдавший за этой сценой из окна, увидел, как последними строились у ног новобрачных музыканты. Каждый раз, когда трактирщик произносил «Внимание! Снимаю!», раздавался взрыв хохота, но потом наступала мертвая тишина. Однако гости пока не пошли в трактир, а разъехались по близлежащим ресторанчикам выпить. Батрак и толстяк, с которым он играл в карты, тоже исчезли.
По просьбе трактирщика Ашер проследовал за ним в кухню, где хлопотали его жена с двумя сестрами. На свадьбу закололи двух свиней, зарезали два десятка кур и притащили их в трактир: маринованное и обсыпанное сухарями мясо томилось в больших кастрюлях, салат готовили в умывальных тазах. Потом трактирщик показал ему стол, поставленный в помещении, которое он называл «бальным залом». Потолок зала поддерживали две стальные, крашенные белой краской колонны, дощатый пол был желтый. В самой середине зала стоял стол. Между круглыми светильниками висели гофрированные бумажные гирлянды, оставшиеся со времен последнего бала.
— Здесь мы проводим репетиции оркестра, — пояснил трактирщик.
Он показал Ашеру эстраду для музыкантов и танцплощадку на скрытой во тьме веранде. Оркестр уже установил динамики. Трактирщик погасил свет, случайно задел выключатель бального зала, и они тотчас погрузились во мрак. В темноте трактирщик пошел к выходу, натыкаясь на стулья.
— Раньше, когда всем еще заправлял мой отец, не обходилось без драк. Тогда ведь вино было совсем другое — от непривитых, негибридных лоз: арамон, хантингтон, изабелла… Посетители набирались, и давай друг друга охаживать… Чуть ли не на каждом холме тогда был открыт кабачок с парой простых столиков и стульев. По воскресеньям крестьяне пировали на лугах, бывало, кто-нибудь наигрывал на гармошке.
Он тщательно запер дверь. На стенах возле входной двери висели чучела диких уток, фазанов, ореховок, одной иволги, сорок и ворон. С ними соседствовали оленьи рога. Трактирщик, встав рядом, поведал, когда и где его отец застрелил какого зверя и птицу. Он достал из жилетного кармана серебряные часы и завел их, а потом поставил на несколько минут вперед:
— За двенадцать часов они отстают на десять минут, — пояснил он. — А ночь сегодня будет долгой.
Когда вернулись подвыпившие гости, было уже темно. Они расселись за столом, на котором, поверх белоснежной скатерти, были расставлены глубокие тарелки, под ними — мелкие, бокалы для вина, салфетки в стаканчиках, цветы, сдоба, сияющие столовые приборы, а венчал все это великолепие нарядно украшенный свадебный торт. Тем временем Ашер собрался домой. Но не успел он выйти из трактира, как на крыльце появился Хофмайстер, без пиджака, и крикнул ему:
— Куда это вы?
Ашеру пришлось остановиться, и Хофмайстер окликнул его еще раз.
На столе, в больших разукрашенных супницах с черпаками, уже дымился суп.
После ужина остальные мужчины тоже освободились от пиджаков, оставшись в белых рубашках с манжетами, расстегнули воротнички, ослабили узлы галстуков. Ашер тоже снял пиджак. После возвращения гостей он повеселел. Да и просьба Хофмайстера остаться его обрадовала.
— Я венчался тридцатого апреля, — произнес тесть Цайнера. — Мы тогда, — дороги-то проезжей, само собой, не было, — шли в церковь пешком. Вокруг все цвело. Что же в апреле-то цветет? Поди, вишни да абрикосы… Все луга были усеяны желтыми одуванчиками… Сперва мы зашли за невестой. А потом с ней, она была в белом, почти час шли в церковь. По пути заходили во все дома. Некоторые уже набрались вина, и виноградного, и плодового, которым нас везде угощали. Праздновали мы дома. Мы одолжили столы и стулья, приборы и посуду. Готовили соседские хозяйки. Танцевали под музыку, а играли все мои знакомые. Чего-чего, а музыканты у нас не переводятся, уж повеселиться мы любим.
Оркестр заиграл вальс, жених пригласил невесту, и гости последовали их примеру. Ашер смотрел, как батрак стремительно кружит в танце жену Хофмайстера, а она смеется, разевая беззубый рот. После танца она, пошатываясь, приложив руку ко лбу, нетвердыми шагами прошла к своему стулу. Ашер долил себе вина из большого графина. Один раз, когда дамы приглашали кавалеров, к нему подошла вдова и пригласила на «Снежный вальс»[13]. Его поразило, как легко и ловко она двигается. Заметив его удивление, она сказала: «Танец — вот наше истинное наслаждение».
По мере того, как празднество набирало силу, пары вращались в танце все быстрее. Невеста смеялась все чаще, пряди волос и ленты то и дело падали ей на лицо. Какое-то время Ашер вслушивался в глубокое звучание баритоновой трубы. В нем Ашеру чудилась странная, завораживающая уверенность. Но тут объявился Хофмайстер и хлопнул его по плечу. Он пришел представить своего младшего сына.
— Вы с ним еще не знакомы, его несколько недель тому назад зацепило сверлильным станком, — сказал он. — Только что вышел из больницы. Ну-ка, покажи господину Ашеру рубцы.
Молодой человек сел на свободный стул рядом с Ашером и расстегнул рубашку.
Ашер увидел несколько красных полос, пересекавших грудную клетку и в свою очередь пересеченных рубцами швов.
— Ему наложили больше трехсот швов, — похвастался Хофмайстер. — Можете себе представить, как тяжело его ранило.
Он велел сыну застегнуться и отправился вместе с ним пить ликер. Некоторое время Ашер просто сидел и наблюдал за гостями. Один из них приглашал на танец дам, с трудом поднявшись с места и неуверенно двигаясь вдоль длинного стола. Едва какая-то из дам поворачивалась к нему, как он немедленно ее приглашал. Когда дама вставала со стула, он просил разрешения ее пригласить у стоящего поблизости мужчины. Потом он совершенно безучастно провожал дам на место. Напротив Ашера сидела старуха в платке с угрюмым выражением лица. Когда он заговорил с ней, она не отвечала, однако милостиво соизволила принять от него тарелку супа и не возражала, когда он налил ей в бокал вина, впрочем, никак не изъявив согласия. Теперь она с тем же угрюмым выражением ела пироги и то и дело быстро подливала себе вина из графина. Сидевшая рядом пара помоложе, черноволосый мрачный мужчина и толстая невзрачная женщина, перешептывалась, явно о старухе. Стоило ей встретиться с ними глазами, как они бросали на нее укоризненные взгляды, осуждающе качали головами и делали строгие лица. Но старуху это нисколько не волновало. Она подливала и подливала себе вина, и, покосившись на нее спустя некоторое время, Ашер понял, что она заснула, облокотившись на руку. Как только молодые люди заметили, что Ашер обратил на спящую старуху внимание, они попытались ее растолкать, но тщетно. Потом она неожиданно встрепенулась, набросилась на булочки и принялась поглощать их с громким чавканьем, словно нарочно для того, чтобы позлить молодых людей.
За это время Ашер успел понаблюдать за невестой, которая потанцевала с одним из гостей. После польки она с рассыпавшимися по плечам волосами бросилась вон из зала, гость отер салфеткой пот со лба и улыбался, пока ему казалось, что на него все смотрят, а потом осушил бокал вина.
— В первый раз призрак покойной жены явился мне спустя три недели после смерти, — громко поведал присутствующим тесть Цайнера. — Прохожу я этак по двору, раненько, часиков этак в пять или в шесть, и тут она — раз! — так прямо на солнце, точно из-под земли выросла. Я у нее и спрашиваю, чего, мол, тебе надобно? А он отвечает, мол, не сердись. Тут я ее спрашиваю, а на что это мне, мол, сердиться? А она отвечает, сам знаешь, на что… Нет, чтобы мне тогда сказать: «С нами крестная сила!», — а я, слово за слово, и в беседу с ней какую-то ввязался, а тут она раз! — и пропала. И вот потом является она мне во сне. Сказала, что, мол, не печалится, радуется. Тогда я ее спросил, как, мол, оно «там». А она и отвечает, что живет, мол, в подземном дворце, да выполняет нетрудную работу. Она, мол, и еще несколько женщин чинят красивое платье. Ты что, не веришь? — спросил он соседа.
— Почему не верю? Еще как верю! — откликнулся тот.
Музыка ненадолго смолкла, и Ашер вышел подышать свежим воздухом. По дороге он столкнулся с невестой, которая как раз выходила из кухни, где снимала корсет. У нее сполз чулок, и она на ходу подтянула его прямо сквозь белое платье. Она приветливо ему улыбнулась, и он сразу же смутился оттого, что невольно за ней подсматривал. Ашер и в самом деле чувствовал себя вполне уютно. Он немного постоял у крыльца и оттуда послушал, как поет кто-то из гостей (потом выяснилось, что один из свидетелей).
Войдя в бальный зал, Ашер ощутил, как дощатый пол подрагивает под ногами танцующих. Это его позабавило. Он снова уселся за стол и принялся разглядывать танцоров, на сей раз обратив внимание на пожилого мужчину, который танцевал с девочкой, словно случайно трогая то попку, то маленькую неразвитую грудь. Девочка плясала с отсутствующим выражением лица, точно ничего не замечала. Ашер вспомнил, что он уже не раз становился свидетелем подобных сцен. Если девочка воспринимала все это с полным равнодушием, значит, происходящее в порядке вещей. В зал вошел парень со шрамами на груди, и кто-то из гостей встретил его радостным: «Хайль Гитлер!» Возможно, Ашер пропустил бы этот возглас мимо ушей, если бы не сегодняшний разговор с толстяком, который сейчас как раз сидел за столом напротив. К тому же, когда он услышал нацистское приветствие, ему вспомнились избитые фразы, которыми обменивались гости, особенно развеселившись и расходившись: «Помирать, так с музыкой!», «Счастливые часов не наблюдают!»,[14] и весь зал неизменно разражался взрывом хохота.
Тестя Цайнера теперь явно клонило в сон. Ашер и не заметил, как пробило полночь. Оркестр спустился с эстрады и смешался с приглашенной публикой. Гости по очереди вставали с мест и произносили тосты «за здоровье новобрачных, за свидетелей со стороны жениха, за свидетелей со стороны невесты и за всех присутствующих». Потом они читали стишки собственного сочинения о новобрачных или о других гостях, в основе которых всегда лежало какое-то происшествие. После каждого произнесенного стишка оркестр играл туш. Стишки изобиловали непристойными намеками. Ашер уже замечал, что за свадебным столом и мужчины, и женщины открыто говорили на скользкие темы и отпускали скабрезные шутки, причем самые непристойные замечания, особенно, если их делали женщины, сопровождал самый громкий смех. Дети молчали, ничего не понимая, или отворачивались, притворяясь, будто ничего не понимают. Трактирщик стал обходить гостей с корзинкой, собирая деньги для музыкантов. К удивлению Ашера, трактирщик и оркестранты подошли и к нему, и тогда он встал, пожелал всем счастья и опустил в корзинку заранее заготовленную банкноту. Он платил последним, и потому, к его немалому облегчению, стоило ему положить деньги, как все потеряли к нему интерес. Теперь крестьяне казались ему эмигрантами, вдали от родины живущими по старинным обычаям. Жених был автомеханик, невеста — портниха. Только Хофмайстер, кроме всего прочего, работал дома на ферме, да, само собой, его жена. От Ашера не укрылось, что ей приходится и заниматься хозяйством, и помогать в поле, и кормить скотину, и готовить, и растить детей. Однажды Ашер видел, как женщина с ногой в гипсе ковыляла по двору в хлев. Когда он спросил, почему она встала с больной ногой, та ответила: «А кто за меня по хозяйству хлопотать будет?» Мать невесты работала на птицеферме в Пёльфинг-Брунне, отчим — в сельскохозяйственном кооперативе в Визе. Земли у них не было, только дом с палисадником. В окрестностях Санкт-Ульриха таких домов было немало. Невеста уселась на стул, и свидетельница стала осторожно расплетать ленты в ее волосах, тут подоспела мать, выхватила у свидетельницы ленты и венок, нахлобучила его себе на голову и пошла плясать с одним из гостей. Когда музыканты доиграли, один из свидетелей выбежал на эстраду и запел куплеты собственного сочинения. Это были двустишия, экспромты, содержанием коих была первая брачная ночь. Гости сидели молча, в ожидании жареной курицы, которую обыкновенно подавали после полуночи. Некоторые куплеты вызывали у них взрывы хохота. Ашер отяжелел от вина. Когда тесть Цайнера крикнул ему, что свидетелевы куплеты ему ой как потрафили, Ашер послушно поддакнул. Он заметил, что Хофмайстер вздохнул с облегчением и, чтобы сделать Хофмайстеру приятное, поддакнул еще раз. Тогда Хофмайстер громко рассмеялся, глядя на него. Подали жареную курицу, и гости принялись за еду, а свидетель все пел и пел. Еще до этого проснулась старуха, неспешно встала, вышла и, все с тем же угрюмым выражением лица, вернулась в зал. Она взяла со стола свою сумочку, поставила ее на пол и крепко зажала ступнями. Потом взяла с тарелки куриную ножку и, положив в рот маленький кусочек, скорчила девице рожу, чтобы показать, что еда ей не нравится. Ашер отвернулся. Хотя старуха поражала своей заносчивостью, она чем-то ему нравилась. Свидетель допел куплеты, а под конец, сверля трактирщика глазами, крикнул: «Пусть фотограф снимет остатки, тогда у него будет, чем дома поужинать!» Трактирщик на замечание не отреагировал. Он как раз объяснял Ашеру, что на свадебном обеде всегда присутствует священник, но на сей раз он никак не смог принять приглашение.
Гости, как придется, уселись за стол, потом стали меняться местами, оживленно переговариваясь. Другие, наоборот, сидели тихо, уставившись в пространство и задумчиво попивая вино.
— Я к вам присоединюсь, — объявила вдова, подсаживаясь к Ашеру.
— Многие сожалеют, — подхватила она мысль трактирщика, — что священник не пришел на свадьбу.
Она вдруг рассмеялась.
— Я когда-то служила кухаркой у приходского священника, и вот ожидался приезд епископа. Было это вроде в мае. У въезда в деревню соорудили триумфальную арку из сплетенных еловых ветвей, с нарисованной от руки табличкой «Добро пожаловать, Наш Верховный Пастырь!» Все оделись как на праздник. Церковь тоже украсили еловыми венками. Сегодня такое уже не в обычае, но епископа по-прежнему приветствуют всей общиной. На школьном дворе собрались дети, учителя, важные персоны вроде бургомистра и членов совета общины. В последний раз, когда приезжал епископ, один пьяница, которого вся округа знает, подошел к бургомистру и поцеловал ему руку. Возможно, все оттого, что у нас принято почитать начальство.
Она снова рассмеялась.
В прежние времена, продолжала вдова, епископа-де встречали еще и пением псалмов. А однажды, она как сейчас помнит, им пришлось исполнять гимн на латыни, то-то все намучились, пока заучили наизусть. В доме священника устраивали настоящий пир, но епископы по большей части страдали несварением желудка и потому заранее отдавали распоряжения, какое меню приготовить. Когда она еще служила кухаркой у священника, ей приказали к приезду епископа приготовить телячий паштет, и она накануне вечером поставила его в погреб. Кстати, пригласили и священников из окрестных приходов, и капелланов.
— Вот епископ усаживается, спускаюсь это я в погреб, за паштетом. И так я разволновалась, что только в передней заметила: батюшки, а мухи-то яйца отложили на паштете.
В кухне все хлопотали, дым коромыслом, понятно, нервничали, не до нее им было, а кухарка священника уж до чего злобная и придирчивая, и не подступись (она после смерти священника получила в наследство всю его мебель и потом продала общине его стол, стулья и конторский шкаф), вот она и решила подать паштет как есть. А когда убирала со стола, приметила, что некоторые так и съели паштет с мушиными яйцами, а остальные отложили их на край тарелки, а паштет съели, хоть бы что, кто целиком, а кто, может быть, немножко оставил.
Она снова рассмеялась.
Епископов всегда встречали всевозможные организации, пожарные, Товарищество, да еще с оркестром, епископы служили мессу и читали проповедь, и в церкви яблоку негде было упасть. А въезд епископа в деревню сопровождался колокольным звоном, пальбой из мортиры, и, едва его машина показывалась на дороге, как начинал играть оркестр. Последний раз так все и шло заведенным порядком, смотрим, и на тебе: приехал-то не епископ, а кондитер с передвижной лавкой в багажнике.
Ашер почувствовал, что захмелел. Хотя он и слушал вдову, в голове у него затуманилось от выпитого, он ужасно устал. Время перевалило за полночь, и он уже подумывал, как будет добираться домой, как вдруг в зал вбежал человек и позвал трактирщика. Он так спешил, что все невольно замолчали и воззрились на него. Ашер расслышал, как он просит разрешения позвонить, человек, мол, заболел бешенством. Гости повскакали с мест и бросились к нему с расспросами. Ашер не сразу сообразил, в чем дело, но, осознав, что случилось, тотчас с новой силой ощутил свое опьянение. Он втихомолку выругался, поддался первому порыву и решил потихоньку уйти. Среди всеобщего волнения никто не заметил, как он надел пальто и вышел.
Во всех домах было темно, приглушенные голоса в трактире доносились уже издали. Он чувствовал, как ветер треплет полы его пальто и обдувает разгоряченное лицо. Тут он заметил приближающиеся фары автомобиля, и в первую минуту решил было спрятаться, но слева возвышался крутой склон холма, справа дорогу обрезал забор какого-то дома. Он стал ждать, пока машина проедет мимо. Однако она притормозила, и Ашер узнал человека, вбежавшего в трактир, и трактирщика.
— Вы с нами? — спросил трактирщик. — Мы вас искали. Кто-то сказал, что вы пошли домой.
Ашер молча пролез на заднее сиденье. Машина проехала немного в гору, а потом свернула в переулок, который вел к крестьянскому двору. В сенях валялись грязные ботинки и сапоги. Трактирщик и гонец, как заметил в автомобиле Ашер, в пиджаке на голое тело, бросились вперед, не дожидаясь его. В кухне сидели двое детей и старик с тростью. Они с любопытством уставились на Ашера. Возможно, они его побаивались. Ашер между тем расстегнул пальто и заметил искусственный цветок, который ему прикололи в доме Хофмайстера. Воспоминание о прошедшем вечере почему-то его успокаивало, он и сам не знал, почему. Сени освещала тусклая желтая лампа. Он повернулся к неплотно прикрытой двери, из-за которой доносились стоны, и вошел. В маленькой комнатке кроме трактирщика и гонца он увидел женщину. Шкаф, заставленный банками с компотом, стоял у постели, в которой лежал мужчина. По подбородку у него стекала слюна, пальцы безостановочно теребили одеяло. Подходя к больному, Ашер лихорадочно соображал, чем ему помочь. Сначала нужно узнать, не укусило ли его какое-нибудь животное и, если да, то когда это произошло. Потом Ашер собирался дать ему стакан воды и посмотреть, может ли он глотать. И тут он заметил на стуле стакан воды.
— Он ничего не пьет, — сказала женщина. — Пытается сделать глоток, и у него сразу же начинаются судороги. На него у лесопильни напала собака. Вот так ни с того с сего бросилась и укусила за ногу.
Ашер помнил, что инкубационный период бешенства может быть короче, но в среднем он составляет сорок дней. Откуда она знает, что причина именно в этом? Он что, сам ей об этом рассказал? Почему он не пошел к врачу? И что стало с собакой?
— Это было сегодня днем, — добавила женщина.
Раненый глядел на Ашера, на лбу у него выступила испарина, дыхание с хрипом вырывалось из груди.
— Покажите ногу, — велел Ашер.
Он отогнул одеяло и увидел, что икра у раненого завязана льняной тряпкой, перехваченной аптекарской резинкой. Он быстро ее разбинтовал. Рана оказалась небольшая, но глубокая. Вне всякого сомнения, он потерял много крови.
— Осторожнее, смотрите, как бы он вас не укусил, — предупредил трактирщик.
— Ничего страшного, — откликнулся Ашер, хотя сам не был в этом уверен.
— Это опасно, — поддакнул другой.
— Скажите, вы слышали о бешенстве? — спросил Ашер раненого, заглядывая ему в лицо.
— А то как же, — ответила за него жена. — Мы и листовку из окружного управления получили. Он же помогает загонщикам на охоте, вот они его и пригласили с собой на лекцию. К врачу собирался завтра. Сказал, что еще денек потерпит.
— Попробуйте выпить глоток воды, — попросил Ашер, сев на постель.
Раненый покачал головой.
— Не могу, — ответил он.
— Нет, попробуйте, и увидите, что сможете, — настаивал Ашер.
Но раненый отпрянул к изголовью постели и затрясся.
Ашер рассмотрел его внимательнее. Волосы у него растрепались от лежания на подушке, на вид ему было лет сорок, руки у него были потрескавшиеся, мозолистые, ногти широкие, выпуклые. Из-под рубашки виднелась тощая грудь. На шее выделялся острый кадык, глаза заплыли настолько, что Ашер не различал их цвет, возле губ залегли глубокие морщины. Вероятно, его мучила язва желудка.
— Он работает? — спросил Ашер.
— Да пьет он, — ответила жена. — Работает в строительной фирме в Санкт-Мартине.
С крашеными волосами, маленькая, толстенькая, она говорила пришепетывая. Отвечая на вопросы, она переводила взгляд с трактирщика на гонца и только напоследок глядела в глаза Ашеру.
Он заметил, что трактирщик тоже озабоченно на него смотрит. В своих очках он смахивал на состарившегося школьника.
— Хорошо, — сказал Ашер. — Он сейчас успокоится.
Нужно было только убедить его в том, что с ним не произойдет ничего страшного. Он склонился к раненому и стал его уговаривать. Мол, он вообразил, что у него болезнь, описанная в просветительской листовке.
— А поскольку вы все-таки не обратились к врачу, вас мучили угрызения совести. А потом время шло, и вы и вовсе испугались.
Раненый молчал.
— Смотрите: вы выпьете глоток воды, и я оставлю вас в покое до приезда доктора.
Он взял со стула стакан с водой. Рукав его пальто скользнул по поле, издав еле слышный свист. Тут он почувствовал, как же он устал. Он совладал с собой, свободной рукой поддержал голову раненого, помог ему приподняться и заставил его сделать глоток. Ему бросилось в глаза, как выступают у раненого под кожей запястья и костяшки пальцев, руки у него больше не дрожали.
— Вам надо немного поспать, — предложил Ашер.
Раненый покачал головой.
— Хорошо, тогда просто полежите спокойно, а мы с вашей женой подождем, пока не приедет доктор.
— Мы посидим в кухне, — сказал трактирщик, выходя из комнаты.
Женщина вытащила из кармана передника мятый носовой платок.
— Ничего страшного. Завтра… — начал было Ашер.
— Да, завтра… — перебила его женщина.
Потом она высморкалась и встала.
— Пил бы он поменьше, — спокойно заключила она.
На Ашера вновь навалилась усталость. Раненый закрыл глаза и лежал без движения.
18
Доктор был высокий, стройный человек лет шестидесяти. Он ушел в комнату раненого и долго не показывался. Один угол кухни был отгорожен занавеской, за которой спал ребенок. Никто не перемолвился с Ашером ни словом. Доктор тоже ограничился тем, что молча на него поглядел, Ашер и сам не мог решить, узнал он его или просто любопытствует, кто это. Сероглазый, с печальным, измученным от бессонной ночи лицом, он, по-видимому, был неразговорчив. Тем временем хозяйка дома поставила на стол бутылку вина и длинным ножом принялась нарезать белый хлеб.
— Мы есть не будем, мы же только что со свадьбы, — предупредил трактирщик.
Она перестала нарезать, но ничего не убрала, а села на стул поодаль. Ашер вспомнил о ночах, проведенных в больнице. Чаще всего он спал в дежурной, пока не требовалась неотложная помощь и его не будили к больному. Как тяжело было просыпаться, особенно к рассвету.
У плиты включился холодильник, в углу висели две старинные раскрашенные гравюры, представляющие распятие и Деву Марию. Они были вставлены в рамки под стеклом, но стекла так запачкались, что в тусклом освещении Ашер едва мог различить, что изображено на гравюрах. Кухонную мебель составляли скромный встроенный стеллаж для посуды, электрическая плита и маленькая угловая скамейка. В голове у него немного прояснилось, однако ноги по-прежнему были точно налиты свинцом. К стене был прислонен сложенный манеж, в сенях лежала ножовка. Ему захотелось пить, однако он ничего не попросил. Так они и сидели молча, пока не вернулся доктор. Он закатал рукава и стал мыть руки. Намылив руки, он обернулся к Ашеру и спросил, не врач ли он. Ашер ответил утвердительно.
Доктор снова отвернулся. На стол он водрузил свой медицинский саквояж, большой и неуклюжий.
— Вы случайно здесь оказались? — спросил он.
— Нет, я живу по соседству.
Трактирщик, жена раненого и гонец по-прежнему не проронили ни слова. Они только с любопытством глядели на Ашера и жадно прислушивались к разговору, боясь упустить хоть что-нибудь.
— Мне кажется, я о вас слышал, — сказал доктор, немного подумав.
Ашер физически ощутил, как нетерпеливо трактирщик, жена больного и гонец предвкушают какие-то тайны и загадки.
— Возможно, — не стал отпираться он. — Я доктор Ашер.
— Я о вас читал, — быстро проговорил доктор.
Потом он объяснил женщине, что делать: само собой, завтра отправить мужа в больницу. Собаку, конечно, тоже нужно обследовать, но на симптомы бешенства это не похоже. Потом он обернулся к Ашеру и предложил довезти его домой.
19
Доктор затормозил у его крыльца. Всю дорогу Ашер указывал на перекрестках, куда поворачивать, а в остальном тишину нарушал только шум двигателя. «Я живу здесь уже тридцать лет», — неожиданно сказал доктор. Его отец тоже был сельским врачом в Гляйнштеттене, практику он унаследовал от него. Многих больных его отец осматривал и лечил в коровниках. Тюфяки подвешивались к потолку, их набивали соломой. До войны батраки, все без исключения, спали в коровниках или в крохотных каморках над свинарниками. Но зимой всегда ночевали в коровнике, потому что к вечеру так уставали, что сил топить, а потом дожидаться, когда каморка прогреется, у них просто не было. Днем-то подтапливать некогда, так что к вечеру в каморках стояла стужа. Батраки болели в основном чахоткой. Коровники были по большей части сырые, темные и душные, в них царило зловоние, а освещались они одним маленьким окошком.
Они как раз проезжали мимо двора вдовы.
— Знаете, чей это? — спросил доктор.
Ашер кивнул.
— Ее муж до самой свадьбы жил в коровнике. Только тогда он в первый раз спал в настоящей постели, на простынях. Это было в тысяча девятьсот пятидесятом году. Все подмастерья и безработные в тридцатые годы зимовали в коровниках. Спросите у тех, кто постарше, они вам расскажут. Они спали в свиных корытах, на соломе. К нищете все привыкли.
Нечего сожалеть о прошлом, сказал он. Тогдашнюю нищету теперь трудно себе представить, ведь о всеобщей бедности уже начинают забывать. Сегодня такое даже страшно вообразить.
— Только подумайте, многие тогда ели собак и кошек, особенно многодетные семьи.
Свинина-то была дорогая, вот и варили то, что доставалось бесплатно.
— Большинство сейчас не хочет об этом вспоминать, но некоторые готовы в этом признаться. Говорят, не противно, особенно собачатина. Ну, и само собой, они так умели ее приготовить, что от свинины и не отличишь.
А у многих, мол, не было и того.
— Правда, правда, — заключил он.
Они снова ненадолго замолчали, а потом доктор продолжал:
— Сравните хотя бы две деревушки, Томбах и Оберграйт. В низине, в Томбахе, живут бывшие горняки. Земельные наделы у большинства из них маленькие, но дома новые, кирпичные, с ванной и современной мебелью. В принципе, живут они как в предместье крупного города. Почти все имеют какую-то работу, сельское хозяйство — для них побочное и непрестижное занятие, потому что они обучились какому-то ремеслу и на протяжении нескольких поколений представители их семей были ремесленниками. Они получают пенсии, могут рассчитывать на неплохие страховки в случае болезни, и потому ощущают какую-то уверенность. А здесь, на холмах, у крестьян в основном мелкие наделы. Многие из них тоже работают, но только последние десять-пятнадцать лет, не больше. Некоторые вообще не могут перестроиться, и на работе с нормированным рабочим днем подолгу не задерживаются. Поработают немного там, немного сям, уволятся, в промежутках живут на пособие по безработице. Есть и такие, кто каждое утро на фабричном или заводском автобусе ездит на работу в Грац, а к вечеру на том же автобусе возвращается обратно. Большинство забросили свои земельные участки. А бывает наоборот, крестьяне всеми силами стараются сохранить свое хозяйство: разводят пчел, роют рыбные пруды, сажают яблони и сливы, открывают в собственных кухнях крошечные кабачки, в которых продают в розлив самодельное вино, при том, что там теснится вся семья: дети, старики, хозяйка; телевизор не выключается круглые сутки, а по вечерам нет отбою от пьяниц, которых везде хоть пруд пруди. Находятся и те, кто пробует развозить молоко: каждое утро, до восьми, нужно доставить молоко на сборный пункт, а потом развезти по дворам пустые бидоны. Постоянного места у них нет, платят им сдельно, по количеству привезенных литров. Ни одного выходного в году, только поторапливайся, а не то молоко прокиснет. Тогда им отвечать. Большая часть оплаты уходит на ремонт трактора, на шины, на солярку. Нет ни тринадцатой, ни четырнадцатой зарплаты, ни отпуска, ни воскресенья, ни Рождества. Вот и остаются три тысячи шиллингов в месяц — побочный заработок. И все же многие стремятся к «благам цивилизации». Больше всего им хочется все разрушить и начать сначала. Часто они строят возле старых домов новые, а старые потом сносят или сдают приезжающим на выходные горожанам, которым стабильный доход служащих или чиновников позволяет на несколько дней «вырваться на природу, подышать свежим воздухом». У них вечное безденежье, денег всегда не хватает, и потому они с детства привыкли ко всему подходить с позиций материализма. Они все меряют деньгами, а значит, тем обиднее видеть, что они беднее городских. Ну, и что же они делают, чтобы походить на них? Строят загородные дома, а еще одеваются как в городе, стригутся, как в городе, разговаривают как в городе. В своих желаниях и потребностях они подражают горожанам. А на себя готовы махнуть рукой. Последнее время встречаю здесь все больше невротиков. Они ведь по-прежнему живут здесь очень уединенно. Во время сева или жатвы часами просиживают они в кабинах тракторов, одни кормят скотину, одни убирают урожай. Если не пойдут в трактир, то с наступлением темноты окажутся отрезанными от мира, как на корабле в открытом море. Тогда одиночество воспринимается еще острее. Многие пьют, а одиночество в сочетании с алкоголизмом — причина большинства самоубийств. Но не подумайте, что здешняя жизнь крестьянам не нравится. И не подумайте, что они не осознают свое положение. И все-таки они не хотят уезжать. Они не могут бросить знакомую до мельчайших подробностей деревню ради жизни в безликом большом городе. Пусть они даже смеются друг над другом, зато все друг друга знают, доверяют друг другу. Зайдите в любой дом во время обеда или полдника, и вас, само собой, посадят за стол. Вы можете в любой дом прийти незваным, и к вам придут без приглашения. Дверных звонков нет, днем двери не запирают. Все праздники они отмечают вместе, а потом любят о них вспоминать, и очень веселятся. Самое главное, что все здесь знают друг друга: по школе, по пожарной части, по Товариществу, по охоте, свадьбам и торжественным шествиям, по деревенским ярмаркам с шатрами и гуляньями, по церковным праздникам. Некоторые интересуются политикой, но лишь немногие. Они не доверяют политикам и частенько обзывают их ворьем.
Они добрались до дома Ашера и, подпрыгивая на ухабах, покатили по узкой подъездной дорожке. У крыльца доктор остановил машину, выключил фары и закурил.
— Не хотите зайти? — предложил Ашер.
— Нет, лучше посидим на свежем воздухе.
Доктор молча выкурил сигарету, а потом продолжил:
— Здесь я редко встречаюсь с горожанами, — извиняющимся тоном произнес он.
Его-де беспокоит агрессия, она очень чувствуется в обществе. Либо они направляют ее против себя самих и против животных, либо против других людей. Настораживает, что во многих домах есть ружья, ведь местные жители любят поохотиться, или пистолеты, из которых убивают свиней.
— По крайней мере пневматическая винтовка есть у каждого, — сказал доктор. — Один стреляет из нее по голубям, другой — по снегирям, которые весной слетаются на молодые персиковые деревья, частенько стреляют и кошек. Вот сейчас бешенство — прекрасный повод.
Теперь, мол, можно застрелить первое попавшееся животное, и никто и слова не скажет. Стрелять разрешают даже детям и подросткам. Их в раннем детстве приучают к оружию, а потом они ждут не дождутся, когда же их возьмут на охоту.
— А на охоте они видят, как легко убить животное, и убеждаются в том, что его жизнь ничего не стоит, — добавил он. — Мне самому убийство внушает отвращение. Недавно ехал по дороге и заметил сбитого зайца. Вышел из машины и услышал его стоны. Я наклонился и попробовал его приподнять, но он так бился в судорогах, что мне пришлось его отпустить. Потом я подумал, что нужно избавить его от страданий, схватил его за задние лапы и ударил о придорожный камень. Потом достал нож и перерезал ему горло. Убийство вызвало у меня тошноту. Я положил зайца в багажник, а на следующий день отдал соседу.
Однако найдется немало таких, кто, убивая, испытывает наслаждение. Они могут часами сидеть и, перебивая друг друга, смаковать подробности охоты. Некоторые охотники ничем не лучше стариков из «Союза ветеранов». Молодые наследуют фанатизм отцов. Есть семьи, в которых смысл жизни составляет работа, а есть те, где от работы все отлынивают. Некоторые не отдыхали ни дня в своей жизни, вставали не позже пяти утра и, несмотря на безумную усталость, не ложились до десяти вечера. Они этим гордятся, и большинство их за это уважает. Но если в одной семье несколько сыновей и ферма достается одному, а другие находят себе какое-то ремесло, то начинается разлад. Ведь у сыновей, которые работают на стороне, бывает отпуск, выходные, праздники, больничный, да и после работы они редко так устают, чтобы только просто упасть в постель и заснуть. У них водятся деньги, они независимы, ездят на машинах, не то, что брат, который довольствуется трактором. А еще те, кто нашел работу на стороне, чаще всего воротят нос от крестьянского труда, а иногда его и презирают. К тому же молодого фермера не в полной мере защищает система здравоохранения: сначала он обязан заплатить доктору в руки наличными, Крестьянская больничная касса, хотя сама по себе немалое достижение, основана лишь недавно, и возмещает больному, как правило, чуть больше половины потраченной суммы. Да и в больнице крестьяне за первые десять дней лечения должны заплатить около двадцати процентов, а рабочие и служащие лечатся бесплатно.
— Всего хорошего, — неожиданно попрощался он, протянув Ашеру руку.
20
Оказавшись наконец дома, Ашер так осоловел от вина и усталости, что без сил опустился на ступеньку чердачной лестницы. Потом он отыскал ружье и пистолет и положил их на кухонный стол. Он прикасался к ним как к чему-то чуждому и непонятному. Он решил попросить Голобича снова их продать. Бессильно уронив голову на стол, он заснул, склонившись над ружьем. Чуть позже он проснулся и взобрался по лестнице к себе в чердачную комнату. Он подождет и посмотрит, что будет дальше. А потом напишет жене. Не исключено, что, открыв, кто он на самом деле, крестьяне его здесь не потерпят. Может быть, он вернется в больницу, может быть, переедет в другой город. С другой стороны, ему очень хотелось остаться, он и сам не знал, почему. Он проработал в клинике больше десяти лет и был квалифицированным и добросовестным хирургом. А потом по небрежности совершил ошибку. Все остальное развивалось по заведенному сценарию: патологоанатомы сообщили в больницу, делом занялась прокуратура, состоялось слушание в суде, появились статьи в газетах. Потом он расторгнул договор с больницей и переселился в деревню. Ему предложили принять его на прежнюю должность, если он будет отсутствовать не более, чем полгода, но в глубине души ему не хотелось возвращаться. Стоило ему закрыть глаза, как перед его внутренним взором возникали картины свадебного веселья и посещения больного, а в ушах почему-то звучал голос доктора. Так он и заснул.
На следующий день он проснулся с рассветом. На соседском дворе уже урчали моторы, а у Ашера раскалывалась голова. Ему вспомнился зверек под потолком в чердачной каморке, но что он там творит, его уже совершенно не волновало. Он порылся в аптечке, нашел таблетку от головной боли, раскусил ее и запил минеральной водой. Проспал он, вероятно, недолго. Он поглядел на часы: было около семи. Выйдя из дому, он удивился, что на улице не холодно. Над домом соседа тучи выгибались огромной золотисто-желтой дугой в извивах фиолетовых облачных узоров. Над ней простирались фиолетовые облака с красными полосами, терявшиеся в голубом небе. Обходя дом, он слышал, как в тени хрустит под его ногами лед. На юге, там, где на горизонте возвышались горы, небо отливало светло-розовым, в воздухе парили серые тучки, но, хорошенько приглядевшись, он заметил, что они медленно окрашиваются темно-синим. Он наслаждался, бесцельно созерцая небо. Потом он снова вспомнил о ружье и пистолете, вернулся в кухню, отнес их в свинарник и завернул в мешковину. Затем взял патроны и положил их туда же. Теперь, решил он, можно приглашать жену и дочь. Он позвонит им из магазина и расскажет, что произошло. Но, может быть, стоит подождать до вечера или позвонить под конец дня? Он оделся и запер дом. Перед ним, вдали, широко раскинулись горы, а облака над горами вздымались фиолетовыми волнами с золотыми гребнями, в молочно-голубой воздушной стихии, высоко-высоко, но так четко, что по сравнению с ними он ощутил себя крохотной мошкой. По пути он никого не встретил. У магазина стоял один-единственный мопед.
Дверь в доме Цайнера была приоткрыта, в кухне его жена собирала детей в школу и как раз заплетала косички младшей дочери. Старик еще спал. Хозяйка дома стала ему улыбаться, как в прошлый раз. Муж в хлеву, сейчас придет. Потом она поставила перед ним чашку ромашкового чая и бутылку.
— Это сливовица, — пояснила она и снова занялась детьми.
Если она что-то и знала, то не подавала виду. Возможно, она избегала говорить о свадьбе, но не исключено, что просто все ее внимание сейчас занимали дети. Он наблюдал за ней, и ему нравились ее уверенные, решительные движения. В клетках чирикали волнистые попугайчики. Как раз когда дети выходили из дому, вернулся Цайнер.
На нем был рваный свитер в белую и зеленую полоску, на голове — охотничья шляпа. Лицо покраснело от ночных возлияний и утреннего воздуха.
Цайнер показал ему свой арсенал, хранившийся в спальне: ружье «монтекристо», двустволку-двойник для дроби и пули, штуцер и пистолет. Вчера-де привез штуцер из ремонта, объявил он. Под конец он добавил:
— А мы и не знали, что вы настоящий доктор.
Он зарядил одно ружье, поставил на предохранитель и спросил Ашера, не хочет ли он сходить вместе с ним на пруд.
— Хочу посмотреть, все ли там в порядке, — сказал он.
В поведении Цайнера Ашер не заметил недоверия. Внимательно наблюдая за Цайнером, он даже различал в его голосе почтительные нотки, но, возможно, это была только игра его воображения. Ашер сел в машину, собака улеглась у его ног, и они немного проехали по дороге. С одной стороны луга были покрыты инеем. Небо не утратило своих красок, вот только они посветлели, а кое-где даже поблекли.
Всю дорогу они молчали, пока не въехали во двор, расположенный ниже по склону. Они вышли из машины, и на них опасливо покосилась с крыльца маленькая круглолицая старушка в платке.
— Это моя мать, — представил Цайнер.
Он повесил ружье на плечо и первым стал спускаться в низину. Сначала за домом они вышли на глинистую тропку, обсаженную голыми яблонями. Лужицы затягивала тоненькая, прозрачная корка льда, которую Цайнер специально разбивал каблуком, чтобы услышать звон, с которым ломался хрупкий лед. Они сошли с тропки и продолжили спуск по крутому склону лу́га, осторожно, гладя под ноги, чтобы не упасть. Когда они снова вернулись на тропу, выяснилось, что ее так развезло, что они при каждом шаге проваливались в грязь. Было ясное, светлое утро. В низине виднелись два пруда, скрытые молочно-зеленым ледяным панцирем. По дороге Цайнер дал псу команду «шерш», в надежде поднять зайца, и пес тут же исчез в кустах. Оттуда вспорхнули две дикие утки, и, как только они опустились на пруды, Цайнер свистом подозвал пса. Длинные деревянные мостки, с которых кормили мальков, вели до середины одного пруда. Внезапно Цайнер замер, сорвал ружье с плеча и выстрелил. Ашер не понял, куда он метит, но в направлении выстрела какой-то зверь нырнул в воду и ушел под лед.
— Я в нее попал, видели? — крикнул Цайнер и пояснил, что метил в ондатру.
Возможно, он только ранил ее, потому что она скрылась подо льдом.
Он прошел по берегу пруда и поискал ондатру. Перед ним, не отрывая морду от земли, бежал пес, а наткнувшись на нору, принялся, поднимая комья земли, бешено ее раскапывать.
— Ондатр я отстреливаю в основном с января по апрель, — сказал Цайнер. — Можно, конечно, охотиться на них и летом, и осенью, но до середины декабря мех еще так себе, торговцы пушниной много не дадут.
Пес время от времени переставал рыть и принюхиваться, когда в пасть ему попадал аир, которым ондатры устилают норы. Тогда Цайнер, глядя на него, начинал смеяться. Спустя какое-то время он заключил:
— Нет их там, — и снова скомандовал псу: «Шерш!»
Они двинулись за псом, который пытался взять след, и тут Ашер заметил Хофмайстера, который шел к ним по другому берегу.
Цайнер его подождал:
— Хотите пострелять ондатр? — спросил Хофмайстер у Ашера.
Лицо у него было совсем заспанное, глаза заплыли.
— Мы сейчас стараемся охотиться чаще, из-за бешенства. Вы сами видели, что бывает.
— Но у того раненого не было бешенства, — сказал Ашер.
— Но могло быть. Звери сейчас представляют опасность, — возразил Хофмайстер.
Ашер ответил, что у него неверный взгляд на это заболевание, что с тех пор, как застрелили больную лису, не было отмечено ни одного нового случая бешенства, но Хофмайстер не хотел об этом слышать.
— Ондатр мы стреляли и стрелять будем, — сказал он с вызовом. — Весной, когда мы спускаем пруд, они вылезают из нор, и тут-то мы их и берем. Однажды за утро настреляли двадцать восемь штук. Они же все запруду рушат.
Пожав руку Ашера, он по-прежнему ее не отпускал, и так они шли дальше, а он рассказывал, что на ночь поставил ловушку. За мостками он встал на четвереньки и расколол рукой тонкую ледяную корку у берега, которая разбилась, как стекло. Потом он осторожно вытащил из-подо льда ловушку с мертвой ондатрой. Стальные скобы ловушки захлопнулись, раздавив ее тельце посередине. Шкурка у ондатры была влажная и невзрачная, с нее капала на землю вода. Ашеру показалось, что размером она примерно с кролика. Хвост у ондатры бессильно свесился набок, он был чешуйчатый, похожий на веретеницу. Потом они прошли еще несколько шагов и подождали, пока Хофмайстер руками не обшарит норы, которые уходили вглубь берега (он сказал, что если они забиты илом, значит, ондатры ушли из канала), а Хофмайстер тем временем объяснял, как работает ловушка. Она состояла из двух стальных скоб, соединенных шарниром, и кусочка проволоки, которая натягивалась, когда скобы были разведены. В качестве приманки, пояснил Хофмайстер, вновь опускаясь на колени и громко кряхтя, он кладет кусочки яблока. Ондатра хватает приманку, задевает проволоку, и скобы захлопываются. А бывает, захочется посидеть в засаде пострелять в ондатр дробью, но с ловушками как-то надежнее.
Мертвую ондатру по очереди несли то Хофмайстер, то пес Цайнера. На кустах кое-где не облетели желтые листья, покрытые инеем. Наконец, Хофмайстер снова поставил ловушку.
— Зайдите на стаканчик винца, — пригласил он.
Они шли вверх по склону, по жнивью, теперь ондатру несла собака, и Хофмайстер заметил: они, мол, и знать не знали, что он врач.
— Мы все слышали, но нам всё равно, — вставил Цайнер.
— Нас это не касается, — перебил его Хофмайстер.
Жена Хофмайстера неизменно отворачивалась, стоило Ашеру встретиться с ней глазами. Она хлопотала, не глядя на гостя, достала из буфета бутылку красного вина и кофейные чашки, из которых они и стали пить. Дощатый пол был чисто выскоблен, на стене висела старинная фотография в рамке, которую он не заметил на свадьбе и которая изображала солдат австро-венгерской императорской и королевской армии. Над фотографией красовалась наклейка в форме сердечка, с надписью «Штирия, зеленое сердце Австрии». Повар в колпаке высовывался из открытого окна во двор казармы, где перед фотографом выстроился взвод в шинелях. Трое лежали на земле, подстелив положенные одно поверх другого одеяла. Все, кроме офицеров, повесили на плечо винтовки, солдаты были с голыми руками, офицеры — в перчатках, один из сидевших сунул руки в карманы. «Это мой дед, — сказал Хофмайстер, указав на худого человека с большим носом и с усами. — Он погиб в Италии».
Хофмайстер подмигнул Ашеру и, прежде чем отпить, чокнулся с ним кофейной чашкой. Потом он повел его на чердак, где висели шкурки лис и ондатр. Жестяной бак был наполнен стружкой, «чтобы чистить руки», — пояснил Хофмайстер. На треугольных дощечках, как на распялках, сушились шкурки ондатр. Ашер похвалил их, и тогда Хофмайстер сказал, что кое-какие недостатки у них есть, и заодно пояснил, как их устранить.
— Я сегодня не спал ни минуты, — пожаловался Цайнер, когда они вернулись в кухню.
Хозяйка дома как раз куда-то ушла. Ашер чувствовал себя как-то неуютно, но Хофмайстер, быстро захмелевший после бессонной ночи, не позволил ему встать и откланяться, а все подливал и подливал вина, так что его кофейная чашка была полной, как в начале визита. Он ощутил опьянение и стал не без опаски им наслаждаться. В кухне было светло и удобно, Хофмайстер говорил и говорил без умолку, а Ашер задумался о своем. Ему вспомнились крошечные инфузории-трубачи, которых он как-то раз разглядывал в микроскоп. Они напоминали воронкообразные чашечки цветов самых разных окрасок. Он встрепенулся, заметив, что на мгновение закрыл глаза, а поскольку солнце светило ему в лицо, на изнанке своих отливающих розовым век он в полудреме увидел какие-то хрустальные дворцы. Вскоре вернулась жена Хофмайстера, она встала к печке, занялась обедом и скупо отвечала на вопросы. Однако, было похоже, что она перестала его стесняться, и ему это пришлось по душе. Следом за Цайнером он двинулся по покато сбегавшему лугу к дому его родителей. Цайнер тоже подвыпил, но старался этого не показывать. Ашер с трудом переставлял ноги, как будто тело его налилось свинцом. Возле дома их облаяла толстая пятнистая собака, принадлежавшая родителям Цайнера.
— Не подавайте руку моим старикам, — предупредил Цайнер, когда они подошли поближе, — а то собака еще решит, что вы хотите их ударить.
Тяжело ступая, они двинулись дальше вниз по склону, как вдруг Цайнер остановился.
— Вам, наверное, любопытно, — начал он, с трудом ворочая языком, — почему это я сижу дома и не работаю. Надел у меня небольшой, вы совершенно правы. Я продал участок леса. Вы не думайте, так многие делают. Послушайте, я пытаюсь получить пенсию, пусть-ка мне заплатят компенсацию за мою руку.
Он отогнул рукав, и Ашер увидел, что запястье у него забинтовано.
— Если у вас когда-нибудь найдется минутка, посмотрите, ладно? — попросил он, снова опустив рукав, словно только сейчас догадавшись, что мог показаться навязчивым. — А впрочем, не будем об этом, — прервал самого себя Цайнер. — Это все между нами, хорошо?
Само собой, об этом знала вся округа. Ашеру тоже кто-то успел об этом рассказать, но он промолчал.
— Пруд мне в целом дорого обошелся. Я ведь нанимал экскаватор его вырыть. Пруд-то искусственный. А рыбы мне эти траты еще ой как не скоро окупят.
Он зашагал дальше к дому родителей, а по пути на мгновение обнял Ашера за плечи. В сенях их поджидал маленький, согбенный старичок, опиравшийся на палку. На нем была шляпа и синий рабочий передник, во время разговора он поворачивался к ним боком, видимо оттого, что плохо слышал. Пес подошел к нему и забил хвостом, лупя старичка по штанам. Цайнер сказал, что старик — его отец. Не успел Цайнер подвести к нему Ашера, как пес заворчал и оскалил клыки, едва Цайнер попробовал взять старичка за руку. Тут он рассмеялся, да и старичку все это понравилось.
— А выпить у вас найдется? — спросил Цайнер.
Его мать только что испекла в кухне хлеб и в плетеных корзинках поставила его на стол остужать.
— Насчет выпить-то — как? — переспросил старичок у жены.
Старушка открыла стенной шкафчик и достала оттуда бутылку вина и стаканы.
Кухня в доме была очень большая. На стенах висели несколько продолговатых зеркал в коричневых рамах, где мелькали отражения хозяев и гостей. Позже Ашеру рассказали, что раньше в этом доме помещался трактир. Он уселся на скамейку в углу и стал наслаждаться запахом свежевыпеченного хлеба.
— Попробуйте, — предложил старик и отрезал ему кусок.
Старушка поставила на стол свиное сало и соль, но сама не присела.
— Вы у нас еще не бывали, — сказала она.
— Он врач, — пояснил Цайнер.
Ашер медленно пил и слушал. Дочери и зятя дома не было, они уехали покупать обувь в Пёльфинг-Брунн, а внуки еще в школе. Ашер с трудом следил за разговором.
Через некоторое время Цайнер поднялся. Он снял с гвоздя ружье, повесил его на плечо и пошел к машине.
— По-моему, мы хорошо набрались, — со смехом заключил он.
Старики рассмеялись. Ашер, забираясь в машину, тоже невольно засмеялся. Цайнер положил ружье на заднее сиденье, собака запрыгнула рядом, и они медленно покатили по направлению к магазину.
21
Когда приехали его жена и дочь, было уже темно. Девочка обегала весь дом, шумела и смеялась, но быстро устала, и Ашер уложил ее в постель и сидел рядом, пока она не заснула.
Он вслушивался в ее ровное дыхание и вспоминал ее смех, преобразивший этот дом.
— Ну, что ты решил? — спросила жена.
— Не знаю. Может быть, останусь здесь.
— А ребенок? — спросила она.
Дочке же нужно ходить в школу. А потом, ей самой сельская жизнь не подходит. А она только успела освоиться на работе, ей только начало нравиться…
Ашер промолчал.
— Я тебя ни в чем не упрекаю, — продолжала жена, — но я не могу опять начинать все сначала, а потом, ты ведь и сам не знаешь, чего хочешь. Может быть, обдумаешь все хорошенько и опять скажешь: «Давай все переиграем?»
Она была права. Никакого плана у него не было. Ну где он будет работать?
— Согласен, — сказал он. — Нам еще нужно все обдумать.
Он и сам не знал наверняка, как к нему отнесутся местные жители. Узнав правду, они сделали вид, будто ничего не заметили, но, с другой стороны, он от них не зависел. Возможно, если бы он был от них зависим, они повели бы себя иначе. Странно, но мысль об этом его совершенно не испугала. Что-то говорило ему, что его страхи безосновательны, просто он не мог этого доказать.
— Я все время о чем-то таком думала, — сказала жена. — И все время мучилась, не зная, что же тебе ответить. Не могу же я всегда поступать так, как тебе хочется. Ты тоже должен подумать обо мне, принимая решение.
Она ни в чем не обвиняла его и помогла ему, когда он нуждался в ее помощи. Она ни разу не упрекнула его в том, что ей пришлось пойти работать, а теперь он требовал, чтобы она вслед за ним переселилась в деревню. Он и сам уже не был уверен в том, что хочет остаться.
— Это только так, безумная идея, — успокоил он ее. — Забудь.
22
Рано утром дочка проснулась, услышав, как дятел долбит доски крыльца. Решив, что кто-то стучит в дверь, она разбудила Ашера. Жена еще спала, и потому они потихоньку оделись и вышли из дому. Ашер показывал девочке далекие холмы и небо над холмами, но ее интересовало не далекое, а близкое, не лощины, прозрачный воздух и облака, а земля под ногами и ветви деревьев. Ее внимание привлекли взлетевшие воро́ны — потому, что взлетели где-то поблизости, а маленькие саженцы — потому, что были укутаны нейлоновой пленкой и оберточной бумагой. Наверное, это Голобич несколько дней тому назад укутал их от холода. Они вернулись в дом, потому что Катарина захотела посмотреть комнату, в которой он спит. Там она сразу же установила, что стол шатается и что вода из стакана (который он там забыл) выплескивается, потому что дощатый пол проседает и подается под ногами при каждом шаге. Конечно, он и сам это замечал, но машинально старался ступать как можно легче. И только теперь, из окна, Катарина увидела дымку тумана, окутавшую лощины и похожую на облачное море. Рассматривая туманное марево и отвечая на ее вопросы, он никак не мог отделаться от ощущения, будто он сейчас на вершине высокой горы. Он подарил дочке карандаш, она сунула его в карман и тотчас о нем забыла. Между тем, проснулась и оделась жена. Ашер подбросил в печку дров и подождал, пока не займется огонь. И Тереза, и Катарина хотели ему помочь, но он страшно радовался, что наконец может хоть что-то для них сделать. Поскольку с ними была Катарина, они решили поехать на машине. В машине дочь и жена шутили, дурачились и смеялись, на полу заднего сидения дребезжала бутылка, потому что Тереза имела обыкновение оставлять в машине все подарки, которые хотела кому-то привезти, и там они перекатывались до тех пор, пока Тереза, наконец, не заезжала к тому, кому они предназначались. Но даже и в таких случаях она иногда о них забывала, и они опять целыми неделями или даже месяцами странствовали в машине. Ашера это раздражало, и Тереза об этом знала. Она бросила на него плутовской взгляд и сунула бутылку за спинку задних сидений. Потом Катарина запела. Перед ними открывался прекрасный вид на широко раскинувшуюся равнину, сквозь спутанные ветви яблонь и слив пробивались лучи солнца. С какого-то крестьянского двора доносился пронзительный визг циркульной пилы, навстречу им попалась старушка в длинном пальто, она опасливо отступила на обочину и подождала, пока они проедут. Небо на западе заволакивала дымка, а горы, казалось, превратились в прозрачные серебристо-серые тени. В давно облетевшем лесу они пропустили трактор с прицепом, на котором громоздились поваленные деревья, водитель удивленно взглянул на них, Ашер его не знал. Проехав хлев, они свернули во двор крестьянина, у которого Ашер когда-то покупал дрова. Младшая девочка присела у крыльца с голой попкой и пи́сала. На ней было хорошенькое голубое платьице с красной каймой и белые резиновые сапоги. Узнав его, она закричала: «Ашер! Ашер!»
23
В гостях они задержались ненадолго. Когда он вошел в кухню, кто-то из детей схватил его за ногу, сын валялся на кровати, над которой было развешано белье для просушки, а младшая девочка с такой силой ударила мать подушкой, что наволочка лопнула и из дыры повалили перья. Она тут же скорчила особую гримасу, предвосхищая оплеуху. (Обыкновенно такую гримасу она корчила, уже получив оплеуху). Мать и в самом деле замахнулось было, но потом передумала, достала из ящика стола очки и надела их. Это были круглые очки в металлической оправе, без одной дужки и с одним треснувшим стеклом. Придерживая очки там, где не хватало дужки, она какое-то время разглядывала кружащиеся в воздухе перья. Потом села за стол, явно мысленно махнув на все рукой, и придвинула им кувшин плодового вина. Год тому назад побывала, мол, у нее чиновница из отдела социального обеспечения, хотела младшую дочку посмотреть. Посмотрела, и посоветовала ей принимать противозачаточные таблетки, а не то, мол, еще один такой ребенок родится. Девочка взобралась жене Ашера на колени и стала качать головой, но когда Тереза попробовала ее погладить, она не далась и зашипела. Катарина с любопытством ее разглядывала. Внезапно девочка вырвалась и выбежала из дому, а ее сестра взяла Катарину за руку и повела на крыльцо. У дома землю затянула корка бурого льда. В кухонное окно они увидели, как дети забрались в санки и съехали по обледеневшему склону.
— Мы хотим перестроить дом, — сказала хозяйка. — Нам нужно заменить входные двери. С нашими-то, старыми, в сенях темно, а хотелось бы поставить стеклянные, чтобы солнце пропускали. И топить тяжело. У нас же повсюду печи, мне зимой часто приходится топить все три сразу, а это работенка ой-ой-ой какая. Воду таскаем из колонки, а когда моемся, приходится еще и кипятить воду на плите в больших кастрюлях, а нас-то шестеро, вот и моемся мы реже, чем надо бы. Из окон дует, и пол дощатый мне приходится то и дело скоблить, чтоб чисто было в доме. А еще зимой на стенах плесень выступает, смотрите, какие пятна.
Она показала пальцем.
А им-де еще повезло. Вот у вдовы, дом-то ее над коровником построен, вообще тараканы.
Ночью, в темноте, когда все угомонятся, зайдешь в кухню, и на́ тебе, пожалуйста, все стены ими усеяны. Не иначе как из сырого коровника набегают.
— Вы и представить себе не можете, что это за наказание — жить в старом доме, — горячилась она.
Чиновники из Сельскохозяйственной палаты вечно им советуют не бросать старые дома, но попробовали бы они сами в таком пожить, да еще вести хозяйство. Можно, конечно, и старый дом обустроить, но старые дома все-таки маленькие, что ни говори. Жить в них приходится в тесноте. А они-то многодетные, и детям нужно, чтобы зимой было тепло и светло, и чтобы вода была, чтобы можно было помыться, когда хочешь, ведь они каждый день то в огороде работают, то в хлеву, а если и не работают, все равно целый день на улице. А еще противно на морозе идти через двор в туалет или пользоваться ведрами и кадками, а они потом так и стоят до утра, ночью-то кому захочется на улицу идти в туалет.
А потом, даже если до самого вечера топишь без передышки, по утрам все равно собачий холод, а детям-то каково с осени до весны просыпаться в такой стуже, просто стучат зубами и стонут, бедные. И потом еще электропроводка, она ведь не рассчитана на теперешние нагрузки, а без них в хозяйстве не обойтись. А если уж все перестраивать, приходится еще учесть, что работу по дому да по хозяйству на это время тоже не отменить. Вот и выходит, что разумнее все равно построить новый дом и, пока доводишь его до ума, жить в старом.
— Надоела нам вся эта рухлядь, — заключила хозяйка дома.
— И все-таки жалко, — сказала жена Ашера.
— Жалко? Чего тут жалеть? — возразила крестьянка. — Какой нам толк сохранять этот дом? Чтобы он нам о чем-то напоминал? Чем нам гордиться? Ну, может быть, богатый фермер, или человек очень уж скромный да невзыскательный, или такой старый, что переезд в новое жилье для него уже не окупится, и может остаться в старом. А мы другое дело. Может быть, когда построим новый, о старом сохраним приятные воспоминания. Но жить в старом, — нет уж, увольте.
24
Под конец они еще заехали к старику, который рубил тыкву и поранился. Он вышел им навстречу из-за полуразрушенного дома, в рваном свитере и в мятой шляпе. Они спустились с холма по бурому лугу, под ветвями фруктовых деревьев, образовавшими над их головами подобие арки. Ашер подумал, что летом эта тропа станет похожа на зеленый туннель. Старик остановился и стал подробно объяснять, что хочет проложить к своему дому проезжую дорогу, но владелец земли, по которой она должна пройти, возражает. Рассказывал он так подробно, с таким количеством пауз и перерывов, что Ашеру показалось, будто он хочет от них отделаться. Когда они добрались до дома, из открытого дымохода выпрыгнула кошка. «Смотри, смотри!» — закричала Катарина матери. Теперь старик обратился к Терезе и Катарине. Он сообщил, что живет в этом доме, потому что это «родина» его жены. Он, вообще-то, хочет переехать к брату в Вельсберг, там уютнее. Ашер объяснил, о чем речь. «Родиной» крестьяне называют родительский дом, и все сразу понимают, что имеется в виду. Пока он объяснял это жене и дочери, из дому вышла старуха. Когда она заговорила, Ашеру снова пришлось переводить ее слова. Она сразу же захотела показать Катарине собаку. По ее команде пес подал Катарине лапу и служил, а потом она показала девочке свинью, открыв откидную дверцу в хлеву. Заглянув внутрь, они и правда увидели свинью, развалившуюся на соломе.
— Вам не нужен зонтик? — спросила старуха. Она готова продать. — А сумочка?
Старуха первой прошла в дом, ее муж остался во дворе. В сенях на ящиках кудахтали куры, в кухне стоял полумрак. Ашер разглядел несколько тощих котят, паршивых, терзаемых блохами, буфет, на котором громоздилась батарея бутылок, горшков и жестянок, заставленный всякими старыми вещами комод, с венчающей его кукольной головкой и ящиками с кукурузной мукой.
Старуха достала ящик, в котором хранились яйца. Она держала его под раковиной, в которой теснилась немытая посуда. В ящике лежали яйца разного размера.
— Это яйца голубиные, а это куриные, — пояснила старуха.
Ашер перевел это Катарине, и та сразу же захотела посмотреть, какие это «голубиные». Старуха подарила ей одно, промолвив: «Голубиное, самое что ни на есть».
Между тем, старуха стала рассказывать Терезе, откуда взялись зонтик и сумочка. В Санкт-Георгене умерла-де пожилая женщина, ее добрая приятельница. Она пришла на поминки, и родня ее и подарила ей два зонтика и сумочку. Но у нее зонтик и сумочка и так есть, вот она и хотела бы эти продать.
Старик, шаркая, притащился в дом, и, пока женщины упаковывали яйца, Ашер осмотрел его ногу. Старик уже снял повязку и только прикрывал рану тряпочкой.
— Намного лучше, — заверил его Ашер.
Он выпрямился и увидел, что Катарина с голубиным яйцом в руке стоит рядом и внимательно рассматривает ногу старика.
25
Дома Ашер решил вместе с женой и дочерью поехать в город. Приближалось Рождество, а он и без того в ближайшие дни собирался вернуться.
— Ты уже решил для себя, что будешь делать? — спросила у него Тереза.
Она сидела на скамейке в уголке, Ашер стоял в кухне. Дочка не стала слушать их разговор и убежала на крыльцо, как только дятел возобновил свой стук.
— Нет, — признался Ашер.
— Я понимаю, — сказала жена.
— Мы могли бы снять дом, мы бы в нем жили, а я к тому же принимал бы больных, — предложил Ашер.
— А нужен ли тут врач? — усомнилась Тереза, помолчав.
— Нужен, я сам видел.
Они снова приумолкли.
— Может быть, еще раз попробуем начать все сначала? — произнес Ашер.
— А дочь?
— Школьный автобус останавливается у магазина. Нам нужно провожать ее только до автобуса.
Тереза задумалась. Ашер смотрел на нее: когда она задумывалась, у нее на лице появлялось напряженное выражение.
— Когда ты все решишь для себя, мы как-нибудь разберемся, — заключила она.
Вернувшись спустя две недели, Ашер первым делом направился к доктору, который жил в бывшем здании школы.
— Со школой произошло то же, что и с домами, — сказал тот, — они тоже предназначались для чего-то другого. Вы обращали внимание на огромные кухни? Прежде на каждой ферме было вдоволь батраков и батрачек, вот они-то и толклись в кухне денно и нощно. А сейчас на каждой ферме только хозяин со своей семьей, да его тракторы и комбайны. Правда, им бы не помешали более современные спальни для детей. А вот кухни могли бы быть и поменьше. Кстати, меня часто о вас спрашивали, — добавил он.
Когда Ашер сказал, что у него сложилось впечатление, будто на него никто особо не в обиде, врач ответил:
— Знаете, они привыкли терпеть самых разных людей. Если кто-то сидел в тюрьме, то потом возвращается домой и живет с остальными под одной крышей. Те, кто раньше его знал, притворяются, будто ничего не произошло. Если он где-то работает, все рады, что он согласился помочь. То же самое и с душевнобольными: коль скоро они работают, пусть живут, никто их не трогает. Конечно, они грубые, бывает, шутят над беззащитными и чудаками, иногда опускаются до хулиганства, но привыкли терпеть самых разных людей.
26
В деревню он вернулся на автобусе. По пути они притормозили на заправке, под светящейся сине-белой вывеской. Обычно он не замечал заправочные станции, даже когда на заправках останавливалась его жена, они казались ему само собой разумеющейся деталью пейзажа. Еще не стемнело, но проносившиеся мимо машины шли уже со включенными фарами. Он возвратился из города, где зима выдалась совсем бесснежной, и потому ему особенно бросились в глаза широко раскинувшиеся поля и луга, покрытые тонким слоем снега, на котором выделялись одинокие темные, голые деревья. Они поехали дальше, и он вскоре увидел пелену тумана, окутавшего равнину, точно белый газ. Кое-где над этой пеленой возвышались верхушки деревьев, потом она снова рассеивалась, чтобы опять сгуститься на земле, словно над утренним озером.
Перед тем как опять уехать в деревню, Ашер отправил свои инструменты и маленькую аптечку поездом. Цайнер пообещал забрать их на станции и отвезти к нему домой. Кое-где, снова глядя из окна автобуса, он замечал не снятые предвыборные плакаты, один раз даже на перевернутом стенде. Казалось, будто это последнее напоминание о спортивных соревнованиях или цирковом представлении, спортсмены или циркачи поехали дальше, оставив после себя следы, которые никто не потрудился уничтожить, потому что они никого уже больше не интересовали. Когда почтовый автобус остановился у трактира, Цайнера не оказалось. Ашер взял свой багаж, подождал и через площадь направился к доктору.
27
Когда он позвонил, доктор как раз собирался уезжать, а поскольку тот предложил отвезти его домой, Ашер сел в машину…
В сенях громоздились посылки, которые он отправил железнодорожной почтой, печь в кухне затопили, а вскоре пришел и Голобич, чтобы подбросить дров и сообщить ему, что у Цайнера сломался мотор, но они позвонили в трактир в Гляйнштеттене, чтобы сын вдовы забрал его на машине.
— А вы знаете, что колодец замерз? Если вам нужна вода, придется спуститься к соседу, я оставил для вас канистру в сенях.
— Хорошо. Передайте сыну вдовы, чтобы он меня больше не ждал.
Ашер сунул ему деньги в карман, а Голобич притворился, что ничего не заметил.
Старый сосед с сыном как раз выгружали железобетонные трубы. Заметив приближающегося Ашера, они с еще большим рвением принялись за дело, но едва он к ним обратился, как они положили трубы на землю и ответили на все его вопросы. Старик был среднего роста, с бородой, и почти все время улыбался. На нем был серый рабочий халат, черная шляпа с широкой зеленой лентой; сын был коренастый, с широким, круглым лицом и большими руками. Он провел его в дом и разрешил налить канистру. Тем временем в дверь постучали. Вошли двое из добровольной пожарной дружины, чтобы предложить билеты на бал пожарных. Старший из них, маленький человечек, у которого явно не хватало зубов, был пьян, шатаясь, бродил по кухне и, наконец, положил билеты на стол. Он был в униформе, в то время как другой, тихий толстяк, пришел в рабочем комбинезоне. Он предложил Ашеру купить большой плакат с крупными красными буквами, а когда тот отказался, пьяный схватил его за грудки и принялся объяснять, как он будет тушить дом соседа. Внизу в лощине есть пруд, примерно в двухстах метрах от дома. Они, мол, протянут по лощине рукав и подсоединят к нему насос. Важно знать, что именно горит. Если, например, загорелась хозяйственная постройка, то сначала нужно спасать жилой дом. Нужно следить, чтобы огонь не перекинулся на другие здания, поэтому самое разумное — предоставить горящую хозяйственную постройку ее судьбе и попытаться отстоять остальные. Толстый пожарный тем временем продал крестьянину два билета, Ашер тоже купил у него билет на бал, однако пьяный хотел продать старику еще два.
— Они ничего не купят, — сказал молодой крестьянин.
— Ах, так? А если дом загорится? Тогда разве не будете Бога благодарить, что у вас поблизости пожарная дружина? — горячился он, размахивая руками, а потом вдруг спросил у юноши, не он ли застрелил под Рождество лису.
Он-де об этом слышал. Крестьянин нырнул в соседнюю комнату и вернулся с очень красивой лисьей шкурой. Она доставала пожарному от подбородка до пяток, хвост у нее был большой и пушистый. Пожарник накинул ее на шею как боа и принялся расхаживать по кухне, вновь начав распинаться о пожаре. Между тем вернулись старый крестьянин с женой. Стараясь не смотреть на пожарного, старушка стала поливать белую примулу в горшке на подоконнике. «Она цветет и зимой», — сказала она, заметив, что Ашер за ней наблюдает.
Ашер с полной канистрой воды стоял у плиты и кивал. Старушка села за стол и продолжала ворчать, что вот, мол, трактор-то по-прежнему стоит у ворот, словно заставляя сына вновь взяться за работу. Пьяный пожарный тем временем обнял старого крестьянина, который только что вернулся из амбара. Униформа пожарника тотчас покрылась белыми пятнами муки. Кепка у него сползла на одно ухо, и только когда сын крестьянина купил у него еще один билет, он снял с себя лису, положил на кресло, перекинув через спинку, и ушел вместе со вторым пожарным. Ашер немного позднее тоже отправился восвояси.
На кухонном столе стоял микроскоп. В сундучке он обнаружил еще стекла с препаратами, которые, разобрав все вещи, стал разглядывать, с удивлением осознавая, что в городе ни разу о них не вспомнил. Он потерял к ним всякий интерес. Он рассматривал лягушачью кровь, радиолярии, губки, морской планктон, красные водоросли, морские водоросли, мшанок и частички растений, однако ощущал, что процесс разглядывания его больше не увлекает. В свое время, после большого перерыва впервые рассматривая препараты и воскрешая в памяти знания, он почувствовал прежнее любопытство. Но теперь он созерцал препараты, словно прощаясь. Может быть, когда-нибудь ими заинтересуется дочка, подумал он. Он убрал стекла в сундучок, запер его на замок, закрыл микроскоп и полистал гистологический атлас. Однако он больше не хотел видеть эти иллюстрации на страницах книги отрешенными от тех, других картин, что открывались ему под микроскопом. Он испытывал большое желание с кем-нибудь сейчас поговорить. Он подумывал пойти в магазин, но потом решил, что не стоит: было уже темно, вдруг он там никого не застанет? Он сложил в рюкзак лекарства и часть медицинских инструментов. Завтра он пойдет в Вуггау. А потом в Хаслах, а потом в Санкт-Георген, а потом в Томбах. Ему показалось, будто он должен наверстать что-то давно упущенное. В кладовке он нашел початую бутылку сливовицы, и тут ему пришло в голову согреть чаю и выпить с чем-нибудь покрепче. Он налил в чашку кипятку, положил чайный пакетик и стал ждать, пока заварится чай. Потом он размешал в чашке сахар, подлил сливовицы и выпил.
28
Днем он теперь частенько разговаривал со стариками, коротавшими время на кухне. Иногда кухня представляла собою одновременно спальню (потому что в ней стояли супружеские постели), столовую (со скамейкой в уголке и обеденным столом), помещение, в котором вся семья смотрела телевизор, и ванную комнату (тогда над раковиной висело зеркало, а на этажерке лежали помазок и зубная паста).
Однажды его вызвал Цайнер, потому что его отцу, мирно наслаждавшемуся в постели послеобеденным сном, упала на голову печная труба и довольно сильно поранила. Когда он вошел, в комнате пахло углекислым газом. Окна уже отворили. Это было большое помещение с дощатым полом. Там, где трубу снова вставили в стенной проем, на стене остался след сажи. Маленький старичок лежал в постели с окровавленным полотенцем на лбу. Ашер обработал рану, пока вокруг толпились взволнованные домочадцы. Он охотно заботился о старичке, с радостью отдаваясь хлопотам о больном.
Сыну трактирщика из Санкт-Ульриха в городе вырезали паховую грыжу, рана загноилась, поэтому ему предписали после выписки из больницы принимать ванны с ромашковым отваром. Когда Ашер вошел, трактирщик велел сыну показать ему рану, и сын послушно разделся. Только вышел при этом из трактирного зала в сени.
И наконец, хозяйка одного крохотного кабачка сама обратилась к нему, поведав, что ее мучает боль в горле и лихорадка. Когда Ашер предложил сделать ей укол, она, не задумываясь, тут же задрала платье, опершись рукой о столешницу. Однако никто из посетителей не отпустил ни одной скабрезной шутки, и Ашеру показалось, что происходящее совершенно их не волнует.
Так прошло несколько дней.
29
В течение дня все казалось таким близким; крестьянские дворы, которые обыкновенно чудились островками в бескрайнем море, вдруг обрели ясные, четкие очертания, вместе с каждым телеграфным проводом, каждым окном. Вечером Ашер наблюдал вдалеке белоснежные снегопады, обрушивавшиеся из туч на горные хребты и напоминавшие завихрения смерчей. Издалека метель представляла собой беззвучное зрелище. Потом быстро сгустились сумерки. Горы окутывала пелена тумана, и только внизу, в долине, проселочную дорогу и несколько домиков по-прежнему ярко освещало солнце. Наконец, пошел снег. На землю стали медленно опускаться большие, плотные снежинки, и созерцание их плавного полета успокаивало, убаюкивало.
На следующее утро вокруг дома возвышались белоснежные сугробы, вершины холмов заливало ясное солнце. Ашер проснулся не сразу, спросонья дважды тянулся за одной и той же вещью, и только усилием воли стряхнул с себя сон. Он собирался позвонить жене из магазина, а потом решить, как быть дальше.
Подходя к магазину, он увидел, как несколько малознакомых крестьян кинулись к своим машинам. Спросив у развозчика молока, в чем дело, он получил ответ, что мелкий крестьянин, с которым он был знаком и фамилию которого развозчик по просьбе Ашера повторил — «Люшер», застрелил троих человек. А он, мол, сейчас едет в Оберхааг, хочет посмотреть, что случилось. «Хотите, подвезу вас?» — предложил он Ашеру. Ашер взобрался на прицеп, неудобно скорчившись в углу, и вцепился в бортик. Льдистое небо у них над головами, подобно огромному зеркалу отражало свет, гладкий снег тоже переливался. В прицепе болтались два молочных бидона развозчика, Ашер схватил один из них и уселся на него верхом. Второй катался туда-сюда по всему прицепу — молочник ехал быстро. Под светлым небом мимо пролетали каштаны с белоснежными стволами и ветвями, белые телеграфные столбы и белые заиндевевшие провода, а когда они въехали в тень, на небе заметно проступили облака. Потом трактор, подскакивая, с грохотом покатил под горку, по неасфальтированной дороге, и только на равнине снова выехал на более гладкий участок. Ашер надел перчатки, но руки его все же замерзли как лед, да и лицо пощипывало от холода. Они проехали Унтерхааг, потом — Оберхааг, и Ашер вспомнил, что он уже бывал в этих деревнях, когда вскоре по приезде отправился с Цайнером на фазанью охоту. В этих крохотных местечках только и было, что ряды одинаковых домиков вдоль федеральной трассы и скрывавшиеся за ними поля и луга. Издали над крышами домов виднелась поблескивавшая на солнце колокольня. Развозчик молока свернул с дороги. Их тут же встретили жандармы в длинных плащах и с автоматами наперевес. Знаками они приказали им остановиться. Плащи доходили им до лодыжек, к проезжим они обращались громко и взволнованно. Повсюду толпились любопытные в рабочей одежде, в шапках и шляпах, по большей части группами, пряча руки в карманы и покуривая. Другие прислонились к тракторам, словно устроившись поудобнее и приготовившись ждать долго. И мужчины, и женщины в большинстве молчали, лишь изредка кто-то что-то выкрикивал, обращаясь к другой группе. Развозчик молока затормозил, оставил трактор на обочине и вместе с Ашером двинулся к двухэтажному дому. Ашеру бросилось в глаза, что ставни в доме были захлопнуты, и оттого складывалось впечатление, что он необитаем.
— Идите домой! Нечего здесь смотреть! — крикнул один из жандармов.
Никто не обратил внимания на этот призыв. На закрытой садовой калитке висела табличка «Школа верховой езды М. Хербста». Два жандармских автобуса-«фольксвагена» были припаркованы в снегу под деревом.
Двор испещряло множество желтоватых следов. Внизу, на равнине, было теплее, чем наверху, на холмах, снег время от времени с мягким шорохом опадал с ветвей, у двери хлева вытаяла большая лужа. За лужей о чем-то совещалась группа жандармов. Ашер заметил, что развозчик молока не пошел вслед за ним во двор, а остался снаружи, у калитки, вместе с каким-то человеком.
— Сюда нельзя, — сказал один из жандармов.
Прямо по луже он подошел к Ашеру.
— Если хотите, можете подождать на улице, вход во двор воспрещен.
Жандарм был высокий, полный, с носом, похожим на грушу. Цвет лица у него был нездоровый, как будто он не спал всю ночь, но взгляд — живой и острый; он бесцеремонно пристально оглядел Ашера с головы до ног. Ашер снял с плеча рюкзак.
— Что вы здесь делаете? — спросил жандарм.
Ашер расстегнул рюкзак и показал ему содержимое.
— Я врач, — сказал он.
Жандарм заглянул в рюкзак.
— Спасибо, доктор нам больше не нужен, — отрезал он.
— Я хотел узнать, что случилось, — пояснил Ашер, затягивая шнуры рюкзака и забрасывая его на плечо.
Он не знал, стоило ли сюда являться, он только во что бы то ни стало хотел выяснить, что тут произошло.
— Ну, и что вы рветесь в дом? — спросил жандарм. — Вам там делать нечего.
И он повернулся к другим жандармам, которые по-прежнему стояли возле лужи и разговаривали.
— Подождите, — велел он, ступая по луже, вернулся к остальным и обратился к унтер-офицеру. Ашер узнал унтер-офицера в лицо, он видел его на свадьбе, даже перемолвился с ним несколькими словами, но он тогда ему не очень запомнился. Он был невелик ростом, приземист и так медлителен, что казался необычайно равнодушным. Теперь Ашер вспомнил, как унтер-офицер танцевал на свадьбе. Танцор он был ловкий, а за столом все посматривали на него с почтением, поскольку он был не очень-то разговорчив, то и дело спрашивали его о том-о сем и вопросительно заглядывали ему в лицо, пытаясь узнать его мнение. Он с сомнением смотрел на Ашера, не переступая лужу. На нем была жандармская фуражка, обтянутая нейлоном, и прорезиненный плащ с поясом. Наконец, он по луже шагнул к Ашеру, не сводя с него глаз. Судя по выражению его лица, он вспомнил, что встречал Ашера прежде, но силился припомнить, где именно. В конце концов, его, по-видимому, осенило, его прежняя угрюмость исчезла, и он стал время от времени посматривать себе под ноги. Жандарм, который его привел, остановился и вытянулся по стойке «смирно», будто охранял дом. Однако при этом не спускал с Ашера глаз.
— Вы хотите войти в дом? — спросил унтер-офицер.
— Да.
— Вы врач? Это мне передал жандарм. Я и не знал.
Он повернулся и велел Ашеру следовать за ним.
— Помощь там оказывать уже некому, — добавил он.
Двое жандармов, стоявших у двери, ждали, что будет дальше.
— Пропустите доктора, — приказал унтер-офицер, потом обернулся к Ашеру и предупредил:
— Когда захотите выйти, постучите!
Он поднес руку к козырьку фуражки, и Ашер, хотя и знал, что жандарм всего лишь сделал рутинный жест, почувствовал себя польщенным. Дверь дома была выкрашена зеленой и белой краской. Ашер вошел. Сквозь три маленьких окошка над одной из дверей, которые вели из сеней вглубь дома, проникал свет, поэтому Ашер толкнул эту дверь. Прямо перед ним выросла фигура часового, заслонявшего вход в комнату (за его спиной смутно виднелись только вторая дверь, кухонная лампа и коричневые обои на стенах).
В полутьме глаза часового скрывал козырек фуражки. Потребовав у Ашера назвать имя и род занятий, он пожал плечами и посторонился. На плече у него висела закинутая за спину винтовка, однако вид при этом был довольно мирный и уж никак не воинственный.
Кухня, открывшаяся взору Ашера, была небольшая. У стола с пластмассовой столешницей стояла деревянная скамейка. На ней полулежал человек, голова которого была укутана прозрачным полиэтиленовым пакетом. Там, где, вероятно, находилось лицо, пакет был запятнан кровью. Внимательно рассмотрев убитого, Ашер понял, что он не лежит, а все еще сидит, вот только склонившись в сторону, бессильно свесив левую руку до полу, а правую прижав к груди, так что виднелись несколько пальцев. Под головой натекла большая, темная лужа крови, а рядом с ней растекалась другая, поменьше, водянистая. Рядом со скамьей стояли домашние тапочки, на столе лежал нож для масла, брошенный среди клочков бумаги, на которых как будто рисовали дети, а потом оставили на столе, потеряв интерес к рисункам.
Ставни были закрыты, поэтому в комнате царил полумрак. Дешевые узорчатые занавески кто-то сдвинул в сторону, на одном из подоконников примостился утюг. На нижней половине окон, как Ашер часто видел и у пожилых горожан, висели коротенькие занавески. В углу на стуле он заметил стопку детского белья, чуть дальше рядом с диванной подушкой лежала шляпа. Под столом валялся листок бумаги с каким-то рисунком. На стене висело маленькое распятие, под ним — стеклянный флакончик, из которого торчали ветки. Кровь забрызгала даже дверь, на ней еще виднелись нестертые капли.
— Жена показала, что он ворвался с ружьем в руке, — сказал жандарм. — Выстрелил ее мужу в голову. Двое детей сидели с ним вместе за столом, а она у плиты варила кофе. Люшер, такова фамилия убийцы, после этого бежал, вероятно, пересек границу и — в Югославию.
— Вы его знаете? — спросил Ашер.
— А как же, — откликнулся жандарм.
У него-де было прозвище «брючник», потому что его дед шил кожаные штаны для штирийских костюмов. Он немного подумал. А отец его, получив повестку в, как он выражался, «гитлеровскую армию», утопился в колодце. Сын же был известен как «фанатичный поборник справедливости».
Теперь он точно решил вдоволь наговориться. Вероятно, он был рад, что может хоть с кем-то перемолвиться словом. По-видимому, здесь, в кухне, он провел с убитым не меньше часа и все это время вынужден был разглядывать мебель и застреленного. Ашеру было интересно, хорошо ли он знал убитого. В свете кухонной лампы он заглянул под козырек его фуражки. Лицо у жандарма оказалось длинным, морщинистым и загорелым, как у человека, привыкшего много бывать на солнце. От его плаща исходил запах нафталина, видимо, плащ ему приходилось надевать не часто.
Люшер судился с убитым и супружеской парой, которую он застрелил первой, и проиграл дело в суде, поведал жандарм. Он явно радовался, что может с кем-то поделиться. Спор разгорелся по поводу двух тысяч восьмисот шиллингов, а все из-за школы верховой езды, которую Люшер основал вместе с двумя приятелями. По условиям договора, ему причиталась доля прибыли от продажи выращенных лошадей. Но потом он рассорился с компаньонами, вышел из дела и потребовал деньги, которые вложил.
Жандарм слегка сдвинул фуражку на затылок, как будто ему стало жарко. Волосы надо лбом у него были густые и длинные, и, приподняв фуражку, он закинул их назад. При этом он, не прерывая своего рассказа, взглянул на Ашера так, словно был взволнован. Но Ашер понимал, что это всего лишь продиктовано правилами служебного поведения.
А кроме того, продолжал жандарм, Люшер настаивал на возмещении затрат на постройку забора, для которого он, кстати, поставил свои собственные пиломатериалы. Вложенные средства ему вернули, а деньги за забор — нет. Когда вскоре после этого продали лошадь, он потребовал свою долю, так как, по его мнению, ему не полностью компенсировали расходы. Но в этом ему было отказано.
— Он и в суд обращался, и в Палату. Под конец над ним уже стали смеяться, — закончил жандарм.
Ашер молчал. Они оба стояли над убитым, не сводя с него глаз. В сущности, смерть совершенно непостижима. Она приходит как нечто само собою разумеющееся, и все-таки это было самое непонятное и чуждое из всего, что он знал. Каждый раз, глядя на мертвого, он ощущал странное оцепенение, в котором хотя и мог по-прежнему видеть и чувствовать, совершенно утрачивал способность размышлять. Так случилось и сейчас.
Немного помолчав, жандарм продолжал, что Люшер сегодня рано утром похитил у своего соседа, охотника, два ружья и застрелил сначала супружескую пару, а потом Хербста.
— Больше я сам ничего не знаю, — подытожил он.
Ашер еще спросил у него, где дом супружеской четы, жандарм ему это описал, и Ашер вдруг осознал, что, пока ему подробно объясняют дорогу, в комнате лежит мертвец.
На улице, во дворе, по-прежнему дежурили жандармы.
— Все в порядке? — издалека крикнул ему унтер-офицер и, когда Ашер сказал, что да, кивнул.
С крыши хлева с громким журчанием в лужу стекала вода. В распахнутых дверях сарая виднелась повозка. Ашер, и сам не зная, почему, вдруг заторопился. Он пошел быстро, почти побежал. У дома на него с любопытством и, как ему показалось, с недоверием, уставились зеваки. Тогда он пошел медленнее. Жандармский патруль с автоматами на плечах и двое дородных пограничников с овчаркой двинулись к лесу, который серой чертой выделялся вдалеке за полем, разбитым на пологом холме.
— Мы прочешем лес до самой границы. Если поспешим, может быть, еще его возьмем, — сказал один из пограничников.
Мимо проехал автобус-«фольксваген» с жандармами и набрал скорость, как только разминулся с толпой любопытных.
Ашер свернул на федеральную трассу. Не было еще и полудня, но на витринах магазинов были опущены жалюзи, шторы на окнах — задернуты, а ставни — захлопнуты. У бензоколонки и старой пожарной части группа жандармов обсуждала свою оперативную задачу, а подъезды к бензоколонке блокировали жандармские машины. Теперь он заметил, что жандармерия охраняет также въезды и выезды из деревни. Вероятно, жандармы опасались, что преступник где-то прячется и попытается вернуться. Стоило Ашеру подойти поближе, как жандармы словно по команде замолчали и поглядели на него, потом кто-то из них заговорил снова, а остальные равнодушно отвернулись. Рядом с пожарной частью находилась парикмахерская, и Ашер обратил внимание, что занавески на втором этаже отодвинуты и улицу внимательно оглядывает лысый человек. Ашер поднял голову, тот на мгновение отпрянул, но потом опять вернулся к окну, притворившись, будто рассматривает группу жандармов. По обеим сторонам улицы находились трактиры, один — особенно большой, вероятно, с залом для танцев, уходящим в глубину за улицей. За трактирами возвышалась треугольная, недавно отремонтированная стела памятника павшим в Первую и Вторую мировые войны. Перед каким-то маленьким кабачком двое мужчин в синих передниках и шляпах спросили у него, не из уголовной ли полиции он будет. Когда он ответил отрицательно, они утратили к нему всякий интерес. Он прошел мимо припаркованных автобусов без табло с номерами и школьного автобуса. В доме перевозчика находилась пошивочная мастерская, но и на ее окнах были опущены жалюзи. Следующим за домом перевозчика шел маленький побеленный домик, который оцепили жандармы и держали в кольце любопытные. Значит, он пришел куда надо. Если в первом дворе все было заперто и отгорожено, то здесь царил беспорядок. Автобусы стояли как попало, жандармы перекрикивались, давая друг другу указания, и, насколько Ашер понял, собирались оцепить ближайшую опушку леса и готовились рассаживаться по машинам. Двор был большой, не обнесенный забором, так что он беспрепятственно мог войти. Люди вели себя так же, как и во дворе первой жертвы. Некоторые чего-то ждали возле дровяного сарая, к стене которого кто-то прислонил пугало. Дом и хозяйственные постройки имели запущенный вид. Кое-где осыпалась штукатурка, немного в стороне куры склевывали с земли кукурузные зерна. Однако двор выглядел просторным. Где-то в стойле, позвякивая цепью, мычала корова, скотина с глухим стуком чесала бока о деревянные ясли. Не успел Ашер пройти мимо какого-то сарая, как дорогу ему преградил жандарм.
— Вы что тут забыли? — набросился он на Ашера.
На лице его застыло выражение враждебности и плохо сдерживаемой ярости. Похоже, он терпеть не мог зевак, причем ненавидел каждого в отдельности, ведь чуть раньше Ашер видел, как он с бранью оттесняет любопытных от места преступления. Его стальная каска сползла набок, хотя и застегивалась под подбородком кожаным ремешком.
Ашер ответил, что слышал, будто тут кого-то застрелили, и потому пришел, ведь он врач.
— Вы не новый врач из Арнфельса? — спросил жандарм недоверчиво и по-прежнему повышенным тоном.
Ашер сказал, что нет.
— Мы вас не знаем, — констатировал жандарм.
— Если хотите, можете заглянуть в мой рюкзак, — предложил Ашер.
Жандарм без энтузиазма осмотрел содержимое рюкзака и покачал головой. Потом он махнул рукой, словно говоря: «Проваливай!» В это мгновение остальные жандармы выбежали со двора, кинулись к машинам, поплотнее закутались в свои плащи и, не подавая виду, уехали.
Ашер достал из кармана пиджака удостоверение личности и протянул его жандарму. Словно утратив былую уверенность с отъездом товарищей, жандарм минуту изумленно смотрел на него, а потом снисходительно произнес:
— Ну, ладно, пройдите, только не задерживайтесь.
Внутри двор оказался еще более запущенным. На гумне валялся велосипед со снятыми колесами. Детали разобранной повозки громоздились неопрятной кучей, деревянный колодец прогнил, рукоятка ворота отвалилась. Но в хлеву мычали по меньшей мере пятьдесят коров, рядом располагался свинарник, на гумне стоял один трактор, а посреди двора — другой, неприкаянный, словно из-за него все и случилось. Позади него на подтаявшем снегу лежала женщина с неестественно вывернутыми руками и ногами. Она была в одних чулках, обувь она потеряла, спасаясь от убийцы. Неподалеку валялась корзина с сеном, выпавшая у нее из рук. Лицо женщины он не мог разглядеть, она лежала на животе, вокруг нее нервно расхаживал жандарм, а возле трактора стояли плачущие старик со старушкой. Старушка утирала глаза платком. Они со стариком не подняли глаз, не обратили на Ашера внимания, а так и стояли, невидящими глазами уставившись друг на друга, старик, — сложив руки, как на молитве. Время от времени они склонялись над убитой, одетой в синее платье, передник и черную косынку. Она лежала, словно воздев ладони к небу, и оттого казалась Ашеру еще более беспомощной. Кровь натекла на снегу темным пятном.
— Муж ее в погребе, — сообщил жандарм, который за это время успел успокоиться и незаметно прошел следом за Ашером.
— А вы не журналист? — недоверчиво спросил он.
Ашер сказал, что нет.
— Хорошо, — сказал жандарм. — Журналистам здесь находиться запрещено.
Он как будто даже немного гордился тем, что принимает участие в таком деле.
— Мы еще не знаем точно, как все произошло, — сообщил он. — Либо он сначала застрелил мужчину в погребе, а потом женщину, либо наоборот. Некоторые думают, что он увидел, как женщина… — Он подождал, пока Ашер не осмотрит убитую… — идет по двору, и сразу же ее застрелил, а другие — что он застрелил мужчину в винном погребе… — Теперь он показал на погреб… — и что женщина прибежала на выстрел и попыталась его задержать. По-видимому, она хотела ему помешать. Иначе почему он не застрелил жену и детей другого?
— Пойдемте, — позвал он Ашера после паузы. Он тяжелыми шагами прошел вперед, мимо покойницы, не удостоив ее и взглядом.
Возле дома, в тени, снег еще не растаял. Сейчас Ашер заметил, что ставни были раскрыты, и потому дом казался веселым и гостеприимным. Но здесь, подумал он, похоже, некому прятаться. Погреб освещала электрическая лампочка. Ашер спустился вслед за жандармом на две ступеньки и оказался в маленьком побеленном закутке. У их ног на спине лежал мужчина. На нем были резиновые сапоги, синий комбинезон, свитер и синяя рабочая куртка. Его явно немного отодвинули в сторону, потому что рядом с ним, на бетонном полу погреба, виднелись очертания его ног, ступней и одной руки, обведенные мелом, отчего он казался огромной странной куклой. Стоя у входа, Ашер мог разглядеть только следы крови на стене и маленькую дыру, обведенную карандашом, — очевидно, пулевое отверстие. Жандарм проследил его взгляд и пояснил:
— Пуля прошла навылет и застряла в штукатурке.
Всю правую стену погреба занимали высокие винные бочки, а перед ним теснилась батарея больших, пяти-, десятилитровых винных бутылей, наполненных до краев. По задней стене к насосу шли стальные трубы, снабженные водопроводными кранами и датчиками, а кое-где соединенные шлангами. Над ними висели стеклянные сифоны и баллон с всасывающим патрубком, а также доска с деревянными шпильками, — видимо, на них сушили стаканы. Ашер еще раз оглядел все оборудование чрезвычайно внимательно.
Между тем, о Люшере жандарм стал сообщать следующие сведения (на сей раз указывая в погребе на места преступления). Люшер-де уже сорок лет женат, отец троих детей. Несколько лет тому назад четверо фермеров решили основать небольшой конный завод. Они были примерно ровесники, каждый имел по двое-трое детей. Люшер оказался единственным, кто остался там без всякой должности: Хербст стал председателем, Эггер (это убитый) — заместителем, и третий из основателей — кассиром. Кстати, он с женой и детьми спасся бегством и вернется, только когда поймают Люшера. Продав после спора свою лошадь, Люшер все-таки не ушел из конного клуба. Однако не так давно захотел получить свои деньги и через адвоката подал жалобу в суд. Но проиграл процесс. Он не получил возмещения затрат за строительство забора для конского выгона, в которое, по его словам, вложил свои деньги, ни компенсации за работу в конюшне.
Он пожал плечами и опустил уголки рта, словно выражая свое презрение и одновременно показывая, что он к этому делу не имеет никакого отношения. Потом он немного подумал и снова заговорил очень осторожно, подбирая слова. У Ашера возникло впечатление, что он пытается сказать правду. Возможно, так он будет говорить на суде, если его призовут для дачи показаний. Вообще-то он полагает, что компаньоны обманули Люшера, сказал он, запинаясь. Исход судебного разбирательства совсем сломил Люшера. Он ведь всегда верил в закон и порядок. Жандарм снова умолк. В каком-то смысле он был образцовым гражданином, задумчиво продолжал он. Потому все и смеялись так, когда он проиграл процесс, что это было редкое совпадение: именно он всегда верил в силу закона, а его иск отклонили.
Он словно очнулся от сна и внезапно осуждающе покачал головой. Ашер спиной ощущал холодный сквозняк, слушая жандарма, явно обрадовавшегося, что может рассказать всю предысторию во всех подробностях свежему человеку, который о них и знать не знал. С другой стороны, сумма ущерба была не столь велика, чтобы из-за нее так реагировать, сказал он презрительно. О «составе преступления» он-де знает вот что: ранним утром Люшер опять спорил со своей семьей по поводу конного завода и проигранного процесса. У него даже пошла кровь из носа. Он кричал на детей, которые как раз собирались в школу, что не потерпит несправедливости и что они пусть «остерегутся, а не то их тоже проведут». Это показала на допросе его жена. Потом он расколотил транзисторный приемник и бросился к соседу. Там он застал только его жену и невестку — сам сосед, охотник, ушел в поля. Люшер потребовал два ружья, оттеснил женщин в комнату. Забрал ружья и убежал.
— Самое страшное последовало за этим, — сказал жандарм.
Он шагнул к убитому и стал попеременно посматривать то на него, то на Ашера. Хотя Люшер запер женщин в комнате, они все-таки вырвались и позвонили бургомистру и в жандармерию, но ни там, ни там никто не снял трубку. Двое жандармов (его друзья) как раз расследовали дорожно-транспортное происшествие. Люшер тем временем добрался с ружьями до дома семейства Эггеров, застрелил мужа и жену и направился дальше по федеральной трассе. Тут он столкнулся с двумя жандармами. Они-де уже знали, что Люшер украл ружья, потому что жена охотника успела к ним прибежать и сообщить о краже. Не имея представления о том, что уже случилось, они вышли из машины, но Люшер сразу же стал угрожать им оружием. Его угрозы они восприняли серьезно, потому что он был в состоянии аффекта, да и лицо у него было в крови. Когда они укрылись за машиной, Люшер медленно отступил. После того, как он скрылся за углом, они бросились за служебным оружием. Ведь в тот момент они были не вооружены. Тем временем Люшер застрелил Хербста. «Остальное скоро выяснится», — заключил он.
Пуля вошла убитому в грудь, вырвав клок рубашки, но лицо у него было безмятежное, как у спящего. Его распростертое тело лежало у стола, на котором громоздились бутылки, перевернутые воронки, картонная коробка с пробками и инструментами, а также клещи и французский ключ. Тут же теснились стаканы для воды, тряпки и свеча. На столе царил такой беспорядок, что казалось, будто все предметы метались по комнате и по мановению волшебной палочки замерли там, где были застигнуты. Только сейчас Ашер заметил, что стоит на резиновом шланге, и поспешно убрал ногу. Выходя из дома, они столкнулись с гробовщиком из Мальчаха. Двое глухонемых как раз выгрузили из кузова машины гроб и понесли его в винный погреб. За ними потянулись и старики, до сих пор плакавшие во дворе, и сам гробовщик. Он поздоровался с Ашером небрежным кивком. Его сопровождал полицейский в плаще и в фуражке. Глухонемые выполняли свою работу с непроницаемыми лицами, один, когда-то взятый гробовщиком из психиатрической больницы в Фельдхофе в качестве подсобного рабочего, приветствовал каждого радостной улыбкой, но потом без всякого перехода снова принимал серьезный вид. Когда тот, что шел первым, не смог пронести гроб вниз по ступенькам, он засиял и поглядел на других, ожидая, что они тоже рассмеются. Женщину во дворе уже унесли. Там, где она лежала, осталось только пятно крови, и снег подтаял так, что можно было различить очертания ее тела.
Ашер прошел мимо брошенного дома со снятой крышей к школе. Рядом со старым желтым зданием с металлическим флюгером построили новое. «Школа имени императора Франца-Иосифа», — издали прочел он на фасаде. Обнесенный забором двор с чахлыми деревьями и посыпанными гравием дорожками был пуст. Только у входа на тротуаре был припаркован большой школьный автобус. Рядом стояли двое жандармов. Подойдя поближе, Ашер услышал, как в школе поют дети. Тут к нему обратился какой-то человек, и Ашер узнал его не сразу. Это был болтун, с которым он познакомился, когда в старом доме установили гроб с телом старика.
Ашер заметил, что он пьян.
— Детей выведут, только когда поставят на улице оцепление, — сказал он без обиняков. — А то он еще вернется и возьмет какого-нибудь ребенка в заложники.
Он сонным взглядом посмотрел на Ашера. Возможно, он уже ходил поглядеть на убитых. Ашеру не хотелось его об этом спрашивать. Не испытывал он никакого желания и разговаривать с ним об убийстве, и потому ограничился кивком.
— Можете выходить вместе с детьми! — крикнул один из жандармов.
Пение тут же смолкло. Знакомец объяснил, что старое здание — это школа для умственно отсталых детей, а новое — начальная школа, пожал ему руку и сказал:
— Мне пора, до свидания.
Водитель завел автобус, развернулся и открыл дверцу. Дети стали парами выбегать из школы, а две молодые учительницы, одна из них — в спортивном костюме, следили за порядком. Дети уселись в автобус очень быстро.
— Это последний автобус, — сказал один из жандармов.
Другой пропустил это замечание мимо ушей. Сжимая в руках автомат, он осматривался. Теперь Ашер разглядел и директора, невысокого человечка, который проверял, все ли идет гладко. Сложив руки за спиной, он беспокойно ходил взад-вперед, не спуская глаз с детей. Когда дети расселись по местам, в автобус вошли жандармы, один сел рядом с шофером, а старый знакомец Ашера расположился среди детей, помахал ему, и автобус тронулся. Дети не казались испуганными. Возможно, им только передалось волнение взрослых, но истинную меру опасности они не осознавали. Учительница и директор снова ушли, большие школьные ворота закрыли. Ашер какое-то время различал урчание автобусного мотора, потом все стихло. Он вернулся на федеральную трассу, на которой больше никого не встретил. Сначала он прошел мимо церкви, потом — мимо двух трактиров. На дверях висели таблички «Закрыто», — он задрал голову, но никого не увидел и в окнах второго этажа. Бензоколонка за пожарной частью не работала, насосы были отключены, в витрине заправочного павильончика громоздились желтые жестянки с моторным маслом. Чуть дальше, напротив здания Райффайзенбанка, располагалось кладбище, за ним — зал общинных собраний. На кладбище могилы и дорожки были засыпаны снегом, надгробные камни возвышались над сугробами, покрытые тонкими белоснежными колпаками. Издалека до него донесся шум вертолета, и, подняв глаза, он и в самом деле заметил вертолет, исчезающий за серой чертой леса. За лесом начиналась Югославия. Жандармы прочесывали этот лес с собаками; если он правильно подсчитал, их должно было быть не менее сорока. Когда он поравнялся с отделением Райффайзенбанка, с крыши Общинного здания с грохотом съехал пласт снега. Деревья на полях уже стояли без инея и выделялись на фоне окружающего ландшафта, словно черные буквы на бумаге. За домами в заснеженной лощине текла речка Заггау. Еще дальше, на плоских полях, он различил высокий земляной холм, припорошенный снегом, и экскаватор, пригнанный для расширения речного русла. Работы по укреплению речного русла осенью все же продвинулись. Большинство жандармов уже куда-то перебросили, последние, вероятно, оставались в домах, где произошли убийства. Он поднялся по ступенькам в трактир. Не успел он постучать в дверь, как кто-то изнутри громко спросил его, кто он и что ему нужно. Большая, круглая, синяя неоновая табличка, укрепленная на металлической штанге, старомодными буквами рекламировала «пунтигамское пиво». Ашер ответил, что хочет выпить и отдохнуть.
Дверь тотчас отворили и, впустив его, снова заперли.
— Приходится осторожничать, — пояснил высокий, плотный темноволосый мужчина в свитере, который ему отворил. — Сначала я убедился, что вы один.
У него было покрасневшее лицо, маленькие глазки и такие большие и мясистые оттопыренные уши, что Ашер невольно сразу обратил на них внимание. Волосы у него были гладко зачесаны назад, поверх свитера выправлен воротничок рубашки.
— Сейчас мы поневоле всего остерегаемся, — сказал он.
Ашер прошел в зал, где горело электричество. Поскольку ставни были закрыты, ему казалось, что уже вечер. Желтые стулья стояли вокруг столов с пластмассовыми столешницами и большими пепельницами. За одним из столов сидели несколько мужчин, у двери лежало ружье с оптическим прицелом. Ашер смотрел, как трактирщик разливает вино за стойкой, освещенной неоновой лампой.
— А что, если он заболел бешенством? — предположил кто-то из посетителей. — Вдруг он болен, и сам не знает. Если он сейчас сюда вломится, лучше держать оружие наготове.
Трактирщик подал им вино и спросил Ашера, что́ он будет пить. Однако заказанное им пиво он поставил на столик, за которым уже расположились другие.
— Присоединяйтесь, — предложил он.
Тем временем крестьяне продолжали разговор о бешенстве. Ашер пересел к ним. Никого из посетителей он не знал. Им всем было примерно по сорок-пятьдесят, и сейчас, зимой, они могли позволить себе просто посидеть и обсудить случившееся. Кроме того, насколько Ашер понял из разговора, у каждого из них оставался в доме сын, брат или отец, так что за женщин они не боялись. Но, с другой стороны, не хотели и засиживаться долго. Одни из них поведал, что Люшер, прежде чем застрелить первого, столкнулся с фермером, жившим неподалеку от трактира. Он-де спросил, почему у Люшера лицо в крови, и тот пригрозил ему ружьем и велел убираться к себе домой. Фермер послушался, поступил, как было велено, и быстренько удалился. А когда снова осмелился высунуть нос из дому, Люшер уже прикончил первого. Немногим позже другой фермер, Шварц, повстречавшись с Люшером, спросил, а зачем это ему два ружья. Люшер ответил, что, мол, собирается застрелить Эггера. Поскольку он и вправду решительно направился в сторону дома Эггера, а Шварц и без того знал, что Эггер в деле о лошади поддержал Хербста, он стал думать, как же ему поступить. Предупредить Эггера? Сообщить жандармам? У него не было телефона, поэтому он не мог ничего предпринять немедленно. А когда он наконец решился предупредить Эггера, было уже поздно. Другой завсегдатай трактира рассказал, что Шварц прибежал во двор Эггера спустя некоторое время после того, как туда приехали двое жандармов. Один из них, мол, как раз ворвался во двор и обнаружил трупы. Когда этот жандарм дал предупредительный выстрел, так как полагал, что Люшер еще прячется где-то в доме, Шварц подошел ко второму жандарму и рассказал, что Люшер ему угрожал. Этот второй жандарм еще сидел в машине, у него случился сердечный приступ, и его стошнило. Потом трактирщик поведал, что Люшер, совершив второе убийство, столкнулся еще с двумя жителями деревни, угрожал им, а они успели позвонить последнему оставшемуся в живых коннозаводчику и предупредить его, чтобы тот спасался вместе со всей семьей. Мнения о том, собирался Люшер убить одних мужчин или истребить всю семью, расходились. В конце концов, он застрелил жену одного, но пощадил жену и маленьких детей другого. Кто-то высказал предположение, — оттого, мол, что жена Хербста, когда Люшер застрелил ее мужа, упала в обморок. При этом посетитель трактира сослался на слова одного жандарма. Ашер пил пиво и слушал. Пиво было ледяное, вкусное. Расходились мнения и о том, когда именно Люшер столкнулся с жандармами, до или после того, как он застрелил Эггера и его жену?
В дверь постучали, посетители тотчас умолкли, а трактирщик взял в руки ружье, лежавшее возле запертой входной двери. Но это оказался гробовщик из Мальчаха, который хотел заправить машину. И заправка, и магазин принадлежали трактирщику. Они были закрыты, и потому гробовщик постучался в дверь трактира. Волосы у гробовщика растрепались, галстук сбился набок, пальто было расстегнуто. Но Ашеру показалось, что тот совершенно не испытывает страха.
— Я слышал, вы врач, — сказал он, заметив Ашера.
При этом он нахмурил брови, а его лицо утратило всякое выражение. Не глядя на Ашера, он спросил, не хочет ли он поехать с ним. Все случившееся, подчеркнул он, может иметь «определенный интерес для врача», он полагает, что «такая возможность представляется нечасто». Он произнес это скорее укоризненно, нежели с важностью, хотя Ашеру все-таки почудилась в его голосе какая-то надменность. Ашер встал, собираясь расплатиться, но трактирщик только махнул рукой.
— Сегодня за счет заведения, — сказал он.
Он вышли на заправку, и Ашер сел в черную машину гробовщика. Заливая в бак бензин, гробовщик — не без гордости, — как показалось Ашеру, продолжал, что, мол, у него в доме собрались сотрудники уголовной полиции, жандармы, журналисты и даже судмедэксперт в ожидании результатов вскрытия.
— С каждым из убитых я был знаком лично, — сообщил он, а потом еще раз вышел из машины, чтобы расплатиться.
Ашер остался сидеть на пассажирском месте, сбоку от осиротевшего руля, и ждать, когда же вернется гробовщик. Теперь ему хотелось пройтись пешком, тающий снег наводил на мысли о весне, да и воздух был теплый.
Гробовщик опять сел за руль, и они поехали по опустевшей деревне в направлении Арнфельса. Навстречу им двигались машины с любопытными, которые слышали об убийстве и хотели своими глазами увидеть место преступления. Один раз их остановил жандармский патруль. В машине было очень жарко, и Ашер вздохнул с облегчением, когда гробовщик опустил стекло, чтобы подать жандарму документы. Солнце светило по-прежнему, и Ашером все сильнее овладевало ощущение, что сидеть в машине и осматривать тела людей, которых он при жизни и знать не знал, — какая-то нелепость. Когда они свернули с дороги к дому гробовщика, оказалось, что во дворе не повернуться от припаркованных машин и толкающихся людей. Некоторые, стоя на погрузочной платформе, заглядывали в контору гробовщика, кто-то смеялся над чьим-то замечанием. Они посторонились, даже не взглянув на машину. Большинство явно были городские, и, со своими пальто, шляпами и элегантной обувью, они показались Ашеру ряжеными. Глядя на них, он силился подавить гадливость и презрение. Они медленно подъехали к продуктовому магазину, остановились и вышли. Гробовщик, которому, как он сообщил Ашеру, заказали гробы, так как похороны оплачивала община, торопливо зашагал к входу в одно из зданий. Перед этим он на минутку забежал в продуктовый магазин и появился оттуда, с аппетитом поедая булочку с сыром. Он извинился за это перед Ашером, сказав, что этот, как он выразился, «прискорбный случай», мол, совершенно нарушил привычный для него распорядок дня. Ашер ответил, что вполне понимает.
Сначала он провел Ашера через маленькое помещение с каменной скамьей, раковиной и забытым на гвоздике полотенцем. Здесь он-де прежде готовился к погребениям, сказал гробовщик, и облачал покойников. Он приподнял брезентовый занавес и показал Ашеру то, что за ним скрывалось. В глубине комнаты стояла черная карета-катафалк со стеклянным саркофагом; однако в катафалке приютился не гроб, а всего-навсего черный плащ и черная шляпа с перьями. Не успел Ашер взглянуть на погребальную карету, как гробовщик уже опустил брезент и прошел вперед, пригласив Ашера последовать за ним. По деревянной лесенке они взобрались на извилистый, вроде коридора, чердак, где были прислонены к стенам всевозможные гробы.
Сперва шли те, что поменьше, обтянутые серебряной фольгой, причем каждый следующий был несколько больше предыдущего, потом большие деревянные гробы, американский пластмассовый гроб и, наконец, «личное изобретение» гробовщика, как он поспешно объяснил Ашеру. Этот гроб предназначался для того, чтобы замедлить процесс разложения, уточнил он и заверил Ашера, что рано или поздно добьется выдачи на него патента. Пока он не мог решить, какую модель предпочесть. В конце концов, он выбрал гроб, сколоченный из желтых досок и украшенный декоративными планками, повернулся и устремился через двор к себе в контору. Один раз он обернулся и подождал, пока Ашер не пробьется сквозь густую толпу, а потом снова кинулся бежать с такой скоростью, что, когда Ашер вошел в контору, он уже сидел за письменным столом.
— Это мой сын, — представил гробовщик, указывая рукой на улыбающегося высокого человека, стоявшего на пороге столярной мастерской.
Там громоздились гробы, почти готовые, не совсем готовые и совсем не готовые; на стопке декоративных планок лежал рубанок.
— Столяров я отправил домой, сегодня невозможно работать, — сказал сын.
Он отворил следующую дверь, за которой в коридоре возле катафалка беседовала компания каких-то мужчин. Вот тот, прошептал Ашеру гробовщик, — это бургомистр. Он как раз объяснял сотруднику уголовной полиции, что Люшер две недели тому назад, проиграв процесс, подавал ему жалобу на Эггера, Хербста и третьего коннозаводчика, но он не придал этому значения, ведь Люшера все считали усердным и «порядочным» человеком. Можно сказать, что соседи его любили. В молодости его упрекали в том, что он, дескать, не удержал от самоубийства отца, но человек он был достойный, вел жизнь самую размеренную, и потому пользовался уважением односельчан. Однако он никогда ни с кем не обсуждал несправедливости, выпавшие на его долю, и принимал близко к сердцу неурядицы, над которыми другой на его месте пошутил бы, да и забыл. Бургомистр был высокий, плотный, слегка сутулый. У него были густые седые волосы и светлые глаза; рассказывая о Люшере, он не спускал озабоченного взгляда с Ашера и с сына гробовщика. Впрочем, взгляд у него был не испытующий. Ашеру показалось, что бургомистр рад слушателям, чтобы в негодовании и в запальчивости не склониться к преувеличениям и не возложить на преступника бог весть какую вину. Сотрудники уголовной полиции, обступившие его, курили и кивали. Потом какой-то человек среднего роста, лысый, с большой печаткой на пальце, спросил, может ли Люшер покончить с собой.
— Ведь он, возможно, осозна́ет, что́ совершил, — предположил он.
Бургомистр пожал плечами.
— Как вы думаете, он не уйдет? — продолжал он выспрашивать бургомистра.
— Не знаю, — произнес бургомистр, — пусть разбирается жандармерия. Он производил впечатление человека любезного, но подавленного случившимся.
Конечно, бургомистр стремился самоутвердиться и показать, что владеет ситуацией, однако Ашер понял, что внезапность трагических событий и масштаб преступления его угнетают. Поэтому у него сложилось впечатление, что бургомистр радуется, когда кто-то здоровается с ним или дает понять, что его хлопотной должности не позавидуешь. Ашер подошел ближе к двери и заглянул в облицованную плиткой, ярко освещенную комнату. На металлическом столе лежало тело мужчины. Толстяк-врач в очках без оправы как раз мыл руки. Двое в пальто и меховых сапогах двинулись к Ашеру и строго спросили, что он тут забыл. Ашер объяснил, попросив извинения.
— Не за что, — перебил его один из незнакомцев и захлопнул дверь. В голосе его слышалась грусть и презрение.
— Вы хотите поучаствовать во вскрытии? — спросил гробовщик в то же мгновение. — Я поговорю с судебным врачом. Он будет рад, если вы ему поможете.
Ашер отказался, но заметил, что разочаровал гробовщика. Расстегнутое пальто гробовщик так и не снял, на его усах повисла крошка от булочки с сыром.
— Ну, а я уж такого зрелища не упущу, — сказал он.
Его сын между тем уже скрылся в прозекторской, а гробовщик, не заметив, чтобы Ашер раскаивался в своем отказе, последовал за сыном.
Столпившиеся у похоронного бюро зеваки казались совершенно праздными, они словно ожидали известия, которое все им разъяснит. Под арками по-прежнему валялся всякий хлам, да и ботанический сад почти не изменился. На ветвях плакучей ивы поблескивали капли воды. Ашер дошел до проезжей дороги. Через некоторое время он почувствовал усталость, остановил грузовик, перевозивший уголь, и попросил водителя подбросить его до Оберхаага. Шофер слышал о преступлении, но хотел знать подробности.
— Не надо было отменять смертную казнь, — заключил он.
30
Уже в начале пятого стемнело. Ашер снял комнатку на постоялом дворе при трактире и купил у хозяина носки и кусок мыла.
После обеда он собирался вернуться домой, но не нашел никого, кто бы его отвез, а стемнело так быстро, что он бы не добрался пешком, вот он и решил переночевать в Оберхааге. Он принял горячую ванну и растянулся на кровати. Лежал, лежал так, и заснул. Через какое-то время он распахнул ставни и выглянул на улицу. По деревне как раз проезжала жандармская патрульная машина, а в остальном Оберхааг словно вымер. Во многих домах не горел свет. Ставни были закрыты, и, казалось, люди в темноте ждут, что будет дальше. Было около семи.
— Только сейчас они постепенно осознаю́т, что случилось, — сказал трактирщик, когда Ашер спустился в зал. На постоялом дворе как раз остановились два журналиста, передававшие репортажи в город. Возле входной двери у трактирщика по-прежнему лежало ружье, а за стойкой он прятал пистолет, который сам показал Ашеру. Он был рад, что есть с кем посудачить. Сначала по радио транслировали сообщение о розыске опасного преступника, потом бургомистр проехал по улице на машине с громкоговорителем и призвал жителей не покидать свои дома. Он повторил, что всех будут охранять. Нет никаких оснований для паники. Прослушав сообщение по радио, трактирщик включил телевизор. Из кухни вышла в белом халате жена трактирщика, которая впервые видела Ашера, и стала молча слушать. По телевизору показали фотографии деревни, жандармов и убитых, и добавили, что жандармерия пока прекратила поиски преступника и ограничилась охраной в деревне «лиц, которым он угрожал». На следующий день поиски будут продолжены, кроме того, дали знать «югославским властям». Прослушав репортаж, трактирщик сказал:
— Они прочесали весь лес. Уму непостижимо, что его до сих пор не нашли. Либо он застрелился, либо вернулся и где-то прячется. Зачем ему хорониться в лесу? Наверняка он возвратился в деревню. Сараев, сеновалов да брошенных домов у нас сколько угодно.
Какое-то время он обсуждал с журналистами, которые спустились из своих номеров, места, где можно спрятаться. Они слушали трактирщика, потягивая вино. Больше никого в зале не было. Журналисты задавали трактирщику все новые и новые вопросы и кивали, но время от времени, как заметил Ашер, обменивались ироническими усмешками. Прежде всего они хотели разузнать про Люшера, но трактирщик только пожал плечами и ответил вопросом на вопрос:
— Ну, что мне вам сказать?
Он повторил, что Люшер-де не выделялся «ничем особенным». С другой стороны, он лично знал его плохо, потому что в трактиры Люшер не захаживал. Затем один из журналистов спросил о составе местного совета, и они заговорили о политике.
Ашер подметил, что все эти расспросы их не занимали. Они откровенно скучали. Как шулеры, они толкали друг друга под столом ногами или корчили рожи, стоило трактирщику отвести глаза.
— Социалистов у нас всегда было мало, — ответил трактирщик. — В местном совете — не больше пяти из пятнадцати, да и на выборах в ландтаг они никогда не получают много голосов.
А в сущности он, мол, политикой не интересуется. Он вырыл рыбные пруды и содержит трактир, и ему этого хватает, — «как вы понимаете», добавил он, немного помолчав. Общаться с журналистами ему явно нравилось, впрочем, он, похоже, вообще любил поговорить. Вскоре Ашер поднялся к себе в номер.
Время от времени по улице проезжала машина с включенными фарами, но ни в одном доме не горел свет. У въезда в деревню стояла жандармская патрульная машина, и двое жандармов с автоматами наперевес медленно шли в сторону федеральной трассы.
31
Когда Ашер спустился к завтраку, ставни были распахнуты, ружье у двери исчезло, открылись и ставни соседних домов, а люди, как ни в чем не бывало, занимались своими делами. Трактирщик вышел из-за стойки и объявил: в утренних известиях сообщили, что Люшера схватили в Югославии. Он подождал, что Ашер на это скажет. Однако Ашер в эту ночь спал очень крепко, после чего обычно, не испытывал никакого желания разговаривать.
— Его поймали еще вчера вечером, просто не хотели сразу сообщать, — сказал трактирщик.
Он взял стопку газет и положил их на стол перед Ашером. Потом он спросил у него, что́ он закажет на завтрак. Он сходил в кухню, вернулся с большой чашкой кофе и поставил ее перед Ашером. Ашер успел за это время пролистать газеты, и трактирщик показал ему фотографию, на которой был запечатлен он сам среди любопытных.
— Только это случилось, а я уже тут как тут, — пояснил он.
Он начал было рассказывать о Люшере, потом перебил себя сам:
— Вы позволите? — и подсел за столик к Ашеру.
В Югославии, мол, Люшер утверждал, продолжал трактирщик, что хотел только напугать своих жертв. Но от волнения у него-де так дрожали руки, что он случайно нажал на курок, ненамеренно. Кроме того, он утверждал, что был пьян. Однако жена его показала на допросе, ввернул трактирщик, что он и выпил-то утром всего глоточек плодового вина, так что он врет. Само собой, пытается выкрутиться.
А что касается его самого, то он — за смертную казнь, хотя знает Люшера лично.
— Того, кто совершает такое, нельзя оставлять в живых, — провозгласил он.
После завтрака Ашер позвонил жене, она тоже не удержалась и зачитала ему важные, по ее мнению, газетные заметки.
— Береги себя! — напомнила она.
Ашер заверил, что у него все хорошо и ей не стоит о нем беспокоиться.
Потом он заплатил трактирщику за разговор и попрощался.
Снова вышло солнце, погода прояснилась. Мимо прошла женщина с корзиной на голове, в корзине лежали покупки в коричневых пакетах. Он медленно спустился по ступенькам. Во дворах хлопотали крестьяне, все было, как всегда. За трактиром виднелся рыбный пруд, затянутый серой коркой льда, снег на ней замерз тысячей крошечных островков, испестрив поверхность пруда, точно цветочную чашечку. Солнце освещало все вокруг. Ашер с удовольствием вдыхал холодный зимний воздух, он немного погулял между полями, на которых уже побурел снег и обнажилась черная земля. Пройдя из конца в конец длинное поле, он повернул назад и по запятнанному старым снегом лугу зашагал назад в деревню. Бродил он недолго, но наслаждался прогулкой. На бензоколонке семейство, спасшееся от Люшера, разговаривало с жандармом. Глава семьи был среднего роста, с приглаженными, набриолиненными темными волосами и с носом-картошкой. В одной руке он держал перчатки, другую сунул в карман пальто. Ашер узнал его по фотографии в газете. Тут ему пришло на ум посмотреть на дом Люшера.
Сначала он зашел в клуб верховой езды.
По сравнению со вчерашним днем, когда вокруг кишмя кишели жандармы, он изменился: казался больше и просторнее и был исполнен спокойного достоинства. Ашер прошел во двор, ставни на окнах были распахнуты. Во дворе он увидел обоих журналистов: они расспрашивали двух конюхов и что-то записывали в блокноты. В ветвях дерева запутался воздушный шарик на длинной нитке, обмякший — наверное, он висел там уже давно. В остальном все было в порядке. Он прошел мимо журналистов и услышал, как один из конюхов говорит, что, мол, накануне потребовал, чтобы его охраняли жандармы, потому что не решался один кормить и чистить лошадей. Он-де опасался, что Люшер вернется пристрелить хозяйку, а возможно, рассчитается и с ним, хотя он-то тут каким боком.
— Не мы же вели дела, — добавил другой.
Оба конюха были плотного телосложения, молодые, в шапках и рабочих комбинезонах и вели себя вызывающе. По-видимому, они были недовольны действиями полиции и своим служебным положением и злились на Люшера.
— По-моему, на такое способен только сумасшедший, — сказал первый.
Ашер остановился и прислушался к разговору.
На вопрос журналиста, хорошо ли они знали Люшера, другой конюх сказал, что Люшер и Хербст давно дружили. Люшер каждое воскресенье приходил к нему на кружку вина.
— А сыну его всегда давал по шиллингу. Но не сумел понять, что в жизни приходится терпеть несправедливость.
С другой стороны, добавил второй конюх, хозяин он был усердный, всегда отличался на учениях добровольной пожарной дружины и почти никогда не ходил в трактир. Финансовых затруднений у него не было. Да и дома, в семье, у него все было ладно. Конюх отвечал враждебным тоном, да и его приятель все более раздражался, а под конец при каждом ответе первого разражался злобным хохотом. Возле дома была припаркована машина, в открытых дверях одной из хозяйственных построек поклевывали куры, дверь в конюшню тоже была распахнута. Ашер подошел поближе и заглянул внутрь. С десяток гнедых лошадей стояли в дощатых денниках, посередине перегороженных металлической трубой. Пол был устлан соломой, время от времени какая-нибудь из лошадей начинала беспокоиться, но остальные только медленно поворачивали к ней головы и пристально смотрели на нее большими глазами. Откуда ни возьмись явился низенький человек в резиновых сапогах и уставился на него. Ашер притворился, будто его не замечает, и тогда человечек с ним заговорил. У него была маленькая, как у ребенка, головка, говорил он срывающимся голосом. В руках он держал скребницу, вероятно, он только что чистил лошадей.
— Вы часом не из газеты будете? — спросил он.
Когда Ашер сказал, что нет, на лице у коротышки изобразилось разочарование. Волосы у него свисали на лоб сальными космами, щеки отекли, глаза отливали нездоровым блеском. Он явно не протрезвел после вчерашнего и страдал от похмелья.
— А я было подумал, что вы из газеты, — сказал он.
Он принялся чистить лошадь, выдерживая паузу. Потом заявил, что вдова убитого владельца больше не хочет держать конюшню. Ашеру показалось, что он, несмотря на разочарование, во что бы то ни стало хочет поговорить. Он просто должен был выложить кому-то все новости, по крайней мере, кого-то ими ошеломить.
— Да ей всегда было наплевать на эту конюшню. А теперь она ее продаст, — продолжал он.
А поля-де собирается сдать в аренду. Он шагнул к окну и поднял жалюзи.
— Посмотрите-ка сами, поля немаленькие. От церкви до вон тех соседских земель — всё их угодья.
По здешним меркам, Хербст был состоятельным человеком, одним из крупных фермеров деревни. Да и Эггер был человек небедный.
— А теперь-то что, и богатство их не спасло, — заключил коротышка.
Он прервал беседу, а поскольку Ашер не сразу это понял, он, взявшись чистить лошадь, оттеснил его в сторону, как будто он ему мешал.
За конюшней находился коровник, тоже чистый и ухоженный. Это было длинное, душное помещение. Рядом с коровником возвышались две силосные башни, под навесом стояли два трактора и лежали сельскохозяйственные инструменты. Жилой дом, решил Ашер, построен сравнительно недавно, лет десять тому назад, а вот кухня обставлена совершенно непритязательно. Ашер и прежде видел такое в домах других зажиточных фермеров: на комфорт мало кто обращал внимание. Люди побогаче тоже привыкли жить просто и скромно обставляли дома.
Тем временем журналисты успели взять интервью. Он натолкнулся на них за коровником. Журналисты собирались сразу отправиться к жене Люшера, и потому они вместе двинулись мимо маленькой белой часовни по направлению к Заггау.
32
Ферма Люшера состояла из жилого дома, полускрытого высокими ореховыми деревьями, и двух хозяйственных построек поменьше, вероятно, хлева и гумна. Хлев, как и дом, был выкрашен желтой краской, на одном из окон стояла забытая мухоловка. Когда к жене Люшера заявились журналисты, она вместе с его матерью работала во дворе. Мать была невысокая, во время разговора она стояла подбоченившись и выставив вперед ногу. У нее были подвижные брови, с каждым словом они то сходились, то приподнимались, то снова опускались, словно жили своей собственной жизнью. Но двигалась она медленно и неторопливо, да и взгляд ее выражал озабоченность. Напротив, жена Люшера была выше ростом, плотная, у нее были темно-русые волосы, и носила она, так же, как и ее свекровь, свитер, косынку и передник. Ашер поздоровался с женщинами, те, в свою очередь, пожелали ему доброго утра, тут с ними поздоровались и журналисты, показав удостоверения и представившись. Первой заговорила старуха. Она не опускала глаза перед журналистами, а наоборот, пристально всматривалась им в лицо, словно искала повод поспорить. Голос у нее дрожал, но Ашеру показалось, будто она действительно говорит, что думает.
Ее сына-де всегда надували. Он ведь все это совершил не из-за каких-то там трех тысяч шиллингов.
— Он просто не вынес, когда его в очередной раз провели, и решил бороться даже за такую маленькую сумму, — сказала она.
Журналисты молча записывали все, что она говорила, и старуха, заметив это, совсем растерялась. Он-де не одну неделю «убивался, оттого, что они с ним что хотели, то и делали», продолжала она. Перед тем как похитить ружья, Люшер, мол, сказал сыну, «не позволяй товарищам тебя использовать, а то будет, как со мной».
Нормальный человек, перебила ее невестка, смекнувшая, что, если она изловчится, сумеет помочь мужу, нормальный человек разве может «средь бела дня» так просто взять, да и застрелить кого-нибудь? Да еще при том, что дома у него все путем.
— Я не могу себе представить, — неожиданно сказала она, — что ему дадут большой срок, а другие легко отделаются. Тогда я все глаза выплачу.
Когда рано утром к ней пришел бургомистр с известием, что ее мужа арестовали югославы и что он сдался, она-де испытала облегчение, и только теперь понимает, какой позор, какое горе на нее обрушились. Старуха тотчас заплакала.
Если поначалу Ашеру казалось, что жена Люшера заплакала, чтобы избавиться от необходимости что-то кому-то объяснять, то сейчас она плакала искренне. Достаточно было самой малости, чтобы беспомощность перешла в отчаяние.
В углу двора на снегу стояла маленькая железная печка. Вокруг, переваливаясь, бродила стайка уток, на снегу валялись куски хлеба. Ашеру захотелось уйти от журналистов. Сначала один оказался полицейским в штатском, потом они стали задавать вопросы. Все ответы они записывали. Один из них был лысый, маленький, подвижный, другой — темноволосый, полноватый, в роговых очках. По дороге лысый отпускал циничные замечания, а другой неизменно разражался взрывом хохота. Вчера-де ему пришлось и в домах жертв, и в доме убийцы искать фотографии, и его как следует выругал жандарм. Жена Люшера дала ему фотографию мужа, и, едва показав, хотела отобрать, но ему удалось ее переубедить.
— Да, знаю, я эту фотографию сегодня видел, — подхватил другой.
— Вы нас сейчас, конечно, презираете, — вдруг сказал первый журналист, обращаясь к Ашеру.
Они прошли мимо двора, в котором стояла красная пожарная машина.
— Вот так всегда, с одной стороны, они хотят все знать, а с другой стороны, нас презирают, — словно оправдываясь, добавил он.
— Будь воля читателей, нам пришлось бы сообщить все до мельчайших подробностей. И чем отвратительнее детали, тем они читателям интереснее.
33
К обеду внезапно распространилась весть, что жандармы привезут Люшера в деревню. Ашер как раз хотел отправиться домой. Еще не поздно было пойти пешком, но нужно было поторопиться: перспектива быть застигнутым темнотой на дороге его мало привлекала. Может быть, ему удастся доехать на попутной машине до Вуггау, а там уж он решит, как добраться до дома. Кроме того, ему придется еще натопить печь и, может быть, посидеть полчаса в ресторанчике при магазине. Он пообедал в трактире и шел по деревне, когда его окликнул один из тех, с кем он вчера пил пиво за одним столом.
— Пойдемте, — пригласил он, — его сейчас привезут на допрос в здание местного совета.
Здание местного совета располагалось при въезде в деревню, между кладбищем и маленьким светло-желтым домиком с вывеской «Оберхаагский холодильный склад». Напротив красовалась новостройка — отделение Райффайзенбанка. Когда он подошел поближе, у входа уже собралась толпа: мужчины в рабочих комбинезонах, женщины в передниках, некоторые в черных пальто и платьях, с платками в руках. Попадались среди зевак и дети. Было по-прежнему тепло и солнечно, словно уже наступил март, когда последний снег совсем растает, — Ашер с нетерпением ждал прихода настоящей весны. Некоторые мужчины взобрались на тракторы, кое-кто выглядывал из окон и из-за заборов, а вход в местный совет охраняли двое жандармов.
— Смотрите-ка! — воскликнул его знакомец, обрадовавшись, что оказался прав. — Недолго ему оставаться безнаказанным!
Бургомистр вышел из здания местного совета и заговорил со стариком, который снял шляпу и прижал ее к груди. В это мгновение Ашер заметил председателя производственного совета шахты. Тот стоял всего в нескольких шагах от Ашера и улыбнулся, когда его увидел.
— Ну, что вы скажете? — обратился он к Ашеру.
Он подождал, пока Ашер пожмет ему руку, а потом снова повернулся к улице, не сводя глаз с въезда в деревню.
— Вы его знали? — спросил Ашер.
— Кого? Люшера? Вы говорите так, будто он уже умер.
Ашер и в самом деле думал о нем как о человеке, которого уже нет в живых. В тот миг, когда он совершил преступление, он словно перешел в иную сферу существования, чуждую для всех остальных. «Каким он был?» — спрашивали журналисты, точно он уже умер. Заработал обычный механизм. Его жизнь прервалась со смертью троих людей, которых он застрелил. Казалось, что он всех перехитрит, если выйдет на свободу и возобновит свою прежнюю жизнь. Никто больше не захочет принять участие в его судьбе. Конечно, все будут знать, что он сидел в тюрьме, все будут воспринимать это как нечто настолько естественное, что просто перестанут удивляться, думал Ашер.
— Он одиночка, — сказал старик. — Когда с кем-нибудь обходились несправедливо, как потом с ним, он и в ус не дул, другие-то в его глазах не такие законопослушные, как он, вот он и считал, что они свои несчастья заслужили. Он думал, что в мире все устроено как надо, вот только на него вдруг обрушилось такое несчастье. Поэтому и попытался восстановить порядок.
Он зажал в зубах деревянный мундштук и закурил.
— А теперь он сам видит, что происходит. Он этого не поймет.
Он вытянул руку, указывая на въезд в деревню.
— Вон его везут.
Ашер увидел, как в деревню въезжают зеленые, лакированные жандармские автобусы-«фольксвагены». Не сбавляя скорости, они подъехали к зданию местного совета и резко затормозили. Открылись дверцы, и по ступенькам поспешно спустился щуплый человек в рабочем комбинезоне, с крупным орлиным носом и расчесанными на пробор волосами. Он был в наручниках, его окружали несколько жандармов в плащах. Не успел он выйти из автобуса, как кто-то выкрикнул: «Повесить его!», — а женщины в черном заголосили и зарыдали. Люшер злобно покосился на них, а потом скрылся в здании местного совета.
Ашер не в силах был осознать, что этот человек совершил три убийства, он производил впечатление затравленного и неловкого, двигался размеренно, а в лице было что-то, вызывавшее сострадание. Женщины в толпе рыдали, Ашер неожиданно узнал худое лицо приходского священника. В синей шляпе с узенькими полями, в демисезонном пальто, он стоял среди любопытных, согнув в локте руку, словно сжимая под мышкой портфель. Его откинутая назад голова напоминала голову какой-то птицы. Когда кто-то обратился к нему, он повернулся и пожал руку плачущей женщине. Тем временем жандармы провели в здание местного совета мать и жену Люшера. Поднимаясь по лестнице, жена закрыла лицо руками, но, как показалось Ашеру, лишь для того, чтобы не видеть зевак.
Старик показал мундштуком на Местный совет и предложил:
— Пойдемте.
34
Они направились в трактир, располагавшийся наискосок от местного совета, и председатель подошел вместе с ним к стойке и взял кружку пива.
— Ребенком я больше всего страдал оттого, что меня здесь презирали, даже не столько меня, сколько моего отца… — начал он.
Он на минуту замолчал и отпил большой глоток.
— Мы были не в силах это переломить. Вот мы и начали презирать себя самих и всех, кому выпала такая же судьба. И многие до сих пор не изжили это презрение к себе, очень многие. Раньше батраки и служанки спали у фермера на чердаке или в хлеву, а женатому батраку на всю семью выделяли домик виноградаря. А вы только посмотрите, где эти домики: чаще всего — на самых крутых склонах. Если виноградарь и владел участком земли, то уж точно наихудшим. И сегодня мелкие фермеры выбиваются из сил, возделывая крошечные участки на крутых склонах, и сегодня фермеры позажиточнее служат для них предметом зависти. Крестьяне, владевшие землей, всегда считали батраков идиотами. Они смеялись над их глупостью, а на самом деле их вполне устраивало, что они такие глупые. Когда хозяева нуждались в рабочих руках, батракам запрещалось ходить в школу, когда им исполнялось двенадцать-четырнадцать лет, они начинали гнуть спину наравне со взрослыми. Конечно, встречались хозяева похуже и получше, конечно, обращались с ними не всегда жестоко, но в сущности все было едино. Батраков всегда презирали. Когда они напивались, над ними издевался и стар, и млад, а над пьяным крестьянином только безобидно подшучивали. Батрак не имел права давать хозяину совет, если его о том не спрашивали, а ими самими фермеры командовали как хотели: сделай, подай, принеси, — на них так и сыпалось. Люшер тоже испытал это на себе. При этом он чтил закон. Ему еще в школе внушили, что закон сильнее его. Если сам он будет поддерживать закон, значит, ничего плохого с ним не случится, думал он. Я часто задавал себе вопрос, что сделало местных жителей такими послушными и сговорчивыми, и думаю, это их маленькие земельные наделы. Стоило дать виноградарю даже крошечный участок земли, как он сразу менялся. Не было ни одного мелкого крестьянина, бедняка из бедняков, который бы не цеплялся изо всех сил за свой крохотный надел, ни одного, кто, получив клочок земли, не ценил бы его превыше всего на свете. Только теперь, когда они стали работать в городах, на заводах, они начинают прозревать.
Он допил пиво и пожал Ашеру руку. Потом, толкнув стеклянную дверь, вышел на улицу и исчез в толпе.
35
Поскольку было уже поздно и возвратиться домой пешком до наступления темноты он не успевал, Ашер собрался было еще раз заночевать в деревне, но, распрощавшись с председателем производственного совета, он встретил жандарма, с которым познакомился на свадьбе сына Хофмайстера и который впустил его в дом убитого Хербста. Люшера только что увезли, через несколько дней полиция приедет осматривать место преступления, сообщил он в трактире. Он по-прежнему был в униформе и едва держался на ногах от усталости: прошлую ночь он почти не спал, дежурил у двора Люшера, на случай, если бы тому пришло в голову спрятаться дома. Форменную фуражку он положил на стол донышком кверху и сидел, подперев рукой щеку. Он не стал пить, только выкурил сигарету и немного передохнул, прежде чем отправиться домой. «Если хотите, я вас отвезу», — обратился он к Ашеру. После чего резко поднялся и впереди Ашера двинулся к своей машине. Это была видавшая виды зеленая «симка», на переднем сиденье лежал мешок соевой муки. Жандарм, кряхтя, тяжело опустился на водительское сиденье, перевалил мешок на заднее и открыл Ашеру дверцу. Сначала они ехали молча. Жандарм неподвижным взглядом следил за дорогой, уставившись в лобовое стекло, и помалкивал. Потом он вдруг принялся рассказывать о Люшере.
— Знаете, все это было очень неприятно, — признался он. — Я ему не сочувствую, но, будь моя воля, не стал бы его караулить, в конце концов, я же его знал.
Он посмотрел в зеркало заднего вида, остановился, пропустил другую машину и свернул в Вуггау. Люшер-де отрицал, что имел намерение застрелить своих жертв, снова начал он. Солнце еще не успело сесть, и на севере перед ними внезапно открылись высокие заснеженные горы, облитые необычайным желтым светом, с теряющимися в белых облаках вершинами, — а весь остальной ландшафт уже погружался в сумерки. Жандарм снова закурил, открыл маленькую форточку у руля, и через нее с шумом ворвался воздух. Он-де сказал, продолжал жандарм, что раскаивается в совершенном, но сделанного не воротить. Потом его допросил обер-лейтенант, — жандарм назвал фамилию. Этот обер-лейтенант — спокойный, уверенный в себе человек, который, в отличие от прочих жандармов, не знал Люшера. Еще когда Люшера только привели на допрос, у всех возникло чувство, что он не станет запираться. Обер-лейтенант проводил допрос умело, когда нужно, кивал, завоевал его доверие и чаще всего делал вид, будто понимает Люшера. А потом внезапно задавал вопросы, которые ставили Люшера в тупик. При каждом его ответе обер-лейтенант опять-таки кивал или с сомнением качал головой, и поэтому Люшер всякий раз мог понять, как воспринимаются его показания, и начинал говорить не так скованно.
Жандарм затормозил у трактира в Вуггау и попросил Ашера минутку подождать: он только заберет ящик пива. Ашер кивнул, и жандарм вышел. В лесопильне на берегу Заггау кипела работа, и Ашер из машины мог видеть, как древесные стволы небольшим краном поднимают в лесопильный цех, зажимают в механизме и пропускают через пилораму. Ствол выходил с другого конца, уже разрезанный на доски, и двое рабочих укладывали доски штабелями. Через некоторое время вернулся жандарм с ящиком пива, поставил его в багажник и снова сел за руль. «Всюду расспрашивают о Люшере», — сказал он, включая зажигание. Он с озабоченным видом развернулся, не отрывая глаз от заднего стекла. Ашер сказал, что на дороге никого нет.
— Спасибо, вижу, — откликнулся жандарм и выпрямился на сиденье. Теперь дорога шла круто в гору.
— Обер-лейтенант действительно проводил допрос умело, — повторил жандарм.
Он улыбнулся, словно разговаривая сам с собою и еще раз мысленно переживая всю эту сцену. Когда Люшер стал уверять, что, мол, не имел намерения убить Эггеров и Хербста, обер-лейтенант возьми да и спроси: правда ли, что он прицелился, но ружье выстрелило само? Люшер сказал, все дело, мол, в том, что у него дрожали руки. Тогда обер-лейтенант спросил, неужели такое повторилось трижды, и Люшер ответил, что сам уже не осознавал, что делает. Это обер-лейтенант велел занести в протокол.
У забора стояли двое мужчин и разговаривали, однако, узнав жандарма, прервали беседу и махнули ему рукой. Жандарм в знак приветствия тоже поднял руку. С другой стороны, продолжал жандарм, допрашивать Люшера было чрезвычайно тяжело. Он бросил взгляд на часы. Он сильно волновался, а по временам был просто не в себе. Несколько раз он принимался ожесточенно жестикулировать и раз или два обозвал своих жертв негодяями, и тогда обер-лейтенант напоминал ему о необходимости вести себя прилично. Однако Люшер пропускал эти напоминания мимо ушей и пытался убедить всех в том, что жертвы-де его обманули. Он, мол, всегда только гнул спину и исправно платил, а другие забирали себе прибыль, а его еще и высмеивали. Затем обер-лейтенант спросил его, до чего же дойдет страна, если за долг в несколько тысяч можно будет безнаказанно убивать людей, и Люшер тотчас же спросил:
— А долг в несколько тысяч, — это какой именно?
— Я только пытаюсь установить, как все произошло, — ответил обер-лейтенант.
Он подождал, пока Люшер не успокоится, и перешел к выяснению «обстоятельств совершения преступления», как назвал это жандарм. Они доехали до первого большого, поросшего лесом холма, и дорога какое-то время шла по его широкой вершине. Внизу виднелись холмы поменьше, на них — домики, из каминных труб шел дым.
— Хорошая погода продержится долго, — сказал жандарм.
— Да, прямо весна, — откликнулся Ашер.
— Вот только темнеет рано, — вставил жандарм.
Облака растворились в сумерках.
— У меня такое чувство, — продолжал жандарм, — что Люшер, пока был в бегах, придумал себе такую легенду, что, мол, все забыл.
Он показал на допросе, что якобы только от югославского майора узнал, будто убил троих человек. Но он-де ничего не помнит об этом, и все из-за «жути». Под «жутью», как сказал Люшер обер-лейтенанту на допросе, он имеет в виду «смертельный страх», оттого он, мол, и «убежал в холодном поту». В конце концов, он показал, что помнит следующее: застав Эггера в винном погребе, Люшер быстро подошел к нему. Вдруг раздался выстрел, и Эггер упал мертвым, а Люшер кинулся было бежать. Тут на него набросилась жена Эггера с криком: «Мерзавец!», — и он оттолкнул ее прикладом. Тут раздался второй выстрел, и женщина тоже упала, — а для Люшера все было кончено, ведь он лишил жизни двоих. Но здесь обер-лейтенант остановил его и спросил, как же это он, увидев двоих убитых, потом еще направился к Хербсту. «Я не осознавал, что делал», ответил на это Люшер.
— И все-таки вы зарядили ружье в третий раз, — напомнил ему обер-лейтенант, и тогда Люшер повторил все, что сказал до этого. Какое-то время все молчали, а потом Люшер сказал, что ему стало так жутко, что он сам не знал, что делает. Обер-лейтенант подумал и спросил, испытывал ли он раньше приступы страха, и Люшер ответил:
— Да, еще какие — жуть просто до костей пробирала.
Вот и тогда, Люшер имел в виду — накануне, в день убийства, «страх его обуял», «даже руки и колени дрожали». Смертельный страх, врагу не пожелает. Почему, спросил обер-лейтенант, но у Люшера не нашлось никакого объяснения. Вместо этого Люшер сообщил, что вернулся в кассу конного завода и заявил, что его партнеры не хотят показывать договоры, но он-то знает, что был заключен договор, и думал, что своих партнеров он только попугает, и тогда они покажут ему договор. Обер-лейтенант не стал вникать в эти обстоятельства, а только спросил, как все происходило в доме Хербста. Он, мол, распахнул дверь стволом, увидел, как Хербст «сидит, а потом, падает», ответил Люшер.
Этим обер-лейтенант пока и удовлетворился.
— Ваши показания хотя и противоречивы, но этого достаточно, — сказал он. — С одной стороны, вы постоянно утверждаете, что ничего не помните, с другой стороны, во всех подробностях излагаете ход событий.
Но пока это его как следователя не касается. Наконец, он захотел услышать, почему он бежал, и Люшер ответил, что и сам, мол, не ведал, что творит, и что у него «беспрестанно текли слезы».
— Я потому и сбежал в Югославию, что по мне уж лучше коммунизм, чем тюрьма, — сказал он, помолчав.
Он подписал протокол, после того как ему пообещали свидание с женой и с матерью. Их тотчас же допустили к нему. Люшер попросил принести ему выходной костюм, потому что хотел «прилично выглядеть» на судебном процессе. Потом он попросил жену развестись с ним, чтобы половину всего их имущества не передали в пользу жертв. Едва он это произнес, как все заплакали, сильнее всех сам Люшер, но он не принимал никаких возражений, так что его жена была вынуждена согласиться. Под конец Люшер запретил ей говорить о нем с детьми. Пусть ничто и никто, даже их собственная мать, не напоминает им о нем.
— Когда женщины ушли, он сохранял самообладание, спросил только, куда его повезут, и добавил, что очень устал, — продолжил жандарм.
Он притормозил, потому что по обочине брел старичок, которого он знал и предложил подвезти. Они сразу же поехали дальше, справа под ними виднелся лес, на вершинах холмов слева стояли крестьянские дома.
— Вы никак Люшера поймали? — спустя некоторое время осведомился старичок.
— А то как же.
— Ну и ладно. А то мы ночью то и дело вскакивали. Все боялись: ну как он решит у нас схорониться.
Они въехали на пологий склон. Из-за поворота навстречу им выехала грузовая машина, так что им пришлось вильнуть на обочину и остановиться. Грузовик медленно проехал мимо. В это мгновение Ашера охватило желание остаться. Он решил, что попросит высадить его у магазина и позвонит жене.
— А этот господин кто такой будет? — спросил старичок.
— Врач, — ответил жандарм.
— Ах, вот оно что, врач, — повторил старичок. — Знаете, был у нас тут доктор, как сейчас помню, ему уже за семьдесят было, он еще персики разводил. Но потом вернулся в город.
Машина, дребезжа по неасфальтированной дороге, приближалась к магазину, и Ашер стал обдумывать, что же он скажет по телефону жене.
Примечания
1
«Немецкая месса» Франца Шуберта (1827).
(обратно)2
Во время празднования Крещения, которое у католиков приходится на 6 января, верующие приносят из церкви освященный мел и чертят на дверях буквы «К+М+В», соответствующие начальным буквам имен, которые, согласно католической традиции, носили три волхва (Каспар, Мельхиор, Валтасар). По преданию, начертание начальных букв их имен на дверях ограждает верующих от злых сил.
(обратно)3
Товарищество — Националистическая ультраправая организация, объединяющая бывших немецких и австрийских военнопленных, не отказавшихся от нацистских убеждений.
(обратно)4
Церковный трактир — старинное, принятое в Южной Германии и в Австрии обозначение постоялого двора с рестораном или трактиром, как правило, главного постоялого двора деревни или небольшого города. Исторически связано со средневековым обычаем, согласно которому феодальный властитель обязывал зависимых крестьян справлять свадьбы, поминки, крестины в трактире при постоялом дворе, который платил церкви десятину.
(обратно)5
Копёр — башенка над стволом шахты для установки подъемника.
(обратно)6
Фольклорное детское стихотворение о нерадивом Йокеле (распространенная в Южной Германии и Австрии уменьшительная форма имени Якоб), которого отец посылает жать пшеницу (овес), а тот не только не выполняет поручение, но и просто исчезает. Тогда отец посылает за ним батрака, пуделя, но тоже безуспешно. Список посылаемых за Йокелем постепенно растет, обогащаясь огнем, водой, волом, мясником, палачом и т. д.
(обратно)7
Оркестрион — механический музыкальный инструмент, имитирующий звучание оркестра и внешним видом напоминающий небольшой орган.
(обратно)8
Погребальные доски — подобие деревянных носилок, на которые укладывали тело покойного для прощания и перенесения на кладбище. Обычай, распространенный в Южной Германии и Австрии, восходит к Средневековью, когда умерших еще не было принято хоронить в гробах. После похорон «доски» с начертанными на них именем, датами жизни умершего и краткой эпитафией часто устанавливали на кладбище или вдоль дорог.
(обратно)9
Надворный советник — сохранившийся в некоторых землях Австрии старинный чин государственных служащих, имеющих ученую степень и академическое звание.
(обратно)10
Нюрнбергское яйцо — название появившихся в XVI в. часов с пружинным механизмом, имевших овальную форму.
(обратно)11
Рабочая палата — австрийская государственная организация, призванная защищать интересы рабочих и служащих.
(обратно)12
Березовый трутовик или ветки березы прикрепляют к входной двери, чтобы, согласно древнегерманским языческим обычаям, защититься от злых сил.
(обратно)13
«Снежный вальс» — танец немецкого композитора Томаса Кошата, одна из самых популярных в немецкоязычных странах мелодий.
(обратно)14
В оригинале — строка драмы Ф. Шиллера «Валленштейн» «Dem Glücklichen schlägt keine Stunde!» (1780).
(обратно)
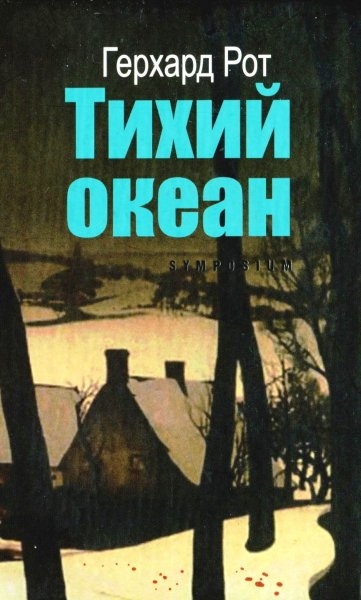

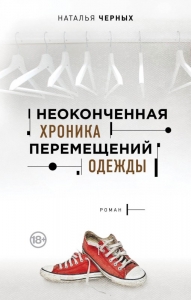


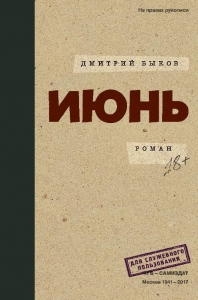





Комментарии к книге «Тихий океан», Герхард Рот
Всего 0 комментариев