Моей дорогой сестричке
Глава первая
Пенелопу разбудил солнечный луч, зеленовато-золотистый и теплый, как дыни, наваленные пахучей горой на исколотом каблучками августовском асфальте. Она осторожно дотронулась до луча пальцем. На податливой, чуть шершавой поверхности осталась вмятина, и это означало, что луч Пенелопе приснился. Он мог и не присниться, поскольку утро в самом деле было солнечным, и в то же время не мог не присниться, потому что вот уже две недели, покинув свою похолодавшую сверх меры комнатушку, по сути, переименованную в таковую веранду с большими окнами и маленьким радиатором (какой теперь радиатор, о Пенелопа!), она спала в гостиной, куда солнце не дотягивалось, но зато просачивалась из кухни некая толика тепла. Впрочем, и той было явно недостаточно, почему и, проснувшись невеселым солнечным утром какого-то там декабря одна тысяча девятьсот девяносто четвер… лучше, пожалуй, сказать, безрадостным солнечным утром, это эффектнее, неожиданно и хлестко, настоящая синекдоха — синекдоха, почти синекура, sine cura, без забот, в сущности, то же, что nonchalance… итак, проснувшись, Пенелопа выставила из-под одеяла озябший носик. Смотри, как изящно может звучать грубый предмет вроде немалой величины и не самых тонких очертаний армянского носа… кстати, и не синекдоха вовсе, а что-то другое, дай бог памяти, зубрили же в институте эти дурацкие стилистические фигуры, кажется, антитеза или оксиморон, или еще какая-нибудь белиберда. Ладно, пошли дальше! Пенелопа проснулась, выставила… это уже было!.. высунула руку и повлекла к себе с холодной, как арктические льды, стеклянной столешницы коротконогого, устойчивого, как крепенький носорог (хотя температура вне пододеяльного пространства вызывала ассоциации скорее с мамонтами, но у мамонтов ноги длиннее), журнального столика томик Джойса. Какой к черту томик, толстенный том, к тому же до отказа заполненный напечатанной самым что ни на есть меленьким шрифтом бредятиной, возведенной снобами в ранг интеллектуальной библии. Да еще с бесконечными комментариями, просвещающими до изнеможения относительно вещей, совершенно неинтересных, но будьте уверены, если вас действительно заинтригует какая-то деталь, комментариев на ее счет, как пить дать, не окажется. И все это приходится читать. Не признаваться же в приличном обществе, что ты не читал/читала (ненужное вычеркнуть) Джойса! Впрочем, на самом деле его не читал никто, во всяком случае, целиком, ибо это просто за пределами вероятного, и если кто-то утверждает, что одолел сие, с позволения сказать, литературное произведение, такого человека можно смело назвать лжецом. Правда, никакие утверждения, ни за, ни против, проверке не поддаются, поскольку еще не родился тот, кто способен на связный пересказ хоть одного эпизода этого текста, сплошной клоаки, как выразился Уэллс. Конечно, и Уэллс понаписал… взять, например, «Блэпингтона Блэпского» — ну и имечко, Блэпингтон Блэпский, то ли дело Эжен де Растиньяк или Жюльен Сорель… Эдмон Дантес, наконец, да, я люблю Дюма и, черт побери, не собираюсь стыдиться этого…
Пенелопа томно уронила Джойса на постель, втянула руку под одеяло и погрузила замерзшие пальцы в теплую пещерку между собственным животом и подтянутыми к нему вплотную коленями.
— Пенелопа, — тихо позвана мать за спиной свернувшейся калачиком, неподвижной дщери. — Пенелопа!
О это дурацкое имя! Длинное и неудобное, как капроновый чулок. Чулки в эпоху колготок, панталоны в эру бикини. Вот именно, панталоны. Пан-та-ло-ны. Пе-не-ло-па. Даже сократить невозможно, не называться же Пеней или Лопой. Почти пень или лопата. Нет уж, лучше длинно и занудно — П-е-н-е-л-о-п-а.
— Пенелопа, — снова позвала мать. — Ты спишь?
Голос ее звучал робко, наверняка сейчас опять о чем-нибудь попросит. Покараулить свет, например. Как будто папа не может поставить на плитку кастрюлю с картошкой. Картошка в мундире, чего проще. Так нет, надо вовлечь в трудовую деятельность весь околоток, эта женщина просто не способна спокойно лицезреть кого-либо, гуляющего на свободе, будь она той киплинговской дамой, никакая кошка у нее не болталась бы сама по себе, а работала как лошадь.
— Пенелопа, — сказала мать в третий, если не четвертый раз.
Пенелопа со вздохом перекрутилась в постели лицом к двери.
— Ну чего тебе? — спросила она строго, изучая материнский облик.
Боже, как эта женщина одета! Кошмар. Под благородный ангорский свитер поддела заношенную или заеденную молью до дыр и заштопанную на самом видном месте водолазку мерзкого болотного цвета. А юбка! Бордовая с черным, широкая, в складку, собралась под длинным свитером, как бочонок. Ох уж эти родители! Вроде взрослые люди, а все равно нужен глаз да глаз. Неусыпный надзор и неустанное руководство.
— Измерь мне, пожалуйста, давление, — попросила мать чуть заискивающе.
— Ты собираешься выйти на улицу в таком виде? — осведомилась Пенелопа, вложив в голос максимум неодобрения, смешанного с сарказмом.
Мать промолчала.
— А почему давление? Болит где-нибудь?
— Затылок. Несильно.
— Я же тебе миллион раз объясняла! Это шейный остеохондроз. Ну нет у тебя давления, нет, сколько мы тебе мерили…
Мать молчала, и Пенелопе стало жаль ее. Боится. Ведь в таком же возрасте от инсульта взяла да и умерла ее мать. Бедная бабушка Пенелопа. Совсем еще не старая, подвижная и добродушная. Наградила, правда, внучку нелепым именем, но это не ее вина, имя-то и ей привалило ни с того ни с сего, впрочем, как раз и с того с сего, от бабушки, самой настоящей гречанки. Так что и в нас — Пенелопа быстро подсчитала — четверть от четверти, одна шестнадцатая греческой крови. Пенелопа, жена Одиссея. Бессонница, Гомер, тугие паруса, я список кораблей прочел до середины… Интересно, а как назывался корабль Одиссея? Я же читала. Итака. Это остров, а корабль? На чем ездил с Итаки в Трою и обратно хитроумный Лаэртид? Лаэртид разве? Странно, на Шекспира смахивает… Ну в третий раз, Лаэрт. Боюсь, вы неженкой считаете меня… А где наш Гамлет, близкий сердцу сын?.. Коня, полцарства за коня!.. Но только не троянского, тогда уж лучше сесть на корабль да по виноцветному морю… Интересно, что это за море такое? А вернее, что это за вино, ведь скорее вино может быть цвета моря, нежели море цвета вина. Неужели греки пили синее вино? Или зеленое? Вино из чернослива. Или тархуна. Эстрагоновый напиток, не правда ли, экстравагантно? Экстенсивное виноделие, море вина, зеленого, как море. Наверняка какая-нибудь кислятина. Кис-кис-лятина. Был когда-то ирис «Кис-кис», вку-у-усный…
— Хочу «Кис-кис», — сказала Пенелопа, с вожделением облизывая сухие губы.
— Как? — удивилась мать.
— Ирис «Кис-кис». Помнишь, был такой?
— Не помню.
О господи!
— Посмотри на эту женщину, Левончик! — обратилась Пенелопа к большелапому, с пышной рыжей гривой игрушечному льву, восседавшему на груде сложенных в кресло диванных подушек. — Она не помнит, что такое «Кис-кис».
— Чтоб Левон сдох! — привычно возмутилась мать. — Не смей называть нашего Мишеньку этим именем!
— Во-первых, это лев, — лениво возразила Пенелопа. — Вот это — лев, — уточнила она, указывая носом, ибо все прочее было надежно укутано, на плюшевого зверя, которого сама же, видимо, из духа противоречия, окрестила Мишей. — Во-вторых, Левон — твой президент. Сама выбирала.
— Чтоб он провалился, — заупрямилась мать.
— Пускай проваливается, — легко согласилась Пенелопа. — Мне что? Я за него не голосовала. Это ты и тебе подобные посадили его в президентское кресло.
— Я?! Я никого никуда не сажала, — решительно отмежевалась мать.
— Ага. Таково постсоветское понимание демократии, — сообщила Пенелопа внимательно слушавшему эту перепалку льву. — А давление я тебе измерю, так и быть. Вот только встану.
— Я через пять минут выхожу.
— О боже мой! Встаю, встаю… — Пенелопа застонала, закатила глаза, потом скосила их на мать и деловито добавила: — Немедленно переоденься. Сними эти лохмотья. Видно же в вырезе! И юбку поменяй. Надень серую.
Мать скорбно покрутила пальцем у виска и удалилась. Пенелопа выдохнула, проверяя, нет ли пара изо рта, подобралась для рывка, потом снова расслабилась, решила сосчитать до десяти. Лучше б, конечно, до ста или тысячи. Хотя и это не годится, бесконечное оттягивание испытания тоже выматывает. Как на экзамене. Ладно, раз, два, три, четыре, пять, шесть…
Пенелопа пела. «Дольче Аи-ида (дальше она по-итальянски не знала, только первые два слова — два? Ха-ха!), в солнца сия-а-ньи нильской доли-и-ны чудны-ый цветок», — напевала она. Пенелопа любила попеть, но распевала она исключительно мужские арии из опер, по преимуществу итальянских. Плюс Хозе и Герман. Не то чтоб она когда-либо мечтала спеть на оперной сцене Радамеса или Каварадосси, вовсе нет. Хотя, откровенно говоря, в ранней юности она грешила грезами подобного рода, мысленно рисуя себе толпы млеющих, стонущих, ревущих от восторга зрителей, потоки, вихри, лавины цветов, сыплющихся на просцениум словно с неба, а на деле из верхних лож, как это проделывают ловкие клакеры из Большого, и среди цветов себя, гибкую и изящную, с тончайшей талией, утопающую в водопаде пышных, длиннющих волос, звончайшее меццо-сопрано мира, Амнерис и Кармен, каких еще не видел обалделый белый свет. Вполне естественные мечты для дочери оперного певца. Однако не вышло, меццо-сопрано оказалось не звончайшим в мире, да и вообще не меццо, а просто сопрано, а Пенелопа с детства презирала бесхарактерную дуру Аиду, не говоря уже о несуразной Микаэле, наконец, даже волосы ей не удавалось в должной степени отрастить, так что оперные арии она пела только дома и единственно мужские, оглашая квартиру то звуками романса Хозе, то второй арией Каварадосси, благо слуха у нее было достаточно, чтобы придать своим вокализам узнаваемость, периодически нарушаемую, правда, недостатком голосовых данных. Но если вокальные возможности, или скорее невозможности, невыгодно отличали ее от оперных знаменитостей, в ее актив несомненно следовало занести богатство мимики и редкостную подвижность в ходе исполнения. Ибо Пенелопа не только пела, но и непрерывно перемещалась, убирая постель и наводя в комнате относительный порядок. Профессиональная певица перед тем, как взять первую ноту, установила б себя для пения в некую вынужденную позу с выпяченной грудной клеткой и намертво упертыми в пол ногами, Пенелопа же сновала по помещению, сгибалась и разгибалась, складывала простыни и одеяла, хаотично передвигала мешавшую ее действиям подушку в разные стороны, перетаскивала, наконец, кресла и «носорога» на их дневные места и при этом еще меланхолично прикидывала, не пора ли внедриться в родительскую спальню, куда она уже проникла прошлой зимой, благополучно захватив треть двуспального ложа родителей и оттеснив мать в объятия отца. Мимоходом она кинула взгляд на стенные часы — не время ли? График по свету на этой неделе был утренний, с одиннадцати, пару дней назад, кажется, перешли на часовой, так что можно ожидать к двенадцати, если дадут на час, ну а коли повезет и продержат два, то включат раньше. Часы показывали ровно половину одиннадцатого, они имели скверную коммунистическую привычку вечно забегать вперед, но заводили их только позавчера, и оставалась надежда, что очень уж далеко им убежать не удалось. Подумав, Пенелопа нажала на выключатель — пропустишь, чего доброго, вожделенный миг, окна-то закрыты наглухо, и на обычные источники оповещения полагаться не приходится, даже подстанцию можно не расслышать. Подстанция, построенная лет пятнадцать назад посреди не слишком большого их двора, гудела своими чиненными и перечиненными трансформаторами, как целый заводской цех… заводы, впрочем, Пенелопа видела только по телевизору, но представляла их довольно отчетливо — как нечто вроде подстанции с трансформаторами, наспех перемотанными, но не залитыми трансформаторным маслом за отсутствием такового. Впоследствии масло в городе, по слухам, появилось, но в трансформаторы его так и не залили, утверждали, что в работающий нельзя, вот когда перегорит в следующий раз… Поскольку предыдущий был весной и с каждым днем отодвигался все дальше в прошлое, следующий, следовательно, был все ближе. Следующий, следовательно, по неумолимой логике причин и следствий, последовательно подступал, нависая дамокловым мечом над кварталом, домом и лично Пенелопой, над ее неистребимым пристрастием к неустанной и непрерывной гигиене. А ну-ка, ну-ка? Пенелопа прислушалась, забыв о задействованном выключателе. Нет, показалось. Детские крики во дворе имели, очевидно, причины иного свойства, это не был боевой клич «Све-е-ет!», сотрясавший стены и фундаменты в момент, когда — всегда неожиданно — подстанция оживала, своим жужжащим басом, как заводской гудок, созывая домохозяек на героический труд.
— Вот так-то, Миша-Лева, — приговаривала Пенелопа, водружая льва Мишу на его обычное место в правом углу дивана. — Счастливчик ты. Ни умываться тебе не надо, ни купаться. Ни чай пить. Везет же некоторым!
Лев молчаливо соглашался.
Пенелопа отнесла постельные принадлежности в спальню родителей, сложила в ногах материнской половины кровати и прикрыла одеялом — к себе в комнату она заглядывала редко, за одеждой или косметикой, ранее из этого Дантова ада не вынесенной, в основном-то ее юбки и свитера давно уже были развешаны в несколько слоев по спинкам стульев в гостиной (или, скорее, столовой, а вернее, гостино-столовой — и то, незачем советскому человеку барские хоромы, баловство какое, на черта ему лишнее помещение, не портвейн же после обеда смаковать), а всяческая парфюмерия расставлена на крышке пианино в художественном беспорядке. Ноншалантно.
— Надо быть ноншалантной, — думала Пенелопа, запуская руки в нечесаные волосы и пытаясь взбить их попышнее, — женщине это идет. Чрезмерная серьезность портит женщину, делая ее похожей на старую деву. Или на феминистку.
— В сущности, господа, — обратилась она к воображаемым господам во фраках и цилиндрах, — феминисток следовало бы называть маскулинистками, ведь истинная их цель — уничтожение в женщине ее женского начала, превращение ее в некое мужеподобное существо. Да-да, по сути дела, они настоящие женоненавистницы, в противном случае они добивались бы признания женственности самостоятельной ценностью, вместо того чтобы отрицать ее. — Между господами во фраках появились дамы в шляпах и турнюрах, которые воодушевленно зааплодировали Пенелопе, что еще более усилило ее пыл. — Вы только поглядите на них! — воскликнула она, обвиняюще простерев руку к скамье подсудимых, где, широко расставив ноги, упершись в пол кирзовыми сапожищами, дымя сигарами и роняя пепел куда попало, сидели в ряд квадратные бабы со стрижками «под мальчика». — Вместо того чтобы ходить, покачивая бедрами, на высоких каблуках, они топают по-солдатски в каких-то калошах, вместо того чтобы требовать от мужчин галантности в обхождении и восторженности помыслов, они сурово взыскивают с тех несчастных, которые по невинности своей еще отличают женские округлости от закругленности бревна… А не выпить ли нам чаю? — перебила она себя, внезапно наскучив общественной деятельностью и предоставив феминисток их нелепой судьбе. Вообще-то было самое время выпить чашечку чаю, вернее, бокал, ибо Пенелопа, наделенная редкой способностью к уничтожению посуды, перебила все чайные чашки в доме, кроме отцовской, а также стаканы, пощадив лишь материнский, а скорее пренебрегая им, граненым и толстостенным, и теперь пила чай из бокала для шампанского. Так как же? Конечно, разжигать керосинку тоже не бог весть какая радость… Впрочем, можно и не пить, никто ведь не заставляет, свобода…
Тут вспыхнул свет, избавив тем самым Пенелопу от подчинения осознанной необходимости, и она ринулась на кухню, нет, в ванную, нет, на кухню, нет…
— Папа, — завопила Пенелопа, раздираемая между двумя степенями свободы, — папа, включи кипятильник! Или чайник, — добавила она непоследовательно и энергично уточнила: — Лучше чайник, кипятильником я займусь сама. — И помчалась в ванную заполнять кастрюли.
Ура, ура! Конечно, купаться с утра не так приятно, как перед сном, но тут уже, милые мои, не поломаешься, тут надо брать, что дают. Да и все равно теплая вода есть теплая вода. Божественная влага! И божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь… Чертов Пушкин, вечно он лезет из всяких дыр. Само собой, если в школе, потом в институте перманентно проходишь его, его и его и зубришь, зубришь наизусть, потом уже хоть головой об стену бейся, лукавого арапа (как любят позлословить армяне, «о какой русской культуре может идти речь, Пушкин — негр, Лермонтов — шотландец, Мандельштам — еврей, Чехов наверняка чех»… а Чайковский, хочется добавить, по всей видимости, чайка?) из нее не выколотишь, во всяком случае, целиком, какие-то разрозненные строчки неизбежно останутся и будут вываливаться к месту и не к месту. Так, кипятильник включен. Пенелопа вгляделась в воду: идут ли пузыри? Идут, милые. Полчаса и… Она даже застонала от предвкушаемого наслаждения. Ладно, что можно сделать еще?
Пенелопа отправилась на кухню. Чайник уже стоял на плитке, на второй — кастрюля с картошкой, не совсем чисто вымытой, Пенелопа поглядела, подумала, не перемыть ли, но воспоминание о ледяной ереванской воде пресекло ее слабое поползновение, да и лень было, по чести говоря. Лучше взглянуть, нет ли чего по ящику. Почему по? По ящикам только тараканы бегают да муравьи ползают — это если в ящике что-то сладенькое, например, изюм. Или из-зюмительный фильм… А есть днем ящик-то? Телепрограммы, естественно, не было и в помине, получали они теперь одну-единственную газету, самую дешевую, правительственную, да и ту почтальон, работавший через пень-колоду — в одном месте, видимо, через пень, в другом через колоду, в третьем вообще неизвестно как, отец защищал его от Пенелопиных нападок, аргументируя тем, что у человека семья, надо кормить детей, ну и вкалывает бедолага тут и там, так вот, работяга-почтальон приносил газеты оптом, раз в несколько дней, штук эдак по пять. Субботний номер с программой он принести пока не удосужился, хоть сегодня и… А что за день сегодня? Пенелопа погрузилась в вычисления. Позавчера или позапозавчера (кажется, так!) они с Маргушей ходили на вернисаж, это была суббота, не то воскресенье. Видимо, воскресенье, в субботу на вернисаже народу больше. Значит, нынче уже среда, в крайнем случае вторник. Ну, знаете! Экое бесстыдство! Ладно, поищем. По «Останкино» наверняка дают «Дикую Марию, или Просто розу», чего еще от них можно ожидать, а по «России»? Пенелопа включила телевизор и поставила «Россию», предчувствуя неизбежную встречу с «Санта-Барбарой», серией эдак тысяча семьсот одиннадцатой. Экран засветился, но изображения не появилось, наверно, днем все-таки трансляции нет. Пенелопа разочарованно протянула руку к выключателю, и тут телевизор погас сам. А заодно и свет. Не сразу измерив всю глубину случившегося несчастья, Пенелопа ринулась в коридор, где за стеклянной дверцей с указующей надписью «Счетчик» жили своей таинственной жизнью пробки, возможно, не выдержавшие непосильной нагрузки, легшей на их хрупкие плечики. То есть головки. Или телá? Пробка передохранительная, как некогда писали на этикетках в ереванских магазинах. Пенелопа рассеянно пыталась улыбнуться, но когда она открыла дверцу, чувство юмора покинуло ее незамедлительно и безвозвратно. На всякий случай она проверила на ощупь, но небрежно, предощущая уже, что дело не в пробках. Потом наведалась в ванную, опустила пальчик в кастрюлю, предварительно все же вытянув из нее кипятильник. Вода была чуть тепловатой и для купания решительно непригодной. Тогда Пенелопа накинула пальто и вылезла на балкон. К подстанции сбегался потревоженный народ — авангард составляли немногие оказавшиеся в этот час дома мужчины из соседних зданий, второй волной подкатывала любопытная детвора, а кое-где из подъездов начинали выползать и женщины. Кто-то уже успел позвонить в аварийную службу, и теперь обездоленные жители переминались с ноги на ногу у розового куба с железными дверями в ожидании… ну не Годо, не Годо. Но, может быть, еще хуже…
Пенелопа вернулась в комнату, скинула пальто и села рядом со львом Мишей, счастливчиком, не нуждающимся в мытье, бритье, питье и других подобных мелочах. Или благах жизни, это как смотреть на вещи.
— Так, — думала Пенелопа, стараясь не утратить хладнокровия и не впасть в панику, каковая поднималась в ней и подкатывала удушающей волной к горлу при первой тени мысли (а есть и вторая, о Пенелопа?.. ну если мысль вообще способна отбрасывать тень, почему бы этим теням не быть множественными?), что, возможно, сегодня придется лечь — о ужас, ужас! — не помывшись. — Будем исходить из худшего. А именно… типун тебе на шустрый твой язычок, Пенелопа! И все-таки! Все-таки если это он? — Зажмурившись, она произнесла про себя страшное слово: — Трансформатор. Транс-фор-ма-тор. Да-да. Если свершилось? Где мы будем сегодня мыться? И завтра? И послезавтра? Надо составить график. Расписание. Обзвонить всех знакомых. А пока выпьем чаю. Доварим чайник на керосинке, он уже почти горячий и…
Аварийщики приехали, когда Пенелопа допивала вторую чашку, в смысле, второй бокал, дочитывая третью главу в очередном романе Рекса Стаута — план по Джойсу на сегодня она считала выполненным, что давало ей право на получение при чтении и некоторого удовольствия. Не прошло и получаса, как уныло плетущаяся на свой четвертый этаж соседка, перехваченная прислушивавшейся к каждому звуку Пенелопой, подтвердила самые мрачные ее предположения, и Пенелопа, захлопнув Стаута, с угрюмой решимостью села к телефону.
Начать, безусловно, следовало с подруг, А потом плавно перейти на родственников. Или наоборот? Конечно, с подругами общаться приятнее. Правда, они все живут дальше, чем некоторые из родственников. Зато ближе друг к другу, так сказать, компактно, а родственники раскиданы по обширной территории, от Зейтуна до кинотеатра «Россия»… Погоди, Пенелопея, чем-то твой подход порочен, ты танцуешь не от того нагревательного прибора, то есть вообще не от прибора, а надо именно от него. Нужно произвести отбор. Естественный, как сформулировал бы Дарвин, имея в виду наличие-отсутствие приборов, олицетворяющих приспособляемость к изменившимся погодно-политическим условиям. Плит, керосинок, водонагревателей, генераторов, ТЭС, АЭС и прочего аналогичного движимого и недвижимого имущества. С этой позиции отцовская родня отпадала, это было племя керосинко-кипятильниковое, во всяком случае, что касалось его не удравших на Запад остатков. Вот с материнской стороны кое-что многообещающее наличествовало, тетя Лена, например. Тетя Лена с приложением дяди Манвела, Мельсиды, Феликса… Да — но… Пенелопа с сомнением втянула носом воздух, словно пытаясь унюхать, где ее ждет кусок пожирнее. Как там у них пелось, у строителей изма? Человек человеку — волк, товарищ и друг? Так вот, Пенелопея, начни с конца, тогда и волки будут целы, и товарищи сыты, хотя товарищи сыты не бывают: доев друзей и волков, они принимаются друг за друга, в смысле, товарищ за товарища… но к черту товарищей, товарищи сгинули, да будет им земля Винни-пухом, толстым и тяжеленным… Итак?
— Начнем, пожалуй, — пропела Пенелопа голосом не состоявшего в ее обычном репертуаре Ленского и крутанула диск.
После четвертого гудка трубка ожила.
— Алло, Маргуша? — сказала Пенелопа деловито. — Ку-ку, мой мальчик, это я.
Пенелопа одевалась. Вернее, раздевалась, ибо для того, чтобы одеться на выход, надо было предварительно совлечь с себя ворох всевозможных жакетов, свитеров и маек, натянутых друг поверх друга, дабы хоть частично сохранить скудное тепло, производимое собственным телом, и тем самым продлить существование этого тела в условиях неотапливаемой квартиры, единственным альтернативным источником тепловой энергии в которой служит жалкая кустарная керосинка. Либо корейский керогаз. Либо японский примус. Но это уже не у нас. А интересно, какая разница между, допустим, керосинкой и примусом? Кроме того, что одна, так сказать, отечественная, а другой японский? Помимо того, что дым отечества нам сладок и приятен? А по существу? Тут керосин и там керосин. Понятно, от того теплее. А почему? При попытке вообразить себе примус живо рисовалась та же керосинка, но под мышкой у Бегемота. А еще? Еще порционные судачки а натюрель, балык величиной с бревно… ах-ах, слюнки неуправляемо и обильно потекли у Пенелопы, она обожала рыбу, а пуще всего балык и семгу, столь часто подаваемые у Грибоедова до того, как джинн из керосинки, то есть примуса, размел все это гастрономическое великолепие. О боже! Яйца кокотт, филейчики из дроздов — особенно приятно вспомнить, когда на завтрак у тебя хлеб с сыром, а на обед картошка в мундире, — маринованные грибочки… интересно, ел ли Грибоедов грибочки — белые, шампиньоны, рыжики… хорошо бы покрасить волосы в рыжий цвет, они бы отлично смотрелись на фоне этого синего свитера… я бы на месте Грибоедова грибов не ела, а то сидишь, жуешь грибы, и каждый дурак тебе говорит: «Ну ты настоящий Грибоедов»… Пенелопа нанесла на веко последний мазок, завершая отделку розово-зеленого пейзажа или натюрморта, в который модный макияж, то, что Армен называл боевой раскраской, превращал ее лицо, и пропела:
— Карету мне, карету!
Из спальни выглянул отец, спросил:
— Уходишь, Пенелопа? Куда?
— Ты пропустил «надолго», — заметила Пенелопа. Она простерла руку к отцу и продекламировала: — Уходишь? Надолго? Куда?
— Ну и куда же? — невозмутимо повторил вопрос отец.
— На поиски счастья, — ответила Пенелопа драматично.
— К обеду вернешься?
— Да, — свеликодушничала Пенелопа, но тут же внесла поправку, — постараюсь.
— К четырем придешь? Чтоб не греть обед дважды.
Ага! Пенелопа гордо вскинула голову.
— Ничего, я съем холодный, — сказала она надменно, стараясь не выказать бездонную обиду, в которую рухнуло, в очередной раз потеряв опору, ее нежнейшее существо. Вот она, родительская любовь, во всем своем первозданном эгоизме! Подзадержишься немного, на какой-нибудь часок после полуночи, тут же античный театр, слезы, рванье волос на голове, позы и жесты Медеи или Антигоны — пропал ребенок! Ребенку, между прочим, за тридцать! А потратить на этого ребенка лишних полстакана керосина уже жалко…
— Что ты, детка, — сказал отец смущенно. — Почему же холодный? Уж подогреем как-нибудь.
Ну и ну! А еще говорят, непостоянство, имя тебе женщина… у Пастернака, кстати, лучше — о женщины, вам имя вероломство… то есть звучит лучше, но от истины еще дальше, подкачал старина Вилли, все мужчины одинаковы, лишь бы свалить на женщин собственные грехи. Пенелопа вздохнула и стала надевать шляпу. Черную широкополую шляпу, придававшую ей вид великосветской дамы, ей вообще шли шляпы, всякие, любого фасона и размера, но эта смотрелась просто умопомрачительно, ну прямо конец света! Слово «свет» напомнило о происшедшей катастрофе, Пенелопа помрачнела и длинный клетчатый шарф наматывала уже вяло, без энтузиазма, даже с отвращением, как самоубийца, хотя и на все решившийся, но веревку на шею надевающий без особой к этой веревке симпатии, прозревая в недальнем будущем собственный малопривлекательный труп с выпученными глазами, синими веками и вывалившимся языком — да, зрелище безрадостное, лучше уж остаться в живых и влачить тягостное, но не столь обезображивающее существование, по крайней мере обезображивающее не в таком стремительном темпе, ведь пока из сексапильной юной леди превратишься в скрюченную бабу-ягу с лицом асфальтово-серым и мятым, как матнакаш времен хлебного дефицита, пройдет не один десяток лет. Недаром женщины не очень-то вешаются — кто и где слышал, чтобы покончившая с собой особа женского пола выбрала для этого веревку? Они всегда травятся снотворным или, на худой конец, уксусной эссенцией, подсознательно, видимо, пытаясь сохранить благообразный облик, ведь надо, чтобы кто-нибудь, а точнее, некто, пожалел — зачем иначе вообще кончать с собой? — пожалел, зарыдал, упал на колени и бился головой о мрачно-равнодушный каменный пол. А кто пожалеет о висельнице или утопленнице? Можно себе представить, как выглядел труп бледной красотки Офелии при всех ее гирляндах и венках… интересно, холодная ли была вода в реке? Весна ведь, Валентинов день… наверно, холодная, брр… Пенелопа поежилась. Несчастная Офелия! Мало того, что утонуть во цвете лет, да еще и…
Во дворе послышались крики, шум, слов было не разобрать, только смутные отголоски какой-то перебранки, но что-то будто подтолкнуло Пенелопу, зловещее ли предчувствие или просто интуиция, однако, вместо того чтобы спокойно надеть полушубок, взять набитую купальными принадлежностями сумку таких размеров, что Пенелопа уважительно называла ее сумой, и степенно спуститься вниз, она ринулась на балкон. Ну конечно, как в воду глядела! Не в теплую, пенящуюся, мягко колыхающуюся в ванне, манящую и влекущую, а в ледяную, арктическую, по которой плывут, покачиваясь, прозрачные льдины с острыми краями и голубоватые айсберги, усеянные белыми медведями в пушистых шкурах, какими хорошо устилать полы в гостиных, это придает аристократичность и позволяет устраивать экзотические посиделки при свечах… свечи в медных подсвечниках, и белый воск капает на длинные, цвета слоновой кости космы, лохмы… лучше сказать, власы, слоново… н-да… седовласый мех на темном меду паркета перед мраморным камином, запах горящего в камине дерева… Хм! Пенелопа густо покраснела и свесилась с балкона.
— Эй, вы! — завопила она, мимолетом удивившись истерическим ноткам в собственном голосе. — Не смейте трогать дерево!
Два брата-студента из соседнего подъезда одинаковым жестом запрокинули головы.
— Да мы не дерево, мы только вет… — забубнил было один, но Пенелопа не дала ему договорить.
— Топор! — взвизгнула она. — У них топор! Отберите топор! Люди! — И, ошалело хлопнув балконной дверью, помчалась дереву на выручку. Прыгая через ступеньки, она отчетливо представляла себе, как качается нетолстый ствол, отчаянно взмахивает ветвями в попытке удержать равновесие, как падает, падает, падает, долго, долго, как в замедленном кино, с грохотом ударяется об асфальт, с протяжным стоном ломая неестественно вывернутые нижние сучья… Окончательно взвинтив себя этим видением, она врезалась, выставив вперед руки с хищными ярко-алыми ногтями, в маленькую толпу, уже успевшую собраться у подъезда.
Следующая четверть часа выпала из бытия Пенелопы. Придерживайся она материалистического мировоззрения, которое ей тщательно, но безуспешно вбивали в голову в школе и институте, этого не произошло бы, но Пенелопа была или, во всяком случае, мнила себя антиматериалисткой, она подняла бы на смех любого, кто стал бы по старинке утверждать, что бытие определяет сознание, для Пенелопы сознание определяло бытие, вот почему она оказалась вне бытия, ведь ее сознание покинуло свое обиталище если не полностью, то процентов на восемьдесят — девяносто, как иначе объяснить тот факт, что после бесславного окончания эпизода — бесславного не для нее, а для посрамленных юнцов, улепетнувших со своими плотницкими, столярными и прочими пыточными инструментами, — она никак не могла вспомнить текст, который без запинки выдавала на этом театре.
Армяне вообще народ театральный, шекспировская формула им абсолютно впору, недаром они так любят ее автора, иной раз и удивишься про себя, вспомнив, что драматург номер один (а также номер два, три и далее, как говорится, жюри решило вторую и третью премии не присуждать) всех времен и народов армянином не был ни дня, шекспировский театр сродни армянскому жизнеощущению, шекспировский театр, а может, и греческая трагедия, может, есть некий намек, некая смутная аллюзия в том, как расположен Ереван — центральной своей частью в котловине, от которой поднимается уступами по склонам гор наподобие гигантского античного амфитеатра, оставляя внизу колоссальную скену, бывшую Театральную — еще один знак? — площадь, где совсем не так давно разворачивалось массовое действо с солистами, впоследствии развалившимися в правительственной ложе, и статистами… ну, те и поныне при своих крохотных ролишках, ибо рожденный статистом… рожденные ползать порой забираются в такие теплые и малодоступные местечки, куда летунам дорога заказана, но рожденный статистом обречен болтаться в массовке до конца своих дней. Но что же Пенелопа, как же Пенелопа, только что блистательно отыгравшая свою маленькую сольную роль в дворовой пьесе под названием «Деревья не умирают, их убивают» или «Ведь если я гореть не буду, и если ты гореть не будешь, и если он гореть не будет, то кто ж тогда рассеет тьму?». О, Пенелопа горела, Пенелопа рассеяла тьму, накрывшую ненавидимый прокуратором… пардон! Прокуратор тут лишний. Литературные реминисценции порой подводили Пенелопу, забрасывая ее в дебри (острова Борнео?), из которых она потом никак не могла выбраться, увлекаемая все новыми ассоциациями. Итак, армяне в целом народ театральный, но Пенелопа даже с учетом достаточно высокого общеармянского уровня была актрисой нешуточной и могла изобразить богатый спектр чувств и оттенков, от высокой трагедии до иронии — тоже высокой, ибо любила все жанры, кроме низкого.
Словом, она успешно отыграла свою роль в пьесе, где в качестве статисток выступили соседки по подъезду, нижняя — круглая и мягкая, словно ком теста, пыжащийся из последних сил перед тем, как его раскатают на гату, верхняя — безобидная старушка с большими добрыми глазами, всегда и всем готовая поддакнуть, и нижнебоковая — совсем недавно застенчивая, а ныне самоуверенная бывшая спортсменка из перворазрядниц, буквально в последние месяцы осознавшая свою близость к высшим слоям общества, что определялось неоспоримой принадлежностью к одной из каст, распределяющих жизненные блага, конкретно, свет… ну вообразите, что может статься с человеком, который внезапно обнаружил, что в состоянии поднять руку и провозгласить: да будет свет! И представьте себе, свет будет.
Кроме соседок по подъезду, в спектакле (ревю, шоу, перформансе) принимали участие юные злоумышленники с топорами и их бабка, божий одуванчик на вид и чертово семя, если копнуть поглубже, чертово семя, чертополох, четыре черненьких чумазеньких чертенка… пардон, четыре чумазых, старых, как ад, черта сразу, в одном, так сказать, наборе.
Соседки, как и положено статисткам, то молча внимали, то вступали недружным хором. Четыре чуточку чумных черта, чередуясь, пытались сбивчиво высказываться в поддержку что-то нечленораздельно лепечущих, расчихвощенных самодеятельных дровосеков, иными словами, перечили (переходя тем самым в категорию собственной перечницы); старушка с большими добрыми глазами исключительно поддакивала — то топороносцам с их родней из преисподней, то Пенелопе, с пеной у рта пеняющей потерянным пентюхам, комоподобная Ида же с бывшей спортсменкой, демонстрируя широкий диапазон эмоций — от возмущения до воодушевления, реагировали более адекватно, возмущаясь четырехчертовыми внуками и воодушевляясь речами Пенелопы.
Что касается самой Пенелопы, она истово произносила монолог о чем-то, безусловно имевшем касательство к дереву и, вероятно, к садовникам и лесорубам. Параллельно в прочих слоях коры ее головного мозга (а серого вещества у нее было в избытке, куда там какому-то Пуаро) проносились истории присутствовавших соседок (а также кое-кого из отсутствовавших), точнее, обрывки историй, ибо всего знать не дано даже ясновидцам, чьи способности всегда представлялись Пенелопе сомнительными, и господу богу, в которого она тоже, в общем, не верила, но старалась этого не показывать, поскольку неверие стало немодным, а больше всего на свете Пенелопа боялась вещей и идей демодэ.
В самом верхнем пласте нейронов роились фрагменты — даже не фрагменты, а их ошметки — истории нижней соседки, напоминавшей ком теста, который вот-вот раскатают на гату или «наполеон»… но нет, «наполеона» из Иды выйти никак не могло, не тот материал, если на то пошло, из нее не получилось бы и «жозефины», поскольку для песочного теста в ней было маловато сахару, обстоятельство, возможно, некогда приманившее к ней ее мужа, ведь водку сладким не закусывают, а супруг ее, мастер каких-то дел происхождением из Кявара, слыл в области водки бо-о-ольшим специалистом, наверняка покрупнее, чем в области своих неизвестно каких дел, хотя и этого нельзя утверждать на все сто, недаром ныне он успешно подвизается в некой арабской стране на поприще явно не водочном (ведь мусульмане не пьют), добывая средства на существование почти сплошняком неработающего семейства, включающего, помимо Иды, пару юных, но успевших уже выскочить замуж и обзавестись четырьмя (в сумме) малолетками дочерей и, следовательно, пару же зятьков, чем-то лениво занимающихся, как это практикуется теперь в Ереване, — все ведут неведомые дела, крутятся, комбинируют, дают, берут, покупают, продают… Тут история, вернее, заявка на нее, синопсис, стала со зловещей быстротой иссякать, поскольку Ида и ее семейство поселились в доме относительно недавно, лет семь или восемь назад, до того в квартире внизу жил с постепенно впадавшей в детство женой сердитый старикан, гроза мальчишек, автомобилистов, домашних животных, хозяек, выбивавших ковры, и малышей, игравших в «классики», а также всего подъезда, каковой систематически обвинялся в умышленном и злонамеренном засорении канализационных труб, в силу снижения проходимости периодически выдававших свое содержимое на полы первого этажа. А в квартире первого этажа, естественно, той самой, где буйствовала канализация и обитал сердитый старикан, наличествовал опрометчиво поставленный строителями вентиль, позволявший перекрывать воду во всем подъезде, что старикан неукоснительно и проделывал, карая жителей с той же железной неумолимостью, с какой взрезал животы мячам, пролетавшим в опасной близости от его окон, пинал пробегавших мимо и в особенности приостанавливавшихся дворняг и бодро доносил в ГАИ на автовладельцев, позволявших себе, забывшись, коснуться клаксона в пределах двора дома номер эн на улице Кочара города Еревана. В конце концов, устав сражаться с соседями, собаками, мальчишками и прочая, старик обменялся на пятый этаж и съехал. И с того дня карательные операции прекратились. Как и художества канализационных труб. То ли внутриподъездный заговор выдохся сам собой, то ли трубы стали окончательно всеядными, но факт остается фактом: специалист по водке и иным делам к вентилю не прикасался, и тот тихо ржавел, с ностальгией вспоминая времена, когда правил бал в пятнадцати квартирах. Единственное, что порой омрачало жизнь нового первоэтажного семейства, — трап в ванной этажом выше, то бишь в квартире Пенелопы и иже с ней… Мысли или субмысли Пенелопы описали круг, который замкнулся, заключив в себя фактически все, что ей было известно по истории первой. В центре же круга, если придерживаться геометрической терминологии, оказался ни с того ни с сего занявший видное место в памяти Пенелопы эпизод с трапом или эпизод с бутылкой. Если по важности предмета, то с бутылкой, если по причинно-следственной взаимосвязи, то… Итак, трап барахлил. Время от времени он ронял на головы Иды и мастера по всяческим делам многозначительные капли не совсем прозрачной жидкости. Укрощению он не поддавался, сантехник из домоуправления только пожимал плечами и, как это водится у сантехников, советовал не проливать воду на пол и не пользоваться ванной. Наконец, в один прекрасный весенний, а может, и осенний день мастер поднялся наверх.
— Что там у вас с трапом? — спросил он, глядя на понурившихся соседей, и великодушно добавил: — Что бы ни было. Я починю.
И его торжественно провели в ванную. И он починил. Как выяснилось впоследствии (следствия не понадобилось, последствия говорили сами за себя), мастер не совсем тех дел замазал трап цементом. Решение простейшее, но эффективное: отныне ни одна самая малая толика воды, будучи пролита на пол в ванной, не исчезала банально и даже пошло в предуготовленном отверстии, а лежала лужицей над металлической решеткой в целости и сохранности и могла б оставаться там вечно, если б в ход не пускали тряпку, это универсальное орудие труда, к которому приговорена без права на помилование домашняя хозяйка. (Пенелопа, правда, к этому орудию не прикасалась, разве что ногой, брезгливо подталкивая блеклую, прелую кучку ткани к скоплению нечистой влаги кончиком тапочки, но она и не была домашней хозяйкой, хозяйкой считалась мать, которая и орудовала, а Пенелопа, числясь девицей на выданье, резвилась в ожидании своего часа.) Но зато… «Над нами не каплет!» — так примерно выразился мастер, когда мать деликатно спросила, не торопится ли он, и выставила на стол большую бутылку. Просветлевший лицом специалист потянулся к заветному напитку, а наблюдавшая с порога Ида невежливо обронила: «Ну зачем вы ее вынули? Чтоб она провалилась!» Сказано было тихо, но мастер расслышал. Не сводя глаз со своей красавицы (не жены, разумеется), он произнес с пафосом, не уступавшим, пожалуй, Пенелопиному: «Ида! Меня крой как хочешь. Но ее — ее не трожь!»
Пенелопа мысленно улыбнулась, но улыбка не задержалась, потому что на смену истории нижней соседки, оказавшейся на поверку анекдотцем о трапе и бутылке, уже шла наплывами история соседки сверху, старушки с большими добрыми глазами, всегда и всем готовой поддакнуть, история, которой грозило обернуться повествованием о третьей комнате, ящике пива, ограблении универмага и, вполне возможно, о чем-нибудь еще.
Начало терялось во тьме веков, во всяком случае, для Пенелопы, обстоятельств своего знакомства со старушкой с добрыми глазами она не помнила, и не из небрежения или неуважения, а в силу естественных причин (обуславливающих также смену поколений, поступательный ход истории, ковыляние человечества по эволюционной лестнице и тому подобное), ибо знакомство это восходило ко времени вселения в данный, новый тогда дом тридцать с хвостиком лет назад, когда старушка была молодой женщиной, а Пенелопа изящным курчавоволосым созданием с кожицей смуглой настолько, что примерно в те же годы на гагринском пляже, где она бегала без трусиков, пожилые любвеобильные дамы прозвали ее негритосиком. У старушки имелся и муж, мужа Пенелопа тоже не помнила, как не помнила и того, что однажды ночью он умер от инфаркта, покинув на волю божью жену и четверых детей, у младшего из которых еще заплетались при ходьбе ножки. Первое связное воспоминание об этом семействе, так сказать, на переходе из преданий старины глубокой в разряд преданий молодых, было у Пенелопы неразрывно связано с выходным костюмчиком сестры. Костюмчик одолжили, дабы на наспех затеянном обручении соседкиной младшей дочери (оказавшемся при ближайшем рассмотрении свадьбой) прикрыть не наготу, а… то есть прикрыть, собственно, была призвана обручение-свадьба, а костюмчик служить прикрытием никак не мог, поскольку, будучи хоть и нарядным, с люрексом, но трикотажным, он плотно обтягивал фигуру невесты, являя изумленным гостям грудь и попку, а заодно изрядно кругленький животик. Животик в отличие от облегавшего его костюмчика в памяти Пенелопы следа не оставил, ибо в те времена она была млада и невинна, как пастушка из пасторали, лепечущая над белыми ягнятами милые нелепости о птичках и цветочках. То есть о птичках Пенелопа не лепетала и тогда, наоборот, играя каждый день неутомимо и бесперебойно во дворе, по преимуществу с мальчишками, она порой притаскивала в дом такие словеса, что отец краснел до ушей и даже за ушами, а мать попросту не понимала доброй половины, однако невинность и неведение Пенелопы не терпели при этом ни малейшего урона. Итак, соседскую дочку после свадьбы-обручения увезли, и вскоре, можно сказать, безбожно скоро, она подарила миру и мужу, такому же олуху, вчерашнему школьнику, собственно говоря, своему же однокласснику, могучую не по годам и живому весу матери дочь, с непостижимой быстротой вымахавшую во взрослую девицу с красными щеками и квадратными, как у олимпийской чемпионки по плаванию, плечами. Правда, при всей стремительности этого процесса он таки занял некоторое число лет, за которые в жизни семейства произошло немало событий, в том числе три бракосочетания, и самым примечательным из этих счастливых соединений судеб оказалось последнее. Два первых были в порядке вещей, в них последовательно вступили достигшие брачного возраста старшие брат и сестра Риммы-Розы. Риммы-Розы, ибо нашу временную и даже кратковременную героиню, калифа на час, младшую дочь старушки с большими добрыми и так далее, при рождении назвали Риммой, как и значилось в ее паспорте, но потом, то ли передумав, то недодумав вначале, окрестили Розой, и теперь она официально носила одно имя, а неофициально другое, что сплошь и рядом случается в Армении, когда в паспорт занесено нечто вроде Сирануйш или Раздана, а персонаж с этим именем упорно откликается на Виолетту или Андрея, скажите спасибо, что не Андреа или Эндрю. Конечно, если б Советская власть не страдала неистребимой потребностью укорачивать хвосты, гривы, имена и фамилии, многие армяне гордо носили б на манер испанцев прозвания типа Ашот-Арарат-Артавазд-Аршак-Давид Сасунский, что утоляло б извечную тягу человека к разнообразию и к тому же не возникало ситуаций, когда Алла, например, и не думает отзываться на Гегецик, напрочь забыв, что не очень благозвучное прилагательное, избранное некогда родителями от большой любви, но отнюдь не от большого ума и обернувшееся с годами и эволюцией прелестной малышки в крупноносое и толстозадое существо прямой насмешкой, вписано во все ее документы намертво, поскольку, как известно, поменять имя при Советской власти было все равно что сменить вечно живое учение на какой-нибудь эмпириокритицизм.
Итак, ее звали Римма-Роза. Римма-Роза, «Имя розы», Умберто Эко и прочая экология, впрочем, бедняжка Римма годилась, скорее, в героини другого романа о розе, хотя, кто знает, средневековье не относилось к сильной стороне познаний Пенелопы, «Роман о розе» был ей известен, естественно, только по примечанию к первой фразе «Трех мушкетеров», возможно, там не нашлось бы ни слова о любви и страданиях. Как бы то ни было, в один прекрасный сентябрьский вечер Римма-Роза узрела у себя на работе — а работала она диспетчером в таксомоторном парке, работа прозаическая, но с рядом чисто советских преимуществ — собственного мужа-одноклассника.
— Римма-Роза… — то есть, простите, конечно, он называл ее просто Розой… — Роза, — сказал он озабоченно, — не могут ли твои шоферы достать ящик чешского пива?
Шоферы, разумеется, могли. И не только могли, но и достали, заветный ящик был погружен в «Жигули» мужниного приятеля и увезен в неизвестном направлении вместе с мужем-одноклассником. Через пару дней муж в отличие от ящика вернулся, не утратив ни грана своей озабоченности, а еще через денек-другой некий доброжелатель или, вернее, доброжелательница, поскольку практика показывает, что доброжелательность — качество, по всей видимости, сугубо женское, донес (донесла) до слуха Риммы-Розы, что ящик пива был доставлен мужем-одноклассником в отдаленный от Еревана райцентр на… собственную свадьбу. Ибо в этом самом райцентре пылкий юноша отыскал очередную суженую, цеховичку средних лет, единолично и полновластно распоряжавшуюся немалыми доходами от неосторожно вверенного ей родным государством ковродельного производства. Будучи приперт Риммой-Розой к стенке старенького, чуть ли не глинобитного домика, в двух комнатках которого было сосредоточено все ценное, что у супругов имелось, от детей и родителей до большого буфета с потускневшей полировкой, одноклассник явил себя слезливым и сентиментальным, если не сказать, благородным. Он бил себя в грудь, вопия, что жертву сию принес токмо ради жены и детей.
— Потерпи несколько лет, — умолял он страстно и настойчиво. — Потерпи! Я разбогатею и вернусь домой. Заживем как люди. Неужели ты не можешь немного потерпеть? Не будь эгоисткой.
Но Римма-Роза оказалась эгоисткой. И тогда муж-одноклассник, оскорбленный в своих лучших чувствах, непонятый и неоцененный, молча собрал манатки и отбыл. Оставив, между прочим, Римме-Розе не только дом и имущество, но и собственных родителей, давно уже находившихся гораздо ближе к конечной точке жизненного пути, чем к начальной. Конечно, Римма-Роза с охотой предоставила бы свекра и свекровь их дому и имуществу, но вернуться к матери ей тоже не было дано, поскольку все три комнаты квартиры, где она счастливо или не очень провела детство и совсем уж раннюю, наираннейшую юность, оказались к тому моменту заняты, более того, забиты до отказа. В первой изначально и по сей день располагались мать (уже почти старушка, но поддакивавшая еще не всем) с младшим сыном, во второй старший сын, теперь и сам обросший женой и двумя детьми, а в третьей несколько месяцев назад устроилась старшая дочь, после недолгого и немирного сосуществования со свекровью и многолетних странствий по разнообразным, но одинаково неуютным жилищам неожиданно вторгшаяся в квартиру с мужем и дочерью и потребовавшая места под солн… пардон, под старой, еще отцовской люстрой. Так Римма-Роза осталась в глинобитном домике с двумя детьми школьного возраста и двумя же пенсионерами. Впоследствии ситуация рассосалась: вначале получил квартиру и съехал старший брат, потом, не получив ничего, сняла где-то очередную комнату старшая сестра, которую мать исподволь, а может, и вполне открыто выживала, освобождая место для своего любимца, младшенького, созревшего для женитьбы и даже благополучно подцепившего дочь богатых, очень богатых родителей, чего еще никому в их роду не удавалось. Посему никто не приглашал Римму-Розу на освободившееся пространство, да она и сама не претендовала, понимая, что отпрыскам богачей пространства всегда необходимо больше, чем потомству многодетных вдов, а, напротив, давала матери добрые советы в связи с неизбежными перестановками и переделками. Уже перетаскивалась с места на место старая мебель, и покупались новые занавески, и все семейство замерло в ожидании удачного, очень удачного, исключительно удачного брака, как вдруг… правильно, вы догадались! Любимец матери и фортуны, будущий владелец трехкомнатной квартиры с раздельным санузлом и большим балконом, обещанной тестем машины, а также увешанной золотом и бриллиантами жены ограбил универмаг, вынеся оттуда с приятелями товаров на сумму 1200 рублей. Товаров советских, со Знаком качества, так называемого отечественного ширпотреба, который если и потреблялся где-то в отечестве, то только отечестве в широком смысле слова, том, что именовалось Советским Союзом, но никак не в Ереване и даже не в Апаране. Словом, теперь старушка с большими добрыми и так далее сдает лишние комнаты квартирантам, от любимца получает письма из далекой России, где он осел после… понятно чего, к старшему сыну, живущему на окраине, ездит раз в месяц, поскольку транспорт работает сами знаете как, со старшей дочерью, которая до сих пор неблагородно дуется на мать, не общается вовсе, а Римма-Роза, добрая душа, забегает пару раз в неделю на чашку кофе. Кофе она обычно приносит с собой.
Пенелопа горько вздохнула, пожалев старушку, которой осталось только поддакивать квартирантам, что совсем непросто, ведь квартиранты попадаются всякие, и соседям, нижним, верхним, боковым и так далее, что старушка и проделывала с позднего утра и до раннего вечера в светлое, а точнее, естественно освещенное время суток зимой и в еще более расширенном режиме летом. Особенно хорошо это у нее получалось с самой верхней соседкой, самой верхней из соседок и самой старой из старушек, ну может, и не самой старой, то есть наверняка самой старой в подъезде, но навряд ли в доме, ибо носительница четырех черных чумазых была или, во всяком случае, казалась наиболее морщинистой, седой и преклонной… или непреклонной?.. хотя самой непреклонной из дам преклонных лет слыла все-таки соседка верхняя. Жизненный цикл ее был туго закручен вокруг единого стержня, а именно, единственного в жизни деяния ее единственного же сына, сыновнего поступка, проступка, свершения, крушения. Сын сей был произведен на свет в далекой, не столь уж прекрасной стране, то ли в Болгарии, то ли в Румынии, вскормлен, вспоен, взращен и привезен матерью в зловещее тоталитарное государство, именуемое СССР, за железный занавес, с благородной целью довести его до брачного возраста в окружении соплеменниц и женить на одной из них, вернув тем самым в лоно своего народа. Вообразите себе ее состояние — в этом месте Пенелопа мысленно хихикнула, — ее состояние, когда сыночек, успевший к этому моменту истины, (без)звездному мгновению, мигу (не)удачи не только окончить институт, но даже и защитить кандидатскую диссертацию, иными словами, ставший завидным по тем временам женихом, предстал пред материнские очи с невестой — абсолютно, безнадежно, бесповоротно и транс-цен-ден-тально (что бы это значило, Пенелопа?.. а какая вам разница, звучит же!) чистопородной русской, в толстых синих венах которой не текло, хотя бы утешения ради, ни капелюшечки армянской крови. Более того, в свои двадцать семь или двадцать восемь — прожитых, добавим, в Армении от и до — лет она не только не знала ни одного армянского слова (как и будущая свекровь русского), но и немедленно и популярно разъяснила, что не собирается учить всякие там провинциальные языки. Правда, остается вероятность, что старушка, тогда еще гордая дама среднего возраста, неверно поняла предполагаемую невестку, в конце концов, они, ни в коей мере не владея языком друг друга, имели весьма отдаленное понятие и о наречии глухонемых, на котором пытались объясниться. Яблоко раздора, при этом разбирательстве присутствовавшее, скромно помалкивало, посему для матери, а следовательно, подъезда, дома и тому подобное так и осталось загадкой, где, в каких анналах оно откопало бледную девицу, и теперь, после четверти века замужества, больше всего похожую на швабру, и если когда-то швабру венчала щетка, то ныне и та повылезла, оставив редкие пучки белесых волосиков. Самая непреклонная старушка так и не простила сыну его свершения или, как она скорбно считала, крушения, хотя и принимала, поджав губы, изредка появлявшуюся в доме — ибо та на свой славянский лад уволокла яблоко, сиречь мужа, к теще-тестю — швабру-невестку русского происхождения. А в порядке компенсации за терпимость она всю эту четверть века изливала соседкам, наперсницам, доверенным лицам, хору из античной трагедии свои грусть и печаль, правда, не сливая их в единое слово и не доверяя опрометчиво ветру, а разве что почте, уносившей образцы ее горестных излияний родственникам, к тому времени благоразумно перебравшимся из Румынии не то Болгарии в Америку.
О Америка! В Америку, в Америку! В отличие от чеховских сестер, так и не сдвинувшихся с насиженного, хоть и опостылевшего места, армяне в последнее двадцатилетие косяком устремились в землю обетованную, в одноэтажную Америку, наводнив Лос-Анджелес армянскими колючими словами и армянскими горбатыми носами, заселив подчистую всякие там Глендалы-млендалы. Что Пенелопа знала по собственному опыту, ибо в этом самом Глендале осело уже немало ее знакомых и даже родственников, от двоюродного брата до школьной подруги. Все плачут, стонут, пишут душераздирающие письма — о Арарат, о Севан, о улица Абовяна, о любимое кафе «Козырек»! — но вернуться обратно, естественно, никто не помышляет. А ведь это куда проще — ни тебе язык учить, ни работу искать, ни менять специальность врача или инженера на примеряльщика туфель в обувном магазине. Такая уж странная штука ностальгия. Похоже на то, как многие из оставшихся (или задержавшихся) на родине оплакивают сгинувшие почти даровые билеты на самолет или бесплатную медицину, но никто ведь на самом деле не хочет обратно — туда, где можно было неделями гонять по одной шестой суши в поисках сапог либо гардин или не спать ночами, думая, что и как сунуть районному терапевту. Так что ностальгия — это скорее всего тоска по месту или времени, куда заведомо не хочешь, оттого она и так упоительна, что неутолима, что несет в сердцевине сладостную боль несбыточного. Потому-то они и живут там, в своем Глендале, наслаждаясь ностальгией. А заодно комфортом, достатком и прочей чушью. Кстати, там же, в Глендале, подвизается в неведомой сфере деятельности родной братец мамаши наглецов-древорубов, спасаемых долларами американского дядюшки от военкомата и воображающих, что им все позволено — хвататься, например, чуть что за топоры и перечить старшим в лице Пенелопы, — дядя племянников, старший сын старушки, в черепе которой аж четыре черных чумазых черта чертят черными чернилами… ну чертежи не чертежи, но что-то чрезвычайно черное, это несомненно… ах она, баба-яга, Наина, чернокнижница, чур меня, чур! Пенелопа подобралась, готовая отстаивать свое родное, любимое, драгоценное дерево хоть перед целой армией рогатых, хвостатых, парнокопытных и перепончатокрылых. Но уже дрогнули ряды племянников-внуков, и четыре чумазых черта отступили, уползли в свою скороговорку посиживать на дровах, так и не появившихся на траве, которой на дворе не росло даже летом, когда Карл у Клары украл кораллы. Так они и познакомились. Познакомились бы, если бы… Кларой звали мать, и Пенелопа в шутку сокрушалась, что отца не догадались назвать Карлом, это было бы забавно. Правда, его догадались назвать Генрихом, а Карлу Девятому наследовал один Генрих, потом другой, так что связь была. Но не очевидная. Не скаламбуришь. Разве что споешь иногда «Жил-был Анри Четвертый, он славный был король, любил вино до черта»… Четыре черненьких, чумазеньких… тю-тю! Уползли, а Пенелопа еще не остыла, не упилась гордостью одержанной победы… ура, мы ломим, гнутся шведы! Шведы, швейцарцы, швейцары, швеи, Шверник, Швондер, Швандя, швах!.. што такое? Чертовщина, чушь, чепуха.
Между тем соседки расходились, и Пенелопа поплелась за ними, глядя в спину нижнебоковой дамы, бывшей спортсменки с претензиями на принадлежность к элите, хотя бы на уровне дома. Элита общества… ныне, скорее, элита толпы… элита города, элита улицы, элита дома, элита подъезда… Элита, элитка, элитишка. Пусть на одну ступенечку, полступенечки, но выше по общественной лестнице. Потребность карабкаться вверх неистребима, так хочется, чтобы пришли, кинулись в ноги, попросили, шепнули на ухо — хотя бы фразу типа:
— Скажи своему, пусть позвонит, чтоб на часочек свет дали варенье доварить, ну что вам стоит!
И можно важно кивнуть в ответ и пойти к мужу, уговорить, чтоб звякнул в свое Армэлектро, пускай все знают, кто в доме фигура. Личность. А можно и отказать — завтра доваришь, сегодня мы уже разок звонили, днем ведь был свет, а вы не знали?
Вообще-то она не такая уж вредная, Кларе, например, никогда не отказывает, Клару она уважает, зимой ей даже обед варила на своей буржуйке, когда трансформаторы и кабели горели наперегонки. Пенелопы, правда, не было, гостила в Москве у родственников. Если можно назвать неопределенно-безразмерным словом «родственники» родную сестру с зятем. О-о! Брови Пенелопы невольно поползли вверх, и на лицо, которое она тщилась сохранить серьезным, вылезла сама собой ироническая улыбка. Да, это нечто! Семейка просто конец света. Парочка интеллектуальных снобов. Это надо видеть. Он валяется на диване, задрав на спинку последнего непомерно длинные ноги, и читает Юнга, откладывая его затем лишь, чтоб взять какого-нибудь Тойнби или Канта (что за Тойнби такой, пришлось исподтишка подсмотреть, а то еще глянут свысока и примутся снисходительно объяснять, тоже мне всезнайки), на худой конец, Сартра или Борхеса. Она, свернувшись клубком в кресле наподобие льва Миши, изучает Пруста либо Джойса, или еще какую-то заумь. Все остальное уже шаг вниз, какой шаг — падение с горних высот, Хемингуэй — беллетристика, Апдайк — забава для массового читателя, Саган — бабская болтовня, а детективы, разумеется, читают только люди неполноценные. Ну это, конечно, зятек дает, уж нашу-то сестрицу мы знаем как облупленную, и то, как детективчиками не брезгует и как фантастикой не пренебрегает, и не то чтоб не пренебрегает, а глотает любой бред, на котором начертан магический значок НФ, даже блестящие тома с мерзкими мускулистыми полуголыми красотками и тошнотворными суперменами на обложках. Нет, все муженек, его влияние. Осточертел ему Ереван, взял жену и махнул в Москву, а жене хоть бы хны! На все радостное «да», работу бросила, родину, а ведь говорила — мы-то помним — никуда из Еревана не уеду, мне и тут хорошо. И где теперь этот патриотизм? Хотя, по правде говоря, следует признать, что патриотизмом sister никогда особенно не страдала, разглагольствовала, конечно, в свое время — такое уж время было! — на всякие модные темы, Карабах и прочее, но дома, сидя на диване, для остального она слишком ленива… ее жизнь вообще проходила в основном на диване, на работе и на диване, полдня там, полдня тут, когда ее наконец удалось выпихнуть замуж — в чем Пенелопа свои заслуги отнюдь не недооценивала, если б она не нейтрализовала Клару, косившуюся на чрезмерно высоколобого кандидата в зятья с каким-то пролетарским недоверием!.. — казалось, все изменится, начнется новая жизнь, более деятельная… Ничего подобного! Сестричка просто-напросто перебралась с одного дивана на другой, точнее, с дивана в кресло, ибо на диване обычно валяется супруг. Два сапога пара, оба ленивцы, лодыри, сони в меду, дрыхнут до десяти утра, до часу завтракают, весь день сидят-лежат с книжками, от чтения отрываются, только чтобы лишний раз поцеловаться да посюсюкать, — вы бы послушали, с каким умилением и обмиранием эта великовозрастная дура гладит муженька по начинающей лысеть башке, называя ее головкой. «У тебя головка болит?» «Не простуди ножки» — это про ножищи сорок пятого размера! Цирк. Сони в меду, одно слово. Правда, днем гуляют. Ходят только пешком, плавают в бассейне, по утрам занимаются, чем вы думали? Естественно, йогой, чем же еще, самая снобистская из гимнастик, тут они святее папы римского, все московские снобы играют в теннис, а эти ни-ни, не будут же они заниматься тем же, что какой-то Ельцин! Секретарь обкома! Оно конечно, Ельцин и есть секретарь обкома, но если б этот секретарь сидел не рыпался в своем обкоме, неизвестно еще, как бы наши сони в меду жили. Собственно, и сейчас неизвестно, как они живут. Когда все сплошь и рядом были свободными художниками, sister вкалывала каждый день с девяти до пяти, теперь, когда все так или иначе устроились на работу, она подалась в свободные художники, на пару с муженьком. Делают какие-то переводы, зятек между делом выучил пару-тройку языков, ладно английский, он его в школе проходил, а французский? Просто выучил, а зачем? Как вы думаете? Правильно, чтобы прочесть Пруста в подлиннике. Удивительно, как он еще не возымел желания вызубрить древнегреческий, а самым пошлым образом штудирует Гомера и Платона в русском переводе. Уникальный фрукт! Написал пару абсурдистских пьес, одну даже поставили, но потом вдруг забросил это дело, вернее, не то чтоб забросил, а забрасывает, в смысле, бросает в корзину вечером то, что написал днем, и наоборот. Потому что у Шекспира, видите ли, тексты лучше. Каково! А остальное у Шекспира, выходит, хуже? Пенелопа затанцевала от возмущения. Она преклонялась перед Шекспиром, обожала его, перечитывала ежегодно — правда, по долгу службы, поскольку ей приходилось по совместительству вести у себя в училище курс истории театра, но это детали, перечитывала б она в любом случае, особенно великие трагедии, особенно «Гамлета». «Вы можете расстроить меня и даже сломать, но играть на себе я не позволю». Вот так. Речь настоящего мужчины. О человеке в черном у Пенелопы было свое мнение, рефлексии она недолюбливала в принципе, в принципе и в принце — в принце не то что недолюбливала, а принципиально игнорировала, ну какие там рефлексии, все гетевские бредни, дурак этот Гете, напыщенный олух, тюня и размазня со своим плаксивым Вертером и бабником Фаустом… «Фауста», откровенно говоря, Пенелопа не читала вовсе, но не призналась бы в этом и под угрозой четвертования, тем более что оперу Гуно она знала вдоль и поперек, могла бы при случае спеть про златого тельца или процитировать аидоподобный марш — подобный не Аиду, конечно, а «Аиде», так и хочется сказать, «Аиде» уподобленный марш, хочется, да не можется, потому как Гуно свой марш написал лет на десять раньше Верди, так, во всяком случае, утверждает папа Генрих, который хоть и поклоняется Верди вплоть до полного обожествления, но из врожденного чувства справедливости не дает в обиду и Гуно, да и неплохую музыку накатал старина Шарль на сюжет нудной книжонки, разок даже начатой Пенелопой, но… В сущности, из «Фауста» она знала одну лишь фразу, вызубренную не то по диамату, не то по истмату. Помнится, в абзаце (или главе?.. разве в таком деле ограничились бы абзацем?), где воспевалось вечнозеленое учение — почему-то не вечно (навечно) зеленое, а именно вечнозеленое, — к этому самому учению была прилеплена каким-то боком цитата из «Фауста». Марксизм в памяти Пенелопы поистерся изрядно, однако цитату она помнила. «Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет». Интересно, как господин Гете воображал себе это древо жизни? С корнями, кроной, листьями и прочей атрибутикой? В виде дуба, быть может? Или кипариса? Либо плодового дерева, например, абрикоса или туты… Дерево, на которое посягали внуки-племяши, было, кажется, тутовым. Конечно, тутовым, летом на крышу гаража, воздвигнутого в центре двора шустрыми соседями-автолюбителями, влезали ребятишки и азартно обирали спелые ягоды, перемазываясь тутовым соком и превращаясь в подобие малорослых индейцев с обильно размалеванными фиолетово-красной краской физиономиями и худыми голыми торсиками… Или нет, погодите, это вовсе не то дерево, гараж ведь дальше. Тутовое у гаража, а это… А это просто дерево. Ну и что? Если дерево не плодовое, еще не значит, что его надо рубить. Удивительно, как много человек воображает о себе. Изобрел когда-то топор и возомнил, что поэтому лишь имеет право вершить чужие судьбы. Какая-то короткоживущая букашка, ничтоже сумняшеся, сносит под корень тысячелетнего колосса, сжигает его в камине, сама восседает рядом в кресле узорчатого бархата, любуется языками пламени и даже не мучается угрызениями совести. Меня не мучит совесть!.. Так Розенкранц и Гильденстерн плывут себе на гибель?.. В Таллине есть улица Розенкранца, маленькая, тихая улочка, а на улочке симпатичный магазинчик, где торгуют джинсами. В прошлом году в Таллине Пенелопу осенила честолюбивая мысль — привезти Армену джинсы. Не какую-нибудь гонконгскую ерунду, а настоящие фирменные джинсы наимоднейшего фасона. В конце концов, она оказалась в Таллине лишь благодаря Армену, приглашение-то у нее было, от одноклассницы, которую давным-давно занесло учиться в Тарту со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе двумя одушевленными, мужеска пола, — приглашение было, а денег на дорогу… шиш! И кто ей сделал царский подарок ко дню рождения — авиабилет до Москвы и обратно? Так что заслужил. Но покупать джинсы с ходу она не стала, а потом деньги, как водится, растаяли вроде мороженого в летний полдень, сначала джинсы превратились в рубашку, правда, тоже модную и практичную, клетчатую, с прелестными бежево-коричневыми пуговками, потом в майку, потом, пока Пенелопа раздумывала, черной той быть или синей, майка тоже стаяла, съежилась до размеров галстука. Галстук, хоть и недорогой, был от Валентино, и Армен пришел от подарка в восторг…
Пенелопа добралась до двери в квартиру, подняла голову да так и застыла, пораженная невиданным зрелищем. Прямо перед ней на пороге стоял тезка многих славных, хотя и не наших королей — ее тихоня-отец, образец кротости и милосердия, вооруженный большим топором, добытым, видимо, из затолкнутого некогда в вечную тьму балконного чуланчика и в силу многолетней невостребованности полузабытого ящика с инструментами. Вид у отца был до того воинственный, что Пенелопа даже слегка испугалась, ее буйное воображение сразу нарисовало горы плавающих в крови вражеских трупов.
— Эти сосунки еще там? — грозно вопросил папа Генрих, и Пенелопа поспешила ответить:
— Ушли, папа, ушли. Разоружайся.
— Когда твои дед с бабушкой въезжали в Ереван, — задумчиво начал отец, направляясь вглубь квартиры со своим оружием, которое он все еще держал наперевес, — над теперешней площадью Ленина…
— Бывшей, — поправила его Пенелопа. — Бывшей площадью Ленина.
Отец хмуро посмотрел на нее, но на замечание никак не отреагировал.
— Над площадью Ленина, которая тогда была обыкновенным пустырем, застроенным по краям хибарками вроде нашего старого дома, стояло облако пыли. Она тут же осела на одежду, на волосы, она буквально скрипела на зубах, и твоя бабушка заплакала. «Арутюн, — сказала она, — куда ты меня привез?» Она уже успела привыкнуть к Тифлису, а Тифлис был город зеленый. И богатый. Нищий городишко, где почти не было деревьев, напугал ее до слез.
Отец ушел на кухню, а Пенелопа вдруг вспомнила, что именно говорила внукам-племянникам. Вот об этом самом и говорила. О том, что, когда в двадцатые годы ее бабушки и дедушки с разных концов въезжали в заштатный тридцатитысячный городишко, каким тогда был Ереван, пыль стояла столбом. Еще она привела им фразу, которую помнила со школьных уроков географии, кажется, из учебника «География СССР». В учебнике было написано, что столица Армянской ССР — красивый и веселый город из розового туфа, но, к сожалению (именно так, черным по белому, почему-то это «к сожалению» врезалось в память, тогда как забылись вещи куда более важные), к сожалению, в нем мало зелени. И еще Пенелопа вспомнила бесконечную каменистую пустыню вдоль железной дороги, которую с детства привыкла видеть в окно вагона. Едешь час, два, три, а деревьев почти нет, сухая земля, усыпанная крупными и мелкими камнями, словно именно здесь у господа бога лопнул мешок, где он держал весь свой запас булыжников, лопнул или выпал… шел боженька по облакам, волок тяжеленный куль, не заметил торчавшую над серой манной кашей дождевых туч макушку Арарата, споткнулся и ношу свою выронил. И получилась каменная осыпь, посреди которой стоит Ереван. Да, невесело было сюда ехать бабушкам и дедушкам, а не доберись они до подступов к последнему причалу Ноева ковчега… Надо же, сколько армян повторило Ноев путь к Арарату… А скольким выпала обратная дорога? Когда-то их гнали и гнали, а теперь сами лыжи навострили… не лыжи, а скорее сухоступы… Да уж, в нынешние времена бабушки с дедушками в Ереван не добрались бы, по крайней мере в полном составе… и Пенелопы не было бы! Пенелопы, Пенелопочки, Пенелопушки не было бы! — вскричала мысленно Пенелопа, страстно и безудержно любя себя, такую умную, красивую и одаренную, и безумно себя жалея за то, что ее могло не быть вовсе, ее, Пенелопы, обаятельной, очаровательной, ноншалантной, ее, всепонимающей, всегда готовой прийти на помощь, пожертвовать собой, почти святой, ее, остроумной, блестящей, искрометной! Бедная, бедная Пенелопочка, случайный результат немыслимого скрещения вероятностей. Пенелопа бросилась на диван — тот был разложен, складывать его каждый день было б слишком муторно, пружины полопались, механизм скрежетал и щелкал, и чтоб он сработал, следовало просунуть руку сбоку и поковыряться где-то в недрах, чего Пенелопа не умела, умели только сестра и мать, первая из которых находилась в настоящую минуту в Москве, а вторая, надо полагать, на рынке или в магазине, — бросилась на диван, откинулась навзничь на подушки и трагически всхлипнула.
— И тебя бы не было, — сообщила она внимательному льву Мише, — во всяком случае, здесь, на этом диване. Это ведь я тебя купила, если ты не забыл.
Лев не забыл. Он смотрел на Пенелопу понимающе и грустно, видимо, представляя себя валяющимся на дальней полке универмага в пыли и паутине или изодранным в клочья какими-нибудь буйными детьми и выброшенным на помойку… Бедный, бедный Миша-Лева!
Пенелопа схватила льва и прижала к груди.
— Не бойся, — шепнула она в широкое пушистое ухо. — Я тебя никому не отдам. Мы ведь товарищи по несчастью.
Да-да. Страшно подумать, что случилось бы со львом Мишей, если б прабабушка папы Генриха, овдовев, не перебралась с малыми детьми к дальним родственникам, из Карса в Александрополь. Если бы родители деда со стороны отца не переехали туда же из Эрзерума в середине прошлого века. Если б бедная бабушка Пенелопа семилетним ребенком не оказалась ввергнутой в пучину пятнадцатого года, в потоп, в поток, который, крутясь и заворачиваясь по странам и континентам, не донес ее от Константинополя, как его называла бабушка, Полиса, до того же Александрополя. Если б, наконец, отец деда с материнской стороны не отправился на заработки в город, а копал по образцу предков землю в родной деревне. В итоге вся четверка, две бабушки и двое дедушек, собралась в Александрополе, Ленинакане, Помри, но отнюдь не в единую команду, цепочка случайностей на этом не прервалась, их еще раз разметало в стороны, ведь отцовские родители в восемнадцатом году бежали из Гюмри в Тифлис, вернее, бежать успела только бабушка, дед запропастился куда-то и отстал, а бабушка Анаит (тогда еще девятнадцатилетняя красавица Анулик, хороша была бабулечка, слов нет!) втиснулась с младенцем на руках чуть ли не в паровоз, спасаясь от тех же турков, от которых бежала малолетняя бабушка Пенелопа, сама еще не понимая, что бежит. Бежала от окровавленного детства, от исчезнувших в громадном, непостижимом для дрожащей малышки небытии отца и матери, братьев и сестер, бабушек и дедушек, бежала, утратив прошлое, потому что разве можно считать прошлым два-три воспоминания, не воспоминания даже, а их обрывки, лоскутки. Золотые шары апельсинов, клонящиеся к синему морю, словно крошечные закатные солнышки. И огромный турок в сверкающей чалме с кривой саблей — впрочем, чалму и саблю придумала Пенелопа-младшая, старшая о них не упоминала, может, забыла, а может, их не было вовсе, а был в красной феске и с винтовкой плюгавый низкорослый турчишка, рванувший из маленьких девчачьих ушек крохотные золотые сережки. Не очень-то охотно бабушка Пенелопа эту историю рассказывала, наверняка пыталась забыть, но вряд ли сумела б, ведь стоило ей поднести случайно руку к уху или заглянуть в зеркало, как разорванные мочки снова и снова напоминали ей о ее утратах. Бедная бабушка Пенелопа, несмышленое перекати-поле, несомое по свету непонятным ветром. Лишившаяся детства и не успевшая толком состариться. Правда, успевшая сделать главное — породить через промежуточное звено эту удивительную Пенелопу. Пе-не-ло-пу!
— Шла бы ты домой, Пенелопа, — рассеянно запела Пенелопа. — Шла бы ты домой…
Тьфу, черт! Привязалась идиотская песенка, даже не песенка, а одна-единственная строчка, крутится в голове чуть ли не сто лет, с самой школы. Жуткая нелепица. Почему, спрашивается, Пенелопа? Почему не Одиссей? Шел бы ты домой, Одиссей, — это уже ближе к истине. Шел бы ты домой, Одиссей…
Пенелопа встала, усадила льва в его уголок.
— Я пошла, — сообщила она ему решительно.
Она еще раз заглянула в сумку, все ли взяла, не забыла ли полотенце, косметику — надо будет ведь восстанавливать боевую раскраску после купания… Ах, какое упоение! У Маргуши-то не какой-нибудь кипятильник, у нее настоящий водонагреватель, хоть и турецкий, — включаешь, и горячая вода течет прямо из душа. Интересно, случайно ли слово «душ» одного корня со словом «душа»? Душелюб. Это тот, кто любит мыться под душем (Хотела бы я знать, кто этого не любит?). Душегуб. Страшно-даже выговорить — это человек, который забирается в чужие квартиры и портит души. Рвет шланги, выламывает краны. Своего рода Джек Потрошитель. Расстрел на месте без права на апелляцию.
Подумав, Пенелопа прихватила вязанье, пестрый свитер из множества разноцветных клубков, который она вязала без всякого чертежа, по вдохновению. Вязала и порола, когда неудачно сходились оттенки.
— Папа, я пошла! — крикнула она в тишину квартиры и потянула с вешалки скромный нутриевый полушубок нездешнего покроя, носивший в домашнем просторечии забавное, хоть и малоэлегантное, прозвище «крыска».
Глава вторая
На улице была чертова уйма народу. Как на митинге, да не теперешнем, а тех, ушедших времен, вроде и не таких уж давних, но из совершенно другой эпохи, эпохи высокого слога и прекрасных порывов. Мой друг, отчизне посвятим… Мы, народ… Народ, нация, масса, толпа. Вы, жадною толпой стоящие у трона… тут промашка, жадная толпа не те, кто у трона, а те, кого к трону не подпускают, чтобы прорваться сквозь кордоны, они начинают гордо именовать себя народом… народу действительно чертова уйма, чертова… четыре черненьких, чумазеньких чертенка… о господи, вот привязались!
Пенелопа огляделась. Пестрая толпа на остановке пребывала в постоянном движении, составлявшие ее элементы в разноцветных куртках и пальто беспрерывно перемещались, как детали калейдоскопа, непрестанно складываясь в новые и новые узоры, переливаясь оттенками, разве что не блестя на солнце. Солнце и мороз. Мороз и солнце. День чудесный — это с натяжкой, великолепных ковров снега что-то не видать, да и мороз не бог весть какой, но одеты все тепло, намерзшись дома, напяливают все, что имеют, и выползают греться на улицу. Многие в шубах. Конечно, в Ереване не такой завал мехов… Пенелопа вспомнила прошлогоднюю Москву, завешанную шубами, закиданную меховыми шапками, переполненную женщинами, погруженными в норку, песца, лису, козлика, нутрию, кролика, зайца, волка, медведя, — впечатление, что освежевали разом всю тайгу, да и тундру в придачу. Н-да. Пенелопа плотнее запахнула полушубок, хотя под полушубком-то как раз был полный порядок, мерзли ноги в тонких, пусть и шерстяных, рейтузах, и она тоже задергалась, включилась в сложный танец компонентов калейдоскопа. Переместившись па за па на несколько метров выше по склону, она увидела застывший между двумя остановками троллейбус, окруженный недовольными пассажирами, точнее, бывшими пассажирами, а ныне высаженными на необитаемый остров жертвами кораблекрушения, не смеющими оторваться от потерпевшего бедствие судна и вплавь пересечь бушующее море, сиречь трехсотметровый отрезок улицы до верхней либо нижней остановки. Немного дальше, словно выброшенный на берег кит, стоял пустой трамвай с зияющими дверями. Ждать больше не имело смысла, явно нет тока, а в автобус, даже если он вдруг появится, не влезть. Оценив обстановку, Пенелопа бодро вскинула ремешок сумки на плечо и потопала вниз по склону в направлении станции метро, Насколько точен был ее диагноз, она убедилась через несколько минут, когда, трясясь и подпрыгивая на ухабах и провалах в асфальте, ее обогнал автобус, облепленный отнюдь не только мальчишками, — с подножки свисала среди прочих весьма немолодая дама в длинном пальто и непонятно как державшейся на голове шляпке. Дама была примерно Клариного возраста. Пенелопа глазом не моргнула, она и не такое видывала, ей не раз случалось пресекать лихачество матери, за последний год возымевшей привычку кататься на подножках наподобие какого-нибудь сорванца… недаром в детстве она слыла грозой школы, заводилой всех не вполне девчоночьих проказ…
В метро, против ожиданий, Пенелопе удалось даже не протиснуться, а войти и относительно комфортно расположиться на эскалаторе. В вагон ее, правда, пропихнули, словно какой-нибудь негабаритный сверток, напиравшие сзади развеселые ребята, наверняка студенты, которым еще не успело осточертеть свободное время, подаренное войной, зимой и министерством высшего и всякого прочего образования. Те же ребята могучей волной вынесли ее на перрон, протащили до эскалатора и там предоставили самой себе, что пробудило в Пенелопе мимолетную тоску от утраты свежеобретенного чувства локтя.
Выбравшись из вечного скопища торгующих, ожидающих, курящих, жующих, фланирующих людей у «Еритасардакан», Пенелопа пересекла сквер и свернула на тихую, как поэзия, улицу Теряна. Какое-то время она меланхолически размышляла, пытаясь вспомнить старое-новое (или новое-старое?) название улицы, потом поняла, что у Теряна были-таки немалые шансы уцелеть, пусть он и затесался под конец жизни в компартию и чуть ли не комиссарил или наркомствовал, что само по себе, конечно, удивительно, более того, уму непостижимо — тоска, томление, грезы в полумраке и вдруг большевизм? Автор уникальной строчки «Ашнан мэшушум шэшук у шэршюн» и коммунистический ор, шум, пальба? Невероятно. Шэшук у шэршюн, шаль Шушан… мысли Пенелопы перескочили к предмету, «теряновское звучание» которого по неизбежной ассоциации всякий раз за шелестящими стихами злополучного поэта (в смысле, заполученного злом поэта) вызывало из небытия прабабку Шушан, умершую почти тридцать лет назад, но оставившую в семье памятку — шаль деревенской пряжи и домашней вязки, бурую, выцветшую, изъеденную молью, но чудодейственную: всяк болящий в доме спешил завладеть ею и повязать на больное место, что практически гарантировало выздоровление. Шаль Шушан, шэшук у шэршюн, да, Терян, пожалуй, уцелеет, большой поэт, к тому же свой, армянин, не какой-нибудь Чехов, бюст которого снесли с пьедестала перед школой, где училась Пенелопа, неведомые хулиганы, немедленно и решительно осужденные и охаянные… да, но кто слизнул фамилию этого самого Чехова из названия школы? Какая корова поработала своим шершавым языком над черной с золотом доской у входа, а заодно над всеми документами в министерстве, горсовете и иных заповедных местах, куда коров, как известно, не пускают, там ведь не пастбище, во всяком случае, пастбище не для коров, коровы для подобных пастбищ недостаточно длинноухи… хи-хи! Бедные длинноухие, с кем их только не путают, а они такие очаровашки, особенно малыши! Несколько лет назад Пенелопе довелось увидеть на деревенской улочке пару крошечных ослят, так она визжала, стонала и всячески исходила восторгом еще полчаса после того, как малолетние, вернее, маломесячные, почти игрушечные ишачки исчезли за поворотом, — видение это было самым что ни на есть мимолетным, из окна автомобиля, вообще деревню как таковую Пенелопа знала лишь сквозь автомобильные стекла, ну выходила, естественно, пару раз, чтоб заглянуть в сельский магазинчик, ведь в благословенные советские времена в деревне иногда можно было купить вещи совершенно неожиданные, от богемского хрусталя до финских сапожек, но магазинчик еще не деревня… Ну а что, собственно, еще в деревне делать? Родственников нет, друзей, само собой, тоже… само собой — это, конечно, снобизм, но… Возникшая в какой-то момент мода на деревенские корни не обошла и Армению, однако Пенелопа тяги к почвенничеству не испытывала никогда, она была горожанкой по рождению, воспитанию и происхождению, наполовину уж точно, с отцовской стороны, да и с материнской дед с бабушкой хоть и появились на свет в деревне, но выросли в городе. Бабушка Пенелопа прожила в сельской местности под Константинополем («Моя бабушка из-под Константинополя», — небрежно сообщала Пенелопа, когда где-нибудь в Москве или Питере интересовались ее родословной) семь лет, на два года больше, чем ее будущий муж, которого неизмеримо менее бурная планида забросила в город пятилетним мальцом. Краткость личного крестьянского стажа, впрочем, компенсировалась крепостью корней, подпитывавших ствол неплохой карьеры, которую сделал вывезенный из деревни дед. Правда, он не пошел по проторенному пути советских крестьянских сыновей и не стал маршалом Красной Армии, но зато долго и с успехом подвизался на ниве то ли просвещения, то ли снабжения… подобный разброс представлений о собственном деде был обусловлен тем печальным фактом, что дед умер до рождения внучки, а Пенелопа, ведомая по жизненной стезе исключительно личными симпатиями и антипатиями, склонности к генеалогии не питала и в семейную историю не углублялась, ограничиваясь знакомством с ее фрагментами, случайным набором бессистемных сведений… Со вторым дедом она недолго, но сосуществовала, помнила — весьма смутно, а может, и по рассказам — ярко-голубые глаза, залатанные на коленях штаны, протертые до дыр любившими сиживать на этих коленях внучками, преимущественно sister, естественно, но чуточку и Пенелопой, и красивые руки с тонкими пальцами, что не странно, совсем не мозолистыми, а это странно, потому что дед был сапожником. Сапожником, когда-то не простым, а возглавлял сапожный цех, получая зарплату в полтора раза большую, чем тогдашний министр, почему и удостоился прозвища «Полтора наркома», но с поста своего был смещен в достопамятном тридцать седьмом — всего лишь смещен, за что мог бы возблагодарить господа, если б в оного верил, но верил он вряд ли, ибо в дореволюционные еще времена по молодости лет подался в большевики, ратовал за правду и справедливость, но когда эта самая справедливость (а вернее, то, что под ней понимали большевики, не говоря уже об их трактовке правды) оскалила хищные белые зубы, дед не сдюжил, как ни удивительно, но был он человеком с нежной душой и трепетной совестью и, увидев, как радетели народные расправились с якобы дашнакским восстанием двадцать первого года, кинул в сердцах партбилет на стол и с того дня лишь хладнокровно наблюдал за стремительно идущими в гору братьями по партии, на уговоры восстановиться в передовом отряде отвечал неизменным отказом и в итоге неожиданно оказался вне списков, когда от волков и друзей остались одни белеющие в чистом поле косточки и на стол — под острыми, очень острыми соусами — стали подавать самих товарищей. Ближайший дедов друг за двадцать послеоктябрьских лет достиг высот власти (умудрившись, как неистово утверждал дед, остаться человеком честным), за что и (то ли за первое, то ли за второе) был расстрелян без суда и следствия. Дед, призванный в бдящие органы, дабы быть допрошенным в качестве друга врага народа и подписать соответствующее отречение, не долго думая схватил табурет и запустил в следователя, идея отречения, надо полагать, понравилась ему еще меньше, чем Николаю Второму. В следователя он не попал, но, несмотря на это (или благодаря этому, в непонятную ту эпоху иногда все выходило наоборот), отделался легким испугом, а именно, был уволен с работы, после чего все семейство держало зубы на дальней полочке годик или вроде того, пока наверху не объявили переигровку, разоблачили какую-то «…овщину», и деда снова взяли на работу, только уже не главным, а рядовым. Шить сапоги хуже разжалованный дед не стал, а был он мастером знаменитым, ходила то ли легенда, то ли быль о том, что в восемнадцатом году при последнем наступлении турок на остатки армянской нации угодил дед к ним в плен, и некий турецкий военачальник, прослышавший о его талантах, предложил деду простой обмен: голову на сапоги. То есть дед шьет (тогда, кстати, он был никаким не дедом, а высоким, красивым мужчиной в цвете лет, на которого оглядывались женщины даже в Армении, где им по сей день предписывается при виде лица не их пола опускать глаза долу) военачальнику, по-ихнему паше, сапоги, а паша отпускает деда на все четыре стороны. Разумеется, коли доволен. Коли нет — голову долой. Какие сапоги сшил дед паше, не видел никто, но самого деда видели многие на протяжении еще сорока лет, и это доказывает, что турки ценили ремесло больше, чем Советская власть. А ведь именно Советскую власть отправился устанавливать отпущенный турецким пашой дед, в ту пору еще свято веривший в глубоко ошибочное-учение Маркса. Ошибочное, поскольку воздвигнутое на неверной предпосылке. Наивный, как все кабинетные ученые, основоположник никак не мог вообразить, что его драгоценный пролетариат — самый короткоживущий класс на свете, обреченный на вытеснение из производства и жизни автоматами, в недалеком будущем уже несуществующий, а следовательно, совершенно неспособный быть носителем прогрессивного начала, ибо кто же добровольно выстроит такое будущее, в котором ему самому нет места? Наоборот, он будет этот прогресс тормозить, упираясь обеими, а то и всеми четырьмя ногами, как он, в сущности, и поступает по сей день. Осознавший ошибочность любимого учения дед тормозить прогресс не пожелал, да и к пролетариату его можно бы причислить весьма условно: был он парадоксально интеллигентен, книгочей и романтик, снявший некогда с жены и себя обручальные кольца и пожертвовавший их в помощь голодающим Поволжья… Не было обручального кольца и у бабушки Пенелопы, так что единственной носительницей такового в старшем поколении оказалась прабабка Шушан. Как и единственной в семье носительницей крестьянского начала, с которой Пенелопа побывала современницей — и то фигурально выражаясь, поскольку с ее существованием совпали лишь последних два года прабабкиной жизни, почему и Пенелопа не помнила кур, а кур, согласно семейной легенде, прабабушка Шушан до самой смерти разводила в городской квартире на пятом этаже большого здания в центре Еревана… совсем недалеко отсюда, два квартала… Пенелопа давно уже завернула за угол и шла теперь по Туманяна. Машинально заглядывая сквозь стекла в художественный салон, потом гастроном, она практически дошла до подъезда, в котором на престижном третьем этаже в весьма благоустроенной квартире с бо-ольшими удобствами жила ее лучшая подруга Маргуша — вчетвером в четырех комнатах, в результате сложнейших комбинаций составившихся из полученной от неожиданно благосклонного государства двухкомнатной квартиры, унаследованной от деда комнатушки в коммуналке, где никто не жил, но благополучно прописывались три поколения нуждавшихся в жилплощади членов семьи, из денег папы, связей свекра, ухищрений мамы, поднаторевшей в вопросах обмена так, что она могла б давать консультации маклерам… Тут Пенелопа увидела прямо перед собой «Мерседес» цвета топленого масла или какао с чаем или… какие еще существуют продукты элегантно-экзотического колорита?.. провансальский майонез, сыр пармезан?.. впрочем, эти оттенки Пенелопе как-то не давались, и, поколебавшись, она выбрала более банальный цвет слоновой кости. Ну может, слегка загрязненной от частого ношения на шее в виде бус. Или стояния на буфете в виде семи сакраментальных слонов. Хотя у тети Анны слоны деревянные, а у дяди… ах как жалко, что не Жоры, вышло б так складно — у дяди Жоры слоны фарфоровые, а то дядя Манвел ни с одним материалом не рифмуется, да и тетя Лена… не скажешь ведь: «У тети Лены слоны нетленные»… Из «Мерседеса», заметив, видимо, Пенелопу в зеркальце, выбрался молодой человек… ну если честно, уже и не совсем молодой, лет сорока, просто Пенелопа, почитавшая себя если не юной девушкой, то женщиной, которая выглядит как юная девушка («Я выгляжу на восемнадцать лет», — любила она повторять по поводу и без повода), не могла не зачислять в молодые люди и всех тех, кто был относительно близок ей по возрасту… впрочем, это слабость всеобщая, разве семидесятилетние старушки не называют своих подружек девочками…
— Здравствуй, Пенелопа, — степенно сказал молодой человек сорока лет и шагнул на тротуар. Одет он был, как подобает владельцу «Мерседеса» цвета… не важно какого, главное, что весьма изысканного. Пенелопа не видела молодого человека года примерно три, почему и бегло, но вдумчиво ревизовала взглядом его внешность. Никаких особых перемен, только немножко облысел со лба.
— Здравствуй, Эдгар, — ответила она церемонно. — Как поживаешь?
Эдгар, строго говоря, не был таковым ни дня (не больше, чем годаровский Пьеро носителем печального имени персонажа комедии дель-арте), это Пенелопа перекрестила его из Гарегина, как его необдуманно назвали родители, через промежуточно-уменьшительное «Гарик» в тезку американского писателя, что для ее уха звучало более пристойно.
— Да так, — сказал Эдгар или, если хотите, Гарегин. — В общем и целом… Не жалуюсь. А ты?
— И я, — хитро прищурилась Пенелопа. — Тоже. В общем и целом.
Эдгар-Гарегин помолчал, потом махнул указующе в сторону «Мерседеса» цвета…
— Может, сядем в машину?
— Зачем?
— Поедем куда-нибудь, выпьем по чашке кофе, поговорим.
Пенелопа задумалась. Конечно, ее соблазняла возможность испробовать наконец средство передвижения постсоветских миллионеров, погрузить тоскующую по роскоши попку в мягкое сиденье, обитое бархатом… Или кожей? Она скосила глаза, пытаясь разглядеть обивку. Ни черта не видно, набросал каких-то ковриков из искусственного меха под леопарда… Интересно только, кто и где видел белого леопарда? Белый леопард, белая черная пантера, черный снежный барс… вообще-то правильнее будет послать его подальше, на Южный полюс, в Туманность Андромеды, вскинуть надменно голову и отчеканить: «Не вижу, сударь, причин распивать с вами кофий и беседовать, нас давно уже ничто не связывает»… Да, но неприятно произносить избитые до потери сознания фразы, и потом… это надо было сделать сразу, а сейчас как-то… Да, но ведь болтался человек неведомо где целых три года, теперь случайно заметил ее в зеркальце, и тут же иди с ним в кафе…
— Пенелопа, — сказал Эдгар-Гарегин, устремив на нее взор чистых, совсем не мерседесовладельческих глаз. — Я здесь не случайно. Я тебя ждал. Я звонил, твой папа…
— Кто тебя просил звонить ко мне домой?! — возмутилась Пенелопа. — Да еще разговаривать с папой!.. А с чего это ты меня вспомнил? — Она закокетничала, почувствовав, что он, как некогда, на коротком поводке… необязательно, конечно, кокетничать со всякими бывшими знакомыми, но надо же проверить длину поводка.
— А почему ты решила, что я тебя когда-либо забывал?
— Ну… — Пенелопа повела плечами с усмешкой, долженствующей показать, что каждый судит по себе, а она, естественно, давным-давно выкинула из головы, списала, сдала в пункт приема макулатуры, металлолома, пустой тары… тары-бары, аты-баты, ищи-свищи… И конечно, он немедленно попался на удочку — тьфу, черт, какая удочка, когда он на поводке, это уже путаница в классах или типах, ох, Пенелопея, ну и каша у тебя в голове… Не каша, а салат из рыбы с мясом, русский салат, если верить «Кухне народов мира», смесь говядины с селедкой, точнее, теленка со щукой, хотя что за щука из подобного олуха, в лучшем случае окунь или севанский сиг со вкусом бумаги…
— Если ты меня забыла, — сказал он мрачно, — вычеркнула, сдала в утиль («Вот! — чуть не крикнула Пенелопа. — Именно это слово я и искала!»), еще не значит, что и я… Пенелопа! — Пенелопа молчала, и Эдгар-Гарегин добавил: — Не поедешь, да? Что ж. Тогда…
Ну и гордец! Пенелопа поспешно удлинила поводок:
— Не знаю, есть ли в городе еще хоть одно кафе. Все ведь позакрывали.
— Есть, — заторопился он. — Поехали.
И Пенелопа села в машину. Еще бы не сесть, когда перед тобой распахивают такую дверцу. Впрочем, она не преминула предварительно кинуть взгляд на часы — нет ли риска пропустить Маргушин свет, но времени была уйма, и она позволила своему любопытству вести (или везти?) себя в неизвестном направлении.
— И где ж ты теперь обретаешься? — спросила она, когда «Мерседес» мягко тронулся — да, это тебе не «Жигули»…
— В Калининграде, — ответил он охотно. — У меня там свое дело.
«В Калининграде. Это что ж такое? Кенигсберг? Могила Канта. Вещь в себе и прочий идеализм. А еще? Боже мой, мы ведь проходили этого чертова Канта, но кроме вещей в себе… Да и что сие означало? Неужели я так-таки ничегошеньки не помню?» «Критика чистого разума», настольная книга любимого зятя, одна из, настольных книг у него десятки; если б не sister, потихоньку подбирающая раскиданные брошюры и фолианты, в основном фолианты, брошюр зятек не жалует, и расставляющая их по местам, вся библиотека превратилась бы в настольную, дом был бы завален открытыми на той или иной странице томами, ибо драгоценный зятек читает по десять книг одновременно, оставляет одну и переходит к другой, даже не удосуживаясь вложить закладку и захлопнуть, этим опять-таки занимается его верная жена, которая закладывает страницы тонкими полосочками картона — одной, другой, третьей, поскольку супруг изучает не только разные литературные произведения (труды, трактаты, монографии), но и в нескольких местах каждое, в конце концов книга вся ощетинивается закладками, кажется, что у нее, бедняжки, столько раз брошенной, волосы стали дыбом от переживаний. (Заметим в скобках, что сама Пенелопа закладывала страницы многострадальных изданий, попавших ей в руки, множеством разнообразных предметов, от пилки для ногтей до диванной подушки.) Закладки sister мастерит сама, это священнодействие тоже достойно лицезрения. Как аккуратно она разлиновывает картонку, отмерив миллиметры линейкой, с какой точностью вырезает — не дай бог одна полосочка окажется на волосок шире другой, мир рухнет, не вынеся подобного нарушения гармонии! Жуткая педантесса, удивительно, что любительница Канта не она, тот ведь тоже был педантом, гулял каждый день по одному маршруту, выходил минута в минуту — так, во всяком случае, рассказывал зятек… Или это не про Канта? Про него, про него. Да уж, Кант и сестричка живо нашли бы общий язык, она ведь хлеще старикана. СтариКанта. Вспомнить только, как она писала конспекты, готовясь к экзаменам. I, II, III римские, потом 1, 2, 3 арабские, потом а, в, с, А, В, С — или нет, сначала А, В, С, потом а, в, с, квадратные скобки, круглые скобки… а еще стихи пишет! И что поразительно, вполне беспорядочные, с путаным ритмом и подозрительными рифмами, хотя уместнее было б нечто вроде:
1. Ветер брел, спотыкаясь.
2. Застарелый сугроб был мерзок, как подгоревшее сало.
3. Другой (развороченный)… нет, лучше квадратные скобки или косые… другой (развороченный) бел, как Каин, пришедший на исповедь…
— Анико — замечательный человек. Ты к ней несправедлива, — сказал Эдгар-Гарегин, выжимая сцепление, а может, переключая скорость, кто ее знает, эту механику, Пенелопа, во всяком случае, имела о ней понятие весьма смутное, ну нажимают на какие-то штуки — педали, кнопки, чего-то там еще, и машина едет… Однако! Каков нахал!
— Не надо! Не надо защищать от меня мою родную сестру! — воскликнула Пенелопа, воздевая руки к небу, то есть к потолку. Или крыше? И то и другое звучит одинаково нелепо, но третьего вроде не дано? Может, изнутри потолок, а снаружи крыша? При подобном подходе выражение «крыша поехала» выглядит сомнительным, правильнее было б «поехал потолок». «У тебя что, парень, потолок поехал?» Пенелопа хихикнула.
— А что Анико поделывает? — спросил владелец «Мерседеса», барабаня пальцами по рулю и сердито поглядывая на навсегда, видимо, покрасневший светофор — вот балда, не способен отличить «Мерседес» от «Москвича», гаишники и те умнее.
— Анико в Москве со своим Нико.
— Ее мужа зовут Нико?
— Ага. Она и замуж за него потому вышла. Ради рифмы. Она же поэтесса, — сказала Пенелопа, изрядно покривив при этом душой, поскольку в действительности никто не называл зятька Нико, кроме разве что самой Анико, впрочем, и Анико его так не называла, а звала нежно и трепетно Николиком. Николик! Пенелопа фыркнула. Как младенца. В крайнем случае дитя ползунково-ходункового возраста. Сюсюканье и абракадабра, как сказал поэт. Или писатель, а может, сатирик, поди вспомни, но кто-то определенно сказал. Николик! Все прочие называли Николика попросту Колей, а Пенелопа обрубила покороче — Ник. Так что «Анико и Нико» на самом деле не существовало, хотя звучало неплохо. Правда, немного по-грузински. Та-ра-ра-ра-ри-ра-ра-ра-ри-ра-ри, где же ты, моя Анико? Отличное имя. Анаит, богиня охоты, краса языческого пантеона, а дальше крути как хочешь — Ано, Анико, Анаида, Ида, Анна, Анка, Энн, чуть ли не Анук. Эме. Sister и похожа на Анук Эме, только лоб у нее повыше и волосы попышнее. Правда, Анук ее никто не называет — странное упущение. Пенелопа любила изощряться в именах и прозваниях, особенно ловко это у нее получалось в детстве, она изобретала совершенно непроизносимые буквосочетания, которыми обзывала ошеломленных родственников, окружающие долго и нудно осваивали ее словарь имен собственных, но пока им удавалось выучить очередное творение неугомонного ребенка, последний отказывался от поднадоевших кличек и придумывал новые. Сестру она звала и Энн, и Анитрой, и Идунчик, и Анулик, и — в суровые минуты — Анаит, в очень суровые — Анакондой и Анахронизмой, но до Анук почему-то не додумалась. Удивительно. Наверно, слишком много было возможностей. Отличное имя. Откровенно говоря, в глубине души Пенелопа придерживалась… ну не то чтоб совсем не такого мнения, но и не совсем такого. Несмотря на свои жалобы и критические высказывания в адрес греческих предков, она была довольна тем, что Пенелопой звали не старшую бабушку, а младшую, в противном случае произошла бы рокировка и Пенелопой назвали б sister, а Пенелопу — скучно и банально — Анаит. Подумаешь, богиня охоты. Таких богинь в каждом доме по десятку. Конечно, где-нибудь в Пелопоннесе наверняка полно Пенелоп, не Пелопоннес, а Пенелопоннес, но тут, в Араратской долине…
— Завтра пятница, — значительно обронил владелец «Мерседеса», огибая Лебединое озеро и выезжая на Саят-Нова.
— Ну и что? — беззаботно вскинула брови Пенелопа. Занятия прекратились неделю назад, и до весны рабочих дней не предвиделось, сплошные выходные, никаких понедельников, вторников, пятниц.
— По пятницам обычно митинг, — туманно пояснил ее собеседник. — По крайней мере бывал. В прошлый мой приезд…
— Какой еще митинг?
— Манучаряновский.
— Партии обиженных?
Обиженных, отверженных, униженных и оскорбленных. Еще бы не обидеться, не унизиться и не оскорбиться, власть ведь отняли, отогнали от кормушки.
— Вы, женщины, все упрощаете, — нравоучительно заметил Эдгар-Гарегин. — Власть у него была, и какая!
— Серый кардинал.
— Ну и чего еще он мог хотеть?
— Стать красным, — вздохнула Пенелопа. Или фиолетовым, как они там одеваются? Она напрягла память, вроде в каком-то фильме кардинал Ришелье был облачен в нечто фиолетовое, даже прищурилась, но цветовая гамма не проступала, виделась лишь седая бородка на темном фоне, черно-белое кино, словно барахлит антенна…
— К тому же Манучарян — бессребреник, — продолжал рассуждать Эдгар-Гарегин, всматриваясь в выбитый асфальт. — Я знаю людей, которые бывали у него дома и…
— Остряк он, — перебила его Пенелопа. — Юморист. Жванецкий. Или Задорнов. Слышала я как-то летом его речь, проходила мимо. Публика — ха-ха, хи-хи, аплодисменты. Интересно же послушать, кто у кого что украл. Не соображают, что у них-то самих и украли. Стадо баранов. Посмеялись и разошлись. Жоховурд… И вообще, не морочь мне голову своей политикой, к черту, надоело!
— Н-да, — вздохнул ностальгически Гарегин-Эдгар. — Кто бы мог подумать, что все так обернется. А помнишь, Пенелопа, как мы с тобой тут шагали, тогда, в феврале?
— Ничего не помню, ничего не знаю, — сердито буркнула Пенелопа, но машинально кинула взгляд на бурую решетку — они уже ехали вверх по Баграмяна, — за которой стоял бывший ЦК. Стоял, сидел, восседал и теперь сидит, правда, в креслах пожестче, но не на нарах, такой это народ, в огне не горит, в воде не тонет, только дедушка Сталин находил на них управу, этим, видно, и снискал любовь масс: кто еще так запросто расстреливал начальство, да и вакансии освобождались почем зря… Вот здесь, вдоль решетки, редкой цепью стояли солдаты, совсем молоденькие, смотрели недоуменно, некоторые с любопытством, а они с Эдгаром-Гарегином бодро шагали от угла Прошяна, где улица была перегорожена и автобусы останавливались, извергая веселую разноцветную человеческую массу, которая гордо именовала себя народом. Дальше все шли пешком, порознь, по двое-трое, реже группами, проходили мимо немого, вернее, безгласного Верховного Совета, тихо фрондирующей Академии наук и оцепленного защитничками отечества — в данном случае их правильнее было б называть защитничками от отечества — «ихнего паршивого ЦК». Пенелопа ясно помнила два чувства разного порядка — оба теперь такие далекие; сливаясь, они создавали ощущение праздника: одно, проистекавшее из новизны ситуации, — идут вдвоем, вместе, открыто, не таясь, иногда даже берясь за руки, и другое… А другое? Порыв национального чувства? Неужели, не может быть, чертовщина, чушь, чепуха!.. ну если уж очень-очень, совсем честно и откровенно, то да, национального — мы, армянский народ, мы, умные, древние, творцы и художники, наш язык, наши храмы, наши манускрипты, наши Маштоц и Нарекаци… Было, было. Однако это не все, еще и беззастенчивое наслаждение стихией бунта — не кровавого, агрессивного, тупого, как там, а бескровного, цивилизованного, несущего свободу. Свобода!!! Хотелось петь и кричать, хохотать и прыгать от восторга — свобода! Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы… но какая свобода, это был мираж, химера. Ложь, все ложь, в том числе, что шли вдвоем, не таясь… Пенелопа кинула на Эдгара-Гарегина негодующий взгляд, но тот ответил ей широкой улыбкой, видно, мысленно тоже шагал рядом с ней по Баграмяна, по проезжей части, очищенной от машин и отданной демонстрантам, собственно, не очищенной и, разумеется, не отданной, а просто меры безопасности, чтоб никто вдруг не подкатил к ЦК на бравом «жигуленке» или «Москвиче» и не швырнул на двести метров атомную микробомбу (иной эти стены не возьмешь), а то и пробил бы удалым своим передним бампером чугунную решетку и, взлетев на одном дыхании мотора по крутому склону холма, подпирающего здание власти, взорвался, воткнувшись в многоэтажную махину. Как бы то ни было, транспорт с нижней половины Баграмяна убрали, и люди шли и шли по широкой мостовой. Вначале толпа была негустой, рядом вышагивала только небольшая колонна молодежи лет по восемнадцать — двадцать, от угла отошли молча, потом пожилой мужчина стал во главе, взмахнул рукой, и все запели, слаженно и без сбоев, видимо, какой-то хор или сбежали с занятий студенты музыкального училища вместе с преподавателем. Песни, конечно, запрещенные, фидаинские, пели с подъемом, Эдгар-Гарегин принялся даже подтягивать, но Пенелопа дернула его за рукав: выводить трели на улице казалось ей все-таки немножко слишком. Потом толпа стала густеть, когда миновали ЦК с его оловянными солдатиками, безоружными и невраждебными, совсем нестрашными, образовалась уже настоящая демонстрация — транспаранты, лозунги, плакаты, там и сям какие-то группы скандируют: «Армяне, объединяйтесь!» Начиная с поворота на Московскую, весь район оперного театра с примыкавшими к нему площадями, улицами и скверами был запружен народом — жоховурд, черт его дери! Такого Пенелопе не приходилось видеть даже в кино, ну может, где-то в воображении именно так она представляла себе Февральскую революцию — тогда, в восемьдесят восьмом; теперь-то она уже знала, что во время Февральской революции убивали. На добрых полчаса они застряли у Сарьяна, памятник был облеплен роем молодых мужчин, словно начиналась война и их увозили на фронт, но, конечно, никто их не увозил, по крайней мере тогда. Со ступенек кричал срывающимся голосом оратор, но не в микрофон, а так, в воздух, и Пенелопе ничего не удалось расслышать, уловила только пару раз «солдаты», «Афганистан», потом разглядела прицепленное к памятнику полотнище, сплошь увешанное орденами и медалями, и догадалась, что это митингуют «афганцы» (еще и поразилась про себя, никогда ей не приходило в голову, что стольким армянам довелось попасть на афганскую войну). Эдгар-Гарегин, естественно, обнаружил знакомых, пришлось приложить немало труда, чтоб оторвать его от компании, — что за везение, вечно ей попадаются мужчины, липнущие к приятелям, а приятелей у них все мужское население города Еревана и прилегающих территорий — оторвать и потащить дальше, на Театральную площадь. Легко сказать! По проспекту — бывшему бывшего, бывшему проспекту бывшего вождя, к которому, то бишь вождю, тогда еще относились вполне всерьез, серьезно до курьеза, плавал в числе прочих над головами и наивный плакатик с призывом вспомнить о ленинской национальной политике, — по проспекту тек поток, и преодолеть его было не проще, чем переплыть, допустим, Днепр, хоть и чудный, но радиоактивный в любую погоду, и тихую, и бурную, во всяком случае, в те, пост-чернобыльские времена. Однако и переправившись на противоположный тротуар, они ни на йоту не продвинулись, а только окончательно увязли в толпе… пардон, жоховурде. Люди стояли неподвижно, напряженно вслушиваясь (но ничего не слыша), никто не толкался, все были невозможно вежливы, ни дать ни взять галантный двор французских королей лет эдак за сто до изобретения гильотины. Посторониться? Пожалуйста, сколько угодно, но укажите куда. Ни одного просвета, ни единой щели, в которую удалось бы просочиться даже утонченно тоненькой в те годы Пенелопе и абсолютно еще лишенному брюшка, хоть и обладавшему уже автомобилем, правда, не «Мерседесом», Эдгару-Гарегину. Оставалось обойти площадь кругом в надежде подобраться поближе в другом месте. Тщетно. Вдоль решетки, которая отгораживает сквер, опоясывающий вожделенную асфальтовую запятую подле величественного изгиба театрального здания, стеной в три-четыре ряда стояли люди. Наконец, дотопав аж до Лебединого озера, они не то что пробились или проскользнули на площадь, нет, даже не сумели подойти достаточно близко, но зато попали в зону слышимости. Пенелопа, правда, не слушала или слушала вполуха, она просто смотрела на озеро, море, океан голов… фи, как банально, Пенелопея, но что еще, не Млечный же Путь?.. ну ей-богу, там теснились сотни тысяч человек. Позже называли цифру, но совершенно несуразную, семьсот тысяч, эдакой куче уж никак не поместиться на подобном пятачке, хотя высчитал ведь кто-то, что все человечество можно запросто выстроить на территории Люксембурга. Так или иначе народу было море разливанное, и, глядя на этот разлив, Пенелопа наконец поняла, почему фантастическое с советско-социалистической точки зрения сборище не разгоняют. Слишком много. Не перестрелять же пол-Еревана? Собственно, перестрелять-то можно, но ведь пуль не хватит. А если и хватит, что делать с таким количеством трупов? Где хоронить? Придется опять-таки пол-Еревана взорвать и очистить под кладбище. Больно хлопотно. Кто станет возиться, работать ведь в этой стране никто не любит, работнички-то великой армии труда только владеть землей горазды, а вкалывать ни-ни… В голову лезла всякая ерунда, и, как фон, или скорее, наоборот, как лейтмотив, пульсировала знаменитая фраза из школьного учебника: мы не рабы, рабы не мы… или рабы немы?.. странная фраза из лучшего в мире учебника для рабов, рабищ и рабенышей. И когда с трибуны нескрываемо презрительным тоном, даже с издевкой, объявили, что на митинг пожаловал сам первый секретарь ЦК господин… Тьфу, Пенелопа, что ты несешь, какие тогда могли быть господа, да еще в ЦК… а впрочем, почему нет, именно в ЦК, где ж еще?.. ладно, оставим эти тонкости в стороне, просто тон объявления был таков, что вместо товарища засело в памяти чужережимное слово «господин»… когда к народу вышел сам господин Демирчян, и площадь встретила его оглушительным свистом, Пенелопа открыла рот, чтобы торжествующе выкрикнуть это свое «мы не рабы», но не посмела, вернее, постеснялась и стояла молча, восторженно холодея и замирая. И Эдгар-Гарегин сжал ее руку, не ища вороватым взглядом знакомых, которые могли б увидеть, засечь, донести его дражайшей половине, где и с кем…
— Как поживает твоя дражайшая половина? — осведомилась Пенелопа с нарочитой заинтересованностью, делая вид, что мир не полнится слухами, и в Ереване не все про всех всё знают, но Эдгар-Гарегин не стал мелодраматично восклицать: «Я забыл само ее имя!», или: «Я чист пред богом и людьми… то есть, тьфу, тобой!», а мужественно ответил:
— Ол райт.
Улица Прошяна пахла шашлыком и кебабом, из-за высоких каменных стен, заменявших в этом районе заборы, струился сладострастно изгибавшийся и обволакивавший разрозненных прохожих синеватый дым, одно лишь касание которого к ноздрям Пенелопы заставило бунтующе сжаться ее отнюдь не переполненный желудок. Предатель! Завезти голодную женщину в царство исходящих соком, тесно жмущихся друг к другу на неуютном вертеле румяных кусков мяса и тонких, вытянутых кебабин, только и ждущих того, чтоб с истомой лечь в хрустящее полотнище лаваша и завернуться в него — туго, как окутывают большим махровым полотенцем разгоряченное купанием тело. А на рыжих глиняных тарелках лоснятся влажные белые ломти овечьего сыра, удлиненные, гнутые, как турецкие ятаганы, стручки маринованного перца и пышные пучки зелени, которую Пенелопа обожала и могла жевать целыми днями, как юная козочка. Предатель! Однако порционных судачков а натюрель тут все же не подают, и можно попробовать выстоять. Тем временем коварный водитель «Мерседеса» загонял уже во двор двухэтажного особнячка свою тачку, как невесть почему называют лимузины, «кадиллаки» и прочие нехитрые средства передвижения в Москве и, видимо, в Калининграде, — «поставлю тачку позади шалмана», так выразился новоявленный калининградец, страшно довольный собой, еще бы, выучился говорить по-русски, как сами русские. Ох эти русские, упорно совершенствующие «велик могучим русский языка», называя машины тачками, деньги бабками, заменяя девять слов из десяти на одно нелепое «крутой», а десятое на бессмысленное «тусовка». Когда прошлой зимой в Москве знакомая журналистка за полчаса сорок семь раз произнесла слово «крутой», Пенелопа, загибавшая по третьему кругу пальцы на руках и ногах, поняла, что предпочитает быть отнесенной к категории — о ужас! — демодэ, но только современным арго решительно пренебречь…
— Мне, пожалуйста, чашечку кофе, — промолвила Пенелопа, усаживаясь за большущий стол, насильственно водворенный — так, что один угол выступал за порог, а другой подпирал окно — в маленький отдельный кабинет с видом на ущелье и Цицернакаберд, заваленный снегом, из которого чужеродно торчали верхушки памятника жертвам геноцида. Но Эдгар-Гарегин только фыркнул, и через пару минут в кабинет потянулись официанты с многочисленными подносами… по правде говоря, официант был один, но тарелок он принес столько, что казалось, целая вереница подавальщиков устремилась к столу, влекомая перстом или кошельком не то Лукулла, не то графа Монте-Кристо. Пенелопа долго не могла оторвать взгляд от маслин, тугих и блестящих, коричнево-черных и сочных вроде глаз того же отяготившегося избыточным количеством миллионов Дантеса или пылкой, но благородной Мерседес, потом ее немаленький (увы, не Мерседесин) — немаленький, но успешно нейтрализуемый пышной челкой нос учуял незамеченную до сей поры семгу, а когда официант подобострастно поинтересовался, не желают ли господа отварной форели, Пенелопа внезапно осознала, что в обедах с бывшими возлюбленными нет и никогда не было ничего дурного, напротив, это жест христианского милосердия и аристократической снисходительности к низшим сословиям; да, желают, вскричала она мысленно, да. Да. Да. Между тем владелец «Мерседеса» уже коротко кивнул, и официант унесся, оставив после себя приторный запах французского одеколона по четыре тысячи драмов флакон.
Форель оказалась сочной, шампанское сухим, кофе явно сваренным на песке, а коньяк настоящим марочным, без намека на подделку.
— Пенелопа, — сказал Эдгар-Гарегин, когда его ублаготворенная сотрапезница лениво отщипнула от объемистой виноградной грозди очередную изящную, длинную, вполне еще упругую ягодку и примеривалась, отправить ли ее в рот немедля или повременить, покрутить для вящего эффекта в гибких своих, тонких пальцах с безукоризненными ногтями. — Пенелопа, выходи за меня замуж.
— Замуж? — натурально удивилась Пенелопа. — Но ты ведь женат.
— Пенелопа, — укоризненно покачал головой владелец «Мерседеса». — Она здесь, я там. Я с ней уже сто лет не живу. Не притворяйся, что ты этого не знаешь.
Если б не выпитое шампанское, долитое коньяком, Пенелопа все же не преминула бы попритворяться еще хоть чуточку, с мужчинами надо держать ухо востро, но теперь ее разморило, изображать неведение или недоумение было лень, и она только полюбопытствовала:
— А со мной ты тоже собираешься создавать аналогичную семью? Ты там, я здесь.
— Ты лишь скажи «да», — с неожиданной и оттого еще более нелепой страстью в голосе бухнул Эдгар-Гарегин, — я за два дня оформлю развод, брак и увезу тебя с собой. Чем ты тут занимаешься? Выламываешься целый день за гроши? А там у меня солидное дело. Корпорация, можно сказать. Квартира, машина, самолет. Захочешь — гуляй себе на воле.
— На волю, в пампасы! — энергически уточнила Пенелопа.
— А не захочешь, я и тебе работу найду. Работы хватает. Поехали, Пенелопа! Скажи «да».
— Нет, — сказала Пенелопа.
— Почему?
— Почему?
— Да, почему?
— Ну… — Пенелопа поискала слова, но ничего подходящего не подворачивалось. Конечно, можно бы начать с того, что на просьбу сказать «да» она всегда отвечает «нет» и наоборот, но это как-то несолидно… — Поезд ушел, — выпалила она неожиданно для себя и отчаянно покраснела.
Вечно одно и то же: как наступит момент, когда следует произнести слова величавые и мудрые — бумс! — с языка непременно срывается какой-нибудь штамп, нечто донельзя заезженное и затасканное. И ушедший поезд сразу представился ей грязным, разбитым, ну совершенно советским составом из одних плацкартных вагонов с рассохшимися окнами, дребезжащими площадками, треснувшими стеклами, ржавым мокрым бельем и сонными проводницами, одетыми в разномастные юбки и кофточки. Света в поезде, естественно, нет, дверные замки сломаны, и всю ночь, вместо того чтобы спать, лежишь и трясешься, что кто-то вломится в купе… какое купе? Плацкарт же! Не важно — все равно вломится, схватит и увезет куда-нибудь в Калининград, Кенигсберг, к могиле зануды Канта, на берег противной, холодной, серой лужи, именуемой Балтийским морем…
— Поздно, понимаешь, — сказала Пенелопа, пытаясь покинуть стремительно уносящийся, выстукивая колесами бесконечный, иногда разбавляемый анапестами ямб, идущий без остановок, даже не снижающий на полустанках скорости поезд. Ничего не поделаешь, придется прыгать на ходу, уповая на лучшее. Или поискать стоп-кран… — Поздно.
— Почему? — упрямо повторил понурый владелец «Мерседеса», корпорации и самолета, и Пенелопа сделала новую попытку найти проникновенные и глубокомысленные слова, опять наткнулась на этот треклятый ушедший поезд, машинально поставила на подножку ногу, вторую… черт!.. соскочила и в сердцах отпихнула его подальше — теперь он казался игрушечным, заводным, безвольно перекатывался взад-вперед по коротеньким, лежащим полукругом рельсишкам, — отпихнула и, не найдя ничего более уместного, уронила небрежно и загадочно:
— Я люблю другого.
— Кого? — осведомился Эдгар-Гарегин недоверчиво, и она ответила туманно и уклончиво:
— Одного человека.
— Я понимаю, что не кошку, — сыронизировал владелец «Мерседеса», корпорации и далее, см. выше, и Пенелопа воззрилась на него с любопытством, смешанным с недоумением, а может, и тайной обидой — нет чтоб заплакать, закричать, удариться головой, вон тем самым местечком на темени, крохотной, но многообещающей лысинкой, которую она злорадно отметила в первый же миг, когда он повернулся спиной, удариться непробиваемой своей башкой об толстую туфовую стену… ну да, как же, они ударятся, разве мужчины способны на подобные порывы, эти самовлюбленные, самоуверенные, самодовольные прохвосты, гады и уроды!.. Воззрилась, а потом поняла: он ей просто не поверил. Не поверил, что все кончилось, что она добралась до громоздких гор… «Пустынна степь, покоен воздух, недалеко до гор громоздких, где скроюсь я от произвола твоих всесильных губ и рук», — читала ему из тонкого оранжевого сборничка, пытаясь приучить к поэзии, но боже мой, мужчины и поэзия, смехотворно, две вещи несовместные… не поверил, что появился другой, мужчины этому никогда не верят, им кажется, что они — навсегда, что они могут изменять, оставлять, уходить, унижать, а их должны любить и любить, преданно и смиренно. Дудки! Пенелопа победно усмехнулась.
— Кошку, собаку, мужчину — какая разница! — бросила она надменно. — Главное — тебя я больше не люблю.
«Да, больше не люблю», — пропела она мысленно, резко взмахивая красным веером и метя длинным шлейфом черного кружевного платья песок арены… или, наоборот, платье красное, а веер и перчатки черные?.. гордо откидывая голову и презрительно глядя на жалкого и потерянного бывшего героя своего романа, готового кинуть к ее одетым в сверкающие алые туфельки на шпильках ногам свою корпорацию, самолет и стать бандитом или чем она захочет, но нет, ей не нужны его дрянная корпорация и поганый самолетишко, будь что будет, пусть блеснет роковая сталь!.. «Мольбы напрасны, я не уступлю…»
Но Эдгар-Гарегин не стал обнажать ножа, которого у него и не водилось.
— Подумай, Пенелопа, — сказал он кротко, и Пенелопа с упоением отрезала:
— Не собираюсь!
— И все-таки подумай. — В настойчивости Эдгара-Гарегина Пенелопе почудилась долгожданная угроза, но он миролюбиво закончил: — Я позвоню.
И поднялся, оставив гневную отповедь Пенелопы в ее натруженной гортани, гортани и далее, речь была длинной и змеей сползала по трахее, бронхам, бронхиолам, засунув хвост куда-то в глубину легкого, слишком длинной, чтобы выпалить ее в секунду, а отповедь, произнесенная в спину уходящего мужчины, больше, чем нелепость, это все равно что начать отвечать на экзамене после того, как в зачетку уже вписана двойка.
— А что такое вообще любовь, Пенелопа? — спросил задумчиво владелец «Мерседеса» и прочих благ, выруливая на улицу. — Вот я, например, за все это время ни разу не видел тебя во сне. И вспоминаю не каждый день. И женщин у меня перебывало немало. Но после всякой из них я думаю: с Пенелопой было лучше. Это любовь или нет?
Пенелопа пожала плечами. Поди объясни этому обормоту, что такое любовь. Да и кому вообще это известно? Sister как-то сказала: любовь — это когда радуешься, что любимый человек храпит, тогда сквозь сон все время ощущаешь, что он дышит, он жив, с ним ничего не случилось. Н-да… Нам бы их заботы. Нам не до подобных тонкостей, в такие психологические изыски можно ударяться, когда человек этот целыми днями валяется рядом, а если он неведомо где, гадаешь только, любит или нет, помнит или забыл. Конечно, если он в опасном месте, задумаешься и о жизни-смерти, никуда не денешься, но дышит или не дышит рядом в постели…
— А потом?
— Потом? — Пенелопа закурила последнего «Пьера Кардена», скомкала пустую пачку, положила ее в пепельницу, изящно откинулась на спинку кресла, жадно затянулась, вернее, сделала вид, что затягивается, на самом деле, памятуя о своих беззащитных легких, дым она дальше миндалин не пропускала, не миндальничала с ним, скорее, она пускала дым в глаза… дым в глаза, дым столбом, дым коромыслом, гуляй, Вася!.. и небрежно бросила: — Потом он стал неистово целовать мне руки и клясться, что видит меня во сне каждую ночь, вспоминает по десять раз на дню, при любом взгляде на женщину — кинозвезду ли, манекенщицу — говорит себе… — Остальной текст более или менее совпадал с оригиналом.
— И ты поверила? — столь же энергично манипулируя сигаретой, спросила сидевшая напротив лучшая подруга Пенелопы Маргуша.
Откровенно говоря, лучших подруг у Пенелопы хватало, она обладала даром заводить таковых и за свою недлинную жизнь несомненно обросла бы ими, как волнорез скользкими зелеными водорослями, если б не имела заодно и способность время от времени оставлять часть из них в прошлом — величественно проплывая мимо, как лодка минует выпавший за борт спасательный круг: только что, минуту назад, он вальяжно лежал на корме и вот уже покачивается в отдалении, белым пятнышком на синей воде… Морские метафоры вконец одолели Пенелопу, и ее мысли непроизвольно перескочили к трем подругам, с которыми она много лет назад отдыхала на море, конкретно, в Пицунде… а скорее к Пицунде, в которой она много лет назад отдыхала с тремя подругами, ведь подруги уходят, а Пицунда остается. Пицунда, где они целыми днями возлежали под гигантскими реликтовыми соснами на огромных грудах хвои, предварительно сгребая ее в кучу с помощью простого, но действенного инструмента, а именно, собственной ноги, и слезали со своих лож для того лишь, чтобы окунуться в синюю полуденную воду и погреться на раскаленном песочке, либо съесть баклажаны или яичницу с помидорами, поджаренные утром и завернутые в позаимствованное тайком хозяйское одеяло, дабы не остыли в лесной прохладе к часу приема пищи до неприемлемости… Прямо как тут, в Ереване, два года назад, когда газ уже исчез, а керосинки еще не появились, и если свет по графику попадал не на ту половину дня, приходилось паковать кастрюлю с обедом в газеты и одеяла, чтобы сохранить его хотя бы относительно съедобным до момента общего сбора за столом… На море они готовили по очереди, выходило раз в четыре дня, совсем необременительно, даже развлечение: будучи вкраплены черными точечками в белизну праздника, будни бодрят… И где они теперь, эти подружки, оставленные за кормой светлые пятнышки на темной воде? Уплыли, точнее, их подобрали тонущие… тонущие или кандидаты в утопленники? Иной спасательный круг при близком знакомстве оказывается камнем на шею. А иные лучшие подруги отказывают тебе в праве на тайную страстишку жалкого кенигсбергского предпринимателя… Впрочем, это не со зла и не от зависти, просто сдуру, слишком уж Маргуша спокойное существо, неприспособленное к взлетам (и падениям, естественно). И то сказать, трудно нарушить равновесие системы, построенной на столь прочном основании. Спокон веку врачи, и дед, и бабка, и папа, и мама — папу-нейрохирурга исправно дополняет мама-невропатолог, что создает здоровую семью, меньше всего на свете склонную не то что к нервным потрясениям, но даже к крохотной, микроскопической, можно сказать, доле нервозности в домашнем и прочем обиходе. При таких родителях ребенку не остается ничего иного, как, выдержав без всяких треволнений вступительные экзамены — если слово «выдержать», от которого так и веет нечеловеческими испытаниями, подходит к случаю, когда абитуриент(ка) излагает основы химии или физики приемной комиссии, почти в полном составе и притом неоднократно трапезничавшей в большой гостиной ее, абитуриентки, родного дома, ибо и папа, и мама, давно солидарно преодолев барьер кандидатского минимума (не в смысле сдачи философии и иностранного языка, а в смысле существования в качестве более дальней цели докторского максимума), успешно подвизаются на дружественной кафедре мединститута, — итак, выдержав вступительные, а затем все прочие экзамены вплоть до государственных, получить диплом (не красный, кстати, а банальный синий, хотя многие Маргушины сокурсники с родительской и божьей помощью перекрасили свои «корочки» в любимый цвет Маркса) и приступить к работе — кем? Правильно, невропатологом. Интересно, интересно ли, когда вся жизнь просматривается наперед, с начала и до конца? Маргуше предстояло эту жизнь, во всяком случае, допенсионный ее отрезок, проработать невропатологом в месте достаточно престижном, но не чрезмерно ответственном, потихоньку сменяя категории и зарплаты, уменьшая числовое значение первых и повышая — вторых. Защитить диссертацию, по идее, могла бы и она, с помощью не столько божьей, сколько родительской, ибо была не настолько глупа, чтоб не суметь настрочить какую-то несчастную кандидатскую под диктовку папы-доктора, однако же настолько умной, чтобы претендовать на действительную научную карьеру, уродиться не сумела, опять-таки оказалась не настолько глупа, чтоб этого не понимать, и в итоге ей хватило сообразительности не соваться в занудную тягомотину с тематиками, проблематиками, отчетами, подсчетами, статистикой и прочей мистикой, а спокойно работать рядовым ординатором, заполняя круглым, крупным почерком истории болезни, попивая кофе, вскрывая презентуемые пролеченными (придуманное в московских клиниках словечко, очень кстати заменившее изжившее себя понятие «вылеченный») пациентами коробки ереванских шоколадных конфет «Ассорти», с тем чтобы извлечь из ассортимента немногие съедобные, отправив остальные прямиком в мусорную корзину, почитывая вместо скучных медицинских книжек романы из «Иностранной литературы», наконец, периодически рожая детей, для чего предварительно вполне удачно и своевременно выйдя замуж за перспективного журналиста с добротной родословной и надежным семейным тылом типа: папа — полковник в отставке, мама — чиновник среднего звена в Совмине, и так далее. Собственно, и это просматривалось заранее, еще в школьные годы (а Пенелопа знала Маргушу именно со школьных лет). Конечно, человек со стороны мог бы усомниться в столь ранней зоркости, но Пенелопа поклялась бы — а клясться она обожала, особенно странными клятвами типа дворянско-офицерского «клянусь честью» или фантастико-гастрономического «если дело примет иной оборот», я съем журнальный (обеденный) столик (диван, кровать, книжный шкаф и т. п., см. спецификацию мебельного гарнитура), — Пенелопа поклялась бы кому угодно и где угодно, что еще в десятом классе вычла на чистом Маргушином лбу начертанные невидимыми знаками основные вехи ее будущего: удачное замужество, деторождение без задержек и осложнений, долгое незамутненное существование в качестве добропорядочной жены и чадолюбивой матери хорошо (в дальнейшем) пристроенных детей, позднее — почтенной матроны, счастливой свекрови, тещи, бабушки…
— Вышла из мрака младая, с перстами пурпурными Эос, — прогнусавил за спиной Пенелопы не сразу узнанный ею ломкий мальчишеский голос.
— Арсен, замолчи! — рассердилась Маргуша.
— Вышла из мрака младая… — не унимался тот.
— Арсен!
Пенелопа обернулась. Лукавая рожица нимало не смущенного мальчугана на секунду исчезла, затем снова появилась из-за дверного косяка.
— Пенелопа, где твой Одиссей? — пропел он дерзко и скорчил гримаску.
Маргуша схватила с дивана подушку и запустила в непокорного сына, только тогда тот, хихикая, запрыгал по коридору прочь.
— Ужасный ребенок!
В устах матери это звучало скорее кокетливо, и Пенелопа добродушно отмахнулась:
— Да ладно! Пусть декламирует.
— Ты не представляешь, какая память у этого негодника. Два дня назад Овик принес ему книжку…
— «Одиссею»?! — удивилась Пенелопа.
— Нет, «Легенды»… может, «Мифы»… Что-то в этом роде.
— Куна?
— Я не смотрела. Он тут же прочел и теперь всех изводит. Вообрази себе, он окрестил Артема Артемидой, и тот…
Пенелопа запрокинула голову и захохотала. На сей раз десятилетний острослов попал в самую точку. Деверь Маргуши Артем был настолько хрупок и малоросл, что женское окончание казалось не только уместным, но и неотъемлемым.
Конечно, Артемка весьма ревниво относился к высказываниям, задевавшим его и без того многострадальное мужское достоинство. По причине своей малогабаритности он никак не мог наладить то, что в новогодних открытках непонятно почему называют личной жизнью. Уж кому-кому, а Пенелопе это было известно отлично, сей несчастный пигмей пытался за ней ухаживать еще в те стародавние времена, когда Овик с Маргушей только встречались, что подразумевало, кроме вздохов на скамейке и гуляния при луне, а вернее, вместо этих мало распространенных в Армении обрядов, устраивание, как тогда было принято говорить, вечеров, где собирались несколько подружек и приятелей, желательно парней и девушек поровну, в основном чтобы потанцевать, а точнее, пообниматься под видом танцевания, а то и обменяться парой осторожных поцелуев. Заводившиеся на таких сборищах знакомства нередко перерастали в браки, собственно, в Армении почти всякие отношения между парнями и девушками в итоге оказываются предбрачными. Почти, но не все. Артем, в качестве брата непременно присутствовавший при хореографических упражнениях Овика, был не прочь завести роман с постоянно сопровождавшей партнершу того подружкой — еще бы! Рядом с Маргушей, оттопыренные уши и кривые ноги которой только частично уравновешивались добродушием (бывшим во многом лишь внешним отражением душевной лени) и великосветскими манерами, Пенелопа выглядела прибывшей на рождественские каникулы голливудской звездой. Артем, в сущности, был неглуп и даже недурен — с его довольно тонким лицом и по-женски красивыми глазами… ну точно Артемида, как ей самой это не пришло в голову… но все достоинства вкупе не уравновешивали, возможно, не единственный, но самый явный его недостаток: а именно, он, и вытянувшись во фрунт, доставал макушкой лишь до Пенелопиного уха. Даже когда она была без каблуков. А Пенелопа еще и любила носить туфли на высо-оких каблуках. Так что Артем-Артемида был решительно и бесповоротно отвергнут и отправлен на поиски женщин близкого своему формата. Поиски не слишком успешные, надо признать. Разок он женился-таки «по росту», причем жену ему, такую же маленькую и хрупкую, как он сам, сыскал не кто иной, как родной отец, но столь гармоничный внешне брак внутренне оказался состязанием двух лилипутов за звание Гулливера и завершился тем, что молодая жена, прихватив трехмесячного младенца, отбыла к маме с папой, предупредив Артема, что тот может считать себя свободным от отцовских прав — но не обязанностей, поскольку забыть об алиментах упорхнувшая супруга не обещала. К тому же, несмотря на наличие у вышеупомянутых мамы с папой собственного дома о двух этажах, она, воспользовавшись гуманностью советских законов, не преминула отсудить у потрясенного Артемки половину его комнаты в родительской квартире, куда он неосторожно прописал супружницу. Правда, вселяться в эти полкомнаты она не спешила, предпочитая выигрышное положение дамоклова меча. Что касается Артемки, тот зарекся впредь кого-либо к себе прописывать, пусть даже по рекомендации собственного отца, впрочем, прописывать, собственно, было некого. Как назло, его влекли к себе высокие и пышнотелые, гинекологического вида дамы (Пенелопа подметила, что большинство женщин-гинекологов на удивление крупномасштабны и укомплектованы массивной и обильной плотью), иногда и дамы отвечали ему взаимностью, подтверждая народную мудрость, согласно которой большим женщинам нравятся маленькие мужчины, но когда он пытался предъявить подобного вида подругу сердца приятелям или брату, его неизменно поднимали на смех, предотвращая тем самым опасность возникновения нового дела о прописке. Время от времени он вновь обращал ищущий взор на Пенелопу, буде ему случалось встретить предмет своих былых мечтаний у Маргуши, но Пенелопа безжалостно отвечала на этот взор тем, что вставала с места, демонстративно вытягивалась во весь свой стосемидесятисантиметровый рост («У меня рост манекенщицы», — любила она повторять), иногда даже приподнималась на цыпочки и принималась расхаживать по комнате, рассеянно поглядывая сверху на обескураженную Артемиду без всякого сострадания, ибо какое возможно сострадание к поклоннику, отправившемуся искать счастья в другом месте. О том, кто был отправитель, Пенелопа не вспоминала, да это и вовсе не имело значения, в конце концов, поклонники на то и существуют, чтоб их отвергали, а они, как гласит армянская поговорка, будучи выставленными за дверь, влезали в окно. А будучи вышвырнутыми в окно, просачивались через вентиляцию, водопровод, канализацию и прочие доступные и недоступные щели до тех пор, пока их усилия не получат должной оценки. При подобном ходе вещей и у Артемки появились бы кое-какие шансы, тем более что он все-таки доставал Пенелопе не до изящно вытянутой мочки, а до верхнего края ушной раковины безупречной формы. Артем, однако, все шансы упустил, что давало Пенелопе повод, посматривая на него с высоты, пессимистично размышлять о том, что ей до тошноты не везет с поклонниками: тут лилипут, там толстяк (толстяк был коллегой, учителем рисования, с отвратительной регулярностью, раз в неделю, предлагавшим Пенелопе написать ее портрет)…
Маргуша между тем отнюдь не помалкивала. Оказывается.
— Конечно, Арсен на редкость развитой ребенок… Пенелопа, ты меня не слушаешь!..
— Я?! — Пенелопа привычно приняла заинтересованный вид, с каким из года в год выслушивала откровения замужних подруг, упивавшихся уникальностью своих двуногих творений. Уникальным был любой, вундеркинд на вундеркинде, гениальным все, что они делали и говорили — от убогих подражаний афоризмам из книги Чуковского до особо живописного восседания на горшке. Поскольку Маргуша успела обзавестись уже — всего! — двумя демонстрирующими сплошные вундеры киндами, ее лучшей подруге предстояло ознакомиться не только с самыми свежими из глубоких мыслей десятилетнего Арсена, но и озарениями трехлетней Аллочки, ныне почивавшей в соседней комнате, и она (Пенелопа) готовилась вынести это испытание со стоицизмом Зенона и притворством… кого же? Тьфу, черт! Энциклопедичность порой подводила, ставила в тупик, как мудреца, выдолбившего наизусть БСЭ и то и дело обнаруживающего сокрушительные бреши в своих якобы всеобъемлющих познаниях. Так кого же? Был какой-то лицемер, ей-богу был! Имени Пенелопа так и не вспомнила, но это ее не очень смутило, одного Зенона хватит за глаза, Зеноном можно гордиться, кто еще способен не просто припоминать, но и свободно оперировать подобными лицами и понятиями… Интересно, тот ли это Зенон, который что-то нагородил про Ахилла и черепаху? То ли Ахилл обогнал черепаху, то ли черепаха Ахилла — не хотелось верить, что Ахилл был настолько хил, чтоб поддаться черепахе, в конце концов, он же родом из Пенелопоннеса, но, с другой стороны, если не черепаха обогнала Ахилла, то в чем же тогда парадокс, а это ведь парадокс, не так ли? Суть его Пенелопа, правда, забыла начисто, какая-то странная история, ведь сколько бы черепаха ни пахала и ни ахала, все равно победой над Ахиллом, даже хилым и аховым, не пахло…
Увлекшись Зеноном… или Зенонами, надо посмотреть в СЭСе… Пенелопа благополучно прослушала — не в смысле выслушала, а в смысле пропустила мимо ушей — дифирамбы Маргуши в адрес своих двух двуногих… итого одного четвероногого? Можно ли в данном случае суммировать, что на это сказал бы Зенон?
— Маргуша, — прервала она словоизвержение самоослепленной матери… все матери напоминали Пенелопе выколовших себе глаза Эдипов… колонны Эдипов, полки Эдипов, армии Эдипов — или Эдипесс… это ж надо — в упор не видеть своих чад, как объективную реальность… — Маргуша, может, я пойду мыться, пока свет не выключили?
— Не выключат, — отозвалась та слегка разочарованно. — Еще целый час.
— Мало ли что?
— Ну ладно, пошли.
Пенелопа развесила в ванной полотенце и чистое белье, извлекла губку и расческу. Она изучала предложенный Маргушей богатый набор шампуней, когда хлопнула входная дверь.
— Овик! — удивилась Маргуша. — Так рано! Пенелопочка, подожди пару минут, пусть он помоет руки, наверняка голодный.
И Пенелопе пришлось оторваться от созерцания шампуней, завернуть уже открытый кран и покинуть на неопределенный промежуток времени землю обетованную, предварительно запихнув в полиэтиленовый мешок наиболее откровенные детали своего туалета, приготовленные на смену тем, которым надлежало покинуть ее обещавшее стать стерильно чистым тело (отмываемое, заметим, до блеска ежевечерне либо ежеутренне, ежесуточно, во всяком случае). Вообще-то ей, как и любой женщине, не был чужд эксгибиционизм в том или ином варианте, и не покажись ей трусики слишком поблекшими от частых стирок, она и не подумала бы их убирать, но, увы, новое белье приходилось беречь для более торжественных случаев.
— Пенелопа, — с чувством сказал успевший снять пальто хозяин дома, приложив к груди руки и слегка кланяясь, — привет тебе, о многоумная.
Маргуша возвела очи горе и шумно вздохнула.
— Здравствуй, Ваня, — ответила Пенелопа. — Как живешь-можешь? Как там твой бульварный листок, сплетни-кляузы?
— Да ничего, спасибочки, — суетливо забормотал «Ваня», — сплетничаем помаленьку. Слегка привираем, немножко придумываем, кое-что скрываем, о некоторых пустячках помалкиваем, а в общем-то правду пишем. Чистую, как ереванская вода.
— Или как водка «Ельцин». Кстати, как дела в Чечне?
— Пока никак. Доблестные русские войска занимают исходные позиции. Если ты следишь за событиями…
— Слежу, — храбро заявила Пенелопа, хотя про то, что в Чечне намечаются события, ей полчаса назад рассказал Эдгар-Гарегин, иначе б она ни о чем таком понятия не имела, да и откуда оно возьмется, это понятие: газет не приносят, телевизор не работает, радио месяц как молчит, сели батарейки, а на новые нет денег, еще и занятия прервали, в училище по крайней мере, ходят большие и малые новости, принимающие, правда, в процессе передачи зачастую неузнаваемые, а то и немыслимые формы… Да и, если по совести, не интересовало Пенелопу все это, была она от природы аполитична и проблемы общественно-государственные обсуждала обычно с людьми, которые ни о чем другом говорить не умели, есть ведь такие — даже добросовестно переходя на иные темы, в итоге все равно сбиваются на политику. Муж лучшей подруги Маргуши, кроме политики, рассуждал только о футболе, что волновало Пенелопу еще меньше, если что-то может быть меньше, чем ничего, нуль… конечно, может, минус один, два и далее до минус бесконечности, в пределах этой арифметической прогрессии… или регрессии, что звучит уместнее… в пределах этой прогрессии-регрессии поместится все, что угодно, от футбола и политики до, скажем, пчеловодства или шапкозакидательства… кстати…
— Говорят, Грачев обещал шапками закидать, — вставила она, демонстрируя осведомленность. — Что ты на этот счет думаешь?
Овик пожал плечами:
— Закидать закидают. Но шапками вряд ли. Скорее бомбами. Чего им? Бомб у них столько, что держать негде, опять же — куда девать устаревшие? Чем где-то обезвреживать, не проще ли кинуть на головы чеченцам? И вообще я на месте Грачева двинул бы на Дудаева одних офицеров — пусть поубивают их побольше, не придется квартиры строить, повыводили отовсюду, и что с ними дальше делать, неизвестно. А поубивают — ноу проблемс!
— Овик, перестань паясничать, — рассердилась Маргуша. — Объясни, что происходит. Что с Чечней?
— Сиди там, где сидишь, женщина, — махнул на нее рукой муж.
— Твое место у параши, — любезно закончила его мысль Пенелопа.
— У параши, не у параши, а нас все это не касается, — сказал Овик нравоучительно. — Не наше это дело.
— Что значит не наше? — немедленно заспорила Пенелопа. — Как это не касается?
— А так. Чеченцы ведь воевали против нас в Карабахе. Турки у них лучшие друзья. Как самим независимость понадобилась, сразу подавай, а армяне пусть подыхают под турками? Двойной стандарт.
— У тебя самого двойной стандарт, — не сдалась Пенелопа. — Орете небось: право на самоопределение, право на самоопределение, а если кто-то с турками дружит, так черт с его правами?
— Ох, Пенелопа, — вздохнул Овик, — не Пене-лопа ты вовсе, а Анти-лопа. Лишь бы наперекор.
— У антилоп растут рожки, — послышался из коридора угрожающе близкий голос Арсена.
— Не рожки, а когти, — пробормотал его отец. — Когти и клыки. Укротителя тебе надобно, вот что. Чтоб не перечила почем зря.
— А тебе лишь бы не перечили, — сказала Пенелопа ехидно. — Где же свобода слова, господин журналист?
— Господин журналист устал, — буркнул тот. — Устал и голоден. Дайте мне, черт возьми, умыться и поесть, женщины.
— Но ты ведь не будешь отрицать, что правда на стороне чеченцев, — не уступала Пенелопа.
— Правда, неправда, — утомленно возразил господин журналист. — Правда, как известно, понятие относительное. Вот мусульмане всегда выступают единым фронтом. Для них кто мусульманин, тот и прав. Это у нас всякие дурацкие рефлексии, права человека, демократия, оппозиция…
— У кого — у нас?
— Ну… У европейцев, скажем так.
— Ты считаешь себя европейцем? — поддела его Пенелопа.
— А ты себя считаешь азиаткой? — иронически осведомился он.
Азиаткой? Ну нет, азиаткой Пенелопа себя не считала, общее заблуждение, побуждавшее армянскую нацию вопреки географической очевидности причислять себя к европейцам, не обошло и ее…
— Мы духовный кусочек Европы, заброшенный в Азию, — сформулировал Овик и даже подбоченился, чрезвычайно довольный собой.
— Заброшенный? Это какой же силой? — мгновенно отреагировала Пенелопа.
Овик поморщился.
— Ты не споришь, а играешь в пинг-понг, — заявил он пренебрежительно. — В конце концов, европеец — понятие уже психологическое, а не географическое.
На это у Пенелопы ответа не нашлось, и господин журналист уже праздновал победу, но тут, опередив Пенелопу, которая лихорадочно, но безуспешно искала парирующую реплику, неожиданный удар с тыла нанесла Маргуша.
— Погоди, Овик, — сказала она вдруг. — Разве мусульмане всегда выступают заодно? А как же война с Ираком?
Пенелопа возликовала, она открыла рот, чтобы засыпать противника еще десятком подобных примеров, но тот коварно обошел ее и кольнул в спину.
— Ты, кажется, хотела помыться, женщина? — вкрадчиво спросил он, и пыл Пенелопы остыл сразу, как незавернутый чайник в нетопленой квартире, душа ее, покинув суетный мир, устремилась к ванной, как души праведников к обещанному райскому блаженству… вот уж куда нормальный человек стремиться не станет, только праведник, который дураком был на земле и дураком останется в земле и в небесах. Совершенно нелепая идея! Рай. Вместо того чтоб умереть и навсегда избавиться от разных треклятых переживаний, сиди там, наверху, и наблюдай за тем, как тебя постепенно забывают все, кто тебя любил, как ты неизбежно превращаешься в фотографию на стене — а к фотографиям на стене очень скоро привыкают и перестают их замечать, — как тот, для кого ты была единственной, избывает свое якобы неизбывное горе, обзаводится новой возлюбленной, и какой толк ждать его на небе? Ведь приперевшись туда, он, пожалуй, предпочтет воссоединиться уже с той, другой, поздней, та ему теперь ближе. Иди тогда целую вечность мучайся. И вся награда за эти поистине адские муки — райское блаженство. Бесплатная жратва и безделье. Кофе в постель. Валяешься на мягчайших подушках, и ангелочки с крылышками из лебяжьего пуха приносят тебе кофе в чашечках саксонского фарфора или, скорее, мороженое, серебряными ложечками… тьфу, терпеть не могу привкус серебра!.. кладут тебе в рот финское или лучше шведское мороженое, да, правильно, это вкусно, это даже о-о-чень вкусно, но только ради мороженого терпеть подобный кошмар? Сдохнуть можно от такого блаженства, то есть и сдохнуть нельзя, поскольку однажды уже сдох! Вот вам ваш рай. Идеал даже не среднего человека, а какого-то люмпена, и этим-то идеалом христианству уже две тысячи лет удается удерживать… Ба, христианство! Та самая сила! Не так уж плохо он и выразился, счастливый редактор бульварного листка, неплохо, хоть и немножко наоборот, как Гегель, которого Маркс с Энгельсом поставили вверх тормашками; на самом деле Армения — это кусочек Азии, отторгнутый от нее и втянутый в Европу, а сила, проделавшая такую операцию, — христианство, в невообразимо древние времена занесенное в наш медвежий угол. А ведь в этом углу христианское мироощущение сформировалось не только задолго до того, как на свет появился ислам, да и многие народы, его принявшие, но и прежде, чем христианство стало религией Европы. То есть мы осколок даже не европейской, а доевропейской культуры, позднее усвоенной Европой. Ну и дела! Пенелопа подумала, не поделиться ли своим открытием с Овиком, но побоялась, что доевропейское происхождение ударит ему в голову, как шампанское, которым напоил ее самонадеянный Эдгар-Гарегин и которое до сих пор вызывало если не шум, так шумок то в одном, то в другом закоулке ее немытой… Остановись, Пенелопа! Мало того что ты два раза кряду употребила кошмар стилистов, навязчивое, как самодовольные олухи мужеска пола, однажды сбившие женщину с толку и уверовавшие, что так будет и впредь, и неотвязное, как они же, слово «который», ты еще и на шаг от опасности водрузить там же две головы — превратив предложение в недостроенную православную церковь… не опасности, нет — катастрофы. Краха! Две головы, да еще такие разные (архитектора за подобные штучки поставили б к стенке), квадратно-цилиндрическая, словно кое-как вырубленная неловким скульптором-кубистом башка господина редактора и благородный продолговатый череп эллинской школы… Но боже мой! Спрашивается, что можно столько времени делать в ванной, не влезая в ванну? Не утонул же он в раковине! Пенелопа в волнении запустила руки в свои и так уже растрепанные волосы — она повторяла этот жест не реже, чем достославная ипостась Агаты Кристи, но тут Овик снова появился в дверях, а откуда-то из-под локтя у него высунулась рожица Арсена, который, чувствуя себя надежно защищенным, нагло прокричал:
— Антилопа, где твои рожки?
— Арсен, — всплеснула руками Маргуша, — ты прекратишь или нет?
— Не придирайся к ребенку. Он шутит, — благодушно успокоил ее снисходительный отец, и ободренный поддержкой маленький хулиган сообщил ему, скорбно закатив глаза:
— Бедному ребенку слова не дают сказать. Террор.
— Видишь, как он умеет выражаться! — восхитился Овик и обратился к Пенелопе: — Вот устроят твои чеченцы террор, будешь знать. Подложат пару бомб в московское метро, а у тебя ведь сестра в Москве…
— Типун тебе на язык! — возмутилась Пенелопа.
— От мусульман весь мир стонет, — сказал Овик, сокрушенно качая головой. — Одна наша Пенелопа-Антилопа защищает их грудью.
— Я не мусульман защищаю, — ощетинилась Пенелопа, — а… а… истину! Существует же объективная истина. Тебя послушать, так и с Жириком подружишься, он ведь турков не жалует, настоящих, а не этих несчастных азербайджанцев. Глядишь, придет к власти, устроит небольшую войну, раздолбает Турцию…
— Ага. Видали мы их войны. Сначала русские идут на Турцию, и армяне их поддерживают. Потом русские уматывают, а армяне остаются один на один с турками. Уже было. Спасибочки.
— Что же ты предлагаешь?
— Я?! — удивился Овик. — Я человек тихий. У меня жена, дети, бульварный листок, сижу, молчу в тряпочку. Это ты предлагаешь. Сражаться за чеченцев против русских. Сражаться за русских против турок. А время, между прочим, без четверти два.
О господи! Пенелопу раздирали противоположные чувства. Последнее слово оставалось за этим циником, ерником, насмешником, последнее слово… да, но немытая голова? Не говоря о теле. Еще минуту она колебалась, наконец сделала выбор и, поспешно бросив: «Погоди, я еще вернусь!», помчалась в ванную. И тут свет погас. Чертовщина!
— Не чертовщина, а без четверти два, — сказал Овик злорадно. — Выключили на пятнадцать минут раньше. Что неудивительно, учитывая невинное человеческое желание подзаработать. Сэкономить на одних, чтобы продать другим.
— Чтоб они сдохли! — выпалила в сердцах Пенелопа.
— Да ладно, пусть живут. Не будь такой злюкой. Садись. Раз уж ты не можешь помыться, давай хотя бы перекусим. Пока все не остыло. И пока в комнате тепло.
— Не хочу. Я перекушенная.
— Ну кофе выпей.
— Не буду, — заупрямилась Пенелопа. — Некогда мне. Пойду к Каре, у нее тоже сегодня днем свет.
— Антилопа, ты идешь к Одиссею? — поинтересовался Арсен, когда, наскоро собрав вещички, насупленная Пенелопа двинулась к выходу.
— Антилопы не ходят к Одиссеям, — объяснил ему Овик. — К Одиссеям ходят Пенелопы. Точнее, наоборот, к Пенелопам ходят Одиссеи. А антилопы могут пойти разве что к зебрам. На крайний случай к бегемотам. Либо одно, либо другое. Понял?
Арсен радостно кивнул головой.
— Окончательно спятили, что отец, что сын, — безнадежно вздохнула Маргуша и чмокнула Пенелопу в щечку, а Пенелопа, не говоря ни слова, облачилась в полушубок, подхватила свой багаж и покинула обесточенную квартиру.
— Пенелопа, где твой бегемот? — неслось ей вслед, раскатываясь по лестничной клетке.
Глава третья
По странной случайности все лучшие подруги Пенелопы были сосредоточены на том симпатично небольшом пространстве, которое при желании можно исходить вдоль и поперек за пару часов, что Пенелопа нередко и проделывала, одна или в компании, ибо пространство это в точности совпадало с тем, что в туристских проспектах именуют историческим центром города и что по совместительству представляет собой основную территорию для пеших прогулок или променадов, как иногда выражалась Пенелопа, воображавшая себя наследницей вымирающих интеллигентов с франкофильским уклоном. Конечно, в применении к Еревану формулировка «исторический центр» выглядела явной гиперболой: то, что здесь уцелело от истории, обнаружению невооруженным глазом не поддавалось — а может, исторический центр вовсе и не в центре, а на окраине, на холме, увенчанном развалинами пресловутой крепости Эребуни, раскопанной, исследованной, воспетой, восстановленной… пардон, это нет, а забавно было бы поглядеть на вновь возведенную цитадель урартских непредков… Непонятно только, почему не предков, куда они, спрашивается, делись, ну приперлись сюда какие-то босяки и забияки армены, перетрахали урарток, поубивали урартов — но не всех же, большинство осталось там же, где было, и перемешалось с агрессором. Крепость же небось сами, как водится, и разрушили до основания, а теперь шумят: Эребуни, Эребуни, носятся со своей надписью… Аргишти, сын Менуа, основал крепость сию на страх врагам и на радость друзьям, дабы могущество государства охранять и множить… Собственно, она наверняка звучит как-то иначе, кто ее упомнит, эту надпись, хоть она и торчит, выставленная на всеобщее обозрение посреди площади Ленина, пардон, Республики, и всякий, кто владеет клинописью, может ее прочесть, к собственному (если про себя) либо всеобщему (если вслух) удовольствию. Впрочем, кажется, есть и перевод. Есть или нет? Бог его знает, проходишь мимо десятки, сотни, тысячи раз, естественно, ничего уже не видишь, то есть видишь, конечно, но механически, не фиксируя, даже камня этого, махину стотонную, не замечаешь, что говорить о каком-то переводе… ну должен он быть, должен, где-то под клинописью, а может, и вместо клинописи, может, ее стерли сгоряча, эту клинопись, в жаркий период борьбы за чистоту, вернее, господство национального языка, тогда же, когда принялись судорожно, трясясь от нетерпения, переводить на армянский микрофоны, танки, квартеты, балеты, мафию и электрокардиографию… но поосторожнее, госпожа Пенелопа, язык не трожьте, язык это святое, недаром у нас улицы — сплошная словесность. Теряна, Туманяна, Абовяна, Саят-Нова… Пенелопа пересекла Саят-Нова и приостановилась, раздумывая, стоит ли дойти до книжного и взглянуть, что там есть, точнее, не появилось ли там случайно чего-нибудь, или лучше сразу идти к Каре, обитавшей как раз напротив того места, где Пенелопа в нерешительности топталась. Пожалуй, не стоит, наверняка книжный представляет собой зрелище настолько убогое!.. Убогое, как у бога? Интересно, кто придумал это словечко, не скептики ли наподобие самой Пенелопы, относившиеся к раю так, как он заслуживает, ведь рай и есть то убогое местечко, которое можно было бы назвать «У бога». Звучит как таверна или пивнушка. «У бога», «У чаши», «У дофина». Кружку пива господину комиссару! Пивка для рывка, как говаривал двоюродный брат в те времена, когда еще не подался в антиподы. Антиподы — не потому что они не подаются, не поддаются и не поддают, а потому что проделывают все это не на подиуме, а под подиумом, если считать за подиум Землю, а причин не считать ее подиумом нет… Пенелопа пересекла улицу Абовяна и вошла в магазин. Раньше он назывался «Синтетика», иногда тут, особенно в конце года или даже квартала, можно было что-то и купить, они с Маргушей частенько сюда заглядывали, разумеется, до того, как Маргуша вышла замуж, вернее, до того, как она произвела на свет первого из своих вундеркиндов, на несколько лет сделавших ее невыездной (и невыходной). Овик же в отличие от прочих армянских мужей… хорошо звучит, а? Армянские мужи! Звон доспехов, стук копыт, трубы и барабаны… В отличие от других, не богатых доблестями, но пыжащихся не хуже какого-нибудь Аякса армянских мужей Овик не ограничивал Маргушину свободу передвижения (на разумные расстояния, естественно), а также свободу собраний, демонстраций, слова и иные свободы, конституционные и неконституционные, кроме, конечно, сексуальной, в противном случае он не был бы армянским мужем. А он был. Прогрессивным, но армянским. Армянским, но прогрессивным. Журналист все-таки, хотя и редактор бульварного листка. Бульварными листками Пенелопа считала все выходившие в Армении газеты — левые, правые, средние, верхние, нижние, боковые, какие еще могут быть газеты, — бессознательно уподобляя при этом бульварные листки фиговым и полагая, что прикрывают те и другие вещи весьма схожие. Смешно думать, что журналисты верят в то, что пишут. Пенелопа этого, естественно, не думала, но временами ей все же казалось, что Овик относится к ахинее, которую распространяла его газетенка, вполне серьезно. Во всяком случае, в собственную или санкционированную собой писанину насчет мусульманской угрозы он верил куда больше, чем в Священное писание. Впрочем, в мусульманскую угрозу верили все. Если не в мусульманскую вообще, то в турецкую точно. Останови на улицах Еревана десять случайных прохожих и спроси, воспользуются ли, по их мнению, турки первым же удобным случаем, чтоб стереть с лица земли Армению и перебить ее жителей, — девять из десяти ответят: да. Да. Конечно, естественно, разумеется, непременно, обязательно, само собой. А десятый уточнит, что турки спят и видят, как бы не только Армению стереть в порошок, но и добраться до каждого армянина, ускользнувшего так или иначе от турецкого ножа. Так что в турецкую угрозу верят все. Кроме Пенелопы. Удивительно. Возможно, в этом неверии повинно ее вечное упрямство? Упрямство, дух противоречия, антилопство. В конце концов, кому, как не ей, чьих прадеда с прабабкой убили турки… Странное дело. Все эти «геноцид», «резня», «пятнадцатый год» звучат совершенно абстрактно, отвлеченно. Даже если и ходишь, как все, из года в год двадцать четвертого апреля на Цицернакаберд, приносишь цветы, возлагаешь их на гребень стены из тюльпанов, роз и гвоздик, которая уже к полудню поднимается высоко-высоко над гранитным постаментом, до поры до времени это воспринимается всего лишь как ритуал, нечто «вообще», неопределенное и невнятное, ушедшее далеко в прошлое, канувшее в вечность. И только когда вдруг подумаешь, что здесь, именно здесь символическая могила прабабушки и прадедушки — символическая, ибо настоящую не дано найти никому — и было все, в сущности, совсем недавно… И тем не менее она, Пенелопа, не рвет на себе волосы и не бьется в судорогах, как тот же Овик, все прадеды и прабабки которого, между прочим, покоятся стройными рядами на деревенском кладбище в пределах досягаемости — не то в Одзуне, не то в Горисе. Да если на то пошло, она, Пенелопа, есть лично пострадавшая, разве не она претерпела весь кошмар пятнадцатого года в закодированном в генах бабушки состоянии!.. Правда, этим в Армении никого не удивишь, тут исключение скорее Овик со своими сверхблагополучными предками, вот и у Маргуши род матери карабахский, старинный, шушинский, хотя ее прадед уехал с семьей из Шуши еще до революции и, тем более, до резни, только старый дом их, то, что называют родовым гнездом, был разграблен в «хищном городе», пополнив своими мертвыми окнами мандельштамовские сорок тысяч. Старый дом и могилы предков. Могилы предков. В юности это пустой звук, простая формальность: что есть могила, если не обыкновенная яма, где зарыто нечто, не имеющее уже ничего общего с человеческой личностью, и разве постепенно сглаживающийся горбик на случайном клочке земли порождает воспоминаний больше, чем комната, стул, кровать, книги? Чем шаль? Где похоронена прабабушка Шушан? Пенелопа не знала этого и особенно не рвалась узнать, шаль говорила больше, хотя и была безымянной, а что может сказать каменная плита, пусть даже помеченная месроповскими знаками? И однако с годами отношение к могилам меняется, и мысль о том, что прадед и прабабка похоронены где-то в пустыне или, еще хуже, не похоронены, а небрежно и рутинно зарыты и нет у них никаких могил, а просто место, где проходят сотни ног, наступают, топчут, — эта мысль вызывает иногда спазм в горле. А ведь она, Пенелопа, отнюдь не одна такая, тут, в Ереване, где ни копни — мушцы, карсцы, ванцы… Ванцы, ни разу в жизни не окунавшиеся в целебные воды синего озера Ван — говорят, от ванской воды улучшается кожа, становится упругой и свежей, как от хваленых кремов серии «Ньювейс», которые распространяет, проще говоря, навязывает всем подряд Маргушина невестка, в прошлом младший научный сотрудник академического института, снобка и задавака, а ныне дилер (брокер, бройлер, менеджер, тинейджер?), уговорившая в позапрошлом году Маргушиного олуха-братца перебраться в Москву и заниматься там неведомо чем, чуть ли не контрабандой спирта, — синего озера Ван, где на древнем острове Ахтамар стоит монастырь десятого века… если его еще не снесли турки, говорят, турки разрушают все, что осталось армянского в Западной Армении, или по крайней мере дают ему разрушаться, хотя это нелогично, ведь древняя архитектура — капитал, манок для туристов… но турки есть турки, притворщики и лицемеры, нетрудно представить себе, как они водят по Ахтамару всяких западных зевак и говорят, скорбно качая коварными головами: «Вот видите, в какое плачевное состояние пришел ценнейший архитектурный памятник, а все потому, что легкомысленные армяне, любители сладкой жизни и благ цивилизации, побросали свои домики-храмики и айда в Америку. Им наплевать, что тут все рушится, а у нас свои заботы, до ахов-охов ихней Тамар у нас руки не доходят, дай бог, то есть аллах, Айя-Софию успевать реставрировать»… вечно ты все путаешь, Пенелопа, в Айя-Софии турецкой крови не больше, чем в Ах-Тамар… Ах, Тамар! Пенелопа была еще совсем ребенком, когда после какого-то семейного торжества обнаружила на неубранном столе затерявшуюся среди грязной посуды и смятых салфеток, забытую, видимо, кем-то из подвыпивших родственников изящную сероголубую коробку с тоненькой серебряной женской фигуркой и непонятной надписью «Ахтамар». Прятавшиеся под крышечкой темно-коричневые цилиндрики Пенелопу не интересовали, а были лишь препятствием к безраздельному владению понравившимся предметом, посему она бестрепетно вытряхнула содержимое в мусорное ведро и пошла с коробкой к отцу требовать объяснений. И посерьезневший папа Генрих рассказал ей легенду о красавице Тамар. Уточнить местонахождение острова, где обитала красавица, он при этом забыл, а может, и не посмел, дабы не сбить неопытное дитя с правильной ориентации пионерско- (или октябрятско?) интернационалистского толка дебатами на запретные темы типа геноцида армян в Османской империи, — происходило это задолго до того, как книга с аналогичным названием появилась в книжном шкафу, даже до того, как Ереван захлестнули юношеские волнения шестьдесят пятого года, завершившиеся битьем стекол в дверях оперного театра. Пенелопе из всех событий, свидетельницей которых она по малолетству не была, запомнился именно этот варварский акт, ибо он и только он подвергся обсуждению и осуждению в достойном семействе оперного певца и члена Коммунистической партии Советского Союза. В результате в течение лет еще четырех или пяти Пенелопа пребывала в непоколебимой, хотя и, по правде говоря, никем ей не внушенной уверенности в том, что жила неудачливая смотрительница маяка на озере Севан, и только когда по дороге в Дилижан ее провезли мимо ресторана со знакомым названием «Ахтамар», и она с детской наивностью поинтересовалась, не с этого ли места прыгал в бушующее озеро пылкий поклонник островной красотки, ей и рассказали — конечно, не папа Генрих, а дядя Манвел, менее отягощенный интернационалистскими предрассудками, во всяком случае, оставлявший таковые в своем кабинете в отличие от сигарет «Ахтамар», которые, как и вся партийно-государственная элита, в те годы курил, — рассказали о проклятых турках и благословенном озере Ван, самом красивом в мире. Красивее Севана? О да! Не может быть! Севана — такого, каким он был в тот апрельский день, синего, как… как… как Севан!.. Под столь же синим небом, отделенным от воды цепью белоснежных, без единого темного пятнышка гор? Пенелопа любила Севан всяким — весенним и осенним, летним и зимним, синим и голубым, сиреневым и атласно-серым, зеленым и бирюзовым, в оправе разноцветных, переменчивого оттенка гор, любила уже в детстве, инстинктивно и безотчетно, — но Ван прекраснее, так ей сказали, и внутри у нее все похолодело от мысли, что на свете может быть нечто совершеннее совершенства. Да… А турки… Ну что турки? Наверно, и у турков есть свои достоинства, у всех есть какие-то достоинства, каждый народ хорош по-своему…
В магазине ничего интересного так и не обнаружилось — к счастью, ибо лишних денег все равно нет, по правде говоря, нет никаких, нелишних в том числе, — и Пенелопа, без сожаления покинув стеклянные пределы, прошла вдоль витрин до арки и свернула во двор.
Весь этот маршрут был привычен и исхожен до такой степени, что она, наверно, сумела б пройти его с закрытыми глазами — приоткрывая разве что одно (недреманное?) око на переходах. Или одного мало? Нет, достаточно, но только по очереди, полперехода правое, полперехода левое — да? О господи, Пенелопа, что ты опять несешь, дорогуша? Это же в Англии! А у нас сперва левое, потом правое, хотя и это не у нас, у нас ведь можно чинно обойти трамвай спереди и попасть под машину, которая — им-с недосуг — обгоняет его с той стороны, это когда ты уже перезажмурилась, сдуру полагая, что соблюдение правил уличного движения в состоянии даже на ереванской мостовой сохранить тебе жизнь. Жизнь и кошелек, тебе жизнь, водителю — который не задавил — кошелек, потому что, пока не задавит, ни один гаишник на него не чихнет, объезжай хоть сверху, по проводам (вот такая у нас тут Европа, господин редактор бульварного листка), не потому не чихнет, что чужого кошелька жалко, а потому, что гаишники наши любимые пасутся на тучных пастбищах, туда, где надо защищать тощие права пешеходов, они носа не кажут, это и понятно, гаишники тоже ведь не пешком ходят, вот если б у них отобрали мотоциклы, дело могло б принять другой оборот. Оборотик. Носик, ротик, оборотик, вот и вышел бегемотик… как бегемотик, почему бегемотик, должен ведь человечек. Но как? Из печек, свечек и овечек? Тут уже графически не сходится. Жуткая бредятина. И это вбивают в головы безвинным детям. Хотя безвинных детей не бывает. Дети — это дикари. Даже хуже. Рождаясь, человек ничем не отличается от человекообразной обезьяны, за пару-тройку десятилетий он проходит весь путь эволюции, от рододендронов… тьфу, древопитеков, через всяких там питекантропов, неандертальцев, первобытнообщинных типов и так далее до современного гомо-якобы-сапиенса. Если повезет. А если не повезет, застревает где-нибудь в феодализме, жрет, пьет, убивает. И никакой родитель не может гарантировать, что его потомок эволюционирует до достижимых пределов. Взять, например, Арсена: может, из него выйдет какой-нибудь гомеровед, а может, циклоп. И иди, Маргуша, становись на уши. На свои большие, лопые уши. У Маргуши уши, а у Кары? Фары? Вот и нет, глаза у Кары как раз маленькие, раскосые, как у япончиков. Я пончик, ты пончик, она пончик… она не пончик, щеки у нее худые, скулы торчат, а вот нос у нее очень миленький, прямой, тонкий, такой можно смело назвать носиком. Носик, ротик, оборотик, вот и вышел обормотик. Интересные получаются штуки, когда бездумно отдаешься на волю рифм. Надо попробовать еще. Точка, точка, запятая… роза мая, я святая… Песий бред. А ну-ка еще раз. Точка, точка, запятая, медвежонок, громко лая… Черт знает что! При чем тут медвежонок, он даже не рифмуется, бегемотик хоть вылез из рифмы (вообще-то не из рифмы, а в рифму. Но тогда уж влез)… Носик, ротик, оборотик, вот и вышел бегемотик, бегемотик бьет баклуши, насмехаясь над Маргушей… Уф! Наконец пришли, правда, не туда, идем-то мы к Каре, но все, хватит рифм, Маргуша, Кара, какая разница… Хотя разница есть. И о-очень немалая. Пенелопа хмыкнула. Маргуша и Кара представляли собой отдельные, независимые, можно сказать, суверенные территории, никак между собой не сообщавшиеся. Почти и незнакомые. Даже в дни рождения Пенелопы — в те времена, естественно, когда эти дни отмечались, более того, праздновались с помпой… но только не водяной, вода и теперь еще, тьфу-тьфу, не сглазить, есть, скорее с газовой, бывают ведь и газовые помпы?.. даже по дням рождения Пенелопы они обычно ухитрялись разминуться. В отличие от Маргуши, натуры степенной и склонной к соблюдению мирового порядка — раз день рождения, следовательно, надо загодя присмотреть подарок, пристроить детей к матери или свекрови, рассредоточить все прочие дела по ближайшим временным промежуткам и в назначенный час украсить своей особой (с приложением мужа, разумеется, которому тоже еще за неделю предписывалось учесть, предусмотреть, спланировать, уладить) один из стульев ближе к верхнему концу пиршественного стола, Кара, личность более чем экспансивная и не менее того импульсивная, хоть и не имевшая ни мужа, ни детей, вечно оказывалась в отчаянном положении человека, назначившего одновременно три свидания именно в тот вечер, когда надо сбегать к приятельнице показать платье, заброшенное буквально на несколько часов знакомой спеку… деловой женщиной, приехавшей с товаром из Китая, Сирии, Ливана, Турции, Египта (ненужное вычеркнуть), тогда же, естественно, должен явиться рекомендованный двоюродным братом слесарь заменить трубу, благополучно протекающую уже третий месяц, к тому же клятвенно обещано накрутить волосы матери, приглашенной назавтра на свадьбу, и так далее до бесконечности. Если со всей этой бесконечностью удавалось каким-то образом справиться, в последнюю минуту непременно выяснялось, что умерла сестра подруги соседки сестры и надо срочно ее — кого? — утешать. Словом, Кара дни рождения — и не только Пенелопины — посещала обычно на следующее утро, вечер, ночь или, что еще приятнее, денька через три-четыре, когда все заготовленное успевали доесть, и приходилось начинать заново печь и жарить. Да, но зато повторно возникала атмосфера праздника, что давало Каре повод в глубине души считать себя разносчицей оных, чем-то вроде Санта-Клауса, Деда Мороза, на худой конец, Снегурочки. Со Снегурочкой, впрочем, сходства у нее не находилось никакого, была она смуглой, черноглазой, суматошной и подвижной. Любила приврать — а кто не любит? Пенелопа тоже была не прочь напустить туману, особенно в отношениях с противоборствующим полом, гадами и уродами, но и вообще не чуралась при случае прилгнуть, неистово при этом божась и клянясь, что говорит чистейшую правду (лукавя самую малость, разве не безукоризненна чистота свежевыстиранных, выбеленных, накрахмаленных и отглаженных простынь, пусть даже вчера еще на них валялись в грязных ботинках), однако подчистки она строго дозировала в отличие от Кары, которая могла так завраться, что одно и то же событие преподносила в трех взаимоисключающих вариантах одному и тому же человеку, не сразу, разумеется, но на протяжении буквально трех дней. Это, согласитесь, совсем никуда не годится, ладно еще, если варианты разнятся слегка и подаются разным слушателям, желательно друг с другом не контактирующим. Конечно, Кару отчасти извиняло то, что была она натурой художественной, музыкантшей, пианисткой, немного сочиняла и сама, написала как-то довольно миленькую детскую оперу, разученную и исполненную детишками на утреннике в музыкальной школе, где учительствовала, — ибо основным ее занятием было преподавание, но даже десятилетнее вдалбливание лишенным слуха олухам и неслухам основ музыкальной грамоты не убило в ней восторженности и постоянной приподнятости, которые, собственно, и свели ее с Пенелопой, в немалой степени одаренной теми же качествами. Произошло это на прелестных улочках старого Таллина. Пятидневная доступность прибалтийского осколка западной цивилизации (за пятьдесят лет Советской власти изрядно выхолощенного, наполненного социалистическим содержанием и соотносящегося с подлинной Европой примерно как марина Айвазовского со штормом на море) с разрешения государства и при поддержке профсоюза была одним из немногих достоинств проклятого прошлого… А может, и многих, это как смотреть на вещи, с какой колокольни — Ивана Великого, Нигулисте или Эчмиадзинского собора, и опять же кто смотрит — старик, который разложил на газоне возле рынка последнюю домашнюю утварь и щурится сквозь треснутые очки, или сытая рожа над быстро растущим брюхом за ветровым стеклом иномарки… Теперь в Таллин никто не ездит и вовсе не из-за трудно одолимых границ, просто у бедных нет на это денег, а богатый найдет местечко поинтереснее, не то что тогда, когда деваться было больше некуда, и целые армянские полки сталкивались на подступах к Толстым Маргушам и Длинным Германам, — сталкивались, знакомились, обзаводились новыми подругами, вроде Пенелопы с Карой, которые быстро поняли, что принадлежат к одному племени, племени адсорбентов культуры и производителей порожденных этой культурой эмоций, каковые и поныне успешно суммировали. Да, у Кары и нюх и слух — хоть и уши у Маргуши. Недаром в Пенелопиной сумке лежала книга, которую она несла Каре, у Маргуши о ней даже не заикнувшись, виановская «Пена дней», чуть не потонувшая в завалившей прилавки навозной куче постмодерна, но все же обнаруженная (само собой, сонями в меду) и извлеченная жемчужина. Виана Пенелопа держала б на письменном столе, имейся у нее таковой, а поскольку стола у нее не было, книга лежала на пианино и подлежала выдаче только единомышленникам, к каковым в данном случае относилась Кара, но не Маргуша. Нельзя сказать, что Маргуша не принадлежала к книгочеям, напротив, она исправно поглощала самую разнообразную печатную продукцию, даже газеты, в которые Пенелопа заглядывала раз в год… в том-то и дело, чтение газет ведь не просто чтение газет, это лакмусовая бумажка, фенолфталеин, показатель интересов. Когда в конце перестройки поползла, поднимаясь, как тесто, бумажная масса «из столов» (как позднее оказалось, во многом тесто и напоминавшая, тесто дрожжевое, пресное, возможно, приправленное перцем разоблачений, но совершенно лишенное какао или ванили литературных изысков), Маргуша была в первых рядах книголюбов, поминутно падавших в обморок от восторга, и перечитала подряд всех этих Гроссманов и Дудинцевых, чего Пенелопа сделать не удосужилась, ну полистала кое-что, дабы, как говорится, держать руку на пульсе и тому подобное, но стонать и упиваться?.. Конечно, Маргуша… но что с Маргуши возьмешь, в конце концов, она жена своего мужа, двенадцать лет болтовни о политике… Хорошо еще, что она не перестала читать «Иностранку»…
Тут погрузившаяся в путаницу мыслей и воспоминаний и оттого без конца спотыкавшаяся Пенелопа одолела последний пролет лестницы и оказалась перед искомой дверью с висевшим на одном гвозде металлическим ромбиком, помеченным незапоминающейся цифрой 23, и выгоревшим, то есть, наоборот, не тронутым, правда, не солнцем, а пылью и грязью прямоугольником на месте бесследно исчезнувшей пару месяцев назад таблички с фамилией, отсутствие каковой назойливо напоминало Пенелопе о металлобизнесе, совершенно независимо от данного кусочка бронзы протекавшем в верхних районах географической карты (спрашивается, откуда она, не читавшая газет и не смотревшая ТВ, могла о металлобизнесе знать? Ниоткуда. Но знала же! И это лишний раз доказывает, что информация вездесуща и всепроникающа, как рентгеновские лучи) и приносившем миллионы и миллионы абсолютно не заслуживавшим того субъектам. Нет чтоб кто-нибудь подарил или оставил в наследство хоть один жалкий миллион долларов «умным людям», как любила выражаться Пенелопа, подразумевая под этими неопределенного состава и размеров человеческими массами лично себя. О, умные люди нашли б что делать с такими, в сущности, совсем не маленькими деньгами. Перво-наперво надо построить в каком-нибудь симпатичном местечке, скажем, на островке в Средиземном море — да, начать придется, пожалуй, с покупки островка — большую виллу, где можно собрать всех близких. Одно крыло «гнусной семейке» — так Пенелопа, любя, называла сестру с зятем, в подобные словечки она обычно вкладывала особую нежность. «Ах ты, мерзкий львишка», — говаривала она, прижимая к груди озадаченного Мишу-Леву, подружек именовала «подлыми негодяйками» или «проклятыми ворюгами», а возлюбленных… но черт с ними, черт и все его чертенята (милая компания: чистопородный чинный черт, четверо чарующе чумазеньких чертенят и четное число честных малых, чуждых чувствительности). Итак, одно крыло «гнусной семейке», комнаты наверху маме и папе, это те, с видом на море, на песчаный пляж с яркими, например, бирюзовыми тентами… нет, Средиземное море и так бирюзовое, тенты лучше сделать контрастных цветов, оранжевые, малиновые, лимонные, а шезлонги полосатые, но тоже теплых тонов… значит, комнаты со стороны фасада, к морю будет обращен, естественно, фасад — хотя там везде море, это же маленький островок, по чести говоря, несколько однообразно, лучше бы приобрести гористый остров, но тогда он должен быть приличной величины… Н-да, миллион долларов, конечно, не слишком большие деньги, скажем-прямо, в наше время это вообще не деньги, таких грошей не то что на остров с виллой, даже на хороший гардероб не хватит…
Пенелопа чисто машинально протянула руку к кнопке звонка, нажала и — вдруг! — явственно услышала пронзительный, но сладкозвучный, как пение Паваротти, перезвон. Свет!!! Пенелопа возликовала. Правда, у Кары нет турецкого водонагревателя, но бог с ним, есть большая кастрюля, кипятильник, шайка — все, что положено рядовому члену армянского общества конца двадцатого века, ну и обойдемся, не привыкать. Пенелопа зажмурилась и даже облизнулась, представляя себе пенные потоки горячей воды, обтекающие ее изрядно, надо признаться, замерзшие ноги — проклятые ереванские сапоги, проклеенные неведомой субстанцией с неистребимой склонностью к водорастворимости, все пальцы промокли, не сапоги, а сито из натуральной кожи… да, первую сотню из еще не пожертвованного миллиона хорошо бы потратить на итальянские ботинки на меху. Последний вопль моды, добротные, на толстой подошве, их носят с шерстяными носками, тепло и сухо, к тому же голенища носков… голенища?.. голенища, Пенелопея, у сапог — а что у носков? Отвороты? Неважно, главное, это самое можно отворачивать на ботинки, получаются элегантные вязаные манжетки… Тут дверь отворилась, и перед воодушевленной Пенелопой предстала понурая старшая сестра Кары Катрин, по паспорту Катарине. Карине и Катарине, почти как Сусанна и Сюзанна, были и такие сестры, сокурсницы Пенелопы, отнюдь не близнецы, просто старшая в первый год не поступила, Сюзанна и Сусанна, осанна!.. Осанна, манна, ванна… О ванна, ты как небесная манна, осанна тебе, осанна!
— О ванна!.. тьфу! О Катрин! — бодро воскликнула Пенелопа, вступая в ярко освещенную — о чудо! — прихожую. — Ты почему такая невеселая? Случилось что-нибудь?
— Воды нет, — сказала Катрин скучным голосом.
— Ну и что?.. Как нет? Совсем нет?! — ошеломленно вскричала Пенелопа.
— Совсем. Утром шла. Когда света не было. А теперь свет дали, воду выключили. А я, дура, постирать пришла, у меня же машины стиральной нет…
— Гады и уроды, — пробормотала Пенелопа. Живя в здании, по счастливой случайности круглосуточно пользовавшемся изобретенным древними римлянами благом цивилизации — поговаривали, что случайность эта являлась непосредственным следствием близкого прохождения водной магистрали, откуда и проистекала, в прямом и переносном смысле слова, почти уникальная для Еревана благодать (заметим в скобках, что обласканными судьбой наследниками древних римлян оказались лишь жители нижней половины дома, наверх же вода не поднималась по причине нехватки загадочной штуки, именуемой напором, — подумать только, что, будучи современниками римских строителей, армяне имели отличную возможность выведать у них по сей день не разгаданную тайну водоснабжения верхних этажей), итак, живя в условиях тепличных, если не в смысле тепла, то в смысле поливки, Пенелопа то и дело забывала, что для большинства ее соплеменников водопровод был источником не столько воды, сколько потрясений. В силу непостижимости и непредсказуемости графика подачи воды сотни тысяч ереванских семей занимались тем, что то наполняли ванны, ведра, тазы, кастрюли, чайники, графины, кувшины, одно-, двух- и трехлитровые банки, бутылки, стаканы, рюмки, канистры, баки… уфф!.. словом, все возможные и невозможные емкости, то опорожняли их, с энтузиазмом спуская в канализацию миллионы литров родниковой воды, самой вкусной в мире.
— А что, воды совсем нет? — осторожно спросила Пенелопа, подразумевая те самые ванны, тазы, кастрюли и прочие сосуды, но Катрин удрученно покачала головой:
— Ведро. И чайник. И немножко в ванне, для туалета. Но это на весь день, скорее всего до завтра уже не дадут. Как-то мы не сориентировались. Сидели, болтали и прозевали. А почему ты не раздеваешься? У нас тепло. Кара, ты где? Пенелопа пришла.
— А чего раздеваться? — меланхолически сказала Пенелопа, стаскивая тем не менее полушубок. — Все кончено. Голова грязная, как смертный грех, тело второй день не мыто. Жизнь моя разрушена до основания.
— И моя! — закричала, вылетая из-за угла, взмахивая руками и расплескивая вокруг белую мучную пыль, Кара. — И моя! Я пеку, а они — воду… И волосы у меня — смотри! — Для вящей убедительности она запустила покрытые мукой руки в волосы и растрепала их. — А мне вечером в гости идти. И у Катрин стирка… Не стой тут, как Венера Милосская, пошли на кухню!
— Почему Милосская? — спросила Пенелопа, скидывая мокрые сапоги и шаря под вешалкой в поисках каких-нибудь тапочек.
— Не знаю. А чем тебя Милосская не устраивает? Ой, подгорает!
Пеку. Волшебное слово. Шоколадный торт, «Наполеон», «Птичье молоко», «Микадо». Двести граммов масла, стакан сахара, хорошенько взбить, яйцо, сметана, мука, выпекать тонкими слоями на раскаленном противне — в былые времена Пенелопе удавалось выделать из скромной порции теста аж пять-шесть слоев, чем она чрезвычайно гордилась, — пять-шесть слоев, крем из проваренной сгущенки, съесть и умереть. Увы! Рецепты, сложенные стопкой, пылились в книжном шкафу, а Пенелопа непоправимо теряла квалификацию. Увы, увы! Из кухни пахнуло ванильным ароматом выпекавшегося в духовке теста, и ведомая этим ароматом Пенелопа, повизгивая от возбуждения, как унюхавший косточку песик, двинулась вслед умчавшейся с возгласом «Подгорает!» Каре. В ресторане пирожных не подали, посему удовлетворенный почти всесторонне аппетит Пенелопы вытянул ложноножку в том единственном направлении, с которого не был ублаготворен, и перелился наподобие амебы на свободное пространство. К несчастью, вытянувшиеся длинными рядами пухленькие кружочки уже выпеченного бисквита предназначались отнюдь не для ублажения Пенелопиных вкусовых рецепторов, это были заготовки пирожных, которые Кара пекла и сдавала в ближайший из размножившихся, как медузы… фу, какая мерзость лезет иногда в голову, мало того что отвратительные слизистые комки отравляют радость от морских купаний, они еще пробираются сюда, в восхитительную ванильную атмосферу!.. в ближайший из бесчисленных частных магазинчиков, дабы слегка подзаработать и поддержать тем самым если не существование свое (подпираемое в основном стойкими, как атланты, родителями), то по крайней мере возможность всласть покурить и побаловаться хорошим кофе, а иногда и купить вещицу-другую на ярмарке, естественно, китайскую или турецкую дребедень, но что поделаешь, коли ничего иного в Армению не привозят… оно и к лучшему, все равно денег нет, в Москве вон полно всякого европейского барахла, но… пока ни один миллиардер не торопится великодушно отвалить миллиончик на мелкие расходы, пусть и соблазнов не будет… Да-а. Эдак до конца жизни не поднакопишь даже на самый скромный островок, на жалкую скалу, увенчанную не виллой, а дачкой советских времен, одноэтажной хибаркой с колечком огородика вокруг — вместо похожих на гигантские ананасы благородных пальм, цветущих магнолий и олеандров с их дурманящим ароматом вялая картофельная ботва, сморщенные хилые баклажанчики и заросли кукурузы, которую без конца воруют, варят и продают иностранным туристам по доллару за кукурузину… И однако, какая прелесть — горячая кукуруза с кучкой соли, которую тебе насыпают в ладошку, и ты, обжигаясь, натираешь ею дымящийся початок… Кукуруза, вино «Изабелла», белая будка, пышно именуемая железнодорожной станцией, три колеи, стиснутые между двумя полосками совсем не субтропической растительности, узкие асфальтовые платформы, разрозненные фонари, торчащие на диковинных бетонных столбах, увенчанных, как колонны в каком-нибудь Парфеноне, капителями и… пилястрами? Что это такое было — пилястры? Пилястры, пиастры, пиратские попугаи, шестнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо-хо и бутылка рому… Рома нет, есть вино «Изабелла», вкусное, но не морецветное, а банально красное, свежие орехи — загорелые личики в зеленых чепчиках, а также Рома, Ромео, Ромуальд, Ромен Гари, меланхоличный пес, слишком ленивый, чтоб бегать на заваленный мусором так называемый городской пляж поселка Лоо или, вернее, на десятиметровый кусок дороги от станции-будки до пляжа, на обочине которой среди десятка местных жителей торгует, во всяком случае, торговал прошлым летом, кукурузой, орехами и вином его развеселый хозяин, лучший ценитель своего товара. Вино продают стаканами: заплатил, выдул, дунул дальше… богатый глагол!.. продул в карты, задул свечу… свеча горела на столе, свеча горела… сначала свеча, потом керосиновая лампа, потом аккумуляторный светильник, потом левый свет… вот Каре обещали провести левый свет от троллейбусной линии — лучше, когда от метро, надежнее, но и это неплохо…
— Попробуй-ка, это новый рецепт. — Кара положила на блюдечко один из кружочков и пододвинула Пенелопе. — Ну как, вкусно?
— Точно лист, — пробормотала Пенелопа с полным ртом.
— Какой лист? — удивленно спросила подошедшая Катрин.
Пенелопа хмыкнула. «Ты попробуй, очень вкусно, точно лист жуешь капустный… Что ты, дурень, перестань есть хозяйскую герань»… Поди объясни. Когда люди общаются в течение многих лет, у них складывается своего рода знаковая система, в которую нет входа постороннему. Посторонним В. Не цитировать же каждый раз строфами или абзацами «Кошкин дом», «Винни-Пуха»… вот интересно, оказывается, особое место в этой знаковой системе занимают мультики, видимо, потому, что главная из знаковых систем, внутрисемейная, образуется в детстве.
— Представляешь, — говорила тем временем Кара, темпераментно крутя большой деревянной ложкой в тазу, где плескались и пенились компоненты будущего крема, — мое приглашение пришло наконец. Завтра иду в ОВИР. А там… — Она мечтательно закатила глаза.
— А деньги на дорогу? Собрала? — спросила Пенелопа почему-то шепотом.
— Откуда!
— А как же? А вдруг? А если не хватит? — волновалась и ужасалась Пенелопа, живо представляя себе, каково было б ей, если б ей не хватало…
— Найду! Достану! Возьму в долг! Продам все к чертовой матери! Пешком пойду, поползу! Что ты! Упустить такое?! — Жестикулируя, Кара неистово размахивала ложкой, рассеивая тучи сладких брызг, что вынудило Пенелопу вскочить и шарахнуться в коридор, но и там ей были слышны бессвязные возгласы Кары, за которыми мерещились Эйфелева башня и Елисейские поля, могила Наполеона и туалеты от Пако Рабана… Париж, что ты! Конечно, дойдешь пешком, доползешь, выгрызешь у судьбы, выцарапаешь специально для этого отращенными ногтями, покрытыми красным лаком, чтоб не видно было крови. Париж! Праздник, который всегда с Хемингуэем, с Фицджеральдом, Генри Миллером (чертовы американцы, все на свете заграбастали!), теперь с Карой… Вот она, жизнь! Тридцать лет спокойно существуешь без забот, без хлопот, ешь, пьешь, гуляешь, ходишь в свою музыкальную школу, шлепаешь по чумазым пальцам мальчишек, которым бы не музыку выжимать из замученных клавиш, а гонять мяч по пыльному, заставленному автомобилями двору, поправляешь аккуратные пальчики девочек с бантами… хотя банты нынче не в моде, нынче носят резинки с пластмассовыми висюльками да тряпичные заколки ценой в хорошие бусы из самоцветов… девочкам уже больше хочется сплетничать про тех самых мальчишек, но папы с мамами велят, и девочки с мальчиками барабанят гаммы и сонатины… мяу-мяу, Клементи-Кулау, как они с Анук говорили в детстве… Потом вдруг оказывается, что на зарплату из музыкальной школы (что-что, а государственную политику Советской власти в отношении врачей, учителей и прочей негодящей интеллигенции постсоветские общества не только продолжают, но и творчески развивают) только и доедешь до той школы и обратно, жуя в автобусе — пригородном, поскольку при всем своем консерваторском образовании ближе Абовяна так и не пристроилась — ломоть асфальтового хлеба по талону, мама с папой, поднатужившись, прикроют сей хлеб полосочкой сыра, а уж тонюсенький слой масла для бутерброда придется добывать брату или выделять из своего семейного довольствия замужней сестре, потыкаешься туда-сюда в поисках незанятой ниши, а что за ниши в воюющей, зажатой блокадой стране, сочтешь за счастье, что прежнее государство по каким-то высшим соображениям — высшим, потому что у того государства низших просто и возникнуть не могло, это ж была страна идей, а не людей — вместо газовой плиты водрузило в твоей кухне электрическую, и вцепишься тонкими пальцами пианистки в скалку, ибо не время музыки ныне… а какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?.. хотя и музыка играет, на Чкнаворяна вон ходят, и в опере народу битком, когда она открыта, опера, два раза в неделю, шесть месяцев в году, но все-таки не то у нас тысячелетье, иначе пианистки не переквалифицировались бы в кухарок… но что за беда, в один прекрасный день открываешь почтовый ящик, а там приглашение от подруги, в Париж, на три месяца, и пожалуйста — Лувр, Версаль, Монмартр…
— Ты представляешь, Алла нашла мне работу, — вдохновенно объясняла Кара, с ожесточением размешивая молочно-мучную массу, — у нее есть знакомые, дети или внуки каких-то русских эмигрантов, которым нужна учительница музыки для детей, там это жутко дорого, а мне дадут комнату и немножко заплатят и…
— И познакомят с каким-нибудь холостяком, — подхватила Пенелопа, — выйдешь замуж и останешься в Париже.
— Что ты, — не согласилась та, — французы на иностранках не женятся. Особенно на наших, из бывшего Союза. Вон Рипа который год ездит, месяцами у Аллы живет, еще и сестра родная, но так ей никого и не нашли. Нет, что ты, Пенелопа, я об этом и не думаю, мне бы только взглянуть на Париж, одним глазком! — Она зажмурила один глаз, патетически воздела к потолку руки, опустила и промахнулась, попала ложкой прямо в банку с мукой, подняв целую дымовую, вернее, пылевую завесу, вынудившую Пенелопу в очередной раз вскочить и выпрыгнуть в коридор.
— Значит, и французы — ксенофобы? — вздохнула, точнее, чихнула Пенелопа грустно.
— Конечно! Еще какие! Да все они ксенофобы!
Да-а… Выходит, и у французов есть недостатки… Все-таки все народы отвратительны, каждый по-своему, мир мерзок, как говорит Ник… Поневоле станешь мизантропом, а она еще спорила с «гнусной семейкой», склонной к мизантропии сообща и порознь, сыпавшей наперебой жуткими афоризмами типа «отдельные люди способны порой проявлять человечность, но человечество в целом бесчеловечно абсолютно» или «коллективная душа человечества есть среднее арифметическое его составляющих, то есть злобная или по крайней мере недоброжелательная посредственность». Сама Пенелопа относилась к человечеству лучше. Лучше, чем «гнусная семейка», лучше, чем к отдельным его представителям; любить человечество в целом было как-то проще… а может, это и есть мизантропия? Мизантропия ведь предусматривает дурное отношение к отдельно взятому антропосу, нет? Или ко всем сразу? А еще есть промежуточная ступень, те самые народы, каждый из которых по-своему отврати… нет, это все-таки чересчур. Вообще-то Пенелопа всегда ощущала себя интернационалисткой. Не считая короткого периода «национального пробуждения», она была даже за слияние наций, сходясь в данном вопросе с большевиками. Правда, большевики, как утверждал Армен, выступали за слияние наций и языков, молчаливо подразумевая, что этим «слитным» языком будет русский. Но Армен русофоб, мало ли что он может утверждать. Хотя… Вот и американские фантасты, изображая объединившееся человечество, заставляют его объясняться по-английски — если их жевание воображаемой резинки называть английским языком. А общей культурой объединенного человечества несомненно должна стать американская массовая культура, которую правильнее было б именовать массовым бескультурьем. Это уже то, что Ник называет бессознательным имперским чувством больших народов… «У тебя, Пенелопея, не голова, а цитатник какой-то, — рассердилась на себя Пенелопа, — да пошли они все!..»
— Кофе будешь?
— А есть?
— Спрашиваешь! — обиделась Кара, водружая свой таз на плиту и включая соседнюю горелку… разве у электроплиты тоже горелка? Скорее грелка… — Катрин, свари кофе, мне некогда, я крем мешаю.
— Не могу, — отозвалась Катрин из прихожей. — Я уже в пальто.
— Уходишь?
— Да я с утра тут! У меня дома ребенок некормленый, муж…
— Ну иди, иди… — пробурчала Кара, не выпуская ложку. — Пенелопа! Свари себе кофе. И мне заодно.
Кстати, быть интернационалистом ведь вовсе не означает относиться ко всем нациям одинаково хорошо, главное — относиться одинаково, остальное детали. Так что…
— Пенелопа! Ты будешь варить кофе или нет?
Пенелопа отложила вязанье, которое минуту назад вынула из своего фруктово-овощного мешка (с полиэтиленовой поверхностью, испещренной дарами природы от помидоров до клубники, столь аппетитной, что ее хотелось слизнуть или скусить), и встала. Это было в традициях Кары — хочешь кофе, свари, и мне заодно. Кара представляла собой существо еще более безалаберное, чем сама Пенелопа, более того, рядом с ней Пенелопа казалась себе столпом порядка, а уж легкомыслие ее просто поражало, иногда даже вызывая зависть, особенно что касалось отношений с мужчинами… то есть отношения к мужчинам, это точнее. Кара успела выйти замуж и развестись в консерваторские годы, притом никто из окружающих, да и она сама, скорее всего не мог бы объяснить побудительных причин как развода, так и брака, нелепого и случайного, чуть ли не на спор. Поскольку семейная жизнь длилась менее полугода, детей не завелось, и слава богу. Последующие десять с лишним лет Кара провела в поисках то ли партнера, то ли мужа, обозначить грань между тем и другим она затруднялась, поэтому, видимо, всегда упуская момент, когда превращение первого во второго находится в пределах вероятности, пределах, как известно, достаточно узких, часто вообще не поддающихся определению, во всяком случае, что касается армянских мужчин, для которых грань между партнершей и женой обозначена с исключительной четкостью, более того, эти функции, как правило, лежат в разных плоскостях, чаще всего параллельных и потому пересечению не подлежащих. Быть может, для разведенных женщин добрачное партнерство несколько менее наказуемо, чем для незамужних, но все же промежуток, в котором можно оперировать, чрезвычайно мал — в физиологии ли дело, в психологии? — но в начале контакта, как научно выражалась Пенелопа, когда мужчина пылает и сгорает и готов на все, даже жениться, женщина обычно еще только присматривается, а вот когда она отвечает любовью на любовь — бумс! Оказывается, что отвечать уже не на что, все прошло, как с белых яблонь дым. Конечно, всегда есть возможность кинуться сразу, закрыв глаза, и будь что будет, как, собственно, многие и делают, но выйти замуж без любви? Вот и получается, что без любви не хочешь, а любя не можешь, шансов практически нет или они настолько малы, что… что Кара уж их упускала всегда. Однако, к счастью своему, обладая тем, что Пенелопа деликатно называла легким отношением к жизни, она стряхивала с себя очередную трагедию и весело устремлялась к другой. Она ухитрилась сохранить эту веселость даже после совершенно душераздирающей истории, сюжета для мексиканского или бразильского телесериала, когда пару лет назад партнер, на которого возлагались немалые надежды… хм, воз-ла-га-лись — как торжественно, буквально требует слова венок или, еще лучше, венец, лавровый венок из высохших ветвей надежд с ломкими, пахнущими бульоном листьями ожиданий или алмазный венец… кто только не возлагает на себя венцы, даже Катаев, белеющий чужим парусом, но не одиноким на недостижимо чистом горизонте, а затерявшимся в толпе лодчонок на задворках регаты… почему задворках, а не заплывках?.. Венец — делу конец. Конец был печальным, увенчанный тогда еще не сухими, а вполне жизнеспособными надеждами Карин приятель отправился под венец, как и положено в финале добротного, исполненного мелодраматических судорог сериала, но не с Карой, а с какой-то бывшей знакомой, неожиданно вынырнувшей из небытия. Особую пикантность сюжету придавало то обстоятельство, что вечер накануне бракосочетания плюс добрую часть ночи новоявленный жених провел не с кем иным, как с Карой, что не помешало ему позднее в оправдание, разрывая на груди рубашку и изображая на лживом лике скорбь Пьеро, говорить или, скорее, вопиять о нержавеющей старой любви, настигшей и повергшей… Интересно, что всякими легированными, хромоникелевыми, марганцово-ванадиевыми и прочими не подверженными коррозии чувствами обожают тыкать в глаза именно мужчины, эти гады и уроды, совершенно неспособные любить тогда, когда это следовало бы делать, нет, они вспоминают о якобы любимой женщине лишь после того, как она с трудом, если не сказать в муках, пережила и предала забвению. Пережить, конечно, все переживают, не вешаться же из-за каждого подонка, но все-таки уже через пару недель после подобного потрясения шутить и хохотать в состоянии только Кара, другая ревела бы полгода, случись такое с самой Пенелопой… страшно подумать! Ей-богу, лучше иметь дело с женатыми, они по крайней мере такой свиньи не подложат, у нас тут пока не ислам и не мормонизм, а то эти ребята, конечно, всегда бы рады, но нет, дудки!
Пенелопа разлила готовый кофе, распечатала новую пачку «Кардена» и загадочно улыбнулась:
— Угадай, кого я сегодня встретила.
— Из моих или из твоих? — лаконично осведомилась Кара, снимая с плиты закипевший крем.
— Из моих.
— Эдгара, — безошибочно определила Кара, выключая плиту. — Да ну? — Она торопливо вытащила из духовки противень, водрузила его на подоконник, уселась напротив Пенелопы, подперла кулаками обе щеки и заинтересованно уставилась на свою визави. — Рассказывай.
И Пенелопа стала рассказывать:
— …В конце концов он вскочил и заорал как безумный: «Чего ты хочешь?! Чтоб я стал перед тобой на колени?» «Эдгар, не актерствуй, ты не на сцене», — сказала я сухо и поднялась, но он все равно попытался… — «Попытался стать на колени» звучало нелепо, и Пенелопа на ходу переориентировалась: — Попытался меня обнять, но я оттолкнула его так, что он сел…
— На пол?
— Сел бы на пол, но, на его счастье, там оказался стул… оттолкнула и вышла вон, не слушая его дурацкий лепет.
— А он?
— Ну он меня, естественно, догнал, посадил в машину и привез к Маргуше, что ему еще делать. Сказал, что позвонит.
— А ты?
— А я сказала: «В этом нет нужды. Прощай, Эдгар».
— А он?
Пенелопа пожала плечами, и Кара снова встала.
— Еще кофе?
Кофе Пенелопе не хотелось, но в ее сластолюбивой (в смысле, любящей сласти) душе затеплилась слабенькая надежда, что к нему приложат ма-а-аленький кусочек бисквита, а может, и ложечку крема, вроде б он уже остыл, и его достаточно много, посягнуть на капелюшечку не возбраняется — Пенелопа обожала заварной крем, готова была лопать его, лопать и лопать, пока не лопнет, по сути дела, ей больше подошло бы имя не Пене-лопа, а Кремо-лопа, ну кто же лопает пену, да и какую, не мыльную же, правда, из пены рождаются Афродиты, но одной пены мало, нужна еще ванна горячей воды, наверняка греки имели в виду именно это, а море из поздних наслоений, в конце концов, если римляне обзавелись водопроводом, почему бы у греков не быть ваннам… они и были, иначе как бы мог Архимед выскочить из ванны и с криком «Эврика!» выбежать на улицу пугать прохожих… Пенелопа живо представила себе голого бородатого мужика с длинными, спутанными, перехваченными обвязанной вокруг головы голубой лентой волосами, который с нечленораздельными воплями бегает по городу, оставляя за собой мокрые следы, размахивая руками и мужскими атрибутами и обрызгивая ошеломленных сограждан мыльной пеной… да, древние греки, несомненно, были терпимее и понятливее нас, в наше время такого Архимеда живо упрятали бы в сумасшедший дом растолковывать свои законы соседям по палате…
— На твоем месте, — сказала Кара, ставя джезве на подставку, шлепаясь на стул и берясь за чашку, — я бы плюнула на все и махнула с ним в этот самый Калининград-Кенигсберг.
Пенелопа воззрилась на нее с любопытством.
— Конечно, — неутомимо развивала свою мысль Кара, — что было, то было. Но в конце концов! Нормальная жизнь. Отопление, газ, горячая вода, «Мерседес»… а кстати, каким образом этот «Мерседес» попал сюда? Он что, на самолете его привез? Очень подозрительно. А может, это вовсе и не его «Мерседес»? Послушай, Пенелопа, а что, если у него и нет никакого «Мерседеса»? А? И вообще ничего? Может, он одолжил его, чтобы пустить тебе пыль в глаза?
— Одолжил? — хмыкнула Пенелопа скептически. — И «Мерседес», и одежду, и деньги? Ну машину еще может быть. Но свой бизнес у него действительно есть, это я и раньше знала. Неужели ты думаешь, что я так сразу поверила б ему на слово?
— Тогда езжай. Езжай.
— А Армен?
— А что Армен? Сколько ты уже с ним ходишь? Три года? Больше? Четыре.
— Ну?
— Что-то не слышно о его предложениях руки и сердца. Нет? Не слышно. Я по крайней мере о них не слышала. Ну и ладно. Ты свободный человек, что хочешь, то и делаешь. Езжай.
— Как у тебя все просто, — пробормотала Пенелопа недовольно. — Раз-два…
— А чего ждать? Чего ждать-то?
— Все потому, что ты его не знаешь. Вот Маргуша знает. Оттого и не дает подобных советов.
— Твоя Маргуша, — взорвалась Кара, — ни черта не смыслит в жизни! Какие она может давать советы?! Что она понимает в одиночестве, в тоске, в неустроенности? Копошится, как квочка, со своими цыплятами, а вокруг кудахчут и носятся мамочка, свекровушка, бабушка… кто там еще? И петух рядышком разгуливает, тянет ногу, марширует этим, как его, куриным шагом…
— Гусиным, а не куриным, — подавилась со смеху Пенелопа.
— Не важно. А наверху, на самом высоком насесте, папочка сидит. И кукарекает: у нас все хорошо, у нас все хорошо. Все хорошо!
Куриная картинка Пенелопе понравилась, тем более что она знала семейство Маргуши лучше, чем Кара, и ее неуемное воображение сразу дорисовало идиллическую пастораль, дополнив марширующего гусиным шагом редактора бульварного листка еще двумя молодыми петушками — один крохотный, хрупкий, но крикливый и драчливый, это, конечно, Артемка-Артемида, а другой, длинный, тощий, кривоногий, с обвисшим гребешком и все лезет под крылышко маленькой, но шустрой старой наседки, для чего ему при его росте приходится чуть ли не распластаться по земле, это уже Маргушин братец, рохля и маменькин сынок, которого всю жизнь тащили за уши, сначала из класса в класс, потом с курса на курс, а теперь выволакивают из аспирантуры, скоро папа писать сядет — прямо там, на насесте… где он, кстати, не один… Или нет, на насесте не так удобно, на крыше лучше. Развалившись и закрыв глаза — иногда приоткрывает один, обозревает идиллию внизу, как, что, полный ли порядок, и опять погружается в дрему, — на крыше восседает или возлежит старый и важный, с выцветшим от времени, но бодро торчащим гребешком полковник в отставке (заметим в скобках, что вид у него при полковничьих погонах истинно генеральский)… Да, картинка Пенелопе понравилась, но она все же сочла долгом возразить:
— Маргуша вовсе не курица. У нее и мозги не куриные, и характер…
— Все врачихи — курицы! — отрезала Кара, и Пенелопа невольно вспомнила Маргушино неврологическое отделение, в ординаторской которого ей случалось иногда бывать.
Заведующий, естественно, мужчина, остальные три, нет, четыре — женщины, не считая Маргуши, одна ее ровесница, две постарше, четвертая совсем бабулька, которая вместо «артериального» давления говорит «кровяное» и лечит больных лекарствами, вышедшими из моды полвека назад. Из двух постарше одна, чопорная дама слегка за сорок, поминутно надевавшая и снимавшая явно преждевременно выписанные очки для чтения — по видимости, она полагала, что в очках у нее более умный вид, — потрясла Пенелопу до основания. «Я читаю очень занимательную книжку, в советское время запрещенную, называется „Доктор Жигало“»… хорошо еще не жиголо! Пенелопа зловредно поинтересовалась автором — «Простите, не помню, я не обращаю внимания на фамилии авторов»… ха-ха, гомерический хохот или сардоническая улыбка? Пенелопе, конечно, сам бог — олимпийский, естественно, — велел предпочесть старину Гомера… Несколько лет назад у папы Генриха была ученица, брата которой, после каждого урока заезжавшего за сестрой, звали Гомер. Иногда та озабоченно сообщала, что сегодня Гомер не приедет, занят, и папа Генрих неизменно, принимая заинтригованный вид, спрашивал: «Чем занят? „Илиаду“ пишет?» На что девушка перепуганно отвечала: «Нет-нет, что вы! Машину чинит»… И однако, отдавая Гомеру должное, Пенелопа все же, то ли из благовоспитанности, то ли из опасения нежелательно повлиять на отношения Маргуши с ее высокоинтеллектуальным коллективом, ограничилась сардонической усмешкой… Интересно, кто такой Сардон? Надо бы заглянуть в словарь (поползновения полистать СЭС посещали Пенелопу чрезвычайно часто, но редко приводились в исполнение по причине постоянного отсутствия означенного пособия в нужный момент, почему она так и осталась в неведении относительно многих вещей, мимолетно беспокоивших ее познавательный инстинкт)… Итак, одна оказалась поклонницей жигало-жиголо, а вторая? Вторая чисто по-чеховски вставила невпопад в пастернако-жиголовский контекст свою реплику, нечто насчет веера, купленного в приданое дочери. Дочь училась в шестом классе, а веер был чуть ли не из страусовых перьев — совершенно невообразимо, театр абсурда, сколько же надо драть с больных, чтобы позволять себе подобные покупки, она ведь и сумму назвала, такую!.. какую Маргуша, например, никогда не выложила бы. Но Маргуша с больных и не драла, туфли ей покупала мама, квартиры — папа, кормили муж и все-все-все, и она могла позволить себе возвращать ошеломленным пациентам купюры, которые те вороватым жестом совали ей в нейлоновый карман халата, ну разве что кроме самых крупных, крупнее, чем желание сохранить лицо, такие, впрочем, подсовывали редко, чаще попадались мелкие, из-за тех мараться не стоило. Не стоило Маргуше, другая врачиха, одного с Маргушей возраста, брала все, что давали, потому что вместо могучей Маргушиной родни у нее была только пенсионерка-мать плюс восьмилетний ребенок, с отцом которого бедняжка успела разругаться насмерть, до той степени, что отказалась от алиментов. Да, ничто не обходится так дорого, как независимость, в этом Пенелопа имела возможность убедиться не только на примере гордой Маргушиной сотрудницы, но и другой дамы, лет эдак на тридцать моложе, которую скромно, но со вкусом звали Республика Армения. Что касается врачей…
— А кто тогда врачи? — спросила Пенелопа воинственно. — Петухи?
— Что ты, что ты! — вскинула руки вверх Кара. — Никогда! Во всяком случае, не хирурги.
— Хирурги — мясники, — буркнула Пенелопа сердито.
— Но нейрохирурги — ювелиры.
— Фи! Они черепа распиливают. Ножовкой.
— Но не все же, — хитро сощурилась Кара. — Некоторые сшивают нервы. Маленькой такой иголочкой. Виртуозы и чародеи.
— Перестань льстить!
— Кстати, во Франции врачи не лучше наших. Если не хуже. Алла пишет, что они с Рипой ходили там куда-то. Мало того что ей поставили диагноз «депрессия», которая потом оказалась воспалением легких, так еще ей и Рипе назначили одно и то же лекарство. А что у Рипы было, знаешь? Киста яичника. Наверно, даже твоя Маргуша…
— Оставь Маргушу в покое! — скомандовала Пенелопа. — Проверь лучше воду.
Кара открутила кран, и труба гневно заклокотала, но не выдала ни капли.
— Пора идти за кипятком, — подвела итог Пенелопа и встала.
— Оставайся обедать.
— А обед у тебя есть? — спросила Пенелопа из чистого любопытства, аппетит ее все еще дремал, даже спал, похрапывая и видя сны, в которых фигурировали многочисленные деликатесы утреннего пиршественного стола. К тому же полученная таки к кофе не ложечка, а целая розетка заварного крема создавала полную имитацию сытости… ну разве что кусочек селедки или соленый огурец…
— Обеда нет. Но мы его сварим. Есть картошка, макароны, морковка. Сейчас что-нибудь придумаем.
— Нет уж! — отрезала Пенелопа. — Придумывай одна, а я пойду домой. Я обещала папе.
— Позвони.
— Не хочу.
Пенелопа собрала свои разноцветные клубки — надо же, опять напортачила, совсем тут красный не смотрится, придется пороть, эдак провяжешь до Страшного Суда, а на Страшный-то Суд все равно придется нагишом топать, одежонку оставить без присмотра в прихожей, глядишь, уворуют, такой красивый свитер, уникальный и неповторимый, даже ангел не совладает с соблазном, а там же еще будут крутиться в ожидании грешников черти. Увидят присужденных к геенне, завоют: «Это моя добыча! Нет, это моя добыча!» Ну а как грешников на всех не хватит, что тогда? Тогда, ясное дело, накинутся чертяки, четыре черненьких, чумазеньких… какое четыре — четыреста, а может, и четыреста тысяч или миллионов!.. растащат праведников, ангелы и моргнуть не успеют, а если и успеют, куда их тощим крылышкам против рогов и когтей… Ох-ох. Но сначала они расхватают одежонку, передерутся небось, особенно те, кто работает в ледяном круге. Пенелопа представила себе важного толстопузого черта, наверняка из самых главных, расхаживающего среди юрких и подобострастных чертенят поменьше в ярчайшем свитере неотразимо притягательной расцветки, широком, с большими подплечниками и длинном, покрывающем объемистые мохнатые чертовы ляжки, только хвост снизу торчит загогулиной, как у собаки… или голый, мерзкий, крысиный? Нет, как у собаки, не жалко разве — из-под такого замечательного свитера и вдруг крысиный? А собака — это… Это собака. Собачка, песик, щеночек. Пушистенький, большелапый. У ты, мой сладкий!.. Собак Пенелопа любила нежно, восхищалась ими пылко и безудержно, стоило, ох, стоило послушать ее вопли и стенания при виде юного овчаренка или полюбоваться ее прыжками и па вокруг встречного пуделька или дожонка. Почему овчаренка или дожонка? Мужчины ищут в собаке друга, женщины — ребенка, потому первые предпочитают больших, крепких, надежных псов, а вторые — маленьких собачек, и в старости похожих на детенышей, и, конечно же, обожают щенков. Пенелопа исключением в этом смысле не являлась и таяла при виде собачьих малышей. Правда, погладив любого, даже самого очаровательного крошечного песика, даже щенка пекинки размером в ладошку, она немедленно бежала к ближайшему умывальнику и долго, с мылом, драила руки… но ведь это не наносило ущерба ни псам, ни ее чувствам к ним, а гигиена есть гигиена, она, а вовсе не труд, сделала обезьяну человеком.
Вспомнив о гигиене, Пенелопа заторопилась, запихала вязанье в мешок и решительно прошагала в прихожую.
Глава четвертая
— Эй ты, мерзкий львишка! — задиристо крикнула в глубину комнаты Пенелопа, швырнула на приткнутое к вешалке сбоку старое кресло свою «крыску» и принялась сдирать с ног чуть ли не приклеившиеся к ним мокрые сапоги. — Небось устроился тут с комфортом, закутался в теплую шкурку, влез между подушками да греешься. А я замерзла как суслик.
Лев взглянул на Пенелопу укоризненно. Конечно, он мог бы возразить расходившейся хозяйке, справедливо указав, что ее натуральная нутрия как-нибудь теплее искусственного львиного меха, да и какой у льва мех, гладкая шкура, одна грива, и та больше для вида, не говоря уже о том, что лев — существо южное, к армянским горным зимам, да еще в неотапливаемом помещении, не приспособленное, мог, наконец, в сердцах попрекнуть тем, что не создали ему условий, приближенных к родным, а коли обстоятельства либо средства не позволяли, купили б тогда полярного белого медведя или пингвина. Однако он промолчал, ибо душой был добр и отходчив необыкновенно, да и не хотел обижать Пенелопу, которая хоть и поругивала его иногда ни за что ни про что, но, предпочтя тем не менее не только белым, но и бурым медведям, ну пингвинам, само собой, заплатила из собственного кармана двадцать пять полновесных доперестроечных рублей и принесла его в дом, пусть холодный и темноватый, но где его любили как родного… впрочем, Пенелопа и сама уже поняла, что придралась зря, и извинилась, потрепала, во всяком случае, снисходительно мягкую гривку и шепнула в широкое, чуткое к нежностям ухо:
— Ну не дуйся, ты, недотрога, я же тебя люблю…
Засим она быстро натянула на свои красные, как после горячей ножной ванны с горчицей, ступни две пары сухих носков, одни поверх других, — носки, разумеется, были отцовские, все в доме носили отцовские носки, включая самого Генриха, которому иногда удавалось перехватить свежевыстиранную пару у своих чересчур предприимчивых дам, — сунула ноги в материнские шлепанцы, реквизированные на том основании, что зимой Клара ходила в других тапочках, потеплее, с мехом, и осведомилась:
— А где вокалисты-то наши? На кухне?
Вопрос был риторический, ибо не надо было очень уж сильно напрягать слух, чтобы распознать направление, с какого доносился Кларин не самый тихий в мире голос, поэтому Пенелопа, не дожидаясь ответа — даже если б она могла его дождаться, — завопила:
— Эй, вокалисты! Не хотите ли стать бокалистами? Я принесла вам бутылочку «Гарни».
Она извлекла из тенет своего вязанья погруженную в них для пущей сохранности пол-литровую бутылку из-под лимонада, в каковые независимые армянские виноделы, за неимением лучшего, разливали свои неведомо откуда появившиеся в огромных количествах вкуснейшие, вполне достойные хрустальных графинов вина, продававшиеся к тому же по совершенно бросовой цене, что делало их доступными даже для постсоветской интеллигенции, и прошагала на кухню, где в натянутых поверх свитеров и жакетов длинных махровых халатах, придававших им вид средневековых нахараров (не путать с министрами первой и второй республик), вокалисты притулились у маленького кухонного стола и грели озябшие пальцы о горячие картофелины, стаскивая с них мундиры немилосердно, как с разжалованных генералов перед расстрелом… Совсем недавно Пенелопа видела в фильме про известные годы, как военных вели на расстрел в одном белье, и, помнится, задумалась, ради лишней ли это пакости или просто из экономии, Сталин ведь был экономен до жути, всю жизнь проходил в единственном кителе, бедняга, скромный такой мужик, аскет, расстреливал как пить дать только для того, чтоб мундиры освобождались, а то звания раздают почем зря, не напасешься формы-то… потому, наверно, теперь и разоряется Россия, генералов плодят и плодят, а мундиры всем шьют новые, нет чтоб вытряхнуть тысчонку-другую из уже имеющихся, как в добрые старые времена…. Надо же, есть ведь люди, которые так и называют тридцатые и чуть ли не сороковые-роковые… Исторические реминисценции незаметно завели Пенелопу в эпоху ленинградско-санкт-петербургской блокады, и, вспомнив — теперь уже из книжки — концерт симфонического оркестра, музыканты которого играли Бетховена в перчатках с обрезанными пальцами, она подумала мимолетом, а не внедрить ли в армянский блокадный быт позабытое сие изобретение… Хотя при нынешних ценах на перчатки обрежешь скорее пальцы на собственных руках, да и не инструменталисты наши музыканты, а вокалисты, а вокалистам перчатки ни к чему, засунут руки поглубже в карманы и споют, тем более что и петь их никто не просит. Определение «вокалисты» как бы выравнивало, валило в одну кучу — правда, для кучи их было несколько маловато, — ставило на одну доску, приподнимало и низводило, уподобляло, унифицировало… что еще? Одним словом, сводило Клару и Генриха к общему знаменателю. И это очень нравилось Кларе, потому что когда налицо общий знаменатель, числители как-то выпадают из сферы внимания, а числители, как и сами родители, разнились весьма и весьма. Ибо если в семье бесспорно солировала мать, а податливый отец покорно подпевал, то на сцене все обстояло прямо противоположным образом. Клара, смиряя неутолимую страсть к лидерству в клокочущей груди, скромно стояла во второй линии хора, а Генрих пел красивым баритоном ведущие партии, еще какой-нибудь десяток лет назад очаровывая бархатом голоса и мужской статью не одну критикессу-музыковедшу и множество — сорок или пятьдесят, сколько их там есть в Ереване, — меломанок, ведь меломанов, без всякого сомнения, больше среди женщин, и больше, чем сам мелос, их манят бледные музыканты с горящими взорами и моническими (не путать с демоническими) полуулыбками (путай, не путай, все равно вышло, Пенелопея, непонятно… а как сказать? Моналитические — напоминает грамматическую ошибку, джоконические — наводят на мысль о ковбоях в форме конуса, леонардовские — просто банально… черт побери! Долой улыбки, музыканты и вовсе не улыбаются, они плачут, скорбят о человечестве, утерявшем понимание прекрасного). Считается, правда, что наибольшее число поклонниц сосредотачивают вокруг себя сладкоголосые тенора, но вполне возможно, что утверждение это всего лишь миф, экстраполяция сценических ситуаций на околотеатральные, ибо тенора, как известно, отличаются, за небольшим исключением, выдающейся способностью отращивать пузо, ухитряясь при этом не смущаться, а, нежно поглаживая выпирающую из штанов необъятную гору, доказывать, что главный ее компонент, дескать, не жир, а диафрагма, опора для голоса, без которой и петь-то нечем. На вопрос о том, чем же поет, к примеру, Хосе Каррерас, ответа не получишь, дожидайся его хоть всю жизнь, а впрочем, никто и не ждет от теноров ответа, поскольку испокон веку в оперном мире бытует поговорка «глуп, как тенор». Может быть, конечно, что поговорку эту придумали баритоны и басы, ревнующие к тенорам композиторов, по неискоренимой, хотя и необоснованной и оттого еще более обидной традиции отдавших и продолжающих отдавать обладателям высоких голосов (будто бы высота голоса прямо пропорциональна высоте души!) все самые жирные кусочки, отборнейшие партии от Отелло и Радамеса до Каварадосси и Тангейзера… а арии, какие арии, бог ты мой! Ты же иди и корчи из себя подонка Скарпиа, которого и убить не грех, а доблесть, или, в лучшем случае, колченогого страдальца Риголетто и самодовольного сердцееда Эскамильо — так, без сомнения, думал иной раз, гримируясь перед спектаклем, папа Генрих, а может, и не думал, может, Пенелопа, как это частенько с ней случалось, приписывала ему собственные мысли, тогда как папа Генрих с упоением пел Яго и Амонасро, потому что еще неизвестно, что интереснее, чередовать пройдоху Фигаро с самоотверженным Позой или изображать бесконечных героев-любовников сорок лет кряду. Ибо вот уже сорок лет папа Генрих пел, а мама Клара подпевала ему лишь несколькими годами меньше, подпевала на сцене, не будем этого забывать, дома, как уже говорилось, все обстояло с точностью до наоборот с того самого дня, когда прелестная юная хористочка, черноглазая и не по-армянски тонкотелая, предстала пред очи пылкого женолюбивого баритона ростом метр восемьдесят пять и фигурой пловца. Правда, в тот момент баритону было не до Клары, ведь происходило это в осиянные несбыточными надеждами времена, когда пошли разговорчики о стажировке в Италии. Италия, эта terra del opera, bel-mondo del bel-canto, страна Верди, Карузо и «Ла-Скала»! Но, к сожалению, то были все же не наши богатые возможностями дни, когда кто угодно вправе стажироваться хоть в Италии, хоть в аду, буде найдется спонсор, готовый подобную стажировку оплатить… впрочем, и это лишь фантазии, порожденные охватившими в последние годы общество упованиями на неких благодетелей, которые расхаживают по торным дорогам радостного капиталистического настоящего, помахивая пачками банкнот, желательно нежно отливающих зеленью — как вечно живое учение, и только и ищут, кого б осчастливить. Между тем в реальной жизни спонсоры отнюдь не толкутся в передних великих артистов и высоколобых столпов науки, и на то, чтоб выцарапать у них самую нищенскую мзду, уходит энергии не меньше, чем на, допустим, рытье котлована за те же деньги. Кому-кому, а Пенелопе это было известно досконально, так сказать, по роду занятий, поскольку хореографическое училище, где она успешно или не очень подвизалась на поприще языка и литературы, коллективно съело уже не одну жалкую собаку, а целую собачью выставку в деле добывания средств на концерты, поездки, конкурсы и прочие мероприятия. Однако в те не столь отдаленные, но неблизкие, пролегшие между эпохами канувших в небытие меценатов и еще не народившихся спонсоров времена, которые правильнее бы назвать безвременьем, роль денег была неприятно расплывчатой — то ли носила характер настолько теневой, что невооруженным глазом не просматривалась, то ли отсутствовала вовсе, и все определялось другими, более тонкими механизмами: связями, ловкостью, быть может, просто судьбой, а сия строптивица заупрямилась, топнула ножкой и отказалась поднять шлагбаум над дорогой в Италию. И Генрих, оставшись ни с чем, обратил разочарованный взор на очаровательную в своем пышном, состоявшем словно из одних оборок испанском платье Клару, попавшуюся ему навстречу случайно либо по прихоти все той же судьбы, а может, режиссера, именно так сконструировавшего сложную мизансцену встречи красавца тореро с готовой отдаться публикой… нет, наверно, все-таки судьбы, той же или не той, науке ведь до сих пор неизвестно, одна ли у всех судьба, владетельная дама Фортуна, парка, мойра и тому подобное, или судеб этих бесчисленное множество, вернее, численное множество, по числу подопечных, сиречь индивидуумов, то бишь людей, гуляющих по белу свету. Странно, правда, представить себе миллиарды владетельных дам, командующих каждая своим подкаблучником, — а ну как все это бабье перессорится? Что тогда? Война? Видимо. Наверно, они и виноваты в бесконечной грызне человечества, эти негодяйки парки… Интересно, а что с ними происходит после смерти курируемого объекта? Передают ли в их распоряжение новенького, новорожденного, или бедная парка остается не у дел? Бедная одинокая парочка!.. Пенелопа мысленно вытерла воображаемую слезу — было б кого оплакивать, нахалку, которая вертит тобой, как хочет, единственно из каприза (черт побери, а ведь не случайно все эти особы женского рода!), — и потащила к незанятому углу стола (дурная примета: села за угол — семь лет свадебного платья не видать) продавленный стул, некогда стоявший в гостино-столовой, а ныне отправленный на вечное поселение в кухню. Затем она извлекла из кухонного шкафа три разнокалиберных бокала — на полке их сбилось в беспорядке десятка два, не меньше, но трех идентичных не удалось бы выискать даже при свете прожекторов, не то что в полумраке, который окутывал все предметы, равняя объекты с субъектами, придавая одинаковую загадочность лицам родителей и нечищеной картошке, поданной на стол прямо в кастрюле. Рядом с кастрюлей громоздилась литровая банка с домашними консервами и большая хлебница со щедро нарезанными увесистыми ломтями землисто-серого матнакаша. И это все.
— Прямо как в ресторане, — восхищенно сказала Пенелопа, водружая на стол бокалы. — Не хватает только ведра. С шампанским.
— Есть еще гороховый суп, — сообщила мать, выкладывая из банки на тарелку отцу темную массу, оказавшуюся баклажанной икрой.
— Гороховый суп! — Пенелопа всплеснула руками. — Блаженство!
Мать взглянула на нее с укором, и Пенелопа застыдилась, компоненты переваренного было Эдгарова пира вдруг зашебуршились в ее желудке, вызывая тоску и изжогу. Она молча села за стол, отпила из бокала и положила себе икры собственного изготовления. Усложненный рецепт, придуманный на диво ошарашенным подругам, сотрудницам, соседкам. Берешь баклажаны, чистишь, замачиваешь, нарезаешь, солишь, жаришь на подсолнечном масле. Берешь перец, чистишь, нарезаешь, жаришь на подсолнечном масле. Берешь помидоры, снимаешь кожуру, нарезаешь, жаришь. Берешь… пардон, ничего не берешь, а пропускаешь через мясорубку уже взятое, потом чистишь чеснок, потом… Черт возьми, до чего вкусно! Но зато сколько возни… впрочем, Пенелопе даже нравилась эта возня, нравилось все с самого начала — ходить на рынок, долго присматриваться и прицениваться, придирчиво отбирать по одному баклажаны, копаться в кучах перца и ведрах с помидорами, мимоходом слегка кокетничая с молодыми продавцами, готовыми подставить хоть целый грузовик товара, лишь бы красотка подольше возилась и пониже наклонялась, потом, дома, сортировать, раскладывать обстоятельно и соразмерно, мыть до глянцевого блеска… Особенно приятно было подводить итоги. Осенью, когда женщины начинали бахвалиться, перечислять, кто сколько банок закатал — сто, сто двадцать, сто пятьдесят, Пенелопа, как завзятый игрок, помалкивала, помалкивала, затем одним прыжком перекрывала все цифры и срывала банк… то есть аплодисменты. Этим летом она еще подотстала от личного рекорда, вот прошлым она заготовила такое количество всевозможных овощных консервов… прошлым летом… Да… Черт побери! Пенелопа перестала жевать и даже зажмурилась. И почему это дурные воспоминания такие яркие и стойкие? Хорошие небось тускнеют столь стремительно, что и фотографии не в состоянии их освежить, а вот дурные… Наплывает так, словно фильм смотришь. «Да не хочу я, уйди, убирайся, сгинь!» — отчаянно думала Пенелопа, но пленка уже крутилась, и удрать с сеанса не было ну решительно никакой возможности… Она стояла у кухонного стола, на красной лакированной поверхности которого покачивались овощи. Прохладно зеленый толстенький перец, другой — длинненький, острый, тоскливый, похожий на нос печального клоуна. На голубом в белую клеточку эмалированном подносе грациозно изгибались баклажаны, их упругая, шелковистая, отливающая лиловым томная кожа напоминала о неграх Рашели из «Семьи Тибо». Помидоры, алые-алые на золотистой деревянной доске — такой цвет бывает у крови, когда хирург делает первое неуловимое движение скальпелем, и загорелую кожу вдруг заливает алая волна, — только из разрезанного помидора текла не кровь, а отвратительная бесцветная лимфа. Картофелины — словно маленькие, лишенные членов трупики, среди которых, хищно посверкивая, протянул острое лезвие на полстола кухонный нож. Пенелопа стояла и смотрела, только смотрела, внутри было пусто и тихо, одни картинки и лежащие вповалку мертвые мысли. Мертвые и холодные. Холод в горле и груди — точно как при виде крови из-под скальпеля. Она словно все еще держала телефонную трубку, не в силах оторвать ее от покрывшейся липким ледяным потом щеки. «Вот дура! — сказала себе Пенелопа и замотала головой, пытаясь вытряхнуть из нее знобящий кошмар. — Он же нашелся. Оказался жив-здоров, ну попал в плен, подумаешь, выменяли же. Не он первый, не он последний. И вообще это было сто лет назад, в прошлом году, тогда все обстояло иначе, а теперь и пропади он без вести (типун тебе на язык, Пенелопа), не такая уже будет и трагедия. К тому же трагедий не бывает вовсе, жизнь состоит из комедий, большей частью несмешных, из однообразия, скуки, в лучшем случае тоски, трагедия непримирима с повседневностью, благородный катарсис несбыточен в нашем прямолинейном, однослойном существовании. Кто это сказал? Не важно, кто-нибудь да сказал, все уже давно сказано, наши мысли лишь цитаты, наши мечты только копии. Или пародии. А это кто сказал? Черт возьми! Четыре черненьких, чумазеньких… вот-вот! Сиди себе и повторяй про чертенят-очернителей, и нечего вспоминать всякую чушь».
Пенелопа положила вилку на тарелку, встала, переставила тарелку в раковину, налила себе чаю и, послав родителям воздушный поцелуй, направилась с чашкой, то есть бокалом, в гостино-столовую.
И все равно чушь лезла в голову то ли через уши, то ли через ноздри — заткни те и другие, просочится, кажется, и через волосы, как сквозь соломинки для коктейля… Вечером того же дня… нет, вечером после звонка, день что, нормальный был летний день, жара и духота, а ее все знобило… она лежала на диване с книгой, пыталась читать, но буквы были словно египетские иероглифы до… как его звали, ну этого, который их расшифровал, Шампиньон? Нет, нечто созвучное, но менее съедобное… Еще на обелиске они были, иероглифы эти, на том, который Наполеон увез в Париж, как бишь он назывался, обелиск-то? Луксорский? Нет, Луксорский другой, а этот… что-то связанное с вареньем. Розетский? Может, да, а может, нет, может, и не Наполеон его увез, а вовсе микадо. Или эклер. Его императорское величество Эклер Первый… Мысли путались, перебивали друг друга, словно оркестр остался без дирижера, и музыканты изо всех сил стараются один другого переиграть, только мелодия контрабаса была различима в этом хаосе, он упрямо твердил и твердил строфу из Маяковского: «Помните, вы говорили, Джек Лондон, деньги, любовь, страсть, а я одно видел, вы Джоконда, которую надо украсть. И украли»… И украли. И украли. И укра… Проклятые турки. Проклятые армяне. Проклятые… Армен скорее сказал бы: «Проклятый КГБ». Он всегда говорил: «Эту войну устроил КГБ». Оптимист. Пенелопа с ним не соглашалась, она считала, что войну устроили армяне с азербайджанцами. Она отлично помнила, как комитетчики из «Карабаха» и азербайджанские народнофронтовцы с пеной у рта доказывали, что во всем виноваты клятые коммуняки, что стоит им спихнуть коммуняк и прийти к власти, они живо договорятся между собой. Вот и договорились. И главное, если у вас руки чешутся, так сами и воюйте. Нет же. Устраивают охоты на бедных мальчишек, обложат, как заправские загонщики, какой-нибудь автобус или троллейбус и процеживают: мелкую живность, всяких там девчонок или старичков пенсионеров с героическим прошлым, но немощным настоящим отпускают, так и быть, на волю, а крупную дичь, вчерашних школьников, за шкирку да в мешок… в свою военкоматскую машину то есть. И в военкомат. А потом летят, летят стаями несчастные матери, судорожно взмахивая подбитыми крыльями и шелестя бумажками, да не простыми, а золотыми, в смысле зелеными, куда ни кинь, всюду у нас зеленеет, сплошные субтропики, сельва, джунгли, родные историко-архитектурные хоть и хороши собой, но конвертируются ограниченно, на призывников, например, не обменяешь… Но, конечно, троллейбусы-автобусы — это работа непрофессионалов, несерьезно это, серьезный охотник караулит добычу у норы, затаится и ждет, пока неопытный детеныш не высунет нос, чтобы его тут же — цап! И в мешок. Только у хитрого зверя из норы два выхода, сунулся охотник в один, а добыча шмыг в другой — и поминай как звали. У Пенелопиной подруги Седы сын призывного возраста, в соседнем подъезде мальчик в аналогичном положении, а этаж у обоих четвертый, и балконы бок о бок, так семьи заключили между собой пакт о взаимовыручке: стучатся к Седе, взгляд в глазок, и дичь сразу на балкон. Перелез через перила, и нет парня. Или наоборот. Стучатся ведь по очереди, до одновременного штурма всех квартир в доме пока не додумались. Вот такая война. Конечно, воюют и добровольцы… Пенелопе невольно вспомнился фидаин, которого она пару лет назад встретила у Армена, тихий парень с забинтованной головой, он еще и ногу подволакивал. Широко распахнув добрые, даже наивные глаза, он объяснял изумленной Пенелопе, что все сложилось как-то само собой, воевал в Афганистане, куда послали, согласия на то, естественно, не испросив, в Карабах воевать пошел сам, перерыв получился небольшой, и от мира он уже совсем отвык, вжился в войну и чем займется, когда она кончится, вообразить себе не может. Ну да, естественно, чем-то займется, в окопе сидеть не останется, но чем?.. Когда фидаин ушел, Пенелопа спросила Армена, как у него, заживет ли, и Армен махнул рукой.
— У него-то заживет, а у того… видишь, там, в коридоре, — он показал, и Пенелопа, повернув голову, увидела мальчика лет двадцати, — у того не заживет. Нерв перебит. Правда, сшили, как могли, но все равно полностью не восстановится. Малюсенький осколок, с ноготь, и человеку жить без правой руки. Ну не буквально без руки, рука на месте, но фактически… А ты говоришь…
— Да что я говорю? — ощетинилась Пенелопа. — Что я говорю?
— Говоришь, света нет, газа нет… Руки-ноги есть — скажи спасибо.
— Руки-ноги! — обиделась Пенелопа. — Тоже мне Кандид-Панглосс-Павка Корчагин. Если б я была головой профессора Доуэля, ты бы тоже велел мне сказать спасибо?
— Головой профессора Доуэля ты быть никак не можешь, — объяснил Армен невозмутимо. — Во-первых, голова у тебя не профессорская, а во-вторых, жизненные центры у тебя не в голове, а совсем в другом месте. Вот если б ты была всадником без головы…
И Пенелопа запустила в него даже не подушкой, хотя в кабинете имелась и подушка в чистейшей, между прочим, наволочке, а толстой, без сомнения занудной монографией с немецкой абракадаброй на суперобложке, промахнулась, но смогла с удовольствием наблюдать, как роскошно разодетая в золото и глянец книжища, испустив целую тучу вложенных в ее различные, но одинаково непривлекательные места листков с заметками, шлепнулась на пол и некрасиво распласталась по нему, а Армен с воплем кинулся подбирать свои спланировавшие на покрытый полуоблезлым лаком паркет заветные мысли, неучтиво забыв при этом о навеявшем их толстом немце. Он ползал по полу, а Пенелопа победоносно сидела в кресле, закинув ногу на ногу, и было совершенно все равно, что дверь открыта настежь, что к дежурному врачу поминутно кто-то заглядывает, что ревнивая сестра (сестры ревнуют врачей независимо от того, есть ли у них к этому основания и права), покинув свой пост, крутится поблизости, что из буфета могут в любую минуту принести ужин, а нетерпеливый родственник кого-то из пациентов, поминутно нервно ощупывая запрятанную в полиэтиленовый мешок многообещающую бутылку, ждет в коридоре, когда освободится доктор, а доктор занят своими амурами… Откровенно говоря, Пенелопа слегка перебирала в своем демонстративном пренебрежении окружающим, ее вызов был утрирован, а бесшабашность наиграна — а что, пусть определяется с приоритетами, она же целовалась с ним в людных местах, присаживалась к нему на колени в переполненном троллейбусе, повергая тем самым в шок исходящих желчью разновозрастных и разновеликих особ женского пола, сливавшихся в ее воображении в символическую женщину, из досексуальной девицы превращающуюся прямиком в послесексуальную старуху, между — прочерк, никакого переходного периода… черт побери, даже от социализма к коммунизму и то есть переходный период, хотя существование их самих, в особенности коммунизма, весьма сомнительно, а вот у армянской женщины такого периода нет. А если и есть, то только… ну, может, не у одной-двух, но немногим больше. Себя Пенелопа, естественно, числила в исключениях, подтверждающих или вылезающих вон из правила, она доказывала свою исключительность неутомимо — походкой, прической, одеждой… как Армен любовался ее стройными бедрами, туго обтянутыми кожаной мини-юбкой!.. Гм!
Разом стряхнув с себя шелуху воспоминаний, Пенелопа порхнула к большому зеркалу в передней и стала энергично крутиться перед ним вправо-влево, пытаясь заглянуть себе за спину, вернее, за попу… Ах ты, Пенелопопища! Кремолопа несчастная!
— Надо срочно похудеть, — сообщила Пенелопа задумчиво лицезревшему ее эволюции Мише-Леве, задрала юбку повыше, взглянула и закатила в полуобмороке глаза, узрев незаметно пришедшие на смену стройным бедрам аппетитные ляжки. — С завтрашнего дня сажусь на диету. Творог, яйцо вкрутую, полкило вареного мяса… Гм… Да-а…
Творог был деликатесом, несбыточной вкусовой комбинацией армянской действительности, что там устрицы с креветками! Полкило мяса же — и не единожды, а ежедневно на протяжении недели… Накопить на такую диету? Проще вскочить в дребезжащий последний вагон уходящего, но еще не ушедшего, болтающегося где-то поблизости поезда, догромыхать по ржавым рельсам и гнилым шпалам до могилы старины Канта и топить горе в балтийской луже, заедая его творогом и яйцами вкрутую, запивая коньяком, но только не французским, пить французский коньяк — все равно что глотать рюмочками «Мажи нуар» или «Сикким», — коньяком или шерри-бренди… «Все лишь бредни, шерри-бренди, ангел мой!» — так она скажет Армену, кокетливо наматывая на нос локон и умильно заглядывая ему в глаза, буде он возникнет перед ней, узнав о случившемся… нет, о свершившемся! «Где Пенелопа?!» — завопит он, обрывая телефонные провода, и ему замогильным голосом сообщат: «Улетела на собственном самолете ворочать миллионами своего благоприобретенного мужа», и он оборвет-таки пару проводов, завяжет петлю и повесится там же, на независимом телеграфе отвоеванного Арцаха, будет покачиваться, как маятник, над стойкой нестойкой, немедленно повергнувшейся в обморок телефонистки, над ошеломленными отправителями-получателями, абонентами-респондентами, в такт пляшущей на свободной конце петли телефонной трубке… Или нет, он запустит оторванной трубкой с извивающимся огрызком провода (похоже на дохлую крысу, экая мерзость!) в стену своего дурацкого госпиталя и, стаскивая с себя трясущимися руками некогда белый, а ныне заляпанный кровью и гноем халат, побежит на аэродром Ходжалы, ворвется в уже рассекающий пропеллерами воздух самолет… «Да что вы делаете, доктор, это же опасно для жизни», — взмолится пораженный пилот, а он ответит, валясь в кресло и безнадежно маша рукой: «Ах, оставьте, мне жизнь недорога, любимая женщина меня бросила, променяла на вареное яйцо и пачку творога», и наконец-то примчится в Ереван, откуда отчалил три месяца назад и куда уже три недели не звонил — бог знает, чем он там занят, может, милуется с какой-нибудь карабахской Калипсо, в плен на сей раз не попал точно, теперь же перемирие, это вам не прошлый год, и никто (тьфу-тьфу) не звякнет с бухты-барахты, не ляпнет: «Пенелопа! Армен пропал без вести!» И Пенелопа не поплетется на обмякших, как вареные морковки, ногах к своим распластанным на столе, полунарезанным овощам с трубкой в руке, уронив ее только тогда, когда раздастся грохот сорвавшегося с подставки и с отчаянием самоубийцы уткнувшегося в медовое коварство паркета телефонного аппарата.
Особенно ее тогда ужаснуло, что пропал он за неделю до того посвященного хитрым баклажанно-помидорным комбинациям дня, а именно в блаженные минуты, когда она заплывала далеко в море, добиралась до чистой, пахнущей свежестью воды, переворачивалась на спину и подолгу покачивалась на бодряще прохладной синеве, как бронзовый язычок в центре голубого колокола неба. А может, когда она с равномерностью механизма подставляла солнцу правый бок, спину, левый бок, живот, стряхивая с себя гальку, снова и снова впечатывавшую свои множественные очертания в податливое тело, и с наслаждением представляя себе, как приедет Армен, позвонит, и она явится на свидание в белом сарафане, похожая на шоколадку, и не какой-нибудь сомнительный молочный шоколад, а настоящий bitter или лучше noire, французский шоколад темнее немецкого, и Армен ахнет и прикроет ладонью глаза, притворяясь, что ослеплен. Подумать только, за четыре года он ни разу не видел ее загоревшей — до сочной, коричневой черноморской черноты, не чета торопливому севанскому загару… Да, такая теперь жизнь, в былые времена она отдыхала на море почти каждый год, в детстве — с родителями, позднее — с подругами, как, впрочем, и вся Армения, ведь в армянах неистребима тяга к соленой воде, возникшая, наверно, пару тысчонок лет назад, когда Армения простиралась от моря до моря, а может, и порожденная многовековым парением в крепко посоленном озере Ван, из которого армяне, вероятно, и выползли на сушу, наперекор остальному человечеству, выкарабкавшемуся к солнцу по крутому морскому дну. Но ныне, когда поезда давно не ходят (может, в Абхазии уже и рельсы разобрали и куют из них мечи, перековывая к посевной на орала и обратно), а в самолеты, даже аэробусы, всем армянам, как бы мало их ни осталось в Армении после массового исхода в Россию и Америку, не поместиться, побережье Черного моря от Туапсе до Сухуми и от Евпатории до Гурзуфа в отличие от калифорнийского не переговаривается, как некогда, по-армянски, и бравые наши ребята в багамах (или бермудах?.. поди разберись с этими островами), широченных, как юбки в сборку, и длинных… длиной как раз в армянскую мужскую ногу… низкорослые, смуглые и волосатые, почти как у Брэдбери — «были они смуглые и волосатые…», окстись, Пенелопа, не волосатые, а золотоглазые!.. не разгуливают по сочинским и ялтинским набережным, наивно живописуя себя в собственном некритическом воображении, как объект желания множества временно стройных и привлекательных (временно, ибо русские девочки увядают, увы, очень быстро), сексуально озабоченных блондинок со всех концов, от Москвы до самых до окраин, необъятной родины своей. Однако не только армян поубавилось на серых — вроде того человека, который тупо топал от южных гор до северных морей или в обратном направлении, как Хозяин прикажет, — наисерейших песках побережья (там, где этот песок в бурное время строек не сгребли экскаваторами в основание железнодорожной насыпи) и на бесчисленных кусках бетона, валяющихся в черте прибоя, куда их с неизвестной, но несомненно благой целью забросила Советская власть, — не только армян, но и прочих граждан необъятной, когда-то захлестывавших всенародную здравницу, как потоп. В этом Пенелопа могла убедиться воочию, с удивлением рассматривая малолюдные улицы и пустоватые парки города-курорта Сочи, несколько лет назад кишевшего полу-, но все равно плохо одетыми людьми, от неумеренного потребления лучистой энергии обгоревшими до пегой или оранжевой в яблоках масти. Набивавшими пляжи до того состояния, когда повернуться с боку на бок можно только всей шеренгой. Сварливо и в то же время сладострастно выстаивавшими километровые очереди за тарелкой липких макарон с комком молотой требухи плюс незабываемый напиток неподражаемого вида и вкуса, именуемый компотом из сухофруктов. Какая нужна богато извращенная фантазия, чтобы подобный напиток изобрести — в сезон, когда рынки завалены фруктами, сады ломятся от плодов, собрать их или закупить, засушить, свалить, предварительно распихав по пыльным мешкам, в сырые подвалы, дабы на будущий год в то же изобильное фруктами время года сварить вместе с грязью, в которую превратились пыль мешков и сырость подвалов, и подавать жаждущим. Компот из сухофруктов! Суп из воды с комбижиром! Шницель из свининоговядиноконинохлеба! Все великолепие общедоступной советской кухни за пятьдесят копеек обед. Пятьдесят копеек обед, рубль койка, пятнадцать — билет на поезд, и вся семья ведущего солиста оперного театра может ежегодно поплескаться в море дважды в день… стоп, Пенелопея, насчет обедов — злостное преувеличение, более того, искажение фактов и отвратительная неблагодарность по отношению к родной матери — некрасиво, нехорошо, гадко! Ибо ежегодный отдых традиционно начинался с Клариного утомленно-капризного соло: «Вы езжайте на свое море, а я отдохну тут, на скамейке во дворе, по крайней мере не буду готовить…», потрясенное семейство давало торжественное обещание довольствоваться той самой общедоступной, складывались чемоданы, но не проходило и трех дней по прибытии, как нетронутые тарелки в столовой все более нервно отодвигались в сторону, и на глазах у матери и жены голодные муж и дети судорожно сглатывали слюну, но молчали. Все кончалось печально-счастливо: бедная Клара, не вынеся терзаний, причиняемых увядающими на глазах потомством и супругом, засучивала отсутствующие в силу климатических условий рукава и становилась к плите. И семья ведущего солиста академического оперного продолжала плескаться в море дважды в день. Ночуя в курятнике с дощатыми стенками, провисшими металлическими кроватями с некогда пружинной сеткой, сохранившимися явно с николаевских времен, если не эпохи наполеоновского нашествия, с единственным стулом, на который свален весь семейный гардероб, и двумя-тремя вбитыми в стенки гвоздями, награждающими гниющие на них мокрые полотенца круглыми ржавыми пятнами. Курятник, деревянная будочка во дворе, деликатно именуемая туалетом, кран на длинной железной ноге, льющий не очень холодную воду в цементное подбрюшье, почему-то не называемое ванной, большой, грубо сколоченный стол с приставленными к нему скамьями без спинок, предназначенный для кормления всех курортников, сколько их там набилось в отсеки курятника, ежели, не соизволив пользоваться благами общественного питания, они, дыша в затылок друг другу и переругиваясь из-за плохо отмытых (холодной водой и пропитанной жиром тряпицей) кастрюль и сковородок, берутся стряпать в тесной кухоньке кто во что горазд: одни — бесконечные аджапсандалы и бозбаши, другие — яичницу с колбасой и вареную картошку… Да, она действительно была широка, эта страна, и на ее просторах уживалось бесчисленное множество национальных кухонь и еще больше никаких, сосисочно-макаронно-картошечных, все, разумеется, вареное, на скорую руку, так сказать, не хлебом единым, невкусное и малосъедобное, как реальный социализм. Курятник, конечно, высится где-нибудь на горе, если он в Лоо (а в Лоо оперное семейство отдыхало особенно часто), Лоо ведь местечко, зажатое между морем и горами, одной окраиной оно почти касается пляжа, будучи отделено от довольно широкой по меркам Черноморского побережья Кавказа песчаной ленты лишь железнодорожными рельсами да прилегающим к ним вплотную шоссе, которое исполняет по совместительству функцию городского или, скорее, сельского проспекта. От шоссе село начинает карабкаться в гору и, утомившись, останавливается уже через какой-нибудь километр, дальше идет некогда колхозный, а теперь неведомо чей сад, переходящий в лес, что создает возможности для лесных прогулок, венчаемых шашлыками. Малость территории, однако, снижает почти до нуля шансы пристроиться получше и поближе к морю, на это нужно везение, а с везением у папы Генриха всегда обстояло неважно, вспомните Италию, в итоге за годом год тащишься час на пляж и вдвое дольше обратно, вверх ведь, да и устаешь от купания… По правде говоря, в последние годы Генрих и Клара, клонясь левее и левее под напором крепчающего ветра справа, принимались в весенне-летний период все чаще ностальгически вспоминать пусть курятники, да, но зато на берегу моря, пусть невкусно, да, но по карману, черт возьми, доступно всякому Паваротти или Доминго даже республиканского масштаба — покопил год, получил отпускные, добыл билет на поезд, сел и поехал. Разок семье певца пришлось тащить с собой раскладушку, чтобы сэкономить двадцатку на лишней — то есть, наоборот, нелишней койке, но что из того, зато Пицунда, реликтовые сосны третичного периода, кипарисовая аллея, старинный монастырь, куда в царское время ссылали провинившихся монахов (нас бы в такую ссылку!). А какой в Пицунде пляж — широченный, узкая полоса гальки, остальное песок, тут же сосновый лес, тишина, прохлада, запах хвои, озон. А уж море!.. Папа Генрих любил море пуще самой Пенелопы, пуще Анук, а мама Клара, хоть и предпочитавшая держаться поближе к берегу и частенько с ахами и охами взывавшая с твердого галечного дна к своему упорно уплывавшему в недоступные ей глубины семейству, теперь уже об опасностях морских купаний не заикалась, и напрасно Пенелопа пыталась вразумить неразумных родителей, растолковывая им, что исполнителям партий Яго или Эскамильо не место в захолустном Лоо в компании разжиревших пролетариев и пролетарок, что обладатели вердиевских голосов не должны ютиться в пицундских каморках, созерцая праздник жизни никчемных иностранных туристов, расположившихся по соседству в многозвездных отелях, постоянные и, увы, нежелательные коррективы в ее наставления вносила жизнь, из которой, как сухой лед, дымясь и расплываясь в воздухе, улетучились социальные гарантии, западными стандартами никоим образом не сменившись. Стандартами, согласно которым Паваротти загребает миллионы, а, например, sanitario tecnico, сантехники, говоря по-нашему, входя в его тридцатикомнатную виллу на берегу Средиземного моря, почтительно кланяются, вытирают ноги, не матерятся или по крайней мере матерятся настолько тихо, чтоб их не слышали жена Паваротти и его дочери, и удаляются, починив кран или бачок, а не оставив все в прежнем виде плюс озеро ледяной воды на полу ванной, ибо в их чемоданчиках нет «маленькой такой резиночки», и хорошо бы господину Паваротти сбегать быстренько — одна нога здесь, другая там — в магазин «Все для дома», авось повезет… Миллионов даже в драмах отцу платить никто не собирался, матери, естественно, еще менее, посему починка протекавших кранов и та была отложена надолго, очевидно, до эры пришествия вышеописанных стандартов, что говорить о захолустном Лоо, уплывшем из их сегодняшней действительности куда-то в Атлантический океан, к Канарским островам либо островам Зеленого Мыса и покачивавшемся там на меланхоличной океанской волне, еще желанном, но уже чужом, малопонятном, вроде какого-нибудь Буркина-Фасо. Потому неудивительно, что Генрих и Клара все чаще глядели в прошлое, бесконечно огорчая тем самым Пенелопу, которая, будучи человеком прогрессивным, безусловно предпочитала прошлому настоящее, а настоящему будущее. Возможно, это оттого, что будущего у нее предвиделось достаточно в отличие от старшего поколения, каковое и глядело в прошлое, ибо куда ему еще, бедному, глядеть. Как ни печально, стариков будущее может только страшить, каким бы гипотетически распрекрасным оно ни было, поскольку в любом проявлении этого прекрасного червоточиной маячит наше в нем небытие. Потому и старые люди живут немножко настоящим — немножко, так как настоящее — лишь миг, и прошлым, ведь всякое нормальное существо предпочитает небытию бытие. Пенелопа родителей стариками не считала, да они ими и не были, однако… Это в сорок лет, если очень постараться, можно поверить, что еще полжизни впереди, после шестидесяти такое уже из области абстракций, если не фантастики. Поэтому Генриху с Кларой казалось, что теплая синева Черного моря с рассыпавшимися на ее неровной, как обои с тиснением, поверхности золотыми искорками осталась у них за спиной. А чтобы увидеть то, что осталось за спиной, волей-неволей приходится оглядываться. Впрочем, и Пенелопе вовеки не выбраться бы в эту отчужденную землю, если б не «гнусная семейка», взявшая на себя часть расходов наподобие профсоюза советских времен, что дало Пенелопе вожделенную возможность погрузиться в ласковую воду нежно любимого ею Черного моря. Других морей, заметим, она перевидала немного: Балтийское — налитое как бы водой из-под крана, холодной и несоленой, да Каспийское, которое, во-первых, и вовсе не море, а жалкое озеро, а во-вторых, было распробовано Пенелопой в детстве столь раннем, что краткий, но выразительный эпизод знакомства с этим водоемом она хранила в памяти не по собственным ощущениям, а в пересказе родителей. Эпизод, когда вползла в воду прелестной белой малышкой (белой в смысле расовой принадлежности, ибо отличалась благородным смуглым оттенком кожи с младенчества), а выползла то ли больным витилиго негритенком, то ли детенышем зебры с покосившимися и частично вылинявшими полосами; достоверно, что счищать с юной купальщицы мазут пришлось чуть ли не бензином.
Заметим, что Пенелопе удалось не только погрузиться в любимое море, но и ознакомиться с постсоветским курортом Лоо, на первый взгляд как две капли воды походившем на он же советский. На второй взгляд, впрочем, выявлялась и разница, в основном количественного характера. Вместо малоприкрытых, тесно жмущихся друг к другу людей, отдыхавших, можно сказать, всем классом, чаще рабочим, реже крестьянским, местами прослойкой, второсортной и скудной, как мясо в покупном пирожке, по пляжу были раскиданы с интервалами в добрый десяток метров почти совсем оголенные человеческие тела, растерянные индивидуумы, тоскующие по партнеру в карты и чувству локтя, колена, бедра. Подобная расстановка действующих лиц вполне гармонировала с изменениями в других числовых показателях: по нескольку лишних нулей назойливо фигурировало там и сям, будь то цена койки в том же курятнике или столовских макарон, которым перестройка, говоря словами ее оппонентов, не нанесла видимого ущерба, оставив их такими же липкими, белесыми и несъедобными, какими они пребывали до восемьдесят пятого года. (И не только макарон. Многие знакомые вещи остались в прежнем состоянии, а именно несостоятельными, — с одним отличием: в состоянии знакомство с оным состоянием овеществить стали немногие состоятельные. Таков был вывод, сделанный Пенелопой, а Пенелопа в подобных делах слыла докой, она считала, как главный бухгалтер, и разбиралась в любой промышленно-сельскохозяйственной продукции, как старший товаровед, недаром она упорно курсировала по магазинам всех посещаемых ею городов, пристрастно всматриваясь в цвета, сорта, фасоны, цены; когда кто-либо, например, Анук, выражал сомнение по поводу целесообразности этих вояжей с пустым кошельком, Пенелопа важно изрекала: «Я изучаю конъюнктуру».) Во многом благодаря лишним нулям, а вернее, их отсутствию в большинстве кошельков, опорожнявшихся в дореформенные времена на уставленном топчанами и шезлонгами, украшенном белыми корпусами прогулочных катеров и усыпанном разнообразным мусором гостеприимном лооском берегу (заметим, что в отличие от шезлонгов и катеров, первые из которых сгнили, а вторые превратились в торговые суда, ведомые на юго-запад капитанами, давно не певшими «не нужен мне берег турецкий», а совсем напротив, мусор не только сохранился, но и приумножился и похорошел, перейдя из категории экологической в категорию эстетическую), итак, благодаря усложнению арифметики Пенелопа с «гнусной семейкой» отхватили две комнатушки не в курятнике, а в настоящем каменном доме, к тому же в сотне метров от моря, что позволяло многократно бегать купаться и загорать, а не валяться до изнеможения на горячей гальке или мрачно сидеть под нелепым тентом из подвязанной к палкам простыни, тоскливо представляя тяжкий путь в гору с утяжеленным влагой пляжным инвентарем под палящим солнцем. Между купаниями можно было читать в саду, правда, у того же сакраментального грубо сколоченного стола на скамейке без спинки, но зато в гордом одиночестве, в отсутствие не только прочих (пары-тройки) временных обитателей дома, соскребавших с себя на пляже очередной слой кожи, но и хозяев, работавших, как все люди, и оттого не драматизировавших малочисленность кормильцев-курортников (либо, наоборот, передраматизировавших и потому работавших), в компании единственно Ромео-Ромуальда-Ромена Гари, хозяйского пса, при виде кошек и некоторых прохожих (в отличие от большинства собак он не считал проходимцами всех проходивших мимо) стервеневшего и превращавшегося в Тибальда, а в остальном тихого и благодушного, грустного философа, денно и нощно распростертого в ленивой созерцательности на цементе двора. Иногда его сосредоточенное молчание прерывалось глубокими вздохами — для этих тяжких вздохов есть причина, сказал бы Клавдий и оказался б прав, причина наверняка существовала, скорее всего то была неутоленная потребность в собеседнике, способном воспринять вынашиваемые в одиноких раздумьях идеи и умозаключения дворового мыслителя, неутоленная и неутолимая, поскольку Пенелопа при всей своей пылкой симпатии к собачьему племени предусмотрительно держалась поодаль от Ромуальдовых блох и клещей, а супруги-интеллектуалы были знакомы с нуждами верных спутников рода человеческого преимущественно по «Собачьему сердцу». К сожалению, «Испанская баллада», опрометчиво захваченная из дому по совету Маргуши, вызывала у Пенелопы главным образом зевоту, потому она то и дело с радостной готовностью откладывала книгу, чтобы поболтать с Анук или прогуляться с той по главному «проспекту» Лоо, в основном с благой целью продемонстрировать сонному поселку свой броский пляжный наряд — ярко-оранжевая с крупными желтыми и зелеными цветами мини-юбочка, дополненная чередуемыми, столь же яркими желтой и зеленой маечками с более чем выразительным вырезом — и пышную прическу, преподав тем самым наглядный урок женской половине курортного люда. Ох уж эти расслабившиеся женщины! Ненакрашенные, с вечно мокрыми, слипшимися волосами, в бесформенных ситцевых халатах и шлепанцах. Они отдыхают от косметики, бигудей, туфель на каблуках, от женственности и привлекательности и делают это на глазах у собственных мужей, нимало не заботясь о последствиях. Вот что не изменилось, то не изменилось, и в новых постсоветских условиях Пенелопа видела вокруг все те же почему-то именуемые женщинами замужние колоды на отдыхе, которые привыкла видеть с детства, колоды, что интересно, любой национальности, будь то армянки, русские, грузинки или украинки. Разнясь в иных проявлениях — армянки, например, купались утром и вечером, русские жарились на полуденном солнце, армянки проводили предобеденное время у плиты, русские в очереди у столовой, — в этом все они фатально сходились. Любопытно, что отдыхавшие в Лоо, Якорной Щели или ином экзотическом местечке дамы приводили себя в полный или относительный порядок для поездки в Сочи, где, чинно прогуливаясь по городским улицам, обнаруживали множество совершенно расхристанных особ, устроившихся в самом Сочи. В Сочи ездили и Пенелопа с «гнусной семейкой» — полопать пирожных в кондитерской гостиницы «Москва», где, как и тысячу лет назад, пекли изумительные корзиночки с зефиром и миндальные печенья, но теперь за ними не приходилось стоять часами, как и не было нужды пропихиваться в электричку, отдавливая ноги, теряя пуговицы, очки, шляпы, и в полуобморочном состоянии, поминутно прилипая ко всяким потным телам, с неисчислимыми задержками, пропуская опоздавшие поезда, бесконечно долго преодолевать длиннющий, словно тысячекилометровый, путь. Ныне полупустые электрички, почти не встречая даже идущих по расписанию составов, ибо разобранные в Абхазии пути (даже при еще не разобранном СССР) давно это расписание ополовинили, пролетали весь, в сущности, коротенький, более не растягиваемый и не деформируемый железнодорожной теорией относительности отрезок побережья от Сочи до Лоо на одном дыхании, буквально за считанные мгновения, и можно было, спокойно проведя эти мгновения на просторном сиденье, забежать домой за купальником и отправиться на море смывать с себя усталость и городскую пыль, а не валиться в изнеможении на кровать, со стоном облегчения скинув на пол тяжеленную кладь — продукты, добытые в беготне по забитым людьми сочинским магазинам… Откровенно говоря, Пенелопа стала уже забывать, как это выглядело, к отсутствию очередей привыкаешь так же быстро, как к свободе слова, с трудом и не совсем четко представляешь магазины брежневских времен, а уж газету «Правда» и вообразить себе не можешь… точнее, газеты «Правда», потому что много их таких водилось, или, наоборот, газета была одна, множились ипостаси, которые папа Генрих называл не совсем так, как полагалось правоверному коммунисту. «Известия», — говорил он, выкладывая на стол извлеченные из почтового ящика органы разнообразных руководящих инстанций, — «Неправда», «Комсомольская неправда»… Городскую пыль смывали несинхронно, Ник очищался от нее целиком, включая макушку, Пенелопа по шею, а Анук ограничивалась нижней половиной ног, вечерние купания она недолюбливала, холодно, видите ли, и медузы собираются… Ох эти медузы, камень (вернее, слякоть) преткновения, вечно препятствующий Анук полностью отдаться на волю волн. Пенелопа и сама не питала особой страсти к мерзким, липким созданиям, время от времени наводнявшим прибрежную полосу (наводнявшим воду — так надо понимать, Пенелопея?), но все же стоически пробивалась сквозь их немалые стаи, выискивая местечко почище. Не то Анук. Достаточно было появиться одному-единственному жалкому тощему медузенку на всей акватории Черного моря, как Анук, волшебным образом это учуявшая, отказывалась влезать в воду. Напрасно Пенелопа, Ник, а в прежние времена папа Генрих прыгали, кувыркались, ныряли, что должно было (по какой-то никому не понятной логике) доказать Анук полную проходимость, вернее, проплываемость территории, та упорно топталась у кромки пляжа, не поддаваясь на уговоры. К счастью, ибо если она, поддавшись-таки, забиралась поглубже и даже отплывала от берега, то неизбежно натыкалась на того самого завалящего медузенка. И тогда над предательской водной гладью далеко разносился дикий визг, леденя души родных и близких, которые кидались, бешено работая руками-ногами, спасать дорогое существо, выволакивать его из-над пучины, где оно намертво зависало в якобы безопасной точке. Не мудрено, что раньше папа Генрих, а теперь Ник предваряли торжественное вступление Анук в царство Посейдона тщательными исследованиями предназначенного к заплыву Анук участка, прочесывая его вдоль и поперек всеми стилями от кроля до баттерфляя. Ник, папа Генрих, случалось, и иные друзья, родственники, знакомые, в былые времена в Лоо собиралась немалая компания — все сплошь представители бедной, но гордой советской интеллигенции, которые то веселой гурьбой катились под гору, нагруженные пляжными сумками, тентами, надувными матрацами, то лезли вверх, волоча авоськи с овощами и мясом, а однажды, на пике победоносного шествия продовольственной программы (была и такая!), с вареной колбасой. Вот что намертво отложилось в памяти — шашлык из вареной колбасы, кажется, докторской, которую в доме именовали ослиной, очевидно, по ассоциации с тощей, лишенной и намека на жир плотью несчастных худеньких ишачков, бредущих по южным дорогам. Шашлык был зажарен в лесу над Лоо и даже съеден без остатка. «Да-а, — сказал папа Генрих, с сомнением, если не отвращением насаживая на шампур странный бледно-бежевый кусок, — наверняка я первый за последние пять тысяч лет армянин, опустившийся до подобной профанации высокого искусства…» «А что, вкусно», — вздохнула мама Клара, храбро вонзая зубы в дымящийся ломоть. И шашлык был съеден. Чего только не съешь в лесу после хорошего купания, проглотишь и сардельки, а уж ослиную колбасу по два девяносто килограмм, да не долларов, а рублей… Рубли-то тогда были не чета доллару, на доллар разве накупишь, как на рубль, много-много… чего? Ну, например, лотерейных билетов. Или — периодами — алюминиевых кастрюль. Иногда — школьных тетрадок в линию (с клеткой сложнее). Часто… но чего часто, Пенелопе припомнить не удалось, хотя она долго сидела, зарывшись в диванные подушки и мутаки, поглаживала машинально гривку Миши-Левы и перебирала в уме различные случайные предметы, следуя малоочевидным ассоциациям, отчего у нее возникали причудливые ряды типа: сине-красный резиновый мяч с серебряной полоской по экватору (на миг ей показалось, что она видела много-много таких мячей в магазине, но нет, это было в детском саду, куда она зашла однажды с приятельницей); серебряный браслет с подвесками в виде кораблика, рыбки, клеточки с птичкой, Анук с подружками купили браслет в складчину и разобрали подвески на… на подвески же, только чтоб носить на шее, Анук достался очаровательный чайничек сантиметровой высоты; дивный гэдээровский чайный сервиз, белый с огромными оранжево-желтыми цветами (сервиз Пенелопа купила бы немедленно, будь у нее свой дом); термос в черно-зеленую клетку, в котором понесли чай отцу в больницу, где он лежал несколько лет назад… термос в первый же день уронила и разбила медсестра… Как водится, мысли ее незаметно изменили направление, забирая вбок, еще, еще, до тех пор, пока образовавшаяся кривая не описала окружность, добравшись до места, от которого крутилась. Или вокруг которого крутилась. И как ни крути… Черт знает что! Медсестра и больница прямиком привели ее к Армену — опять! — но когда, насупившись, она попробовала отмотать по ассоциациям назад, как бы прыгая спиной вперед по ступенькам, то, доскакав до детского резинового мяча, сразу же споткнулась о еще более резиновую покрышку и свалилась в автомобиль, хороший автомобиль, «Мерседес»… Подлые мужчины, гады и уроды, нет от них спасения! Клин, как говорится, клином вышибают, ну понятно, острый, например, синий в полосочку клин вышибают тупым, малиновым в розовый горошек. А как избавиться от клина вообще? Абстрагированного, символического, собирательного? Когда дражайшая половина Эдгара-Гарегина застала означенного деятеля плавящимся в горниле Театральной площади на пару с огнеопасной брюнеткой в алом платье, сиречь Пенелопой… слово «застала» выглядит в этом контексте выкраденным из анекдота либо судебного дела, ну вообразите себе ситуацию, когда жена закатывает мужу скандал, попрекая его тем, что он требовал Карабах не с законной супругой, а с демонической красоткой делакруаского типа, не то сошедшей с баррикад, не то не успевшей на них влезть… Смешно? Кому как. Пенелопе смешно, увы, не было — ни тогда, ни тем более после, и еще долгое время ей казалось, что защемившийся намертво клин (синий в полосочку или золотой в клеточку?) неизвлекаем. Потом появился Армен. На Театральную площадь он был не ходок, все это карабахское священнодействие его не увлекало, и постепенно Пенелопа тоже отстранилась, превратилась в наблюдателя, сначала равнодушного, позже ироничного. Ведь женщина, как тень, повторяет душевные движения мужчины, если, конечно, не сосуществует с ним лишь формально — хотя и в этом случае она во многом, пусть и непроизвольно, подстраивается под него. Даже если сосуществование не мирно и каждый ее поступок знаменует бунт, это, в сущности, тоже отражение, хоть и с противоположным знаком, отражение либо зеркальное, где правое предстает как левое и наоборот, либо негатив, обращающий черное в белое и белое в черное. Так или иначе женщина, раз уж она пошла на сближение с мужчиной, становится зависимой в поступках и мыслях, и никакая борьба с ним или с собой, но при нем, не может вернуть ей внутреннюю свободу, только полный разрыв. И Пенелопа потихоньку подзабыла о баррикадах, с которых слезла (или не успела влезть?), прекрасные порывы ее армянской души по-угасли, и она вслед за Арменом и Горацием стала повторять: «Куда, куда стремитесь вы, безумцы?» — по правде говоря, не совсем за Горацием, которого она, как всякий нормальный человек, не отравленный благополучно искорененным большевиками классическим воспитанием, не читала, но за капитаном Бладом, чьи похождения помнила почти наизусть (хорошо, черт возьми, что авторы приключенческих романов избежали большевистских корректив в программах своих гимназий и лицеев)… Но, как показывает история, за действия одних в итоге всегда расплачиваются другие. И Эдгар-Гарегин, неутомимый посетитель площади с самых первых часов ее разогрева, свидетель мгновений, когда она начала бурлить, энтузиаст, ежедневно меривший температуру ее кипения, знавший наперечет всех активистов с их тайными и явными замыслами, толкнувший даже как-то речь с трибуны митинга и удостоенный всплеска множества рук со сжатыми в кулак пальцами, бывший, казалось, на шаг от того, чтобы кинуться в дымящийся котел политики, в котором сварились многие, и лишь единицы, подобно Иванушке-дурачку, превратились в не прекрасных, но принцев, этот Эдгар-Гарегин вдруг отрезвел, сделал изящный пируэт, и вот, пожалуйста, «Мерседес», самолет, концерн-консорциум-картель, или как его там, загнивающий капитализм с запахом французского одеколона и осетрины на вертеле. А Армен, взиравший на всю эту кутерьму со снисходительным безразличием, как на возню чужих детей в песочке детской площадки, Армен волей дуры-фортуны, правительства, избранного другими, и специальности, к которой так ловко пристает эпитет «военно-полевая», вынужден отдуваться за всю шумную компанию, оперировать во фронтовых госпиталях, попадать под бомбежку, ломать лучевую кость в типичном месте и таскаться из палаты в палату с загипсованной рукой, заслужив прозвище лекарь-калекарь, угодить в плен и сидеть в заложниках у какого-то азербайджанца, ждать, пока либо обменяют, либо пристрелят, в то время как верная Пенелопа мечется, рвет на себе волосы, кричит и топает ногами на безвинных своих родителей, обливает слезами несчастного, не выносящего сырости Мишу-Леву, — и во имя чего? Во имя утоления жажды убийства, неотъемлемой от человеческого рода? Ведь не успел человек слезть с дерева, как тут же, грязный и лохматый, сгреб неловкой толстопалой ручищей первый попавшийся камень и ринулся убивать собрата, сползшего по соседнему стволу. Вначале за кусок мяса или съедобный плод, за самку, которая еще не стала женщиной, неряху и обжору с нечесаными волосами, потом за пещерку поудобнее, шкуру потеплее, потом за охотничьи угодья, потом… В первое время убивали один на один, позднее появились стаи, роды, племена, и, конечно, сейчас же стая пошла на стаю, род на род, племя на племя — до тех пор, пока не сложились народы и не взяли в руки оружие… ха-ха, чего там еще брать, они ведь прямо так, с оружием в руках, и сложились. И пусть в первобытные времена записей не вели, наверняка именно так и было, вся последующая история человечества тому порукой. Вся история, которая не что иное, как сплошной поиск мотивов для убийства. Нация в этом смысле изобретение замечательное — какой простор для различения людей и культивирования разнообразных вариантов ненависти, сколько поводов для не просто убийств, а массовых убийств. Наций хватит надолго, а там, где о них на минутку забывают, всегда найдутся иные, вполне уважительные мотивы — политика, религия, даже мораль… Хотя религия и мораль — это, в сущности, две части целого, ведь всякая религия дополняется своей системой морали (или, наоборот, мораль дополняется религией?). И эти морали с религиями имеют неодолимую тягу к распространению. Если подумать, любая религия агрессивна, ведь агрессия в итоге — подчинение, завоевание, а религии по самой своей сути тяготеют к вербовке все новых и новых приверженцев, что и есть подчинение и завоевание, пусть не внешних территорий, а, так сказать, внутренних, и завоевания эти можно осуществлять проповедями, а можно огнем и мечом. Как это в основном и делалось. Наверняка простодушные идеалисты, придумывавшие религии, а вернее, морали, обросшие потом богами и пророками, в мыслях не имели, во что выльется их наивное нормотворчество, бедняга Христос скорее всего был добряком, ему небось и не снилось, сколько людей положат во имя его учения, под звуки Нагорной проповеди, если б он мог себе вообразить инквизицию или крестовые походы, он утопился бы в Мертвом море, не произнеся ни звука, даже нечленораздельного, ибо и нечленораздельные звуки играющие в испорченный телефон потомки истолковывают, как им будет благоугодно. А предвидел ли Магомет появление исламских экстремистов? Да что там говорить, даже в хваленой античной Греции преследовали за вольнодумство, за неуважение к культу, как они выражались, это Пенелопа почерпнула совсем недавно из Шпенглера, точнее, не из Шпенглера или не прямо из Шпенглера, а через посредство медиатора — естественно, любимого зятя. Ну вообразите себе, лежит на диване человек и читает «Закат Европы»! Не для того, чтобы сдать экзамен или написать диссертацию и получить степень вместе с прибавкой к зарплате, а просто так. Нет, это невообразимо. Вначале Пенелопа не верила своим глазам, подкрадывалась и подглядывала — может, не читает, держит книгу, а сам мечтает о чем-нибудь попонятнее, о кофейных эклерах, например?.. Эклеры, разумеется, не лопали у Чейза или старушки Агатки, а вкушали у Пруста; вычитав их, Ник закатил глаза, облизнулся и сказал «хочу», а Анук, конечно, немедленно запустила в производство — очень пикантно, обычный эклер с заварным кремом, только в крем добавляется ложечка растворимого кофе, это сразу придает некий изыск… О кофейных эклерах или восхождении на Арарат — но нет, оказалось, что читает на полном серьезе, регулярно переворачивает страницы, да еще и обсуждает вычитанные откровения с достойной своей супругой — в те минуты, когда та отрывается от машинки со странным, но вполне адекватным названием «Я — дрянь» и обращает рассеянный взор во внешний мир. Супруга слушает с умным видом и даже вставляет какие-то реплики, соглашается (!) или не соглашается (!!), это со Шпенглером (!!!), супруг тоже соглашается (?) или не соглашается (??) с супругой и Шпенглером (???), ну и нам удается что-то эдакое подцепить, какое-нибудь жуткое словечко вроде асебии… или асепии! Асепия — асептика — антисептика… Вот асептика с антисептикой… здрасьте, приехали!.. в отличие от Карабаха волновали Армена до глубины души. Волновали и волнуют. Как и скальпели, кетгуты, зажимы, пинцеты, разрезы, швы и прочие ужасные атрибуты ремесла, которое сам он высокопарно именовал искусством, отдаваясь тому или другому без остатка. Или почти без остатка, остаток все же оставался и доставался (за вычетом еще и крупиц, приходившихся на долю друзей-приятелей, которых у него, как и у любого нормального армянского мужчины, было навалом) Пенелопе, однако оказывался он неизменно столь мал и жалок, что с намерением или непроизвольно, но Пенелопа старалась увеличить его, всячески внедряясь в ту почти всеобъемлющую часть Арменовой жизни, что протекала в больнице, у операционного стола. Правда, пробиться непосредственно к столу ей удалось лишь однажды: ее нарядили в белый халат и вмешали в группу студентов, но когда стальное лезвие молниеносно пронеслось по бледной коже, и под марлевые подушечки в пальцах деловитых ассистентов хлынула алая волна, Пенелопа издала слабый писк и простерлась в неизящной позе на кафельном полу, и после этого обморока, который Армен, кажется, воспринял если не как неприличную, то по крайней мере неуместную выходку, дорога к операционному столу была ей заказана, разве что она улеглась бы на этот стол сама, но на подобную жертву качества ее все же не хватало. К счастью, кроме операционной, имелась еще ординаторская, бесконечные дежурства, книги по нейрохирургии — сказать, что Пенелопа их прочла, было бы преувеличением, но она пыталась, во всяком случае, листала и задавала умные, как она надеялась, вопросы. Она рассматривала больных, с которыми разговаривал Армен, выслушивала истории о разных казусах, операционных ошибках и недосмотрах — как кому-то в ногу зашили тампон (тампонами назывались те самые марлевые подушечки), а кому-то в живот целый будильник, потом еще тикавший и тикавший, но это, конечно, была уже легенда, больничный фольклор, отрывок из серии повестей о чудесных спасениях и утраченных иллюзиях. За всем этим она совершенно забыла, как часами выстаивала на митингах, пламенно вздымала и опускала в порыве единения с жоховурдом сжатый кулак и скандировала: «Ар-цах, Ар-цах!» Когда ей пытались напомнить об участии в грандиозном многомесячном представлении, развернувшемся в амфитеатре города Еревана, о чуть ли не миллионном хоре, в составе которого она поддакивала однотипно трагическим маскам, Пенелопа моментально предавала огню свои сбитые от долгого ношения котурны и уверяла, что питает глубочайшее отвращение к античной трагедии с ее перехлестом эмоций, неуемным пафосом и наигранной экзальтированностью актеров. Возможно, конечно, что ее охлаждение к сцене Театральной площади обуславливалось помимо прочего и даже в первую очередь тем, что на той же сценической площадке протекало параллельное действие ее собственной маленькой трагедии, — хотя кто согласится считать свою трагедию маленькой? Камерной — еще может быть, но маленькой?
Началась эта трагедия… хотя признайся себе, Пенелопа, было в ней и нечто комическое, мужчины так смешны в своих попытках, совершая подлости, сохранить имидж честного и чуть ли не благородного человека, Джентльмена с большой буквы… началась вся история, вернее, ее финальная часть, апофеоз, в тот летний вечер, когда «дражайшая половина» Эдгара-Гарегина застала… это мы уже проходили, Пенелопа, не повторяйся, жми дальше!.. Площадь была, как всегда, забита народом, «агора» работала беспрерывно, людские потоки текли от памятника Спендиарову к памятнику Туманяну, закручиваясь водо… (толпо?.. людо?..) воротами вокруг пьедесталов. Сами памятники превратились во временные лагеря кочевников, мини-таборы, над бедными классиками были натянуты тенты, на ступенях постаментов разложены матрацы, подушки, расстелены одеяла, стояли большие банки с водой. И сидели люди. Сидели, лежали в основном совсем молодые парни, была, помнится, девушка, насчет которой в толпе постоянно перешептывались: одни утверждали, что девушка из Сумгаита, другие это опровергали, тем не менее все пересказывали приключившиеся с ней ужасы, истории были разные, но одинаково жуткие, наверно, каждый спешил проецировать на нее, реальную, во плоти, услышанное из вторых, третьих, десятых рук — ведь абстрактное злодеяние как злодеяние не воспринимается, чтобы его осознать как таковое, надо его персонифицировать, желательно в образе жертвы… Еще там висел выставленный напоказ пиджак с Золотой звездой, в своем роде документируя уже известный всему городу факт, что в голодовке — а то была голодовка — участвует некий Герой Соцтруда. Постаменты были обклеены плакатами с требованиями голодающих: суд над организаторами сумгаитской резни, сессия Верховного Совета, долженствующая обсудить просьбу Карабаха о воссоединении… Пенелопа с Эдгаром-Гарегином долго плавали в водоворотах, потом их вынесло к ступенькам парадного входа в оперный театр, на которых — уже недели три — сидело несколько сот студентов, сидячая демонстрация эта шумела и пела фидаинские песни, было в ней что-то веселое и надежное, и Пенелопе нравилось стоять рядом, но появились знакомые, оттянули в сторону. Знакомых на площади попадалось до чертиков, ее посещали все, многие приходили большими компаниями, собирались кучками там и сям и толкали речи — то была эпоха речеизвержения, филиппики в адрес властей всех рангов и местоположений или «продажной прессы», пылкие гимны о единении нации звучали отнюдь не только с трибуны, это происходило везде, люди страстно убеждали друг друга в одном и том же. (И был ли Карабах всему причиной? Или только поводом? Может, просто настало время выговориться, выйти на улицы, подать друг другу руки, выплеснуть скопившееся недовольство, распрямиться, очиститься?)
И вот в момент, когда Пенелопа, Эдгар-Гарегин и еще человек пять-шесть, в основном гарегиновских приятелей, стояли тесным кружком у толстой серой граненой колонны и возбужденно переговаривались, возникла она — чопорная и надменная, с поджатыми губами, точь-в-точь учительница математики, хотя математикой в ее низколобой голове и не пахло, с грехом пополам она окончила какое-то сомнительное училище, чуть ли не кулинарный техникум или курсы кройки и шитья. И стоило ей появиться… Противно видеть, как преображаются застигнутые врасплох мужчины, — только что, секунду назад, они были уверенными и победоносными, а теперь на месте героя и мыслителя бледный зайчик с вытянувшимся лицом, то бишь мордой, и трясущимися губами. И добро б в постели застукали, а то на площади, среди десятков тысяч человек! И как, вы думаете, они в подобную минуту поступают, эти бывшие мужчины, а ныне трусливые негодяи? Правильно! Вы угадали. Эдгар-Гарегин действительно прикинулся, что видит Пенелопу впервые в жизни, рассеянно снял с ее плеча будто бы случайно попавшую туда руку и, кинув общее «Счастливо, парни»(?!), исчез поспешно и бесстыдно. Потрясенная его бегством Пенелопа стояла столбом, и когда над площадью вдруг пронесся стон торжества, у крупных, даже монументальных входных дверей театра в незаметно сгустившихся сумерках вспыхнули десятки факелов, и сотни голосов закричали наперебой: «Они сдались, сессия будет, они сдались», Пенелопа почувствовала, что общая радость обтекает ее, не задевая, что бушующее вокруг торжество победы не касается ее маленького островка в океане, нетронутого и неутешного царства поражения.
Потом были приливы и отливы, Эдгар-Гарегин то появлялся, то исчезал, устраивая время от времени душераздирающие сцены… «Я не могу без тебя, Пенелопа!» («Ну и не моги, — думала про себя Пенелопа, — умри, повесься, я принесу на твою могилу букет дурацких бордовых роз, которые ты, как всякий плебей, предпочитаешь белым или желтым».) «Ну что мне делать, Пенелопа, что мне делать?!» («Будь ты хоть на столечко мужчиной, — думала Пенелопа, отмеряя мысленно кончик указательного пальца все ближе и ближе к ногтю, — ты не задавал бы таких вопросов».) «Как жить дальше?» («А никак!» — уже не думала, а раздраженно говорила Пенелопа, и он умоляюще устремлял на нее наивный взор страдальца.)
Эти дамские истерики вкупе с суровым молчанием переходившей от отчаяния к презрению и от презрения к недоумению Пенелопы все больше расшатывали и так уже вывернутые, вывихнутые во всех суставах отношения. Развязка наступила в сентябре, и снова это намертво увязалось у Пенелопы с площадью, предопределив еще неблизкий, но уже очевидный конец ее личной карабахской эпопеи. (Посильный вклад в народную борьбу был сделан, и она незаметно перешла на роль сочувствующей, так сказать, попутчицы, постепенно сбавлявшей шаг. Правда, остановиться ей предстояло не так скоро, но это было неизбежно.)
Приехала она на метро, по перекрытой улице Баграмяна транспорт не ходил, и метро было переполнено, как в нынешние бестоковые и малобензиновые времена. На Еритасардакан из вагонов вывалилась огромная толпа, хлынула из круглого горла станции наружу и вся, как есть, потекла в сторону Театральной площади. У памятника Спендиарову, где они обычно встречались, Эдгара-Гарегина не оказалось, и Пенелопа стояла понурая, меланхолически созерцая окружающее ее неутихающее действо — все те же сидячую демонстрацию, голодовку, правда, содержание лозунгов обновилось, детство кончилось, и сессии советского псевдопарламента больше никого не волновали. Развевался флаг, триколор, красно-сине-апельсиновый, цвета крови, неба, зреющих хлебов, как тогда объясняли всем эту еще или уже незнакомую, за семьдесят лет основательно подзабытую символику. Семьдесят лет ведь очень много, флага первой Армянской республики не видела не только Пенелопа, но и ее родители, а те, кто имел возможность его лицезреть, бабушки-дедушки, давно удалились в лучший мир, унеся с собой свои воспоминания. Человеческая память трехзвенна — от деда до внука; уничтожь эти три звена, и устная история оборвется; собственно, уничтожать физически не обязательно, достаточно нарушить передачу, замкнуть страхом или обманом уста, и когда очередное поколение кинется смотреть в зеркало истории письменной, оно может увидеть за своей спиной что угодно, вплоть до пришельцев или питекантропов. В том-то и опасность письменной истории: выступив как способ увековечения памяти, она одновременно явилась средством ее искажения.
К описывавшей вокруг памятника неровные круги Пенелопе подошел знакомый парень, такой же понурый, как она, — но сколь разными были мотивы подавленности его и ее.
— Ты не можешь себе представить, — говорил он с тоской, — как унизительно для мужчины это ощущение бессилия. Ибо мы бессильны. Нет выхода. Словно бьешься головой об стену. Не идти же с голыми руками на танки! Хотя, если понадобится, пойду и на танки. Только какой от этого прок? Ты женщина, тебе легче.
— Это почему же женщине легче? — спросили б воинственно девять из десяти бродивших по площади особ женского пола, а многие оскорбились бы и стали с пеной у рта доказывать, что патриотизмом они уж никак не уступают мужской братии, но Пенелопа молчала, смотрела на парня с пониманием, пытаясь собрать расползшиеся в разные стороны мысли — некоторые, признаться, забрались так далеко, что догнать их и приволочь за шкирку обратно на площадь было делом непосильным. Конечно, женщине легче. У нее свои проблемы. Общественные всегда подождут. Вот когда у женщин нет своих проблем, они дуреют. Или звереют. Становятся фанатичками, бегут за властелинами дум, по их указанию — а часто и опережая указания — выцарапывают глаза, перегрызают глотки. А когда у них свои проблемы, они не опасны для общества.
Эдгар-Гарегин появился, когда Пенелопа уже решила уйти. И решила своего решения не менять. Решительно и бесповоротно.
— Тогда я тебя провожу, — сказал ей храбрый рыцарь, нащупывая на боку ржавый меч с отломанным концом. — Не могу отпустить одну. Там на дороге оккупанты.
— Ничего мне оккупанты не сделают, — возразила Пенелопа, но Эдгар-Гарегин был неумолим.
Движение по проспекту Ленина было почти обычным. Не считая того, что у перекрестка стояли насупленные пешеходы, ждали, пока медленно проползут облепленные солдатами бронетранспортеры, всего четыре штуки, Пенелопа машинально пересчитала их. Похоже на кадр из фильма «Освобождение». Минус реакция «освобожденных».
Перейдя в конце концов проспект, они прошли по Саят-Нова к началу Баграмяна и там наткнулись на зрелище почти фантастическое. Чуть выше по Баграмяна, напротив здания Союза писателей, улица была перекрыта стоявшими в ряд БТРами, перед которыми сбились в плотные ряды «оккупанты» в милицейской форме. В городе шли толки, будто это переодетые армейцы, милицейская форма, мол, раздражает меньше, — возможно, и так, Пенелопе, откровенно говоря, было не до подобных тонкостей, по крайней мере на данный момент. Однако то, что происходило ближе, заинтриговало и ее. Метрах в двадцати от солдат-милиционеров, поперек проезжей части протянули канат, вдоль которого во всю ширину улицы лежали люди, в основном молодежь, мальчишки и девчонки лет по восемнадцать-девятнадцать. Картину дополняло или, скорее, венчало знамя, само собой трехцветное, у знамени стоял своеобразный караул из трех человек, а к канату были подвешены портреты — на ближайшем Пенелопа узнала Андраника, и возле портретов тоже вытянулись во фрунт часовые, у всех, естественно, правая рука вверх, пальцы в кулак. Словом, продуманная и отрежиссированная мизансцена, народный театр. Слава богу, что солдатикам — а солдатики оказались такими же мальчишками, — не давали приказа разогнать демонстрацию, и те могли, удивленно таращась, лицезреть поставленный для них спектакль. Проходя мимо демонстрантов, Эдгар-Гарегин картинно отсалютовал им тем же символическим жестом, промаршировал еще несколько метров, гордо выставив кулак, а потом впился взглядом в «оккупантов» — вот я какой, смельчак, герой, нате, берите меня, бросайте в тюрьмы и лагеря!.. Несмотря на свое гробовое настроение, Пенелопа оживилась, представив себе, как Эдгара-Гарегина бросают в тюрьмы и лагеря, — тюрем много, Эдгар-Гарегин один, на все узилища его не хватает, и его перебрасывают из одного в другое, быстрее и быстрее, как мячик или, скорее, шайбу — со свистом и грохотом от попаданий в бортик, то есть в стену…
«Оккупанты», впрочем, не обратили на Эдгара-Гарегина и его кулак ни малейшего внимания, и храбрый рыцарь с Пенелопой беспрепятственно прошли дальше по Баграмяна, мимо стоявших в два ряда бронетранспортеров — теперь Пенелопа насчитала девять, мимо редкой цепи солдат, уже в армейской форме, мимо любимого ЦК, за оградой которого прогуливались дюжие ребята в голубых беретах. Голубые береты, пятнистый камуфляж, автоматов, правда, видно не было, хотя толковали о них везде.
Дойдя до улицы Прошяна, Пенелопа остановилась. «Оккупированный» район кончился, и дорога была свободна, впрочем, и на «захваченном» участке их никто не трогал, ржавый меч вполне мог покоиться дома, да и знаем мы этих защитничков, а ну-ка действительно понадобилось бы вступить в схватку, уж мы-то полюбовались бы, как некоторые ползают на коленях и просят пощады… рыцарь!.. В гробу мы таких рыцарей видали…
— Спасибо, — сказала она сухо. — Дальше я сама.
— Я доведу тебя до дому.
— Спасибо, не надо.
Эдгар-Гарегин вперил в нее хмурый взор.
— А что это был за тип? — спросил он осторожно.
— Какой тип?
— С которым ты разговаривала. Там, на площади.
Ага. Подглядывал. Ревнивец. Жалкая личность.
— С этим типом я училась в школе, — возмутилась Пенелопа. — В параллельных классах. Отличный, между прочим, парень. А тебе что за дело? Ты мне кто? Муж, жених? Иди допрашивай свою дражайшую половину.
— Пенелопа, почему ты так со мной обращаешься? — заныл Эдгар-Гарегин плаксиво и неубедительно. — Мало меня дома изводят, так еще и ты… Там целый день истерики — или я с детьми, или она… Тут… Ну что ты смотришь на меня? Что мне делать, повеситься? Утопиться?
— Запишись в фидаины, — посоветовала Пенелопа сухо.
— Мне не до шуток. Я серьезно. Скажи, что мне делать? Решай. Велишь уйти из дому — уйду, оставлю семью, женюсь на тебе. В сущности, это ты во всем виновата. Почему ты еще три года назад не потребовала, чтоб я на тебе женился?
— Я?! — изумилась Пенелопа.
— Ну а кто же? Все, хватит, решай.
— Это я должна решать?
— Да, — упрямо сказал Эдгар-Гарегин.
— Ах так? Ну тогда убирайся к чертовой матери! Видеть тебя не хочу! Баба ты! Тряпка! Размазня, слюнтяй!
И Эдгар-Гарегин обиделся. Удобная штука обида, надулся и все, ты прав, ты хороший, остальные — бяки, обозвали плохими словами такого милого, послушного мальчика! Баба и есть, это же типично женская реакция — сотворив кому-то фундаментальную гадость или мелкую пакость, все едино, самому же обидеться. Обидеться, надуться, сунуть руки в карманы, молча повернуться, раз-два, кру-у-гом!.. И удалиться. К чертовой матери. Или к своей дражайшей половине. И поди не вспомни, как валялся в ногах, рвал волосы на голове… стоп, Пенелопа, это тоже было, ты опять повторяешься! Ну и что, пускай, не останется волос на башке, перейдут к оволосению на теле, слава богу, тамошней растительности армянским мужчинам (Армену и Эдгару-Гарегину в том числе) хватит не до второго, а до седьмого пришествия… Рвал волосы, рвал и метал, стонал и визжал, кричал и плакал, кашлял и чихал, нес всякую околесицу вроде: «Пенелопа, несравненная, подохну у твоих дверей, как приблудный пес»… этого, наверно, она и испугалась, подумала: а ну как действительно подохнет, иди потом растолковывай родителям, откуда дурацкий труп на коврике у двери… Да, мужчина — всем Протеям Протей. То он юный безумец, обмирающий при виде возлюбленной, то сопливый старичок, единственное желание которого — прикорнуть на диване с газетой, то он не ест, не спит, целует следы твоих ног на асфальте, то он без запинки выкидывает тебя в мусорный ящик, то он пьет и веселится, распевая «совсем один, совсем один» наподобие того грузина из анекдота, то бросается, как сумасшедший, разгребать мусор в поисках утраченного бесценного сокровища, то он герой, рвущийся со связкой гранат под вражеский танк, то тюня, бесцеремонно перекладывающий бремя ответственности на женщину… Черт знает что! Нет, и черт не знает. Даже четыре черненьких, чумазеньких с их черными чернилами не в силах вычертить чертеж чудовищной чехарды в чопорных черепах этих зачуханных четвероногих… то есть, тьфу, двуногих. Четвероногие — что? Ангелы с крылышками!
— Скажи, Миша-Лева, — спросила Пенелопа, поворачивая к себе львиную голову и заглядывая в грустные пластмассовые глаза, — а как это у львов? Львиные мужчины тоже ведут себя так… по-заячьи? Хотя откуда тебе знать, тебя же на фабрике сделали.
Миша-Лева только вздохнул и прижался к Пенелопе покрепче, замерз бедняга, мех у него был совсем холодный, и Пенелопа втянула его под одеяло, в которое еще раньше закуталась сама.
— Ты, Миша-Лева, лучше их всех, — сообщила она льву. — Ты не способен ни обмануть, ни предать. Жалко, черт побери, что этих гадов и уродов не делают на фабриках и не продают в универмагах по двадцать пять рублей штука… теперь уже драмов… двадцать пять драмов — это, конечно, не деньги, кило баклажанов или полпончика… Хотя большего эти гады и уроды и не стоят, их же не поштучно надо покупать, а дюжинами. Купила, заперла в чулан или подвал, выпускаешь по одному, выгуливаешь, да не просто так, а на поводке, видишь — не то, раз — и на свалку. И за следующим… Однако мы с тобой заболтались, ты не находишь? Уже чуть ли не вечер на дворе. Так и немытой можно остаться. А немытых, Миша-Лева, в рай не пускают. Тебя вот не пустят, потому что ты сроду немытый… Ну не плачь, не плачь, я тебя пронесу. В мешочке для вязанья. Возьмешь спицы в руки, тьфу, в лапы, будто б ты свитер…
Неожиданно зазвонил телефон. Длинные гудки, междугородняя, не иначе как… Пенелопа выпрыгнула из своего кокона, опрокинув на бочок злополучного Мишу-Леву, и кинулась в прихожую, цепляясь за кресла и журнальный столик. Бумс! — слетел на пол и звонко брызнул осколками и остатками светло-желтой жидкости (грузинский чай пьем, докатились!) чашко-бокал… ничего, этого добра еще немало, успела бодро подумать Пенелопа, прежде чем схватить трубку и поднести ее к нижней челюсти — последнее она проделала столь стремительно, что пребольно стукнула себя по зубам.
— Алло, Пенелопа?
Да это же sister, а вовсе не Армен… Фи, Пенелопа, как тебе не стыдно, ты чуть ли не разочарована, ах вы, подлые мужчины, из-за вас уже и родной сестре не радуешься, гады и уроды, кыш, проклятые, чума на оба ваши дома…
Голос у Анук был веселый:
— Алло, Пенелопа? Как дела? Все лопаешь?
— Нет, — отозвалась Пенелопа бодро. — Уже слопала весь околоток, больше лопать нечего.
— И пни долопала?
— Какие?
— Обыкновенные. Сосновые, кленовые, дубовые, тебе лучше знать. Это же ты подписала свою телеграмму «Пнелопа».
Ага. Телеграмму Пенелопа соням в меду (последнее время она подумывала переименовать их в сплюшек, душа властно требовала перемен, удерживало только то, что сплюшки ведь совы, а сова — символ мудрости, еще зазнаются родственнички) отправила по поводу очередной даты бракосочетания, дата, правда, была далеко не круглой, а телеграммы стали стоить безбожно дорого, но Пенелопа любила красивые жесты. А что до подписи, так эта поправка, можно сказать, щадящая, вот когда Асланян превращается в Осланян, как однажды случилось с Карой…
— Пни я лопаю только кипарисовые и пальмовые, — сообщила она. — Так что теперь вынужденный перерыв. Кстати, мы тут недавно купили пальмовое масло. У вас там есть пальмовое масло?
— Не знаю, не встречала. Вкусно?
— Точно лист колибри.
— А может, перо кольраби?
— Может. Как у вас дела?
— Нехудо. Нехило, как тут говорят. Сценарий продали.
— Ух ты!
— А ты уже гуляешь? Приехать не хочешь?
— На какие шиши? — спросила Пенелопа выразительно. — Билетики-то опять того…
Анук только вздохнула.
— Родители дома?
— Куда они денутся! Сейчас. — Пенелопа прижала трубку к груди и завопила: — Мама! Папа! Папа, где ты? Да мама же! Тьфу, черт! — Она положила трубку рядом с телефоном и помчалась в родительскую спальню, куда удалились вокалисты, дабы вкусить послеобеденного отдыха. Сиеста, господа просят не беспокоить.
— Мама, папа, вы что, не слышите? Ору, ору. Анук звонит.
— Кто? — удивилась мать, в то время как полураздетый, в смысле, снявший нахарарские доспехи и оголившийся до свитера-жилета-жакета отец уже побежал рысцой в прихожую.
— Дочь твоя. Твоя старшая дочь. Любимая и единственная.
— Почему единственная?
— Единственная любимая.
— А почему Анук?
— Потому что теперь ее зовут Анук.
— Как зовут? — не поняла мать. — Кто зовет?
— Я. Я зову.
— Ты будешь давать имена своим дочерям, когда они у тебя появятся, а я свою назвала Анаит.
— Фи, мама, — скривилась Пенелопа. — Скучно с тобой. Ну что такое Анаит? Куда ни повернешься, всюду Анаиты, Анаиты, улицы ими можно мостить вместо булыжников.
— Улицы у нас асфальтируют, — возразила Клара. — Булыжников не требуется.
— Тем более. Иди лучше к телефону.
— Сейчас, — сказала мать, надевая халат, — все равно отец ваш не даст, пока сам не наговорится.
Оставшись одна, Пенелопа машинально заглянула в зеркало и ужаснулась. Волосы свисали беспорядочными тусклыми лохмами, и даже лицо казалось нечистым. Время-то идет! Надо бежать. Она выскочила из спальни навстречу умиротворенному отцу, обошла прильнувшую к телефону мать и стала быстро подбирать осколки бокала.
Глава пятая
В подъезде Пенелопа наткнулась сразу на двух приходящих соседок — Римму-Розу, незадачливую дочь старушки с добрыми глазами, сестру несостоявшегося фаворита фортуны, который по известным ему одному причинам предпочел увешанной бриллиантами жене, прилагавшейся к ней автомашине и прочим благам отечественный ширпотреб на сумму 1200 рублей (подробности см. выше) и швабру с повылезавшей щеткой (подробности см. там же, чуть ниже).
На секунду Пенелопа выпучила глаза, ей показалось, что швабра раздвоилась — с чего бы это, не со стаканчика же «Гарни», самого легкого из легких вин, наилегчайшего, выражаясь языком борцов и штангистов, — потом, однако, до нее дошло, что дело не в раздвоении как таковом ибо делением, как известно, размножаются только простейшие, но в процессе, близком к оному. Иными словами, рядом с матерью стояла дочь, точная копия родительской особи, начиная со щетки и кончая ручкой, разве что выглядела она чуть посвежее или, продолжая хозяйственную терминологию, поновее, кожа ее была более упругой и менее блеклой, а волосы вроде немного погуще, но армянку она, на горе бабушке, не напоминала ни единой чертой лица, а тем пуще ни единым изгибом тела, лишенного таковых напрочь. Надо заметить, впрочем, что шваброобразной статью она вышла в мать не более чем в отца, ибо сей доставленный в нежном возрасте из дальних краев в Армению единственный сын патриотичной дамы с верхнего этажа, достигнув возраста брачного, оказался не только владельцем кандидатского диплома, но и счастливым обладателем роста в метр девяносто, что гораздо существеннее, поскольку кандидатов наук в Армении пруд пруди, а вот мужчин достаточно высоких можно пересчитать по пальцам, и если их еще не занесли в Красную книгу, то лишь по недосмотру заносителей. Таковые мужчины отлично сознают свое преимущество, посему они хоть и не занесены, но заносчивы чрезвычайно — правда, не все, иные, нам уже небезызвестные, дают обвести себя вокруг… ну, эдакого длинного не просто обведешь, а накрутишь на палец в несколько сот витков, на палец и неудобно как-то, лучше смотать в клубок или намотать на катушку, получится соленоид… ну и словечки ты знаешь, Пенелопа! Соленоид не от ноты соль и не от соли, крупной, столовой, йодированной — последнюю не дай бог по рассеянности сыпануть в соленье, все размякнет, огурцы превратятся в кашу, — нет, соленоид от слова… какого же? Никак не от соло и совсем не от солнца, а… А?
— Добрый день, — сказала Пенелопа, пытаясь обойти забаррикадировавшую лестничную площадку троицу — но не церковную, даже если б мать и дочь по худобе и бледности сошли за какие-то ипостаси, за ту, которую снесли с Голгофы, во всяком случае, то Римма-Роза на вакантную роль святого духа претендовать не могла никоим образом, ибо за последние год-два раздобрела настолько, что являла собой плоть в ее крайнем воплощении, и не только сквозь нее, но даже мимо просочиться было сложно.
— А, Пенелопа? — обрадовалась Римма-Роза куда более бурно, чем следовало ожидать. — Здравствуй, Пенелопа. Давненько я тебя не видела. Как живешь? Замуж не собираешься?
— Чего ради? — уронила Пенелопа небрежно. — Стирать носки какому-нибудь самовлюбленному болвану? Или негодяю?
— Почему обязательно болвану или негодяю?
— Да они все болваны. Или негодяи.
— Это верно, — со вздохом согласилась немало поднаторевшая в деле познания негодяев Римма-Роза и заключила: — Но замуж все-таки выходи.
— Зачем?
— Ну… Надо.
— Мне не надо, — сказала Пенелопа со значением.
Люди в большинстве своем хотят быть как все, и нехитрое это желание на протяжении жизни остается обычно неизменным. Меньшинство стремится отличаться от прочих и на первой поре, по молодости лет, стремится отличаться во что бы то ни стало, лезет из кожи вон, чтобы это отличие — существующее или воображаемое — подчеркнуть. Со временем или с возрастом многие из этого меньшинства дозревают до той степени мудрости, при какой им становится наплевать, видят окружающие их отличность от других или нет.
Пенелопа к большинству не принадлежала, отдадим ей должное. Но и позволить этому большинству считать себя своей не могла. Большая часть женщин, как известно, стремится выйти замуж и свое стремление аргументирует кратко и веско, как Римма-Роза: надо. Пенелопа, относя себя к меньшинству, если не исключениям, замуж не рвалась и нежелание свое аргументировала многословно и туманно, давая повод подозревать, что подобная позиция не только не доказуема, но и ложна априори.
— А вот наша Галочка обручилась, — сообщила приходящая соседка-швабра и ласково взглянула на потупившуюся дочь, которую называла Галочкой в пику свекрови, настоявшей когда-то на глубоко национальном имени Гаянэ. И если свекровь в свое время воспользовалась тем, что временно выбывшая из строя невестка не могла оказать организованного сопротивления, устроив хотя бы лежачую демонстрацию в коридоре роддома, ибо посторонних, мужей и журналистов в том числе, туда не пускают, а демонстрировать что-либо перед навидавшимися всего выше головы врачами, санитарками и роженицами бесполезно, то невестка, пересадив мужа с корнями в русскую почву в лице своего семейства, приучила его оставлять за порогом не только армянский язык, но и собственное имя (будучи всегда и везде Саркисом, дома он покорно отзывался на «Сережу», «Серегу» и чуть ли не «Серого»), не говоря уже об имени дочери. — Скоро свадьба. Не можем только решить, где они будут жить. Я хочу, чтоб они жили у меня, но тут же не принято… — В это «тут» была вложена крупица яда, всего лишь крупица, но яда сильного, быстродействующего — стрихнина либо цианистого калия.
«Мне бы ваши заботы», — подумала Пенелопа, бормоча что-то нечленораздельное и стараясь протиснуться мимо Риммы-Розы, но та остановила ее:
— Объясни ей, Пенелопа, что так, как принято у нас, правильнее. Разумнее. Мужчина с первого дня должен чувствовать себя хозяином. А при тесте с тещей это невозможно. Из танпесы может получиться только приживальщик. Да что ты стоишь, переведи, у меня по-русски не выходит, а она по-армянски не понимает. Давай!
Легко сказать, переведи. Несмотря на холод, Пенелопа взопрела, пытаясь растолковать швабре речь Риммы-Розы, для чего, порывшись в памяти, даже не порывшись, а устроив самые настоящие раскопки, извлекла на свет божий полузнакомое слово «примак», швабре, видимо, и вовсе неизвестное, ибо на лице ее не появилось и тени понимания, потом долго объясняла, чем армянский «тер» отличается от русского «хозяина».
— Понимаете, это нечто более емкое, покровитель, защитник…
Швабра смотрела на нее без выражения и вдруг заявила:
— Да не надо мне переводить. Я понимаю. — Тут уже Пенелопа растерялась, надо же, тридцать лет, сорок, пятьдесят, сколько она здесь прожила, господи, да еще вчера, ну не вчера, но месяц назад уж точно, не понимала, а теперь внезапно стала понимать? — Но я не согласна, — упрямо продолжила швабра. — Почему я должна заботиться о благе не собственной дочери, а чужого человека?
— Благе? Благе?! — Римма-Роза аж руками замахала, при новоприобретенных своих габаритах один к одному напоминая зажравшуюся мельницу, поджидающую худосочного Дон-Кихота. — Да какое же благо, когда муж тряпка?! Как на такого положиться?
— От слова «положительно», — машинально буркнула Пенелопа (она любила подобные уточнения, дефинируя же слово «положительный», не забывала отметить: от слова «положить») и, дабы избегнуть участи Дон-Кихота, сманеврировала в сторону и скользнула в щель, образовавшуюся между шваброй-старшей и шваброй-младшей. Швабра-младшая, швабра-старшая… как там у них? Домби и сын? Швабра и дочь. Швабра и К°, те же и Пенелопа, те же без Пенелопы…
Пенелопа сбежала по лестнице, не прислушиваясь больше к мешанине языков наверху, своеобразному миксту, на котором объяснялось пол-Еревана… ну пол — не пол, но… Когда — некогда — приспело время учиться грамоте Пенелопе, мода на русские школы была в разгаре, Анук уже три года посещала одну из них, и Клара, легко преодолев нерешительное сопротивление Генриха, направила Пенелопу по стопам сестры. Сестры, но не родителей, поскольку сама она, как и ее муж и все их поколение, а также поколения их отцов, дедов, прадедов и далее вплоть до пятого века — за вычетом неграмотных, если в их роду имелись таковые, Пенелопа подобную возможность признавала с неохотой, — учились в армянских школах, светских и монастырских, царских и советских, и только поколение Анук — Пенелопы и иже с ними отклонилось от стези предков. Был этот процесс добровольным, в известной степени его стимулировали карьеристские устремления родителей — не в отношении собственной карьеры, но карьеры потомства, без знания главного языка страны обреченного на тупиковый путь развития. Конечно, движущих сил процесса подобных масштабов это не исчерпывало. Размышляя над мотивами исхода детей интеллигенции, особенно научно-технической, из армянской общеобразовательной системы в русскую, Пенелопа никогда прежде не задавалась вопросом простым, но очевидным: откуда вдруг взялось столько русских школ? По просьбам трудящихся? Известное дело, навстречу просьбам трудящихся бывшее народное государство даже не шло, а бежало. Кидалось, сломя голову. И не одну. А трудящиеся неистово рвались сплотиться, соединиться, слиться воедино в сиянии божественного ленинского лика и, само собой, на надежном фундаменте языка Ленина. И этому предопределенному и неизбежному слиянию наций в одну большую — русскую — препятствовать было невозможно. Как бы то ни было, несколько лет назад уже поколение Пенелопы повело малышей в русскую школу, и если б не свалившийся неожиданно с неба, а вернее, выбежавший из леса, густого и заповедного, суверенитет, армянскому языку было б несдобровать: все ширившееся русскоязычное поле давно захватило большую часть Еревана, маргинально врастая в армянское и порождая в пограничной зоне чудовищные гибриды двух языков. Особенно в преумножении подобных гибридов преуспевали переселенцы из Грузии или Азербайджана, владевшие армянским языком весьма условно и восполнявшие пробелы в своем лексиконе соответствующим образом искаженными, так сказать, арменифицированными русскими словами. Не мудрено, что когда в мгновение ока все русские школы вместе с преподавателями и учениками обратились в армянские, и новоявленное государство со всеми атрибутами и учреждениями не перекатилось плавно по языковому полю, а, подобно футбольному мячу под мощным ударом вратаря, перелетело от одних ворот к другим, к синему армянскому небу вознесся многоголосый стон армии русскоговорящих и русско-пишущих, большинство которых в общем-то не возражало, но… Но, пожалуйста, не так скоро, не сейчас, не вдруг, а постепенно — с чувством, с толком, с расстановкой… впрочем, попадались и настоящие ренегаты, крывшие почем зря неразумные власти и даже подумывавшие о переезде в Россию. Вновь обрела остроту проблема отцов и детей, только в зеркальном отображении — Клара и Генрих между собой переговаривались по-армянски, Пенелопа с Анук по-русски, их дети, будь у них дети, снова перешли бы на армянский, как множество других детишек. Однако у Пенелопы, как известно, детей пока не намечалось, потому ей вся эта кутерьма была нипочем, тем более что преподавала она не физику или биологию, а русский язык и переход на армянский ей не грозил до тех пор, пока кому-нибудь там, наверху, не придет в голову убрать русский из школьной программы, а вероятность подобного поворота казалась достаточно малой, ведь армяне в отличие от, например, прибалтов в русских врага не видят, скорее наоборот, пусть даже русским не раз случалось им изрядно насолить, подарив, скажем, — руками большевиков — туркам Карс с Араратом в придачу (или Арарат с Карсом в придачу?) либо устроив в конце прошлого века гонения на армянскую церковь… об Одиннадцатой Красной армии, комиссарах с Лениным в башке и наганом в руке — и, добавим, тридцать седьмым и прочими милыми годочками за пазухой — и речи нет… И все-таки в целом русская нация способствовала сохранению армянской… постольку, поскольку это соответствовало ее интересам, вставил бы тут Армен и, вполне вероятно, был бы прав. Что поделать, они, большие (почему-то называющие себя старшими, вечно у них путаница с прилагательными), качают мускулы и прыгают по рингу, демонстрируя лепку и силу своих бицепсов, трицепсов и прочих цепсов, помашут немного ручками, погладят перчатками противника (себе подобного), может, и стукнут его пару раз для пущего эффекта, а потом… потом они пожмут друг другу руки; большие — они всегда сговорятся, вот для мелких зверюшек оборачивается по-всякому, для них главное — вовремя увернуться, не попасть под ноги, под ножищи-сапожищи…
Итак, переход на армянский Пенелопе не грозил, но даже если б и грозил, она все равно не стала б, как многие, сокрушаться и сетовать на коварство властей или тем паче недомыслие родителей, взрастивших ее в стихии чужого языка, она ни капельки не жалела, что стараниями Клары оказалась в состоянии поглотить множество книг, которыми были уставлены бесчисленные, во всяком случае, несчитанные книжные полки, занимавшие в квартире каждый свободный кусок стены, способный на себе такую полку уместить. Ибо папа Генрих был великим книголюбом, и если видимая, так сказать, солнечная, сторона его жизни красовалась на сцене под софитами, то теневая выражалась в беготне по книжным магазинам и поисках контактов с продавцами и завмагами, вследствие чего он почти ежедневно возвращался домой нагруженный разнообразными томиками, до отказа наполненными литературой во всем ее диапазоне — от философии до детективов. Эту сторону он старался софитам не подставлять, ведь даже самые ярые любители софитов (философиты, надо полагать?) считают нужным утаивать от них некоторые укромные местечки и не совсем гладкие поверхности, а о Генриховых неровностях, впадинах и выпуклостях и говорить нечего — они подлежали безоговорочному сокрытию, поскольку ни одна женщина на свете не относится философски к тому, что считает лишней тратой денег. Правда, представления об этом лишнем весьма разнятся. Клара относила к лишним тратам покупку книг; если угодно, не просто к лишним тратам, а к расточительству, даже мотовству. Конечно, исходила она при этом не только из потребностей своего семейства, но и размеров денежного содержания, выделяемого народным государством на нужды всяких баритонов и теноров, ибо в стране, где искусство принадлежало народу целиком и полностью, вплоть до оперы, что подчеркивалось наличием множества оперных театров, больших и малых (принадлежало в равной степени, хотя, как известно, и среди равных бывают более равные и менее равные, и опера, надо признать, относилась к тем, которые более, и оплачивалась соответственно лучше, чем какая-то драма), никакое выведение трелей не могло, естественно, по значимости конкурировать со сверлением стальных деталей или вырубанием каменного угля. Собственно, это логично, ведь не народ принадлежал искусству, а искусство народу, потому и народ получал больше, а искусство меньше. И хотя Клара сама поглощала чтиво — главным образом детективы — не хуже любого полиглота и, заглотнув очередную порцию, тут же жалобным голосом возвещала об отсутствии духовной пищи, она, видимо, полагала, что в стране победившего пролетариата книги должны спускаться с небес, где их бесплатно печатают и подвязывают невидимые крылья, потому бедный Генрих, приходя домой, частенько оставлял свой книжный груз в почтовом ящике, дабы позднее, улучив удобный момент, спуститься за ним и затем прокрасться в квартиру на цыпочках, наподобие воришки, только с обратным знаком. Так что, невзирая на Кларины инсинуации, библиотека разрасталась, постепенно покрывая стены почти сплошным ковром, и была по преимуществу русской. В смысле языка, а не литературы. То есть русская литература занимала, конечно, приличествующее ей место, являясь тем не менее лишь частью мировой. А мировая была представлена в русских переводах, поскольку папа Генрих справедливо оценивал русские переводы выше армянских, да и нет армянских в таком количестве, где их взять. Потому и по-русски читали не только Пенелопа с Анук, но и Генрих с Кларой, последняя в чтении детективов поднаторела настолько, что одолевала по роману в день, создавая тем самым неодолимые для папы Генриха трудности, ибо в советское время доставать по детективу в день было чистейшей утопией, а в постсоветское утопией стала возможность таковые оплачивать. Надо заметить, что при всем при том, дочитав практически любой остросюжетный том, Клара неизменно с пренебрежением восклицала:
— Фи, бредятина! Забирайте.
И небрежно бросала забракованную книгу на кровать или на стол, откуда ее поспешно хватал первый или последний в очереди, кто успеет, так как за детективами в доме всегда была очередь, но очередь сугубо армянская, когда все в ней стоящие или состоящие только и думают, как пролезть без очереди, обойти — умом ли, хитростью или силой — тех, кто впереди, и, естественно, не пропустить того, кто сзади. Кларе, однако, как льготнице, книга всегда доставалась первой, независимо от места в очереди. Справедливости ради следует добавить, что Клара читала отнюдь не только детективы. Она обожала еще книжки про войну, с удовольствием перечитывала Симонова или Быкова, но иностранная жизнь и всякие «их нравы» не интересовали ее напрочь, если, конечно, не были скреплены надежным цементом преступления. А триста шестьдесят пять добротных, крепко сколоченных преступлений в год — это та еще норма. И та еще сумма! Поэтому Клара периодически перечитывала криминальную часть домашней библиотеки, раза эдак три-четыре в год, ведь, как известно, главное достоинство детектива заключается в том, что он улетучивается из памяти так же быстро, как синильная кислота с места неудавшегося убийства (неудавшегося, потому что синильная кислота чрезмерно летуча и испаряется раньше, чем прикончит жертву). Кроме того, детективы шли к Кларе по всем возможным каналам, их приносили знакомые, родственники, соседи, сотрудницы — во всяком случае, те из них, которые умели читать, друзья и подруги дочерей, меньше Анук, больше Пенелопы. Пенелопа и сама была отнюдь не прочь, потягивая чаек, вникнуть в перипетии какого-нибудь жуткого злодеяния и постепенно изучила жанр досконально, пропустив через себя множество романов, повестей и рассказов, написанных весьма пестрой компанией, от Агаты Кристи до Чейза и от французов до кенийцев. Особенно она любила Конан Дойла (или Шерлока Холмса, как вам больше нравится), совместно с матерью они зачитали дойловские тома до того состояния, когда с книги, словно с предназначенного для толмы капустного кочана с вырезанной кочерыжкой, начинают спадать листы. При этом в отличие от матери, которая с одинаковым упоением читала про комиссара Мегрэ и про какого-нибудь припершегося с холода или жара занудного шпиона, Пенелопа уделяла внимание лишь чистой уголовщине. Интеллектуальным олухам, вонзающим в ягодицу незнакомого человека смоченную кураре вязальную спицу, дабы отсрочить или, наоборот, приблизить полное и окончательное торжество коммунизма (капитализма) во всем мире, она безоговорочно предпочитала нормальных убийц со здоровой неидеологизированной психикой, кромсающих на мелкие куски неверных жен или травящих вульгарным крысиным ядом богатых дядюшек единственно с целью обеспечить себе лично комфортное существование. Комфортное существование — это да. Газ, свет, горячая вода, творог со сметаной по утрам и ананасный йогурт на сон грядущий. В промежутке рассеянный образ жизни, прогулки в Булонский лес на автомобиле марки «Альфа-Ромео», вечерние платья, рауты и коктейли-парти — партийные коктейли, учитывая новые реалии, многопартийные коктейли, еще лучше много партийных коктейлей, светские беседы за чашкой кофе «Каппучино», шампанское и бланманже… Что такое бланманже? Манже — значит, что-то съедобное. Может, мы это и ели, только не ведали, что мы манже блан. Была-манже или не была-манже? Умная мысля приходит опосля, как говаривала одна из подружек Анук, веселая толстушка, болтушка и хохотушка, переводя на свой лад французское выражение l’esprit d’escalier. Вот она знает толк во всяких бланманже, консоме и кок о’венах. Хотя консоме — это всего лишь бульон, а подружка Анук предпочитает вонзать свои острые белые зубки во что-то более основательное, в антрекот, например. Или бифштекс, ромштекс, эскалоп, лангет, телячью вырезку по-провансальски, духовую говядину… тьфу, Пенелопа, неужели ты опять проголодалась? Ну и обжора ты! Хватит думать о еде, погляди на себя в зеркало, полюбуйся своими ляжками, скоро на них даже джинсы трубой не налезут… «Да, но от мяса не полнеют», — возразила себе Пенелопа, однако та, которой она возражала, только презрительно фыркнула. Отчего же тогда толстушка подружка Анук? Не от баклажан же. И не от бланманже же. А вот и от бланманже! Ну не знаю я, что это за штука, не знаю, но оно высококалорийно, факт (факт печален и суров, как они с Анук говорили в детстве)… Кстати, у подружки Анук как раз есть богатый… нет, не дядюшка, хотя дядюшка у нее тоже имеется и опять-таки не бедствует, только травить его нет резона, поскольку у него полно детей, и племянникам не светит… но сейчас речь о папе, у подружки есть папа, денежный мешок или, вернее, мешок с драгоценностями, которые он, как все благоразумные люди, покупал в хорошие времена, дабы продавать в плохие, так этот папочка переел на своем веку не одну тысячу сих непонятных бланманже — на десерт после маринованной осетрины, шашлычков из свежезарезанного барашка, молочного поросенка… о господи! Что ж такое! Ешь, не ешь — все равно в голове одна еда. Говорят, это оттого, что не хватает незаменимых аминокислот. А также витаминов, белков, углеводов, жиров, солей… Самое обидное, что от отсутствия их толстеешь не меньше, чем от присутствия. К черту! Чтобы отвлечься, Пенелопа вернулась мыслями или, выражаясь точнее, развернула свои мысли на сто восемьдесят градусов, чему они, ржавые и несмазанные, сопротивлялись всеми сочленениями, посему ей пришлось крепко вцепиться в ручки нескладного, похожего на старую тачку сооружения из кое-как склепанных кусков фраз и случайных слов и, налегая изо всех сил, перекрутиться с ним вместе вокруг оси, проходящей через единственное, давно утратившее способность вращаться колесо. Операция оказалась непростой, но в результате она все же вернулась мыслями к приходящим соседкам, без сомнения, все еще продолжавшим на лестничной площадке дискуссию о месте мужчины в жизни женщины. Или наоборот, это дела не меняет. Пенелопа скорее склонялась к позиции Риммы-Розы. Имейся у нее самой муж — а если честно, принципиальной противницей брака она вовсе не была; отмахиваясь от разговоров на тему замужества, она не отрицала его возможность изначально, если угодно, она отвергала не замужество как таковое, а замужество вообще, ведь известно, что даже не простое, а квалифицированное большинство женщин мечтает о браке вообще, если не с кем попало, так и не с одним-единственным и неповторимым, а всего лишь с особью мужского пола, отвечающей определенным параметрам, любым мужчиной из математического множества, охватывающего достаточно широкое поле от и до; что касается Пенелопы, она признавала брак как союз не с абстрактным мужчиной, а с кем-то, замене не подлежащим, — так вот, случись ей выйти замуж… нет, конечно, жить со свекровью ей не улыбалось, но и тащить мужа к себе в дом, где Клара пустила бы в ход все свои немузыкальные способности, чтобы заставить зятя танцевать под ее дудку танец неизвестного содержания, подобно завороженной кобре, — это увольте. Нам затюканные подкаблучники без надобности. И придется, видимо, разделить точку зрения Риммы-Розы. Так? Или не так? Погоди, Пенелопа, погоди, — сказала себе незамужняя тезка жены античного путешественника, удивленная неожиданным совпадением своих передовых взглядов с установками столь типичной наседки, как Римма-Роза, — а ты действительно так думаешь? Или это плачевный результат армянского воспитания? Живешь себе, никого не слушаешь, отбиваешься от явных атак неугомонных блюстителей (блюстительниц) традиций, а тем временем всякие нормы, правила и прочая подобная гнусь носятся в воздухе, как гнус, и исподтишка жалят: бзз — и в кровь впрыскивается легкий такой ядик, вроде чуть-чуть, всего ничего, но потом добавляется еще, еще, еще… стоп, Пенелопа, яд уже где-то был, ты опять повторяешься, пусть будет отрава. Отрава, отравы, о травы! Гнусный гнус, гнусавящий свое бзз над отравленными травами… Интересно, как будет звучать бзз, если его прогнусавить? Как нзз? Или бнз? Почти брынза. Хорошая брынза с хрустящим лавашем и пучочком тархуна… О боже! Пенелопа, детка, твоя одиссея — почему одиссея, а не пенелопонея? — твоя пенелопонея завела тебя неведомо куда, то есть, напротив, ведомо куда, прощай, античность, адье, гомерический смех, тебя сменил раблезианский аппетит, а ты, несчастная обжора, объедала, уплетательница и гурманка, ты уже не Пенелопа, ты Гаргантюа, а то и Пантагрюэль. Пантатюа Гаргантюэль. А теперь вспомни, куда идешь, камо грядеши, и утрать надежду на восполнение дефицита аминокислот, белков, углеводов и прочих отсутствующих компонентов. В католической стране ты еще могла б рассчитывать на кусочек просфоры, но армянские священники, увы, паству не кормят. Даже телом Христовым. Или кормят? Пенелопа попыталась припомнить, но тщетно. Да и как можно припомнить то, о чем понятия не имеешь? Припомнить можно, например, эпизодик в Польше — хотя и тут с терминологией нелады, ведь для того, чтоб вспомнить, надо предварительно забыть, а вышеупомянутый эпизодик почему-то отложился в памяти Пенелопы с необычайной ясностью. Поездка та была по комсомольской путевке; называя ее таким образом, имели в виду, наверно, спартанские — почти как на строительстве Комсомольска-на-Амуре — условия. Комнаты (если не деревянные сарайчики) на четверых (если не восьмерых), железные койки и никакой горячей воды — не считая той, которую выдавали за суп. Так вот, небольшой компанией — кто в той компании был, Пенелопа, естественно, давно позабыла — прогуливаясь по Варшаве, они случайно попали в некую церковь прямо к концу богослужения, когда прихожане выстроились на коленях за низеньким барьерчиком, и священник, неторопливо переходя от одного к другому, стал вкладывать каждому в рот кусочек чего-то. Двое-трое любопытных из компании (конечно, не Пенелопа, Пенелопа куснула бы незнакомый предмет лишь в случае, если б предмет этот при ней вынули пинцетом из стерилизатора, да и то сомнительно) немедленно туда сунулись — разве советский человек пропустит хоть какую, тем паче бесплатную, раздачу? — а потом все вместе рассматривали добычу: почти прозрачные малюсенькие квадратики, похожие на сдавленный и высушенный хлебный мякиш… Вот, пожалуйста, что засело в памяти, — сама церковь, наверняка готика, забылась, а этот дурацкий мякиш… Вообще от так называемых туристических поездок в памяти остается какая-то каша, неумело сваренная, с комками, местами несоленая, скачешь ведь галопом из города в город, тут деталь выхватишь, там другую, в итоге при слове «Польша» перед глазами вместо архитектурных памятников или пейзажей возникает туалетная комната общежития в Познани, где после трех или четырех безводных дней девочки группы, полураздетые, яростно мыли под кранами кто волосы, кто ноги, или нелепая стриптизерка по имени Жизель с торчащими косичками и голубыми бантиками в Торуни, прелестном городке, бесспорно заслуживавшем лучших о себе воспоминаний. Путаница, сумбур, очереди в столовых. И грохот. В автобусе, на котором группу возили по экскурсионным маршрутам («…на этом вот самом месте когда-то стояла позднее сгоревшая гостиница, где Маркс и Энгельс обсуждали…» пардон, это было уже в Германии), постоянно грохотала якобы музыка, от нее не только трещала голова, но вибрировал даже пол под ногами. Пенелопа пыталась затыкать свои пене-лопавшиеся уши ватой, но толку не было никакого, моментами ей начинало казаться, что динамик у нее в черепе. Кончилось тем, что пене-лопнуло ее терпение; произошло это на концерте Сопотского фестиваля, который большинство комсомольствуюших путешественников считало гвоздем вояжа, во всяком случае, советских туристских групп там было как собак нерезаных (вот их бы и резали, чего собак поминать, безвинных, тихих животных). Зал стоял на вершине холма, и уже через пять минут после начала Пенелопе стало казаться, что холм подпрыгивает в такт реву или вою, обрушившемуся на, похоже, чрезвычайно довольных этим слушателей. Она почувствовала себя как больной с приступом мигрени в котловане, где забивают сваи под фундамент, и когда забивающая машина заходила прямо под ее задницей, она вскочила, помчалась к выходу и дальше, под гору. Только у подножия холма грохот стих настолько, чтоб появилась возможность различить мелодию и осознать, что там, наверху, поют песни… Ну и чертовщина приходит тебе в голову, Пенелопа, — чертовщина, чушь, чепуха, — нет чтоб вспомнить концерт в домике Шопена (так выражались советские гиды, на самом деле там солидное поместье с лесами и реками, чуть ли не горами), где играли вальсы… О!.. Пенелопа обожала шопеновские вальсы, особенно «Седьмой», и никогда не пропускала «Шопениану» в благодатные времена, когда та значилась в репертуаре родного оперного театра вкупе с еще парой-тройкой классических балетов (уж «Жизель» и «Дон-Кихот» всенепременно). Не пропускала она, впрочем, и иную классику, и не только классику, ибо любила балет и даже — если обратиться к самым истокам ее натуры — в детские годы мечтала стать балериной. Навертев вокруг пояса трехметровый отрез голубого капрона, с беспримерной отвагой извлеченный из материнских запасников, и стянув свои коротенькие кудряшки в малюсенький, но тугой балеринский узелок на макушке, она, подкараулив какой-нибудь концертик по радио из часто исполняемых в пору ее младых лет фрагментов «Жизели» или «Лебединого озера», а позднее просто заведя проигрыватель с выпрошенной у отца в подарок пластинкой, неутомимо и самозабвенно крутилась, прыгала, становилась в арабески и аттитюды и даже ковыляла на безжалостно терзаемых пальчиках ног, по странной случайности так и не сломав ни одного. Почему же, спросит неискушенный читатель, ее не отдали в хореографическое училище и не выучили на балерину? Спросит, сразу вообразив себе не раз виденный по телевизору балетный класс и очаровательных длинноногих, похожих на бабочек со скромно подобранными крылышками девчушек-танцовщиц. Но дело в том, что Клара, думая о балете, представляла себе совсем другое. Не то чтоб она не любила этот воздушно-романтический и обманчиво бестелесный вид искусства, напротив! Она и сама частенько в свободный от репетиций и оперных спектаклей вечерок меняла кулисы на зал, если на то пошло, она и была невольной зачинщицей Пенелопиной балетомании, так как водила ее, как и ее сестру, с собой в театр с почти младенческого возраста, благодаря чему девочки уже в раннем детстве распевали на разные голоса оперные арии вперемешку с мелодиями балетных вариаций, а то и танцевали на пару всякие па-де-де. Однако когда речь зашла о хореографическом училище, Клара буквально легла костьми. «Балерины? Несчастные, вечно голодные женщины, — неизменно парировала она слабые попытки Генриха поддержать упорную в своих устремлениях малолетнюю дочь, — уж тебе-то это отлично известно». (Этим «тебе-то» она убивала второго зайца, намекая мужу на его давнее увлечение некой юной танцовщицей, на что она в свое время самоотверженно закрыла глаза, почему и считала теперь себя вправе требовать непрестанной благодарности и неуклонного повиновения.) «Я не хочу, чтоб мой ребенок голодал до конца своих дней». «А я хочу! — визжала в ответ Пенелопа, плохо представляя себе, что значит голодать. — А я хочу!» «И потом, — добавляла Клара не вполне логично, — их сценическая жизнь так коротка! В сорок лет они уже отработанный пар. При любой другой профессии сорок лет — пора расцвета, а в балете это время угасания. Пенсия. Страшное дело. Ты еще молод и крепок, но никому не нужен, выброшен на помойку. Я не могу позволить, чтоб мою дочь в сорок лет выбросили на помойку». «А я могу! — вопила Пенелопа, сжимая маленькие кулачки и еще менее, чем голод, представляя себе, что такое помойка. — А я могу!» Скандалить она умела уже тогда, но до Клары ей было далеко, не хватало опыта, знания слабых мест противника, да и просто жизненной емкости легких, и ее тонкий ломкий крик не мог перекрыть трубный, хорошо поставленный и крепко опиравшийся на диафрагму голос Клары. И в итоге Клара настояла на своем. Пенелопа не могла ей этого простить больше двадцати лет, только в последние годы ей стала иногда закрадываться в голову крамольная мысль, что мать… не то чтоб была права, но имела, надо признать, достаточно веские резоны. Правда, пока Пенелопа была довольно далека от того, чтобы полностью с ней согласиться, но кто знает, может, к сорока годам?.. Как бы то ни было, свои балетные комплексы Пенелопе пришлось реализовать не на сцене, а в зале, тут Клара ей препятствий не чинила, наоборот, — и проникая на законном (в качестве актерского дитяти) основании в театр через артистический вход, в просторечии именуемый «комендатурой» (выражение, сохранившееся, видимо, с военизированных сталинских времен, когда если не под настоящее, то воображаемое ружье готовы были поставить как Мефистофеля с Риголетто, так и Альберта с Зигфридом), и усаживаясь на свободное место, а порой, при аншлагах, и на лестницу, Пенелопа изучила балетный репертуар родного театра досконально. Особенно она любила то, что на балетном жаргоне называют «чистой классикой», вершиной которой считала второй акт «Жизели». Когда на сцену высыпали воздушные создания в тюниках, у нее перехватывало горло, и если какой-нибудь циник или ерник принимался в антракте при подобострастном подхихикивании окружающих вышучивать древний сюжет, что, к сожалению, совсем не редкость в наши чересчур просвещенные времена, когда писатели, режиссеры, художники все сплошь обучены физиологии и считают своим неотъемлемым правом и даже долгом переносить воспоминания о школьно-дворовых уроках биологии на сцену, экран, картины, не говоря уже о бумаге, которая в их понимании, очевидно, мечтает об одном — превратиться из писчей в туалетную, Пенелопа с трудом удерживалась от того, чтоб вонзить свои длинные когти в отвратительно ухмыляющуюся рожу подобного шутника, а затем и в рожи его слушателей. Ибо второй акт «Жизели» волшебным образом превращал Пенелопу из иронической и остроумной, слегка разочарованной и вполне трезвой особы в экзальтированное и подверженное приступам романтических иллюзий существо. Впрочем, как ни странно, но именно в периоды своих романов она несколько отдалялась от балета, поскольку, к величайшему ее огорчению, ни Эдгар-Гарегин, ни Армен не были способны в достаточной мере разделить ее эстетические восторги. Но все же никто и никогда не мог оторвать ее от самой постоянной из ее страстей совсем. В конце концов, не случайно же она пошла преподавать в хореографическое училище, эту тихую заводь, где познания учеников (а порой и учителей) были настолько мелки, что промерялись вытянутым пальцем, без всякого затруднения достававшим дна, скорее их можно бы уподобить цепочке лужиц, нежели заводи, — здесь думали ногами, переживали руками и эволюционировали от полупальцев к пуантам. Но зато это была настоящая близость к балету. Пенелопа общалась с балеринами и танцовщиками, преподававшими в училище, посещала уроки классики, пару раз ей случилось тиснуть статеечку в газете о балетной премьере или гастроли, словом, она как бы описывала круги вокруг балета, будучи не в состоянии приблизиться к нему вплотную, чем напоминала себе голодную коршунессу, кружащую над добычей, добраться до которой она не в силах, поскольку цель ее устремлений не курица, не ягненок, а лев… Хотя нет, коршунессу она себе все же не напоминала, скорее чайку, которая рвется к воде, но боится приблизиться, потому что там полно акул с разверстыми пастями… впрочем, чайка тоже довольно мерзкая птица, мусороедка со скрипучим голосом, ну ее! Голуби еще гаже, лебеди своими извивающимися шеями вызывают ассоциации со змеями… вообще не хочу быть птицей, птицы глупы, у них у всех куриные мозги, лучше… м-м-м…
Придумать новое сравнение Пенелопа не успела, так как дошла до места назначения, пятиэтажки на улице Комитаса, и ее мысли сделали пируэт, вернее, па-де-ша в сторону троюродной сестры Джеммы, которая в этой пятиэтажке обитала. Джеммы, бывшей замужем за священником. Попом. Это был странный поп. Поп-музыкант, как называла его Пенелопа, не в силах удержаться от искушения поддразнить сумрачного, молчаливого зятя, похожего на Маяковского, позирующего у своей злосчастной выставки. При этом имелись в виду не григорианские или иные аналогичные песнопения, которые по идее тоже можно б окрестить поп-музыкой, а грехи молодости, ибо поп-зять, в миру Вагинак или просто Ваго, в университетские годы неутомимо бренчал на гитаре и даже пел в университетском ансамбле. Будущий духовный отец нескольких сот прихожан районного прихода, где он ныне числился священником, кюре, пастором или как это у нас называется, начинал как химик или поющий химик. Несмотря на то что в детстве его, по всей видимости, забыли в лесу, у берлоги полусонного мишки, где его ухо не избежало контакта с неделикатной медвежьей подошвой, вследствие чего он — по образной характеристике папы Генриха — пел сразу на три голоса, смешивая (уже по определению Пенелопы) эти голоса неумело, как смешивает салат неловкая кулинарка, оставляя в нем островки нетронутых майонезом овощей, он не только извлекал из себя под шумок маскирующих его многоголосие электроинструментов некие подобия мелодий, но даже и имел успех, у Джеммы уж точно, Джеммы, троюродной сестры Пенелопы и Анук, Клариной двоюродной племянницы, имевшей честь учиться с певцом пусть не в одном вузе, поскольку Джемма, пошедшая по стопам своей матери, доцента кафедры английского языка, училась в инязе, но в одно историческое время, что в конечном счете предопределило ее судьбу. Впрочем, ансамбль, а точнее, трио, имел успех не только у Джеммы, но и у немалой части тогдашнего студенческого поколения, исполняя на ура модные в те годы песни битлов, и, может быть, именно благодаря способности Ваго петь сразу на три и, уж во всяком случае, на два голоса, что восполняло дефицит исполнителей. И вполне вероятно, что аплодисменты и восхищенные взоры хорошеньких студенточек сыграли существенную роль в неожиданном, достаточно резком повороте поющего химика против, а возможно, и по ходу — кому из смертных ведомы истинные пути и направления? — колеса судьбы. Проучившись почти четыре года, перед началом очередной весенней сессии он вдруг покинул университет и, фигурально выражаясь, попирая обутыми в огромные солдатские башмачищи стопами хрупкие колбы и пробирки, попер… попирая, попер — это, Пенелопея, вышло нехудо, сюда еще просится паперть либо папоротник — попирая папоротник, попер на паперть, где побирался, как паупер… Но на паперть он все же не попер, а, прослужив годик или сколько там положено в армии, поступил в театральный институт. Почему не в музыкальное училище? Начнем с того, что медведь и всякие медвежьи проделки… сами понимаете. Опять же битлы в советском музыкальном мире не котировались, так что отставной химик Маяковский-Маккартни удовлетворился актерской карьерой. Однако по окончании вуза столичными театрами востребован не был и гордо удалился в маленький приют Мельпомены в одном из райцентров, прихватив с собой давно уже покинувшую стены своего никому не нужного (при железном-то занавесе!) иняза и болтавшуюся без дела (пять уроков в неделю — это же не дело) Джемму, окрутив ее за спиной ни о чем не подозревавших и оттого совершенно ошеломленных родителей. Впрочем, если откровенно, те были отнюдь не прочь пристроить сумасбродную дочь, отличавшуюся, кроме исключительной экспансивности, еще и утомительной экстравагантностью. Джемма не ходила, а летала, рядом с ней шумная и подвижная Пенелопа казалась себе — по собственному выражению — спящей гусеницей. Когда она вихрем врывалась в комнату, люди и предметы разбегались и разлетались под напором ее энергетического поля, ее жестикуляция могла по своим результатам заменить если не кондиционер, то вентилятор бесспорно, а когда Джемма начинала говорить, окружающих вслед за кратковременным шоком одолевало легкое отупение, как после концерта рок-музыки. Заложенный в нее чудовищный заряд жизненной энергии находил себе выход в самых неожиданных областях. То Джемма записывалась в парашютную секцию — до прыжков, правда, дело не дошло, потрясенные надвигавшимся бедствием родители не сумели оказать должного сопротивления, но вмешалась бабушка, по экспансивности не уступавшая самой Джемме, и прыжки удалось предотвратить. То Джемма решила стать стюардессой, разумеется, на международных авиалиниях, но, по счастью, не прошла отбор ввиду недостатка самого для этой профессии главного — сантиметров. Тогда, разочарованная, она обратила взоры к конному спорту, где малый рост не помеха, и вскоре всех родственников обошла редкая в то время цветная фотография, запечатлевшая Джемму в алом костюме, красовавшуюся верхом на прекрасно сложенном белом жеребце, на деле, скорее, обыкновенной кобыле, — возможно, впрочем, что это были уже инсинуации Пенелопы, которая не удержалась бы не только на кобыле, но и на пони. Джемма, во всяком случае, считала данное, безусловно породистое, создание жеребцом, о чем свидетельствовала дарственная надпись, которой она украсила фотографии, щедро розданные близким, дабы увековечить в их непрочной памяти свои свершения. Подобное фото одно время стояло у Клары на трюмо, на обороте его размашистым Джемминым почерком было начертано: «Драгоценным Тете Кларе и Дяде Генриху от Джеммы и Гены». Геной, разумеется, звали жеребца. После конного спорта наступила очередь виндсерфинга, заниматься которым неуемная кузина ездила на Севан; узнав о том, Пенелопа невинно спросила: «Верхом?», на что Джеммина мамаша, понизив голос (видимо, из опасения, что ее рык, бывший в действительности лишь писком, достигнет севанских берегов и поднимет там бурю) и скорбно закатив глаза, сообщила, что Гена скончался, и Джеммочка с трудом пережила эту кончину… «Она так исхудала, я боялась, что она заболеет…» Ну да, скоротечная чахотка, подумала Пенелопа, шелковые простыни, кружевные подушки, Джемма в прозрачной нейлоновой ночной сорочке, надрывно кашляя в большой белый платок (на белом хорошо смотрится алое), обвивает исхудалыми руками длинный лошадиный череп и падает мертвой, общее рыдание и склоненные темные фигуры, как в финале балета «Ромео и Джульетта», нет повести печальнее на свете и так далее… Подумала, но промолчала, ибо хотя в те времена была молодой и дерзкой и часто шокировала старшее поколение неадекватными, по мнению того, репликами и реакциями, однако отлично знала мать и ее сестрицу: сестрица обидится, а Пенелопе потом придется выслушивать попреки Клары — ты хочешь перессорить меня с моими родными!.. моими близкими!.. К слову сказать, особой близости между двоюродными сестрами, коими являлись Клара и Джеммина мама, никогда не наблюдалось, но такова уж была Клара — не преминула б даже обронить слезу, дескать, вбивают клин между ней и ее родней, изолируют ее, обрекают на тоску и одиночество. Сама Пенелопа на подобные сцены не реагировала никак, но она жалела отца, которому неизбежно придется долго и нежно уговаривать безутешную жену, убеждая ее, что никто не вбивает, не изолирует и не обрекает… После виндсерфинга, наверно, должны были последовать полеты в космос, но вместо этого вдруг пришло по почте приглашение на свадьбу. Свадебный пир предваряло венчание, что всеми родственниками и знакомыми, любившими перемывать Джеммины хрупкие косточки, было расценено как очередное ее чудачество, тогда как (это выяснилось чуть позже) инициатором сего акта оказался Ваго, снедаемый религиозными чувствами, немедленно и жестоко высмеянными Пенелопой тем охотнее, что в ту пору моды на религию не существовало даже в зародыше. До отбытия новоявленной супружеской пары в провинцию у Пенелопы случились с Ваго две-три дискуссии на излюбленную атеистическую тему о наличии-отсутствии, дискуссии бесплодные — впрочем, плодов они принести и не могли, не больше чем виноградная лоза на дальнем Севере, ведь доказывать верующему, что бога нет, столь же бессмысленно, как и доказывать атеисту, что он есть, ибо вера и неверие отнюдь не две сознательно занятые позиции, их корни уходят в бессознательное, это даже не два разных состояния психики, но два психических склада, обусловленных изначально и не подлежащих изменению, два генотипа. Не то убеждения. Убеждения — не вопрос веры, исключая те случаи, когда убеждений в действительности нет, и их заменяет вера; это касается людей, по генотипу склонных к тому, чтоб веровать (если не в бога на небе, так в его и.о. на земле, чем и воспользовались большевики, наплодив толпы юродивых, бегающих по сей день с красными флагами и искренне считающих свою веру убеждениями). Для людей же с иным генотипом, склонных к безверию, убеждения не что иное, как решение, принятое на основе определенной информации, достаточной или неполной, истинной или ложной, потому и убеждения меняются по мере пополнения информации или ее опровержения. С верой иначе. В отличие от убеждений, которые иррациональными быть не могут, вера — субстрат не только логическому анализу не подверженный, но и парадоксальный, система доказательств, выстроенная для ее разрушения, зачастую, наоборот, укрепляет ее. Словом, Ваго укатил непереубежденным, прихватив с собой Джемму, которой надлежало, отказавшись от своих аристократических увлечений, приступить к обучению детишек в местной школе английскому языку. Каким образом совершилось укрощение Джеммы, известной не только своей взбалмощностью, но и склонностью к капризам и припадкам жеманства — ее характер «до» был Пенелопе знаком достаточно хорошо благодаря тому, что, будучи ровесницей Анук, Джемма когда-то водила или по крайней мере пыталась водить дружбу с sister (собственно, она и ввела в обиход это словечко, звонила и спрашивала у Пенелопы: «А sister дома?»), — так вот, как Ваго удалось укротить Джемму, осталось неизвестным, наверняка с помощью божьей, не иначе. Достоверно лишь, что все похождения Джеммы на суше и на море прекратились, все поползновения стать аквалангисткой, фотомоделью, стюардессой, гидессой и прочими подобными эссами, оборачивающиеся сплошными стрессами для вконец загнанных родителей, были забыты, и Джемма усердно, усидчиво, уступчиво… что еще?.. успешно и неустанно служила добру, как выспренно выразился ее достойный супруг во время одного из совместных посещений Тети Клары и Дяди Генриха, а главным образом Анук, попытки дружить с которой Джемма то и дело возобновляла, невзирая на прохладное отношение предмета своих притязаний. У sister, надо сказать, свои странности, она недружелюбна в буквальном смысле этого слова, то есть не любит дружить или, во всяком случае, не очень любит, утверждая, что дамская болтовня вызывает у нее скуку и зевоту. Правда, она достаточно хорошо, а может, и чересчур хорошо воспитана и героически эту зевоту подавляет, с покорным и даже заинтересованным видом выслушивая бесконечные сплетни приятельниц об их домашне-служебном положении, но от встреч с большинством знакомых, особенно женского пола, всячески увиливает, ссылаясь, например, на плохую работу телефонов. Поскольку телефоны в Армении испокон веку работают сами знаете как, sister было обеспечено и обеспечено по сей день железное алиби, хотя теперь-то она в таковом не нуждается по причине отсутствия в родных пенатах. От Джеммы sister буквально пряталась, но без особого успеха, ведь Джемма достала б ее и из-под земли, приди Анук фантазия туда залезть, прорыла б хоть стометровый слой фунта, пробурила скважину в скальных породах, сконцентрировав в узкий луч свое энергетическое поле. Выйдя замуж, она, надо признать, эту энергию подрастеряла, во время нечастых наездов из своего райцентра сиживала чинно и говорила тихо, хотя дальняя гроза прогромыхивала в ее приглушенных интонациях. Пенелопе она напоминала гром, записанный на магнитную ленту и пущенный с минимальной громкостью, порой ее так и подмывало крутануть тумблер звука вправо и посмотреть, что получится, но она не знала, как за это взяться. Впрочем, период наездов длился относительно недолго, несмотря на то что до развала империи было еще далеко, жизнь в провинции Ваго вскоре наскучила, да и провинция ему выпала не у моря; будь она у моря, Ваго, возможно, остался бы там и попытался б освоить пешеходные прогулки по его поверхности, но водной глади поблизости не оказалось, и Ваго пошел в плотники. Да-да, бросил театр, сцену, гитару и взял в немозолистые руки молоток, долото и прочие подобные железяки. Изумленным зрителям свой выбор он объяснил тем, что Христос, с которого и только с которого богобоязненный человек должен брать пример, прежде чем стать проповедником, плотничал на пару со своим отцом-плотником — правильнее было б сказать отчимом, ибо истинным папой являлся, как известно, Святой Дух, но Ваго в такие тонкости не вдавался. Что происходило в плотницкий период с Джеммой, покрыто мраком, посещения на время прекратились, слухи, обраставшие все новыми красочными подробностями, касались одного Ваго — отрастил длинную бороду, ходит босиком, постится, бросил курить, пьет только воду, сколачивает столы и табуреты, диваны и буфеты, вознося молитвы и благодаря всевышнего за каждый удачно вбитый гвоздь, и т. д… и т. п. Джемму же молва обходила, может, она просто преподавала свой английский, а может, подносила гвозди, кто знает. А потом ведомый невидимой руцей божьей Ваго поступил в духовную семинарию. Так начался третий и, видимо, последний — ведь бог любит троицу, но не более — виток его витиеватой карьеры. Витиеватой от слова виток? Или от слова вития? Витией Ваго был неважным, отличался скорее бледно- нежели красноречием, и проповеди его могли привести только к потере веры, так что церковь немногое приобрела в его лице. А он в лице церкви? Если вдуматься, наверняка можно бы отыскать связи между витками и логику в Вагоевых превращениях — нельзя, например, отвергнуть предположение, что именно недореализованное актерское начало подвигло его взяться за хоть и не главную, но все же сольную роль в великолепно отрежиссированном спектакле, который вот уже два тысячелетия разыгрывается на множестве прекрасных подмостков, лучшего, что создано коллективным архитектурным гением человечества. Вполне вероятно также, что химик в нем устыдился своей неспособности за целую жизнь (и за целую историю химии) понять хотя бы миллионную долю того, что господь бог наворочал за семь дней. Впрочем, в этом случае резоннее было б стать кантианцем, Кант ведь тоже печалился о непознаваемости мира (почему тоже? Ваго, может, вовсе и не печалится, а, наоборот, радуется или злорадствует?). Кстати, и Кант верил в бога, коль скоро по институтскому курсу он проходил как идеалист. Объективный. Ведь идеалисты бывают объективные и субъективные. Что это значит? Наверняка не то, что одни считают идеальными объекты, а другие субъектов, в этом варианте Беркли провозглашал бы идеальным Канта, а Кант — сутану Беркли или его трубку, если б этот последний курил трубку, хотя вряд ли тот покуривал, он ведь был каким-то важным духовным лицом, чуть ли не епископом. А интересно, может ли Ваго стать епископом? Это зависит от того, за что людей делают епископами. Проповедник Ваго, как уже сказано, ну не то чтоб вовсе никудышный, но и кудышным его никак не назовешь, Савонарола из него не получится, это факт, впрочем, Савонарола и епископ — вещи разные, даже, кажется, несовместимые, Савонарола ведь нечто вроде диссидента, так? Собственно, и Христос был диссидентом, причем классическим. Так что подлинная карьера обычно начинается с диссидентства, жаль только, что она часто оказывается посмертной. Однако Ваго к подобным дерзаниям не расположен, он же нормальный законопослушный христианин, хоть и провел к себе левый свет. Впрочем, свет провела Джемма, бог весть, знает ли Ваго, что он левый, наверно, знает, не такой уж он небожитель, разве на небе раздают такие квартиры с машинами в придачу?.. Дом, конечно, не блещет, неказистый домишко, — Пенелопа подняла голову, чтобы обозреть пятиэтажку, вдоль которой в данный момент шествовала, благо еще не вполне стемнело, и здание можно было подвергнуть критическому осмотру, — обыкновенная коробка, разве что розовая… нет, коробкой это называть все-таки неудобно, туф же не панель — не та, на которой промышляют известного рода девочки, а главный компонент панельно-блочных зданий, недоношенного, со следами многочисленных родовых травм детища современных творцов от архитектуры… Скорее это похоже на шкатулку, хорошенькую, розовую шкатулку из родонита, типа тех, что некогда продавались в «Бирюзе». Аккуратненькие такие шкатулочки из лазурита, малахита, яшмы — замечательный подарок ко дню рождения, красиво и доступно, 30–40 рубликов… Дом, каких в Ереване немало, — снаружи стандартная хрущоба, а внутри Эрмитаж на Эрмитаже: лепнина, мозаичный паркет, мрамор и бронза. Пенелопе припомнилось, как лет десять назад она наткнулась в Зимнем дворце (настоящем) на супружескую пару цеховиковского толка: похожая по форме и цвету на глиняный кувшин для вина, только без ручки (и без вина, разумеется; вино, если оно и было, давно превратилось в уксус наподобие того, какой иногда получается из слитых воедино опивок со дна винных бокалов, мутный, с осадком и плавающими мошками), жена, вся увешанная побрякушками, и муж, тоже пузатый, раздувшийся от обжорства, денег и самодовольства. Супруги бродили по залу, и жена время от времени восклицала восхищенно и возбужденно (по-армянски): ах какой паркет!.. а люстры!.. смотри что за роспись на потолке!.. на что муж недовольно и сухо отвечал: у нас лучше. Еще бы! Дворец какого-то жалкого царишки… Конечно, квартира Ваго и Джеммы на сходство с Эрмитажем не претендовала, разве что в прямом смысле слова, ибо жили супруги в самом деле уединенно. Хотя Джемма сохранила известную и даже немалую долю своей общительности, но общение с собой она предлагала обычно с доставкой на дом, мотивируя это тем, что присутствие посторонних мешает Ваго работать, и создавая таким образом вокруг мужа ореол кабинетного ученого, плавность течения мыслей которого требует надежной охраны. Собственно, Джемма и в былые времена предпочитала курсировать между домами своих бессчетных знакомых, редко кого приглашая к себе, чему имелась и причина, самая причем уважительная, — она не любила демонстрировать подругам и приятельницам, а тем более поклонникам, своего уникального папашу. Именно демонстрировать, трудно подобрать иное выражение для определения этого… процесса или явления?.. стихийного бедствия, быть может. (Хотя, между нами, подобного монстра де-монстрировать невозможно, при известной ловкости его еще худо-бедно гипо-монстрируешь, но чтоб совсем уж де…) Представьте себе вполне интеллигентный дом с хозяйкой, почти профессоршей, ну доцентшей, во всяком случае, где навстречу гостям жизнерадостно выходит нечто вроде цеховика, встреченного Пенелопой в вышеупомянутой постройке Растрелли, только здешний не столь отягощен купюрами (впрочем, кто знает?). Да, это был жуткий мезальянс, вся родня опомниться не могла, когда Джеммина мать, в те годы студентка-отличница, вдруг выскочила замуж за парня из соседнего подъезда, шоферского сына, дворового хулигана и железного кандидата в мастеровые или, того хлеще, торговцы, чем он в итоге и кончил. Вскоре после бракосочетания новоявленный родственник подрядился или, правильнее сказать, устроился (и по большому блату, поскольку приладиться к такому хлебному делу было непросто и недешево… так ли?.. гляди, Пенелопа, не ошибись, это ж было до разгула реального социализма, когда ты существовала еще только в планах, и то перспективных, жизненного опыта у тебя, может, и хватает, но с дожизненным похуже) продавцом в овощной магазин, где долго и успешно обвешивал покупателей, резво манипулируя весами, гирями, тарой и пятаками-гривенниками, бесследно исчезавшими в карманах его грязного белого халата, вначале сходившегося на животе, позднее… Обвешивали мощно (это Пенелопа уже помнила), от двухсот граммов до полкило на кило-грамм-два, правда, дело все равно было копеечное, потому как помидоры при Советской власти стоили семь копеек, а баклажаны — девять. Конечно, копейки так-таки сберегали рубль за рублем, но постепенно у поднаторевшего в подприлавочно-заприлавочных делах родственника оформилось честолюбивое намерение переквалифицироваться в мясники, аристократов гирьки и ножа той эпохи, однако тут уже восстала защитившая к тому моменту кандидатскую жена — овощи казались ей более пристойными, что ли? Смешно. Конечно, мясо — это плоть, а в плоти есть нечто двусмысленное — хотя, с другой стороны, даже слово и то стало плотью, и ничего. Да, но мясники сплошь в крови и… Словом, Джеммина маман, как достойная представительница словесности, мешать слово с плотью отказалась категорически, и ее дражайшему супругу пришлось делать карьеру на овощах, так сказать, лезть в гору корнеплодов и пасленовых, что, сами понимаете, дело многотрудное — ну попробуйте вскарабкаться на вульгарную груду вываленных из грузовика баклажанов, которые все норовят расползтись в разные стороны, рассыпаются, выскальзывают из-под ног. Однако Джеммин папаша вскарабкался-таки, стал завмагом, потом, не иначе как с помощью хорошего альпенштока, веревок, крючьев и прочего снаряжения, добрался до расположенной уже в высокогорье овощной базы… Ладно, Пенелопа, хватит о свекле и кабачках… и не вздумай переходить к трактирам и харчевням! Ну пожалуйста, Пенелопа, Пенелопушка, Пенелопулечка… Интересно! Что за огнестрельные окончания-суффиксы у нас пошли? Правда, от одного нашего вида в сине-зеленых клетчатых шортах с декольтированной маечкой летом и лайкровых, кирпичных с искрой леггинсах, поддетых под длинный, но не скрадывающий очертаний соблазнительных бедер свитер зимой мужики валятся по пути следования один за другим, как кегли… Однако! Кегли ведь не палкой сбивают, а шаром? Упаси боже! Типун тебе на язык, Кремолопа, отбрось сомнительные ассоциации, сказано же, надо срочно похудеть, сказано и будет сделано. Аминь! И никаких отныне кремов — заварных, сливочных, шоколадных, никаких тортов, пирожных, пончиков, кренделей, печений, конфет, зефира, пастилы (м-м, обожаю!), вафель, кексов, бисквитов, ничего этого не существует, нет на свете, и баста, забудь о них, выкинь из головы. Как и Джемминого папашу, если можно выкинуть такой коллекционный экземпляр — человека с длинным, как вавилонская башня, ногтем на мизинце, в «Адидасах» с белой рубашкой и галстуком плюс лакированные остроносые туфли — это на людной улице в центре города, и такой тип при всех прет на тебя и норовит обнять: Пенелопа, деточка, как живешь, почему не заходишь, как папа-мама?.. Пенелопа пересекла двор и вошла в подъезд. Бедная Джемма! Бедная ее мать… хотя та сама виновата, надеялась перевоспитать плебея, но разве плебс перевоспитаешь? Скорее он тебя перевоспитает, оглушит своими рабисовскими песнями, ослепит «Дикими Мариями, или Просто розами», нарядит в свои нелепые одежды с золотыми нитями и блестками… Пенелопа добралась до искомой двери и подозрительно на нее уставилась. Ни единого лучика, даже глазок не светится. Впрочем, это, вероятно, светомаскировка — во избежание обнаружения с земли или с воздуха. Ну и везение у бедной Джеммы, большинство ереванцев открыто наслаждается левым светом, и всем это до лампочки, но есть же народец, которому светлая полосочка под чужой дверью как нож острый — не просто острый, а сапожный, каким кожу режут, был такой у папы Генриха, от деда остался… Интересное дело, дед вот был сапожником, и никого это не смущает. Иные времена — иные нравы? Или суть в самом деде, говорят же, что был он интеллигентен, а разве про Джемминого отца такое скажешь? Да его и отцом называть язык не поворачивается — папаша, и все тут! А что до полосочки под дверью, то живет у Джеммы в подъезде некая тощая старая дева с крысиной мордочкой и многозначительным именем Азнив, которая целыми днями бегает по лестницам, топоча и вынюхивая. Обнаружив искорку света, она бросается доносить и доносит, доносит, доносит — упорно и сладострастно. О последнем, впрочем, судить было сложно, поскольку никто ее в процессе доносительства не наблюдал, но именно так представляла себе эту процедуру Джемма, а Джемма умела описать продукцию своего воображения столь детально и достоверно, что никому не приходило в голову усомниться в соответствии описания истине. Даже Пенелопе, безусловно знавшей толк в деле материализации фантазий. Пенелопе в числе прочих Джемминых слушательниц, ибо Пенелопа унаследовала общение с Джеммой от благополучно смотавшей удочки (если сия лентяйка свои удочки хоть когда-нибудь разматывала и забрасывала) Анук. Надо сказать, что в отличие от последней Пенелопа находила в болтовне с Джеммой определенную приятность; если на то пошло, разные заумные разглагольствования не могли заменить ей нормальные женские разговоры о ценах, сценах, модах, любовных невзгодах и так далее. «Диалогам» Платона она безоговорочно предпочитала монологи о платонической и иной любви в исполнении собственном или любой из подруг, дебатам о прошлом страны, диссидентах и сексотах — беседы о личном будущем и настоящем, дивидендах и сексе… Кстати, о сексотах. Соседка Джеммы была, видимо, стукачкой по призванию, ведь она не могла, как в сталинские, завидные для подобных особ времена, рассчитывать получить квартиру «обдоношенных» соседей или хотя бы их же левый свет; все, что ей светило, — это полный мрак, воцарявшийся в подъезде после того, как вытребованная ею бригада карателей от электросети в торжественной обстановке перерезала кабель, проведенный другой бригадой из той же электросети от метро, больницы, театра, троллейбусной или, в данном случае, трамвайной линии. Единственные, кому упомянутое действие приносило несомненную пользу, — это все те же бригады, по очереди или в шахматном порядке попеременно резавшие и сращивавшие кабели, что всякий раз сопровождалось взиманием соответствующей мзды — если не при перерезке, то при сращивании точно. Соседке, никакого процента с мзды не получавшей, оставалось довольствоваться моральным удовлетворением, что она и делала, исполняя словно бы взятое на себя обязательство истово, как отправляла бы культ и творила молитву, если б относилась к натурам богобоязненным, но она бога не боялась определенно, ведь именно в данном случае бог мог бы дать себе труд пробудиться от спячки и вступиться за своего приверженца (в лице Ваго) — впрочем, бог дрыхнет без задних ног как раз тогда, когда надо защищать приверженцев, иначе где он гулял в пятнадцатом году, не в командировку же ездил. Либо в отпуск, куда-нибудь на Кассиопею или Гидру. Пенелопе вспомнилось, как Пенелопа-старшая — не самая старшая, многоразумная царица Итаки, а средняя, бабушка Пенелопа, — узнав о полете Гагарина, сказала: «Ага, вот и в космос полетели! Помяните мое слово, скоро человек доберется до других планет и на какой-нибудь из них встретит бога». Космонавты бога пока не встретили, как не встречала его Пенелопа и, надо полагать, даже Ваго; возможно, с ним удалось вступить в контакт Джемминой соседке Азнив, и именно на основе этого контакта, переросшего в контракт, она неутомимо и целеустремленно восстанавливала справедливость в одном отдельно взятом подъезде. Неутомимо, целеустремленно и безнадежно, ибо Джемма любила как свет, так и тепло и нарушала восстановленную справедливость, восстанавливая нарушенную целостность кабеля с той же скоростью, с какой Азнив восстанавливала нарушенную справедливость, нарушая восстановленную целостность кабеля. Вышеупомянутые бригады же с одинаковой готовностью сотрудничали и с той и с другой, то лишая квартиру священнослужителя света и тепла, то возвращая туда оные. Света и тепла одновременно, так сказать, в одном пакете, ибо в левом свете, проведенном от трамвайной линии, была изюминка, кислая и сладкая в равной степени, в юности виноградинка, которая выросла на незаконнорожденной лозе, произведенной на свет согрешившими законами электротехники (стало быть, незаконно-, но законнорожденной? Ну и путаница, Пенелопея!). Поскольку в трамвайной сети напряжение было втрое выше, чем в бытовой, его с помощью различных технических хитростей разводили, так сказать, на три стороны, и в квартире одновременно с тремя лампочками горели и три мощные электроплиты, нагревая воздух почище любого центрального отопления. Такова оказалась сладкая сущность изюминки, кислая же проявлялась в том, что стоило перепутать очередность втыкания вилок в розетки, как — бумс, бумс, бумс! — с грохотом и сверканием все взлетало на воздух. Ну, взлетало — это в некоторой степени гипербола, однако же лампочки взрывались как бомбы с немалым тротиловым эквивалентом, создавая впечатление присутствия на передовой, во всяком случае, когда это произошло при Пенелопе, она чуть не нырнула в окоп, то есть непременно бы нырнула при наличии такового, но окопа не оказалось, и она просто молниеносно присела и спрятала свою драгоценную голову за спинкой кресла. Элемент кислинки был и в другом — данная разновидность электричества не годилась в пищу телевизору или холодильнику, но телевизор Джемма подумывала купить на батарейках — маленький такой аппаратик за сто долларов, а холодильник зимой ни к чему. Что будет летом, Пенелопа не знала, прошлым левый свет отсутствовал, а до будущего, как говорила Джемма, еще надо дожить. Qui vivra, verra, как выразились бы французы. Конечно, то же самое можно бы сказать по-русски, но кто же пользуется русским языком там, где есть возможность употребить иностранные? После брифинга он отправился на фуршет. Покупайте пейджеры, грейдеры и глетчеры, они сэкономят ваше время — особенно если вам удастся найти их в словаре и не придется топать в публичную библиотеку или прибегать к посредству E-mail. А это, кстати, что такое?.. Тсс! Вдруг кто-нибудь догадается, что многоразумная Пенелопа знает о столь модной штуковине не больше, чем ее предшественница о радио. «Алло, Одиссей, вас вызывает Итака, что имеете сообщить? Следующий сеанс связи завтра в шестнадцать ноль-ноль». А Одиссей, скотина, валяется в постели, на его волосатой груди серебряный поднос с завтраком: кофе со сливками, яичница с беконом, овсянка… то есть, пардон, стакан фалернского, сони в меду… или сонь в троянскую эпоху не ели, это ведь римляне-гурманы придумали. А что ели древние греки? Ахейцы. Ахилловы аховы приятели ахейцы. Хлеб с сыром? Бананы с ананасами? Бананы банальны, а ананасы… Она нас или мы ее? Она — Калипсо, Цирцея, Навсикая и прочее средиземноморское бабье. Одиссей берет с тумбочки у застланного леопардовой или кентавровой шкурой ложа портативную рацию, нажимает кнопочку. «Алло, Пенелопа? Здравствуй, лапочка! Липочка, — это шепотом, — отодвинься, пожалуйста, не дыши в микрофон». Липочка, Цицанька, Навсюшенька… Фи, какая гадость! Нет, Пенелопе-первой определенно повезло, что в троянскую эпоху радио не было. А то нажимаешь кнопочку (Пенелопа нажала на кнопку дверного звонка, потом вспомнила, что на шестистах вольт звонок не работает, и забарабанила в дверь своими изящными, слегка замерзшими пальчиками), вызываешь Одиссея Лаэртида по прозвищу Улисс в полной уверенности, что тебе отвечают из лагеря ахейцев под Троей или с лесопилки, где из самшитово-кедровых досок на скорую руку сколачивают троянского коня, а на самом деле попадаешь в какой-то вертеп и ни сном ни духом, что одним ухом слушают тебя, а другое щекочет розовыми губками какая-нибудь шаловливая Липочка-Калипсо…
— Кто там? — спросила из-за двери Джемма, и Пенелопа почему-то басом («А я-то какого рожна маскируюсь, я же не Азнив») откликнулась, после чего услышала дребезжание засова, щелканье замка и дружелюбное тявканье, перемежаемое увещеваниями Джеммы: «Тише, Дикки, тише, это же наша Пенелопа». В ответ Дикки сменил регистр, трансформировав потявкивание в нетерпеливое повизгивание. Дикки, мраморный пудель, умница и аристократ, знал Пенелопу как свои пять пальцев, вернее, пять когтей или четыре лапы, и любил ее, несмотря на то что Пенелопа называла его Ричардом Третьим, любил почти так же сильно, как этот самый Ричард свою королевскую власть… Хотя насчет Ричарда все клевета, Ричард, как известно, был королем не из наихудших, как и Борис Годунов, людям ведь непременно надо очернить того, кто поприличнее, вот Сталин вогнал в землю двадцать миллионов, не считая тех, кого на войне угробили, и все хорош, а бедный Мишка никому не люб. И что из этого следует? Что нельзя народу свободу давать, давать ему можно только по шапке и желательно кувалдой? Ну, сей вывод не нов, Пенелопушка, пока ты палишь из своей пушки по пеночкам, другие изучили вдоль и поперек все эти народовластия, надорваластия, недорваластия. Надорваластие прежних пало под напором недорваластия теперешних, те, кто раньше не мог дорваться, сменили надорвавшихся у власти и ныне поправляющих подорванное здоровье на урванных миллионах. Не тех, чей адрес — Советский Союз, а тех, которые лежат в банках, только не закатанных, а швейцарских… Интересно, закатывают ли консервы на зиму швейцарцы и швейцарки? Навряд ли. Кто будет возиться с домашним консервированием, когда человечество по уши завалено полудармовым ананасовым компотом…
Джемма наконец справилась с замками и засовами, Пенелопа переступила порог и застыла в изумлении. В прихожей было практически темно, только отблески от сиротливо чадившей в комнате керосиновой лампы падали сквозь полуоткрытые большие стеклянные двери, отделявшие прихожую от гостиной, на книжные шкафы, выстроившиеся вдоль стены коридора. Правда, лампа была не самая слабая, при ее свете даже полуугадывались, полупрочитывались фамилии авторов на корешках книг — те, которые с позолотой, остальные терялись во тьме, как черные кошки… Но как же так? Пенелопа повернулась в сторону комнаты. Нет, водруженная на асбестовую подставку огромная электроплита гляделась монолитной глыбой, алая змейка спирали не вилась по ее сумрачной поверхности, и озябшие члены Пенелопы не ощутили, увы, долгожданного тепла. Пенелопа устремила вопрошающий взор на Джемму. Та развела руками.
— Азнив? — полувопросительно проговорила Пенелопа, и Джемма шумно вздохнула. — Чтоб она сдохла! — пожелала Пенелопа в сердцах, и супруга священнослужителя не по-христиански заключила:
— Чтоб горячую воду она увидела только в адском котле! Раздевайся, Пенелопа, еще не очень холодно.
— Недавно перерезали? — осведомилась Пенелопа печально.
— Ты же утром звонила.
Да. Увы. Утром все было в порядке. И черт тебя дернул, Пенелопа, начать с другого конца. Пришла б сразу сюда, была б уже мытая, чистенькая, как поросенок Чуня. И ведь рядом с домом, два квартала! Ей-богу, есть в этом что-то фатальное. Видимо, непотребная баба Фортуна на сей раз выделила тебе низы своих подошв, и бороться с ней бесполезно. Ну а что делать? Плакать и молиться? Пожмем друг другу руки и пойдем — вы по своим делам или желаньям, я по своим, точнее, бедняк отпетый, пойду молиться… Pater noster, иже еси на небеси, пошли мне кастрюлю горячей воды… дура ты, Пенелопа, коли просить, так цистерну… откуда у него, бедолаги, горячая вода, на небесах небось найдется разве что дождевая, а то и талая, ледяная, это тебе не земной патер с удобствами…
— Ну куда ты торопишься? — сказала Джемма. — Посиди немножко.
— А патер дома? — спросила Пенелопа, в очередной раз стаскивая полушубок и сапоги.
— Дома, где ему еще быть? — почему-то вздохнула Джемма, копаясь в шкафчике, набитом тапочками.
— Утешать страждущих, — пробормотала Пенелопа, с наслаждением всовывая ноги в теплые, на меху, домашние тапочки. Это дело тут поставлено хорошо, ничего не скажешь, телесно здесь страждущих (во всяком случае, их ноги) утешают на полную катушку.
Ваго сидел у керосиновой лампы с книгой. Библию штудирует, решила Пенелопа. Хорошие надо иметь глаза, чтобы читать при таком освещении… А ему и положены хорошие, святые отцы у нас зрячие, это вам не какие-то «слепые поводыри слепых»… а коли и ослепнет, не беда, боженька возьмет его за белу рученьку и проведет в царствие небесное через игольное ушко или по волосяному мосту, как там у них?..
— О, Пенелопа! — Ваго захлопнул книгу и встал. Пенелопу он всегда встречал с радостью, видно, приятно было приветить заблудшую душу и в энный раз указать ей дорогу в лоно церкви… Впрочем, почему заблудшую, клевета, навет, напраслина, Пенелопа вовсе не объявляла себя атеисткой, уж за последние пять лет ни разу, правда, и верующей она себя особенно не декларировала, хотя была крещена честь по чести, имела и серебряный крестик, который держала большей частью в шкатулке с бижутерией, иногда и надевая, в основном к черно-белому платью в комплекте с серебряными же серьгами в виде шариков и кольцеобразными браслетами в количестве семи штук. Захаживала она и в церковь, ставила свечки, загадывая при этом желания вполне исполнимые, но господом богом, как правило, игнорируемые.
Пенелопу усадили за стол и пошли греть чайник на керосинке (Джемма при этом не преминула, презрев укоризненный взгляд Ваго, прошипеть: «Чтоб подлюге Азнив век горячего чаю не пить!»). Поскольку это происходило не часто, требовались коллективные усилия, посему Пенелопа осталась одна, не считая безмолвного Ричарда Третьего, и, воспользовавшись случаем, придвинула к себе «библию» Ваго. Это оказался сборник пьес под названием «Театр парадокса». Беккет, Ионеско и прочий абсурд. Пенелопе вспомнилось, как однажды, придя с Джеммой в гости, Ваго увидел лежавший на диване открытый томик, перевернул, взглянул на обложку и спросил: «Кто здесь читает Пиранделло?» В голосе его прозвучала неожиданная тоска. «Я», — ответил Ник, и Ваго вдруг протянул ему руку, словно заново представляясь. «Я когда-то играл Генриха IV», — сообщил он задумчиво и умолк. Некоторое время они молча глядели друг на друга совершенно одинаковым взглядом, сами такие непохожие — невысокий, коренастый, бородатый Ваго и длинный, худой, в очках, придающих ему профессорский вид, аккуратно выбритый Ник. Уже потом, когда Ваго с Джеммой ушли, Ник назвал Ваго беднягой. «Вот бедняга…» Клара не расслышала, возразила: «Никакой он не бедняк».
Конечно, не бедняк. Стоит только оглядеться по сторонам… «А вот моя гостиная, ковры и зеркала, купила пианино я у одного осла…» Ведь надо быть форменным ослом, чтобы продать такое пианино. Роскошное, немецкое, с прекрасным звуком и благородного кофейного оттенка… Впрочем, не бери греха надушу, Пенелопа, может, люди бедствуют, не до музыки им. А вот Джемме до музыки, хотя на черта ей пианино, она же ни одной ноты не знает, правда, Ваго, как известно, в былые времена бренчал на гитаре, но вряд ли он и ныне предается такому греховному занятию, да и пианино не гитара, на нем так просто не побренчишь, это Пенелопа знала доподлинно, поскольку, как положено ребенку из музыкальной семьи, окончила школу-семилетку по классу фортепьяно и по сей день один-два раза в месяц раскрывала ноты, рояль и принималась услаждать свой и родительский слух — пусть не Первым концертом Чайковского и не бетховенскими сонатами, но Шопеном случалось. У Джеммы инструмент получше и красивый, отлично вписывается в обстановку… потому, наверно, и купила. Вообще гостиная на уровне — дубовая мебель, люстра словно выкрадена из концертного зала, да не современного, а старинного, картины на не занятых коврами стенах… вот где прорезался завмаг-отец, сработали то ли наследственность, то ли среда, но из изысканных манер и аристократических привычек Джеммы, как ослиные уши царя Мидаса, выглянула отцовская тяга к помпезности: если ковер, так во всю стену, картины непременно в золоченых рамах и только масло, не этюды какие-нибудь, не акварели, а кто художник — не столь важно. То, что в родительском доме нашло выход в строительстве мраморного камина и понатыканной всюду лепнине, тут выражалось в коллекционировании фарфоровых фигурок и бронзовых бюстиков Наполеона и ему подобных… если ему подобные существуют, — Пенелопа была горячей поклонницей французского императора и всегда жалела, что Наполеону не удалось выиграть войну двенадцатого года…
Вернулись хозяева, благоухая керосином и Earl Grey, и Пенелопа, любившая хороший чай, заметно приободрилась. Хотя обещанное купание не состоялось, время потеряно не зря, Earl Grey и черешневое варенье компенсируют многое. В конце концов, даже если сегодня придется лечь немытой, это не трагедия, то есть трагедия, конечно, но что поделаешь, ведь у нас тут почти гомеровские условия… хотя у этого чертового Гомера только и делают, что моются. Смывают с себя грязь в хорошо оттесанных ваннах, натираются благовонным маслом (должно быть, жуткая гадость), привязывают к ногам красивого вида подошвы — сандалии надевают, надо полагать. Вот счастливчики, надо же слезть с дерева в такой благословенной стране, где круглый год бегают в сандалиях, а значит, и в шортах с майкой. Нет, островок определенно надо покупать в Эгейском море, тогда и виллу можно строить без отопления, экономия выйдет изрядная. А тут что?
— Скажи, Ваго, — спросила Пенелопа опустившегося в кресло напротив хозяина дома, — за что это бог нас так не любит? Я имею в виду армян.
— Наоборот, — ответил тот, возводя очи горе, — бог нас любит. Потому и посылает нам постоянные испытания.
Вид у него был такой напыщенный, будто он не абсурдистов только что читал, а евангелистов… хотя, по идее, он как раз парадоксами и заговорил: любит, потому и посылает, держит в голоде, холоде, антигигиенических условиях, а то и кокает почем зря, топит в воде, сжигает в огне, насылает землетрясения. Точь-в-точь как с евреями: они избранный народ, потому бог и устроил им Холокост, от большой любви, надо понимать…
— Зачем? — спросила Пенелопа.
— Затем, чтоб мы не изнежились и не разложились. Знаешь, почему погибли древние римляне? Потому что в холе и покое размякли и утратили волю к жизни. Кто были римляне и кто — армяне? Небо и земля. И что? Римлян давным-давно нет, а армяне живут.
— И благоденствуют, — хмыкнула Пенелопа.
— Не благоденствуют, — ответил Ваго серьезно. — Но живут.
— Словом, ты хочешь сказать, что господь бог особо печется о сохранении армянской нации? Но для бога ведь нет ни эллина, ни иудея, для него все одинаковы.
— Ошибаешься, — сказал Ваго важно. — Нации от бога.
— Интересное заявление, — пробормотала Пенелопа.
— Бог определил каждому народу его территорию, — продолжал просвещать ее Ваго. — На Страшном Суде он спросит каждого: что ты сделал с тем, что я дал тебе? С талантом, с богатством, с землей?
— Ага. Так бог за самоопределение наций? Или он сторонник сохранения территориальной целостности? — лукаво поинтересовалась Пенелопа. — Потому что, с одной стороны, он да, расселил, наделил… Опять же, с другой, попустительствовал всяким завоевателям и кочевым племенам…
— Бог за то, чтобы каждый народ жил на своей исторической территории, — ответствовал Ваго, и Пенелопа незамедлительно полюбопытствовала, что надо считать исторической территорией. Потому что история, она штука длинная, — это какой же исторический момент брать? Особенно приятно было бы остановиться на первом веке до нашей эры, эпохе Тиграна Великого с Арменией от моря до моря, тогда все наши проблемы мгновенно бы разрешились, никаких тебе блокад, порты, корабли, езди не хочу, умница Тигран ведь и то завоевал, и это покорил… «А не надо нам никаких завоеваний, — насупился Ваго, — нам нужны только наши исконные земли…» Да, исконные — это хорошо, но на них ведь теперь засели турки, а куда турков девать, куда, спрашивается, девать турков? «Нет, ты не подумай, Ваго, — говорила Пенелопа, прижимая к сердцу руки (правда, глаза ее при этом подозрительно поблескивали), — ты не подумай, что я против возвращения Вана или Эрзерума, у меня же и прадед с прабабкой эрзерумские, да только что с турками делать? На Алтай их отправить, откуда пришли? Так теперь и на Алтае народу куча, не поместятся все…»
— А не надо на Алтай, — решил Ваго. — Пусть живут в Малой Азии. Только подвинутся на запад, на западе все коренные народы давным-давно вымерли, мидийцы-лидийцы-каппадокийцы-фригийцы, пергамцы…
— Троянцы! — вставила Пенелопа и невольно поникла головой.
Шел бы ты домой, Одиссей, сколько же можно воевать за наши исконные? Тем более что и военные действия уже прекратились, и все ахейцы давно разъехались по домам, кое-кто, правда, напоролся на всяких там Эгистов с Клитемнестрами, но основная масса в полном благополучии, в просперити, выражаясь по-американски, а мой бедный Одиссей… И ведь все церковники эти, подавай им отведенные богом территории… и этот хорош: отвел, так и поддерживал бы порядок, а то взял и устранился, давайте, ребята, сами, — тоже мне демократ…
— Если твой бог такой умный, — сказала Пенелопа сердито, — так хоть грамоты бы выписал, что ли. От сих, мол, и до сих. И не лезьте. А то устроил базар…
— Грамоты? — Джемма звонко захохотала, и даже Ваго нехотя улыбнулся, но видно было, что он не побит и рвется в бой. Ох уж эти вояки с крестом в одной руке, мечом в другой! Конечно, теперь о вере молчок, крестовые походы ушли в прошлое, теперь сражаются за язык и культуру… армянская церковь всегда сражалась за язык и культуру, сохраняя тем самым нацию, это надо признать. Ну а если б не приняли армяне христианства? Встал бы ранним утром некого числа неизвестного месяца триста первого года царь Трдат не с той ноги — допустим, плохо спал, видел дурной сон, или приведенная на ночь в царскую опочивальню красавица не оправдала ожиданий — неважно, не с той ноги встал, поехал на охоту или, наоборот, не поехал, поссорился с женой-царицей, казнил парочку несговорчивых министров, а потом оказалось, что не тех, словом, пошло б все наперекосяк, и не стал бы расстроенный Трдат обращаться в христианство. И сын его не стал бы. И внук. И остались бы армяне язычниками — не навсегда, навсегда вряд ли. Чем бы это кончилось? Приняли бы, в конце концов, мусульманство, не буддизм же. И все, капут, ассимилировались бы и исчезли с лица земли? Может, так, а может, нет, мусульман вон сколько, и кто из них ассимилировался? Да, но мусульманство? Вольнодумство Пенелопы тоже имело свои границы, что-что, а вообразить себя мусульманкой было выше ее сил, против подобного предположения восставал сам ее генетический аппарат, она физически ощущала, как в ее клетках корчатся, встают дыбом, колебля цитоплазму и щекоча клеточные мембраны, биллионы шокированных хромосом. Чадры, паранджи, гаремы и евнухи — благодарю покорно! В Ереване ходили десятки историй о жутковатых столкновениях культур, рассказывали, как в севший в Тегеране армянский самолет ворвались работники аэропорта и стали стирать помаду с губ потрясенных женщин, как гостившую у иранских родственников ереванку, вышедшую на улицу без черной накидки до пят, арестовали… Нет уж, лучше свечки, ладан, целибат — впрочем, целибат касается только священнослужителей… Кстати, Ваго не может стать епископом, потому что он женат. Бедный Ваго, столько жертв — Шекспир, Пиранделло, Беккет — и все зря, актер, мечтавший о роли Гамлета, обречен оставаться могильщиком, максимум — выбиться в Марцеллы или Озрики, «я ловко, Озрик, сети расставлял», а Озрик, олух, молчит и кивает, а вышла б Джемма за кого-нибудь другого, мало ли простаков вокруг, и у Ваго были б шансы дослужиться до епископства или даже выйти в католикосы. Его святейшество Вагинак Первый. Ее святейшество Пенелопа… интересно, что только языческие религии допускали женщин к служению богам, можно было выбиться в верховные жрицы, а христианство или ислам держат их, так сказать, у подножия лестницы. Предел возможностей — настоятельница монастыря. И то женского. Нет, язычество определенно лучше, по крайней мере есть выбор, под чье покровительство захочу, под то и отдамся, и очень просто — идешь в храм, приносишь жертву, допустим, Афродите (или Астхик, к чему нам Афродита, у нас своя богиня любви имеется), и все, порядок, Афродита и Астхик наперебой подкидывают тебе женишков — на тебе Париса, не хочешь? Пожалуйста, Одиссей. А не будут опекать, сменим покровителя, это тебе не христианский бог, который изгаляется над тобой как хочет, а ты сидишь и уныло бормочешь: значит, так нашему господу угодно. Как Ваго. Сто лет женаты, детей нет, а обследоваться или лечиться ни Джемму не пускает, ни сам не идет, господь бог, видите ли, пошлет наследника, когда сочтет нужным, а не пошлет, стало быть, на то его, всевышнего, воля. И деваться совершенно некуда. Не веру же менять. А языческих богов и богинь — легион, все свои, законные, и каждый тебя, грешного, завлечь старается, у собрата переманить, сыплются дары, награды, заступничество, поддержка. Одно слово — конкуренция: скидки, распродажи, бесплатная доставка на дом, два билета за одну цену и все такое прочее. Пользуйся на здоровье. Одиссей, например, ходил в любимчиках у Афины, которая в конце концов и доставила его домой к Пенелопе. Отбила у Посейдона и иных врагов, спасла от кораблекрушений и поклонниц, вытащила из воды, огня и медных труб и вернула достойной супруге. Где ты, Афина, ау? Хорошо бы прийти домой, а там Одиссей. Сидит на ступеньках и ждет. Хотя холодно сейчас на ступеньках сидеть, еще подхватит какой-нибудь простатит или цистит, пусть лучше устроится на подоконнике в подъезде, там тоже не жарко, но дожить до возвращения Пенелопы можно. Доживет, а как войдет многоразумная в подъезд и поднимется до второго этажа, кинется славный возвращенец, обнимет… Брр, темно же, эдак умрешь на месте от разрыва сердца, пусть лучше чинно-благородно подаст голос… Пенелопа настолько вжилась в ситуацию, что ей захотелось немедленно вернуться домой и проверить, нет ли кого на подоконнике между вторым и третьим этажами, там, где выбито правое нижнее стекло и чертовски дует (бедный Армен, надо б освободить его оттуда поскорее), но рассудок тут же скорректировал ее порыв: а ну как действительно вернулся, обнимет, уткнется лицом в волосы и вместо аромата лавандового шампуня учует несвежий запах немытой головы? Нет, надо бороться до победного конца. И Пенелопа решительно заглотнула остаток черешневого варенья.
— Еще чаю? — спросила Джемма, и Ваго уже с готовностью взялся за вычурный фарфоровый чайничек для заварки, но Пенелопа мотнула головой и встала.
— Пойду, — сказала она и туманно добавила: — Дорогу осилит идущий.
Ваго, услышав знакомую формулировку, радостно закивал. Интересно, подумала Пенелопа, как он не путается во всех этих монологах, диалогах, фразах, афоризмах, максимах и моральных размышлениях? Неужели ему ни разу не случалось вместо цитаты из библии вставить в проповедь реплику из какой-нибудь роли? Ну, например, вместо «блаженны нищие духом» ляпнуть: «Я дух родного твоего отца», или: «Бледнеть и гаснуть — вот блаженство!» Бедняга, истинное дело — бедняга! Вслух она этого, конечно, не произнесла, а скромно позволила святому отцу надеть на себя полушубок и, чмокнув в щеку рассыпавшуюся в извинениях и сожалениях вперемешку с проклятиями (естественно, в адрес Азнив — ну никакого христианского смирения) Джемму, церемонно откланялась.
Глава шестая
За монументальной дубовой дверью раздался разноголосый птичий щебет из-под-польного (не от слова «пол», а от слова «пола», не путать с большевистским подпольем, партизанами и Сопротивлением) звонка, поставленного в эпоху процветания, когда подобные звонки были в моде, а семейство, обосновавшееся за дверью, славилось богатством, и Пенелопа ощутила радостный трепет. Не трепет неожиданности, ибо уже издали, перейдя улицу Баграмяна, изрядный отрезок которой храбро оттопала в кромешной темноте, она увидела сияющее огнями крепкое, убранное архитектурными излишествами здание, — нет, то был, как выразился бы Берджесс, трепет намерения.
Дальнейшее в ее воображении выглядело примерно так: в коридоре послышались шаги, голос (четыре вероятных обладателя) настороженно спросил, кто там, Пенелопа отозвалась, и после напряженной паузы (таймаут на идентификацию) задвигались многочисленные засовы, щеколды, ключи. Но на самом деле все произошло иначе — никаких шагов, ни вопроса, ни оклика, однако дверь открылась, распахнулась настежь, как душа пьяницы.
— У, Варданище! — восхищенно и изумленно воскликнула Пенелопа, и нечто невообразимо большое, широкое, длинноусое и, несмотря на свою массивность, легконогое, ступавшее бесшумно, как хищник из рода кошачьих, хотя хищником оно не было ни в малейшей степени, напротив, отличалось чрезвычайным добродушием, ответило ей в тон, раскрывая объятия:
— Пенелопочка! Пенелапочка! Пенелапушка! Пенелапулечка!
Пенелопа переступила порог и расцеловалась с двоюродным братом тем более радостно, что это был последний из двоюродных братьев, еще не подавшийся в чужие края, все прочие давно разъехались по дальним городам и весям… что там, спрашивается, взвешивают на этих весях или в этих весях, не грехи же, мы как-никак не почвенники, чтобы доверить метрологическое обследование своих грехов обитателям каких-то весей, да и не касается нас… веское?… весеннее?.. житье-бытье никаким боком, отроду ни один из нашего роду-племени в веси не подавался, разве что в обратном направлении, да и то в незапамятные времена… Странное слово. Незапамятные — на первый взгляд те, которые не запамятовали, а на самом деле как раз наоборот. Удивительный язык. Впрочем, и остальные не сахар. Эх, ребята, и зачем вам понадобилось возводить столп вавилонский, строили б лучше многоквартирные дома с горячей водой! Интересно, если б человек не вкладывал столько усилий в церковное строительство, не придумал ли бы он водо- и теплоснабжение много веков назад? Оно конечно, храмы — это красиво… но если б зодчие ограничивались созиданием! Дикое существо человек, даже под предлогом созидания он уничтожает: то он сносит церковь, чтобы выкопать на ее месте бассейн, то он засыпает бассейн, чтобы снова возвести церковь. Некогда в Армении снесли все языческие храмы, дабы построить на их месте христианские, наверняка многие из снесенных были прелестными архитектурными игрушечками вроде Гарнийского. В Гарни Пенелопа частенько ездила с Эдгаром-Гарегином, ей ужасно нравился — может, одна шестнадцатая греческой крови в ее жилах рефлекторно реагировала на эллинистические очертания? — соразмерный, крошечный даже вблизи храмик с изящной колоннадой, издали, на фоне раскидистых, крупных гор, выглядевший безделушкой, какие держат на комоде или трюмо. Ей нравились сами эти горы, уступами уходящие к горизонту по всей дороге от Еревана до Гарни, что создавало редкое для горных стран ощущение простора, ей нравилась арка Чаренца — не столько сама арка, сколько воздвигнувшая ее идея — каменная дуга, в рамке которой можно уловить контур расплывавшегося в жарком мареве голубого летнего Арарата (зимой в Гарни не тянет, слишком там, в горах, холодно). Кроме того, Пенелопа обожала свежие грецкие орехи, лакомые полушария в крохотных, словно мозговых, извилинах, с которых легко слезает толстая зеленоватая кожица, обнажая белую, как кость, мякоть. В Гарни растут отличные орехи, и ранней осенью Пенелопа то и дело влекла Эдгара-Гарегина на их закупки, благо машина у него была уже тогда, впрочем, у Эдгара-Гарегина всегда была машина, возможно, он так и родился — в машине, за рулем. Что тут особенного, рождаются же люди в сорочках, почему бы кому-то разнообразия ради не родиться в автомобиле, пусть не «Мерседесе», но хотя бы в «Запорожце»? Когда Пенелопа с Эдгаром-Гарегином познакомилась, «Запорожец» уже исчез, остался в прошлом, незадолго до того его сменил «Москвич», который через пару лет перерос в «Жигули» на глазах изумленной Пенелопы, а вернее, в момент, когда ее глаза были временно закрыты: однажды вечером ее отвезли домой на «Москвиче» и на другое утро приехали за ней на «Жигулях». И если большинство молодых людей армянско-советского генеза посадили за руль заботливые родители, об Эдгаре-Гарегине этого не скажешь никак. Мать у него была домохозяйкой с головы до пят — без происхождения, образования и претензий, отец чуть ли не рабочим, так что Эдгар-Гарегин являлся типичным, что называется, селфмейдменом. Уже то, что он окончил армянскую школу, снижало его шансы в русскоязычном мире — как и шансы многих других, позднее с упоением, если не остервенением, включившихся в борьбу за языковой унитаризм. Добавим, что и в этой ничем не прославившейся школе он не ходил в отличниках. Однако же, с готовностью отправившись отбывать армейскую повинность, он описал кривую, которая вывезла его к дверям вуза. Поступив вне конкурса на факультет, называемый в народе «канализационным» и бывший на самом деле гидротехническим или чем-то подобным, чем именно, Пенелопа себе толком не уяснила, тем более что, окончив его, Эдгар-Гарегин стал работать обыкновенным строителем — десятником или прорабом, не важно, важно, что там, где делают деньги. Из чего эти деньги делают, продемонстрировало спитакское землетрясение, вмиг разметавшее панельно-карточные домики, которые правильнее было б назвать песочными. Правда, Эдгар-Гарегин клялся и божился разъяренной Пенелопе, что ни грамма цемента не сэкономил на недокладывании его в… ну то самое, куда его положено класть… зачем, когда из простофили-государства можно вытряхнуть стройматериалов достаточно для строительства нового континента. Как бы то ни было, Эдгар-Гарегин процветал и в прежние времена, хотя и не столь фундаментально, как в новые, и, конечно, не в той степени, что дядя Манвел, в пофрагментно полученной и основательно достроенной квартире которого Пенелопа в данный момент находилась, любуясь снимавшим с нее «крыску» Варданом неМамиконяном, как называл его папа Генрих в те дни, когда не осведомлялся с озабоченным видом, на каком этапе находится подготовка к Аварайру. Наконец полушубок был водворен на переполненную вешалку, нос напудрен, волосы приглажены, и Пенелопа, предводительствуемая тезкой спасителя армян от зороастризма, направилась в комнату. А интересно, что случилось бы с архитектурными памятниками, если б Вардан, уже Мамиконян, продул Аварайр? Надо полагать, христианские храмы снесли бы, дабы на их месте возвести капища. Потом, разумеется, разнесли бы капища вдребезги и построили мечети. Или пагоды. Странно, что греки не тронули Парфенон. Означает ли это, что они не были столь истовыми христианами, сколь армяне? Или армяне не были столь истовыми ревнителями культуры, какими теперь притворяются?
Войдя в комнату, Пенелопа обомлела, увидев кучу народа (что такое? Утром об этой куче речи не было!). Венчал кучу — как бы председательствовал на собрании — самолично дядя Манвел, в недавнем прошлом партийный работник, работник при однопартийной системе, можно сказать, однопартийный работник, ныне невостребованный, давший промашку при «приватизации», «прихваченное» при Советской власти частью промотавший, частью подрастерявший в ходе инфляции и теперь сидевший в похожей на музей широкоформатной квартире, в бархатно-дубовом мебельном гарнитуре, конкретно кресле, за интеллигентным ужином из хлеба, сыра и воды на саксонском фарфоре. Насчет ужина Пенелопа, по своему обыкновению, допустила небольшое преувеличение: на столе стояло кое-что еще, но по сравнению с былыми пиршествами-возлияниями это кое-что вполне можно было приравнять к хлебу с сыром, впрочем, вкуснее хорошего хлеба с хорошим сыром разве что те же хлеб и сыр плюс солидный пучок зелени, лучше кинзы, Пенелопа предпочитала ее всем прочим травам в отличие от Анук, признававшей только тархун, и отца, облюбовавшего в качестве начинки для «бртучика» кондар, — разнобой пристрастий, гарантировавший домашний мир, во всяком случае, над блюдом с сыром, травками и лавашем. Да, много-много лаваша, сыра, зелени, а также шашлычков, кебабов и прочих незатейливых, но вкусных штуковин съел в разнообразных «ветерках», как в Армении именуют то, что во Франции называют «бистро» (от слова «быстро», хотя ни из бистро, ни из ветерков никто никуда особенно не торопится, даже Мегрэ, которого везде ждут — дома жена, на набережной Орфевр инспектора, в точке икс, еще подлежащей вычислению, преступники, а также журналисты, сценаристы, издатели, режиссеры, читатели, зрители и тому подобное), дядя Манвел, не просто съел, но и запил превосходным коньячком — «Ахтамаром», «Васпураканом», «Наири», «Двином», как минимум «Ани». А что теперь? Теперь перед ним стояли самиздатовские «три звездочки», из тех, что красуются на всех прилавках, ценой в две бутылки «Джермука», и окружение у потускневших небесных тел тоже было бледноватое: домашние консервы, пара тарелочек со сморщенными турецкими маслинами, блюдо с дрянной, то ли краснодарской, то ли ставропольской псевдокопченой колбасой и хрустальная ваза со столичным салатом провинциального вида и запаха (и однако, по какому поводу столько яств?). Неподалеку от салата сидела его автор(ша), необъятная супруга дяди Манвела, единоутробная сестра мамы Клары, иными словами, родная тетя Пенелопы Мадлена или просто Лена, чьи распростершиеся на полдивана телеса наводили на мысль, что салат был не один, но прочие уже — может, даже в процессе приготовления — пошли на восполнение потраченных на этот процесс калорий, дабы поддержать в неизменности две незыблемые горы мяса, ныне с удобствами расположенные друг подле друга в основании пирамиды, которую папа Генрих тайком именовал Еленой не совсем прекрасной. Тайком, потому что Клара, в глубине души гордившаяся неоспоримыми преимуществами своей внешности, вслух всегда была готова предать анафеме всякого, кто осмелился б словом ли, жестом посягнуть на неприкосновенность репутации ее рода-племени (на каком основании она относила лишний вес или короткую шею к обстоятельствам, порочащим репутацию, оставалось неизвестным). Рядом с непрекрасной и даже не совсем Еленой восседала вечно недовольная жизнью двоюродная сестра Пенелопы, носившая катастрофическое имя Мельсида. Называть себя этим именем она запрещала, предпочитая домашнее, как обычно, взявшееся неведомо откуда — Лусик; однако время от времени нахалы, дерзавшие нарушить запрет, отыскивались — вероятно, это и было причиной не сходившего с ее длинноносого лица выражения неудовольствия. А может, причиной был сам длинный нос? Длинный нос, кривые ноги, редкие волосы — даже при весьма поверхностном осмотре подобных достаточно, надо признать, веских причин находились десятки, ибо, как ни странно, комом у дяди Манвела вышел второй блин, первый — по мнению Пенелопы — был в полном порядке. Правда, Вардан, если присмотреться к нему с излишней придирчивостью, мог показаться широковатым, но прямо пропорциональна широте его фигуры была широта его души, за что Пенелопа и любила его щедро в отличие от кузины, к которой относилась ровно, в какой-то степени снисходительно, прощая ей даже умопомрачительные наряды и украшения… пожалуйста, хризопразовые бусы! Прошлым летом Пенелопа наткнулась на такие, где это было, на вернисаже?.. нет, на ярмарке, наткнулась, долго приценивалась, но так и не купила — ох и дура ты, Пенелопа, пожалела поганых пять тысяч российских рублей, а теперь хризопразов больше не видно, и придется тебе доживать свой век без них. Цвет изумительный — и что? Шея-то у Мельсидочки — два сантиметра в длину, сорок в ширину, и бусы это только подчеркивают. Угораздит же человека родиться с такой шеей. Бедняжка!.. Итак, Пенелопа относилась к кузине снисходительно, ровно — но без любви. Да и как любить существо никакое — ни умное, ни глупое, ни хорошее, ни плохое, ни доброе, ни злое, ни, ни, ни. Никаких талантов, никаких достоинств, никаких — хотя бы! — выразительных недостатков. Вот Вардан был веселый, добродушный, музицировал, при всей своей массивности танцевал, двигаясь легко и вертко, а уж врачевал он — будучи доктором, не наук, правда, но по призванию — искусно и душевно, больные млели под его ловкими пальцами, моментально выяснявшими местоположение края печени или выстукивавшими так мощно, что грудные клетки ходили ходуном, исправно выдавая ясный легочный или какой там положен перкуторный звук. Конечно, не был он лишен и некоторых изъянов, питал, например, пристрастие к видео — еще лет пятнадцать назад, когда в Армении вошли в моду посиделки у сего технического чуда, Вардан тоже увлекся, посещал компании, собиравшиеся на домашние просмотры, потом приобрел собственный аппарат, возле которого просиживал ночи напролет, глотая бесчисленные кассеты сомнительного содержания, всякое пиф-паф и ой-ой-ой, иными словами, американские фильмы. Пенелопе американское кино не нравилось, хотя она и не питала к этому виду зрелищ такого отвращения, как sister, заявлявшая, что американские фильмы имеют к искусству отношение не большее, чем, к примеру, сходящие с конвейера итальянские общедоступные туфли из кожзаменителя. «Итальянские туфли красивы, — возражала ей Пенелопа, — и не давят на мозоли». «Вот-вот, — отвечала Анук, — американские фильмы тоже красивы и не давят на мозоли. В том-то и беда. Они баюкают уродства и дефекты».
Неизвестно, что баюкал в себе, сидя у видика, Вардан, но особого развития его дефекты не получили. Правда, он приохотил к протиранию штанов перед экраном и сыновей, чему упорно, но безрезультатно сопротивлялась его жена, небольшая, хорошо сложенная и умело покрашенная блондинка со звучным именем Изабелла (впрочем, она с готовностью откликалась не только на более мирное «Белла», но и на фамильярные «Белка» и «Белочка»), учительница в начальных классах, тихая и благовоспитанная, которая смотрела на мужа с постоянным удивлением, смущаясь, когда он разражался особенно раскатистым хохотом, сопровождавшим им же рассказываемые анекдоты, или садился за пианино, опускал крупные руки на клавиши и извергал неожиданно виртуозные, но непременно громкие — фортиссимо! — пассажи. Что ни странно, шум, производимый Варданом, не тяготил, смех его был заразителен, а голос, похожий на пресловутую иерихонскую трубу, не рушил стен, а, напротив, вселял в души мир и покой… впрочем, он вполне умел понизить его до шепота, вот и теперь, усевшись рядом с Пенелопой, он по-братски подтолкнул ее локтем и тихонечко даже не произнес, а вдунул в ухо: «Ну как там наш Одиссей? Все хитрит?» Пенелопа вздохнула, но за Армена вступилась — какой из того хитрец, он ведь и прилгнуть, когда надо, толком не умеет, не солгать, упаси боже, а прилгнуть. «Ну а прихвастнуть? Это-то он умеет? Конечно, умеет, не хуже настоящего Одиссея». «Разве Одиссей — хвастун?» — удивилась Пенелопа. «А ты не помнишь, как он выпендривался перед циклопом? Огромный такой циклопище, с гору, швырялся человечками, как шахматными фигурками… А этот олух Одиссей… Я тебя ослепил, я, такой-сякой!.. не трепался б, избежал бы кучи неприятностей». Пенелопа остолбенела — надо же так помнить Гомера!.. потом поняла, что любимый ее братец не Гомера штудировал в бессонные ночи. Кино смотрел. А что, вполне современный сюжетец — драки, убийства, циклоп этот жуткий, красотки в хитонах и без… «И Армен твой, — продолжал Вардан насмешливо, — сидел бы тихо, никто его в Карабах не погнал бы. Методы у него, видишь ли. Статеечки, тезисы. На кой черт суету разводить, лечишь себе и лечи. Нет, честолюбие заело. Вот и расхлебывает». Пенелопа только вздохнула, истинная правда, сидел бы, помалкивал, никто б не тронул, а сунулся со своими методами — пожалуйста, езжайте, господин всезнайка, на бывший театр военных действий, лечите героев войны, а верная Пенелопа будет в одиночку отбиваться от настырных женихов, хорошо еще пирующих за собственный счет… Придется, видно, сказать Эдгару-Гарегину, что ответ ему будет дан по окончании вязки свитера, а самой вязать и распускать, вязать и распускать… да-да, не жизнь, а сплошной римейк… «Нет, серьезно, есть от Армена известия?» — спросил Вардан, и Пенелопа уныло призналась, что давно нет, про гипотетических Калипсо с Цирцеей говорить не стала, но все же пожаловалась Вардану на непрочную память его приятеля, и Вардан сокрушенно ударил увесистой дланью себя в грудь, мол, mea culpa, поскольку сам и познакомил Пенелопу с Арменом, хотя и без задней мысли, да и не до мыслей было в тот момент, ни до задних, ни до передних, ибо у еще одной двоюродной сестры, их общей, обнаружилась опухоль мозга, а тут уже никакая кривая не вывезет, только скальпель в руке нейрохирурга да сама эта рука. Руку выбрал Вардан, с Арменом он учился на одном курсе и не то чтоб дружил, но никогда не терял того из виду и, переступив через судороги и вопли родни, особенно родителей страдалицы, настаивавших на профессорах и доцентах, позвонил Армену, практикующему врачу, как объяснил свой выбор обескураженному роду-племени, позвонил и попросил спасти. И Армен спас. Наверняка он спас бы и без звонка, это Пенелопа поняла позднее, познав его характер, спас бы не только в те времена, когда брали не все и по преимуществу когда дают, но и в нынешние, когда тянут все поголовно, совершенно не считаясь с платежеспособностью пациента, полагая, видимо, что рыночная экономика и есть рыночная экономика: одному хватает на операцию, другому на анальгин, а третьему на скромные похороны, надо к этому относиться философски и нечего разводить антимонии. А также церемонии, антиутопии и прочие сантименты. Конечно, сказать, что Армен при виде денег или иных подношений покрывался холодным потом, падал в обморок, хватался за револьвер, словом, начинал корчить из себя работающего единственно из любви к искусству и советскому человеку, а посему бездомного, питающегося воздухом и одетого в рубище святого из большевистских святцев, было бы преувеличением. Само собой, случалось всякое, работал он и из любви к искусству, и из человеколюбия, но принять у зажиточного пациента некую толику на свои насущные нужды не гнушался, как и любой нормальный советский врач, приговоренный государством либо к почетной участи гуманиста, априори обеспеченного ключами к райским вратам, самым узеньким, с ушко иголки для штопки капроновых чулок, в которые не то что богатый, одетый-обутый не пролезет, либо к постоянной уголовно наказуемой деятельности, что неизбежно сопряжено со страхом и унижением. Впрочем, наказывало государство относительно редко, предпочитая, как всякий садист, угрозу наказания самому наказанию, но ни первая, ни второе не способны были отвратить медиков от простой человеческой потребности жить не хуже других. А при возможности и лучше. Эти рассуждения не означают, что Пенелопа одобряла сложившееся положение вещей, теоретически она избрала б в возлюбленные стопроцентного бессребреника, идеалиста, посвятившего себя великому служению, с почти ангельской чистотой помыслов (не говоря уже о поступках), и, однако, тряске в автобусах она предпочитала езду на машине, покупке пирожков на углу (об акридах в пустыне речи нет) — легкий ужин в ресторане или кафе, а открыткам к Новому году и Международному женскому дню — французские духи или бусы из малахита. Нельзя опять-таки утверждать, что она не могла без всего этого обойтись, — обошлась бы, да зачем? В конце концов, не ее же, Пенелопу, он по большому счету кормил, а семидесятилетнюю мать, подкармливал и разведенную сестру с детьми, плюс алименты, которые еще выплачивать и выплачивать на дочку от первой жены… то есть не первой, а единственной, иногда Пенелопе случалось оговориться — не потому, конечно, что мысленно она считала себя второй, а потому что… Ну просто так! Проклятые мужчины, гады и уроды, они ползают у твоих ног и готовы не то что жениться, но отдаться в рабство, надеть ошейник с цепочкой, ходить на задних лапах и носить поноску, а потом… Потом, когда и ты помаленьку созреешь, они — фьюить! Глядишь, закопошился товарищ, поднял голову — не успеешь оглянуться, как он уже стал на все четыре и рычит, рычит… Так, значит, с первой, тьфу, единственной женой Армен развелся задолго до знакомства с Пенелопой, оставил ей, как водится, квартиру… умеют же они устраиваться, эти ловкачки с детьми, квартиру — цап, алименты плати, ребенку то ли позволит с отцом водиться, то ли нет, потом выскочит замуж по-новой, у таких получается, механизм отлажен, сбоев не дает, и, пожалуйста, еще один папа. Первый, то есть, наоборот, второй, ребеночка кормит-поит, от предыдущего денежки капают, вполне, кстати, вероятно, что свежеприобретенный папаша — цеховик или, говоря современным языком, бизнесмен, а отставленный — нищий, но поскольку гуманные советские законы в подобные детали не вдавались, Арменчикина бывшая родственница с мужем и двумя уже дочками обретается ныне в четырех комнатах плюс запертая однокомнатная квартирка про запас, а Арменчик с мамой в двух, раньше втроем ютились, с папой, но в прошлом году папа умер, и теперь Армен живет с матерью, как паинька и маменькин сынок. Правда, в основном-то он обитает в своей драгоценной клинике, там ест, спит и моется, домой ходит белье сменить да сорочку свежую надеть, мама бедная в глаза его не видит, встречается главным образом с грязными рубашками, ибо те пару вечеров в неделю, в которые Арменчик не на дежурстве, он проводит со своей полудрагоценной Пенелопой… проводил, пока не спровадили его пришивать «солдатам свободы» (не метафора, а буквальный перевод с армянского) оторванные руки-ноги-головы. Так он выразился при первой встрече, когда восхищенная Пенелопа — она любила людей, знающих свое дело, — попросила Вардана показать ей того замечательного нейрохирурга. (В клинику она отправилась с охапкой белых гвоздик, гвоздики, правда, натаскали ученики, то был день последнего звонка, но Армен этого, естественно, никогда не узнал.) «Вообще-то опухоли не по моей части», — сказал он скромно, вернее, нескромно. «А что по вашей?» — спросила Пенелопа. «Я… как бы это сформулировать? Ну нервы сшиваю». «То есть пришиваете оторванные руки-ноги?» — уточнила Пенелопа. «И головы», — подтвердил он. «Это хорошо. Жаль только, что нельзя пришить головы тем, у кого их не было изначально», — вздохнула Пенелопа, и он сокрушенно развел руками — увы…
Да, жаль, пришили б, и, глядишь, никому не пришло бы в голову затевать войны… постой, Пенелопа, ты что-то путаешь, как может что-либо прийти в то, чего нет?.. но куда-то ведь приходит! Пенелопа вздохнула уже в настоящем времени и печально положила себе ложку салата. Иностранный майонез, ишь ты! Нет, не все еще промотали и подрастеряли в доме сем, кое-что осталось. Мясо, правда, плохое, одни жилы, и огурцы не хрустят, не умеют в этой семейке огурцы солить, сколько раз им рецепт выдавали, и все без толку. Но вообще ничего, есть можно… А все-таки по какому поводу столько яств? И гостей? Вардан с женой и детьми — ну вымахали оболтусы, жуть, месяц-два не видишь и уже трудно узнать, они растут, мы стареем, да, Пенелопочка, ты давно не почка, еще чуть-чуть — и превратишься в ломкий желтый лист, вот и седой волос у себя нашла! Эх!.. Пенелопа драматично вспомнила, как вчера обнаружила в челке нахальный седой волос, который прямо-таки лез в глаза, седой-преседой, можно сказать, белый! Вспомнила и запаниковала, но потом ее внимание привлек цвет веселеньких кудряшек другой гостьи, Мельсидиной подруги — удивительно, что такая кикимора, как Мельсида, держит в подружках столь хорошенькую девицу, голубоглазую, курносенькую, с локончиками оттенка то ли спелой вишни, то ли красного вина — не морецветного, а обычного, из бокала. «Налей полней бокалы, кто скажет, брат, что мы пьяны» — кажется, так в былые времена папе Генриху нередко случалось петь «Застольную» за этим самым столом, накрытым, разумеется, иначе… Но почему он вообще накрыт? Думай, Пенелопа, думай. Уж не день ли рождения чей-нибудь? Но чей? Дяди Манвела, тети Лены, Мельсиды, Феликса? Ба, а где же Феликс? Пенелопа укорила себя, что не сразу заметила отсутствие Мельсидиного муженька, но тут же дала себе отпущение грехов — ведь заметить отсутствие-присутствие такого не легче, чем присутствие-отсутствие добропорядочного привидения, которое не стонет, не швыряется костями из собственного разболтавшегося скелета, а молча стоит в уголке. Бесцветностью и аморфностью Мельсидин муж превосходил ее самое. Сказать о нем «ни рыба ни мясо» было бы вопиющей несправедливостью по отношению как к мясу, будь то хоть баранина (баранину Пенелопа терпеть не могла) или и вовсе нутрятина, так и к рыбе — любой, морской, океанской, пресноводной, соленой, копченой (семга, лосось, м-м-м, ням-ням) и даже вареной… даже севанскому сигу! Но где же Феликс?
— А где счастливчик? — спросила Пенелопа, посредством простого перевода делая Мельсиде абсолютно незаслуженный тою комплимент.
— В Алма-Ате, — ответила Мельсида с томной грустью.
— Где?!
— Есть такой город, — сообщил Вардан. — Столица бывшей союзной республики Казахстан. Про который роман лауреата Ленинской премии «Целина». Не про город, а про союзную республику. В последнее словосочетание прежде вкладывался какой-то смысл. Забыл, какой именно.
— Повез партию коньяку, — пояснил дядя Манвел, наполняя рюмки. — Вот этого самого.
— Как, Феликс занялся торговлей? — не могла опомниться Пенелопа. — А институт его? Ушел? А диссертация?
— Разве ж он первый? — вздохнул дядя Манвел без печали, констатационно, так сказать. — Теперь все идут в бизнес — научные работники, производственники, актеры, даже писатели…
— Лирики и сатирики, — пробормотала Пенелопа, — физики и шизики. Хотя шизики нет. Шизики все еще пытаются заниматься своим делом. Например, лечить больных. Или учить детей. И много он повез этого самого коньяку?
— Три вагона.
— Вагона? Каким образом?
— По Великому шелковому пути, — сказал Вардан меланхолично. — По караванной дороге через Аравийский полуостров, на барже через Суэцкий канал, Бабэль-Мандебский пролив, Персидский залив…
— Не морочь голову!
— Через Азербайджан, — сообщил дядя Манвел, вновь наполняя рюмки и пытаясь поймать вилкой отчаянно увиливавшую маслину, которую в конце концов подцепил пальцами и отправил в рот.
— Но ведь азербайджанцы…
— Вполне надежные партнеры.
— Да?
— Можешь мне поверить. Я уже имел с ними дело.
— Азербайджанцы — убийцы, — вдруг вмешалась Мельсида. — Ненавижу азербайджанцев.
Пенелопа уставилась на нее, пораженная не столько смыслом слов, и не такое услышишь, сколько интонациями. Какая страсть, гнев, настоящий взрыв чувств, поди подумай, что эта апатичная особа способна на сильные эмоции.
— Азербайджанцы — прекрасные партнеры в делах, — повторил не допускающим возражений голосом дядя Манвел.
— Азербайджанцы — убийцы и насильники. С ними не дела надо вести, а воевать. До полной победы! Да если б я могла, я взяла бы винтовку и пошла на фронт!
— Во-первых, винтовку брали во время гражданской войны, теперь берут автомат. А во-вторых, взяла бы, кто же тебе мешал? Взяла бы и пошла… — Вардан не выдержал и хихикнул: — У-у, представляю себе нашу Мельси-дочку в камуфляже, вот было б зрелище…
Вардан был единственным, кому сходило с рук поминание всуе вождегенного имени, на любого другого Мельсида дулась бы суток пять, а на брата только кинула ледяной взгляд, но тот никак не мог угомониться:
— Ботинки сорокового размера, необъятные штаны с необъятной же задницей внутри…
— Не смей! — возмущенно пискнула Мельсида.
— Да ладно, — невозмутимо сказал дядя Манвел. — Тут все свои. Да и не такая уж большая у тебя попка, детка, не переживай.
Вардан расхохотался, и Пенелопа, к своему смущению, тоже прыснула, правда, успев поднести ко рту кулачок и сделав вид, что кашляет.
— Вы, мужчины, — соглашатели! Уже все забыли, и Сумгаит, и Баку. Они людей на кострах сжигали! А у вас одни деньги на уме!
— Угомонись, дура, — сказал Вардан добродушно. — Муж твой, соглашатель, поехал тебе же на тряпки зарабатывать.
— Не надо мне никаких тряпок! — ощетинилась Мельсида.
— Ах да, ты же собираешься в камуфляже разгуливать.
Перепалка грозила перерасти в ссору, но, к счастью, зазвонил телефон.
— Междугородняя! — Мельсида побежала в коридор, неуклюже семеня на слишком высоких каблуках. Вырядилась. Оно конечно, женщина и дома должна выглядеть на миллион долларов, но ради сохранения равновесия можно б и убавить росточку сантиметров на пять. Убавить прибавленные двенадцать до семи. Авось никто не наступит. В крайнем случае перешагнет. Анук вон тоже невелика, но на ходули не громоздится, а у нее ведь муж длинный, не то что квадратный, словно обрубленный Феликс… небось обрывает провода, спешит доложить, сколько выручил и что купил…
— Алло, — сказала Мельсида жеманно. — Спасибо, дорогой. Отмечать особо не отмечаем, но Вардан с семьей здесь. И Нелли. Еще? Еще Пенелопа…
Неужто все-таки день рождения? Ну и ну! Позор джунглям! Пенелопа мысленно впилась зубами в большой палец левой руки, как обычно поступала, попав впросак и не зная, как выбраться из неудобного положения. И что интересно, это помогало, можно подумать, она высасывала из пальца инструкции.
— Нет, — сказала Мельсида. — Не ходила. Неужели нельзя раз в году, в собственный день рождения, прогулять?
Ай-ай-ай! Ну ты и влипла, Пенелопея, дырявая твоя голова. Миллион раз ведь приходила, кутила, деликатесов переела — вагон, вина выпила — море. Красное море. Белое море. Розовое столовое… А врет-то Мельсидочка… Раз в году! Работяга нашлась!.. Раньше таких работяг в речке топили…
Мельсида договорила, положила трубку и вернулась на свое место подле матери.
— Ну что? — спросил дядя Манвел.
— Скучает, — сообщила Мельсида важно.
— Бо-ольшие новости, — протянул Вардан уважительно.
— Опять ты!..
Уф! Пенелопа набрала полные легкие воздуха, сглотнула слюну и ринулась грудью на амбразуру.
— Прости, меня Лусинька, ради бога! — затараторила она. — Все из-за этих дурацких каникул, журнал заполнять не надо, с расписанием сверяться не надо, календаря дома нет, был у меня в блокноте малюсенький, и тот потерялся, забыла, не помню, убей — не скажу, какое сегодня число… (по правде говоря, Пенелопа понятия не имела, какого числа изволила появиться на свет ее дражайшая кузина, но это ведь не важно, главное — создать впечатление). — Ей-богу, я думала, что еще два дня в запасе, колебалась, спросить, не спросить, получится, что напрашиваюсь, а в наше время… Словом, поздравляю тебя, желаю всяческих благ и… и… — Пенелопа покопалась в сумочке, вытащила крошечный флакончик французских духов — последний! — и протянула Мельсиде. — Извини, что початый… — Понадеялась, что та откажется, но нет, не отказалась, тут же сцапала, муж у самой коньяк вагонами продает, а она берет последние паршивенькие капельки у родной… то есть двоюродной… сестры! Но ничего, Пенелопа, надо быть великодушной, улыбнись, вот так, покажи зубки, сейчас вылетит птичка, еще секунду, готово, можешь улыбку снять и повесить на гвоздик в углу. Нет гвоздика? Ну да, в таких домах гвоздиков не бывает, тут все чин чином, хочешь что-то повесить — вот тебе вешалка, помести свою усмешечку между каракулевой шубой и норковым манто, да поаккуратнее, смотри, не придави тяжестью своей гадкой ухмылки мех, может, она еще и сальная, твоя усмешка, запачкаешь дорогие вещи, оставь ее лучше здесь, под присмотром, положи на шкаф или подоконник… не хочу на шкаф, там наверняка пыльно, ну и пусть ваш поганый мех засалится, отчистите моими французскими духами, все равно их у вас вагон, три вагона… нет, это коньяк — какая разница, коньяк тоже годится, там же спирт, как и в духах… последних, родименьких, любимых… подаренных, кстати, Арменом, ох и дура ты, Пенелопа, не дура, а дурища — дурища ты, Пенелопа!
Пока Пенелопа оплакивала свои утраченные духи, дислокация изменилась: оболтусы ушли в соседнюю комнату — смотреть видик, разумеется, Белла отправилась варить кофе, Мельсида-Лусинэ стала убирать грязные тарелки, а тетя Лена совлекла с серванта блюдо с пирожными — даже! — среди которых Пенелопа, к вящему своему изумлению, увидела выпеченные утром в ее присутствии Карой, продегустированные ею со всем тщанием и одобренные аппетитные кругляши. Может, это не те, а просто похожие? Нет, только Кара ухитряется выписывать кремом такие загогулины, несомненно где-то в ней прячется придушенный, но не до смерти художник или хотя бы дизайнер, да и шприц у нее отличный, привезенный из Германии, куда они ездили вместе, Пенелопа тогда вдосталь напотешилась над Карой, покупавшей то шприц для крема, то карамельную крошку, то белые бумажные подставки под торты, сама она на подобную ерунду не тратилась, предпочла привезти подарки отцу и матери… О боже! Пенелопа, ты же обещала матери позвонить, если будешь задерживаться… а кстати, задерживаешься ли ты? Гм. Десять. В мирное время, конечно, детский час, но теперь… Они, наверно, уже и спать легли. Господи, да неужели уже десять?! Все рушится, помыться до сих пор не удалось, позвонить забыла! А может, не легли? Да разве мать ляжет! Небось уже волосы на себе рвет, либо еще не рвет, но уже ерзает, поглядывает на часы и голосом, в котором все нарастает трагедийный пафос, периодически изрекает: «Генрих, ребенка нет. Ты слышишь, Генрих? Я не понимаю, как ты можешь быть таким спокойным! Генрих!!!» А Генрих катает в кулаке кости и ответствует умиротворяюще: «Не волнуйся ты так, Клара, еще только десять». «Десять? — восклицает Клара. — Боже мой! Уже десять! Какой ужас!» Она вскакивает, бежит к одному окну, к другому, а папа Генрих терпеливо ждет с костями в руке. Конечно! Пенелопе живо представилась темная, вернее, полутемная комната, кое-как освещенная бездарной, криво-косо склепанной иранской или, как говорят в Армении, персидской керосиновой лампой, недавно купленной, довольно дорогой и бракованной, — ну естественно, как бедному жениться… Хотя, может, они все бракованные, чего еще ожидать от такой отсталой страны, видали мы их товары, пластмассовые тарелки да несъедобные ириски, правда, стиральный порошок у них недурен, и печенье более-менее, но это, без сомнения, случайности, а лампа наверняка закономерность, горит неровно, с одного боку язык пламени то и дело взлетает в поднебесье, в смысле, подпотолочье, коптя и осыпая сажей окружающие предметы, в том числе живые существа, которым приходится эту копоть вдыхать, а с другого — огонь еле тлеет и почти не дает света. Бедный папа — в обязанности отца входили заправка керосином и возжигание осветительно-нагревательных приборов, за что Пенелопа окрестила его Лусаворичем, — бедный папа бился с лампой всячески, подравнивал фитиль, подтягивая пинцетом его короткие волосинки и подрезая маникюрными ножницами длинные, доливал и отливал керосин, устанавливал коварный агрегат в наклонное положение — ничего не помогало, лампа упрямо коптила и крайне односторонне освещала события, разворачивавшиеся ежевечерне на том же столе. Ибо каждый вечер на том же столе… или у того же стола?.. беда с этой грамматикой!.. дыша время от времени на зябнувшие пальцы, Генрих и Клара в зимнем обмундировании, но без перчаток сражались в нарды, благо кости в полумраке разглядеть с трудом, но можно в отличие от букв или нот, которые, как известно, пытался разглядывать один только Бах, почему и ослеп, — историю эту Пенелопа знала с детства, всякий раз, как она принималась читать при недостаточном, по мнению отца, освещении, тот грозно предвещал ей горькую судьбу Иоганна Себастьяна. В игре отец и мать словно менялись натурами, бурно реагирующая на любую ерунду от отсутствия в доме картошки до отсутствия там же Пенелопы Клара бросала кости небрежно и с меланхолическим безразличием передвигала то, что по-армянски называется камнями и что для непосвященных выглядит точь-в-точь как шашки. Собственно, это и есть шашки, переставленные с привычной им клетчатой доски на иные, более обширные подмостки, хотя если сделать подобное замечание в присутствии любого достаточно квалифицированного нардиста, тот оскорбится и скажет: чушь и чепуха, это ваши шашки — камни для нард, неудачно пересаженные на чуждую им шахматную доску, неудачно, ибо перипетии игры в нарды куда увлекательнее скучных и монотонных шашечных баталий. Так, во всяком случае, считал папа Генрих, проявлявший за нардами неожиданную экспансивность и взрывной темперамент. Он разражался бурными проклятиями каждый раз, когда широко, с размахом брошенные кости после множества прыжков и кувырков ложились иначе, чем следовало бы. Он горячо переживал проигрыши, и особенно его возмущало, что Кларе, игроку неважному, безбожно везло. «Ты не имеешь права выигрывать! — кричал он, гневно ссыпая камни-шашки в левую половину нард и с грохотом наворачивая сверху правую. — Ты не умеешь играть, выигрываешь не ты, а твое везение. Это несправедливо!» Клара, напротив, к результатам была равнодушна, «катала кости», как выражаются нардисты, не столько ради самой игры, сколько для того, чтобы скоротать бесконечные вечера в обесточенной квартире, где ни книжку почитать, ни телевизор посмотреть, даже обеда и то не сготовишь, не говоря о прочих домашних делах, лавина которых всегда нависает над злосчастной женской головой. Надо заметить, что в длинный вариант нард она играть не умела, только в короткий, а короткому далеко до длинного не только в отношении затрачиваемого времени, но и интеллектуальности, это вам скажет всякий, кто более-менее разбирается в игре, пусть даже найдется немало людей (главным образом женщин, ревнующих мужей к дурацкой доске с кругляшами), у которых прилагательное «интеллектуальный» в приложении к нардам вызовет нервный смех. Пенелопа в отличие от матери в длинном варианте была докой и нередко играла в него с Арменом, но не с отцом, потому бедняге Генриху приходилось довольствоваться коротким, этим бабским суррогатом настоящей мужской игры. Да, скорее всего супруги-соперники и сейчас сидят за нардами, разве что Клара крупно продулась с первого захода и удовлетворенный Генрих, не горя жаждой реванша, позволил ей идти спать. Но Клара спать наверняка не пошла, а если и пошла, то не спит, лежит в темноте и измышляет всяческие ужасы, подстерегающие на неосвещенных улицах пустого, как в сюрреалистическом кошмаре, города ее драгоценное дитя…
После третьего гудка трубку сняли, и Пенелопа услышала немного простуженный голос матери.
— Мама, — сказала она ни вопросительно, ни утвердительно, ибо глупо спрашивать родную мать, она ли это, да и утверждать, что это она, бессмысленно, скорее, слово «мама» — своеобразный пароль, ведь объявить: «Это я, Пенелопа» — тоже сущая нелепица, кто же представляется родной матери? Так что Пенелопа произнесла кодовое слово, секунду помолчала, чтобы дать время на идентификацию своего голоса, и продолжила: — Что вы делаете?
— Играем в нарды, — ответила мать, как и следовало ожидать. — Ты где?
— У тети Лены. Кто выигрывает?
— Я.
— Это ужасно. Как папа? Кричит? Ругается?
— Моментами.
— Посуду не бьет?
— Пока нет.
— Спать не собираетесь?
— Какой уж тут сон, — вздохнула Клара, и Пенелопа чисто машинально задала дежурный вопрос:
— Мне никто не звонил?
— Звонил.
— Кто?
— Не знаю. — Видимо, отец ей что-то подсказал, и она спохватилась: — Ах да, даже двое звонили. Один вроде Армен.
— Армен?!
— А что такого?
— Он же в Карабахе.
— Тогда не Армен, — согласилась Клара с разочаровавшей Пенелопу готовностью. — Я просто подумала… Голос мужской, слышно было плохо. Называться никто из твоих приятелей не помышляет, о том, чтобы здороваться, и речи нет…
Пенелопа решила проигнорировать град булыжников, прибивший ее ухоженный огород.
— Ясно.
— А как тетя Лена, дядя Манвел, Лусик?
— Лучше некуда. Лусинэ отмечает день рождения.
— Как?!
Наступила короткая пауза, потом до слуха Пенелопы донесся сердитый голос матери, распекавшей отца. Надо заметить, что семейные даты находились в ведении папы Генриха, хранившего их все до одной в своей уникальной памяти, из которой не выпадало ни циферки. Он способен был вдруг назвать некое число, допустим, восьмое августа 1972 года, и пояснить, что именно в этот день они всей семьей поехали отдыхать в Гагру, или просто сказать за завтраком: сегодня семнадцать лет назад я в пятидесятый раз спел Риголетто. Посему ему и надлежало вовремя ставить Клару в известность о, например, дне рождения ее же сестры или годовщине смерти матери. «А какое сегодня число?» — спросил Генрих. Клара дату назвала — чего только не знает эта женщина, — и тогда Генрих авторитетно подтвердил, что да, день рождения Лусинэ, ошибки нет. Пенелопе эти переговоры надоели, и она буркнула:
— Ладно, пока.
— Погоди! — возмутилась Клара. — Скажи, когда придешь.
— Не знаю, — уронила Пенелопа небрежно. — Когда-нибудь.
— Темно же, — запричитала мать. — Упадешь в яму, сломаешь шею. Хулиганы нападут, ограбят, убьют…
— Если сломаю шею, уже не убьют, — возразила Пенелопа и рассердилась: — Хватит меня занимать, тут день рождения, а не день выслушивания телефонных разговоров.
— К тому же пирожные сейчас кончатся, — вставил Вардан, перекладывая себе на тарелку очередное — четвертое или пятое — произведение Кары.
— Все пирожные слопали! — всполошилась Пенелопа. — Перестань отвлекать меня, о женщина!
— Пирожные? — печально переспросила Клара. — Ну хорошо, иди ешь. Поздравь от нашего имени Лусик.
— Давай я позову ее к телефону.
— Не надо. Девочке может стать неловко, что она нас не пригласила.
В этом была вся Клара. Гордая. Пенелопа положила трубку и устремилась дегустировать пирожные. «Ты ведь уже…» — напомнила она себе и нетерпеливо отмахнулась — ладно, ладно, не дегустировать, просто лопать, лопать и лопать… Кто же это звонил, а? Не Армен же в самом деле? Какой Армен, Армена нет, исчез, испарился, сгинул, сложил кости в неведомых далях… Странное выражение — сложил кости. Почему сложил, где, как? Наверно, как оружие складывают — поднял руки кверху, проговорил непослушным языком: «Сдаюсь» — и сложил кости к ногам всевышнего… Всевышний — это, надо понимать, тот, кто всех выше? Ростом или по положению?
— А как Ано? — спросил Вардан, удовлетворенно откидываясь на спинку стула и поглаживая себя по животу. — Не звонит?
— Почему не звонит? Сегодня звонила.
— Ну и как? Что у них нового?
— А ни фига, — сообщила Пенелопа, принимаясь за второе пирожное. — Впрочем, что-то было… Ах да, они продали сценарий.
— Какой?
— А черт его знает, — сказала Пенелопа беззаботно. — Этот Ник носится с тысячей идей, нашел, наверно, спонсора на какую-нибудь. Москва ведь нынче набита армянами-миллионерами. Они… — Пенелопа пустилась было в рассуждения о прохвостах-армянах, сколачивающих там и сям состояния, но Вардан не дал ей отклониться в сторону.
— А что за идеи? — спросил он терпеливо.
Пенелопа всплеснула руками.
— Милый мой! Он же мне не докладывает. Раз нашел спонсора-армянина, значит, что-то на армянскую тему.
— А он нашел спонсора-армянина? — Вардан был невозмутим.
— Да не знаю я! Конечно, не нашел. Никакой армянин никогда не даст ему ни копейки. Он хочет, чтобы фильмы на армянскую тематику были на европейский лад. Изящные, остроумные, ироничные. А наши ведь привыкли, что об Армении надо непременно повествовать с надрывом, трагедийно, бия себя в грудь, вырывая волосы и обливаясь слезами.
— И правильно, — вставила Мельсида. — У французов история веселая, пусть они и острят. Изящно и иронично. А у нас трагическая.
— Веселых историй не бывает, — заметил Вардан. — Все истории полны трагедий.
— Но не таких, как наша, — вдруг вступила в разговор до сих пор помалкивавшая хорошенькая подружка Мельсиды, и Пенелопа наконец поняла, почему ее кикимора кузина держит при себе такую милашку. Это же вторая скрипка — та же мелодия, то же скорбное выражение лица… — Кто еще может… — Милашка запнулась, даже чуть покраснела, и Пенелопа ясно представила себе неоконченную фразу целиком: «Кто еще может похвалиться геноцидом?» А почему нет, есть ведь куча людей, которые носят геноцид как орден… Удивительная все-таки штука нация, всегда найдет чем гордиться, жертвы упиваются перенесенными страданиями, тираны — утраченным величием, а те, кто ни жертвы, ни тираны, в восторге от собственной уравновешенности и умения лавировать между теми и другими…
Вторая скрипка поправилась:
— Кто еще пережил геноцид?
— Евреи, — сказал дядя Манвел.
— Ну евреи… да. Но не французы же…
— Вы полагаете, девушки, что пережитый нами геноцид свидетельствует о нашей исключительности? — осведомился Вардан.
— Для тебя нет ничего святого, — заявила Мельсида, гордо вскинув голову. — Я не понимаю, Белла, как ты можешь жить с таким циником!
— Я думаю, что геноциду подверглось множество народов, — задумчиво откликнулась жена Вардана, не вдаваясь в объяснения по поводу своего пятнадцатилетнего сожительства с циником.
— То есть?
— Ну мы же все время говорим, что почти все древние народы Земли вымерли, а мы выжили.
— Что из того?
— Значит, остальные древние народы подверглись геноциду. Так ведь получается?
— Если б я раньше знал, что ты такая умная, — вздохнул покаянно Вардан, — я бы на тебе не женился.
— Почему обязательно геноциду? — возразила подружка Мельсиды, имя которой Пенелопа тщетно пыталась припомнить. — Просто отжили свое.
— Отжили свое, и их уничтожили. Убрали, чтоб не путались под ногами, — предположил Вардан. — Но тогда, возможно, и мы отжили свое, мы и евреи, и теперь убирают и нас, чтоб не путались под ногами у молодых наций.
— Ну почему же уничтожили? — утомленно вздохнула подружка. — Разве они не могли вымереть сами?
— Иссохли, впали в старческий маразм и почили в бозе?
— Не важно, сами они вымерли или подверглись геноциду, — раздраженно вмешалась Мельсида. — Главное, их теперь нет. А мы есть. И не имеем права забывать.
— Вот-вот! Давайте посыпать голову пеплом, рыдать и жаловаться! Только в Европу с этим не лезьте, Европа слезам не верит.
— Почему не верит? — обиделась подружка. — Когда началось карабахское движение, все западные страны были на нашей стороне, все знали, что наше дело правое…
Ну поехали! Самое интересное, что все непременно хотят быть правыми, и правые, и левые, и верхние, и нижние, не просто побеждать, владеть, повелевать, а обязательно быть при этом правыми, никто не желает отказываться от белых одежд, забыв, что на белом красное не только прекрасно смотрится, но и хорошо видно…
— Все-все! Даже американский сенат принял резолюцию…
— Йо-хо-хо-хо и бутылка рому! — ляпнула неожиданно для себя Пенелопа… Осторожно, Пенелопея, что за стих на тебя нашел… известно, что за стих, из пиратской песенки, то-то и оно, перессоришься сейчас со всеми… не со всеми, а с этими двумя дурами… а можно ли не быть дурой при таком имени — Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, полный пантеон, вернее, паноптикум…
— Никто ни на чьей стороне не был, — сказал Вардан, — просто малые страны и народы — всего лишь мелкая карта, всякие там шестерки-семерки, которые опытный игрок небрежно бросает под чужого туза.
— Дядя Манвел, — спросила Пенелопа, — а вы в преферанс еще играете?
Тот развел руками.
— Какой сейчас преферанс, детка! Ни света, ни времени, ни денег. Один из нашей компании перебрался в Москву, другой умер…
— Доигрался, — мрачно подытожил Вардан.
— Какие вы легкомысленные! — возмутилась Мельсида. — Мы же говорили о серьезных вещах.
— Йо-хо-хо-хо и бутылка рому!
— Вардан! Как тебе не стыдно!
— Вообще-то насчет рому начала я, — стыдливо призналась Пенелопа. — Но я больше не буду.
— Будь! Будь, Пенелопочка, — решительно заявил Вардан. — Добыть тебе рому?
— Йо-хо-хо-хо, — радостно согласилась Пенелопа, но сразу поправилась: — Лучше коньяк.
— Сейчас сделаем. — Вардан поднялся, извлек из бара непочатую бутылку, откупорил и разлил по рюмкам.
— Это уже сделали до тебя, — заметила Пенелопа, принюхавшись.
— Думаешь?
— Чую. — Она глотнула и авторитетно объявила: — Ваниль.
«Откровенно говоря, Пенелопея, — поддела она себя, — ты не разбираешься в коньяках ни на вот столечко», — мысленно она отмерила самый кончик ногтя, но, подумав, прибавила еще кусочек, надо быть снисходительной к собственным мелким слабостям, излишняя самокритичность порождает всякие комплексы, да и нельзя быть чрезмерно суровой к такому прелестному созданию — стройному (надо срочно похудеть), изящному и донельзя фотогеничному. Тебе крупно повезло, Пенелопа, вернее, тебе крупно повезло бы, будь ты знаменитостью, например, великой актрисой или литературным классиком, тогда в XXI веке и всех последующих (если они последуют) сильная половина человечества поголовно падала бы в обморок, разглядывая твои фотографии. Интеллектуальные мужчины будущего (маленькие, лысые, с большими головами и окончательно атрофировавшимся кое-чем) влюблялись бы в твои цветные и даже черно-белые изображения, стрелялись, осознав недосягаемость предмета, травились, вешались и совершали иные величественные поступки, на которые совершенно не способны мужчины настоящего (зачастую не менее маленькие, еще более лысые и тоже с изрядно атрофировавшимся кое-чем). Единственное, на что они способны, — обречь тебя на безнадежно скучное существование подле могилы Канта либо бдение у телефона с заглатыванием валидола при каждом его (телефона) мяуканье… опять ты несешь ахинею, Пенелопа, валидол не глотают, а сосут, точнее, держат во рту и ждут, пока он сам себя рассосет, рассосется, и вообще ври поменьше, когда это ты глотала-сосала валидол, никогда. Вот седуксен-элениум пару раз случалось. Глотнешь, приляжешь, и через полчасика ноу проблемс, все само собой рассосалось. А может, и не рассосалось, но это дело десятое, суть ведь не в наличии или отсутствии проблем, а в отношении к ним. Взять вот дядю Манвела с тетей Леной. Проблема у них одна (и не только у них) — с какого боку пристроиться к новому миру, но отношение абсолютно разное. Тетю Лену выставили с работы, просто-напросто отправили на пенсию, с теми, кому под шестьдесят, не церемонятся, вот и Леночку турнули из поликлиники IV Главного управления, где она худо-бедно врачевала лет тридцать (господи, Пенелопа, сколько вокруг тебя медиков, можно подумать, ты их коллекционируешь, хотя на самом деле их просто слишком много, иногда кажется, что половина взрослого населения Еревана — врачи). Турнули, и что? Сидит себе, покорно получает свою символическую пенсию и ждет, пока муж изыщет способ ее прокормить — хотя прокормить ее… проще, наверно, стадо коров сеном обеспечить, глядишь, и мясо с молоком будут… ох и вредная ты, Пенелопа, родная ж тетя!.. А дядя Манвел мечется, хватается за одно, другое, третье, нервничает, худеет, чахнет. Вот и выглядят в комплекте, как перезрелая груша, над которой вьется тощая муха. Опять же Мельсида-Лусик. Для нее и вовсе никаких проблем не существует, как не существовало и при старых порядках. Тридцать два года дуре, и ни дня, ни часа, ни минуты не добывала хлеба насущного («А ты-то добывала?» — благородно спросила себя Пенелопа, вернее, пол-Пенелопы спросило вторую половину… «А то нет? — вскинулась та половина, грозно воззрившись на эту. — Кто консервы на зиму заготавливает, кто покупает по воскресеньям фрукты, пусть не ананасы и не в шампанском… хотя по праздникам раскошеливается и на шампанское…»), не добывала и даже не подозревала, что добывание оного требует каких-то усилий, она с детства привыкла, что в доме есть все, а коли чего-то не окажется, достаточно открыть рот и произнести краткое, но емкое слово «хочу» — поистине резиновый глагол, каких только соблазнительных штуковин в него не вмещается: и черная икра, и французские духи (вспомнив о духах, Пенелопа опять помрачнела и нервно схватила еще одно пирожное), и платья-юбки-туфли-сапоги-шубы-купальники-трусики-лифчики-шляпы-уфф!.. автомобили, круизы, прочие капризы… И мама-папа немедленно доставят все необходимое на дом в достаточном количестве и неизменно превосходного качества, как выражаются идиотские, белозубые, рот до ушей, рожи в телерекламе. И так — последовательно и неуклонно — ребенок был взращен, наделен четверочно-пятерочным аттестатом, введен (непонятно, как еще сформулировать, не вдвинут же) в высшее учебное заведение, протянут за уши через все игольные ушки в виде кафедр, лекторов, ассистентов, экзаменов, снабжен дипломом и удобно усажен на синекуру (это вам не сине-замороженная курица и даже не белый лебедь, это sine cura, без забот, не жизнь, а сплошной первый акт «Лебединого озера») в каком-то КБ. В каком именно, Пенелопа не давала себе труда запомнить, ибо запоминание мест, где не трудятся, труда не стоит, она знала только, что Мельсида владеет некой инженерной специальностью или, точнее, дипломом по некой инженерной специальности, поскольку посещала не филфак или консерваторию, а политехнический институт. Посещала же она не какой-либо иной вуз, а сей рассадник неженских профессий по той простой причине, что связи наиболее надежные, способные выдержать даже тяжесть Мельсидиного неподъемного тунеядско-иждивенческого «я», а стало быть, крепкие, как канаты, и не веревочные, по которым на школьных уроках физкультуры лазают перепуганные ученики, а стальные, из тех, что поддерживают мосты, — подобные связи были у дяди Манвела только в политехническом, где он и сам учился до того, как стать к рулю. Правильнее будет сказать, в очередь к рулю, ибо многомиллионный советский рулевой крутил баранку отнюдь не всеми своими членами. По-видимому, уговор не покидать очередь надолго относился к главным условиям продвижения, поэтому очередники выстаивали в ней чуть ли не круглосуточно, и дядя Манвел тоже горел на работе, а если и не горел, то, готовый к возгоранию в любой указанный партией момент, сидел в своем кабинете с раннего утра до позднего вечера, благодаря чему Мельсида и сохраняла возможность являться в свое КБ не раньше десяти и сматываться не позже двух. Или то была иллюзия Пенелопы? Во всяком случае, позвонив в теткин дом по какой-либо надобности до десяти или после двух, она всегда заставала Мельсиду у телефона, готовую — нудно и малоинтересно — лялякать о чем угодно ради убиения злейшего своего врага — времени. Проблем с убиением у нее стало чуточку меньше после того, как она обнаружила, а скорее была обнаружена Феликсом, протиравшим штаны в научно-исследовательском институте — чего? Только не ЧАВО, работай он в организации, описанной, придуманной, сконструированной, словом, у братьев Стругацких, уши у такого работничка были б волосатые, как у медведя. Впрочем, какой из Феликса работничек, Пенелопе, конечно, знать было не дано, поскольку она не ведала даже, где и кем он работает, она судила просто по его, так сказать, фактуре, по его способности преодолевать тесситуру, как сформулировал бы папа Генрих, или по конституции, как выразился бы Армен. Может, он и двигал науку в неизвестном направлении и сумел бы через сотню-другую лет защитить диссертацию и стать кормильцем семьи — это, разумеется, при условии сохранения прежней системы, позволявшей половине армянской нации ходить юридически на работу, а фактически на кофепития, шахматные турниры, посиделки под веселое бульканье отпущенного на эксперименты spiritus aethylicum и прочее подобное времяпрепровождение в научно-исследовательских институтах, но даже в период бесперебойного функционирования армсоц-механизма он был временно (?) посажен на худую, но крепкую шею дяди Манвела, где уже давно удобно расположилась Мельсида. Впоследствии к супругам присоединился еще один седок (едок) — дочь, точная копия мамаши, теперь уже лет четырех или пяти, спавшая ныне сном праведницы в одной из отдаленных комнат, по существу, в соседней квартире, ибо, невидимый снаружи, как жилище каких-нибудь гномов или эльфов, замок дяди Манвела состоял из двух объединенных квартир. Всего комнат в этом замке было… Пенелопа поднатужилась, пытаясь припомнить все. Так, в первой квартире три плюс четвертая, в которую переоборудовали веранду, сделанную из балкона в три пролета, плюс две комнаты — законные, исходные — второй квартиры, плюс еще один балкон, естественно, застекленный, утепленный и так далее, плюс кухня той квартиры, тоже превращенная в комнатку, правда, небольшую… Это сколько ж вышло? Да, а вторая ванная, что с ней? И что итого? Пенелопа безнадежно сбилась со счета, чему, наверно, способствовал и коньяк, пахнувший то ли ванилью, то ли имбирем, бог весть, в коньяке, как уже было сказано, Пенелопа разбиралась слабо, она знала только, как можно произвести впечатление знатока… Счет счетом, а в этой многочленной или многозвенной квартире мог запросто поместиться и Вардан со всем своим семейством. Мог, но не желал. Жил отдельно, денег у отца не брал — не сейчас, сейчас и брать-то нечего, но и несколько лет назад, когда однопартийным работникам шли в руки не только карты, но и купюры, руки, как говорится, не протягивал. Правда, кооперативную квартиру ему дядя Манвел, естественно, купил, но было это, во-первых, давно, а во-вторых, в те годы квартиры детишкам покупали даже вшивые интеллигенты, однако, на жизнь Вардан зарабатывал сам, даже на машину не просил, это Пенелопа знала доподлинно от матери, которой, в свою очередь, поведала все семейные тайны тетя Лена. Наверняка в этой тяге к финансовой независимости (а заодно и прочим, из финансовой проистекающим) была заслуга и Беллы. Белла ничем особым не выделялась, разве что неразговорчивостью, качеством совершенно неженским. Немногословная, но неглупая… нашлось бы немало людей, по преимуществу мужского пола, конечно, которые выразились бы иначе: немногословная, следовательно, неглупая, но Пенелопа была на сей счет иного мнения, избыток слов она отнюдь не связывала с недостатком ума, поскольку сама к категории молчаливых никоим образом не относилась, а, напротив, с подлинным удовольствием, если не наслаждением, вплетала свой без пяти минут певческий голос в разнообразные женские хоры, потому и она отзыву о Белле «умная» предпочитала формулировку «себе на уме». У себя на уме или на уме у мужа? Обычно именно те, кто себе на уме, успешно седлают умы других. Так и Белла, по мнению большинства родных и знакомых, исподволь, но уверенно направляла действия Вардана, как крохотный жокей заставляет огромного конягу прыгать через препятствия, или капитан небрежно брошенным словом поворачивает целый корабль с одного галса на другой. Впрочем, в отличие от большинства, в том числе неутешной мамы Лены и ехидной сестры Мельсиды (хотя ехидна — слишком сильное определение для самопровозглашенной Лусинэ, по своим характеристикам больше похожей на инфузорию-туфельку или, если внести поправку на ее очертания, инфузорию-башмак, просящий к тому же каши), Пенелопа не считала, что Белла прямо уж и управляет ее любимым братцем, а коли и корректирует слегка его размашистые телодвижения, так это только на пользу, мужчинам и надо время от времени помогать разглядеть, например, малюсенькую калиточку в высоком заборе или пятнышко вопиюще черной сажи на свеженакрахмаленной репутации какого-нибудь кумира, ибо мужчины, эти сухари и бесчувственные колоды, оказываются иногда — ни с того ни с сего и не там, где надо, — романтиками и слепцами. Доверяют лгунишкам, восторгаются кикиморами и сохнут по расчетливым кокеткам. Кстати, Вардан относился к Белле весьма романтически; он был натуральным однолюбом… как ни удивительно… Хотя это у него наследственное, вот и дядя Манвел, помахивая крылышками, вьется вокруг своей далеко не прекрасной Лены, облизываясь и принюхиваясь, словно та источает нектар и амброзию. А интересно, если б отыскался такой олух, который увел бы тетю Лену, обольстил ее, похитил, уволок, — отправился ли б дядя Манвел ее отвоевывать? Пенелопе вдруг припомнилась история, происшедшая года три или четыре назад, в пору бензинового кризиса, с одним из друзей Армена, у которого украли машину, старый, разболтанный «жигуленок» с проржавевшими по нижнему краю крыльями и кузовом. Кому и зачем понадобился этот реликт, осталось неизвестным, возможно, его позаимствовали насмотревшиеся американских фильмов лихие ребята из соседних дворов, во всяком случае, на следующий день машину с пустым баком обнаружили на севанском шоссе, в сорока метрах от поста ГАИ. Обнаружили и вернули исстрадавшемуся владельцу, однако когда через несколько дней Пенелопа встретила его у Комитасовского — бедный Комитас! — рынка, тот, нагруженный набитыми до отказа авоськами, маялся под полуденным августовским солнцем на остановке, среди толпы, наполовину уже схлынувшей на проезжую часть, благо ездить по этой — и любой другой — части никто не думал. Грустно вздыхая, бывший автомобилист поведал изумленной Пенелопе, что машина стоит во дворе, и бензина в гараже аж три канистры, но… «Не могу заставить себя сесть за руль, к которому притрагивались всякие грязные типы. Ну понимаешь, все равно что жену изнасилуют — поди после этого живи с ней»… Дядя Манвел — человек вроде более интеллигентный, но армянский мужчина, он и есть армянский мужчина. Тот же Армен не позволял Пенелопе — в ереванскую-то жарищу! — ходить летом без лифчика. Ему, дескать, неприятны липкие взгляды неудовлетворенных юнцов. Оно конечно, взгляды у юнцов действительно липкие, как полежавшие на солнце леденцы… Леденцы Пенелопа обожала, в детстве и юности особенно любила «Взлетные», примирявшие ее с «Аэрофлотом», пакостной лавочкой, от которой она натерпелась досыта. У иных путешественников взаимоотношения с перемещающими их в пространстве организациями складываются терпимо, а другим — ну не везет, так не везет. Пенелопа относилась к числу последних, каких только приключений в небе и на земле ей не преподнесли персонал и самолеты «Аэрофлота», от вынужденных посадок в неведомых городах до ночевок на голом цементе и даже малоплодородной почве аэродромов. Самолеты и теперь летали абы как, но без всяких «Взлетных», любимые леденцы испарились, истаяли, рассосались столь же незаметно, как и ириски «Кис-кис», «Забава», «Ледокол», и поди узнай, кто ныне забавляется, разматывая разноцветные бумажки, укутывающие «Забавы», чьих алчных зубов желтоватые айсберги стискивают шоколадного оттенка «Ледоколы», каких кошечек подманивают сгущенно-молочным вкусом «Кис-киса»… Правда, прошлой зимой в Москве Анук неожиданно высыпала перед Пенелопой на белый кухонный стол целый кулек самых настоящих «Барбарисов», ярко-алых леденчиков, словно перепрыгнувших в бесцветное настоящее из красочного детства, Пенелопа впала в экстаз, и конфеты были немедленно окрещены смыслом жизни, что позднее трансформировалось в веселенькое «смыслик». «„Смыслик“ хочешь?» — спрашивала Анук, выгребая из сумки покупки, и Пенелопа с радостным воплем выхватывала прозрачный мешочек, в котором высвечивались вожделенные «Барбарисы» вперемешку с «Дюшесами». Но «Взлетных» так и не появилось. Пенелопа ностальгически вздохнула и пересела поближе к Белле, которая задумчиво разглядывала коричневого медвежонка, венчавшего серебряную ложку. Продавались когда-то такие ложки, их покупали в подарок детям, и лет пятнадцать назад они были буквально в каждом доме, потом постепенно исчезли из магазинов и почему-то из домов, можно подумать, ребятишки их потихоньку съедали, начиная, наверно, с дальнего от медвежонка конца и к совершеннолетию добираясь до несчастного зверька… Или сначала скусывали косолапого (это более кровожадные, тут уже вопрос характера), потом по кусочку весь черенок и только в конце… как называется нижняя часть ложки, то, чем зачерпывают, не черпак же, черпак — другое… Труднее всего отыскать название самым обыденным вещам или описать их; чтоб такое суметь, надо быть… ну хотя бы учительницей в начальных классах.
— Скажи, Белла, — спросила Пенелопа, — ты смогла бы описать ложку? Ну, предположим, сцапали тебя пришельцы и доставили прямиком в Туманность Андромеды. А там ложек сроду не водилось.
— Смогла бы, наверно, — сказала Белла неуверенно.
— А когда их придумали, ложки эти, случайно, не знаешь?
— По-моему, веке в десятом.
— Вот те на. А как же ели суп римские императоры? Туфлями, что ли, черпали?
Белла засмеялась:
— Вряд ли. Они же носили сандалии.
— Да, верно. Сандалии — это в лучшем случае дуршлаг.
— Может, они вообще не ели супов?
— Может. Вот и вымерли. Вслед за мамонтами и динозаврами, которые тоже супов не ели. Логично?
— Логично, — согласилась Белла. — Пойду домой и сварю суп. Вардан, слышишь? Завтра ты получишь к обеду суп. И вообще мы отныне будем питаться супами.
— Зачем? — спросил Вардан.
— Чтобы не вымереть. Как динозавры, мамонты и древние римляне.
— Они не ели супов? — догадливо спросил Вардан.
— У них не было ложек.
— Трагично.
— Более того, это катастрофа, — уточнила Пенелопа.
— Разумеется. Вроде ледникового периода или прохождения сквозь хвост кометы.
— Разве было прохождение сквозь хвост кометы? — усомнилась Пенелопа.
— Кто знает, — ответил Вардан философически. — Это могло случиться в незапамятные времена. Когда армян и тех не было. Равно как и супов.
— И ложек, — добавила Пенелопа педантично.
— Что за чушь вы несете? — удивилась прислушавшаяся к разговору Мельсида-Лусик.
— Чушь? А в чем ее, кстати, носят? — обратился Вардан к Пенелопе. — Она ведь тяжелая.
— Чушь не тяжелая, чушь прекрасная, — сказала Белла.
— Она разная, — заметила Пенелопа примирительно. — Бывает тяжелая, ее таскают в больших плетеных корзинах с двумя ручками, чтоб браться вдвоем, одному не поднять. Встречается легкая, ту можно положить даже в бумажный кулек. А прекрасную и вовсе носят в волосах или на платье вместо брошки.
— А эта какая была?
— Эта? Стопудовая. Как чугунная тумба, к которой пришвартовывают катера. Или нет, я спутала, легонькая, как мыльный пузырь, вон она летит, видишь?
— Вы что, издеваетесь надо мной? — грозно спросила Мельсида.
Вардан раскрыл объятия.
— Ну что ты, солнышко! — воскликнул он, пытаясь поймать в них сердито увертывавшуюся сестру.
— Не солнышко, а лунка. Во льду, — не удержавшись, уточнила Пенелопа… Господи, Пенелопея, неужели ты никогда не научишься придерживать свой язык — не язык, а язычище, длинный, как канат, которым катер пришвартовывают к этой самой тумбе… ну и надо смотать его в бухту — бухту-барахту!.. и запечатать сургучом, чтоб не барахтался, а лежал чинно и не ссорил хозяйку с кузинами, мазинами и прочими зинами… Фу, Пенелопа, постыдилась бы, Мазина, бедняжка, ведь умерла, оставь ее в покое, дуреха! А Зина развелась с мужем и уехала. Куда? В Америку, естественно, куда еще бедному армянину податься. Зина, двоюродная сестра Армена, прихватила малыша — ну такой очаровашка, четыре с половиной года — и махнула в Америку к тетке, а поскольку к теткам насовсем не пускают, поехала по гостевой визе и осталась, многие так делают, Америка большая, поймают не скоро, да и не ловит никто, лень возиться, что ли. Тетка не то чтоб богатая, но дом свой, места хватает, приютила Зинулю, работенку ей какую-то нашла — то ли убирать, то ли стирать, то ли за чужим дитем бегать, оставив собственное на теткином попечении, а что, милое дело, это тебе не в издательстве корректором глаза гробить, физический труд, здоровый образ жизни, и платят лучше, восемьсот долларов в месяц или около того. Тетка, между прочим, у них с Арменом общая, Армен одно время угрожал, что тоже уедет, сложит вещички, сделает ручкой, и скандаль, Пенелопочка, с кем-нибудь другим (будто она такая уж скандалистка, вечно эти мужчины преувеличивают, поссоришься раз в неделю, тут же скандалисткой обзовут, а что за жизнь без ссор, серые будни, обыденность и однообразие), но потом спьяну как-то признался, что треплется. «Я же, Пенелопа, не полный идиот, что мне в этой Америке делать — ящики разгружать? Или в ночные сторожа податься, как братец твой? (Братец, старший из трех Пенелопиных двоюродных, работал на заводе начальником конструкторского бюро, а там, в Штатах, переквалифицировался в ночные сторожа, и Пенелопа нередко задумывалась над тем, так ли он доволен своей судьбой, как пишет.) Ночью вкалывать, вернее, торчать без сна и без дела где-нибудь в магазине, днем дрыхнуть, а вечером ходить в бар, пить виски с содовой и объяснять на пальцах приятелям-забулдыгам, какие я в своей отсталой стране операции делал? Нервы сшивал, ставил на ноги калек, был спасителем, отцом, богом, человеком, наконец, а теперь зато у меня есть газовая плита из тех, что зажигаются без спичек, посудомоечная машина, бассейн во дворе, деньги на виски с содовой, джинсы, „в которых выросла вся Америка“, и прочее разрекламированное барахло». Когда Пенелопа заметила, что от его речей попахивает коммунизмом, он пожал плечами. «У каждого не только своя дорога в рай, но и сам этот рай у каждого свой. Для меня рай — моя операционная, и все, точка». «А я? — поинтересовалась Пенелопа с иронией. — Я, как понимаю, не ангел в этом раю, ангельские должности давно расписаны между твоими операционными сестрами, но, надеюсь, и не черт в аду?» «Почти что черт. Ты гурия, отвлекающая меня от моих обязанностей». «Ну какие в раю обязанности, — засмеялась польщенная Пенелопа, — только гурий и ласкать». «Это в мусульманском раю, — ответил Армен насмешливо, — а в христианском вся команда бестелесна и асексуальна». Да, ведь раи-то разные, и сады, и золотые города, и небесные сферы — похоже на ярусы коек в вагонах или казармах, просто ярусов больше… опять же реки из молока, меда, вина — на любой вкус… А также на любую физиологию, от рая для импотентов, где все братья и сестры, до рая для сексуальных маньяков, набитого красотками. То же самое с индивидуальными моделями — сколько людей, столько и вариантов блаженства. Пенелопа стала задумчиво переводить взор с одного сотрапезника на другого, пытаясь идентифицировать смоделированные ими по своей мерке райские кущи. Вряд ли, конечно, рай Вардана аналогичен Арменовому и замкнут в пределах терапевтического отделения, которым он заведует, да и Белла, надо полагать, не мнит ангелами своих первоклашек и второклашек, но кинутся ли они сломя голову в общедоступный потребительский рай, похожий на огромный универмаг или, в ереванской модификации, субботне-воскресный вещевой рынок на стадионе «Раздан»? Хочется думать, что нет, но кто поручится, тут за себя ручаться не смеешь, двоюродный брат-конструктор тоже в юности стихи писал. Вот с Мельсидой разобраться проще — как начнут пускать народ в этот рай-универмаг, она немедленно займет очередь. Тетя Лена наверняка составила бы дочке компанию, не будь она столь ленива, скорее она расположится поудобнее на диване и станет ждать той путевки в райские санатории, которую организует ее муж. А муж? Ну, рай дяди Манвела, который можно по праву назвать потерянным раем, находился, без сомнения, в его бывшем кабинете площадью в площадь, пусть не Республики, но о-очень немаленьком, с кондиционерами, длинным столом для заседаний, строгой темной мебелью и непременно приемной, где под суровым оком секретарши вечно толпился или, вернее, переминался с ноги на ногу народ-правдоискатель, а может, благоискатель, искатель великого множества благ, каковые раздавали в подобных кабинетах — по кусочку, по шматочку, лоскуточку, крошечке, ниточке, не забывая время от времени и себе отрезать изрядный ломоть. Особенно, наверно, приятно развалиться в уютном финском кожаном кресле, вытянуть ноги на пушистом ковре под столом, небрежно бросить секретарше: «Меня нет» — и, потягивая кофеек, с улыбкой прислушиваться, как она там, в приемной, то и дело снимает трубку с телефона, трезвонящего что твоя несмолкаемая колокольня, и врет, врет, врет… Ладно, с остальными более-менее разобрались, а каков твой рай, Пенелопа? С любимым в скромном шалашике эдак в миллион долларов плюс еще миллиончик-другой на счету? Ну зачем же так грубо, деньги — это ведь не только жратва и тряпки, это еще и хорошие книги, картины, концерты, театры, «Ла Скала», Париж… Конечно, иногда не мешает и слегка перекусить или помыться… О господи! Уже половина одиннадцатого, идти еще куда-то поздно, отправиться при всех купаться неудобно, остается стоически жевать очередное пирожное в надежде пересидеть прочих и дождаться обещанного вознаграждения. Обещанного кем? Если б существовал бог Гигиений или Чистотел, он наверняка наградил бы наивернейшую служительницу своего культа хорошим душем… Да, рай, без сомнения, не что иное, как вылизанная и отполированная до блеска ванная комната: стены в ней выложены черным кафелем, ванна голубая или сиреневая, а из темного зева душа бьет пышной, как букет полевых цветов, струей горячая вода… Пенелопа зажмурилась, представляя себе сию обитель вечного блаженства, но тут что-то кольнуло ее в зашедшееся от воодушевления сердце, и некий, то есть совсем и не некий, а свой, родной, любимый (хотя, признаться, поднадоевший бесконечными нравоучениями) внутренний голос укоризненно вопросил: «И это все? А цель? А сверхзадача?» «Фи, — ответила Пенелопа, — ты еще спроси у меня, в чем смысл жизни?» «В чем же?» — немедленно подхватил собеседник. «А ни в чем. Жизнь не имеет никакого смысла». — «Зачем тогда вообще жить?» — «Слушай, ты, отвяжись! Что тебе тут, пресс-конференция? Брифинг? Презентация, фуршет, партийный коктейль? Так я и вовсе беспартийная, так что иди гуляй!» И Пенелопа решительно придвинула к себе пустую рюмку.
— Вот именно, — сказал Вардан и потянулся за бутылкой.
— Последняя, — предупредила Белла и крикнула: — Мальчики, закругляйтесь, уходим!
Пенелопа возликовала — она любила Вардана и рада была пообщаться, но ее неутоленное тело бунтовало и требовало своего. А чего может требовать тело? Правильно, бани. Вообще-то тело требует многого, о-о-чень многого, куда больше, чем душа (и чем больше требует тело, тем меньше, как правило, требует душа, обратно пропорциональная зависимость, математика, а с математикой не поспоришь). И Пенелопино еще молодое, хорошо сложенное, туго обтянутое кожей нехудшего качества, некрупное, но видное тело тоже требовало немало разнообразнейших приятностей — но не в данный момент. В данный момент оно даже — страшно сказать! — было абсолютно асексуально, как праведники в христианском раю. Ибо какой же секс на немытое тело!
— Ну что, Пенелопея? Одевайся, мы тебя подвезем.
— Спасибо, я еще побуду тут, — отозвалась Пенелопа.
— А как ты домой попадешь?
— Да как-нибудь.
— Может, у нас останешься? — спросила тетя Лена, чуть позевывая.
— А что, это идея. — Пенелопа решила позевывание игнорировать, впрочем, иного выхода у нее не было, в противном случае следовало обидеться, собрать вещички и удалиться несолоно хлебавши, вернее, несолоно окунавши. Да ладно, родная ж тетка, просто ленива до самозабвения — вроде Фигаро, если верить его монологам, и избалована околопартийным беззаботным бытием (когда-то в этом доме даже домработница водилась). Пусть себе зевает. Надо же продемонстрировать, что она выбилась из сил, валится с ног (вагоны разгружала?), что жизнь невозможно утомительна и тяжела (то ли еще будет!), что… И вообще, мир — театр, люди… Хотя теперь уже нет, теперь мир больше напоминает публичный дом, все предлагают себя — от политиков до писателей…
Наконец дверь за гостями захлопнулась, и Пенелопа, дрожа от нетерпения, повернулась к Мельсиде:
— Давай включай этот ваш бойлер.
— Да он все время включен, — сказала та снисходительно. — Иди мойся.
И Пенелопа пошла.
Обретенный рай,
или
Погружение в нирванну
Интермедия в маньеристском стиле с элементами рококо и вторжениями грубого реализма
Приотворив дверь в ванную, Пенелопа погрузилась в горестное раздумье. Ну почему бы, скажите на милость, Мельсиде-Лусик не быть веселой, обаятельной, общительной, не тем, что в армянском обиходе бесцеремонно, но сочно называют «хоз», имея, видимо, в виду надутую морду с поджатыми пятачком губами… видимо, в виду — это у тебя, высокочтимая филологиня, вышло недурственно, — видимо, ввиду выдающейся видимости видно видимо-невидимо видов и подвидов в виде видений и видных индивидов… Красотища! Патриот своей родины, самая лучшая половина, другая альтернатива… Альтернатива совершенно непригодной для частого общения Мельсиде имелась, ее представляли своими персонами Кара, Маргуша, Джемма, но тогда следовало довольствоваться их и только их свето-водными возможностями, а будь Мельсида человеком, еженедельное мытье в такой ванной из области случайных событий переместилось бы в категорию вероятных и даже неизбежных.
О эта Ванная! Вспыхнул свет, и Пенелопа переступила порог с трепетом душевным и скрежетом зубовным, последний проистекал из черной, как дядя Том, зависти, отмыться от которой было проблематично даже в подобной неописуемого желтовато-телесно-бежевого, возможно, горчичного или кофе с молоком… о нет!.. молоку не хватает аристократизма — кофе со сливками, и не простыми, а взбитыми… цвета кофе со взбитыми сливками ванне. Ах какая ванна! С идеально ровной, без единого пятнышка, царапинки, шероховатости, отливающей перламутром эмалью. С восхитительно плавной покатостью склонов, напоминающей покатость плеч придворной красавицы, да не современной угловатой модели с костлявыми квадратными плечищами, над которыми, как ермолки на белых главах академиков или Тибет на приятной округлости земного шара, торчат окончания ключиц, нет, плеч Элен Безуховой или иной модно раздетой светской дамы из эпохи приемов, балов и салонов. Ах какая ванна! С загадочными дырочками на дне, в лучшие времена, наверно, извергавшими тугие тонкие струйки, которые мягко ласкали пребывавшее в сладостной истоме погружения в жидкость-прародительницу, частичку океана тело, — а может, из них выскальзывали серебристые жемчужинки пузырьков, взмывавшие вверх, как крохотные стратостатики, нежно, словно губы влюбленного, прикасавшиеся к разгоряченной коже и лопавшиеся на слабо волнующейся поверхности с легким чмоканьем поцелуя. К сожалению, выяснить тайну дырочек Пенелопе не пришлось, ибо для глубоководных исследований содержавшейся в бойлере влаги было явно недостаточно — впрочем, на обычное купание воды хватало с лихвой, добрая сотня литров вожделенной, кипящей, дымящейся жидкости, заключенной, как блистающий бриллиант в выложенную бархатом коробочку, в новенький, сверкающий эмалированный бак, белый, словно платье невесты, если не ее репутация. Под обычным купанием понималось омовение (слово «мытье» в подобной обстановке звучало слишком вульгарно) под душем, волшебная легкость рождения этой формулировки заставила Пенелопу слегка улыбнуться — сколь просто мы возвращаемся к восприятию вещей, казалось, навсегда покинувших если не мир наших мечтаний, то мир нашего разума, не говоря уже о мире реальном, ибо в реальном мире, в отличие от того почти метафизического, в котором она нежданно очутилась, под обычным купанием понимали обливание дрожащего в стылой атмосфере нетопленого помещения тела водой, согретой с помощью допотопного, но мощного кипятильника в большой, некогда обеденной кастрюле и переносимой к месту назначения в ковшике, что, в свою очередь, предполагало выделение одной верхней конечности на перемещение этого нехитрого, но удобного приспособления и, как следствие, осуществление всего процесса мытья единственной оставшейся. («Первое, что сделаю по приезде в Париж, — сказала Кара, — помою голову. Обеими руками».) Вот когда пожалеешь, что обезьяна, вконец доэволюционировавшись, утратила две лишние — а на самом деле необходимые — руки, трансформировав их в ни на что не пригодные ноги… «Как это ни на что?» — одернула себя Пенелопа, скатывая с бедер к стопам свои лайкровые леггинсы и внимательно обозревая обнажавшиеся в ходе этого действия две стройные, отнюдь не обезьяньи конечности, — в прекрасном всегда есть нужда, красота, как известно, спасет… непонятно, правда, что конкретно она призвана спасти — мир, который антоним войны, или тот, который глобус. Первое маловероятно, ибо немало войн возникало из-за красоты или невозможности поделить эту красоту на всех, взять хотя бы Троянскую войну, а второе вообще абстракция, ибо спасать глобус нужно как раз от красоты в понимании человека, ведь злейший враг глобуса — сам человек, ничтоже сумняшеся считающий себя не только авторитетом в области прекрасного, но даже и его персонификацией. Венец творения, видите ли! В балетный зал его, этого человека, к зеркальной стене, всунутого в трико как есть, с пузырящимся пузом, плоской задницей, кривыми ногами и прочими прелестями. И не говорите мне о балеринах, прекрасен балет, а балерина вблизи — малоизящное сочетание грубых узловатых мускулов с нетуго обтянутыми кожей костными выступами и ребрами, на которые свисают две дряблые складки, заменяющие грудь. И вообще, о какой красоте идет речь, когда эталоны таковой определяет мода в диапазоне от рубенсовско-ренуаровских жирных телес до скрепленных шарнирами жердей… Пенелопа повесила леггинсы на белый, хищно изогнутый клык вешалки, присовокупила к ним длинный оранжево-желто-коричневый свитер, самолично связанный и окрещенный «Осенней симфонией», сбросила белье и ступила босыми ногами на — о чудо! — совсем не холодные, выложенные замысловатым узором черно-бело-бежевые плитки пола, гармонировавшие с кафелем цвета какао и излучавшим мягкое ровное сияние подвесным потолком, вобравшим в свои пустоты всю мерзость обратной стороны очищения — канализационные и прочие трубы. Новенький, свернутый пружинящим, жаждущим расправиться кольцом душ сверкал никелем, Пенелопа сняла его с подставки, и он зазмеился на дне ванны, маняще поблескивая колечками своей металлической шкурки. Как лебединые шеи, изгибались трубы для сушки, изящных очертаний рокайль раковины обнимал снизу огромное овальное зеркало, врезывая в отражение полускрадывавшей ванну шоколадной с большими белыми цветами пластиковой занавески причудливый абрис новомодного крана, похожего на втянутую в плечи голову марабу с плоским, неизвестным способом размыкаемым клювом — Пенелопа подергала за него, но клюв открываться не желал, марабу хранил молчание, можно было б сказать, набрал в рот воды, и это оказалось бы чистейшей правдой. Тут взгляд Пенелопы упал на широкую полочку, заставленную бутылочками и баночками, и марабу в мгновение ока вылетел из силков ее путаных мыслей, махнул, наверно, к себе в Африку, он ведь африканец? Не ходите, дети, в Африку гулять… Спрашивается, почему? В Африке небось теплынь, вечное лето, бананы и алмазы… Хотя алмазы далеко, на том конце. Зато пирамиды на этом. Пирамиды, сфинксы, верблюды, пальмы, пески — правда, там ползают крокодилы и террористы… Так. Шампуни, кремы, дезодоранты… да-а, из этого дома велась интенсивная стрельба по озоновому слою, куда интенсивнее, чем террористами по человечеству. Пенелопа застонала от зависти, дезодоранты были ее слабым местом, ахиллесовой пятой… Ахиллесово Ахиллесу, а свои пятки вкупе со всей подошвой она дезодорировала усердно и обильно, не говоря уже об иных, более укромных местах и местечках; по идее, она нуждалась не в баллончиках, а баллонах дезодоранта, огромных, красных, в каких держат сжиженный природный газ, да не пятикилограммовых, пузатых и низкорослых, как славно попировавшие гномы, а высоких, солидных, на двадцать килограмм — нажмешь такому на головку или, вернее, главу, и целое облако с нежнейшим запахом французской парфюмерии разворачивается в воздухе, плывет, окутывает тебя с макушки до пят, пропитывая несказанным благоуханием все клеточки твоей кожи… Ах какие дезодоранты! А шампуни! Пенелопа на мгновение (которое поистине стоило бы остановить) растерялась перед коллекцией бутылок и флаконов разнообразной формы, заполненных густыми, тяжело переливавшимися, ярчайших цветов жидкостями, затем, перенюхав десяток, отобрала миндальный и, прижав его к груди, забралась в ванну. Задернув занавеску и отгородившись тем самым от мира — не более, впрочем, чем романтическая дева, сбежавшая в монашескую келью от неразделенной любви, но прислушивающаяся денно и нощно к стуку копыт под окном в надежде, что раскаявшийся неверный любовник последует за ней и в монастырь, ибо мир утомителен, но и привлекателен, — Пенелопа произвела ряд абсолютно случайных манипуляций с клювом еще одной птицы той же породы, а именно надавила, потянула, подергала, сделала безуспешную попытку крутануть, наконец, шлепнула по нижней поверхности, и — свершилось! Теплая вода, мягко журча и хрустально посверкивая, полилась тонкой, как стебель лилии, струйкой, достигла крохотного зеркальца, в которое с помощью белого перламутра был превращен ноготь большого пальца Пенелопиной ножки (могучая штука суффикс — то лупа, то перевернутый бинокль), и стала растекаться вокруг ее ступни прозрачной лужицей… фи, Пенелопа, какая проза, не лужицей, а озерком! Боясь потерять хоть малую каплю драгоценной влаги, Пенелопа поспешно переключилась на душ, направила тугой сноп колючих, как колосья, струй на свое истосковавшееся по обычному (!) купанию тело и замерла в неподвижности, постепенно погружаясь в нирвану. Нир-ванну! Блаженство. Элизиум. Пенелопа среди любимцев богов. Пенелопа среди героев. Широкогрудых, мускулистых, красивопоножных и пустопорожних, способных лишь махать мечами, копьями и прочими мужскими орудиями, скудоумных и любвеобильных. Какие возможности, приключения, коллизии. Коллизии — но не в Колизее, не было тогда Колизея. По-латыни — Колоссео. Колоссальные коллизии в Элизии. Пенелопа, ты сбрендила. Вернее, сконьякила. Сводкила. Сджинила. Что еще ты успела сегодня распробовать? Шампанское, виски… как та кошка-алкоголичка. «Ваша киска купила бы виски». А наша? Эдгар-Гарегин называл ее киской и покупал ей — якобы ей — виски «Белая лошадь». И тут раскрывается занавес, и въезжаю я на белом коне… на серо-буро-малиновом «Мерседесе». Кто сказал, что женщины любят победителей, чушь на топленом масле, маргарине, свином сале, разъезжайте хоть на конях, хоть на «Мерседесах», на конях, впряженных в «Мерседесы», на «Мерседесах», груженных конями, создавайте коневодческое хозяйство, ранчо, автозавод, финансовую империю — это вам не поможет, скатертью дорожка, шоссе, авиалиния… Но с другой стороны! Если кто-то полагает, что мир полон Пенелоп, ткущих, прядущих, плетущих и вяжущих все двадцать лет, в течение которых их Одиссеи перебираются с островков, колонизированных кикиморами Цирцеями, в гроты, приватизированные уродинами Калипсо, они горько ошибаются. Очень горько. Левомицетиново. Вон, прочь, долой! Пенелопа пьяно хихикнула, ей кружил голову радостный хмель освобождения — от грязи, толстой коркой покрывавшей, как ей казалось, ее смуглую кожу, от Эдгара-Гарегина, некстати высунувшего нос из прошлого, уже всосавшего его по макушку, как зыбучие пески, от Армена, которого уносил в никуда вихрь приключений, швыряя и переворачивая в воздухе, словно клочки предвыборных плакатов с фрагментами лиц и обрывками несбыточных обещаний. Ласковая вода, щедро сдобренная шампунем, текла по ее груди и животу, пенясь и шипя, как шампанское, переливающееся за край бокала. Пенелопа вообразила себе этот бокал — узкий, высокий, на тонкой, длинной ножке, изящный и звенящий, такому она могла себя уподобить, бокалу шампанского, которое манит и пьянит, мужчины лежат штабелями, а она проходит мимо, далекая и холодная, хотя и слегка кокетливая, как молодая, тоненькая, гибко выгнувшаяся луна. А они лежат, и лежат, и… Пенелопа подвинулась в ванне так, чтобы оказаться напротив зеркала, немедленно принявшего в свою орбиту ее тело от колен до скрученных на макушке волос, мокро поблескивавшее, обнаженное за исключением участков, скрытых под островками мелкоячеистой белой пены, — похоже на торт «Улыбка негра» в процессе приготовления, когда безе еще не размазано по коржу, а нанесено отдельными кучками… хотя истинная «Улыбка негра» получилась бы в прошлом году, тогда ведь удалось полежать на солнышке и благоприобрести подлинно шоколадный оттенок. Вкусная была штуковина, эта «Улыбка» — толстый корж, напичканный какао буквально дочерна, покрытый хорошим слоем безе, а поверх него еще и глазурью, замечательной шоколадной глазурью по рецепту Маргуши, оберегавшей свою тайну, как КГБ и ЦРУ секреты дислокации ядерных ракет, и только Пенелопе, удивительной Пенелопе, которая ухитряется сочетать в одном лице и торт, и шампанское, и… хорошо, что не черную икру, осталось только рыбой вонять. Пенелопа размазала пену губкой по животу, груди, бедрам… ох уж эти бедра, где взять денег на творог, надо срочно… хватит, Пенелопа, сколько можно повторять одно и то же! Да, но положение все ухудшается, оно уже хуже губернаторского… А что, спрашивается, худого в положении губернатора? Нам бы такое, вместе с губернаторским домом и жалованьем. Пенелопа, губернатор Эриваньской губерний. Или губернаторша? А губернатор кто? Нет уж, дудки, мы сами с усами… да, усы проглядывают, пора их обесцветить, только где достать пергидроль? Пенелопа почему-то нещадно боролась с еле заметным пушком на верхней губе, подвергая свое безвинное лицо периодическим прижиганиям крепчайшим пергидролем, — впрочем, не единственно усы омрачали ее небезмятежное существование, боролась она и с естественным цветом своей кожи, правда, не столь радикально, как Майкл Джексон, но не менее настойчиво и постоянно. Увы, жизнь женщины — это сплошная борьба, вечный бой. За худобу бедер и полноту груди, за огромность глаз и малость носа, за густоту волос на голове и отсутствие их на теле, за частую смену нарядов и редкую — мужчин, за семью и любовь, наконец. Обычно женщины борются за две последние категории одновременно, параллельно (и последовательно) — одни за любовь, переходящую в семью, другие за семью переходящую в любовь, некоторые только за семью, и очень мало кто — за одну любовь. Пенелопа не боролась ни за то, ни за другое, она словно стояла на необитаемом острове и смотрела, как подплывают яхты, каравеллы, бригантины, даже океанские лайнеры, груженные любовью. Большинство околачивалось на рейде, не получая разрешения подойти поближе, некоторые пришвартовывались к причалу, но в итоге и те и другие уплывали, не удосужившись стать на прочный семейный якорь. Многие женщины в подобных случаях не чураются повиснуть на якорном канате и втянуть цепкий, безнадежно увязающий (если за дело взяться основательно) крюк в воду и далее в фунт тяжестью собственного тела. Но Пенелопа таких штук выделывать не умела. Да и не хотела, черт подери! Она остервенело надраила губкой порозовевшую кожу, пристроила душ на подвеске и только-только стала вновь погружаться в нир-ванну, из которой ее исторгли мысли о враге женской половины рода человеческого (отнюдь не сатане, сатана казался ей субъектом в общем-то безобидным, ну дал Еве яблоко, так ведь, в сущности, добра ей желал, не будь она такой дурой, съела б фруктик одна, поумнела б и стала вертеть олухом Адамом во все стороны), как в дверь постучали. Пенелопа застонала.
— Пенелопа! — крикнула Мельсида. — Тебя к телефону.
— Я моюсь.
— Открой, я дам тебе трубку.
— О господи! — Пенелопа хотела было послать звонившего куда-нибудь далеко-далеко, на Северный полюс, Огненную Землю, Туманность… стоп, только не Андромеды, туда она сбыла такую кучу народа, что в Туманности этой наверняка не пройти, не протолкнуться. Лучше на Волосы Вероники, допустим, что они мокрые и липкие от шампуня, на них жутко неприятно сидеть или лежать, да и ходить скользко… Однако, перебирая адреса, она передумала — а что, если это Армен?
— А кто звонит?
— Не знаю! — Мельсида, судя по голосу, стала терять терпение, и Пенелопа, ворча, как горилла, у которой отняли банан, вылезла из ванны и пошлепала к двери. Мельсида сунула в щель красную телефонную трубку — собственно, это была не трубка, а целый аппарат с торчащей антенной, Пенелопа видела такие в Москве, «Панасоник», ах-ах-ах, какие мы важные, — сунула и ядовито буркнула: — Не урони в воду!
Пенелопа захлопнула дверь и осторожно поднесла трубку к мокрому уху.
— Ну? — хмуро сказала она.
— Пенелопа, это ты? — спросил голос… ах, чтоб тебе, пропади ты пропадом! Чтобы ты не мылся до конца своих дней — как Левон (это было одно из стандартных проклятий, которыми жители свободно-независимой Армении награждали своего любимого президента: чтоб Левону не мыться до конца своих дней, чтоб ему век горячего чаю не пить)… голос Эдгара-Гарегина.
— Ты что, спятил? Я в ванне.
— Знаю, — сказал Эдгар-Гарегин смиренно-самоуверенно. — Но в этом городе так трудно куда-либо дозвониться. А я ведь завтра уезжаю.
— Ну и что?
Эдгар-Гарегин промолчал.
— А кто тебе номер дал?
— Твоя мама.
— Я тебе миллион раз говорила, чтоб ты не… Моя мама?!
— Я обещал ей привезти тебя домой, — признался Эдгар-Гарегин.
Домой? Пенелопа хмыкнула. Вообще-то она собиралась переночевать тут, в замке. На пышной графско-герцогской постели под тяжелым балдахином с золочеными кистями, у горящего камина… то бишь на диване из бархатно-дубового гарнитура, неподалеку от долгоиграющего масляного радиатора. Но с другой, вернее, этой же стороны, надутая кузина Мельсида и не исходящая близкородственной заботой тетя Лена… Опять же мягкие подушки и уютный салон «Мерседеса»…
— Ну как? — спросил Эдгар-Гарегин. — Отвезти тебя домой?
— Отвези.
Уговорившись встретиться через сорок минут (которые неизбежно должны были разрастись, расплыться, раздуться до размеров часа, если не больше), Пенелопа сунула трубку-телефон в кучу грязного белья. Это была единственная, хоть и существенная деталь, искажавшая идиллический пейзаж идеальной ванной: водруженный — словно напоказ! — на хрупкий длинноногий табурет громадный пластиковый таз, в котором возвышалась груда мятого постельного — и пастельного — белья, выложенного, видимо, для стирки. Возможно, и бак грелся с той же целью. Пенелопа содрогнулась от ужасной картины, представившейся ее разгоряченному мытьем и телефонным разговором воображению: сияющая кофе-какао-горчичная (ну и букет!) ванна до краев заполнена замоченными на пару суток простынями и пододеяльниками, бак бойлера опустошен, словно туча после дождя или вымя коровы после дойки. Да, надо уносить ноги. Может, тетя Лена займется замачиванием еще ночью, встанешь утром, а ванна недоступна. Это невыносимо тяжко, хуже не бывает, когда яблочко висит перед носом, да никак не куснуть его в розовый ароматный бочок… лучше, впрочем, персик или виноград, особенно виноград, его Пенелопа обожала — любой, от крохотных кишмишиков до длиннющих «козьих сосков», какими в глазах армян выглядят «дамские пальчики». Да, уносить. Ноги, руки и прочие части тела, а пока… Пенелопа снова забралась в ванну и пустила воду, но процесс нирванизации был нарушен необратимо. По-прежнему выгибался душ, сверкая серебряными колечками, словно целый ювелирный магазин, и испуская прямые, тонкие, как вязальные спицы номер один, заостренные на концах струйки воды, вонзавшиеся в плечи подобно пальцам ловкого массажиста, по-прежнему, прихотливо извиваясь между выпуклостей и впадин, сбегали по животу и ногам веселые ручейки, стекая в пенное озерцо, постепенно наполнявшее ванну, по-прежнему лил мягкий свет потолок, и блестели бежевые кафелины, шуршала занавеска, уютно отделявшая пронизанный и пропитанный водой и паром уголок от остального мира, по-прежнему Пенелопа промеж неплотно задернутых шоколадно-цветастых клеенчатых полотнищ видела в полузапотевшем зеркале очертания своей смоделированной по всем современным канонам — любая готовая одежда сидела на ней как влитая — фигурки. Но что-то сместилось, Элизиум превратился в обыкновенную, хоть и вылизанную, с чешской, а скорее еще более иностранной, сантехникой ванную комнату в чужом — пусть и родной тетки — доме, под окном которого ждет непонятный экипаж с нетерпеливым извозчиком. Но куда спешить — ямщик, не гони лошадей, даже если за них предлагают полцарства… коня, полцарства за коня, какая вспыльчивость и щедрость… Пенелопа не выносила скупердяев, она принадлежала к числу женщин, способных сделать мужа миллионером — если он миллиардер, ха-ха-ха, какой смешной анекдот!.. а что тут, собственно, смешного, кому нужен миллиардер, не желающий стать миллионером, Гобсек и Гарпагон, для чего деньги, если их не тратить, не для того же, чтоб кончить так, как Гобсеково добро… Впрочем, Пенелопа просеивала поклонников через частое сито, Гобсеки сквозь него проскочить не могли никоим образом, соответственно и Армен, и Эдгар-Гарегин были людьми достаточно щедрыми, в меру, разумеется, своих финансовых возможностей, пускать их по миру Пенелопа не намеревалась, да и неизвестно, достигали ли они в своей щедрости таких высот, чтобы пойти из-за женщины по миру или кинуть хотя бы завалящие полцарства. Пенелопа, как известно, отличалась характером гордым и просить не стала бы даже осьмушку графства, да и моральные устои у нее были не из того сплава, хоть и давали трещины при виде красивых одежек или французских духов — наверно, слегка коррозировали, духи — штука опасная… О господи! В нынешние времена, пору всеобщего взаимопожирания, Пенелопа, не бравшая взяток не только в силу положения, скудного на подобные возможности, но и особенностей натуры, казалась себе столпом морали. В конце концов, не она ли среди сутолоки и суеты скромно и целомудренно вязала свой свитер? Звучит почти по-вольтеровски: пусть каждый вяжет свой свитер, и на земле наступит золотой век. Но золотой век все не наступает, олимпийские боги окончательно забыли о дожидающихся вознаграждения добродетелях достойной супруги, простите, подруги Одиссея, да и сам Одиссей пропал, исчез, канул в небытие, нет его, и точка. А есть Эдгар-Гарегин, который, наверно, уже прикатил, караулит, покуривая «Мальборо» и барабаня перстнями, которыми сплошь унизаны его пальцы, по рулю (опять перебор, Пенелопа, перстень у него всего один, правда, величиной с твою башку да еще золотой и чуть ли не с рубином, жуткая гадость). Пенелопа со вздохом выползла из ванны и закуталась в свое поблекшее от многих стирок полотенце, диссонировавшее с окружающим великолепием, как вялый полевой цветок с отражающейся в полированной поверхности стола хрустальной вазой, в которую его машинально ткнули, вернувшись с загородной прогулки. А какие полотенца висели на усеивавших кафельные стыки белых тигриных клыках! Огромные, пушистые, яркие — синие, фиолетовые, бирюзовые… И в эдакую красоту кутает свой отвислый живот и схожие с поставленным на попа символом бесконечности ноги самодовольная дурочка Мельсида, а Пенелопа вынуждена заворачивать свои с трудом отразимые члены в поношенную, некогда зеленую тряпицу. Новые полотенца Клара приберегала в качестве приданого, равно как и простыни, наволочки, а также трусики, лифчики и ночные рубашки неизвестно чьего размера, последнее было неизбежно в условиях системы, при которой свобода выбора сводилась к копанию в объемистых сумках будущих бизнесменок, неутомимо шлепавших в домашних тапочках по не просто скудно, но и с неравномерной скудостью снабжаемым советским городам, перераспределяя товаропотоки (или, скорее, товаро-ручейки) и корригируя неумелую работу плановиков. Сумки поглощали все, что неутомимым поборницам справедливости удавалось выстоять в очередях, выманить из-под прилавков, перекупить в окрестностях магазинов, дабы потом перевезти добытое в Ереван и разнести в тех же сумках по учреждениям и заводам, больницам и театрам. Раскопанное в сумках, полученное в подарок как Анук с Пенелопой, так и самой Кларой, благородно ходившей в почти обносках, складывалось в чемоданы (уточним, что у мысливших современно и презиравших само понятие приданого дочерей многое напрямую аннексировалось) и ждало того туманного дня, когда какой-нибудь нейрохирург, драматург или финансовый магнат, владелец корпорации-самолета-автомобиля и иного имущества (о магнате, впрочем, речь не велась, женатые магнаты, равно как и женатые прорабы, отметались с негодованием и даже с гневом), словом, пока некто умный-добрый-честный-верный-благородный-фигушки-мадам-Клара-где-вы-таких-видали уведет Анук или Пенелопу, а лучше обеих (разумеется, не в одном направлении) из родительского дома, такая… остановись, Пенелопа, поставь точку, иначе на этом предложении задохнешься… уфф! Точка. Такая постановка вопроса возмущала Пенелопу несказанно, она неоднократно становилась в позу оскорбленного достоинства и заявляла: «Если я вам надоела, могу завтра же уйти куда глаза глядят!» На что Клара, справедливо опасавшаяся, что глаза Пенелопы устроены не так, как подобает черным очам благовоспитанной армянской девицы, и глядят не на загс и роддом, отвечала: «Уйдешь к мужу, когда он у тебя появится». А более сентиментальный папа Генрих, тяжко вздыхая, добавлял: «Муж, конечно, дело нужное, но я бы предпочел, чтоб мои дочери оставались со мной».
Одевшись и временно намотав на голову полотенце — фен у нее был с собой, но в ванной не оказалось розетки, — Пенелопа выгребла из сумки весь свой богатый набор косметики и стала привычно наносить на веки и щеки боевую раскраску.
Глава седьмая
— Ну? — Интонация, с которой Эдгар-Гарегин выговорил это краткое, но выразительное междометие, один к одному повторяла ту, какой Пенелопа отреагировала на его недавний звонок.
— Что — ну? — осведомилась Пенелопа ангельским голоском.
Эдгар-Гарегин коснулся каких-то рычажков или кнопок, точная конфигурация которых ускользнула от рассеянного внимания Пенелопы, и громоздкая машина бесшумно и плавно соскользнула с места.
— Надумала что-нибудь?
— Насчет чего?
— Пенелопа!
За этим укоризненным возгласом не последовало абсолютно никакого продолжения, и, выждав для приличия пару минут, Пенелопа небрежно уронила:
— Я уже… — Она хотела было по примеру матери, в аналогичных ситуациях неукоснительно выдававшей фразу «Я уже шестьдесят лет как Клара», назвать цифру, близкую к реальной, но вовремя удержалась, хотя вообще-то Эдгар-Гарегин знал ее возраст наизусть… да?.. а вдруг забыл?.. — Я уже сто лет Пенелопа. Хотелось бы услышать что-нибудь поновее.
— Я понимаю, — сказал Эдгар-Гарегин кротко, — тебе хочется на мне поплясать, но…
— Вы можете расстроить меня и даже сломать, но плясать на себе я не позволю, — резюмировала Пенелопа. А хорошо бы! Разложить этих гадов и уродов рядами или в елочку, вымостить ими больш-о-ой зал и по-тан-це-вать на их покорно распростертых телах, надеть туфли на каблуках и отбить чечетку, а лучше сплясать сегидилью. «Ля-ля-ля, ля-ля, Се-ви-и-илья, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля, я там пропляшу се-ге-ди-и-илью, ля-ля-ля…» — и не надо меня жалобить, ребята, ничего с вами не станется, вы ж все чурбаны бесчувственные, хуже, цемент, железобетон…
— Ну что ты, — сказал Эдгар-Гарегин ласково, — пляши. Я же понимаю, что виноват перед тобой.
Ну и ну! Пенелопа повернула голову, чтобы получше рассмотреть это чудо. Эдгар-Гарегин тоже скосил глаза в ее сторону.
— Ты прекрасно выглядишь, — сообщил он заговорщическим тоном. — Шляпа тебе очень шла, но без шляпы еще лучше.
Пенелопе это было известно, недаром она вышла в такой собачий холод с непокрытой головой, шляпа (наверняка уже пронзенная неукротимыми спицами) покоилась в мешке с вязаньем, а свежевымытые и вспушенные с помощью фена волосы стояли каштановым нимбом вокруг аристократически продолговатого лица. Челка, уложенная с применением отдельного инструмента, а именно термощипцов, придавала ей лукавый вид, гармонировавший с изящно вздернутой верхней губой и не слишком на сей раз навязчивым макияжем (тени мягкого серого тона, светлая помада и никаких румян), и ее облик в целом вполне заслуживал комплиментов, да не таких, а куда более изысканных, но, увы, приходится брать, что дают. Однако она и виду не подала, что комплимент, так сказать, принят, а сухо ответила:
— Ты бы лучше на дорогу смотрел. Еще задавишь кого-нибудь.
— Пенелопа, — начал Эдгар-Гарегин снова. — Я уезжаю.
— А жаль, — вздохнула Пенелопа. — Я-то думала, ты меня еще и завтра сводишь в ресторан, и послезавтра. Не каждый ведь день миллионеры сватаются.
— Миллионеры?
— Да. А ты разве не миллионер?
— Это смотря в какой валюте, — ответил Эдгар-Гарегин неопределенно, и Пенелопа сокрушенно раскинула руки.
— Так ты даже не миллионер?! — поразилась она во всеуслышание. — Что ж ты мне голову морочишь? В шалашик, что ли, зовешь? В такую-то холодрыгу!
Эдгар-Гарегин не отвечал. Армен, тот давно бы подхватил ее тон, еще бы и рокировку сделал, так что уже не поймешь, кто над кем насмехается, вышучивать Армена себе дороже, но этот… Этот помолчал, помолчал, потом как ни в чем не бывало предпринял новую попытку:
— Так ты не поедешь со мной?
«Так ты поедешь со мной? — сказал бы Армен. — В мой шалашик, подбрасывать сучья в огонь, чинить крышу и штопать мою сменную набедренную повязку, пока я буду охотиться на динозавра?»
— Как же я могу поехать, — развела руками Пенелопа, — там ведь нет Арарата…
То была любимая отговорка папы Генриха, когда кто-либо из знакомых после констатации ставшего уже общим местом факта, что Армения не место для жизни, спрашивал, не собирается ли он уехать в какую-нибудь нормальную страну, папа Генрих на полном серьезе отвечал:
— Я не могу жить вдали от Арарата.
Конечно, Арарат — это вещь, Пенелопа и сама в тех нередких случаях, когда ей приходилось топать до метро пешком, останавливалась полюбоваться минутку бело-голубым гигантом у начала Касьяна, откуда — особенно по утрам, до появления смога — открывается потрясающий вид на Арарат; Масис (Сиса оттуда не видно) словно нависает над домами, кажется, обогнешь их и, пожалуйста, карабкайся вверх по склону. В Арарате действительно есть нечто магическое или мистическое, некая аура, может, это феномен чисто психологический, все-таки библейская гора, а может, библейской она стала именно из-за ауры, поди теперь разберись. И однако, ради Арарата выносить разруху, мрак и глад? Благодарю покорно! Что, если в самом деле махнуть на все рукой… рукой, ногой, три маха левой, три маха правой, наклон, приседание, еще три маха… Что-то ты размахалась, Пенелопушка, Пенепулеметик, прямо «Махабхарата» какая-то… «Махабхарата», Махатма Ганди, махаон… что общего между меланхолической махиной Ганди и махоньким малахольным махаоном? Крылышки? Проблемы надо решать с маху. С маху — к Маху!.. Допущена неточность, Мах и Кант не одно и то же, хотя и оба идеалисты, один субъективный, другой объективный… Как это несправедливо, Пенелопея, что тебе поставили по диамату четверку… или то был истмат? Ист-мат, вест-мат… Впрочем, черт с ним, с их матом… Интересно, а где могила Маха? Наверняка не в России, где-нибудь в Европе, вот туда б и махнуть. Но туда не зовут. Так что поднимай меч и руби узел, реши проблему с маху, скажи «да» упрямому претенденту на несостоявшуюся супругу Одиссея… позвольте, почему несостоявшуюся, он и станет Одиссеем, у нас же особый случай, как бы гинекократия… нет, не может Одиссей быть подобным занудой! И все-таки скажи зануде «да» и езжай прочь — прочь из этой нетопленой, неосвещенной, обезвоженной страны, от хлеба по талонам и света по графику, газа в баллонах и керосина в бидонах… А интересно, сколько комнат в шалашике зануды, наверняка не меньше четырех-пяти. Евроремонт, белые шведские или французские обои, финская мебель красного, почти вишневого дерева (типа кресел в опере), кухня с мраморной раковиной, микроволновой печью, посудомоечной машиной, ванная, как у дяди Манвела с тетей Леной, только в сто раз лучше… Как это выглядит, Пенелопа представить себе не могла, подобное лежало за пределами ее воображения, как и посудомоечная машина, в которой знакомого было — только название, не исключено, что при первой встрече она спутала б сей агрегат с холодильником, но она догадывалась, что в ванно-банном мире существует такое!.. Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось… Итак. Просыпаешься в двуспальной кровати — одна, зануда давно отбыл, он ведь обязан зарабатывать, как иначе его жена сможет тратить? — просыпаешься, откидываешь нечто меховое, сползаешь с тончайших, нежнейшего, скажем, лилового цвета простынь… постель настолько обширна, что процесс сползания занимает минут десять. Шлепаешь на кухню варить кофе… это уже хуже, хоть и по ковру или ковролиту, но все равно неохота, лучше б кофе подавали в постель, надо не мешкая обзавестись прислугой, теперь и в России капитализм, так что непременно прислугой, можно приходящей, главное, чтоб она приходила достаточно рано… Проснешься, а в доме болтаются посторонние, тоже не дело… Обойдемся без кофе. Стакан грейпфрутового сока (его пьют по утрам все голливудские звезды), заблаговременно поставленного на тумбочку у кровати заботливым супругом… ха! Так можно ведь поручить Эдгару-Гарегину и кофе сварить. Сварить, залить в термос, большой такой, трехлитровый… а еще можно купить электрический чайник «Филипс», пристроить его на полу рядом с кроватью и утром, не вставая, вскипятить воду; кофе, правда, придется пить растворимый, но это не важно, растворимый ничуть не хуже. Итак, просыпаешься, стакан сока и чашку кофе (зачем выбирать одно из двух, лучше оба), немножко еще поваляться с книжкой, торопиться-то некуда, никаких восьми-десяти-двенадцати часов в неделю, ни академических, ни астрономических, никаких обормотов-учеников, путающих Чайковского с «Чайкой», Ромула с Ромео и взахлеб рассказывающих грустную историю о том, как граф Альберт в обход Жизели женился на белом лебеде, можно спокойно выкурить сигаретку и прочитать пару глав из очередного дюдика. Потом все же встаешь, идешь в ванную, открываешь кран — никаких бойлеров, ничего включать не надо, просто-напросто открываешь кран, и из него начинает течь горячая вода в неограниченном количестве. Наполняешь ванну, напускаешь какой-нибудь пены с ароматом, например, жасмина или и вовсе орхидей, погружаешься… вообще-то утром лучше душ, больше бодрит, хотя особенно взбадриваться тоже ни к чему, работать ведь не надо… Выходишь из-под душа, закутываешься в необъятное, три на три, хризопразового цвета полотенце, перебираешься в гостиную на широкий кожаный диван, заводишь лазерный проигрыватель, ставишь «Пассакалью» или «Чакону»… Ладно, хватит валяться, пора одеться, позавтракать, потом в магазин за продуктами — надо же приготовить обед, или нет, лучше завести кухарку, охота была возиться для какого-то там Эдгара-Гарегина! Конечно, есть кухонный комбайн и всякие… Тостер, фритюрница, гриль… Все равно неохота! Пенелопину кулинарию, милые мои, еще заслужить надо. Шутки в сторону, а готовила Пенелопа в самом деле недурственно, особенно ей удавались салаты, многие из которых она самолично и изобрела, насчет печений у нее тоже имелись кое-какие соображения, а уж обеды она варила — не только пальчики оближешь, но и предплечья с локтями. Правда, тут была одна закавыка. Когда Пенелопа бралась за кухонные принадлежности, Кларе приходилось, в свою очередь, засучивать рукава, ибо после Пенелопиных кулинарных упражнений оставались как горы очистков и грязной утвари, так и разноцветные брызги на стенах и лужи на полу, ее стилю приготовления пиши был присущ особый, неженский размах, некая молодецкая удаль, она, крякнув, опускала молоток для отбивания мяса на корчащийся от ужаса будущий бифштекс с такой же неимоверной силищей, с какой Добрыня Никитич либо кто-то из его приятелей мозжил своей палицей головы всякой нечисти вроде Змея Горыныча и прочих врагов православного народа, — откровенно говоря, былины Пенелопа подзабыла изрядно и порой путала богатырей с их жертвами, и вообще она предпочитала эллинских героев (как-никак одна шестнадцатая греческой крови, бабушка бабушки, четверть четверти), тем более что считала себя человеком европейской культуры. Когда Пенелопу попрекали побочными эффектами ее хозяйственной деятельности, она смертельно оскорблялась, упирала руки в бока и говорила: «У меня темперамент, художественная натура, я не могу стучать клювиком, как воробей, на крошечной дощечке в углу, мне нужно пространство, черт возьми!» К счастью (или к несчастью, смотря с чьей позиции, едока или поваренка), на кухне Пенелопа появлялась нечасто, разве чтоб испечь какой-нибудь тортик (это, разумеется, в те времена, когда духовки еще не превратились в хранилища вышедшей из употребления посуды и, чтоб выпечь пару коржей, достаточно было поднести спичку к горелке). Армен обожал торты, особенно с заварным кремом, и Пенелопа таскала ему по полторта зараз, превращая его дежурства в пиры. Эдгар-Гарегин тортов не любил, не ел печеного вовсе, предпочитая мясные блюда — оно конечно, с одной стороны, это хорошо, уменьшается угроза располнеть, но с другой — человек, который не ест сладкого, изначально внушает подозрение, что он жесток, злобен и коварен. Как тигр. Или гиена. И если даже ты знаешь его добрую сотню лет и абсолютно убеждена, что он скорее мягкосердечен, в какой-то степени добродушен и вовсе не вероломен (по крайней мере вероломен не очень), все равно всякий раз, когда он отказывается от кусочка шоколада или от пирожного, ввинчиваешься в новый виток сомнений…
— Ты по-прежнему не любишь сладкого? — спросила Пенелопа.
— По-прежнему.
— А сколько у тебя комнат? Не здесь, в Кенигсберге.
— Одна. — Эдгар-Гарегин бросил быстрый взгляд на разочарованную Пенелопу и разъяснил: — Не комната, а квартира. А зачем мне больше? Я и дома почти не бываю… Однокомнатная квартира в отличном месте…
— Рядом с могилой Канта? — уточнила Пенелопа.
— Канта? — Эдгар-Гарегин задумался. — Это, по-моему, какой-то немец? — сказал он осторожно. — Не писатель, нет?
Пенелопа презрительно фыркнула.
— Фамилия знакомая, — продолжал рассуждать Эдгар-Гарегин. — Видимо, я его где-то проходил. Но в институте у нас литературы не было. В школе? Это нет, я бы его сто раз забыл. Все-таки в институте. Значит, не литература. Математика? Нет, тогда я помнил бы лучше. Марксизм, что ли?
— Фи, — поморщилась Пенелопа. — Дожил до лысины, а «Критику чистого разума» наверняка даже не открывал.
— До лысины? — встревоженно переспросил Эдгар-Гарегин и, забыв о Канте, принялся щупать свою макушку. — Где? Тут?
— Да она совсем маленькая, — сообщила Пенелопа великодушно, но сразу же многозначительно добавила: — Пока. Убери руку, протрешь большую. Скажи лучше, а театры в вашем Кенигсберге есть?
— Театры? — Эдгар-Гарегин задумался. — Не знаю, — пробормотал он неуверенно, — наверно, есть, почему бы им там не быть? Конечно, есть, это же приличный город.
Приличный!.. Наверняка жалкий городишко без единого театра и даже музея, разве что краеведческого, захолустье, пара улочек с тройкой лавочек, побитые тротуары, лужи, грязища и тощища… Дура ты, Пенелопа, это ведь не русская глубинка, а европейский город, столица Восточной Пруссии с готикой и всем прочим… правда, изрядно поразрушенная во время войны, да и сложно ли за целых полвека превратить европейский город в русскую глубинку, сложно наоборот, а это запросто, город же не что иное, как его жители: турни из Еревана армян, засели его русскими, и он не то что через полвека — через полгода станет образцовым русским провинциальным городишкой… Да и не Кенигсберг это вовсе, а самый настоящий Калининград — Калинина-то отовсюду давно поперли, а там держат за своего, стало быть, он и есть свой. Нет уж, в Калининград мы не ездоки, дудки!
— А чем ты, кстати, торгуешь? — поинтересовалась Пенелопа грубовато.
Собственно, грубоватым ее вопрос мог показаться лишь постольку, поскольку слово «торговать» в Армении многими воспринимается нервно по сей день, что по меньшей мере непонятно, ведь торговля давно вошла в армянские гены (как и кулинария), и ничего в этом зазорного нет, разве не лучше быть торговцами, нежели убийцами (хотя немало наций гордится своей воинственностью), и большинство армян хлебом не корми, но дай поторговать, а уж теперь, когда хлебом в действительности не кормят (то есть буквально хлебом как раз кормят — пусть по талонам, но по дешевке), в торговлю ударились все поголовно, перепродают иранский и турецкий хлам… Вот когда турки и персы наконец обратили армян в свою веру, сколько веков гоняли, давили, делили, и ни-ни, а теперь — бумс! Ну и аллах с ними, вот сядет Пенелопулечка-Пенелапулечка на самолет, часика три-четыре, и она на другом конце континента, в бывшей немецкой столице, набитой готическими соборами… стоп, мы же только что решили не ехать… Чертовщина! Запутаешься с этими торгашами и их нелепыми обидами, дворянами себя мнят, вот и Эдгар-Гарегин обиделся, в дискуссии, правда, вступать не стал, но ответил сухо:
— Я занимаюсь стройматериалами. Сантехникой.
Сантехникой! Ах ты, господи! Перед восхищенным взором Пенелопы поплыли, закружились, запорхали, вальсируя в пронизанном сиянием воздухе, всевозможные ванны, раковины, унитазы, души, краны — все то великолепие, среди которого она прошлой зимой в Москве простаивала по полчаса, мысленно покупая, увозя, устанавливая, вместе, порознь, в наборах, в сочетаниях… Господи, неужели жизнь так и пройдет в туалете с заплесневелыми стенами, в ванной с закопченным потолком, потрескавшимся, местами обвалившимся больнично-белым кафелем, протекающими кранами, испещрившими некогда белую гладь ванны ржавыми потеками, с бездействующим душем и вечно засоренной раковиной, в кухне с разбухшей от сырости мойкой и накрытой досками газовой плитой — под знаком Кипятильника в созвездии Керосинки. Не говоря уже о безденежье, безмужье, беспарижье… да-да, другие ездят по Парижам и Гавайским островам, круизят вокруг Европы… хотя это уже лишнее, качка и морская болезнь, да и какого черта мотаться вокруг Европы, гораздо интереснее по. Сколько мошенников и ворюг изъездило и исходило Европу вдоль и поперек, набегалось по всяким Каджурахо и Великим Китайским стенам, а ты ходи изо дня в день по улицам Баграмяна и Комитаса, мимо домов, не ветшающих лишь потому, что они из туфа (страшно подумать, как бы они выглядели, будь они оштукатурены и покрашены, как где-то в Прибалтике, небось давно бы вылиняли, пошли пятнами и полосами), мимо домов, мимо куч прошлогодних листьев, мимо — догоняя и обгоняя их — дребезжащих, полуразвалившихся трамваев и троллейбусов. Села накануне в «Икарус», из тех, что с гармошкой, так гармошка вся полопалась, и две половины автобуса держались вместе единственно за счет пола, а в дыры, завывая, врывался холодный зимний воздух… «Воздух не воет, лгунишка ты эдакая, — перебила себя Пенелопа, — выть может только ветер…» «А вот и нет, — ответила саркастически Пенелопа-вторая, — это у вас воет только ветер, а у нас воют все, такая у нас тут тоска… В любое время года, и не как дребезжанье комара… ну разве что летняя, тихая, тоненькая. А зимняя больше напоминает рычание. Или мычание…»
Эдгар-Гарегин тем временем рассказывал о своем бизнесе, испугался, наверно, что Пенелопа примет его за жалкого духанщика, и разговорился, да вот беда, Пенелопа, занятая мысленной болтовней с самой собой, обнаружила, что он заполняет паузу рекламой, с изрядным запозданием, когда большая часть его тирады уже успела пройти мимо ее нечутких ушей, царапнув их лишь отдельными фразами вроде «прямые поставки» или «мы не только продаем, мы и устанавливаем»… Обнаружив, она решительно прислушалась, но, к несчастью, как раз в этот момент он остановился и спросил:
— Тебе не интересно?
«Интересно!» — хотела было горячо, даже пылко воскликнуть Пенелопа, но вовремя спохватилась (никаких козырей в руки мужчинам!) и вяло промямлила:
— Ну да… конечно… естественно…
— Естественно что?
— Интересно, — сказала Пенелопа тоном, подразумевающим, что скучища, безусловно, и ну да, но при ее хорошем воспитании и интеллигентных манерах так и быть…
Эдгар-Гарегин обиженно замолчал и молчал вплоть до Пенелопиного дома. И только вырулив во двор и затормозив в хвосте стоявшей вдоль тротуара вереницы погруженных в темноту замерзших авто, ни с того ни с сего спросил, притом самым будничным тоном:
— Ну так что? Да или нет?
«Да! — мысленно вскричала наиболее разочарованная, истосковавшаяся по комфорту и отдохновению от беспрерывной и беспросветной заботы о куске хлеба насущного часть, если откровенно, большая часть, можно сказать, львиная или даже драконья доля Пенелопиного многокомпонентного существа. — Да! Баста! Хватит не жить, а выживать, думать о еде вместо высоких материй (почему материй, а не идей? Хитрые происки материалистов?), мечтать о тепле физическом, пренебрегая душевным, хватит ждать у моря погоды, а вернее, непогоды — ветра, бури, урагана, который пригонит корабль странствующего героя к родным пенатам, оторвав того от трудов ратных и бог весть каких еще, достаточно, Пенелопея, ничто больше не удерживает тебя в этой морально-психологической и погодно-климатической Арктике…»
«А родители?» — с трудом перекрыл рев неудержимого потока аргументов хрупкий голосок наименее эгоистичной части ее натуры. А родители? Стареющие, усталые, полуголодные? Пенелопа вообще жалела стариков — всех, своих и чужих, ее смешили люди, разглагольствующие о жалости к детям, маленьким негодяям, самой природой, давшей им непробиваемый щит неотделимого от осознанной или неосознанной жестокости к окружающим эгоцентризма, защищенным от мирских тревог; она считала, что гораздо большей любви и жалости заслуживают старики, которые волей-неволей прожили жизнь в качестве подопытных животных для провалившегося эксперимента, а теперь попали в такую заварушку, что с ностальгией вспоминают ограбившую их, сделавшую бессловесными и беспамятными Советскую власть. Да, родители… Проблема. Конечно-конечно, но ведь и родителям проще посылать деньги, заработанные… кем?.. «Зятем и мужем, а что тут такого?» — немедленно успокоила себя Пенелопа… Проще, нежели метаться тут, не физически пусть, но морально метаться в поисках выхода из неразрешимой дилеммы: оставаться честной и нищей или… Нельзя сказать, что дилемму эту породили новые капиталистические отношения, в Армении она существовала всегда, во всяком случае, во все годы существования самой Пенелопы… Вообще-то насквозь коррумпированное государство имеет свои неоспоримые преимущества, ведь достаточно внести некую, разной степени весомости, лепту в жизнеобеспечение, например, чиновника, чтобы безо всякой бюрократической волокиты (и не вдаваясь в чрезмерные тонкости сочиненных крючкотворами законов) заполучить массу благ, от должностей до документов. Приукрасив слегка будни председателя или члена приемной комиссии, можно дитятю, соображающего чуть лучше, чем скамья в университетской аудитории, водрузить на эту самую скамью, а потом пересаживать с одной на другую вплоть до торжественных кресел актового зала, где вручают дипломы (бессмертная история, анекдотец с бородой карлы Черномора). Можно задавить пешехода на «зебре», сидя за рулем даже не «Мерседеса», а вульгарной «Волги», и за энную сумму откупиться. Можно… и так далее, до бесконечности. В замечательной сей системе есть одно лишь неудобство: давая неограниченные возможности обойти неудачные законы, она параллельно создает препятствия для идиотов, которые наивно пытаются эти законы блюсти. Аппетит, растущий, как давно доказано, во время трапезы в геометрической прогрессии, вынуждает едоков искать пропитание везде, и когда, к примеру, за пару недель до поездки в какую-нибудь несчастную Ригу ты приходишь продлить срок своего загранпаспорта, тебе объявляют, что на это требуется три месяца (понятно, месяц на то, чтоб поднять штамп, еще месяц на прикладывание его к штемпельной подушечке, третий…). И если тебе так уж приспичило уехать на зиму не в апреле и на лето не в декабре, ты бодро вынимаешь из кармана несуществующие доллары. Или кидаешься на поиски знакомых, и те, в зависимости от высоты, на которую поставлены, добывают искомый отпечаток в срок от недели до двух минут. Поскольку Пенелопа законы нарушала редко (по правде говоря, не нарушала вообще, но никому в этом не признавалась, ведь Армения — страна, где предпочесть окольному пути прямой иногда просто неприлично), а позаботиться о печатях и подобных штуках за полгода в силу отсутствия нужной педантичности и навыков общения с бюрократами обычно забывала, то коррумпированность общества оборачивалась к ней своей сугубо отрицательной стороной. Тем более что сама она никаким боком (даже подошвой либо ногтем) не прилегала к многочисленной касте взяточников, которая ширилась, как лавина, грозя всосать в себя чуть ли не все население государства (за исключением немногих отверженных), — процесс, стимулируемый не только и не столько жадностью, сколько железной необходимостью. Ибо надо признать, что при той проклинаемой и поносимой советской власти все-таки был шанс не брать, не красть и одновременно не подохнуть с голодушки, теперь же шансы на это опустились до нуля и обещали обернуться отрицательной величиной, так что вопрос «брать или не быть?» (либо «быть или не брать?» — первый вариант для активных взяточников, второй для пассивных) встал во весь исполинский негамлетовский рост и требовал ответа, которого у Пенелопы не имелось. Да если б и имелся, это не исчерпывало бы проблемы, ведь и продать честность по сходной цене непросто, ее не отнесешь в «ченч» и не обменяешь на некую толику валюты. Так не лучше ли жить в Кенигсберге, да пусть даже в Калининграде, черт побери, но сохранять незапятнанную репутацию и посылать родителям хоть сотню долларов в месяц? Поистине ловушка для Золушки… Жапризо или Буало с Нарсежаком, но что-то французское точно… У французов даже детективы — литература, чего не скажешь не только о детективах, но и о литературе многих других народов… Да, ловушка, и не для Золушки лишь, но любой женщины, которой в конце концов не мешает иметь мужа хотя бы для того, чтобы свалить на него перетаскивание чемоданов и саквояжей с аэродромов на вокзалы или (ха-ха) в отели, особенно в нынешние времена, когда денег на такси не наскребешь — какое там такси, у большинства на бензин не хватает, почему все более или менее интеллигентные люди давно продали свои машины либо поставили их на долгосрочный прикол, а неинтеллигентных знакомых (с работающими двигателями) просто нет… Нет, и даром не надо! Вот! В том-то и твоя беда, Пенелопа, тебя погубила привередливость, если б ты с незавидным постоянством не воротила нос от недоинтеллигентности Эдгара-Гарегина… Ну подумаешь, человек не знает, кто такой Кант, да кому этот Кант нужен, идеалист несчастный, нашел что критиковать — разум!.. Единственное, что обидно, — муж Анук всю подноготную означенного Канта, и не только его, выучил назубок, спрашивается, чем Пенелопа хуже собственной сестры, единоутробной, с тем же набором хромосом, развившейся и достигшей зрелости в идентичной среде… Да ладно, бог с ним, с Кантом, ну забыл человек, забыл истмат, диамат, заматерел и матерщину эту выкинул из ума к чертовой матери, а что стихов не понимает и трех сестер может вполне счесть за жен братьев Карамазовых, так литературу он только в школе проходил, и то армянской, какой с него, бедняги, спрос… Да, голубушка Пенелопа, если б не непомерные твои претензии, давно б ты взялась за дело по-другому и сегодняшние предложения, не дожидаясь их пять-семь-десять лет, выцедила, выудила, выдоила, выцарапала… а вот и нет, подлая ложь, выцеживать не требовалось, сам мечтал, сутками на коленях простаивал, целовал землю, по которой ступали… не ступали, а касались в полете легкие ножки Пенелопы (ножки-то тридцать девятого размера, полнота восемь)… В любом случае предложения были бы внесены на рассмотрение вовремя, в те упоительно-тревожные дни, когда при шуршании шин ноль-первой модели «Жигулей» — ибо в удивительную эпоху юной первой любви Пенелопа распознавала марки автомобилей (правда, автомобили тогда водились только советские и марок было с гулькин нос… а кто такой, собственно, Гулька, почему настолько малонос, может, это и вовсе собака или кошка, а то и — брр! — мышь, даже брр-брр-брр, Пенелопа боялась мышей до судорог, до обморока, до состояния клинической смерти), распознавала ну пусть не по шуршанию шин, не будем преувеличивать, но по звуку мотора точно, и коли ноль-первой модели случалось спеть свою механическую песнь в пределах слышимости, у Пенелопы спирало дыхание и отнимались ноги, она высовывалась с балкона до крайности, почти как вывешенное на просушку белье, в сладостном волнении высматривая в дальнем конце двора — ближе Эдгару-Гарегину подъезжать не разрешалось, дабы не попасть на глаза Кларе и бдительным соседям, — синие «Жигули» с покачивавшимся за передним стеклом резиновым Мефистофелем, подаренным самой Пенелопой. Вылезать из машины или хотя бы выдвигаться на уровень Мефистофеля Эдгару-Гарегину было опять-таки запрещено, посему он откидывался назад и опускал штуковину, которая защищает глаза водителя от солнца, а заодно и от любопытных и должна бы называться козырьком, но наверняка этого не скажешь, для автомобильных частей ведь придуманы совершенно несуразные названия… Поскольку пользоваться телефоном Эдгару-Гарегину тоже не рекомендовалось, разве что в случае крайней необходимости, например, ядерной войны, Пенелопе приходилось пребывать в состоянии постоянной боевой готовности, а именно в свежей раскраске и надлежащей степени омытости, так, чтоб можно было в любую минуту накинуть платье-сарафан-юбку-свитер-пальто и выскользнуть из дому, не преминув преподнести матери очередную историю с многочисленными подругами и приятельницами в качестве фигурантов. Историй у нее было заготовлено множество, они выскакивали из Пенелопиных очаровательных уст с такой непринужденной легкостью, что она нередко завиралась и плела небылицы без всякой в том нужды (ну разве что для поддержания формы). Не то чтоб она была такой уж закоренелой лгуньей или тем, что в книгах называют записным вруном… интересно, кто его записал и куда? Или записали его вранье? Тогда это не врун, а писатель… Нет, лгуньей Пенелопа не была, во всяком случае, от рождения, просто ее вдохновляло чувство… Да, в те времена она не колебалась бы между «да» и «нет», как маятник огромных, величиной со шкаф старинных часов, пожалованных Джемме в приданое ее антикварным папашей. Хотя ухажеров у нее тогда было… воз и тележка устарели и, по справедливости, их следует заменить на поезд с автомобилем. Собственно, Пенелопа, грех тебе прибедняться, поклонники у тебя далеко не вымерли, есть и сейчас… да, есть, но не за каждого ведь пойдешь замуж! Есть давно изученные, рассмотренные, обследованные и отвергнутые — а новые… Где их взять? Каким образом женщина может в этой нелепой стране найти новых знакомых? Школа окончена сто лет назад, институт тоже не вчера, все подруги с головой погрузились в семейную жизнь-трясину, у них если кого и встретишь, так олуха-деверя размером с оловянного солдатика. На работе? Это в хореографическом-то училище? Там если и попадаются иногда мужчины, так танцовщики, а танцовщик, извините… да рядом с артистом балета даже тенор — академик! Словом, Пенелопа, плохи твои дела, выбора нет, и этот противный делец чуть ли не с брюшком и явным намеком на лысину, считающий Канта писателем, а балет умирающим искусством, — твое последнее прибежище, дикий берег, на какой волны выкидывают утопающих, радующихся уже — и единственно — тому, что они не утопленники. Все кончено, скажи «да», и прощай, то есть здравствуй, немытая Россия, а точнее, прощай, немытая Армения. Итак? Итак, многоразумная, не будь дурой, открой рот и… Ну! Считаем до трех: раз, два, два с половиной, два и три четверти…
— Интересно знать, — произнесла Пенелопа ядовито, — если ты завтра уезжаешь, когда ты собирался разводиться, жениться — и тому подобное? Сегодня ночью? Надо понимать, все твои предложения — липа?
— Почему же? — миролюбиво вздохнул Эдгар-Гарегин. — Если ты согласишься, я задержусь.
— Сдашь билет?
— Какой билет? Я человек вольный, когда захочу, тогда и полечу. У меня тут свой самолет. Я же тебе говорил.
— Ах да! Как будто… Самолет, вертолет, что-то такое припоминаю. Собственный, кажется?
— Арендованный.
— Фи, — сказала Пенелопа. — Оборванец несчастный. Самолет и то чужой, а еще заговариваешь зубы честной девушке.
«Да ты, братец, никак альфонс», — сказал бы на это Армен, укоризненно посматривая на собственное виноватое лицо в зеркальце, но Эдгар-Гарегин в зеркальце заглядывать не стал, а обратил печальный взор на Пенелопу.
— Все шутишь?
Пенелопа пожала плечами, открыла дверцу и подвинулась вправо.
— Куда ты? — заныл Эдгар-Гарегин.
— Домой. Ночь на дворе.
— Не можешь же ты не дать мне никакого ответа!
— Могу.
— Но почему?!
— Мне надо подумать.
— У тебя был целый день…
— Я не способна принимать судьбоносные решения в столь короткие сроки, — отрезала Пенелопа партийно-канцелярским языком.
— И что мне теперь делать?
О боже! Последний болван, хоть чуточку разбиравшийся в женской психологии, понял бы, что лед тронулся (да, господа присяжные заседатели!). Если после утреннего категорического и бесповоротного отказа вечером обещают подумать… ну дожми ты, обормот эдакий! Кинься в ноги — впечатляющее будет зрелище, без пяти минут толстяк (опять ты перебарщиваешь, Пенелопа… ладно, без десяти, ну без четверти), скорчившийся, стиснутый между сиденьем и тормозами, — ороси слезами плохо приклеенные подошвы любимых сапог, то есть сапог любимой, и уже из страха перед сыростью, боязнью промочить свеже-надетые колготки, не говоря о натянутых поверх колготок отцовских носках… да, а сапоги?! Ведь могут и расклеиться!.. одной этой опасности достаточно, чтобы согласиться на что угодно. Но увы, современные мужчины ни черта не смыслят в подобных вещах, разве они способны кинуться и оросить, никудышные мелиораторы и дурные психологи… Пока Эдгар-Гарегин пытался вспомнить (если пытался) хоть один романтический жест — не из романов, ибо романов он не читал, но хотя бы из романсов, которые слушал с упоением и часто, чрезмерно часто, у него даже в машине кто-то вечно надрывно умолял: «Ямщик, не гони лошадей» и «Не искушай меня без нужды», правда, это было давно, неизвестно, чем он оглушает себя ныне, может, переключился на рок-музыку, тогда и жест у него выйдет скорее роковой, например, он выхватит нож… ножи вышли из моды — достанет «смит-и-вессон» тридцать восьмого калибра и… Грохот выстрелов, как пишут в плохих детективах, разорвет ночную тишину, сбегутся соседи в пижамах и ночных рубашках — впрочем, они второй месяц спят в шубах, так что неглиже и дезабилье, увы, исключаются, — приковыляют, сонно зевая, полицейские, с диким воплем «Я так и знала!!!» выскочит взбудораженная Клара, и все начнут ползать по двору в поисках трупа, но трупа, естественно, не окажется, поскольку в столь непроницаемом мраке даже сверхпроницательный Зверобой-Соколиный Глаз-Следопыт промахнется по любой мишени, меньшей, чем хрущевская пятиэтажка… Пока Эдгар-Гарегин шарил по сиденью, выискивая нож, пистолет, атомную бомбу, Пенелопа уже выбралась наружу, точнее, снаружи очутились ее свежевымытые ноги (в нечищеных, надо признаться, сапогах), к которым так никто и не припал, в то время как голова вместе с шеей еще находилась в пределах образцового средства передвижения родом из ныне дружественного государства, и прежде чем эту голову извлечь, она жизнерадостно сказала:
— Звони. Ты ведь еще приедешь когда-нибудь. Тогда и получишь ответ. Исчерпывающий, в трех экземплярах, с печатью. Куда торопиться? Десять лет общаемся, и до сих пор никакой спешки не было, чего ж теперь суетиться… — И, заметив, что Эдгар-Гарегин зашевелился, торопливо добавила: — Не надо меня провожать, тут уж я как-нибудь сама дойду.
Не дожидаясь очередного продолжения (как известно, любительницей душещипательных сериалов она не была), Пенелопа покинула полностью и окончательно совершенное творение германского духа в лице четырехколесного шедевра фирмы «Мерседес-Бенц» или «Мерседес без Бенца», говорят, они разошлись, Мерседес осточертел ее Бенц, и она — бенц! — выкинула его на свалку (как и следует неукоснительно и неумолимо поступать с мужчинами) и потопала дальше одна — она-то, наверно, поехала, германоподданная испанка Мерседес, покатила по Общему рынку под постукивание кастаньет и переливы фламенко, а потопала армяноподданная местами гречанка Пенелопа под мужественно сдерживаемые (до абсолютного подавления) стоны и рыдания отвергнутого воздыхателя, ну может, отвергнутого недостаточно категорично и без должной суровости, но… Что поделать, это в романах разрывы бывают громыхающими и полыхающими, рвутся снаряды, горят города, бьются в судорогах небеса, сотрясаемые разрядами молний, а в жизни все гораздо прозаичнее, трагедии спускаются на тормозах, отношения дотлевают и гаснут, и развязки похожи не на аннигиляцию, а на тихое умирание.
Довольная и недовольная собой Пенелопа осторожно пробиралась по затянутому тонким ледком двору, хваля и одновременно упрекая себя за твердость и непоследовательность, решимость и колебания, — за что именно она себя хвалила и в чем упрекала, она и сама толком разобраться не могла, все вместе, вперемешку.
Идти от угла дома, где стоял покинутый «Мерседес», до родного подъезда с полуразвалившейся, полузахваченной соседом лестницей (соседом лестницы, решительно двинувшим внешнюю стену своей веранды в наступление на чересчур, по его мнению, широкие — не Зимний же дворец! — ступеньки) было всего метров тридцать, но если б вслед не вспыхнули мощные «мерседесовы» фары, Пенелопа не добралась бы до места назначения нипочем, поскольку двор был погружен во мрак, глубокий, как в могиле, склепе, пирамиде Хеопса до нашествия археологов. В прежние времена двор бывал буквально забит машинами, летом, конечно, в особенности, но и зимой автовладельцы-безгаражники выстраивали свои почти части тела в два длинных ряда на полоске асфальта между узким тротуаром и засаженной деревьями серединой двора, частично присвоенной и превращенной в садики и огородики жителями окружающих домов. Теперь машин стояло всего три-четыре и не впритык друг к другу, как раньше, а вразброску. Одна пристроилась прямо перед родимым четвертым подъездом. Пенелопа, поглощенная изучением грунта (некогда здесь был асфальт, но повыбился настолько, что вполне заслуживал переименования в грунт) под не очень рифлеными подошвами своих отечественных и стараниями удержать равновесие на появившихся после недавней оттепели крохотных каточках, обратила на эту машину внимание лишь тогда, когда щелкнула дверца, и в двух шагах впереди выросла темная фигура. Пенелопа отчаянно струхнула… пардон, она собралась было отчаянно струхнуть, но не успела, а только начала — правда, стремительно — погружаться в состояние страха…
— Пенелопа, — сказал знакомый до последнего звучка голос, и все недоиспугавшееся Пенелопино существо затрепетало, как мокрая простыня на ветру. Обладатель голоса обогнул капот (и этот не кидается, не бежит, боится поскользнуться, рук-ног ему жалко!) и остановился перед Пенелопой, лихорадочно соображавшей, раскрыть объятия немедленно или повременить. Когда имеешь дело с их полом, ласки и восторги лучше немного придержать: чуть расслабишься, и им тут же взбредет в голову, что жизни без них нет. Самое верное — сразу наброситься с упреками, замешкаешься — все. Перехватят инициативу, иди тогда выкаблучивайся, оправдывайся неизвестно в чем. Итак… Пенелопа набрала в грудь воздуха — побольше, чтобы разразиться достаточно длинной тирадой, но любовь к красноречию ее погубила. Пока она занималась пранаямой, Армен выдал уже наверняка три минуты как готовую фразу.
— В чьем это тарантасе ты прикатила? — осведомился он якобы иронически, а на деле довольно-таки сурово.
— Мог бы назвать его телегой. Или рыдваном, — заметила Пенелопа.
Вот они, мужчины! После двадцати лет… то есть двух месяцев разлуки, вместо того чтобы повеситься на шею, целовать и душить в объятиях любимую женщину, устраивают сцену ревности! И главное, на пустом месте… Что бы ему такое наплести?
— Я была у тети Лены, — начала она деловито. — Ну и у дяди Манвела, естественно, и Мельсиды с Феликсом, Феликс, правда, отсутствовал, он уехал в Алма-Ату торговать водкой, то есть, наоборот, коньяком, вообрази себе, бросил свой институт, взял где-то три вагона коньяку и махнул в Казахстан, а у Мельсиды — представляешь мое положение? — оказался день рождения, ни с того ни с сего, с бухты-барахты… — Ох, Пенелопа, барахтаться тебе даже не в бухте, а в открытом океане, без надувной лодки или плотика и даже без спасательного пояса, разве что со свистком от акул, которые выдают в самолетах трансатлантических рейсов, то есть не выдают, а показывают, обещая выдать в случае падения, а в случае падения, сами понимаете, не до свистков, так что и свистка тебе, Пенелопея, не видать, только на акул и можешь твердо рассчитывать… — Ну я и влипла, разве их упомнишь, все эти дни рождения, свадеб…
— Похорон, — остановил поток ее словоизвержения Армен. — Ну и что?
— Там были гости. В том числе Вардан.
— Не хочешь ли ты сказать, что этот… гм… автомобильчик принадлежит Вардану?
Голос Армена звучал саркастически. Любому другому Пенелопа соврала бы, глазом не моргнув, но уверять Армена, что его однокурсник поднакопил на «Мерседес», было бы перебором, Пенелопа это отлично понимала и потчевать столь экзотической дичью подозрительного Лаэртида вовсе не собиралась, а питала намерения иные. Но только она приноровилась выложить байку о некоем приятеле Вардана, бизнесмене и автовладельце, который якобы развез всю команду по домам, и уже открыла было рот, как вдруг… Как вдруг в уютную интимность (ха-ха!) дуэта, как карканье ворона в щебет щеглов, разрушительно вторгся грубый, если не сказать наглый, голос:
— Пенелопа, чего от тебя надо этому типу?
Святотатственные слова. Пенелопа подскочила (благополучно закрыв при этом рот) и стремительно обернулась. Честно говоря, голос Эдгара-Гарегина таким уж грубым или наглым назвать было трудно, но его явление народу настолько ошеломило Пенелопу, что определения поточнее у нее не нашлось… впрочем, у нее вообще не нашлось слов, никаких, да и что тут скажешь? Бред сивой кобылы, белого мерина, шотландской лошади, шерри-бренди… а ангел, ангел-то где?! Чертовщина — хотя и черта поблизости не видать, сюда бы четырех черненьких, чумазеньких, с их уроками черчения, все отвлекли бы, это ж надо так вляпаться — как муха в варенье… да, но ведь в варенье! Вперед, Пенелопа, гвардия умирает, увязает в варенье, но не сдается, а вооружается большими ложками, надо всяко лыко обращать себе на пользу! И Пенелопа сказала победоносно:
— Знакомьтесь, ребята. Это Армен. А это Эдгар.
Минуту-две чаши весов колебались в положении неустойчивого равновесия, оба — плотный, в чуть оттопыривавшейся на талии лайковой куртке, набычившийся, налившийся кровью (это уже твои фантазии, Пенелопа, поди при свете фар разберись с цветом лица) Эдгар-Гарегин и худой, сутулый от постоянного нависания над операционным столом, бледнолицый (тоже теоретически) Армен — застыли в боксерской, а может, борцовской стойке со сжатыми кулаками и зубами, словно вот-вот сцепятся и покатятся клубком по мерзлой земле, тузя и царапая друг друга, но нет, не сцепились, чаша мира потяжелела, дрогнула, пошла вниз, и еще мерившие рассерженным взглядом соперника предполагаемые драчуны нехотя обменялись рукопожатием. Тогда Пенелопа тряхнула своей свежевспененной гривой и небрежно бросила:
— Не беспокойся, Эдгар, все в порядке. Это мой старый приятель. Езжай. — И когда Эдгар-Гарегин послушно повернулся и зашагал к своему «Мерседесу», сказала вдогонку: — Звони.
— О’кей, — ответил тот не оборачиваясь, и Пенелопа мысленно вздохнула — где вы, битвы гигантов, юные страсти, рукопашные, ну и рыцари тебе достались, бедняжка Пенелопа, со ржавыми мечами и тупыми стрелами, с каким облегчением разошлись, стоило слово сказать, разбежались, прямо-таки исходя миролюбием, нет чтоб оросить землю, по которой ступают… Это уже было, Пенелопа, не повторяйся, и потом, что за оросительный раж на тебя нашел, то слез тебе, то крови… ладно, бог с ними, не надо биологических жидкостей, но хоть пару затрещин они могли б друг другу отвесить, если не звон мечей, то звон пощечин — но, увы, здесь не Севилья и не Гренада, ни серенад, ни иных атрибутов пылкой страсти тут не сыщешь днем с огнем, не то что ночью, при выключенных фонарях. Ничего не поделаешь, надо покориться судьбе. Пенелопа перевела взгляд на Армена, тот стоял насупившись, смотрел на разворачивавшийся неподалеку «Мерседес». «Ага, трус, показываешь багажник», — думал он, наверно, но, впрочем, смотрел он или просто стоял лицом в ту сторону, не известно, большего, чем стойка, в темноте не разглядишь, стойка смирно с равнением направо, так, кажется, говаривали в военные, в смысле, пионерские годы, это ведь в пионерах выстраивали по линеечке, мероприятие так и называлось: пионерская линейка. Азы маршировки, школа коммунизма, белый верх, темный, чаще синий, низ, алый галстук, не линейка, а французский флаг, надо же, какая бездна вкуса таилась в доморощенных пионеро-вышколивающих Карденах… то есть, простите, не французский, а российский, у французов полосы вертикальные, интересно получается, неужто монархический заговор, как его в тридцатые-то проморгали?..
— Кто это был? — спросил Армен мрачно. — Надеюсь, ты не станешь утверждать, что замаскированный Вардан?
— При чем тут Вардан?! — возмутилась Пенелопа. — Я упомянула о Вардане только потому, что он твой приятель. И передавал тебе привет.
— Спасибо. И откуда же ему известно, что я приехал?
— А ему неизвестно. Он имел в виду средства связи. Он же не подозревает, что ты укатил и канул в небытие. Как во времена древних греков, когда не было ни телеграфа, ни телефона, ни даже почты.
— Зато была верность, — хмуро буркнул Армен. — Твоя тезка, в частности, двадцать лет сидела без мужика, но не каталась на вшивых «Мерседесах» всяких подозрительных нуворишей и не трахалась втихомолку с так называемыми женишками. Или я что-то путаю?
— Не путаешь, — ответила Пенелопа язвительно. — Продолжай.
— Жаль, что ты берешь пример не с нее.
— А с кого же?
— Ну, я не великий знаток изящных искусств…
— Послушать тебя, так я чуть ли не какая-нибудь Молли Блум.
— Это еще кто?
— Вместо того чтобы поминать всуе старика Гомера («которого ты тоже знаешь понаслышке», — подумала, но не сказала она, чрезмерно унижать мужчину не след), прочел бы Джойса, — объяснила с чуть насмешливым превосходством Пенелопа, сама дошедшая лишь до второй главы, но предварительно проштудировавшая последнюю, самую пикантную, о чем узнала от Анук, непостижимым образом добравшейся до конца романа (перескакивала небось как минимум через каждое третье предложение — Пенелопа упрямо не желала допускать даже мысли о существовании на планете, во всяком случае, во второй половине двадцатого века, индивидуума, способного одолеть целиком томище, которым можно забивать не только гвозди, но и опоры для электропередач). — И не ори так, соседей перебудишь. Я уже не говорю о маме, она наверняка не спит, караулит. Услышит, начнет скандалить, знаешь ведь.
— Знаю, — проворчал Армен, хотя, если честно, ничего он не знал, на собственном опыте уж без сомнения, ибо Клара была не из тех дам, которые устраивают скандалы посторонним или при посторонних. Головомойки, которые она задавала Пенелопе за перебуженных и назавтра не то чтоб обращавшихся с жалобами, но непременно докладывавших о насильственном пробуждении зловредных соседок (в первую очередь комоподобной Иды и да-будет-светской мадам, вечно развешивавших свои якобы сонные уши в непосредственной близости от зоны, где парковался Армен), происходили за закрытыми дверями, в узком, сугубо семейном кругу. Впрочем, назвать упомянутые процедуры головомойками означает допустить некоторую неточность, поскольку под головомойкой подразумевается, надо полагать, прискорбный случай, когда один (одна) моет голову другому (другой), а с Пенелопой все проходило отнюдь не так гладко, образно говоря, она частенько ухитрялась шайку кипятку, предназначенную для ее пышноволосой головки, опрокинуть на руки, если не на макушку кандидатки в банщицы. Несмотря на подобные осложнения, а может, и благодаря шансам на таковые, мать никогда не упускала случая ввязаться в драку — надо ввязаться в драку, а там посмотрим, как сказал Наполеон или не Наполеон, а другой забияка вроде Наполеона, Клары или той же Пенелопы, поскольку Пенелопа, как известно, любила скрасить пресное однообразие мирного сосуществования своевременно затеянной ссорой, в этом они с матерью были схожи, как их же большие пальцы на ногах, крупные и кривоватые. Заметим, что люди никогда не затевают ссор, если сам процесс ссородейства не доставляет им удовольствия, человек вообще очень редко добровольно занимается вещами, не стимулирующими центры наслаждения в его многострадальном мозгу. Пенелопа с Кларой, несмотря на постоянные декларации о миролюбии, на деле тяготели к войне, напоминая тем самым почивший в бозе Советский Союз. Однако война, которую они вели между собой, будучи, естественно, и холодной, больше заслуживала названия ночной. Клара, которая признавала лишь одну модель внутрисемейных отношений — диктатуру, притом с собой в качестве диктатора, полагала, что члены семьи обязаны блюсти установленные ею (в соответствии с общеармянскими стандартами, разумеется) нормы и не выходить из сколоченных ею же рамок, в частности, дочерям долженствовало переступать порог отчего дома (в направлении снаружи внутрь, конечно) не позднее двенадцати ноль-ноль. Посему она дожидалась упорно вытаскивавшую из рамок материнской работы все новые гвозди Пенелопу ежевечерне и с заслуживавшим уважения постоянством разыгрывала сцены, разнообразя их, как прирожденная актриса и недюжинный драматург. То она изображала безутешную мать, без пяти минут утратившую почти единственную дочь, то суровую блюстительницу нравов, оскорбленную легкомыслием неудачно воспитанной ею девицы, то просто смертельно усталую немолодую женщину, мечтающую о постели (в контексте сна, разумеется), но вынужденную до двух часов ночи поджидать предающуюся сомнительным развлечениям особу, по недоразумению приходящуюся ей дочерью. Что именно предстояло сегодня, Пенелопа пока не знала, как и каждый раз, она краешком сознания — при скептическом неверии остальной его части — надеялась, что мать легла спать, и лучше не будить лихо, пока оно тихо.
— Пойдем в машину, — предложил Армен. — Домой же ты меня не пригласишь?
— В двенадцать ночи?!
— Не ори, — иронически осадил ее Армен. — Перебудишь соседей. Не говоря о матери. Еще выльет нам на голову ведро холодной воды. У вас ведь есть вода? Не то что у нас, парий.
«Пария» жил на проспекте Маштоца, в хорошо скроенном и крепко сшитом здании постройки пятидесятых годов, но воды там не бывало почти никогда, как и в большинстве других домов этого столь привлекательного для снобов района.
— Не выльет, — буркнула Пенелопа, направляясь тем не менее к машине. — Вода, может, и есть, но окно открывать холодно.
В машине было тепло и комфортно, не так, как в «Мерседесе», конечно, но вполне приемлемо.
— Так кто же это был? — снова спросил Армен, теперь уже повернувшись к Пенелопе и испытующе глядя на нее. Как человек наивный, рассчитывая поймать ее на лжи. Ну да, бегающие глаза, дрожащие губы, трясущиеся руки, что там еще?
— Да так, старый приятель, — ответила Пенелопа беспечно.
— И чего он от тебя хотел?
— Ничего особенного. Замуж звал.
— Ну и как? Согласилась?
— Пока нет. Обещала подумать.
Это был один из немногих случаев в жизни Пенелопы, когда она говорила чистую правду, одну только правду и ничего, кроме правды, никаких фантазий, гипербол, даже малюсеньких, незатейливых, несущественных словесных украшений, но, несмотря на это, а может, и именно поэтому, ее объяснения звучали малоубедительно.
— Понятно. Старый приятель, который забрел на огонек к дяде Манвелу… в этом-то совершенно ничего удивительного нет, человек увидел свет в окошке, ну подумайте, в полном мраке — и вдруг освещенное окно, как не зайти, всякий зайдет!.. забрел, встретил там тебя, а что, и не такое случается, вспомнил, какой прелестной юной девушкой ты когда-то была, ну и, естественно, немедленно предложил руку и сердце. Или предложил подвезти, а уж по дороге решил не останавливаться на достигнутом и…
— Перестань, пожалуйста, — попросила Пенелопа хладнокровно. — Чего ты, собственно, бесишься? Сам ведь уехал, два месяца ни слуху ни духу…
— Ни два ни полтора. Ни дна ни покрышки. Ты что, думаешь, я там отдыхал? На высокогорном климатическом курорте с сероводородными и радоново-озоновыми ваннами плюс лечебный ультрафиолет и мощное психотерапевтическое воздействие водопадов?
— А там есть водопады? — заинтересовалась Пенелопа.
— Бог его знает. Там есть пациенты, это факт. Прочего не видел.
Вот трепло! Не видел. Увы, проверить, так ли это, Пенелопа решительно никакой возможности не имела. Был ли грот, где чернокудрая нимфа, пастушка и воительница, отложившая веретено, иглу, спицы и взявшая в руки АК, гладила под журчание родничка пристроившего голову на ее обтянутых камуфляжем коленях утомленного Эскулапа-Одиссея по высокому-высокому лбу (что греха таить, Армен гораздо ближе к лысине, чем Эдгар-Гарегин, ползучая плешь отвоевывает все новые участки, возвышая его лоб до бесконечности)? Или не было никаких гротов, пещер и водопадов, а где-нибудь в госпитале медсестра в кокетливой косыночке… почему медсестра?.. медсестры!.. две, три, пять медсестер, толстушек и худышек, длинноволосых и со стрижечками, густо накрашенных и с целомудренно не тронутыми макияжем лицами, и все грациозно вытанцовывают, черта с два, неуклюже топчутся вокруг молодого (почти сорок лет старикашечке), симпатичного (помесь Пьеро с Арлекином) холостого доктора, хлещут за его здоровье медицинский спирт, упиваются до положения виз… каких еще виз, Пенелопа, не виз, а риз, откуда это, неужто пьянство священников аж в поговорку вошло?.. неважно, главное, Цирцеи-свинюшки берут тем, что операционные инструменты в их власти… но Армена им не заграбастать, зря стараются — если стараются, может, все это твои фантазии, Пенелопа, ну что ты за ревнивица такая, венецианская мавра… мавра, Мавритания, маврикия, Мавроди, у МММ нет проблем… а у Пенелопы есть. Навалом. Хотя если следовать размеру, надо сказать: у Пенелопы… м-м-м… у Пенелопы нету попы. В рифму. И такое же вранье, ибо есть она у Пенелопы, есть, надо срочно похудеть… впрочем, позвольте! Явился Армен, а Армен чересчур худых не любит, это положительный факт (от слова «положить»). Но он ревнив. Это факт отрицательный. Правда, не настолько ревнив, как хотелось бы.
— А я привез тебе бусы из хризопраза, — сказал вдруг Армен жалобно. — И фотоаппарат купил. Воспользовался просветом в финансовых делах. Был такой.
— Просвет моментальный, как фотография, — вздохнула Пенелопа. — Или момент просветления, фотогеничный, как…
— Как Пенелопа, дочь Генриха Ненумерованного. «Кодак» купил. Правда, китайский. Но «Кодак» есть «Кодак».
— Не скажи, — возразила Пенелопа. — Бойся китайцев, дары приносящих.
— Так это не дар. Сорок долларов выложил. Буду тебя снимать. Сделаю альбом «Пенелопа без К°».
— Давай! — Пенелопа заметно оживилась. — Правильно. Снимешь меня, во-первых, в красной юбке и черной блузке со шнуровкой. Потом в зеленой маечке, которая в виде жилетика, и в шортах… нет, сначала в белой сорочке с белой юбкой, которые ты привез из Америки…
В Америке Армен был весной, ездил по некой гуманитарной линии, гуманитариям, правда, туда путь заказан, зато врачи катаются по ней взад-вперед пачками — не очень толстыми, типа сигаретных, по пятнадцать — двадцать в заход, вот и Армен попал в такую пачку. Приехали в благословенную Аризону, Атабаму, словом, то ли в зону, то ли на БАМ, пришли в больницу (это Армен рассказывал), естественно, не все разом в одно отделение, распределили по двое-трое. Благодать, чистота, лепота, аппаратура — можно тихо помешаться: приборы, агрегаты, диагностеры, компостеры, компьютеры, фу-ты-ну-теры, и стерегут все это великолепие церберы и церберши в белых халатах (может, и зеленых, про халаты Армен пропустил, а Пенелопа уточнять не стала), следят в оба, чтоб смотрели издалека, не дай бог, не коснулись святотатственной рукой какого-нибудь кардиографа или автобиографа, вдруг поломают, разнесут на куски, стащат электроды или тумблеры, просто испортят, наконец. Работенка при компьютере непыльная, приходит, скажем, пациент, у которого по вечерам болит большой палец левой, допустим, ноги. Тот, который при компьютере, набирает: левая нога, боль, вечер, и на дисплее немедленно появляется диагноз: «Боли в большом пальце левой ноги по вечерам». И рекомендации. Отрубить палец топором, а потом двенадцать-двадцать четыре-сорок восемь раз в сутки смазывать поливитаминопенициллингидрокортизонаспиринанальгинвалерьяновой мазью. Непонятно только, при чем тут врачи, посадили б оператора ЭВМ или программиста, и весь сказ. Хотя иногда могут понадобиться и врачи, Армен рассказывал, что кардиохирурги у них классные, ну ясно, у компьютеров рук пока нет, вот отрастят, и капут, перейдет западная медицина целиком в руки — уже не только в переносном, но и в буквальном смысле — компьютеров. Или роботов, ведь компьютер с руками и есть робот. И лишь в отсталых странах типа Армении лечить будут питекантропы вроде Армена — чудные такие штуковины из мяса и костей, непрактично обтянутые маркой белой кожей, глотающие вместо электричества куски животных и растений, с ходулями взамен колес и каким-то еще покрытым мехом круглым выступом наверху, словом, диковина… Ну а в Америке в питекантропах уже и сейчас нужды нет, нечего им в Америке делать, пусть там и шьют фирменные джинсы… Кстати!
— А перво-наперво снимешь меня в джинсах! — воскликнула Пенелопа радостно. — В моих любимых джинсах трубой и кожаной куртке! — воскликнула и увяла, вспомнила, что холод, как она выражалась, песий, в куртке и джинсах еще туда-сюда, но в шортах с майкой перед фотоаппаратом не устоишь, разве что будешь скакать, как кенгуру, но фотоальбом-то задуман не австралийской фауны, а Пенелопы… — Это ты в Карабахе фотоаппарат купил? — спросила она недоверчиво.
— А почему, собственно говоря, в Карабахе нельзя купить фотоаппарат?
— Я думала, там военное положение. Казармы, карточки, трудовая повинность, уверенность в конечной победе…
Армен усмехнулся:
— Что ты подразумеваешь под конечной победой? Взятие Вана или Эрзерума? С Карабахом ведь все ясно, он свободен и независим. Во веки веков.
— Это карабахцы так считают, у азербайджанцев на этот счет наверняка иное мнение.
— Естественно. Нации, Пенелопея, как и люди, живут каждая в своем вымышленном мире и верят, что он настоящий.
— Мой прадед и прабабка были эрзерумские, — сказала Пенелопа задумчиво. — Хотела бы я…
— Завоевать Эрзерум?
— А мамина мама у меня из-под Константинополя.
— Ага. Воистину аппетит приходит во время еды. А из Парижа у тебя никого нет? Пошли б сразу на Париж, чего разбрасываться по мелочам.
— Не говори глупостей, — рассердилась Пенелопа. — Почему обязательно завоевывать? Я имею в виду Эрзерум. В конце концов, и у турков может проснуться совесть.
Армен с сомнением пожал плечами:
— У наций нет совести. Это категория индивидуальная.
— Почему же нет? — обиделась за нации Пенелопа. — Есть и коллективный носитель совести, интеллигенция. Говорят же, интеллигенция — совесть нации.
— Ты что-то путаешь. Я такого не слышал. Вот про КПСС — да. Ну если у наций такая же совесть, как у эпохи!.. Ох, не завидую тем, кто попадется этим нациям под горячую руку… Что касается интеллигенции… На Западе и понятия подобного нет, а у нас интеллигенция если и была, то приказала долго жить. Кончилась интеллигенция. Все перестали читать книги, и это совсем не преходящее явление, как ты собираешься мне возразить. Это навсегда, потому что телевизор дешевле. А интеллигент, в моем понимании, тот, кто читает книги. Я вот себя интеллигентом не считаю, поскольку мне вечно не хватает времени на чтение.
— А кем ты себя считаешь? — полюбопытствовала Пенелопа.
— Специалистом. Подобием фурункула, как сказал Козьма Прутков.
— Не фурункула, а флюса, — поправила его Пенелопа.
— Да хоть нагноившегося аппендикса!
Пенелопа хихикнула.
— Слушай, ты, аппендикс! Мне домой пора. Уже, наверно, два. Или три.
— Положим, еще только полпервого.
— Все равно. Если тебе нечего добавить, я пойду.
Армен уставился на нее, и Пенелопе показалось, что он вот-вот произнесет сакраментальные, попахивающие флердоранжем слова, которые мечтает услышать каждая женщина, вне зависимости от того, что намеревается на них ответить — «я твоя навеки» или «пшел вон!». Банальные ответы на столь же банальные, но именно своей банальностью согревающие сердце фразы, как неизменно ласкает взор букет роз или услаждает вкус бокал шампанского… вслушайтесь!.. Банальные слова, явления, реакции, но в них соль жизни, видимо, это оттого, что сам человек нестерпимо банален, в миллиардах повторений заключенный в одну и ту же клетку из несчастных сорока шести хромосом, обыденных, как морковь, и вездесущих, как картофель… И почему бы не произнести, тогда бы день, тоже вполне банальный, завершился обязательным голливудским хэппи-эндом… Хотя хэппи-энд уже был, и не один, во-первых, удалось помыться, выражаясь по-гомеровски, счастливо окончилась маленькая, можно сказать, микроодиссея Пенелопы, во-вторых, продолжая в гомеровском же русле, пришла к финишу одиссея Армена, эта чуть побольше; одиссеи входят друг в друга, словно матрешки или обручи разного диаметра, у одной истории получается целых два благополучных конца… то-то и оно, два — ни к селу ни к городу, а вот три!.. Бог ведь любит троицу, так что для полного господнего удовлетворения хорошо бы добавить еще один счастливый финал (а-по-фе-оз!). Но Армен — атеист чертов! — угождать гипотетическому богу не пожелал. Сказал только: «Ладно, иди, я тебе завтра позвоню», и когда, небрежно, по-супружески чмокнув его в щечку, Пенелопа полезла из машины, кинул вдогонку: «Погоди, а бусы?», словно лишь об этих бусах она и мечтала всю жизнь.
«А что, и мечтала», — вздохнула Пенелопа, с помощью карманного фонарика устанавливая дислокацию замочной скважины. Но тсс! Она неслышно прокралась в замок ключом, отжала дверь вместе с утепляющими прокладками из скатанных валиками старых одеял и буквально просочилась в коридор, где после стольких усилий запуталась в наваленных грудой башмаках. Надо заметить, что львиная их доля принадлежала самой Пенелопе… справедливее было б, конечно, если б она принадлежала льву, но лев башмаков не носил, бегал босой в любое время года, то есть бегал бы босой, если б имел на то способности и желание, так что лев отпадал, отпадал и папа Генрих, аккуратный, без пяти минут педант или, вернее, педант спустя пять минут, поскольку мама Клара, по умению создавать беспорядок лишь немногим уступавшая Пенелопе, отучила его от ряда пагубных привычек, присущих педантам (по мнению Пенелопы, иссушавших душу и душивших ростки художественных талантов), однако не до конца, и он сохранил обыкновение держать в шкафчике как сандалии, так и ботинки. Что касается Клары, она снимала сапоги где-то в середине коридора и оставляла на видном месте, летнюю же свою обувь сгребла в угол, и методом исключения… Словом, Пенелопа запуталась в собственных туфлях, босоножках, сапогах и тапочках общим числом около тридцати, споткнулась, дернулась и выронила бусы, которые держала в левой руке, при попытке нашарить их в темноте обронила, как водится, ключи, потом сумку, потом снова бусы (зато удержала фонарик) и замерла на месте, ожидая, что разбуженная разноголосым шумом мать вот-вот возникнет во мраке с крохотной керосиновой лампадкой и, подсвеченная снизу дрожащим язычком пламени, как нелепая статуя Матери-Армении, застынет, воздев к небу руки… Какая-то тут вышла белиберда, у нее же лампадка, стало быть, воздеть она может только одну руку, и это не столь патетично, так что воздевать не стоит вообще. Может, поэтому она и не идет?
Убедившись, что из родительской спальни не доносится никаких подозрительных шорохов, Пенелопа зажгла предусмотрительно потушенный при проникновении в квартиру фонарик, положила его на ближайшую туфлю, избавилась от полушубка, подобрала раскинутое вокруг имущество и двинулась дальше в комнату. В комнате горела вторая лампадка (почему вторая?.. практически первая, ведь отличить их можно только по порядку появления, в остальном они как близнецы, хоть и куплены на разных улицах у совершенно несхожих людей), великодушно оставленная зажженной заботливым родителем — каким, угадать нетрудно, наверняка из-за этого мать с отцом долго препирались, мать возмущалась и доказывала неизбежность пожара, а отец разводил руками и убеждал, что нельзя вынуждать ребенка передвигаться в кромешной темноте. Пенелопа кинула прочие вещи в кресло и села на диван поближе к лампадке, чтобы рассмотреть подарок. Бусы были вкусно-зеленые, напоминая некогда любимые конфеты «Дюшес», бусины — маленькие, круглые, нанизанные густо, в несколько слоев, наподобие длиннющей узкой виноградной грозди. Пенелопа покатала их по журнальному столику, потом, ища, с кем бы поделиться своим восторгом, показала важно восседавшему рядом Мише-Леве, даже накинула их льву на шею, но сделала это неловко, бусы соскользнули и вновь со стуком шлепнулись на пол.
— Ах ты, продажная шкурка! — возмутилась шепотом Пенелопа. — Ты почему бусы уронил? Хочешь всех перебудить, да?! — Она подобрала бусы и поглядела на льва. — Обиделся, что ли? Так ты и есть продажная шкурка, братец, против правды не попрешь. Разве не тебя купили в магазине? Я же и купила, отвалила двадцать пять кровных рубликов, между прочим, а могла бы их на что-нибудь путное потратить. На бусы, например. Попроще, может быть, не такие красивые, но все же. А ты еще обижаешься. Ладно-ладно, ты же знаешь, что я тебя люблю.
Пенелопа и вправду любила Мишу-Леву. Она не только частенько хватала его и тискала в объятиях мягкое, пушистое тельце, она нередко и болтала с грустноглазым зверем, делясь с ним своими радостями и горестями, она ведь ужасно любила поговорить, а лев был отличным хранителем секретов — могила! Можно ли питать привязанность к игрушке, пусть даже огромной, ростом с трехлетнего человечка, к тому же меховой, уютной и обладающей хоть и пуговичными, но чертовски выразительными глазами? Вопрос риторический, и не только касательно детей, питающих к своим игрушечным приятелям пристрастие зачастую большее, чем к живым товарищам по играм. А разве собаки, кошки и прочие, на первый взгляд автономно существующие создания, не есть подобие полуигрушек, главное достоинство которых — вне зависимости от их личных или родовых качеств — способность быть объектом привязанности. Привязанности — вот те якорьки, посредством которых человек цепляется за жизнь, и чем больше таких якорьков, тем надежнее он прикреплен к этому малопривлекательному миру. Чем меньше привязанностей, тем они крупнее, одиночная — грозит превратиться во всепоглощающую страсть, а крах ее чреват гибелью безумца, сосредоточившегося на ней. Чтобы рассредоточить свои привязанности, люди заводят возлюбленных, собак и детей. Тогда уход родителей не оборачивается для них катастрофой. Хотя это все равно катастрофа. Пенелопа любила родителей. Армения — та страна, где любовь к родителям предопределена так же, как любовь к детям, без оглядки на степень душевной близости и взаимопонимания, она изначальна и неискоренима. С матерью Пенелопа ссорилась не реже раза в неделю крупно и десятки раз в день по мелочам, с отцом она сосуществовала в целом мирно, что во многом обуславливалось мягкостью, даже податливостью отцовской натуры, но также и большей, чем с матерью, близостью взглядов. Характером она пошла в мать, точный ее сколок, такая же импульсивная, говорливая, эмоциональная и склонная к конфликтам (хотя упорно от этого сходства открещивалась, как, кстати, и Клара), однако по мировоззрению отошла от той достаточно далеко, как казалось ей самой — бесконечно далеко (что, естественно, было очередным преувеличением — и этой склонностью к преувеличениям она опять-таки повторяла мать). Но любила она обоих одинаково нежно, и когда ей время от времени случалось представить себе мир без родителей, ее охватывал панический ужас, хотелось кричать, рыдать, биться головой об стену и кататься по полу. Потому что первый спутник привязанности — страх потери. Следовательно, отсутствие привязанностей избавляет от потрясений. А с другой стороны, человеку без привязанностей безразлично — жить или умереть. Из таких получаются герои, преступники и самоубийцы. То есть ничего путного… Ну и мысли у тебя, Пенелопа, на сон грядущий. Гляди, приснится какой-нибудь кошмар. Думай лучше о бусах. Хризопразовых, малахитовых, амазонитовых, обсидиановых… Обсидиан Пенелопе нравился меньше, чем мог бы, наверно, в силу того, что его в Армении слишком много. Так уж человек устроен, его привлекает лишь то, чего нет. Или недостаточно. Мужчины тянутся к тем женщинам, которые их не любят. Правда, Анук с Ником последнее утверждение оспаривают, но они же ненормальные. Психи, вороны-альбиносы, сони в меду.
Пенелопа меланхолично переложила подушки и Мишу-Леву в кресло, постелила себе, подумала, вернула Мишу-Леву в уголок — диван широкий, места хватит, быстро разделась, столь же стремительно натянула старую шерстяную водолазку, в которой спала последние дни, и полосатые вязаные гольфы для аэробики, не теряя темпа, задержала дыхание и нырнула в постель, как любитель моржевания ныряет в полынью. Брр! Пенелопа простучала зубами нечто, напоминавшее «Турецкий марш», подоткнула под себя одеяло, стараясь не оставить ни щелки, и замерла, ожидая, когда полость импровизированного спального мешка наполнится излученным ею же теплом… Боже мой, а эта мерзавка Мельсида дрыхнет в почти отапливаемой квартире, и не только она, множество всяких торговцев, взяточников, рэкетиров и прочих хозяев жизни согревается с помощью сжиженного газа, левого света, бензина, керосина… люди даже отопление в полу у себя прокладывают! Как в лучших домах Филадельфии! Да что это за жизнь такая! Ожесточившись, Пенелопа уже открыла рот, чтобы произнести ритуальное проклятие матери — чтоб Левон сдох… как вдруг!
Вдруг невыключенная люстра, под тяжелым бронзовым каркасом которой распростерлась, вернее, скорчилась, скомкала, свернула, смотала в клубок свое бренное тело Пенелопа, засияла, из всех девяти, изображавших по предписанию дизайнера свечки, тонкотелых лампочек брызнул свет — неподдельный, электрический, в триста шестьдесят ватт сразу. Но как же? А трансформатор? Ложная тревога? Да какая разница! Пенелопе, как всегда, когда давали свет, неудержимо захотелось выскочить из постели, кинуться поставить чайник, воду для купания, что-нибудь сварить, погладить, пропылесосить, включить электрокамин, почитать… Вот! Она огляделась. Стаута поблизости не было, наверно, остался на кухне, не вылезать же из-за него на морозный домашний воздух, только одинокий Джойс лежал на виду, придавив своим весом стеклянную гладь столешницы. Пенелопа нехотя высунула из-под одеяла руку и повлекла к себе толстый том. Deja vu! Она открыла книгу на странице сорок пять, руководствуясь заложенной между листами старой расческой с наполовину выломанными зубьями, и прочла: «Мистер Леопольд Блум с удовольствием ел внутренние органы животных и птиц»… Фу, какая мерзость! Пенелопа в очередной (сотый, тысячный, миллионный) раз с горестным стоном уронила книгу себе на грудь и взвизгнула — увесистый кирпич чуть не вышиб из нее дух. К тому же ей сразу представилась печень — нарезанная кубиками, поджариваемая на большой сковороде вперемешку с луком и морковкой, извергающая тошнотворный запах! Тжвжик Пенелопа не выносила с детства, с тех самых пор, когда после болезни Боткина ее пичкали печенкой без меры и без пощады. Ох уж этот Джойс! Поедать паренхиматозные органы! Подобную книгу надо читать в период пребывания на диете, отобьет аппетит вплоть до полного голодания. Хотя, как замечено выше, надобность в диете отпала, Армен худых не жалует, да и Эдгар-Гарегин в свое время уговаривал ее наесть килограммчик-другой. Оно конечно, беспринципно и унизительно идти на поводу у мужчин…
— Пенелопа! — послышался сонный голос Клары, и через секунду мать в полном объеме (включавшем несколько свитеров и махровый халат) предстала перед погруженной в философские размышления дочерью. — Пенелопа, ты дома? Когда ты пришла?
— Сто лет назад, — отозвалась Пенелопа безмятежно. — А ты чего встала?
— Так свет же. Пойду сварю на завтра лоби. Будешь есть лоби?
— Буду, — согласилась Пенелопа покорно.
Она со вздохом облегчения (надо признаться, ничего не поделаешь) положила Джойса на журнальный столик и неожиданно поняла, что идти на поводу у мужчин предопределено самой природой. Женской, разумеется. И это даже приятно — идти на поводу у мужчин. Единственная закавыка — никак, черт возьми, нельзя понять, у кого именно идти на поводу. Впрочем, и поводья — штука неоднозначная, водят ведь порой племенных лошадей, скакунов, фаворитов, чемпионов и лауреатов, а водит кто? Конюх? То-то и оно. Нет, эта проблема неразрешима…
Пенелопа стянула с носа одеяло и позвала:
— Мама!
— Ну чего тебе?
— Иди сюда, — велела Пенелопа и, когда мать появилась в дверях, сообщила: — Мама, я тебя люблю.
Секунду Клара смотрела удивленно, потом ее хмурое лицо подобрело… как она постарела, похудела, стала меньше ростом, волосы отросли, а корни все седые…
— Завтра я покрашу тебе волосы, — сказала Пенелопа решительно. — Краска есть? Нет? Я утром схожу, куплю. А теперь можешь идти. Спокойной ночи. И потуши свет.
— Спокойной ночи, — сказала Клара, щелкая выключателем.
Несколько минут Пенелопа слушала, как она звенит кастрюлями на кухне (ужасно шумная женщина, вся в дочь), потом притянула к себе Мишу-Леву, подумала, привстала и выдернула вилку телефона из розетки. Третий хэппи-энд состоялся (маленький такой хэппи-эндик, хэппи-эндишко), а четвертого не предвиделось. Нет такого бога, который любил бы квартеты, квинтеты, секстеты. А жаль. Следовало бы его выдумать, но нет охоты. Да и спать пора. И Пенелопа закрыла глаза.



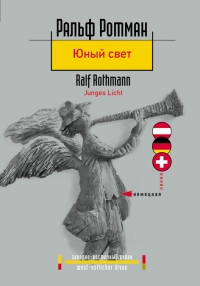



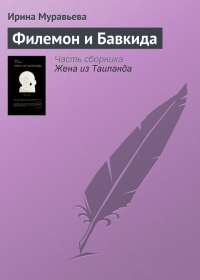



Комментарии к книге «Пенелопа», Гоар Маркосян-Каспер
Всего 0 комментариев