Сквозь давно не мытые громадные окна прокатного пункта косо падали с голубых небес полосы предвечернего майского света, весело желтели в муторной пустоте бессмысленно высокого и просторного помещения. Обведенные по краям золотистым контуром хаотично дрожащих пылинок, лучи солнечного света упирались в плохо подогнанные друг к дружке светло-коричневые кафельные плитки пола и будто дымились, расшибаясь об них, рассеиваясь золотистыми мушками.
Запах пропахших складской плесенью бетонных стен смешивался с запахами сигаретного дыма и более кислым папиросным дымком.
Приемщица курила сигареты, а сидевшая напротив нее, по другую сторону низенькой стойки, моложавая, ухоженная старушка — давно забытые миром папиросы. На разделявшем собеседниц прилавке сияла роскошная, похожая па вазу хрустальная пепельница — из тех, что могли быть выданы напрокат.
— На нашей клетке одна семья пьет беспощадно, до основания — гуталин разводят — и тот пьют. В пиво, например, хлорофосом — пшик, снова закрыли бутылку, взболтнули и пьют — дуреют на месте. А вторые соседи ничего, самостоятельные — водочные. — Не спеша рассказывала старушка. — А мой еще без меня отпился, у него вместо мочевого пузыря — нейлон. Я ему говорю: «Так что, выходит, если дам тебе раза по причинному месту, значит, мне из-за тебя в тюрьму садиться, да?!» Измучил паразит. А держу его чисто. Все соседи мной вполне восхищаются. Ему восемьдесят два года, а мне шестьдесят семь. И когда я, дура старая, за него выходила — и на нашей клетке, и в подъезде, и во дворе — все говорили: «Что же ты, бабушка, такая модная, красивая и за такого выходишь?» С сорок первого года я без мужа, в двадцать два года осталась вдовой с двумя детьми. И не смотрела ни на кого, и забыла, что я женщина. А теперь детей вырастила, внуков им подняла, и дети со иной не хотят жить — выдали пеня замуж. А он, не поверите, смотрит нахально, смеется и писькает, хулиган. Такой хулиган — восемьдесят два года! Голый выходит из своей комнаты и в мою — выставит своего петуха, а там все атрофировано. Но у него сила в руках, и не умирает, между прочим; морду наел на моих борщах; щечки розовенькие стали. Целый день есть отказывается — ни обедать его не дозовешься, ни ужинать, а потом всю ночь шарится по кастрюлям, мясо руками из борща выхватывает — сколько уж прокисло! Врачиху ему вызывала, а она говорит, ничего не поделаешь, бабушка, — старческий маразм, терпите. Любой, говорит, может дожиться — хоть вы, хоть я, хоть сам министр, генерал, академик — любой! Сейчас, говорит, бабушка, продолжительность жизни большая, поэтому многие не выдерживают — впадают. Тысячи тому примеров! — Докурив папироску, старуха ткнула ее в хрусталь пепельницы, загасила привычным, завинчивающим движением сухонькой кисти в бурых накрапах пигментации. — Вся ими жила, на них вся надежда держалась — на деточках, да-а… А они меня замуж, да еще так сделали, чтобы мы с ним съехались. А детям моя квартира перешла, тоже двухкомнатная. Так что теперь мне и деться некуда. Вы меня извините, конечно, но вот как можно вляпаться на старости лет.
— Не вляпывались бы, кто вам виноват? — едко спросила приемщица, пуская дым из ноздрей.
— Святая правда, — покорно согласилась старуха, — но вот ваши подрастут, тогда и поговорим, — закончила она с ноткой затравленности в голосе.
— У меня одна. Но я ей не дамся, ей-богу, не дамся!
— Ой, не зарекайтесь. Мне тоже все говорили: не давайся, не давайся ты им! Да куда денешься: дочка с утра до вечера только и капала: «Нет у нас с ним жизни, мама, нет. Да и откуда ей взяться — без самостоятельности?» Сын тоже ее поддерживал, хотя и молчком. Как-то крупный разговор у нас был с дочкой при нем, так я ей говорю: «Тогда к Вите уйду, если тебе не нужна». А он молчит. Так и промолчал, будто не слышал, газетку схватил и стал за мухой гоняться по всей кухне, пока не прихлопнул. А недельки через две его жена, Витина, как раз мне этого старичка нашла. Я согласилась. Куда деваться? И он такой жалкий был — думала, хоть кому-то нужна буду, хоть чужого старичка обихожу. Да и мои все так радовались, так подталкивали меня к этой семейной жизни. Поплакала, будто в молодости, и пошла под венец. Куда денешься: жалко их всех.
Заговорило молчавшее до тех пор радио — окончился перерыв. заговорило с победительным придыханием сначала что-то насчет кормов и удоев, потом про Чернобыль.
«Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце», — сказал в свое время Екклизиаст. Сквозь давно не мытые стекла косо съезжали на пол лучи солнечного света, радовали глаз, веселили душу неясной надеждой.
Окончившая в свое время десять классов приемщица подумала, что, наверное, атомы похожи вот на эти пылинки, танцующие в солнечном луче, только еще меньше: «В голове не укладывается — куда же еще меньше?!»
— Значит, оно с радио связано? — спросила старуха. — Так зачем же в каждом доме радио? Надо их поснимать.
— Радио здесь ни при чем. Там что-то другое, просто так называется — радиоактивность.
— Раз назвали, значит, связано, — возразила старуха, — так просто не назовут.
— Сколько угодно, — скривив полные, еще свежие губы, дерзко усмехнулась приемщица. — Вот, например, почему я называюсь «приемщица»? Я ведь выдаю людям вещи — значит, я «выдавальщица». Да, я самая натуральная выдавальщица!
Старуха не стала перечить, почувствовала, что тут у ее собеседницы затронуто какое-то коренное несогласие с жизнью, какой-то глубинный протест против судьбы и рутины. Чтобы не спорить и вместе с тем сохранить достоинство, старуха закурила новую папироску.
По-мужски, щелчком, выбив из пачки сигаретку, приемщица последовала ее дурному примеру. «А то и в подоле принесет!» — неожиданно подумала она о своей пятнадцатилетней дочке, и страх пробрал ее по спине холодными иголочками до крестца.
Старуха умиротворенно смотрела па рой золотистых пылинок и думала о том, как ей не хочется идти домой, какая тоска ждет ее там — один на один с законным супругом, который сейчас наверняка подсоединяет телефонный провод к радио, чтобы она, старуха, даже не могла позвонить, спросить про внучиков. знала, что двойняшкам-внучикам до нее как до прошлогодней травы, но прощала им все по молодости: вот пойдут через год в армию, даст Бог переменятся. Втайне старуха надеялась, что внучики о ней еще вспомнят, еще доживет она до того дня, когда попросят посидеть с маленькими.
Ее внучики были у сына, а дочка, хотя и жила со вторым мужем, но так и не обременила себя детьми. Сначала говорила «рано», а теперь говорит, «поезд ушел». «При чем здесь поезд?» — спрашивала старуха. «Ладно, замнем для ясности!» — всегда одинаково обрывала дочка, и в уголках ее густо подведенных ореховых глаз набухали алые слезинки, но только набухали, пролиться она им не давала — берегла краску.
Два года назад заехала старуха в этот чужой для нее район Москвы, и теперь сложилось так, что единственный человек, кто еще уделял ей внимание, была вот эта работница прокатного пункта, разместившегося в высоком нижнем этаже жилого крупнопанельного дома. По всем статьям приемщица годилась старухе в дочки, а разговаривали они на равных. Может быть, от того, что старуха не поучала, не кичилась своей старостью, а приемщица не подчеркивала свою сравнительную молодость, а может быть, потому, что женские судьбы их были похожи в главном — приемщица тоже осталась вдовой в двадцать два, едва родив. Старухиного мужа и его поколение выкосила война, а мужа приемщицы и его ровесников — бутылка. Не дай Бог, сравнивать с войной, но и бутылка — оружие массового уничтожения. Из тех, кого она прокатала, как тесто на лапшу, многие живые только по форме, а не по содержанию.
Как ни крути, а ей, старухе, кроме приемщицы пойти здесь не к кому. А что она знает об этой приемщице? А что приемщица знает о ней? Ничего не знают они друг о друге, да и узнавать не хочется — так лучше. Главное то, что как только приемщица увидит ее в дверях, так и заулыбается. Улыбается и сразу выносит большую хрустальную пепельницу, похожую на вазу, ставит ее на низкий прилавок, отделяющий казенную часть пункта от так называемого «зала» — места, где могут толочься прочие люди. Старуха придвигает к стойке один из нескольких приставленных к пустой стенке стульев, и они сидят курят, говорят про погоду, про цены, про всякие другие общие места, а больше молчат. Главное — не лезут друг к другу с откровениями. А вот сегодня старуха вдруг сорвалась, наговорила лишнего. И сейчас ей стыдно, она старается не смотреть в глава своей собеседнице — вдруг та подумала, что должна ответить взаимностью и рассказать что-нибудь не слишком красивое из своей личной жизни.
— Так я пойду? — неуверенно спросила старуха, докуривая вторую папироску.
— Да ладно, сидите, — приветливо улыбнулась приемщица, и на сердце старухи отлегло, как будто ее простили.
Все с тем же победительным придыханием радио объявляло о том, что желающие граждане могут взять напрокат свадебные платья и называло адреса прокатных пунктов столицы.
— Про нас, х-мм! — криво усмехнулась приемщица. Такая у нее была манера усмехаться — криво, с обидой, накопленной за многие годы еще с тех пор, когда однажды, в первое лето после школы, напоили ее в полузнакомой компании до беспамятства, и очнулась она наутро в чужой постели.
— У тебя и такое добро есть? — удивилась старуха.
— Есть. Теперь осталось одно, а завозили когда-то пять штук. — Приемщица невольно оглянулась в сумеречную глубину помещения, туда, где висело на плечиках свадебное платье — издали его было почти не видно, так, лишь край тускло отсвечивающего полиэтиленового чехла. Но она-то знала его досконально — каждую рюшечку. Что ни говори, а белое свадебное платье с фатой — это тебе не пылесос «Буран», не стиральная машина «Эврика», не коврик в прихожую. Словом, это была самая непростая вещь у нее на выдаче, и относилась она к ней по-особому, с душой.
Оставшееся в прокатном пункте свадебное платье значилось в описи под инвентарным номером 327. Платье было самого ходового размера — полнота сорок шесть, рост три. Как было записано в документации: «рост — 164 см, обхват бедер — 100 см, обхват груди — 92 см». Обычно пишут «окружность бедер», «окружность груди», а здесь употребили слово «обхват», и хотя не было указано, кто должен обхватывать, но все равно сразу веяло чем-то живым и веселым.
Платье было впору и приемщице и ее дочери — в свои пятнадцать лет та вымахала в такие дылды, что хоть под венец. Всего каких-то два года назад была девчушка, пигалица, а теперь форменная невеста — рослая, налитая, ступни тридцать восьмого размера, дай Бог, чтоб больше не росли!
«Неужели и она из атомов?! — подумала приемщица о своей дочери. — И я? И вот эта старуха? И пепельница? И пепел? Неужели все из атомов — чепуха какая-то!» Она ведь и в школе учила, и знала — таки-так — из атомов. Знать знала, но осознать не могла, хоть режь! Атомы эти были для нее вроде смерти — то, что умирают другие, даже близкие, понятно, а вот в то, что умрешь сама, как-то не верится.
Сквозь толстые витринные стекла в грязных потеках была далеко видна ярко освещенная предвечерним солнцем широкая новая улица: майская свежесть газонов, невысокие деревья в дымке молодых листьев, небольшая, но плотно сбитая очередь человек в триста у винного магазина — будто стоящих на пристани, в надежде сесть на корабль, что увезет их к спасенью; застывшие в глубокой чистой тени громады жилых домов, очеловеченные лишь разноцветными постирушками на балконах. А еще лет двадцать назад здесь дремали в беспамятстве глубокие, дикие овраги, заросшие колючим терновником. Говорят, что в оврагах водились зайцы, но в это сейчас так же трудно поверить, как и в сами овраги.
По дальнему от прокатного пункта тротуару, вдоль темной зелени газона пробирались к автобусной остановке знакомые старухе богомолки — чисто одетые, в косыночках, туго завязанных под горло, некоторые с палочками, точно стародавние странницы с посохами. Старуха многих из них знала в лицо, здоровалась, называла про себя «вольными бабками» и смотрела на них с завистью. Еще бы не завидовать — у них своя компания, с ними Бог. А что она? Как ей сейчас к ним пристать? Как присоединиться? Никогда прежде не ходила она в церковь, да и о Боге не задумывалась. Так только, когда, бывало, припечет, тогда и взвоешь: «Господи, пронеси! Господи, оборони!» А в нормальные дни не до Бога — крутись и крутись. То на камвольной фабрике, где проработала она, считай, всю жизнь среди мокрой шерсти в грохоте чесальных машин, то дома, то с детьми, то с внучиками. В церковь ходят по нынешним временам вольные бабки, а она никогда не была вольною. Лишь теперь, в последние годы, да и то со старичком на шее. Только и думай об его шкоде, только и спасайся. Ночью стала в своей комнате на крючок накидываться — мало чего ему взбредет — возьмет и голову отрежет. Врачиха говорила, такие случаи описаны. Зря, конечно, она это сказала, но уж больно начитанная в своем медицинском деле была врачиха, уж очень хотелось ей разъяснить насчет старческого маразма все до тонкостей. Да, сейчас бы она пошла в церковь, но как? Стыдно вдруг к Богу примазываться. А тем более вольные бабки все держутся кучкой, все такие неприступные, с поджатыми губами и с таким видом, как будто знают что-то такое, чего никто не знает. А тут еще ее дураковатое замужество. Правду сказать, если б не последний грех, попросилась бы она к вольным бабкам в компанию. На миру и смерть красна — в народе ничего зря не сказано.
«А что ж, того и гляди, выскочит через два-три года замуж и вполне может привести зятька, — продолжала думать о своей дочери приемщица, — и куда я денусь от зятька, а?!» Хоть и хорохорилась она перед старухой, но понимала, что деться ей тоже будет некуда. Вообще, она давно заметила, что чем дольше жила на свете, тем больше становилось для нее непонятного. А теперь еще с этими атомами история, только и разговору, люди гибнут. «Неужели все из атомов и даже сам солнечный свет?!» Принять на веру она могла, чего только не приходилось ей принимать на веру, а вот примириться. Нет… в голове не укладывалось!
И чтобы не мучить себя невообразимой картиной, приемщица стала вспоминать о прочих четырех свадебных платьях, бывших когда-то в ее ведении.
Одно платье утонуло вместе с пьяной невестой в Останкинском пруду.
Второе было залито красным вином и прожжено во многих местах сигаретами, отчего в белом капроне грязно желтели оплавленные дыры.
Третье — увезено за рубежи нашей Родины на горячий и пыльный Аравийский полуостров пышнотелой блондинкой лет двадцати трех. Приемщица хорошо ее запомнила: бело-розовую, с густо подведенными большими светлыми глазами без зрачков, в золотых серьгах-висюльках, в золотых браслетах на обеих руках, с обручальным кольцом такой толщины, каких она отродясь не видывала. А рядом, с большой желтой сумкой на ремне, стоял ее темнокожий друг-супруг — щупленький, поменьше нее ростом, в черно-белых лакированных ботинках на высоких каблуках, с быстрыми, маслянисто взблескивающими глазками, которые он потуплял воровато, но в которых опытному человеку все-таки можно было прочесть: пока он потерпит любые ее выкобенивания, пока не взнуздает, не покроет седлом, не подтянет подпруги. «Достань-ка мои белые туфли! Да не ставь ты сумку на пол, вот бестолочь!» — властно покрикивала она. Он исполнял все ее желания беспрекословно, только сладко жмурился в белозубой улыбке: «Иншаалла[1], доберемся до земли правоверных…»
А из четвертого платья, которое по протоколу о списании съели крысы, приемщица — она же завпунктом — как-то однажды, сгоряча, сшила своей дочурке две замечательные балетные пачки для ее занятий в хореографическом кружке. Те балетные пачки теперь валяются на антресолях их однокомнатной квартирки — балет заброшен дочкой давным-давно. А ведь как танцевала, какая была шустрая, как крутилась на одной ножке, а как пыталась ударять о ножку ножкой, как невесомо порхала! А сейчас подпрыгнет — посуда звенит! Боже мой, куда оно все девается? Как это так устроено, что одни и те же атомы превращаются из одного-совсем в другое?
«Заседания по производству молока и мяса выполнены успешно», — оговорилось гурчавшее без остановки радио. Но ни старуха, ни приемщица не заметили его оплошности — они уже давно не различали многие схожие слова.
Зевнув украдкой от старухи в ладошку, приемщица подивилась, как мало сегодня у нее посетителей, и стала вспоминать тех, кто востребовал последнее, висевшее в быстро темнеющем закутке за ее спиной, белое свадебное платье.
Сравнительно живо вспомнила только четырех невест: шатенку, брюнетку, блондинку, русую — она помнила их по масти, а во всем прочем невесты примерно совпадали — сорок шестой размер, третий рост — один и тот же обхват груди, обхват бедер.
Брюнетка была лет двадцати шести, алая, лютая, с вставными зубами. И огни, и воды, и медные трубы запечатлелись на ее припудренном, остроносом лице с большой выразительностью. Она так ловко цыкала на своего женишка, так деловито, будто знала наверняка, что обула его теперь по всей строгости закона на всю жизнь — никуда он от нее не денется — тут ему и крышка! Женишок был слегка «под мухой», молоденький, розовощекий, видно, только-только переставший потреблять щедро насыщенные бромом солдатские щи да каши. Перестал потреблять успокоительное, и тут же вздыбился весь его молодой организм на женитьбу. Он то и дело приговаривал: «Ништяк, прорвемся!» — и радостно икал от переполнявшего его восторга обладания благоверной.
Приемщица не разделяла этих восторгов, ее так и подмывало подойти и сказать ему на ушко: «Куда же ты лезешь, поросеночек?! Куда ты прешь с голодухи!»
Шатенка была молодая, оплывшая, с предродовыми пятнами на лице, с припухшими губами. Мучаясь токсикозом, все время прижимала ко рту большой носовой платок — видно, ее мутило беспрерывно, отчего взгляд был ошалелый, будто перепугали девушку спросонья, и она еще не вполне соображает, в чем дело, что происходит… Женихом у нее был невысокий статный мужчина лет тридцати, с маленькой черной бородкой, с рыжеватыми усиками и затравленным выражением голубых ласковых глаз.
— Смотри, как хорошо — фатой прикроюсь, и очень хорошо! — радовалась невеста пышности и таинственной воздушности свадебного наряда.
— М-гу, — покорно отвечал жених, а в ласковых голубых глазах проскакивали такие лукавые чертики, что было понятно: на языке у него вертится сейчас какая-нибудь не вполне безобидная шутка и вообще он еще не сломлен окончательно.
Блондинка и ее блондин были очень похожи друг на друга: одинаково сияющие серые глаза, ровные здоровые зубы, чистые светло-русые волосы, по живому текучему блеску которых угадывались и молодость, и здоровье, и неизжитые запасы душевных сил. У него была грива поменьше, у нее волосы густо ниспадали до пояса, а казалось, подстриги их одинаково — и не сразу поймешь: кто мальчик, а кто девочка. Им было по двадцати лет, и, кажется, оба были из какого-то приморского городка: то ли Симферополя, то ли Севастополя, то ли Ставрополя — приемщица сейчас точно не помнила, запало только, что из приморского, блондинка все тарахтела насчет моря, приглашала ее, приемщицу, в гости на лето. Она вообще была из тарахтушек. Первым долгом доложила, что оба они лимитчики: она работает приемщицей грязного белья в прачечной, а он шофером поливальной машины. «Оба связаны с чистотой! — смеялась она, щуря бьющие светом серые глаза. — Мыс горшков знаем друг друга. Да, в детсаду четыре года на горшках рядышком сидели. И в школе за одной партой все десять лет и до сих пор не надоели друг другу — такие мы, уникальные, ха-ха! Ой, прямо кому ни расскажешь — никто не верит. Только когда его в армию взяли, то я бросилась сюда, к вам в Москву, на разведку. Два года в прачечной, сначала, на тяжелой работе — на стирке-глажке, там тяжко, некоторые девчонки в обморок хлопаются, а теперь работа у меня легкая — принимай себе грязное, взвешивай, метки смотри. Тепло, светло, мухи не кусают, теперь я, считай, пробилась в люди, ха-ха! заочно в юридический поступила, чтобы законы знать, хи-хи! Теперь распишемся, комнатку дадут по лимиту, а там родим, и куда они денутся, а?» В ее чистых глазах так непреклонно сверкнуло, что приемщице стало ясно — никуда они от нее не денутся, от этой милой юной блондинки. Приемщица была коренная москвичка и потому остро почувствовала, что они для блондинки образ собирательный, образ всех тех, кто живет здесь, в столице, своим домом, а не скитается по чужим углам, не жмется по казенным койкам. С точки зрения бездомной блондинки, они — хозяева жизни, но ничего, поживем, увидим…
Как и большинство коренных москвичей, приемщица не любила лимитчиков, считала, что их слишком много, что они захватывают лучшие места, лучшие квартиры, в том числе и в самом центре, оттесняя аборигенов в далекие новые джунгли из стекла и бетона. Но блондинка не вызвала у нее антипатии, может быть, потому, что была в некотором роде коллега — тоже «приемщица», а скорее всего, от того, что хотя и занималась блондинка целыми днями грязным бельем в сыром и теплом подвале на одной из центральных старо-московских улиц, но веяло от нее такой чистотой, такой житейской добротностью и добропорядочностью, такой отвагой, каких она давно не встречала. Да и мальчишка был у нее славный — так и ловил каждое ее слово, но в то же время не поддакивал, не лез под каблук, держался пристойно, осанисто.
— Конечно, если по-людски, то свадебное платье надо бы пошить самой, я и думала его пошить, но нам неожиданно срок перенесли в загсе, а это нас сильно устраивает, — тараторила блондинка. — Мне всегда хотелось в свадебном белом платье, с фатой. Мы всегда так и представляли — только в Москве и чтоб к Вечному огню пойти — у меня дедушка погиб и у него дедушка. Чтобы все как у людей, как по телику, ха-ха! И родители приедут, и все будет у нас честь честью! У меня приданого уйма — подушек пятнадцать штук, и все пуховые! И это очень хорошо, потому что мы на одном не остановимся, у нас такой план — родить хотя бы пятерых, а лучше больше, ха-ха! Иначе русский народ переведется, так моя бабушка говорит!
Жених вежливо кивал, подтверждая слова блондинки, и было заметно, что он ее обожает.
— А какие красивые названия бывают у церковных праздников! — печально вздохнув, сказала старуха то ли себе самой, то ли приемщице. Провожая взглядом вольных бабок, медленно продвигавшихся к автобусной остановке, старуха вспомнила, как видела недавно у одной из них «Календарь православной церкви» — красный такой журнальчик с белым православным крестиком вверху. Одна бабка держала календарь в руках, а другая заглядывала в него, далеко откидывая голову, и читала вслух, названия праздников. Особенно запомнился праздник «Всех святых в земле Российской просиявших». Как красиво! Та же вольная бабка прочла далее, что это, оказывается, был день перенесения святых мощей царевича Дмитрия из Углича в Москву.
А приемщица все думала о своем, вспоминала уже другую невесту темно-русую. Темно-русая запомнилась своей редкой молодостью, на вид ей можно было дать лет пятнадцать, только развитые бедра и ноги выдавали в ней молодую женщину. И слабо развитая грудь, и тонкие плечики, и детское ненакрашенное личико с пухлыми губами — все протестовало против замужества. Приемщица даже потребовала у нее паспорт, где выяснилось, что подательнице сего исполнилось восемнадцать.
А жених был совсем взрослый мужчина, лет тридцати пяти — с крупными чертами лица, и глаза, кажется, были у него карие, мягкие, лучистые. Такие мужчины всегда нравились приемщице, о похожем она мечтала всю жизнь — о таком же уверенном в себе, добром, большом.
Помнится, когда они пришли, приемщица уже собиралась закрывать и сказала им, что опоздали, что теперь только завтра — еще мелькнула у нее мысль, что, может быть, этим спасет девчонку от раннего замужества. Мало ли как оно бывает — иногда достаточно пустяка, чтобы поломалось большое дело.
— Нет-нет, нам только сегодня, нам нужно сегодня, мы записаны на утро! — с ужасом лепетала девочка, и глаза ее наполнялись слезами.
— Не огорчайся, достанем в другом месте, — уверенно сказал немолодой жених и нежно прикоснулся к ее тонкому запястью. — Из-под земли, а достанем венчальное платье, — и улыбнулся приемщице, как бы прощая ее, понимая ее затурканность.
— Зачем же из-под земли, — смутилась приемщица, подумав, что этот действительно достанет из-под земли. — Мне не жалко, дочка без ключей торчит на улице, а там дождь, сами видите.
— А я на машине, подвезу, — сказал он просто, без заискивания.
Возможность не шлепать по дождю, не душиться в автобусе, не спускаться в парное подземелье метро мгновенно переборола искушение вмешаться в чужую судьбу, и приемщица согласилась выдать им белое свадебное платье. Они взяли его без примерки.
— Большая у вас дочка? — спросил он в машине. — Маленькая, но рослая, на три года моложе вашей жены.
— Невесты, — мягко поправил он, уверенно проскакивая на желтый глаз светофора.
— Да-да, простите, — иронично скривила губы приемщица. И вспомнила вскользь о том, о чем не любила вспоминать: о своей первой ночи с мужчиной, о невинности, израсходованной по пьянке. Вспомнила, как кричал этот лысый утром, сворачивая простыню: «Предупреждать надо в таких случаях! Куда я ее теперь? Придется в мусоропровод — скажу: «Не видел — и все». Ну ты даешь! Сказала б, да разве… Ну ты даешь!» Да, так было у нее с невинностью, а вот эта девочка выходит замуж по любви. Приемщица еще застала те дни, когда говорили: «Она честная, она нечестная!» Такое было разделение. Даже бывший муж попрекнул: «Или я тебя честную взял?» Уверял, что и пить начал по этой причине. И пить, и бить. Где он сейчас куролесит? Лет десять никаких вестей, никаких алиментов. Где, что, под каким стоит магазином? Хорошо, хоть на квартиру не претендовал — сгинул, и все, по-благородному. Она его не разыскивала — сердце подсказывало, что жив-здоров. А раз так, не разыскивала из гордости, не гонялась за его алиментами по всей России. «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз!» — пела про него дочка, когда была маленькая.
Как и тогда в машине, защемило сейчас у приемщицы от всех этих воспоминаний сердце, заныла душа: заворошилось все хорошее, на что были когда-то надежды во всей её многотрудной жизни матери-одиночки.
— Раньше в церкви венчались, как красиво! — сказала старуха, глядя в окно на загородивший богомолок автобус, в который те и должны были взобраться.
— Сейчас тоже венчаются, — отвечала приемщица. — Сейчас с каждым годом все больше и больше венчается. Возле нашего дома недалеко церковь. Туда и с этого микрорайона ездят.
— Надо же, — уныло сказала старуха, думая, как хорошо бы ей все-таки пристать к тем вольным бабкам, которых увез сейчас автобус. Хорошо бы, но как?
По ближнему к окнам тротуару большая толстая старуха в шляпке и грязно-рыжем плюшевом салопе, словно видение из начала двадцатых годов, сопровождала на тонком ременном поводке огромного рыжего кота, настолько зажиревшего, что он не мог повернуть шеи, будто волк, и смотрел своими круглыми глазами прямо перед собой, не мигая.
— Какой толстый, — развеселилась старуха, — регистрированный!
— Ага, кастрированный, — засмеялась приемщица, — ему не надо жениться, он свои проблемы решил. Чем только люди не занимаются — собак развели, кошек, рыбок, бессловесная тварь — она дешевле и гадости тебе не сделает на старости лет никакой, — иронично закончила приемщица.
— Это неправильно, я думаю, — поддержала ее старуха, — и собакам здесь мученье, и кошкам, и детям от них одна зараза. А куда денешься — всем чего-то живого хочется, всем тепло нужно.
— Запретить на фиг законом! — убежденно сказала приемщица, и ее поблекшие глаза вспыхнули молодо, яростно.
— Да уж, матушка, это слишком! Сколько можно запрещать? Все не запретишь, чего-нибудь да просочится. Водку запретить, собак запретить — много запретов тоже нехорошо. На каждый запрет нужно и разрешать чего-то. А из одних запретов жизнь не выстроишь.
— Ничего, перебьются. Что алкаши, что эти собачники, и всякие кошечники… От Москвы только за семафор отъедешь — жрать людям нечего, а эти собаки и прочие кошки, сколько они съедают, а?!
— А как же свадебное платье, и вдруг напрокат, — сказала старуха, уводя разговор от острой темы, — оно же должно быть свое, на память оставаться, навечно. У меня и то осталось, хоть простенькое платьице, ситцевое, хоть в дырах, но я не пустила его на тряпки, сберегла.
— Навечно ничего не бывает, — закуривая новую сигаретку, сказала приемщица.
Старуха обрадованно последовала ее дурному примеру: дунула в мундштук папироски, чтобы не попали в горло табачные крошки, закурила, затянулась сладостно, с удовольствием.
— Навечно не бывает, — повторила приемщица, — все напрокат. Попользовался — заплати и слазь. Даже сама жизнь и то нам дается во временное пользование, — закончила она по-казенному сухо, как будто читала формуляр описи.
— Да, конечно, — поспешно согласилась старуха, хотя никогда не задумывалась, навечно ей дадена жизнь или только попользоваться и сдать. «А что, вот и они мною попользовались, взяли напрокат, а теперь сдали замуж», — радостно подумала она о детях, оправдывая их поступок общим ходом вещей.
Радио играло бравурную музыку.
Старуха вспомнила о своих губошлепах внучиках, которые никогда не задумываются о ней точно так же, как не задумываются о своих родителях, а только о себе, о своей личной жизни. Года два назад сын Витя сделал им про это замечание, а они в ответ: «Имеем право, у нас еще год детства!» Тогда им было по пятнадцати и вот они заявили, что, мол, недоели счастливое детство. Сейчас по семнадцати, а все недоели… Но, может, они правы? Не полностью, частично. Ведь если сильно подумать, то каждый имеет право на свою жизнь. Это только ей в голову не приходило, некогда было задуматься. Всю свою жизнь, до копейки, она отдавала то детям, то внучикам, то фабрике. Теперь даже дедку полоумному отдает, будто заведенная, даже с удовольствием. Но ведь он чем платит?.. Хорошего мало, но лишь бы войны не было! «Лишь бы войны не было» — это она исповедовала всегда, как самую главную свою веру. Она хорошо помнила и войну, и голод тридцать третьего, и голод сорок шестого. Чего там сравнивать — совсем другая теперь жизнь, ничего общего. Дай Бог, пусть так и будет, только бы хорошо, чтобы все-таки улучшалось. И без этих проклятых атомов, про которые даже подумать нельзя понятно, не то что высказать.
— Так я пойду? — спросила старуха, гася папироску в тускло мерцающей в тени хрустальной пепельнице.
Приемщица не удерживала. Глаза ее были где-то далеко-далеко и от этого приемного пункта, и от старухи.
Выйдя на улицу, старуха пошла домой дальним кружным путем. Вечер предстоял долгий, светлый, и коротать его нужно было приноравливаться одной, лично.
«У нее тоже не медовая жизнь, — подумала старуха о приемщице, — а ведь еще молодая, всего хочется». Старуха вспомнила свою камвольную фабрику, где работали сплошь женщины, многие из них матери-одиночки или вдовы. «Камифольную или канифольную фабрику», как говорили у них. Старуха и до сих пор не подозревала, что камвол от немецкого kammwolle — чесаная шерсть. Так и проработала сорок лет под непонятной вывеской, да разве она одна? Иногда ей и сейчас снятся грохот и скрип чесальных машин, запах мокрой шерсти, мелькание голых по локоть сноровистых женских рук.
Очередь у винного магазина была такая же монолитная, но внутри нее как бы зарождалась морская зыбь, очередь начинало раскачивать — время шло к закрытию магазина, многие нервничали, что им может не достаться спасения, а ведь все вокруг говорят, будто водка помогает от атомов. «Неужели помогает? — подумала о том же старуха, — чудеса. Но, если говорят, значит, знают, так просто не скажут».
Громады домов на той стороне улицы стояли уже в глубокой тени, развешанные на балконах разноцветные постирушки стали от этого ярче, похожие на соты пчелиного улья окна отливали почти черным лаком.
А тем временем приемщица быстро закрыла двери на засов и кинулась в закуток, к висевшему на плечиках свадебному платью в нахолодавшем полиэтиленовом чехле. Минут через пять она стояла перед большим трельяжем в белом подвенечном платье с фатой, и лучи почти скрывшегося за громадами домов майского солнца освещали всю ее, как оказалось, по-девичьи стройную фигуру.
Радио играло марш. Не свадебный марш Мендельсона, но что-то близкое. Глаза приемщицы светились неизжитой жизнью; делая мелкие шажки, она старалась не высовывать из-под длинного белого подола ноги в стоптанных туфлях, старалась не портить картину. Лучи веселого желтого солнца падали сквозь широкие, давно не мытые окна прокатного пункта, совсем полого, и тысячи тысяч пылинок дымились в них золотистыми мушками, жили своей жизнью, расшибаясь о кафельные плитки пола, и сладок был солнечный свет, и приятно для глаз было видеть солнце, горящее на подоле подвенечного платья.
Примечания
1
Если будет угодно аллаху (арабск, прим. авт.).
(обратно)







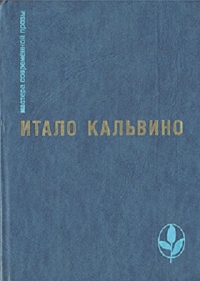


Комментарии к книге «Свадебное платье №327», Вацлав Вацлавович Михальский
Всего 0 комментариев