ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта загадочная история началась с обыкновенного телефонного звонка. Мне позвонила некая дама с приятным грудным голосом и, извинившись передо мной за то, что отрывает от творческой работы, объяснила, что она давнишняя поклонница моего таланта — цитирую по памяти, но очень близко к тексту, — что она читала еще в журнале мою повесть «Памятник», что ей нравится книжка «Выход», она очень тепло относится к роману «Компаньон» и довольно высокого мнения о моем последнем романе «Орден хитрецов». И только, пожалуй, «Тиф» ей не совсем близок по своему жанру, потому что она не любит антиутопии…
Мое писательское сердце, естественно, тут же растаяло, и я довольно легко согласился на встречу, о которой она деликатно, но довольно настойчиво попросила, объясняя свою неожиданную просьбу очень важным для нее, а возможно, и для меня делом.
Мы встретились около Центрального дома литераторов, где, как я предполагал, мы можем спокойно побеседовать, спустившись в «нижнее», умеренно-либеральное по ценам кафе.
Ее звали Мария. Я потом удивился, узнав, сколько ей лет. Тогда же я ей дал чуть больше сорока.
Это была довольно высокая, крупная и полная женщина. Полнота ее была равномерна и, я бы сказал, гармонична.
У нее были большие прекрасные руки, великолепной формы ногти. Ее слегка удлиненное, с высокими скулами, свежее лицо было красиво, а большие зеленые глаза смотрели умно и приветливо.
Она часто и охотно улыбалась, обнажая при этом безупречные молодые зубы. Ее сочные губы, слегка тронутые помадой очень спокойного цвета, двигались как-то по-особенному и очень привлекательно. Потом я много раз ловил себя на том, что во время разговора заворожено смотрю именно на них.
В фойе я помог Марии снять элегантное широкое пальто и, пропустив вперед, невольно, в силу застарелой мужской привычки, окинул ее взглядом с головы до ног.
Она была полнее, чем казалась в пальто. И талия у нее была полная. Но она была! И очень была! И мощные, прекрасной формы бедра имели место. И стройные, хоть и полные, ноги с тонкими щиколотками, на высоченных каблуках, поражали своими изысканными линиями. И походка у нее была широкая, стремительная и, я не побоюсь этого слова, легкая!
Но что в ней было совершенно удивительно — так это какой-то необыкновенный талант собеседника. Она так живо слушала, так точно реагировала на любой оттенок мысли, словно понимала не только то, что ты коряво выговаривал своим деревянным языком, но и то, что ты хотел бы этим сказать.
Любую, даже самую ничтожную мою попытку пошутить она поддерживала заразительным смехом. При ней хотелось говорить и бесконечно острить. И слова находились, и мысли, и самоирония.
Я угостил Марию шампанским. Мы болтали ни о чем, не торопясь приступать к делу, я наслаждался ее обществом, и только одно обстоятельство тайно меня тревожило. Еще в вестибюле я галантерейно принял из ее рук красивый полиэтиленовый пакет с рекламой какой — то очень модной фирмы. Внутри я мельком заметил нечто завернутое в газету «Вечерняя Москва». Пакет был тяжелый, будто в него засунули пару кирпичей. Господи, обреченно подумал я, неужели и эта, такая красивая, ухоженная, уверенная в себе женщина всего- навсего графоманка?
Каждому профессиональному писателю знакомо это чувство глухой, тоскливой безысходности, когда вполне приличный с виду человек вдруг меняется в лице и начинает торопливо и как-то по-воровски всучать тебе свою рукопись, бормоча при этом, что ему от тебя ничего не надо, только одно слово: стоит или не стоит продолжать…
А потом, когда ты, опрометчиво перелистав рукопись, из чистой вежливости скажешь ему, что продолжать, безусловно, стоит, имея в виду, что это занятие уж всяко лучше, чем пить водку и гонять в пьяном виде тещу, тут же возникает следующий, уже совершенно запредельный вопрос о твоем содействии в публикации сего шедевра. И печальнее всего бывает, когда это твои родственники или добрые знакомые…
Надо сказать, что все худшие мои опасения тут же оправдались. Как-то сама собой возникла многозначительная пауза, Мария проницательно улыбнулась и сказала:
— Как вы давно уже догадались, в этом пакете рукопись. И в связи с ней возникают определенные проблемы… — Она улыбнулась своими полными сочными губами, однако в глазах сквозила озабоченность. — Я нахожусь сейчас в положении Буриданова осла. Мне очень хочется опубликовать эту книгу — больше того, я считаю это своим долгом, но я категорически не желаю, чтобы она хоть каким-нибудь образом была связана с моим именем.
— В чем же тут проблема? — уныло пробормотал я. — Опубликуйте ее под псевдонимом.
— Вы предлагаете мне пойти в издательство, так или иначе ввести в курс дела десяток человек и надеяться при этом, что мое имя останется в тайне? — с мягкой иронией спросила она.
— Тогда просто пошлите туда рукопись бандеролью, — вяло предложил я, уже понимая, что обречен.
— Разве вы не знаете, как относятся в издательствах к так называемому «самотеку»? — спросила она, проявляя определенное знание предмета. — Мне хотелось познакомиться с вами и убедить вас, что я самый нормальный человек и мало похожа на графоманку.
— Но почему вы обратились именно ко мне?
— Я уже говорила вам по телефону, что читала все, что вы написали. Мне кажется, что вы скорее меня поймете, чем кто-либо другой. К тому же перед публикацией рукопись обязательно потребует какой-то работы, и тут я доверяю вам больше, чем другим.
— Разумеется, — пробормотал я и приподнял, как бы взвешивая, пакет, стоявший на соседнем стуле, — каждая рукопись требует работы и, если б речь шла о небольшой новелле, я с удовольствием посвятил бы ей день или два из своего очень напряженного рабочего графика, но, судя по весу, работы здесь на два-три месяца… Вы должны отчетливо понимать, что вы сейчас предлагаете мне заняться вашими делами, отложив тем самым свою работу, которой я, между прочим, кормлю семью…
Она хотела что-то возразить, но я жестом остановил ее и продолжал:
— Даже если вы согласны назначить мне очень высокий гонорар за литературную обработку и редактуру, а это всегда процентов на тридцать переписка за автора, то я, к сожалению, вынужден отказаться… Я сейчас не имею никакой возможности заниматься чужой работой, так как по самую макушку поглощен своей.
— Вы совершенно не о том говорите, — мягко улыбнулась она. — Я вам дарю эту рукопись.
— Не понял… — растерянно пробормотал я.
— Просто дарю. Прочитайте, поправьте, что сочтете нужным, и публикуйте под своим именем…
— Но как же?.. — совсем смутился я.
— Публиковал же Пушкин «Повести Белкина».
— Да, но Пушкин эти повести написал сам! — нашелся я.
— Вы же говорили, что вам предстоит переписать рукопись не менее чем на треть; Так что можете смело ставить свое имя.
— А если я сочту, что издание этого текста, даже при самой тщательной доработке, невозможно?
— Это исключено, — без всякого пафоса возразила она.
— Но сейчас такое время, что при всех художественных достоинствах в первую голову издается то, что можно быстрее продать…
— Поэтому я и уверена в том, что вы это издадите.
Мы помолчали. Я смотрел на нее изучающе, она на меня благосклонно.
— Ну, хорошо… — наконец заговорил я. — Вы ведь читали Хемингуэя?
— Я читала Хемингуэя. — Она улыбнулась с таким видом, будто знала, к чему я клоню, но из вежливости не хотела меня останавливать.
— Так вот, — гнул я свое, — в одной из своих статей он сказал, что сейчас только последний романтик может думать, что где-то существуют еще не открытые, никому не известные мастера…
— Если рукопись окажется совершенно профнепригодной, то растопите ею печку, — не моргнув ответила она.
— Проще вернуть ее вам, — сдержанно улыбнулся я.
— Мы с вами больше никогда не увидимся, — сказала она, также улыбаясь.
— Что значит «никогда»?
— Никогда — это значит никогда, — пояснила она. — Жгите смело.
Мы снова замолчали.
На этот раз первой заговорила она:
— Вам не кажется, что наш разговор несколько пробуксовывает?
— Попробуем сдвинуть его с мертвой точки, — сказал я. — Предположим, что я поверил в эту историю и подготовил рукопись к печати, каким образом я перешлю ее вам?
— Для чего? — живо поинтересовалась она.
— Вы должны прочитать и завизировать текст.
— Что значит «завизировать»?
— Поставить свою подпись, что будет означать ваше согласие с моими доработками и изменениями текста.
— Я же сказала, что полностью вам доверяю… — В голосе ее послышалось еле уловимое раздражение. — Мы действительно пробуксовываем. Я не понимаю, что вам стоит взять рукопись, прочитать и решить, работать с нею дальше или выкинуть к чертовой бабушке на помойку. Только я прошу предварительно порвать ее. Это, конечно, труд, но вы же еще недавно были согласны посвятить мне несколько дней своей драгоценной жизни.
Я поднял руки.
— Сдаюсь! Больше ни одного лишнего слова! — Тон мой независимо от меня сделался игривым. — Я все понял, меня все устраивает, я со всем согласен, кроме одного…
Она вопросительно подняла брови.
— Неужели мы действительно никогда не увидимся?
— Никогда.
— А если случайно, на улице или в магазине?
— Не думаю… Я редко выхожу из дома. А по улицам и вовсе не хожу.
— Ну тогда в каком-нибудь модном месте, на вернисаже или на премьере? — не унимался я.
— Тогда, я надеюсь, вы сделаете вид, что не знаете меня, и не попытаетесь выяснить мой телефон или адрес. Поверьте, ничего хорошего из этого не получится…
Я понял, что не следует настаивать.
— Жалко, — обреченно вздохнул я. — Но раз у нас с вами нет никакого будущего, то остается только продлить настоящее. Позвольте, я еще возьму шампанского?
— Конечно, — улыбнулась она.
Я сходил за шампанским. Мы выпили за то, чтоб мне веселей читалось, и я все-таки не удержался:
— Почему же вы так уверены, что ничего хорошего от нашей «случайной» встречи не получится? Мне, наоборот, кажется, что это будет очень хорошо…
— Доверьтесь моему опыту… — сказала она.
Мы допили шампанское, стараясь в разговоре не касаться ни рукописи, ни продолжения знакомства; я посадил ее в такси и отправился домой, сгорая от нетерпения поскорее заглянуть в этот тяжеленный пакет.
Потом я его для интереса взвесил. В нем оказалось ровно семь килограммов. Правда, рукопись была напечатана на очень плотной и дорогой бумаге. Особенно меня порадовало то, что шрифт принтера был сочный, крупный, так что читать было неутомительно. И что самое приятное — к рукописи прилагались две компьютерные дискеты с тем же самым текстом. Это сильно облегчило мою дальнейшую работу.
Дома, раскрыв рукопись на минуточку, чтобы понять, о чем идет речь, я очнулся часов через шесть, когда меня позвали ужинать. Отложив с огромным сожалением текст, я вдруг осознал, какой подарок мне неожиданно преподнесла судьба. Наскоро поужинав, я снова заперся в кабинете.
К вечеру следующего дня я закончил чтение.
Созвонившись со своим издателем и рассказав ему все, я заручился его поддержкой и приступил к работе.
То, что из всего этого вышло, сейчас перед вами, дорогой мой читатель.
После долгих колебаний я, как она и хотела, все ж таки поставил свою фамилию на титуле этой книги. Но сделал я это только потому, что вам, уважаемый читатель, не совсем привычно покупать книжку, не имеющую автора или подписанную инициалами или неполным именем, скажем, Мария N… Это как бы намек на то, что за содержание книжки никто персональной ответственности не несет.
Это особенно невозможно для такой книжки, где упоминаются впрямую или косвенно вполне реальные исторические фигуры.
В конце концов, я редактор и доработчик этой книги и несу за ее содержание полную ответственность. Ведь именно я решал, сохранить ли прямое указание на историческую личность или немного подретушировать, приглушить намеки на реальный прототип, чтобы его фамилия не вычислялась однозначно, чтобы у читателя оставались шансы на ошибку.
И в силу этого, а также из-за того, что, на мой профессиональный взгляд, в рукописи бытовых, кулинарных, портновских, физиологических и прочих подробностей было гораздо больше, чем это способен вынести современный читатель, я безжалостной рукой вычеркивал все лишнее, оставляя лишь самое необходимое. Таким образом, я сократил авторский текст ровно наполовину.
Но при этом, могу смело заверить уважаемых читательниц и читателей, я не выбросил из текста ни одной истории и не «спрямил» ни одной сюжетной, а стало быть, и жизненной коллизии.
Уставши сокращать, я невольно задумался: как же она так быстро (с июня 1995 года до нашей встречи осенью 1997 года) и так хорошо могла все это написать? И утверждать при этом, что взялась за перо первый раз в жизни?
Поразмышляв на эту тему, я пришел к выводу, что, конечно же, этот текст писался ею гораздо дольше. Не исключено даже, что первоосновой этому произведению послужили личные дневники…
И все-таки я очень долго сомневался, прежде чем поставить свое имя на титуле книги, ведь количество моих собственных слов в этом тексте ничтожно мало и приближается практически к нулю. Но потом я подсчитал приблизительное количество слов, изъятых из рукописи. Их оказалось пятьдесят процентов. Этого более чем достаточно, чтобы успокоить мою совесть.
Как вы, наверное, уже догадались, текст, с которым вам сейчас пришлось ознакомиться, — не что иное, как предисловие издателя. Но я специально не указал на это в заголовке, потому что никто не стал бы его читать. У нас не любят предисловий. Итак, к делу!
ПРЕКРАСНАЯ ТОЛСТУШКА (подлинные записки Марии N…)
1
Оглядываясь на свою бурную, переполненную любовью и страданиями жизнь, я глубоко осознаю мою ответственность перед грядущими поколениями, потому что была не только свидетельницей, но и участницей многих исторических событий, невольно оказав влияние на судьбы некоторых известных соотечественников, а также жителей далеких стран, чьи жизни, словно на потеху, насмешливое Провидение на мгновение сплело с моей, чтобы потом разлучить нас навсегда.
Среди тех, кто прошел через мое сердце, были самые разные люди: нарком, перед которым трепетала вся страна, и вор в законе; комсомольский вождь высшего ранга и профессиональный игрок; настоящий принц и приемщик вторсырья на Зюзинской свалке; знаменитый певец и продавец мандаринов на Центральном рынке; величайший футболист; придворный художник и не признанный при жизни гений; мировая кинозвезда; ответственный работник КГБ; известнейший диссидент; гомосексуалист; цыган; сексуальный маньяк; начинающий писатель; китобой; скульптор с мировым именем; грузчик базы Ресторанторга; чемпион мира по шахматам; светило современной медицины; красавица психолог; космонавт; джазовый музыкант; капитан атомной подводной лодки…
Их чины, звания, положение в обществе, состояния не имели для меня никакого значения. Правда, каждый из них, прежде чем тронуть мое сердце, чем-то поразил мое воображение.
Однако все вышесказанное вряд ли заставило бы меня взяться за перо. И только глубокая озабоченность вашими судьбами, мои дорогие подружки, подвигла меня на сей титанический труд.
Я знаю, что многие из вас стыдятся себя, стесняются лишний раз показаться на людях, страдают от своей полноты, сидят на всяких дурацких диетах, которые в конечном счете приносят только лишние килограммы, и проклинают тот день, когда появились на свет Божий.
Бросьте ваши диеты, мои милые, посмотрите на себя пристальнее, и вы увидите, как вы прекрасны в своей доброте и женственности, как вы обворожительны и желанны…
Знаю по себе, что мудрые советы и убедительные доводы, к сожалению, мало способны изменять нашу жизнь к лучшему, но все же надеюсь, что весь мой жизненный опыт, во многом схожий с вашим, убедит вас в том, что вы заблуждаетесь, когда считаете себя недостойными счастья.
Нужно только поверить в себя — и ни один день из вашей жизни не будет потерян для любви.
Потому-то я и раскрываю без всякого стеснения свою жизнь перед вами, мои красавицы.
И все же, как бы ни было велико мое сострадание к вам, я бы вряд ли отважилась на этот литературный подвиг, если бы не его величество случай.
А началось все так…
2
В один прекрасный день, рано утром, в дверь моей квартиры позвонили.
Поднявшись с постели, я накинула на плечи свой любимый китайский шелковый халат, расшитый золотыми драконами, и открыла дверь.
На лестничной площадке стоял симпатичный молодой человек в головном уборе, напоминающем фуражку швейцара из дорогого ресторана, и с фантастическим букетом непомерно длинных и прекрасных чайных роз.
Из всех цветов на свете я предпочитаю именно чайные розы, находя в их сути некоторое сходство со своей.
Молодой человек улыбнулся мне ослепительной юной улыбкой, левой рукой снял фуражку, а правой протянул мне букет, в котором, как выяснилось позже, была шестьдесят одна роза. Сделал он это элегантно, даже изящно, как немногие умеют.
— Поздравляю вас с юбилеем, — сказал он, тактично не упомянув, с каким именно, — желаю вам счастья, здоровья и как можно дольше оставаться такой красивой и молодой-
Молодой человек надел на голову фуражку с золотистой надписью по околышу. Что там было написано, я толком не разобрала.
— А от кого же этот восхитительный букет?! — воскликнула я, уяснив, что передо мной посыльный.
— Я думаю, вы это узнаете, прочитав послание, которое вложено в букет, — любезно ответил молодой человек.
С этими словами он непонятно откуда извлек эдакую досочку с прищепкой сверху, из-под которой торчала куча бланков с неразборчивым названием фирмы.
— Будьте добры, распишитесь вот здесь, — сказал юноша, подсовывая мне свою досочку, — а вот тут поставьте число и время.
— А который сейчас час? — спросила я, рефлекторно зевнув. — Ой, простите. — Я прикрыла рот ладонью.
— Сегодня 14 июня 1995 года, среда, десять часов сорок пять минут, — невозмутимо ответил посыльный.
— Господи, в жизни так рано не вставала… — пробормотала я про себя и смущенно улыбнулась молодому человеку. — Так где, вы сказали, расписаться?
Едва закрыв за ним дверь, я запустила руку в колючее нутро букета и извлекла оттуда изящный продолговатый конверт с золотым тиснением. Конверт был не запечатан, и я вынула из него белоснежный листок благородно- плотной бумаги с золотыми же виньетками по углам. На нем было красиво, очевидно, на лазерном принтере, напечатано:
«Какая чудовищная ошибка то, что мы потеряли друг друга!
Не было ни одного дня, чтобы я не проклинал себя за это! Конечно, во всем виноват я! Но бывшего не сделаешь небывшим… И я жестоко наказан за это. Не было в моей жизни ни одного дня, который я прожил бы без мыслей о тебе. Вся моя жизнь была для тебя, во имя твое! И потому все, чего я достиг в этой жизни, — деньги (будь они трижды прокляты, потому что без тебя нет в них радости), дома, машины, яхты — по полному праву принадлежит тебе! Приди и владей!
Если в твоем сердце остался для меня хоть маленький уголок, то я буду счастлив! Если нет — то буду, словно чудище из «Аленького цветочка», наблюдать за тобой издалека, как делал это до сих пор. Я много о тебе знаю, ты уж прости…
МАРИЯ! ЛЮБОВЬ МОЯ ЕДИНСТВЕННАЯ! Поздравляю тебя с днем рождения! Счастья тебе! Здоровья! Радости!
Прими 60 твоих любимых чайных роз как робкую награду за твою прошлую жизнь, и 61-ю — на год грядущий, в котором я мечтаю с тобой встретиться. Приди или позови!
Место нашей первой встречи по-прежнему ждет тебя. Оно стало немного другим, но я надеюсь, что и в своем новом виде оно тебе понравится… Жду! Твой Сладкий Ежик».
Я заглянула в букет, рассчитывая найти там хоть какие- то пояснения, но ничего, кроме темно-зеленого бархатного футлярчика, не обнаружила. С замирающим сердцем я открыла его. На белом атласе лежало кольцо с изумрудом, окруженным шестью бриллиантами… Изумруд был величиной с небольшую фасолину и такой же продолговатой формы, а бриллианты удивительной чистоты размером со спичечную головку. Они так заиграли в случайном лучике солнца, пробившемся через плотно задернутые шторы, что весь дом озарился веселым праздничным светом.
Я тихо ахнула и села в глубокое дедушкино кресло. Голова у меня сладостно закружилась, а сердце застучало так сильно, что его биение я почувствовала даже под колечком на безымянном пальце левой руки, куда оно пришлось совершенно впору.
3
Все утро до самого обеда я бессмысленно крутилась по дому, не зная, за что и браться. При этом я, поминутно останавливаясь перед зеркалом, то клала левую руку с кольцом на бедро, то протягивала ее невидимому партнеру для поцелуя, то вроде бы невзначай поправляла ею прическу и любовалась игрой камней.
К вечеру я ждала семь человек гостей, а днем у меня был намечен отдельный праздничный обед с Денисом в ресторане «Центральный». Это недалеко от меня.
Денис очаровательный мальчик, но не могла же я его предъявить своим гостям. Он был ровно на тридцать лет моложе меня. И хоть он выглядит очень взросло и мужественно и когда мы вместе, об этой разнице в возрасте никто даже не вспоминает, я все же опасалась, что не все мои гости поймут меня правильно…
Вяло ковыряясь в мельхиоровой кокотнице с жульеном, которым так славится «Центральный», отвечая рассеянной улыбкой на пылкие тосты Дениса, прихлебывая шампанское и автоматически фиксируя восхищенные взгляды в мою сторону, я постоянно возвращалась мыслями к письму и подарку, который я, разумеется, не надела во избежание лишних вопросов…
Вся нелепость ситуации была в том, что я совершенно не представляла, от кого это страстное письмо. Его автор, очевидно, полагал, что подпись «Твой Сладкий Ежик» мне что-то скажет. Но дело в том, что я очень многих называла так…
Позже, когда кончились «юбилейные торжества», я попыталась его вычислить по стилю, но из этого у меня ничего не получилось. Немного поразмыслив, я пришла к выводу, что каждый из моих бывших возлюбленных, находясь в состоянии определенного душевного волнения, мог изъясняться в таком пафосном стиле.
Потом я попыталась навскидку, методом случайной выборки, как говорят модные нынче социологи, определить, кто же из них мог решиться на такое письмо, но очень быстро поняла, что без системы в этом деле не разобраться. Нужно вспомнить всех…
Так я и сделала. А вспомнив всех и как бы пережив свою жизнь повторно, перелюбив и перестрадав заново, я поняла, что не вправе скрывать от вас свой опыт, потому что он обширен и поучителен.
Вспоминая своих возлюбленных, я попыталась кого могла отыскать и многих нашла… Это навело меня на грустные размышления. Я сделала печальный вывод: человек с возрастом не становится ни хуже ни лучше, человек с возрастом усугубляется. Скупой становится еще скупее, добрый — добрее. Глупец глупеет, а умный набирается еще большей мудрости.
Чтобы хоть одну из вас уберечь от ошибок, в изобилии совершенных мною, я и села за этот тяжелый, но радостный труд.
Но прежде чем начать последовательно перебирать содержимое моего любовного сундука, я должна в нескольких словах рассказать о себе.
4
Я родилась и прожила всю жизнь в Москве, на Тверском бульваре, почти напротив театра им. А. С. Пушкина, на той же стороне, где долго стояло странно полукруглое недостроенное сооружение красного кирпича, которое в шестидесятых годах наполовину взорвали, а из оставшейся половины построили новый MXАT им. М. Горького. Только мой дом ближе к Никитским воротам. Москвичи наверняка знают этот семиэтажный дом темно-мышиного цвета с аркой над единственной входной дверью, с высокими и узкими, точно бойницы, окнами.
Потолки в нашем доме чуть больше пяти метров. Предприимчивые жильцы построили себе антресоли и получили вместо одной две комнаты с потолками по два с половиной.
Это даже немного выше, чем в так называемых "хрущобах"
Господи, а как москвичи в свое время радовались этим панельным пятиэтажкам, с какой теплотой произносили слово «Черемушки». 'Гуда переехала добрая половина жильцов нашего дома, которые до этого жили в коммуналках по девять семей.
Вы можете себе представить девять хозяек одновременно на одной кухне? Да еще тройку карапузов, ползающих у нас под ногами, когда вы несете полную кастрюлю борща, да пару неопохмеленных мужей, которые тут же, дуэтом, клянчат у своих, а заодно и у чужих жен трояк на водку?
Я частенько бывала на такой кухне в доме моей самой близкой подруги Татьяны, живущей неподалеку от меня. А сама я, к счастью, всю жизнь прожила в отдельной трехкомнатной квартире. Есть и такие в нашем доме. Ее еще до революции купил мой дедушка, известный акушер-гинеколог.
И прадедушка мой был акушером-гинекологом, но учился он в Петербурге, а жил и работал в Сызрани и был там, пожалуй, более знаменит, чем сын, выучившийся и сделавший свою карьеру в Москве.
Моя бабушка Анна Александровна никакого специального образования не имела. Она закончила в Москве Александровский институт благородных девиц, где ее научили держать спину и правильно ходить, шить, вязать крючком и на спицах, вышивать гладью, стилем «рококо», простым и болгарским крестом, готовить, рачительно вести хозяйство и планировать домашний бюджет, ухаживать за маленькими детьми и воспитывать старшеньких, красиво, модно и дешево одеваться, а также играть на фортепьяно, рисовать, говорить по-французски, поддерживать интересную беседу, разбираться в изобразительном искусстве и литературе и еще великому множеству столь необходимых нам, женщинам, мелочей.
Бабушка часть своих знаний передала мне. Мы с ней очень дружили. Особенно в последние годы, когда остались вдвоем. Она любила меня без памяти, хотя почти никогда не говорила об этом. Она совершенно не умела сюсюкать. Очевидно, ее отучили от этого в том же институте.
Моя мама, Елизавета Михайловна, пошла по стопам своего отца и деда. Она закончила Первый медицинский институт в Москве и стала акушером-гинекологом, справедливо полагая, что на эту профессию всегда будет спрос, раз даже во время революции комиссары не тронули дедушку в его просторной докторской квартире. Ведь и у вождей революции есть жены, которые подвержены женским болезням, рожают либо, напротив, не желают рожать.
Если при ангине или, как теперь говорят, ОРЗ рот можно открыть практически перед любым врачом, то с нашими женскими болезнями не всякому покажешься. Обычно мы идем к своему личному доктору, которому целиком и полностью доверяем. Потому у гинеколога много друзей среди женщин и, как следствие, среди их мужей, которые не дадут в обиду любимого врача своей драгоценной супруги.
Мама и меня пыталась направить по семейной стезе, но у меня с самого детства ко всему, что связано с половыми признаками, было чересчур романтическое отношение и я не могла себе представить, как можно вторгаться в святая святых каждой женщины, во вместилище любви и наслаждения, и источник самой человеческой жизни.
Вопреки маминой агитации я тайно мечтала попасть в библиотечный институт и работать потом в огромной тихой библиотеке со старинными настольными лампами и тяжелыми стульями. Там, где столько книг, большая часть которых о любви.
5
Папы у меня долго не было. Вернее, быть-то он был, но жил отдельно. В отличие от множества семей, из которых отец ушел, в нашу он не пришел.
Зато у нас был Лев Григорьевич. Он трогательно и нежна любил мою маму и меня и просто обожал бабушку. Он никогда не забывал купить ее любимые «коровки». Причем покупал он их только свежие, тянучие, еще не затвердевшие, обязательно в «Елисеевском» магазине.
Вручал он их бабушке отдельно и торжественно и при этом умудрялся незаметно опустить в ее обширный карман всегда свежего, накрахмаленного передника пергаментный стограммовый пакетик свежепомолотого кофе «Арабика», который тут же выдавал себя головокружительным запахом.
Мы с мамой делали вид, что не замечаем этого. Кофе бабушке строжайше запретил сам же Лев Григорьевич, потому что был главврачом нашей самой главной в стране больницы. Там же в его подчинении работала и мама. У бабушки было повышенное давление. Но она утверждала, что давление у нее скорее поднимается от неудовлетворенного желания выпить кофе, чем от самого кофе, который она пьет буквально наперстками.
Мне эта фраза почему-то запомнилась на всю жизнь.
Для меня Лев Григорьевич покупал «Лимонные и апельсиновые дольки», которые до сих пор продаются в высоких картонных банках с теми же этикетками, и какую-нибудь интересную книгу.
Маме — ее обожаемые маслины и сыр «рокфор». Долгое время и то и другое я в рот взять не могла, а теперь не могу без этого обходиться.
Все это привозилось в огромной картонной коробке, обернутой в веселую бумагу с надписью «Гастроном № 1». Бумагу эту бабушка аккуратно снимала, неторопливо сворачивала и убирала для какой-нибудь надобности, а мы с мамой смотрели на коробку алчными глазами и поторапливали ее. Надо ли говорить, что бумажный шпагат с коробки бабуля не срезала ножницами, как мама, а развязывала и сматывала на ладони в тугой бублик.
В коробке кроме перечисленных обязательных лакомств было полно всякой вкусной всячины. И непременная севрюга горячего копчения, и крабы в банках, и сардины, и уже порезанная ветчина со слезой, и толстенная колбаса «Экстра высшего сорта», фаршированная говяжьим языком. Она мне особенно нравилась тем, что на срезе имела рисунок шахматной доски в темном кружочке. Был там обязательно шоколад «Сказки Пушкина», коробка любимых маминых конфет «Южный орех», где каждая в форме полумесяца конфета, обсыпанная горьким какао, покоилась в отдельной бумажной формочке, напоминающей в расправленном виде балетную пачку.
Была там и непременная бутылка армянского коньяка, обложенная полудюжиной крепких ароматных лимонов.
И так было почти каждую неделю. Мы ждали Льва Григорьевича, как Деда Мороза. Мама хорошо зарабатывала, да и бабушка достаточно получала за свое шитье, хотя и редко брала заказы, и мы сами могли купить все это, но, спрятанная в коробку, упакованная в бумагу и обвязанная шпагатом, вся эта снедь с восхитительно перемешавшимися запахами становилась сказочным гостинцем.
И стоило этой коробке появиться в нашем доме, как сразу образовывался праздник. А вот в настоящие праздники, особенно в Новый год, Льва Григорьевича с нами не было. Он не мог отлучиться из своей семьи.
Да и в эти-то еженедельные посещения он пробирался к нам окольными путями.
Заранее, где-то на Пушкинской улице, он отпускал пер- сональную машину, через Козицкий переулок выходил к улице Горького и нырял в стол заказов «Елисеевского», который, как известно, всегда располагался через переулок напротив самого магазина. Там его ждала уже упакованная коробка с продуктами.
Он расплачивался, выходил на улицу и ловил там такси. Тогда это были в основном «Победы». Он залезал на заднее сиденье и надвигал шляпу или шапку, если дело было зимой, на самый нос.
Шофер выносил из стола заказов тяжеленную коробку и погружал ее в багажник.
Они сперва ехали на Петровку. Там Лев Григорьевич в нахлобученной шляпе заходил в аптеку и покупал какой-то пустяк, выходил, незаметно оглядывался по сторонам и только после этого садился в машину. Потом они ехали через Манежную площадь на улицу Герцена, на Никитских воротах сворачивали на Тверской бульвар и оказывались перед нашим домом. Тут уж Лев Григорьевич сдвигал шляпу по- купечески на затылок и гордо, всегда пешком, поднимался на наш очень высокий третий этаж.
Шофер вез коробку на лифте. Он относил ее в гостиную, ставил на круглый стол, укрытый двумя скатертями (льняной, палевого цвета, и кружевной, светло-коричневой поверху), получал от Льва Григорьевича деньги, с радостным удивлением благодарил и почтительно пятился к двери. Когда он уходил, Лев Григорьевич крепко обнимал и целовал маму, а она ему каждый раз, смеясь, говорила:
— Ты «хвост» за собой не привел? Хорошо смотрел?
— Все чисто! — страшным шепотом отвечал Лев Григорьевич и, тоже смеясь, рассказывал о своей конспирации. Потом он обнимал и целовал меня. Потом доходил черед и до бабушки. Я никак не могла понять, почему он не женится на маме и не перейдет к нам жить.
В 1949 году Льва Григорьевича посадили — это была первая волна дела «врачей-отравителей», а мама, бросив свою высокооплачиваемую работу в Главной больнице, поехала за ним в Магадан. Только тогда бабушка рассказала мне, почему он не мог жениться на моей маме.
Оказалось, что он был женат на дочке очень крупного партийного руководителя, имя которого в нашем доме никогда и никем не произносилось…
Женился он на ней давно, еще в студенческие годы. Они вместе учились в Первом медицинском. И именно тогда у ее папаши был пик карьеры. Оттого и случилось так, что легкий флирт третьекурсника Левушки Г., завязавшийся на обычной студенческой вечеринке, неминуемо и немедленно привел его в загс. Если бы он поближе узнал ее, то убежал бы подальше, наплевав на все, но он ее и разглядеть-то толком не успел, как обротали молодца и под уздцы повели под венец.
На пятый день он опомнился и загоревал, да было уже поздно… Впрочем, горевал он не особенно долго. Его успехи в институте вдруг сделались блестящими. Он и сам от себя не ожидал такого…
Очень быстро и легко он стал круглым отличником и Сталинским стипендиатом. Потом секретарем комсомольской организации потока, потом лечфака. Его приняли в партию, а после окончания института сразу направили в Главную больницу, где он очень скоро стал заведующим кардиологическим отделением, а потом и главврачом.
Тут же вскоре в больницу пришла мама, у них начался обвальный роман, и он окончательно смирился со своей семейной жизнью.
Когда мама смеясь спрашивала Льва Григорьевича насчет «хвоста», она вовсе не шутила. Его жена после возникновения этого романа, разумеется, почувствовала перемену в семейных отношениях и, правильно оценив ситуацию, устроила за благоверным настоящую слежку. Причем сперва следила сама. Когда же это не принесло никакого результата, она, вместо того чтобы успокоиться, обратилась к своему высокопоставленному отцу, и тот отрядил ей двух профессионалов. Они-то однажды и выследили Льва Григорьевича.
Но к тому времени политическая звезда ее отца уже закатывалась, он был уже не в прежней силе, а потому все обошлось только грандиозным домашним скандалом с битьем дорогих сервизов и самого Льва Григорьевича, который, чувствуя свою вину, не сопротивлялся и философски сносил побои. На этом дело и кончилось, но, видно, не до конца… Когда началось дело «врачей-отравителей», Льва Григорьевича забрали. Ни она, ни ее отец и пальцем не пошевельнули, чтобы его спасти.
А моя мама поехала за ним.
Лев Григорьевич там и погиб. Он ушел под лед вместе с машиной, когда переправлялся через замерзшую реку, чтобы попасть на далекий прииск к заболевшему начальнику конвоя. К простому заключенному его, разумеется, не повезли бы.
Мама умерла два месяца спустя от пневмонии, как было сказано в официальной справке.
Вскоре к нам заехала бывшая колымская заключенная, назвавшая себя Дусей, хотя, на мой взгляд, ей было не меньше семидесяти лет. Она была там маминой пациенткой и сохранила благодарную память о ней на всю жизнь. Дуся рассказывала, что в маму смертельно влюбился начальник лагеря, где сидел Лев Григорьевич. Это, по мнению зеков, и стало причиной его гибели. С этой машиной, ушедшей под лед в том месте реки, где и тяжелые трактора ходили, дело было явно нечистое. Люди говорили, что в тот день слышали глухой взрыв со стороны реки…
А потом жена начальника лагеря, узнав, что муженек обхаживает врачиху-вольняшку, принялась ее травить. Проходу не давала. И в конце концов отравила в прямом смысле этого слова.
Проверить правильность медицинской справки или справедливость Дусиной версии у нас с бабушкой не было никакой возможности. Но бабушка, получив свидетельство о смерти и медицинское заключение, когда смогла без слез говорить на эту тему, сказала:
— Не верю я этим бумагам. Лизочка никогда не страдала простудами. И меня всегда инфлюэнца стороной обходила, и ты, слава Богу, росла — не кашляла… А написать можно все что угодно, бумага все стерпит…
Все это дает мне основание думать, что, скорее всего, была права Дуся, а не официальные бумаги. Так или иначе, но начальник лагеря (я потом видела его фотографию) жестоко за это поплатился. Правда, за ним обнаружились и другие грехи кроме этого, но за каким начальником лагеря в ту пору грехов не было? Только в них копаться никто не хотел, а тут нашлись охотники…
Так мы с бабушкой в начале 1951 года остались совсем одни. Мне тогда было уже пятнадцать с половиной лет. Тогда-то бабушка и рассказала мне, что Лев Григорьевич был моим родным, самым настоящим отцом. А мне об этом не говорилось под страхом смерти. Вот после нее все и выяснилось…
— Нельзя было, Машенька, никак нельзя, — объясняла мне бабушка. — Ты была маленькая и, как бы ни хотела, не смогла бы сохранить эту тайну. Вот представь, что втерся бы к тебе в доверие какой-нибудь подосланный тип, а они на это мастера, умеют подъехать… Завел бы он разговор издалека, исподволь, вкрадчиво и подвел бы тебя незаметно к вопросу, мол, а какие же болезни лечит твой папка, какой он такой доктор? Ты бы и рада была объяснить, что лечит он сердечки у всяких важных дядей и потому его на черной машине возят…
— Но они с таким же успехом могли спросить и про дядю, который к нам часто ходит, — возразила я.
— Дядя ходит — это одно, а папа — совсем другое, — задумчиво сказала бабушка.
Мне до сих пор очень обидно, что я не могла любить его как папу, а любила просто как Льва Григорьевича. Но и так я его любила очень сильно. Наверное, что-то чувствовала… И маму я очень сильно любила. У меня до сих пор стоит перед глазами картина, как они, веселые, красивые сидят за нашим круглым столом в гостиной, напротив нас с бабушкой, хохочут и кормят друг друга сочными персиками. И сок течет по их подбородкам и капает на палевую скатерть, потому что бабушка кружевную снимала перед обедом. Бабушка притворно сердится на них за это, а я заливаюсь вместе с ними…
Теперь я понимаю, что во многом повторила мамину судьбу. Я думаю, что бабушка избежала такой же участи только потому, что ей повезло с эпохой. Во времена ее молодости мужчины были другими. Они были смелее и свое человеческое достоинство ставили выше пересудов толпы.
Дело в том, что и бабушка, и мама, и я — все мы очень крупные и полные. И далеко не всякий мужчина отваживается к нам подойти и выглядит рядом с нами венцом творения и почтенным отцом семейства.
Если, конечно, смотреть на это со стороны.
Вот, пожалуй, и все, что я могу о себе сообщить, прежде чем приступить к моим воспоминаниям.
Для удобства обращения с историческим, по сути своей, материалом, чтобы вы не запутались в именах и годах, я была вынуждена ввести в повествование жесткую хронологию и присвоить всем основным действующим лицам порядковые номера.
Итак…
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПЕРВЫЙ (1941–1949 гг.)
1
О любви я начала думать рано, в шестилетнем возрасте.
В детский садик меня не отдавали, потому что дома всегда была бабушка, которая и накормит вовремя, и оденет, и прогуляет. Вот прогулки-то и были предметом наших постоянных с ней раздоров.
Анна Александровна очень любила прогуливать меня по Тверскому бульвару, где у нее было много знакомых, таких же, как она, интеллигентных бабушек-«прогульщиц». Я же постоянно тянула ее в соседний двор, где она была вынуждена проводить время на лавочке с самыми обыкновенными дворовыми старушками, чьи интересы не заходили дальше рецепта пирога и способа квашения капусты.
К прогулке Анна Александровна готовилась всегда основательно. Она раскрывала на столе в гостиной дедушкин красиво потертый по углам, кожаный докторский баул и, нацепив круглые очки в тонкой золотой оправе, которые она упорно называла рабочими, хотя никаких других у нее не было, застывала в глубокой задумчивости над его пустым и темным зевом. Потом в баул опускалась книга. Хорошо, если это была читаемая сейчас, с закладкой из шоколадной фольга, сложенной в одну восьмую долю в длину, а если это была новая книга, то она мучительно долго выбиралась. Бабушка ходила вдоль книжных стеллажей в гостиной и, прикасаясь указательным пальцем к каждому корешку, что-то бормотала себе под нос.
Я долго прислушивалась к ее бормотанию, но так ничего и не разобрала. Когда я ее однажды спросила, что она там бормочет, она внимательно посмотрела на меня и, строго сдвинув брови, сказала:
— Свожу счеты с прошлым…
— Какие счеты, бабуля? — спросила я.
— Когда начнешь не читать, а только перечитывать, — поймешь… — задумчиво ответила она.
После книги в баул укладывалось вязание, потом мои совочки, формочки и куколки, за ними шли неизменные домашние печенья, которые бабушка пекла неизвестно из чего даже когда началась война…
. Я помню глухой и завораживающий голос Сталина по радио: «Братья и сестры…» Он мне тогда очень нравился как мужчина. А вот знаменитую осеннюю панику в Москве я почему-то не помню. Не помню я и бомбежек, хотя бабушка всегда прокладывала наши прогулочные маршруты так, чтобы не очень удаляться от бомбоубежища, которое было оборудовано под нашим домом в глубоком подвале с мощными перекрытиями.
Потом в баул укладывался маленький, на один стакан, китайский термос с длинноногими журавлями на фоне бледно- голубого с перламутровым оттенком неба и набор чистых носовых платков. После этого длинный металлический замок баула защелкивался, и начиналось подробное и вдумчивое одевание меня. Затем она быстро одевалась сама, и тут наступал самый ответственный момент в моей жизни. Я задирала что есть сил голову, потому что Анна Александровна и в старости была высока, и с молчаливым вопросом смотрела на нее. Бабушка, как бы не замечая моего требовательного взгляда, прилаживала на свою гладко причесанную крупную голову шляпку и прикрепляла ее шпильками к тяжелому серебряному пучку на затылке. Покончив со шляпкой, она будто бы ненароком взглядывала на меня и говорила посторонним голосом:
— Пойдем, Машенька, по бульвару пройдемся… Что-то мы там давно не были…
А были мы там на самом деле лишь вчера. Видя, что глаза мои от такой вопиющей несправедливости наполняются слезами, она продолжала:
— А может, лучше во дворе посидим? Там ветра нет, а то вон как поддувает.
Слезы мои мгновенно просыхали, и мы шли во двор.
2
Наш дом собственного двора не имел. Своей тыльной стороной он выходил в какой-то мрачный серый колодец. А вот в соседнем доме — вернее, это было целое семейство двух- и трехэтажных домиков — был уютный, типичный старомосковский дворик.
Он имел два выхода: на Тверской бульвар и на параллельную улицу Станиславского, и располагался между несколькими зданиями, среди которых были одноэтажная слесарная мастерская, где всегда слышался веселый звон металла и замысловатая речь слесарей, каменный гараж, в котором дядя Костя постоянно чинил свою огромную темно-коричневую машину с таинственным названием «Быоик», и детский сад, вокруг которого, как это и положено, шла загородка из зеленого занозистого штакетника.
За этой-то загородкой и начиналась настоящая жизнь, о которой я даже и мечтать не могла. Там постоянно что-то происходило и случалось. То играли в жмурки, то плавали на красно-белом фанерном пароходе, прочно вросшем в зеленый газон, то прутиком гоняли какого-то рогатого жука, то ловили чужую кошку, то кто-то обкакивался, заигравшись, и начинал трубно реветь, а все остальные дети заливались мерзким хохотом.
В таких случаях откуда ни возьмись появлялся Леха и, одним взглядом отогнав насмешников, выяснял, в чем дело, брал несчастного ребенка за руку, неторопливо вел к дому и на крыльце сдавал беднягу из рук в руки переполошившейся воспитательнице, которая «только на минуточку» отлучилась по своей надобности.
Леха ходил в неизменной серой кепке, надвинутой на короткий, слегка картошкой нос. Руки он постоянно держал в карманах, и ни одна сколько-нибудь заметная шкода не обходилась без его участия и непосредственного руководства.
Я любила его страстно. Всунув лицо между колючими штакетинами, я могла часами, не отрываясь, смотреть на него, на то, как он ходит вразвалочку и глядит на всех как бы свысока, откинув голову слегка назад, потому что по-другому из-под низко опущенного козырька и не посмотришь.
Он, конечно же, знал о моем существовании, но никогда даже головы не поворачивал в мою сторону. Зато осенью, по субботам и воскресеньям, когда детсад не работал, Леха разрешал мне сгребать в кучу грушевые листья перед его двухэтажным домиком, который стоял метрах в пятидесяти от детсада.
Леха жил на втором этаже, и в его квартиру вела наружная каменная лестница.
Если же был март и повсюду звенела и искрилась на солнце оттепель, то он мне разрешал вместе с ним детской лопаточкой скалывать с лестницы намерзший за ночь лед.
За это я делилась с ним своим печеньем, которое он, кивнув в знак благодарности, засовывал в рот целиком и тут же, почти не жуя, глотал. Это было еще до войны. Ему мало перепадало сладостей. Семья у них была небогатая. Отец его работал маляром на стройке, а мать — в типографии «Московская правда».
Потом началась война, и его отец в первые же дни ушел на фронт, а Леха пошел в первый класс. А мне тогда еще было рано, потому что только исполнилось шесть лет.
Теперь до обеда я сама тянула бабушку на бульвар, потому что в полдень он возвращался домой с ватагой шумных мальчишек. Его — тогда еще мужская — школа была на другой стороне, через бульвар.
Он шел в своей неизменной кепочке, которая словно подрастала вместе с ним, засунув одну руку в карман драпового полупальтишка, в другой нес пухлый брезентовый портфель.
Я нарочно старалась попасться на глаза честной компании, чтобы кто-то из неразумных пацанов, тыча в меня изгрызенным, перепачканным чернилами пальцем, завопил бы на весь бульвар: «Жиртрест, мясокомбинат, пром- сарделька!» И повторял бы это до тех пор, пока не получал по спине чувствительный удар тяжелым брезентовым портфелем. Все-таки это был достаточно прозрачный знак внимания…
После обеда я тянула бабушку во двор. Уверяла ее, что поднялся страшный ветер и мне на бульваре холодно.
Бабушка, разумеется, знала все и, лукаво усмехнувшись за очками, тут же предлагала поддеть шерстяные рейтузы, которые я ненавидела тихой и лютой ненавистью за то, что они противно стягивали ноги — я уже тогда была много полнее нормальных детей — и страшно кололись.
Во дворе бабушка устраивалась вязать, а я занимала позицию в большой куче песка около гаража, напротив Лехи- ного дома.
У него в доме жил громадный серо-полосатый кот с кисточками на кончиках ушей. Звали его почему-то Пе-пе, и отзывался он не на «кис-кис», а на свист. Леха умел свистеть всеми мыслимыми и немыслимыми способами. И двумя пальцами колечком, и двумя прямыми, и четырьмя, и даже одним пальцем. Кроме того, он свистел, вытянув губы трубочкой и, наоборот, подвернув нижнюю губу через зубы, а также вдувая воздух в себя, тоненько и пронзительно.
Разумеется, он свистел в ключ, в ручку-безопаску и вообще в любую трубочку. Потом, позже я тоже пыталась этому научиться, но у меня ничего не получилось.
Пе-пе вообще был уникальным котом. Он умел мгновенно подниматься по стволу старой груши, стоящей перед Лехиными окнами, и прыгать с толстого сука прямо в форточку. Кроме того, он умел то, чего почти не умеют другие коты, — спускаться. Каким-то образом он прыгал с ветки на ветку, потом полз задом вниз, отчаянно цепляясь когтями за кору и преодолевая голый участок. Не доползая метра два до земли, он бесстрашно сигал прямо на землю, успевая так извернуться в воздухе, чтобы приземлиться на все четыре лапы.
В другой день Пе-пе успевал раза четыре прошмыгнуть туда и обратно, прежде чем появлялся Леха. Делал он это всякий раз неожиданно, когда уже не ждешь или на минутку отвлечешься.
Небрежно позвякивая мелочью в кармане, Леха неторопливо спускался по лестнице, не взглянув на меня, проходил мимо и направлялся к компании пацанов, которые резались за углом в пристеночку, в росшиши или в чиру.
Анна Александровна, сверкнув вслед ему очками, неодобрительно качала головой и искоса поглядывала на меня. Я же меняла позицию, чтобы видеть игроков, и, не стесняясь никого на свете, с этой минуты не сводила с него восторженных глаз.
Он всегда всех обыгрывал. И не только на деньги. Он побеждал в любой игре. В козла, в отмерного, в чижика, в футбол, потом в хоккей с тряпичным самодельным мячом. Он так ловко орудовал своей вырезанной из толстой фанеры клюшкой, что однажды его пригласили в детскую спортивную школу «Динамо». Я уж и не знаю, почему он туда не пошел. Наверное, потому, что любил ходить сам по себе, как его кот Пе- пе, а там пришлось бы подчиняться строгой дисциплине.
На следующий год и я пошла в школу, в женскую, так как было раздельное обучение. Война уже отодвинулась далеко от Москвы. Бомбежек почти не было.
3
Позже, став уже рослой девочкой-подростком, я приходила в соседний двор одна и устраивалась с книжкой на лавочке в тени огромного тополя, напротив голубятни, около которой в компании взрослых ребят проводил время Алексей. Теперь я его называла только так, хотя дружки по-прежнему называли его Лехой. От голубятни слышался ленивый мат, гитарные переборы и блатные песни.
Алексей был там, пожалуй, моложе всех, но держался со всеми на равных и независимо. Я много раз видела, как он бросался в жесточайшую драку, когда кто-то пробовал обращаться с ним без должного уважения или отпускал какую- нибудь вполне безобидную шутку в мой адрес.
Он теперь работал учеником электрика в типографии «Московская правда» на Чистых прудах и, возвращаясь с работы, почти всегда приносил пачкающийся краской свежий номер «Вечерки» с обрезанным углом. Это означало, что газета из брака, иначе за вынос газеты его посадили бы. Тогда с этим делом было строго. Шел 1948 год.
Впрочем, эти газеты мне особой радости не доставляли. Уж лучше б это были куски мятой оберточной бумаги, только дарил бы он их по-другому.
Вы даже не представляете себе, как это обидно, когда ждешь его на лавочке час или два, бессмысленно смотришь в книгу, не давая себе труда даже для видимости перевернуть страницу, и терпишь на себе всепонимающие взгляды старушек, подруг Анны Александровны.
Эти взгляды обжигают, как крапива. Поймаешь на себе такой взгляд, и даже щеку почесать хочется.
Вот сидишь, вертишься, как на иголках, глаз не сводишь с проулка, ведущего на улицу Станиславского, и вдруг слышишь, как на лавочку рядом с тобой шлепается газета и раздается его глухое: «Привет». Оказывается, он пришел другой дорогой, через бульвар.
Поднимаешь голову и на мгновение встречаешься с ним взглядом. Еле успеваешь кивнуть ему в ответ и что-то пробормотать, как он уже поворачивается и идет к своему дому, а старушки вслед ему шамкают: «Здравствуй, Лешенька, здравствуй, сынок».
Так и не оглянувшись ни разу, он поднимался по лестнице и скрывался за дверью. А я, как дура, оставалась на лавочке и читала «Вечерку». Я ее читаю и до сих пор. Только ее.
Господи, какая же это была мука! Как мне не хватало нежности, внимания, прикосновений… Не зная куда себя девать, я вдруг начинала ластиться к бабушке, да так активно, что та подозрительно поглядывала на меня.
А то, наоборот, перечила ей на каждом слове и доводила ее до сильного гнева. Как я теперь понимаю, я просто нарывалась. Мне хотелось, чтобы она отшлепала меня или как- нибудь ущипнула…
Бедная моя бабулечка, чего она только от меня не терпела! Я ее так пугала своим бурным ростом, развитием и неконтролируемыми эмоциями… Но что я могла с собой поделать?
Я уже была вполне оформившейся взрослой девушкой. Недавно я нашла бабушкины обмеры и поразилась этим цифрам. Грудь у меня уже тогда была 95 см, талия 67 см, а бедра 99 см при росте в 172 см. Живота, как это видно из записи, и в помине не было. Все было слеплено удивительно пропорционально. Когда я в ванной рассматривала себя обнаженную в большом зеркале, то напоминала себе чуть-чуть располневшую Венеру.
4
Как же я тогда мечтала о красивых, возвышенных отношениях, о которых читала в книгах и которые видела в фильмах. Я влюблялась во всех артистов подряд, в их манеру говорить, двигаться, держать голову, улыбаться. И всех героев своих грез я, разумеется, видела с лицом Алексея.
Мы с ним почти не разговаривали, но я постоянно чувствовала его незримое присутствие. Даже тогда, когда он уходил на работу или уезжал со всей компанией на Птичий рынок торговать голубями.
Я завидовала девчонкам, моим подружкам, к которым весело и беззаботно приставали ребята. Они хватали их за руки, что-то отнимали, вроде нечаянно касались груди, бедер… А девчонки прятали эту несчастную конфету или ластик подальше, в карман, или отводили назад руку, понуждая ребят тянуться через их грудь и прижиматься к ним всем телом. И сопротивлялись девчонки до конца, не разжимали потного кулачка до тех пор, пока несчастная конфета не превращалась в жалкий бесформенный комочек и не срасталась с фантиком настолько, что ее потом долго приходилось выкусывать из него. Но зато они были победительницы. Глаза у них сверкали, щеки горели, а из подмышек разило горько- луковым девичьим потом.
Ко мне же никто из ребят не только из соседнего двора, но и со всей округи не подход ил на расстояние пушечного выстрела. И в этом чувствовалось молчаливое, тяжелое присутствие Алексея. Он словно выбрал меня раз и навсегда, еще тогда, когда я, влипая озябшим лицом в колючий штакетник, не могла оторвать от него глаз, но не спешил дотронуться до меня, соединиться со мною. Хотя бы душевно, в разговоре. Ему хватало той незримой и неразрывной связи, которая уже много лет существовала между нами.
А может, он, несмотря на то, что был старше меня на полтора года, инстинктивно осознавал свое отставание в физическом развитии и ждал момента, когда мы сравняемся?
Я ведь к тому времени была уже совершенно полноценной девушкой, два года как готовой к продолжению рода. Месячные у меня начались рано, едва мне минуло одиннадцать лет. Может, в этом повинна та заветная четвертинка горячей еврейской крови, которую мне подарил Лев Григорьевич? Он был наполовину евреем, хотя во всех документах писался как русский.
Тогда же, в одиннадцать лет, у меня начала развиваться грудь. К тринадцати годам она сделалась совершенно взрослой, крупной и тяжелой, с маленькими и твердыми от постоянного возбуждения сосками.
Наш учитель французского языка Дмитрий Владимирович Мерджанов, красивый грузин с густыми сталинскими усами, когда я выходила к доске, густо багровел и не знал, куда глаза девать. Мне это доставляло тайное удовольствие.
Я любила его поддразнить, поворачиваясь к нему самым выгодным образом, чтобы то подчеркнуть грудь, то выставить бедро, то, вроде бы стирая записи с самого верхнего уголка доски, потянуться всем телом, да так, чтобы платье поехало наверх, обнажив мои стройные, но, на мой взгляд, излишне полноватые ноги. Как я потом уяснила, грузинам почему-то именно такие ноги и нравятся.
Однако я очень благодарна ему. Ведь именно на уроках французского я впервые почувствовала, как материален мужской взгляд, как он ощутим всей кожей, какие теплые волны пробегают по ней от этих прикосновений… Внешне я, разумеется, была сама скромность и целомудрие.
Алексей же в свои пятнадцать лет был сухощавым от постоянного недоедания длинноруким подростком. Только лицо его было взрослым. Особенно бледно-голубые глаза, холодные, как лезвие ножа, когда его прикладываешь к свежей шишке на лбу.
Покровительство — вот самое точное слово. Он мне покровительствовал, сберегая меня для определенного часа, который был известен только ему одному.
5
Потом он вдруг начал приглашать меня в кино. Делал он это тоже весьма своеобразно. Куда бы я ни шла, он внезапно, словно из-под земли, вырастал на моем пути. Это было так неожиданно, что я всякий раз непроизвольно ойкала. Едва заметная усмешка трогала его твердые красивые губы, он протягивал мне два голубых билетика и бормотал что-то вроде: «Праздник…», «в "Повторке"». «Пойдешь?» Это означало, что в кинотеатре «Повторного фильма» у нас на Никитских воротах идет «Праздник Святого Йоргена» с Ильинским и Кторовым в главных ролях. Я ошарашенно кивала. «Приходи пораньше», — говорил он и исчезал.
Во сколько бы я ни пришла к кинотеатру, через полминуты непонятно откуда он появлялся передо мной и молча протягивал руку. Я отдавала ему билеты, и мы шли к дверям. Он пропускал меня вперед и совал контролерше билеты так, словно я не с ним, даже не глядя в мою сторону.
Мы сразу поднимались в буфет, и он, ни о чем меня не спрашивая, покупал мне шоколадку «Сказки Пушкина», или, если он был, пористый шоколад «Слава», который я очень любила, или «Стандарт», который я тоже любила, но меньше, чем первые два.
До сих пор я поражаюсь — откуда он знал, что я люблю, а что нет? Ведь мы с ним ни разу на эту тему не говорили. Впрочем, может быть, я сама как-нибудь проболталась…
И так повторялось всякий раз. Мы ходили в кино раза два в неделю.
Я была настолько наивна, что даже не задумывалась о том, где он берет деньги. Как ученик электрика, он получал в ту пору 270 рублей, а шоколадка стоила 25 рублей, мороженое 2 рубля, билеты в кино 5 рублей, потому что он всегда покупал самые лучшие места.
С шоколада я сразу обдирала фольгу, ломала его на кусочки и складывала обратно в бумажку, чтобы не греметь фольгой во время сеанса. Так научила меня бабушка. А мороженое я съедала, пока мы чинно на небольшом расстоянии друг от друга ходили вдоль стен, где были развешаны фотографии артистов и рекламные маленькие афишки самых знаменитых фильмов, отпечатанные на фотобумаге. Все эти фильмы мы уже видели, но было приятно посмотреть на знакомые кадры из любимых картин.
После того как я съедала мороженое, он среди стоящих вдоль стены стульев отыскивал свободный, усаживал меня и спускался на первый этаж в курилку. Я совершенно забыла сказать, что он к тому времени уже курил, и мне, глупой дурочке, это ужасно импонировало. Мне нравился запах его папирос «Север».
Лев Григорьевич курил или «Три богатыря», или «Герцеговину Флор». Дым от этих папирос был пряно-сладкий, а от «Севера» пахло крепко, горько, по-мужски.
Мне очень нравилось, как Алексей по-взрослому горбится, прикуривая и пряча огонек спички между ладонями, сложенными лодочкой. Я обожала смотреть, как он лихо перекатывает заломанную в мелкую гармошку папиросу из одного угла рта в другой.
После второго звонка мы шли в зал. Для меня это был самый волнительный момент. Каждый раз, ерзая на деревянном, отполированном тысячами задов скользком стуле, я старалась устроиться так, чтобы хоть локтем соприкоснуться с ним на подлокотнике. Но всегда моя рука покоилась там в томном одиночестве. Его же рука исчезала, словно ее отрезали. И я грустно лезла в сумочку за шоколадом. О том, чтобы «случайно» прикоснуться к нему коленкой, я и не мечтала. Ног у него в кино вообще не было. Куда уж он их там девал, я до сих пор не понимаю…
Тогда я громоздилась повыше и расправляла плечи, стараясь занимать как можно больше места в пространстве, и создавала тем самым людям, сидящим за мной, известные неудобства.
Мало того, что все мои пальто бабушка подбивала такими огромными плечиками, что они лезли к ушам, я специально для похода в кино надевала выходную мамину шляпу с высоченной тульей и с пышным букетом искусственных цветов с левой стороны.
В кинотеатрах в то время было не принято, чтобы дама снимала головной убор, но если сзади попадался какой-нибудь чересчур занудливый зритель, то он начинал приставать с вежливыми просьбами: «Девушка, извините, пожалуйста, вы не могли бы снять вашу красивую шляпку?»
Алексей тут же резко к нему поворачивался и холодно шипел: «Умолкни, понял?» Зритель, как правило, очень быстро все понимал, но это мне давало единственный легальный повод, как бы успокаивая, прикоснуться к Алексею, слегка сжав его стальное плечо. После этого я с облегчением снимала эту дурацкую шляпу. Вообще-то по улицам я ходила в белом пуховом берете, который мне связала бабушка.
Если же зритель попадался не столь понятливый, да еще и отпускал в мой адрес какую-нибудь грубую шутку или, не дай Бог, прохаживался по поводу моих габаритов, то Алексей, не пускаясь ни в какие дискуссии, в ту же секунду, даже предварительно не взглянув на шутника, бил его кулаком по физиономии.
Однажды в кинотеатре «Центральный», куда мы ходили на новые фильмы, не ожидавший такой реакции нахал от удара каким-то образом вылетел из своего кресла и сел на колени сидящему сзади подполковнику, от которого, в свою очередь, получил по шее.
Разумеется, раздался женский визг, зажегся свет, прибежала билетерша, и начались выяснения — мол, кто это его и за что? «Он знает за что», — буркнул Алексей, а подполковник подтвердил, что нахалу еще и мало попало за его похабные шутки. И он незаметно от жены со значением подмигнул мне. А я сидела и мечтала, чтобы поскорее погас свет и не нужно было бы сдерживать торжествующую улыбку.
В такие моменты я была абсолютно счастлива. Ведь это за меня вступился мой «рыцарь без страха и упрека».
Вы не должны меня осуждать за такое стервозное поведение. Он сам понуждал меня к этому. Ведь мне так нужно было от него хоть какое-то проявление чувств. Хоть такое… Все-таки, что бы вы ни говорили, это был неоспоримый знак внимания.
Потом он провожал меня домой. Мы обсуждали картину. Вернее, говорила без умолку я одна, а он молчал. Но, честное слово, он понимал в кино, да и вообще во всем, не меньше моего. А то и больше, несмотря на то что я прочла к тому времени пропасть книг, вечно поджидая его на лавочке, пока он толкался в блатной компании у голубятни.
Когда я напрямую спрашивала его мнение о фильме, он отвечал: «Нормальный», если он ему нравился, а если нет, он говорил: «Барахло». И ни разу при этом не ошибся в оценке.
Подведя меня к подъезду, он говорил: «Пока» — и уходил, доставая на ходу папироску.
Его не назовешь болтливым, не правда ли?
6
Я так подробно рассказываю о пустяках только потому, что, кроме этих пустяков, между нами с Алексеем ничего не было. Ведь он даже ни разу не дотронулся до меня. О том, чтобы пройтись с ним под руку, я и не мечтала. А об объятиях или поцелуях вообще не говорю…
Когда он, засунув руки в боковые карманы и ловко гоняя папироску из угла в угол рта, уходил по своим таинственным делам, я возвращалась домой, к своим книгам.
Нашу библиотеку начал собирать еще мой дедушка, Михаил Васильевич, страстный книголюб. Сама я это плохо помню, но бабушка рассказывала, как вечерами он садился в глубокое кожаное кресло, зажигал стоящий рядом, покрытый темной цветастой шалью торшер, ставил на широкий деревянный подлокотник стакан чая с лимоном в тяжелом серебряном подстаканнике с толстой замысловатой ручкой и погружался в новую книгу, которую только что выловил в букинистическом магазине на Кузнецком мосту. Букинисты хорошо знали дедушку и всегда припрятывали для него самое интересное.
Когда дедушка так капитально устраивался, бабушка знала, что лучше его не беспокоить по пустякам, и даже к телефону его не подзывала. Боялась она его смертельно, хотя, судя по ее же рассказам, он ни разу голоса на нее не повысил.
Мне очень жаль, что я его плохо помню. Когда он умер, мне было всего пять лет. Единственное, что хорошо врезалось в память, — это как они идут мне навстречу по осеннему Тверскому бульвару, величественные и красивые на фоне золотисто-багряных деревьев.
Дедушка в длинном пальто и в неизменной темно-зеленой шляпе, а бабушка в норковой свободной накидке и в коричневом берете. В руках у дедушки красивая палка, инкрустированная серебром, с набалдашником в виде головы льва. Бабушка опирается на его руку, и по всему видно, что она гордится своим спутником, что он ее настоящая надежда и опора.
А ведь дедушка был заметно ниже ее ростом, я думаю, сантиметров на семь-восемь, и весил меньше килограммов на тридцать… Но теперь, когда я разглядываю старые фотографии, где запечатлены они вместе, я понимаю, почему бабушка не замечала этой разницы в росте и весе. Дедушка выглядел куда монументальнее и значительнее ее при всей своей миниатюрности.
Торшер и кресло стоят в моем доме до сих пор, а подстаканник вместе с хрустальным стаканом в свое время побывал в комиссионном магазине на улице Горького. Разные бывали времена…
Так вот, любовь к книгам у меня определенно от дедушки. Не знаю, что читал он, но я предпочитала книги про любовь. И чтобы там было побольше про это… Слово «эротика» в то время было почти неупотребимо.
7
К тринадцати годам я прочитала всего Мопассана. Почему-то он был моден среди девчонок, особенно «Милый друг» и «Жизнь». Прочитала «Жерминаль» Золя, «Гав- риилиаду» Пушкина и все его нецензурные эпиграммы и стихи. У нас было большое академическое издание. Правда, о чем конкретно идет речь в «Гавриилиаде», мне объяснили много позже. На дальней полке, среди античной литературы, я нашла «Золотого осла» Апулея. Там же я случайно обнаружила Гая Светония «Жизнь двенадцати цезарей».
Разумеется, от девчонок я ничего не слышала об этой книжке и открыла ее из праздного любопытства, но, наткнувшись на описание оргий Нерона, страшно этой книжкой заинтересовалась.
Кроме того, я освоила все девять томов «Тысячи и одной ночи», «Декамерона» Боккаччо, знала почти наизусть все известные места из «Тихого Дона» Шолохова и даже пыталась по совету подружки читать «Бруски» Федора Панферова, но не смогла даже добраться до нужных мест.
Читала я в основном, как и дедушка, в его кресле, включив старинный торшер и поставив на подлокотник его стакан в серебряном подстаканнике с компотом из сухофруктов.
Бабушка с уважением и пониманием относилась к моему чтению. К дедушкиному же креслу она не подходила чисто рефлекторно, кто бы в нем ни сидел. Изредка я ловила на себе ее умильный взгляд и думала про себя: «Если б ты знала, что я читаю…»
На самом деле, как я это сегодня понимаю, важно было не то, что я читаю, а с какой целью. А читала я не с целью получить новые знания, а только для того, чтобы с жадностью впитывать в себя до последней капли всю эротику, пускать ее себе в бешено мчавшуюся по жилам кровь и со сладким удивлением прислушиваться к тому, как все большое и зрелое тело отзывается на этот божественный и желанный яд в крови. Как набухает и тяжелеет грудь и твердеют соски, как начинает сладко ломить и выворачивать суставы, как тянется и прогибается позвоночник, как становится горячим и наполненным низ живота, как непроизвольно напрягаются ягодицы и сжимаются бедра. Что есть силы. До боли…
Однажды — никогда не забуду этот день — я сидела в кресле с книгой Апулея, в который раз перечитывая сцену любовных игр Луция со служанкой Фотидой, в которой она, «часто приседая» над ним «и волнуя гибкую спину свою сладострастными движениями», досыта кормит его плодами «Венеры Раскачивающейся». Непроизвольно сжимая бедра и ягодицы, я почувствовала начало чего-то большего, чем испытывала от подобных действий до сих пор. Дома никого не было, меня ничто не сдерживало, и я, издав неожиданный, еще больше меня возбудивший стон, уже сознательно сильнее сжала свои сильные бедра, стремясь навстречу надвигающемуся блаженству. Острое, как боль, наслаждение усилилось. Я еще сильнее сжала бедра. Книга выпала из моих рук, и я, невольно подняв их, положила себе на грудь. Глаза мои сами собой закрылись. Я увидела Алексея. Это его я сжимала своими мощными бедрами. Я сдавила свою грудь, еще сильнее сжала бедра и уже не застонала, а зарычала по- звериному. И в это мгновение из самой глубины меня, точно огромным огненным шаром, исторглось острое, нестерпимо жгучее блаженство…
Наверное, на какое-то мгновение я потеряла сознание.
Очнувшись, я поняла, что совершила что-то ужасное. Словно овладела сонным Алексеем без его согласия. Мне стало невыносимо стыдно.
Тут пришла бабушка, и я, шмыгнув в нашу общую спальню, без сил повалилась на свой диван.
После этого у меня три дня сильно болели ноги. Не только бедра, но и ягодицы и икры. Много времени спустя я догадалась, что это была обычная крепотура.
Немного позже я связала свои ощущения со словом «оргазм», которое хоть и нечасто, но встречалось в специальной дедушкиной литературе.
Я тогда еще не знала, что обрела на всю жизнь универсальное средство от всех сексуальных неудач.
Алексея посадили осенью 1949 года за квартирную кражу. По делу он, как и во всем, шел первым.
Один из его дружков, Толян, позвонил мне накануне суда и сказал, что Леха не хочет, чтобы я приходила на суд. Я исполнила его желание.
В следующий раз мы увиделись с ним через четыре года, но это совсем другая история.
Таков был мой первый возлюбленный, хотя досталась я вовсе не ему. Кстати, и Сладким Ежиком я его тогда еще не называла. Может быть, много позже, совсем в другой жизни… машинально…
ВТОРОЙ (1950 г.)
1
Он был не очень высок, но казался высоким. Длинные русые волосы он носил назад, и они распадались на обе стороны лба тяжелыми крыльями. Кончики усов он, когда был в хорошем настроении, подкручивал вверх, а в хорошем настроении он тогда был постоянно.
Глаза у него были светло-карие, быстрые, цепкие, чуть- чуть прищуренные. Скулы высокие, туго обтянутые смуглой кожей. Нос тонкий, с небольшой горбинкой. Когда он хохотал, то закидывал голову назад и сверкал часто посаженными крепкими зубами.
Руки у него были большие, ухватистые и горячие.
Когда он здоровался, то забирал твою ладонь в свою как- то уж очень целиком и сжимал сильно, но не больно, и при этом слегка тянул к себе, а в глазах его сквозь улыбку, как сквозь маскировочную сетку, просвечивался дерзкий и настойчивый вопрос: «Когда? Ну когда же, наконец?»
В первый раз от неожиданности я чуть не брякнула в ответ на такое нахальство: «Да никогда! С чего вы взяли?»
Но он вовремя представился и ненадолго рассеял это наваждение.
— Макаров, — сказал он с таким видом, словно говорил: «Суворов», — Федор.
И так крепко тряхнул мою руку, что у меня косточка в плечевом суставе слышно хрустнула, а у него на груди зазвенели его бесчисленные медали и ордена. Он был в парадном мундире, при капитанских погонах, поразивших меня обилием звездочек. Я тогда в этом еще плохо разбиралась…
Мы познакомились с ним у Таньки на новогодней вечеринке.
Танька — моя бессменная подруга с первого класса.
В школе девчонки нас дразнили «Патом и Паташоном», так как Танька почти вдвое меньше меня ростом и миниатюрнее. Но, несмотря на свой маленький рост, она была заводилой в классе. Когда в ее больших и круглых голубых глазах загорались бесовские огоньки и она озорно встряхивала своими рыжевато-каштановыми кудрями, устоять перед ее выдумкой и отчаянием не мог никто.
В какие только авантюры мы с ней не пускались! Но обо всем в свое время…
2
Мы уже три месяца жили без мамы, потому что она уехала ко Льву Григорьевичу в Магадан. До сих пор не могу назвать его папой. Наверное, потому, что при жизни ни разу так не назвала.
Жизненных запасов у нас еще хватало, кое-какие деньга вскоре начала присылать мама, потому что она и в Магадане тут же устроилась по специальности, но бабушка все равно твердо решила пристроить меня к делу.
— Как бы жизнь твоя ни повернулась, пока у тебя есть «Зингер», тебе не о чем беспокоиться, — сказала она и задумалась. Потом, вздохнув, добавила: — А «Зингер» — машинка вечная…
И оказалась права. Я долго его не меняла на более совершенные модели. Он и сейчас украшает мой офис.
Так вот, к той вечеринке я под бабушкиным наблюдением для практики и для удовольствия сшила себе новогоднее платье, страшно модное по тем временам. У бабушки давно лежал отрез очаровательной чистошерстяной шотландки. По темно-красному фону крупная черная и тонкая зеленая клетка. Материала было в обрез, тем более что кроили мы по косой… Это была ювелирная работа. Я ею горжусь до сих пор. Хватило даже на обтяжку пуговиц.
Это было отрезное, под горлышко платьице с застежкой на крючки на талии сбоку, а сверху, сзади, были две пуговички. Рукава были не то чтобы фонариком, а с намеком на фонарик, с легким напуском и широкой манжетой на пять пуговиц.
Бабушка умудрилась сделать всего четыре вытачки, две к груди и две сзади, а с моей выдающейся во всех местах фигурой это нужно было суметь.
Юбочку мы сделали слегка расклешенную, чуть пониже колен, а на круглый воротничок бабушка подарила мне самые настоящие брабантские кружева изумительно черного цвета. Они хранились у нее с выпускного бала в Институте благородных девиц.
Дело довершила потрясающая коралловая камея в золотой оправе — подарок дедушки на десятилетие их свадьбы. Нашлись и шелковые чулки, и белье, по которому юбка летала-волновалась.
Правда, бабушка не отпустила меня, пока я поверх шелковых трусиков не напялила на себя отвратительные розовые трико с начесом, которые я у Таньки тут же сняла и спрятала в диван. Хорошо, что я пришла первой, чтобы помочь ей доприготовить и накрыть на стол.
Честное слово, я хотела остаться дома с бабушкой, но она буквально выпихнула меня из дома. Самой ей, по ее. словам, было нечего праздновать.
3
У Таньки была большая сорокаметровая комната в коммуналке. Она жила через бульвар. Ее старшая сестра Зинаида давно вышла замуж, переехала к мужу, развелась с ним, отсудила у него одну комнату из двух и находилась в состоянии обмена. Теперь она снова выходила замуж и устраивала нечто вроде смотрин, но не для родителей, с чьим мнением мало считалась, а для друзей, вернее, для начальства, которое она называла друзьями. Поэтому родителей она выпроводила в свою комнатенку, под бок к бывшему благоверному, а нас с Танькой оставила в роли официанток и посудомоек.
К тому же я могла подобрать на пианино любой мотив. Этому, как и многому другому, научила меня бабушка…
Елка у них была потрясающая. Не очень высокая, но пушистая и стройная.
Я не очень любила Зинаиду за ее золотые зубы и привычку при разговоре брезгливо дергать ртом, но признавала за ней некоторую привлекательность. Она очень дорого и модно одевалась. Прическу делала в лучшей парикмахерской в «Гранд-отеле», рядом со «Стереокино». И того и другого там давно уже нет…
Она была тонкой, как подросток, а голос у нее был низкий и тяжелый, но когда кричала, то срывалась на визг.
Зинаида пришла сразу после меня и за полчаса сумела надоесть нам с Танькой своими высокомерными замечаниями.
Потом пришли ее противные начальники, все сплошь лысые, пузатые, пахнущие, как один, «Шипром». Все их жены были в тяжелом бархате, который смотрелся на их широких спинах как обивка на диванах.
Тут наступает провал в моей памяти, потому что началась обычная в таких случаях суета. Шуршали газеты, из которых извлекали лотки с заливным судаком, переваливался из кастрюли в хрустальную вазу винегрет, открывались банки со шпротами…
Заглушая все запахи на свете, одуряюще пахли мандарины, которые были повсюду и каким-то чудом примешивали к собственному аромату привкус морозной свежести и терпкий хвойный дух.
Было даже непонятно, когда пришел он. Я не слышала никакого звонка. Просто дверь в комнату распахнулась, и на пороге появился он — в расстегнутой долгополой шинели, с распадающимися темно-русыми волосами, с капельками влаги на оттаявших в тепле усах. В одной руке у него была авоська с полудюжиной шампанского, в другой букет белых хризантем.
Он бросил шампанское и цветы в кресло, шагнул ко мне и забрал мою руку в свою.
— Ну, здравствуй, сестренка, с наступающим… — и, потянув меня к себе, спросил глазами: «Когда? Когда, наконец?»
Я поняла, что он перепутал меня с Танькой, но мне было на это наплевать, и помимо своей воли я подумала: «Когда захочешь». Потом испугалась, что он может подсмотреть это мое согласие, и возмутилась чуть ли не вслух: «Да никогда! С чего вы взяли?»
— Макаров, — сказал он и крепко тряхнул мою руку, — Федор. Не чужой тебе человек, между прочим… — и подмигнул.
Я не успела ему ничего ответить, как подлетела Зинаида в своем шифоновом платье с невероятными плечиками и схватила Макарова за рукав.
— Она тебе не сестренка, она просто живет тут рядом… А Татьяна сейчас на кухне.
И только после этого Макаров, как мне показалось, с большой неохотой выпустил мою руку. Так обидно стало! Будто кто-то подарил мне большой красивый елочный шар, а эта стерва подбежала и выбила его из рук. Если б не этот ее поступок, все кончилось бы не так печально.
Всю ночь он не сводил с меня глаз. Притом делал это так, что не подкопаешься. Как только Зинаида, сверкая золотыми зубами, захохочет, как гиена, над очередной плоской шуткой своего начальничка, самого мерзкого из трех, что она привела, так Макаров и пускает в меня один из своих взглядов, словно стрелу из лука. А во взгляде его прищуренных глаз — и усмешка, и вопрос этот дерзкий, и ответ на него… Я опускала глаза, а он довольно ус подкручивал, как бы удовлетворенный моим смущением, и подливал Зинаиде то шампанского, то коньячку.
Меня эти тайные взгляды волновали больше, чем явные второго начальника Зинаиды, который еще был ничего, не такой противный, как первый. Третий, слава Богу, на меня вовсе не смотрел. Он с каждой рюмкой как-то уменьшался, и только мелко хихикал весь вечер и смотрел при этом почему-то в студень. Он первый и упал со стула, когда мы с Танькой танцевали под пластинку Утесова.
Зинаида еще держалась и принялась его укладывать на кровать за занавесочкой. А его квадратная супруга с выщипанными бровями заявила, что такого домой не повезет. После этого она незаметно ушла. Впрочем, ее никто и не хватился.
4
Потом много плясали под «барыню». Второй начальник пытался вытащить меня в круг, но я оказалась посильнее его и, наоборот, с такой силой выдернула свою руку, что он отлетел к дивану и рухнул на острые коленки к Зинаиде. Она так расхохоталась от этого, что начала икать.
Потом главный начальник и Зинаида начали под «барыню» напеременку петь матерные частушки, от чего стало так противно, что я вышла в коридор и стала искать на вешалке бабушкину мутоновую шубу, которую она мне дала на этот вечер.
Я очень любила эту шубу. Ее мех был тонкой выделки, очень мягкий и густой, глубокого черного цвета, и очень шел к моему белому, с легким румянцем лицу и к черным бровям. А когда я поднимала широкий шалевый воротник, то становилась похожа на испанскую королеву.
За столом Зина нам не наливала никакого спиртного. Я думаю, из вредности. Хотя, конечно, миниатюрная Татьяна выглядела очень молодо даже для семиклассницы, и Зинаида относилась к ней как к ребенку.
Но мы с Татьяной назло ей тайком на кухне глотнули порядочно шампанского, и к тому же Танькин сосед дядя Коля угостил нас «Спотыкачом» — ужасно вкусной наливкой, приятно пахнущей черносливом. Так что к тому времени я, наверное, была уже под градусом, но сама этого не понимала.
Шуба все не находилась, и мне стало так обидно и грустно, так не захотелось идти домой, что я даже заплакала.
Мне бы, дурочке, просто взять и вернуться в комнату, сделать вид, что выходила на минутку. Мало ли за чем… Но в моей хмельной голове все перевернулось таким образом, что раз ушла, так ушла, и хода назад нет.
Мне так хотелось, чтобы в коридор выскочила Танька, закричала бы на меня, замахала руками, силой потащила в комнату продолжать праздновать и танцевать, тем более что похабные частушки закончились и из-за двери слышался мой любимый фокстрот «Брызги шампанского».
Но глупая Танька забыла о подруге, а может быть, даже и не заметила, как я ушла. Я слышала ее смех и, глотая слезы, рылась в ворохе одежды на вешалке. У меня то и дело падали тяжеленные пальто, я их вешала, а они снова падали. Я даже и не заметила, когда он вышел. Смотрю, кто-то поднимает непослушное пальто и намертво вешает его на крючок. Оглянулась и прямо перед собой увидела его прищуренные, насмешливые, дерзкие глаза…
— Куда это ты собралась, сестренка? — спросил Макаров и забрал мою руку в свою, горячую и сильную.
— Домой, — отвернувшись, чтобы скрыть слезы, ответила я.
— Подожди, — попросил он с каким-то обещанием.
— Сколько? — спросила я, не понимая, о чем спрашиваю.
Он глянул на свои большие трофейные часы и, как бы что-то прикинув про себя, сказал незнакомым серьезным голосом:
— Я думаю, минут сорок…
— Хорошо… — прошептала я.
— Вот и хорошо, — кивнул он, слегка сжал мою руку и улыбнулся доброй благодарной улыбкой.
У меня в груди стало жарко. Я подняла голову и пристально вгляделась в его глаза, которые как бы потемнели и стали больше, оттого что перестали щуриться. Я почувствовала, как его рука, а еще больше какая-то непонятная сила притягивают меня к нему, и чуть было не шагнула навстречу неизвестно чему. Но тут дверь распахнулась и в коридор выскочила опомнившаяся Танька. Наверное, после танцев ей захотелось глотнуть шампанского из припрятанной на кухне бутылки.
— А ты чего тут? — спросила она с разбегу.
— Носовой платок в шубе забыла, — моментально соврала я, даже не заметив, как он выпустил мою руку.
— Пойдемте, Федор, пойдемте! — закричала Танька.
Я и забыла сказать, что она в него влюбилась с первого взгляда и не сводила глаз целый вечер. А что ей? Ведь не выгонит же ее Зинаида на мороз из собственного дома.
5
Когда мы вернулись, Макаров налил всем по полному фужеру коньяка и провозгласил тост за человека, который так много сделал в судьбе Зинаиды, — за Кузьму Савельевича, того самого противного начальника, с кем Зинаида пела частушки.
Макаров стоя лихо махнул свой фужер и строго посмотрел на остальных, особенно на Зинаиду. Ей ничего не оставалось, как тоже вытянуть свой фужер. У нее, бедняжки, даже по подбородку коньяк потек, но все на нее смотрели и подпевали: «Пей до дна, пей до дна!»
Потом пошли тосты за весь славный Ресторанторг. Кузьма Савельевич, как потом выяснилось, и был его директором. Потом пили за его главного бухгалтера — им оказался тот, что пялился на меня, и за начальника отдела снабжения, который давно уже спал за занавеской. За него Зинаида тоже хотела пить стоя, но встать с дивана не смогла и выпила сидя.
Потом за начальством приехала персональная машина, и Макаров тащил на себе снабженца, как куль с песком. Мы с Танькой помогали ему, несли ноги снабженца в ботинках с галошами. Снабженец был очень длинный, и его ноги волочились по лестнице.
Когда мы вернулись, Зинаиды в комнате не оказалось. Мы отыскали ее спящей в туалете. Хорошо, что она забыла закрыться на крючок… Мы с Танькой привели в порядок ее одежду, и Макаров отнес ее в комнату, за занавеску. Когда он вышел оттуда, то посмотрел на часы и как бы про себя заметил:
— Сорок три минуты…
— Что? — переспросила Танька.
— Сорок три минуты ей надо поспать, — сказал Макаров, кивая на занавеску. А я отвернулась, чтобы скрыть внезапно выступивший на щеках густой румянец… Оказывается, он все специально подстроил!
В ту пору я легко краснела, особенно тайным своим мыслям, которые не всегда решилась бы повторить вслух.
Мы попробовали попраздновать втроем, даже шампанского выпили, но веселья как-то не получилось. Танька все рвалась танцевать с Макаровым и бесцеремонно приставала к нему: «Расскажите нам про войну, Федор!» Но танцевать Макаров категорически отказался, чтобы не разбудить музыкой Зинаиду, а рассказать про войну обещал в другой раз.
Вскоре на Татьяну напала неудержимая зевота, и я засобиралась домой.
Макаров велел Таньке ничего не убирать, а прилечь отдохнуть на диване и дожидаться его. А он проводит меня до дому, подышит немного воздухом, вернется и поможет ей. Они потом еще чаю попьют с шоколадными конфетами из большой подарочной коробки, которую принес кто-то из начальства. Он ее при этом назвал сестренкой, и она, блаженно улыбнувшись, как послушная девочка прилегла на диване. Макаров заботливо укрыл ее шалью.
На улице было прекрасно. Горели фонари, шел мягкий крупный снег, похожий на куски ваты, из многих окон слышалась музыка, везде разная, пахло мандаринами, и тротуары были девственно белыми. Не было видно даже следов от машины, которая приезжала за начальством, вроде ее и не было вовсе… Деревья стояли мохнатые, как рожки у молодого оленя. Я вдохнула полной грудью и выдохнула из себя все мерзости этой вечеринки.
— Когда-нибудь я встречу Новый год в лесу, среди красивых деревьев, — сказала я.
— А кто же вас будет охранять от голодных волков? — тут же подхватил разговор Макаров.
— Вас позову. — Я серьезно посмотрела в его светящиеся в лучах фонарей глаза. — Пойдете?
— Я уже пошел, — так же серьезно сказал Макаров, залезая в мою просторную муфту, пропахшую бабушкиной «Красной Москвой». Это было так внезапно, так откровенно, руки были такими горячими, ищущими, что я от неожиданности захлебнулась холодным острым воздухом и на мгновение потеряла дыхание.
— Двуногие волки опаснее лесных… — прошептал он и вдруг приблизил свои заиндевевшие усы к моему беспомощно хватающему воздух полуоткрытому рту. Я почувствовала крошечные льдышки на губах и не сразу сообразила, что надо что-то делать: или ответить на поцелуй, а этого я еще толком не умела, или сжать губы и попытаться отстраниться, что было еще не поздно, так как руки его блуждали по моим в муфте, ставшей тесной и таинственной. Но я так и стояла, дыша ртом сквозь его усы и чувствуя, как льдинки тают от нашего слившегося дыхания.
Он сам отстранился от меня и хрипло прошептал:
— Какие у тебя руки…
— Какие? — наконец закрыв рот, спросила я.
— Зажигательные… Я как будто всю тебя обнимаю…
Я выдернула руки из муфты, он поймал их, соединил ладонями и сжал сильно-сильно.
— Мне пора домой, — сказала я.
— Конечно, — сказал он и улыбнулся, обнажив все свои крепкие частые зубы. Я подумала, что только что касалась этих зубов своими, и у меня даже закружилась голова. Он тихонько потянул меня за руки к себе. Я резко отвернулась, избегая поцелуя, хотя больше всего на свете мне хотелось, чтобы он взял мою голову своими горячими, нетерпеливыми руками, нежно повернул к себе и поцеловал, а я бы ответила ему по-настоящему, хотя как это — по-настоящему — и сама не знала…
И он засунул мои руки обратно в муфту, властно взял мою голову в ладони, повернул, приблизил к себе и впился в сжатые губы. Его язык проник мне в рот, и я инстинктивно потянула его в себя, одновременно выталкивая его своим. Язык его был слаще мороженого, а усы восхитительно пахли папиросами, коньяком и каким-то горьким одеколоном.
Ноги мои подогнулись в коленках, а тротуар поплыл куда-то вверх и вбок. В последний момент я успела высвободить руки из муфты и обхватить его за шею, не то непременно бы рухнула на землю.
Макарова мое невольное объятие подстегнуло. Он словно железными клещами обнял меня за талию и притянул к себе с такой силой, что я невольно застонала. От этого звука его поцелуй сделался еще крепче, еще ожесточеннее. Мне стало больно и захотелось слиться, срастись с его твердыми жадными губами, горячим, настойчивым, сладким языком.
Я не знаю, сколько мы так простояли. Потом у меня целый день болели губы и почему-то скулы. Этот мой первый поцелуй, похоже, был самым долгим и самым острым в моей жизни.
Сейчас я точно не помню, но, кажется, умудрилась тогда сжать бедра и испытать размытый во времени и в моем теле непрекращающийся оргазм. Или мне даже не пришлось сжимать для этого бедра. Или мне это показалось, потому что все мое тело и душа от этого поцелуя пришли в состояние волшебного, бесконечного экстаза.
Нас спугнул стук двери. Во двор вывалилась веселая студенческая, по всей вероятности, компания и с молодым здоровым хохотом принялась играть в снежки. Мы присоединились к ним. И это было очень кстати, потому что, если б не эти ребята, мы в конце концов повалились бы в снег, прямо не сходя с места…
— Мне пора домой, — крикнула я ему, кидая снежок в наших противников.
— Конечно! — засмеялся он и сбил с одного из парней каракулевую шапку пирожком.
— Тебя Зинаида ждет и Танька! — крикнула я ему.
— Они дрыхнут без задних ног! — крикнул он беззаботно.
6
Совершенно не помню, как мы забрели в детский сад, расположенный сразу за Танькиным домом. Он и сейчас там есть, похожий на замок с остроконечной башенкой и с высокими стрельчатыми окнами.
Мы перелезли через забор и стали кататься с ледяной горки. Я все время падала, и если б не плотная шуба, то отбила бы себе все бока. Он отряхивал меня голыми руками, а я все боялась, что у него руки замерзнут и он перестанет меня отряхивать, больно касаясь через шубу ягодиц, бедер, спины.
Мы дурачились, бегали вокруг высокой елки, украшенной бумажными гирляндами, снежинками, горящими разноцветными лампочками, падали в сугробы, кидались пригоршнями снега и делали вид, что ничего между нами не было. Он не прикасался ко мне, даже не брал за руки. Даже как- то нарочно избегал, когда я специально ему подставлялась.
Потом я в изнеможении рухнула в самый настоящий царский трон. Он был сооружен из снега, облит водой и заморожен. В его основании и в спинке сверкали и переливались в свете лампочек огромные, величиной с блюдце, рубины, изумруды и сапфиры.
Влипнув в зеленый штакетник и месяцами не сводя глаз с Лехи, я видела, как делают эти драгоценные камни. В эмалированную мисочку наливают воду, подкрашенную акварельной краской или гуашью, и замораживают. Затем дно мисочек поливают кипятком из чайника, и из них вываливаются самые настоящие драгоценности. В Лехином садике такими самоцветами украшали сугробы вдоль расчищенных дорожек.
Это очень странно, но об Алексее в ту ночь я не вспомнила ни разу, словно его и не было никогда на свете. Я вспомнила о нем только утром следующего дня.
Едва я шлепнулась на этот трон, как Макаров подскочил ко мне и, схватив за руку, одним рывком выдернул из ледяного трона.
— Женщинам нельзя сидеть на холодном, — строго сказал он.
— Но я царица и хочу сидеть на троне! — Я, почувствовав свою власть над ним, неожиданно для себя первый раз в жизни закапризничала чисто по-женски.
Макаров одним движением скинул с плеч расстегнутую шинель и, сложив ее пополам, кинул на трон.
— Слушаюсь, моя царица! — Макаров так щелкнул каблуками начищенных хромовых сапог, что зазвенели медали на его груди.
— Нет, нет, ни в коем случае! — непреклонным тоном сказала я. — Ты простудишься!
Строго сдвинув брови, я схватила шинель и накинула ему на плечи.
Тогда он уселся на троне и широко развел руки.
— Прошу, моя царица!
— А тебе можно сидеть на холодном? — с сомнением спросила я.
— Бывало, в окопе шинель за ночь так примерзала к земле, что ее приходилось финкой вырубать. Прошу, — сказал он, распахивая полы шинели.
Из каких-то окон доносилась музыка, светилась огнями елка, сверкал трон, горели его дерзкие глаза. Я бесшабашно махнула муфтой и плюхнулась к нему на колени, нимало не заботясь о том, что ему будет не столько холодно, сколько тяжело, ведь я в ту пору весила больше семидесяти килограммов. Тогда я еще не переживала по этому поводу.
Он крепко обхватил меня сзади за талию, и я тут же почувствовала, как его жадные, неугомонные руки пробираются под шубу, гладят мой живот, грудь…
Не нужно забывать, что я тогда впервые почувствовала мужские руки на своей груди. И надо же было им оказаться такими горячими, ухватистыми, неутомимыми…
В ту ночь я прокляла свое упрямство, с которым отстаивала именно этот фасон платья. Бабушка ведь предлагала сделать небольшой треугольный вырез, а мне казалось, что сплошное полотно с косыми вытачками лучше будет подчеркивать мою грудь. Вот и подчеркнуло…
Мне тогда чудилось, что, дотронься он до моей кожи, — я взорвусь и улечу в небо. Я этого так хотела и так боялась… И, конечно же, это произошло.
Каким-то чудом он сумел вытащить из-под меня полу шубы, на которой я сидела, и я почувствовала его жесткие мускулистые ноги и еще нечто такое, во что я просто не могла поверить… Оно было живое, горячее через всю одежду… Меня всю передернуло и стала колотить крупная дрожь. А дальше я плохо помню, как его руки попали мне под юбку, туда, где была полоска обнаженного тела между шелковыми трусиками и чулками… Какое счастье, мелькнуло в моей голове, что я свое трико с начесом оставила в диване, на котором теперь мирно спала Танька.
Не знаю, как мне или ему удалось изогнуться, и наши губы слились в неукротимом, почти болезненном поцелуе. Потом его руки стали пробираться вверх по внутренней стороне бедер, которые я в панике сжала что было сил. Мне до смерти было стыдно того, чем потом я гордилась всю жизнь…
Дело в том, что я очень легко и быстро возбуждаюсь и тогда у меня там все опухает, увеличивается, так что просто не помещается в трусах и начинает неудержимо истекать любовной влагой…
Я давно уже чувствовала, что трусики промокли насквозь, и больше всего на свете боялась, что он дотронется до этого рукой… Но и это произошло…
— Какая ты… — хрипло прошептал он мне в ухо, царапнув шею отросшей за эту длинную ночь щетиной.
— Какая? — дрожащим голосом прошептала я.
— Медом сочишься, как спелые соты…
И этими словами он на всю жизнь снял с меня стыд за мое естество…
То, что было дальше, мне трудно вспомнить. Оказалось, что он как-то умудрился через широкий рукав пробраться к самой груди, что трусики каким-то образом сползли к коленкам, и я голым телом почувствовала то, что на самом деле было не горячим, а раскаленным, обжигающим… Потом это скользнуло в меня, пронзило острой, мгновенной, настолько ошеломляющей болью, от которой я уж точно взвилась бы в небо, если бы он стальными своими ручищами не прижал намертво меня к себе. Мы замерли… Я в испуге, он в ожидании…
Потом, много позже, мне пришло в голову, что не только разрыв с любимым человеком болезнен, но и соединение, срастание с ним… Если, конечно, оно настоящее. И что характерно, девочки, — каждый раз, когда мне случалось впервые соединяться с любимым, я чувствовала словно отголосок той боли…
А тогда боль постепенно успокоилась, хоть и не насовсем, но достаточно для того, чтобы почувствовать, как его плоть, совершенно отдельно от окаменевшего Макарова, робко шевельнулась во мне, потом еще и еще… И вот тут-то я и улетела, как много раз собиралась в эту ночь.
Это было ни в коей мере не сравнимо с тем, чего я добивалась сама, сжимая бедра в кресле или в ванной.
Хотя, если разобраться, все было то же самое. Просто впервые это было по-настоящему, с возлюбленным, с тем чувством полного с ним единения, к которому я потом стремилась всю жизнь.
Как оказалась дома, я не помню.
7
На другой день, уже к вечеру, ко мне прибежала всполошенная Танька.
— Что ты с ним сделала? — прямо с порога брякнула она. Хорошо, что бабушка ушла в магазин.
Выяснилось, что Макаров тихонько вернулся и, никого не разбудив, улегся с Зинаидой спать, а днем, проснувшись и выяснив, что я Танькина одноклассница, а не просто какая- то соседка, как он думал раньше, и что мне, как и ей, всего четырнадцать с половиной лет, впал в тоску.
Хорошо еще, что Зинаида к тому времени уже успела похмелиться и ничего такого не заметила. А Макаров места себе не находил и несколько раз как бы шуткой возвращался к этому разговору — мол, надо же, какая крупная молодежь пошла… Что, — мол, действительно ей всего четырнадцать? Не разыгрывают ли его?
— Не четырнадцать, а четырнадцать с половиной, сказала я ему, — гордо объявила Танька. — Вы что, целовались с ним, что ли?
— Один раз… — соврала я.
— То-то он и бесится. Ловко ты его надула. А как же Алексей? — укоризненно спросила Танька. Она была в курсе всех моих сердечных дел.
И вот тут-то я с ужасом поняла, что за всю ночь ни разу его не вспомнила. И почему-то разозлилась на него за это.
— А он про меня подумал, когда в эту квартиру проклятую полез? И потом, он никаких клятв с меня не брал. И вообще, ему никогда ничего не нужно было.
— Влюбилась? — с завистью спросила Танька.
— Влюбилась, — тихо ответила я.
— Я еще ночью поняла, когда вас в коридоре увидела. Ладно, думаю, пускай лучше ты в него влюбишься, чем я… Меня Зинаида совсем со свету сживет, а про тебя, может, и не догадается.
Бедная Татьяночка, она даже не представляла себе подлинных размеров катастрофы. И долго не могла понять, в чем дело, когда, с моего согласия или без, предпринимала попытки нас якобы случайно свести.
Макаров бегал от меня, как черт от ладана. На мои записки не отвечал, на назначенные встречи не приходил, и затащить его в Танькину квартиру не было решительно никакой возможности.
Я, разумеется, бесилась, страдала, сохла, насколько это возможно при моей конституции. А главное, не могла понять, в чем же дело. Неужели он мне все наврал тогда на троне и я ему совсем не нравлюсь?
Потом мы с Танькой его выследили, и я его приперла к стенке. До той встречи я и не предполагала, что мужик, ге- рой-разведчик, удалец, весельчак, может оказаться таким трусом… Он, увидев меня, покрылся испариной, и у него натурально начали трястись усы.
Как потом выяснилось, незадолго до Нового года он поступил на работу оперуполномоченным в 4-е отделение милиции, где у него начальником оперативного отдела работал его старый фронтовой дружок.
Приняли его с испытательным сроком. Но самое главное, дали служебную площадь, крошечную квартирку в подвале без окон. Она располагалась под аркой большого дома на Пушкинской площади и вход в нее был прямо с улицы. Даже прихожей не было. Открываешь дверь и попадаешь прямо на кухню, где только и помещался один стол с керосинкой да две табуретки.
Первое, что ему пришло в голову, когда он узнал о моем возрасте, что его не только тут же выгонят с работы и из квартиры, но и посадят за совращение малолетних не меньше чем на десять лет, а после тюрьмы ему придется вернуться в родную деревню под Дмитров, где его младший братишка работает трактористом, получает пятнадцать копеек на трудодень и радуется, когда мать, продав картошку на Тишинском рынке, привозит домой белый батон и бутылку подсолнечного масла. А ему так нравилась Москва, новые друзья, новая работа.
Он только четыре месяца назад вернулся из Германии, где был ординарцем у коменданта Берлина и как сыр в масле катался, но попал в аварию, получил тяжелое сотрясение мозга и был комиссован из армии.
В Москве его через военкомат как героя войны на первых порах устроили заведующим Донскими банями с перспективой дальнейшего роста в районном масштабе. Но эта работа была ему не по душе, и он отказался от районной номенклатуры ради живой оперативной работы в милиции. И вот вся его кое-как налаженная жизнь могла пойти прахом в одно мгновение. Было чего пугаться.
Но когда я его поймала в его собственной маленькой квартирке, то всего этого, разумеется, не знала и поэтому была в сильном гневе, который быстро перешел в презрение ввиду его такой очевидной трусости. К тому же он с минуты на минуту ждал Зинаиду и нервничал страшно.
Разобравшись в ситуации, я сразу как-то успокоилась. Мне даже стало жалко мужика за то, что он так боится ка- кой-то статьи в Уголовном кодексе и Зинаиды, которая в случае чего ему эту статью точно бы обеспечила.
Когда он пришел в себя и убедился, что на меня можно положиться, мы начали с ним изредка, потихонечку, с массой предосторожностей встречаться…
Конечно же, я была сильно к нему привязана, но ничего похожего на чувства, возникшие в ту волшебную ночь и в дни моих страданий, больше не было. Очевидно, в женских глазах самый большой мужской недостаток — это трусость. Пусть даже ошибочная и временная…
8
Макарова все-таки уволили из органов, но не из-за меня, разумеется. Он с кем-то из начальства повздорил и чуть его из нагана не застрелил. Он ведь все фронтовыми мерками мерил и предательства не терпел. А начальник его за взятку дело закрыл… И это был тот парень, с которым они на фронте под одной шинелью спали…
Я утешала его как могла. А Зинаида, воспользовавшись моментом, когда он был в расстроенных чувствах, чуть ли не силком оттащила его в загс и устроила на свою базу Ресторанторга экспедитором. Он развозил в автофургоне продукты по ресторанам.
Теперь мы с ним виделись в его подвальчике, когда он был уверен, что Зинаида на работе. Он отпускал шофера к мебельному магазину подхалтурить и прибегал в синем сатиновом халате, и от него пахло копченой осетриной, дорогой колбасой и коньяком. Спиртным пахло не от халата, а от него самого. Был он чаще всего небрит, а усы теперь по-мадьярски смотрели вниз. Тогда-то я и прозвала его Сладким Ежиком.
Мы с бабушкой жили тогда не очень-то богато, но все равно я не могла приносить домой продукты, которые он настойчиво пытался мне навязать. Дом его ломился от деликатесов и дорогих вин. Когда я его однажды спросила, откуда все это, он отшутился: мол, на машине к кузову прилипает…
Несмотря на свой возраст, я уже имела подобный опыт с Алексеем и очень волновалась по этому поводу. Но он успокоил меня, объяснив, что он ничего не ворует, что директора ресторанов сами суют за то, что в первую очередь выполнишь их заявку и дефицита подкинешь.
Так продолжалось около года. Потом однажды Зинаида нас застала. Я только что к нему пришла и мы еще ничем таким не успели заняться. Она открыла английский замок своим ключом и застала нас тепленькими на кухне. Мы пили чай. Ничего другого я не употребляла, чтобы бабушка не унюхала, да мне и не хотелось. Я до сих пор предпочитаю заниматься любовью на трезвую голову. Так тоньше ощущения.
Зинаида устроила страшный скандал. Макарова перевели в простые грузчики на базе. Он пытался подать на развод, но она пригрозила, что сдаст его в милицию за совращение малолетних, а меня выгонит из школы и ославит на весь район. Мне ведь еще и шестнадцати не было. И какое кому дело, что я выглядела как девятнадцатилетняя. Судья на это не посмотрит.
Мы прекратили встречаться. Изредка я его видела около черного хода в ресторан «Центральный» или во дворе ресторана «Арагви», где он разгружал продукты и ящики с вином и пивом, но близко не подходила. Он выглядел день ото дня все хуже и хуже, отек от пьянства, зарос, стал черный, как земля, и даже издалека было заметно, что он постоянно навеселе.
Однажды, когда он выронил ящик с пивом и несколько бутылок разбились, экспедитор закричал на него и даже стукнул по шее. Макаров безмолвно стерпел, только втянул голову в плечи. Я заплакала и поспешила уйти, чтобы он, не дай Бог, не заметил меня…
Через два месяца он застрелился из трофейного «Вальтера» прямо на работе, за бочками с красной икрой.
Таня мне рассказывала, что на поминках пьяная Зинаида похвалялась, что в тот день, когда она застала его с этой «сикухой», то есть со мной, она сама шла туда на свидание с тем противным директором Ресторанторга, который пел с ней матерные частушки на Новый год. По счастью, он замешкался на улице и, услышав Зинкин крик, быстренько скрылся от скандала. Иначе, заявила пьяная Зинаида, она бы убила и Макарова и меня.
Несколько дней я проплакала, запершись в своей комнате. Даже в школу не ходила. Я считала, что он погиб из-за меня. Танька от меня почти не отходила и все время твердила, что я дура, что Зинаида его бы все равно погубила, не так, так иначе.
Бедная моя бабулечка не знала, что со мной и делать, ведь никаких видимых причин для такого горя у меня не было… Когда она донимала меня участливыми вопросами, я ей отвечала, что мне маму и Льва Григорьевича жалко. Бабушка гладила меня по плечам и с сомнением качала головой.
Разумеется, он не мог быть автором того письма. Но, вспоминая всех своих «сладких ежиков», я не могла не вспомнить первого. Моего возлюбленного героя, бесстрашного разведчика, который на фронте за три года прошел путь от рядового деревенского паренька с семиклассным образованием до командира разведбата и капитанских погон, а на гражданке не прижился.
ТРЕТИЙ (1951–1952 гг.)
1
А вот третий больше всего подходил на роль человека, приславшего мне на шестидесятилетие огромный букет роскошных чайных роз и кольцо с изумрудом.
Была тревожная ранняя весна, самое начало апреля. Снег уже сошел, но природа еще и не думала пробуждаться, словно не верила в то, что наяву ее ждет что-то хорошее… Лишь кое-где, чаще всего почему-то под заборами, проклюнулись золотые кружочки мать-и-мачехи. И тут же, рядом с ними, еще больше бросались в глаза выступившие из-под растаявшего снега мерзости.
Чтобы не видеть всего этого, я сразу же после школы шла домой и сидела в заветном кресле с Пушкиным. Почему-то я только его читала в тот год. Танька не понимала меня. Бабушка не могла нарадоваться. Мы очень много тогда пошили.
Я, разумеется, была на вторых ролях, но один фасончик придумала сама, чем и горжусь до сих пор. Он был навеян девятнадцатым веком. Это редкое в начале пятидесятых свадебное платье заказала бабушке дочка какого-то генерала, и мое лирическое настроение пришлось как нельзя кстати.
Лучше всего тогдашнее состояние моей души описано в третьей главе «Евгения Онегина»:
…Давно ее воображенье, Сгорая негой и тоской, Алкало пищи роковой; Давно сердечное томленье Теснило ей младую грудь; Душа ждала… кого-нибудь…
Весной я всегда чувствовала себя неуютно, а тут еще были свежи воспоминания о прошлой весне, о расцвете нашего тайного романа с Макаровым. И это ощущение неизбывной и непоправимой вины…
Угрызения совести и мучения мои были так велики, что я даже не позволяла себе читать книги с эротическим содержанием. Я боялась, возбудившись сверх меры, непроизвольно доставить себе наслаждение и удовлетворение.
Жили бы мы в другое время, я, может быть, ушла бы в монастырь. Но в моей жизни все происходит как раз наоборот. Именно монастырь нас свел с Ильей. Фамилии его я никогда не произнесу, потому что она слишком известна.
2
В один из ясных апрельских дней, когда при ярком солнышке тоска еще безысходнее, я, не сказав об этом ни бабушке, ни Татьяне, тайком отправилась в Донской монастырь, где был похоронен Макаров.
Мы были там с Татьяной в декабре, на другой день после сороковин. Помню, увидев, что к его могиле по свежему снегу не ведет ни один человеческий след, я разревелась и никак не могла остановиться.
С трудом я нашла могилку, и она показалась мне еще более жалкой, чем зимой. Убрав поржавевшие веночки с истлевшими листиками, я хотела выбросить и выцветшую ленту с надписью потускневшим золотом: «Горячо любимому мужу от безутешной жены», но отложила ее в сторонку. Потом убрала прошлогоднюю листву, поправила покосившийся железный крест, протерла носовым платком стеклышко фотографии, на которой он, ясноглазый, с гордо подкрученными вверх усами, смело смотрит в свое печальное будущее.
После этого, подумав, что никто мне не дал права распоряжаться чужой памятью, я украсила лентой крестик. И тут сзади раздался негромкий приятный мужской голос. Я невольно вздрогнула и, может быть, как-нибудь дико отреагировала бы на него, если б не сразу мною узнанные, недавно прочитанные пушкинские слова, которые он произносил:
О, пусть умру сейчас у ваших ног, Пусть бедный прах мой здесь же похоронят, Не подле праха, милого для вас, Не тут — не близко — доле где-нибудь, Там — у дверей — у самого порога, Чтоб камня моего могли коснуться Вы легкою ногой или одеждой, Когда сюда, на этот гордый гроб, Пойдете кудри наклонять и плакать.
Только тут я оглянулась. Передо мной стоял высокий светлокудрый голубоглазый красавец в сшитом из дорогого, явно заграничного букле длинном модном пальто с огромными накладными карманами, которое было схвачено на тонкой талии широким поясом. Через плечо на брезентовом ремне висела брезентовая же плоская сумка чуть побольше тех, в которых ученики музыкальных школ носят свои папки для нот.
Что-то во мне дрогнуло и неясно шепнуло: «Это он».
Не найдя в его словах ничего предосудительного и ничего обидного в выражении лица, я, хоть и была в печально- философском состоянии духа, захотела показать ему, что и мы кое-что читали у Александра Сергеевича, и ответила репликой Доны Анны с самым строгим выражением лица:
Вы не в своем уме.
Брови незнакомца удивленно и радостно взметнулись, и он, немного подумав, медленно и робко ответил репликой Дона Гуана:
Или желать Кончины, Дона Анна, знак безумства? Когда б я был безумец, я б хотел В живых остаться, я б имел надежду Любовью тронуть ваше сердце…Тут он смущенно замолчал, очевидно поняв, что совсем уж зарапортовался. Я тоже молчала. Наконец, смущенно прокашлявшись, он заговорил:
— Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Я прекрасно понимаю, что я не великий Дон Гуан, хотя вы так похожи на Дону Анну в моем представлении.
Я продолжала молчать, изо всех сил хмуря брови, чтобы не выдать надежды, в один миг затопившей мое сердце.
— Я надеюсь, вы мне простите мой безответственный поступок?..
Я опять промолчала, и он продолжал, справившись со своим волнением:
— Но я прошу меня хотя бы понять… Как я еще мог подойти к юной девушке, которая прибирает могилу… — тут он замялся, подбирая правильное слово: — Близкого человека. Я так боялся, что вы уйдете раньше, чем я решусь к вам подойти… А подойти мне было совершенно необходимо. Только вы не подумайте ничего такого. Я художник. Я сейчас работаю над картиной, которая у меня никак не получается… Я пишу войну… О том, как она опалила русскую женщину, вернее, девушку, которая еще и не налюби- лась вдоволь, но война отняла у нее возлюбленного… И тут такое совпадение…
Он осторожно кивнул на фотографию.
Я снова промолчала, но на этот раз просто от того, что не знала, что говорить.
— Вы мне не верите? — загорячился он. — Смотрите.
Он выхватил из своей сумки потертую картонную папку и развернул передо мной. Я ахнула про себя. Это были великолепные зарисовки мраморного горельефа из храма Христа Спасителя. Там был и памятник Гоголю, который стоит теперь во дворике дома, где он умер, в конце Суворовского бульвара; богиня победы, которая опять заняла свое место на Триумфальной арке, переехав с Тверской улицы на Кутузовский проспект через Донской монастырь.
Был там еще один торопливый рисунок женщины, склонившейся над скромной могилой. По берету, а главное, по формам, которые на этом рисунке были как бы специально подчеркнуты, я узнала себя. Больше того — я себе понравилась.
— Теперь-то вы мне верите? — спросил он.
— Теперь я вам верю, — словно зачарованная, ответила я.
— Меня зовут Илья.
— А меня — Маша, — еле слышно сказала я.
— Я так и знал! — воскликнул он.
— Что вы знали? — насторожилась я.
— Пойдемте!
Он подвел меня к горельефам.
— Посмотрите на это лицо, на фигуру, — увлеченно говорил он, показывая на женщину в какой-то библейской композиции. — Вы видите, как вы с ней похожи? Словно сестры. Я увидел вас и поразился — так много в вас библейского… Вы словно вышли из мрамора… Поразительно… Руки, великолепный мощный стан, созданный для продолжения рода, шея, посадка головы, лепка лица, эти миндалевидные восточные глаза! И имя!
— А что библейского в имени Маша? — не подумав, брякнула я.
— Как что? А разве мать Спасителя звали не Марией? А Мария Магдалина?
— Ах, в этом смысле… — устыдившись своей безграмотности, пробормотала я.
До сих пор мне это и в голову не приходило. Но меня можно простить — до этого дня меня никто не называл Марией, ни в школе, ни дома. Машей, Машкой, Маней, Мусей, даже Мурой иногда меня звала Танька, но никак не Марией.
3
В тот день мы долго гуляли по Донскому монастырю. Он все рассказывал, рассказывал…
От бабушки я слышала о храме Христа Спасителя, но понятия не имела, что эти горельефы оттуда. Как он говорил! Я слушала его открыв рот. Звуки его речи завораживали меня. Я словно попадала в другую страну, в другую жизнь. Его голос отзывался эхом во мне, словно внутри у меня были какие-то пустоты…
Потом он попросил разрешения проводить меня до дома. В автобусе я, страшно смущаясь, сказала ему:
— Вы знаете, а мне еще нет и шестнадцати лет… Только в июне исполнится, четырнадцатого.
— Хорошо, — кивнул он, — запомним. А что это вы вдруг вспомнили о своем возрасте?
— Я просто хотела вас предупредить…
— В каком смысле? — искренне удивился он.
— Ну, чтобы вы знали. Я выгляжу старше, и все думают, что мне уже есть восемнадцать…
— Не переживайте, вам еще рано молодиться…
Он так ничего и не понял. Я долго молчала, потом все-таки решила его просветить.
— Вы знаете, что в Уголовном кодексе есть статья за совращение малолетних? — шепнула я ему на ухо, чтобы никто из пассажиров не слышал.
— А разве я вас совращаю? — шепнул он мне в ответ.
— Я не о том… — Я уже прокляла себя за то, что затеяла этот разговор. — Просто один человек сперва думал, что мне девятнадцать, а потом у него начались неприятности.
— А он что, совратил вас?
— Я совершенно о другом хотела сказать… — обиделась я.
— Скажите, а Уголовный кодекс не помешает нам дружить? — с улыбкой шепнул Илья.
У меня от этой улыбки отлегло от сердца.
4
Через два дня я пришла к нему в мастерскую. Она была недалеко от меня, в Собиновском переулке, как раз напротив ГИТИСа, и дошла я до нее от своего дома меньше чем за десять минут.
Это была как бы однокомнатная квартира с огромной комнатой, с кухней, прихожей, маленьким коридорчиком, тесно заставленным холстами, подрамниками, багетом и прочими художественными принадлежностями. Из прихожей шли двери в туалет и ванную.
Илья сразу провел меня на кухню. Там стоял обыкновенный круглый стол, заваленный давно не мытой посудой, пустыми консервными банками из-под бычков в томатном соусе, конфетными коробками, в которых валялись обломки печенья, кусочки шоколада и сушки с маком. Широкий подоконник весь сплошь был уставлен пустой винной посудой. Нигде до этого я столько сразу этой посуды не видела.
Ничего возвышенного и художественного в кухне не было.
За столом сидели два молодых человека лет двадцати трех-двадцати пяти. Один из них был в заляпанной краской ковбойке, а другой — в белом медицинском халате, тоже измазанном краской. Они оба были похожи на маляров.
Кроме них, там была взрослая женщина лет тридцати пяти с бледным усталым лицом, укутанная в длинный байковый халат, из-под которого виднелись обутые в домашние тапочки голые ноги.
Все трое пили густой темно-вишневый чай из залапанных граненых стаканов.
— А вот и наша Мария! — объявил Илья, вводя меня на кухню. Я поняла, что он рассказывал про меня.
Молодые люди, и не подумав подняться, принялись бесцеремонно рассматривать меня. Один, рыжий, даже изучающе прищурился.
— Юдифь! — уверенно сказал рыжий.
— Магдалина! — уверенно возразил второй, худой и носатый.
— Когда, — ехидно спросил рыжий, — до или после раскаяния?
— Не обращайте на них внимания, — улыбнулся Илья, — просто они других библейских имен не знают… Это, — он повернулся в сторону женщины, — Наташа. Она с нами работает.
Наташа тоже изучающе оглядела меня с ног до головы, кивнула и взяла из коробки кусочек шоколада.
— Этих будущих лауреатов Сталинской премии зовут Андрей Резвицкий, — он кивнул на носатого, — и Дмитрий Дубич, — он кивнул на рыжего, — в просторечье Дуб. Мы сейчас еще сорок пять минут поработаем, а вы пока выпейте здесь чаю.
— Можете и посудку заодно помыть, — невинно предложил Дубич.
— А можно мне в таком случае и чаю не пить? — спросила я.
— Ну что, Дуб, получил? — довольно хихикнул Резвицкий.
— Вы лучше посмотрите художественные альбомы, — сказал Илья, кивая на уставленную книгами полку, висевшую на стене над продавленным диваном, где сидели молодые люди. — А если заскучаете, то приходите к нам. Если, конечно, Наташа разрешит… — Он посмотрел в ее сторону.
— А мне-то что? — лениво сказала Наташа. Тяжело поднявшись, потянулась всем телом и, шаркая тапочками, направилась к двери, завешенной тяжелыми коричневыми портьерами.
— Приходите, — сказал Илья, — только минут через десять-пятнадцать, когда мы войдем в работу.
— А может, и Наташе захотите помочь, — еще невиннее предположил Дубич.
— Ох, ты и дождешься сегодня, Дуб, — весело пригрозил Илья. — Пейте чай, смотрите альбомы, а потом приходите к нам.
Первый же альбом, который я открыла, был кустодиев- ский. У меня даже сердце подпрыгнуло от какого-то непонятного волнения, когда я наткнулась на картину «Русская красавица». Это была точно я. Правда, в лицах у нас сходства не было, да и фигуры были разные, но я всем своим существом поняла, что через год-другой буду точно такая же. Как потом выяснилось, я угадала. Только грудь у меня выросла чуть побольше, а талия осталась тоньше, чем у «Русской красавицы».
Минут через пятнадцать я отложила альбом и тихонько постучала в дверь за портьерами.
— Войдите! — раздался веселый голос рыжего.
Робко, с некоторым волнением я открыла дверь и чуть было не захлопнула ее. В огромной комнате было светло как в солнечный летний день. Посередине на каком-то непонятном возвышении, задрапированном темно-красным бархатом, из которого обычно шьют переходящие знамена, лицом ко мне полусидела, откинувшись на подушки, укрытые тем же бархатом, и подложив одну руку себе под голову, совершенно голая Наташа. Первое, что мне бросилось в глаза, — это обильные густые и черные волосы у нее на лобке и под мышкой.
— Пожалуйста, закрывайте быстрее дверь, а то вы нам Наташу простудите, — не отрываясь от мольберта, сказал Илья.
Только тут я заметила, кроме голой Наташи, в комнате еще троих мужчин, которые поглядывали на меня с большим интересом, чем на Наташу.
Нужно сказать, что если не считать себя, то целиком голую женщину я видела впервые. В баню я не ходила, так как у нас была ванная. Дома, разумеется, и бабушка и мама много раз переодевались при мне, но обнажалась при этом какая-то часть тела и ненадолго, и видела я это мельком, случайно, когда не успевала отвернуться.
Сама же я ни перед кем никогда не раздевалась. Даже когда мы были близки с Макаровым, это происходило в кромешной темноте его подвальчика и в полуодетом виде. Кстати, свет он выключал всегда сам, по собственной инициативе. Я его об этом никогда не просила. Наверное, он по-дру- гому не привык…
Теперь я понимаю, почему художники поглядывали на меня с интересом. Очень уж привлекательна была одетая женщина рядом с привычно обнаженной.
5
Все трое писали маслом и у всех, к моему огромному удивлению, получались совершенно различные картины. Даже малиновая драпировка была у всех разного цвета. У Резвицкого, например, она была грязно-зеленого цвета, а голая Наташа была цвета бархата, на котором сидела.
У рыжего Дубича драпировки вообще не было, а от Наташи сохранилось лишь бедро, кусок живота с пупком и часть руки. Правда, все это было очень крупно, на всю картину…
Только у Ильи было очень похоже. Это вселило в меня чувство гордости.
Много позже благодаря Илье и всем ребятам я перестала обнаженную натуру называть голой женщиной и считать, что самое главное в картине, чтобы она была похожа на натуру, а тогда я думала именно так.
Наташа сидела неподвижно, как и положено профессиональной натурщице с огромным стажем, и смотрела в одну сторону Я выбрала такую точку, которая не попадала в ее поле зрения, и, встав за спиной Резвицкого, с жадностью и, как мне казалось, совершенно безнаказанно ее рассматривала. Я словно, сантиметр за сантиметром, ощупывала ее глазами.
До сих пор я помню ее широкие ступни с выпирающими косточками, проступившие вены на икрах, удлиненные, очень белые бедра, кустистую обильную растительность на лобке… Это место почему-то особенно притягивало мой взгляд.
Грудь у нее была тяжелая, удлиненная и округлая, вроде кабачка. Одна из грудей — там, где рука ее была поднята и подложена под голову, казалась короче и круглее. Большие грубые соски были напряжены.
Я так долго смотрела на нее, что бросающиеся в глаза подробности начали как бы пропадать и обобщаться, и передо мной начала медленно проявляться моя собственная картина, где обнаженная натура была только моделью…
То ли я представила себя на ее месте, то ли совместила ее с собой, то ли увидела ее глазами художников, мужчин… Я до сих пор не совсем точно понимаю, что со мной произошло, но меня охватило страшное возбуждение. Дыхание мое участилось, и я с трудом его сдерживала, чтобы не выдать себя. Я почувствовала, как промокли мои шелковые трусики и как я стала тесна сама себе там, внизу…
Я думаю, напади они на меня тогда все вчетвером, включая Наташу, я бы не имела сил сопротивляться. Больше того — я теперь думаю, что сама мечтала о таком нападении и с трудом сдерживалась, чтобы не спровоцировать его.
Незаметно для себя я переступила с ноги на ногу, и мои бедра сами по себе сжались, а ягодицы напряглись с такой силой, что казалось — на них лопнет кожа. Изображение Наташи в моих глазах расплылось и сделалось похожим на картину Дубича…
Я начисто забыла о художниках, но, когда зрение мое на мгновение сфокусировалось, поймала на себе изучающий взгляд Ильи. Он выглядывал из-за своего мольберта как из- за укрытия. Скосив глаза, я увидела, что и Дубич из-за своего холста смотрит на меня с неменьшим интересом. И тут словно какой-то бес вселился в меня. Вместо того чтобы испугаться, я еще больше возбудилась. Я овладела своим лицом и перевела взгляд на полотно Резвицкого, но мышцы бедер и ягодиц не расслабила. Наоборот, напряжение нарастало неудержимо. Когда разряжение стало неизбежным, я перевела взгляд на Илью и, не отводя от него расширившихся глаз, произвела последнее усилие…
Тогда впервые это получилось у меня стоя.
Они так ничего не поняли, но весь день посматривали на меня настороженно и с недоверием. Они чувствовали, что что-то произошло, что их как-то обманули, но как именно — не понимали. Очевидно, для этого у них не хватило сексуального опыта. Они не знали, что такое возможно.
Самое интересное было то, что после случившегося я не испытывала ни малейшего угрызения совести. Мне не было стыдно ни перед ними, ни перед Наташей. В конце концов, я желала не ее. Да и никого из них, хоть смотрела в самый острый момент на Илью. И, конечно же, не себя. А больше там никого не было. Я жаждала, алкала любви! Это ее образ возник передо мной, сложившись из обнаженного тела усталой натурщицы, любопытных и заинтересованных взглядов художников, из их незаконченных полотен, из картин и икон, развешенных по стенам и стоящих на полу вдоль стен.
Впрочем, все это я разглядела много позже.
6
Илья оказал на меня огромное влияние. Очень скоро я уже не могла жить без его голоса, без его сдержанных, изысканных манер, без его захватывающих рассказов о великих художниках, об истории государства Российского, о русском искусстве, об иконах, монахах-богомазах.
От него впервые я услышала об Андрее Рублеве и Данииле Черном. Когда потом вышел фильм Тарковского, я словно повстречалась на экране со своими старыми знакомыми.
Он восполнил существенный пробел в моем воспитании, потому что бабуля, обучавшая меня и музыке, и французскому языку, и кулинарии, и сервировке и, конечно же, моделированию, кройке и шитью одежды, и еще множеству премудростей — одним словом, всему, чему ее учили в Институте благородных девиц, рисование сознательно пропустила.
Сама она рисовала ужасно, и, если пробовала изобразить какую-нибудь портновскую идею, у нее выходили невообразимые каракули. Когда я спросила, как же она сдала экзамен по рисованию в своем институте, она, жутко засмущавшись, призналась мне, что за нее рисовала ее лучшая подруга, которую, как и мою, звали Таня.
Я стала частой гостьей в мастерской. Больше того, я и Таньку туда однажды притащила. Она там прижилась мгновенно. Вот уж кто с удовольствием мыл посуду и бегал в магазин за пивом, вином и хлебом.
Илья водил меня по музеям, мы бывали на всех интересных премьерах, на всех вернисажах, творческих встречах. Кроме того, в мастерской у него постоянно толпился самый разный, большей частью очень интересный народ.
Однажды мы с Татьяной забежали туда на минутку и застряли так прочно, что мне пришлось звонить бабушке и что-то врать. У Ильи в тот день сидели молодые ребята, студенты Литературного института. Мы пили замечательное красное вино, которое наливалось из глиняного кувшина с узким горлышком, а в кувшин — из самой настоящей дубовой бочки, в которой, на мой взгляд, помещалось литров тридцать. На столе лежали грудой лаваши, бастурма, разная кавказская зелень. Все это я попробовала тогда впервые. И все это мне очень понравилось.
Застолье вел высокий и худой крючконосый кавказец, Расул. Это он, судя по всему, праздновал то ли выход своей первой книжки, то ли выдвижение его книги стихов на Сталинскую премию.
Его друзей звали Костя, Володя и Наум. Все они были поэты. Все потом стали знамениты, богаты, вышли в большие начальники, а тогда были просто гениальными поэтами. Во всяком случае, по-другому они себя и друг друга не называли.
Когда Танька, махнувшая сгоряча целый рог вина — а было нам тогда еле-еле по шестнадцать лет, — засомневалась в их гениальности, они начали наперебой читать свои стихи. Тогда я впервые слышала чтение живых поэтов, которое, надо сказать, совершенно несравнимо с любым художественным чтением.
Таньке стихи тоже понравились, но она сказала, что стихи — это не аргумент. Стихами нельзя доказать, что ты гений. Все засмеялись. Тогда Константин полез в карман и прочитал заметку, в которой говорилось, что в феврале в Москве состоялось Всесоюзное совещание молодых писателей, в котором участвовали все присутствующие, кроме Наума, которого все называли Немой.
Танька с хмельным упрямством потребовала газету, собственными глазами прочитала заметку и только после этого поверила, что перед ней живые гении…
В другой раз я увидела в мастерской у Ильи красивого светловолосого человека со значком лауреата Сталинской премии на новеньком двубортном сером в широкую полоску костюме. Илья писал его портрет.
Это был Степан Щипачев. Он только что получил Сталинскую премию самой почетной первой степени за поэму «Павлик Морозов».
Как Илья мне потом пояснил, это был заказ Союза писателей СССР. Секретариат Союза решил создать живописную галерею писателей-лауреатов и Героев Соцтруда.
7
Мы много ходили по мастерским других художников и скульпторов. Никогда не забуду того вечера, когда мы забрели в скульптурную мастерскую где-то на Сретенке. Хозяин ее был значительно ниже меня ростом, весь какой-то плотный, жесткий, словно вырубленный из грубого камня, с круглой головой на короткой крепкой шее.
Говорил он быстро, азартно. Увидев меня, он, ни слова не говоря, схватил меня за руку и повел на антресоли, где были стеллажи, уставленные его работами. Ничего подобного я в жизни не видела. Столько в его работах было энергии, чувственности, какого-то внутреннего надлома. Женщины его были прекрасны.
— Нравится? — сурово спросил он.
— Очень, — слегка испуганно ответила я, так как чувствовала, что этим вопросом дело не кончится.
— Приходите, я вылеплю вас!
— Э, нет, старик, так не пойдет! — крикнул снизу Илья. — Я еще сам ее не написал. А у меня право первой ночи.
— А ты никогда ее не напишешь, — нахмурился скульптор.
— Это почему же? — весело спросил Илья.
— Потому что она — больше женщина, чем ты — мужчина… — пробурчал в ответ скульптор.
— Что-что? — переспросил Илья, картинно приставив ладонь к уху. Я голову готова отдать на отсечение, что он все прекрасно слышал.
Мне не понравилось то, что сказал скульптор. Я была с ним не согласна. Мне и сам он не понравился. Вернее, не то чтобы не понравился, я его даже и не рассматривала с этой точки зрения, потому что была смертельно влюблена в красавца и джентльмена Илью. Скульптор меня напугал своим напором, каким-то прямым сверлящим взглядом, манерой во время разговора держать голову слегка пригнутой, набы- ченной, словно он готовится идти на таран.
Потом в мастерскую набилась тьма народу. Пили водку. Закусывали солеными черными груздями, принесенными из соседнего магазина «Грибы-ягоды», свежим ржаным хлебом, который не резали, а ломали, красным луком и отварной картошкой в мундире, которая не кончалась. Кастрюля с картошкой постоянно кипела на электрической плитке тут же, на верстаке, идущем вдоль всей стены, среди недоделанных или разрушенных глиняных скульптур, толстой металлической проволоки, обломков гранита и мрамора.
Под конец вечера, когда все уже были навеселе, скульптор с Ильей сцепились в споре. Я уже не помню, что послужило поводом, но в памяти прочно засело, как скульптор кричал ему, брызгая от возбуждения слюной и размахивая короткими железными руками:
— Никакого отношения к национальной культуре ты не имеешь! И к мировой тоже! Ты же весь картонный! Тебя же одним щелчком прошибить можно! Ты штукарь! Да, умелый, очень умелый! Но это все вышивки гладью — то, что ты делаешь! Тебе нужно висеть в салонах или, еще лучше, будуарах глупых баб! Вот это твоя публика! Они тебя оценят по заслугам!
— Но ты же не будешь отрицать, что Илюха талантлив как Бог! — вступился кто-то за насмешливо молчащего Илью.
— Талант — не оправдание, — отрезал скульптор, бешено вращая своими круглыми и рыжими, как у кота, глазами, — талант — это наказание!
Ну уж с этим я была совсем не согласна, и мы быстро ушли.
Домой мы шли пешком, и я как могла успокаивала Илью.
— Я совершенно на него не обижаюсь, — ласково улыбнулся он. — Просто он и вся его компания идут другой дорогой. Ему кажется, что мой путь неверен, так что же тут горячиться? Ведь все карабкаются на одйу и ту же гору, а места на вершине очень мало… Кто первый туда придет, тот там и останется. Опоздавшим придется ютиться пониже-
Долго еще, вспоминая этого скульптора, я думала: «Какой неприятный тип». Но слова его гвоздем засели во мне. Особенно та фраза: «Она больше женщина, чем ты мужчина».
8
Меня и саму слегка настораживало то, что Илья так долго не предпринимал попыток сблизиться со мною. Он очень осторожно за мной ухаживал. И надо признаться, это было со мной впервые в жизни и доставляло бесконечное удовольствие. Ведь нельзя же назвать ухаживанием наши странные отношения с Алексеем. Дай в огненном романе с Макаровым период ухаживания закончился вместе с игрой в снежки.
А Илья был безупречен в своем ухаживании. Никогда, в любое время года, он не забывал купить мне цветы. Вы знаете, как они, пусть даже самые скромные, действуют на нас, как сладко на мгновение замирает сердце, как улучшается настроение, как мир кажется добрее и красивее.
Это было не всегда удобно, особенно когда мы шли куда- нибудь на выставку или в театр. Но кто из нас откажется от этого неудобства?
Однажды мы чудом попали на концерт Софроницкого. Он исполнял Шопена. Я была потрясена его музыкой. Когда концерт кончился, оказалось, что не я одна. Зал буквально взорвался аплодисментами. Пианист вышел на авансцену потный, взъерошенный, с выбившимися из-под рукавов черного фрака манжетами. Левая была расстегнута — очевидно, от его энергичных движений отлетела запонка.
Он сдержанно, с достоинством кланялся и смотрел прямо на меня. Я хлопала изо всех сил, зажав мешающий букет под мышкой. Потом сообразила, выхватила цветы и, поймав его взгляд, бросила пианисту. Мы сидели во втором ряду. Потом ему понесли другие букеты, но мой был первым.
— Ты не обижаешься, что я кинула ему твои цветы? — спросила я Илью в вестибюле.
— Ты умница! — сказал он. — Хочешь, мы пойдем к нему в гримуборную и я тебя с ним познакомлю?
— Конечно! — восторженно воскликнула я. — А разве ты с ним знаком?
— А какое это имеет значение? — усмехнулся Илья.
Он нашел администратора, представился, и тот уважительно проводил нас до дверей гримуборной.
Когда мы вошли, Софроницкий уже переоделся в тесноватый серый костюмчик и жадно курил, вытирая постоянно потеющий лоб.
Илья представил меня, назвал себя и сказал, что очень хотел бы написать портрет музыканта.
И, кажется, написал. Но это было много позже, когда мы с ним уже расстались.
9
Видя, что Илья не очень-то продвигается в своих ухаживаниях, я отнесла это на счет боязни нарушить Уголовный кодекс и решила поторопить события.
Однажды поздно вечером, когда мы возвращались из Колонного зала с концерта Изабеллы Юрьевой, я открыла ему, на чьей могиле мы познакомились, потом рассказала всю историю отношений с Макаровым. Призналась Илье в том, что сильно боялась каким-нибудь косвенным образом повлиять и на его судьбу.
— Так что видишь, ты принимал меня за маленькую девочку, а я уже женщина с прошлым…
Илья, выслушав мой рассказ, тактично промолчал и только крепко обнял за плечи. Я ожидала, что он тут же попытается меня поцеловать по-настоящему или пригласит в мастерскую, но дальше этого дружеского объятия дело не пошло.
Я оказалась в дурацком положении. Дело в том, что я, рассчитывая на то, что наши отношения сдвинутся с мертвой точки и мне наверняка не придется ночевать дома, наврала бабуле, что мы едем к Таньке в Валентиновку, где, естественно, телефона нет, и потому проверить мое пребывание там невозможно.
Пока мы провожались, сидели на Страстном бульваре, пока я рассказывала всю свою жизнь, настала глубокая ночь. Когда посмотрела на часы — было без пятнадцати два. Нам случалось возвращаться поздно, но не настолько.
Надеясь на то, что сегодня между нами что-то произойдет, я перестала контролировать время, и теперь предстояло объяснять бабуле, каким образом я из Валентиновки оказалась в Москве на Тверском бульваре в два часа ночи. А бабуля непременно проснется, как только я войду в квартиру, и спросит хриплым спросонья голосом: «Мусик, это ты? Кефир на кухне, на столике». Кефир на ночь для пищеварения — это было святое в нашем доме. Я и до сих пор его регулярно пью.
Мы медленно шли по нашей стороне улицы, а я лихорадочно соображала, что же мне делать. Илья был задумчив и молчалив. Очевидно; моя любовная история вызвала в нем не совсем ту реакцию, на которую я рассчитывала. Я уже жалела, что все ему рассказала. Мне вдруг представилось, что он до сегодняшнего дня собирался на мне жениться и мужественно ждал, пока мне исполнится хотя бы семнадцать лет, после чего по специальному разрешению можно будет это сделать.
Об этом разрешении узнала предприимчивая Татьяна, у которой вовсю развивался роман с рыжим Дубичем. Теперь же, все узнав, Илья переживает, что ошибся во мне, и после всего ни за что на мне не женится. А раз так, то и продолжать наши отношения не стоит. Человек с такими высокими моральными устоями не может встречаться с девушкой просто так, без далеко идущих и очень серьезных намерений..
Мой дом тем не менее неумолимо приближался, а идти туда по-прежнему не было никакой возможности. И тогда в моей отчаянной голове возник план.
Поравнявшись с военной прокуратурой, которая была за несколько домов до моего, я ойкнула и остановилась.
— Что случилось? — встревожился Илья.
— Маленькая авария в туалете, — соврала я и при этом даже бессмысленно покраснела. Все равно в темноте не было видно. — Ты пройди, пожалуйста, вперед… Только не оглядывайся.
— Конечно, конечно, — смущенно пробормотал Илья и, немного отойдя, остановился спиной ко мне.
Я, стараясь не звякнуть, достала ключи от дома и аккуратно засунула их в щель за водосточной трубой. Заодно подтянула чулки и бодрой походкой догнала его. Мы так же молча двинулись дальше.
— Ну вот и все, — горестно вздохнув, сказала я, когда мы подошли к моему подъезду, еще раз вздохнула, полезла в сумочку, порылась там и подняла удивленные глаза на Илью. — Я тебе ключи не отдавала?
Мы часто так делали этим летом, потому что в моем платьице, которое, между прочим, я сама придумала, выкроила и сшила, карманов не было.
— Нет… — пробормотал он, озабоченно обшаривая свои карманы, — вроде не отдавала…
— Подожди, — сказала я, — держи. — И стала вынимать все из сумочки и сгружать ему в ладони. Там оказались расческа, маленькое зеркальце, несколько невидимок, которыми я подкалывала волосы, чтобы не лезли в глаза, маленький серебряный флакончик с «Красной Москвой» и такая же серебряная пудреница — бабушкин подарок, носовой платок, огрызок простого карандаша, две оторванные пуговицы, крючок от лифчика, доставая который, я жутко покраснела, хотя на нем не было написано, что он от лифчика, две помятые трешки, пригоршня мелочи из специального карманчика с кнопкой и конфетные фантики, которые я не успела выбросить. Их было так много, что я покраснела во второй раз. Когда сумочка опустела, я для наглядности перевернула ее вверх дном и потрясла.
Молча переложив свои жалкие пожитки обратно, я защелкнула замок и обреченно вздохнула:
— Пойдем, теперь я тебя провожу, все равно время есть…
— Поздно уже, — нахмурился Илья, еще не подозревающий о подлинных размерах бедствия. — Как ты будешь обратно одна добираться, бабушку будить…
— Ну, положим, было бы все равно, когда ее будить, в два или в три, — с веселым отчаянием заявила я, — только будить-то некого. Бабушка уехала в Валентиновку, к Таньки- ным родителям. Они там что-то шить затеяли…
Я приплела Валентиновку, в которую якобы уехала сама, для того чтобы не путаться во вранье.
— Так куда же ты пойдешь? — испуганно спросил Илья, не понимая или делая вид, что не понимает, куда я клоню.
Я пожала плечами.
— Буду гулять до утра, а там первой электричкой поеду в Валентиновку. Вот Танька обрадуется. Она очень хотела, чтобы я ехала с ней, и отстала от меня только ради Изабеллы Юрьевой. — Я с удовольствием развивала свое вранье, тем более что это и враньем-то уже не было. Если бы Илья действительно бросил меня на улице, то мне пришлось бы так и поступить. Будить и пугать бабулю я не стала бы ни за какие пироги.
— А если на тебя кто-нибудь нападет? — с глупым видом спросил Илья. Он или еще не понимал того, что его ожидает, или всеми силами хотел это предотвратить и не терял надежды до последнего момента.
— А я буду гулять около 108-го отделения милиции. Там меня никто не тронет.
Я начала злиться. Даже если он решил не жениться на мне, потому что я оказалась не девушкой, то разве это мешает нам оставаться друзьями? Ведь я ему ничего плохого не сделала.
— Тогда тебя заберут в милицию… — совсем уже растерялся он.
— Ну и что? Какое преступление я совершила? Я им расскажу правду Может, они еще и оставят меня где-нибудь на диванчике. Или в какой-нибудь камере. Есть же у них там кровати.
Наконец Илья, как сказали бы сейчас, «врубился в ситуацию» и нахмурился.
— Не говори глупостей! — строго сказал он, словно это не он их говорил. Никогда бы не подумала, что этот уверенный в себе человек может так растеряться в такой простой ситуации. — Мы сейчас пойдем ко мне в мастерскую. Это здесь недалеко… — для чего-то объяснил он. Будто я не бегала этой дорогой каждый день.
10
Всю дорогу до Собиновского переулка мы молчали. Он мрачно. Я для того, чтобы не выдать крупную дрожь, которая начала колотить меня.
Он все-таки это заметил и в мастерской укрыл меня байковым одеялом, поставил на газовую плиту чайник. Коробка из-под конфет была полна всякой всячины, и это оказалось очень кстати, потому что, несмотря на нервную дрожь, я очень хотела есть.
Мы попили чаю. Я съела все печенья, сушки и конфеты- подушечки из коробки, но дрожь моя не прекратилась.
— Боюсь, что ты простудилась, — сказал он. — Ложись, я тебя как следует укрою.
Я прилегла на видавшем виды диване, и он, укрыв меня одеялом, подоткнул его со всех сторон, как когда-то делали мои мама и бабушка. Мне отчего-то стало так сладко-грустно, что из моих глаз градом покатились горячие шустрые слезы.
— Ну что ты, малыш, ну что ты, — испуганно зашептал Илья, вытирая слезы своим платком, пахнущим одеколоном «Шипр».
Само собой разумеется, что от таких жалостливых слов слезы полились еще обильнее, и я с удовольствием забилась в самых натуральных рыданиях.
Илья присел на краешек дивана, обнял меня и стал шептать в мокрое от слез ухо:
— Ну, скажи мне, скажи, малыш, кто тебя обидел? Ну? Успокойся, тебя никто не тронет…
От этих слов я заревела еще громче.
— Ну перестань, перестань, а то я тоже заплачу…
— Тебе-то что плакать? — проревела я. — Ты красивый, талантливый, тебя все любят, а я никому не нужна — толстая дура…
Я просто зашлась в рыданиях от жалости к самой себе. Илья еще крепче сжал меня в объятиях и стал тихонько целовать в шею, в ухо, в щеку, приговаривая при этом:
— Глупая… Это ты-то толстая? Да ты самая красивая девушка, которую я встретил за много лет… В тебе все красиво! Я не могу спокойно смотреть на твою шею… — Он поцеловал в шею, — на твои плечи…
Я повернулась, и наши губы встретились… Это было совсем другое, чем с неистовым Макаровым. Илья целовался нежно и осторожно, словно губами спелую малину рвал. А я — как привыкла с Макаровым…
По-моему, этот первый поцелуй даже напугал Илью. Он слегка отстранился и с удивлением посмотрел на меня. Я тут же закрыла глаза и застыла в ожидании следующего поцелуя…
Мы в то утро целовались до обморока. В прямом смысле этого слова. Я так мужественно сопротивлялась нестерпимому желанию сжать бедра, так много сил у меня ушло на это, что в какое-то мгновение я куда-то провалилась от такого нечеловеческого напряжения. Для меня было очень важно не допустить этого… Я считала, что так будет нечестно по отношению к Илье.
Домой я вернулась только после обеда, благополучно найдя связку ключей там, где их и оставила, — за водосточной трубой военной прокуратуры.
11
Кроме поцелуев, в то утро между нами ничего не было. Но отношения наши существенно изменились. Теперь мы целовались при каждой встрече, как только имели возможность. Постепенно он начал ласкать и целовать мою грудь, бедра, но дальше дело не шло.
В таком бешеном возбуждении я пребывала месяца полтора. Мы с Танькой, которой я, естественно, через полчаса после любого события все рассказывала, головы себе сломали, пытаясь понять, в чем тут дело.
Самая большая загадка заключалась в том, что он тоже от наших поцелуев возбуждался не на шутку, я это постоянно чувствовала, порой его колотило не хуже, чем меня в ту памятную ночь, его руки алчно ласкали мое тело, но дальше трусиков, вернее, их нижних границ они не заходили. Словно эта, обычно самая желанная для мужчин, часть моего тела была для него табу.
Я попробовала подойти к этой проблеме с другой стороны и решила согласиться позировать ему в обнаженном виде. Но согласиться, разумеется, не сразу, а постепенно… Издалека стала расспрашивать его о той военной картине, о которой он мне говорил в день знакомства в Донском монастыре. Он долго отнекивался, говорил, что забросил пока эту работу, что его не устраивает композиция, что пока картина получается слишком литературной, что лучше он просто напишет мой портрет. И действительно начал. Но я оказалась настойчива и требовала показать мне наброски к той картине, надеясь, что женщина там изображена обнаженной. Он отказывался, а я не отставала, не замечая того, что он злится на мои приставания.
Наконец терпение его лопнуло, и он с досады признался мне, что всю эту историю он придумал на ходу, прямо там в монастыре, чтобы был повод подойти ко мне. Он думал, что я обижусь на такое беспардонное вранье, но меня эта история очень позабавила и развеселила.
Пока я хохотала, он сидел нахмурившись и о чем-то напряженно думал. Потом подскочил с дивана, пробежался по мастерской, расшвыривая заляпанные краской табуретки и хлопая себя по лбу. При этом он приговаривал:
— Идиот! Кретин! Дубина стоеросовая!
Потом подбежал ко мне, присел передо мной на корточки и, глядя сквозь меня, заговорил сбивчиво и торопливо:
— Представляешь, война… по всей русской земле… Жаркие бои… Тягостные дни обороны… окопы, слякоть… Атака! Отчаянная! Дерзкая! А где-то партизаны… Лес, маленький костерок… Доят корову. Да, да, у них были коровы, а раз так, значит, их нужно доить! Потом госпиталь… Страшные муки раненых. Молоденькая медсестра. И все их муки на ее лице…
Она страдает не меньше их. Потом школа… Дети прислушиваются к воздушной тревоге…
— Я помню воздушную тревогу, — вставила я, но он меня не услышал. Он даже глаза закрыл и продолжал:
— А где-то далеко в тылу засыпают у станка двенадцатилетние пацаны… Где-то пашут на себе бабы… А ночью в Кремле не спит тот, на котором лежит невыносимо тяжелая ответственность за всю необъятную страну… За всех нас… Забытая трубка в пепельнице, глаза с усталым прищуром вглядываются в карту. Рядом склонились соратники… Маршал Жуков что-то объясняет главнокомандующему, обводя красным карандашом какой-то населенный пункт… А художник идет через всю страну этой страшной дорогой войны, и как фотовспышкой выхватывает своим вниманием то трагический ее фрагмент, то трогательный, то лирический. Ведь и в войну любили! И еще как! Еще сильнее и безогляднее! Это же целый цикл! И название должно быть такое объединяющее… Скажем, «Дорогами войны…». Нет! — Он открыл глаза и резко помотал головой. — Это будет слишком в лоб. Лучше взять первую строчку из песни: «Эх, дороги!..» Ее все знают и любят. Она задумчивая, философская. За нею вся война! И не в лоб! Огромный цикл! И безграничное поле для фантазии. Подойдет любой сюжет! Тут будет и портрет, и батальная сцена, и групповой портрет, и пейзаж, и жанровая зарисовка, и все, что можно придумать! Малыш, ты гений!
Он наконец вспомнил обо мне, так как до сих пор разговаривал исключительно сам с собой. Он подбежал ко мне и стал в восторге целовать меня. Я тоже была рада невероятно, потому что сразу поняла и оценила всю грандиозность этого замысла и гордилась, что это я своими дурацкими домогательствами натолкнула его на такую мысль.
С того момента мы еще больше сблизились. Но, к сожалению, не в известном смысле слова. До этого еще было далеко.
И все-таки в один прекрасный день я буквально принудила его писать с меня обнаженную натуру. Это решение мне нелегко далось, хотя теперь я понимаю, что тогда мне раздеться перед ним хотелось больше, чем ему меня увидеть… Ведь на меня, обнаженную полностью, не смотрел еще ни один мужчина. И я ожидала от этого момента неизведанных, волнующих ощущений. Потом я все-таки рассчитывала, что это толкнет-таки его на последний шаг.
Я оказалась права. Так все и случилось.
12
Была уже осень, самое противное время, когда тепло уже ушло, а топить еще не начали. Он для того чтобы писать меня, собрал электрические плитки и рефлекторы со всей Москвы.
Дубич и Резвицкий, прослышав об этих приготовлениях, пытались напроситься хоть на один сеанс, но Илья решительно и грубо им отказал. А я была не против… Правда, не в первый раз…
Он пропустил меня в натопленную, переполненную светом большую комнату.
— Когда будешь готова, позови, — сказал он, стараясь на меня не смотреть.
В мастерской стояло большое зеркало в старинной черной раме — «для отхода», как мне в свое время пояснил Илья. Я раздевалась перед этим зеркалом. Было безумно приятно чувствовать, как тепло от рефлекторов и горячий свет от мощных ламп ласкают кожу. Только раздражал противный красный рубец от резинки трусиков. Я принялась растирать его ладонями.
— Готова? — спросил через дверь Илья, и я увидела, как от звука его голоса стали собираться и твердеть соски.
— Нет еще, — испуганно ответила я и еще энергичнее стала тереть этот проклятый рубец, — я скажу, когда буду готова.
Наконец я встала посреди мастерской рядом с мольбертом, на котором был укреплен девственно чистый, идеально загрунтованный холст, и позвала его, чувствуя, как вся кровь прихлынула к лицу Непередаваемое ощущение — смесь острого стыда с не менее острым желанием…
Он несмело вошел, остановился на пороге и сощурил глаза, как будто в него направили прожектор.
— Господи… — прошептал он, раскрывая глаза широко, — я даже не предполагал… Ты настоящая рубенсовская вакханка, только моложе и лучше, без этих ямочек, бугров и складок… Ты неправдоподобно красива…
Он обошел вокруг меня. Я стояла ни жива ни мертва.
— Нет, тебя даже устанавливать не надо. Ты так и должна стоять. Только встань поудобнее, надолго… — Илья отошел за мольберт и, сделав трубочку из ладони, посмотрел на меня. — Именно так, — бормотал он себе под нос, — именно так… — Он посмотрел на меня в зеркало и воскликнул: — Потрясающе! Ты даже не представляешь, насколько ты грандиозна!
«Представляю, подумала я про себя с иронией, грандиозна, огромна, массивна и колоссальна настолько, что никому не нужна, будь хоть трижды вакханкой».
Перед этим я, улучив момент, мельком взглянула на его брюки. Они висели на нем, как на вешалке. Обычно я всегда замечала даже самое легкое его возбуждение, хоть он это не любил демонстрировать, как некоторые мужчины, и постоянно убегал в кухню поправляться. Вы же знаете, что от нас это скрыть нельзя.
— Ты сама по себе тема, сюжет! Мне ничего не надо придумывать! В тебе все есть! — восклицал он, не догадываясь о моих безрадостных мыслях. — Только ты можешь немножко поднять голову?
Я подняла. Он, придирчиво глядя, снова обошел меня вокруг.
— Нет! Не так. Ты подняла голову так, словно подставила лицо весеннему солнышку… Нет! Ты подними голову и посмотри на меня со спокойным презрением…
— Это еще зачем? — не удержалась я от вопроса, подумав про себя: «Неужели он догадался, о чем я сейчас мечтала?»
— Вот послушай… — Он выставил вперед ладони и закрыл глаза. — Представляешь группу фашистов разного возраста? Тут и пожилой отец семейства, наверное, бюргер, и молодой парень, который никогда еще не видел обнаженную женщину, и прожженный тип, возможно, таксист или официант в забубённом кабаке, и офицер, человек с университетским образованием, гуманитарий, презирающий в глубине души Гитлера и нацизм, но не осмеливающийся заявить об этом вслух. Перед ними стоишь ты! Обнаженная! Со следами побоев на лице. Стоишь на своей поруганной земле, чувствуя босыми ступнями каждый ее камешек, каждую песчинку. Они собираются тебя казнить. Но им мало этого. Мало просто смерти. Они должны еще надругаться над тобой. Унизить и запугать тебя. Растоптать твое человеческое достоинство. Но получилось все наоборот. Они не ожидали увидеть то, что увидели. Ты оказалась божественно прекрасна. Воплощение женственности, жизни, красоты. Почему-то каждый из них вспомнил о родине, о матери, о сестре, о возлюбленной, но внешне они боятся проявить свои чувства, и потому эти чувства проглядывают из-за мерзких масок, которыми они укрывают все человеческое, что в них осталось. Как бы мало его ни было…
Как он говорил! Я увидела живьем всю картину. Больше того — я испытала те сильные чувства, которые испытала бы, стоя перед картиной и перед озверевшими фашистами одновременно. Наверное, я его любила больше всего за его речи…
Весь сеанс он был в невероятном возбуждении, но в штанах его так ничего и не шевельнулось. Это обстоятельство постепенно охладило и меня.
Потом мы пили чай на кухне, я сидела, завернувшись в Наташин байковый халат, который она оставляла в мастерской, чтобы не таскать его с собой всякий раз.
Халат был мне безбожно мал, и я еле успевала его натягивать на бедра, потому что он распахивался до самого лобка, а я была под халатом голая, так как мы собирались провести еще один сеанс.
Илья все время украдкой косился на мои ляжки, словно я не простояла только что перед ним голая больше часа. Брюки его при этом предательски вздулись. Я это увидела точно, хоть он и поворачивался ко мне другим боком и два раза выходил в комнату поправляться. Тогда я решила действовать и сделала вид, что в глаз мне что-то попало. Я так ожесточенно стала тереть его пальцем, что он покраснел самым натуральным образом и из него даже полились слезы.
Илья долго смотрел на это безобразие и потом решил мне помочь.
— Дай я посмотрю, — сказал он, направляя мне настольную лампу в лицо, — а то ты еще вотрешь соринку в глазное яблоко и инфекцию внесешь.
Что и требовалось! Я откинулась на спинку дивана и раздвинула колени, чтобы он мог приблизиться ко мне поближе…
13
Потом, когда Илья уже не стеснялся об этом говорить, когда он уже ничего не стеснялся, он рассказал мне, что жутко меня боялся. Вернее, не меня, а своей неудачи в моих глазах. У него, как правило, в первый раз с новой женщиной практически ничего не получается, как бы он ее ни хотел. Пока они целовались и ласкались — все было прекрасно, но, когда дело доходило до главного, все опускалось и, как всегда кажется в таких случаях, становилось еще меньше, чем было до этого, даже в спокойном состоянии. Все налаживалось только на третий или четвертый раз.
Одно дело, когда в такой ситуации рядом с тобой опытная женщина, которая все правильно поймет и поможет, думал он, но как к этому отнесется неопытная девчонка, которой едва стукнуло шестнадцать лет… Такие сомнения охватывали его всякий раз, когда наши ласки заходили слишком далеко.
Но в случае со мной произошло чудо…
Разумеется, соринку, которой не было, он вынимал долго, а я, нервничая и моргая, как бы непроизвольно сжимала его ногами и постепенно съезжала на край дивана до тех пор, пока не почувствовала лобком то, что вздувало его брюки…
Потом он благополучно извлек соринку кончиком белоснежного носового платка, пахнущего «Шипром». Уж и не знаю, чего он там извлек, но я, что есть сил сжав его бедрами, завопила на всю мастерскую, что все прошло, и стала покрывать его благодарными поцелуями, которые постепенно перешли совершенно в другие…
Потом мы бесконечно долго возились на диване, но он не спешил снять брюки. Я сама, расстегнув пуговички, залезла к нему в ширинку и принялась истово ласкать его, совершенно искренне восхищаясь вслух тем, какой он нежный и трогательный, потому что стоило мне только прикоснуться к нему, как он тут же уменьшился в размерах.
Илья при этом недоверчиво на меня поглядывал. Ему было невдомек, что лежачего я его никогда не видела и не ощущала, так как у Макарова он еще долго был в возбужденном состоянии и после того как все кончалось… И потом, мы все время спешили и мне никогда не удавалось дождаться, чтобы он успокоился.
Когда мне наконец удалось его раздеть и он лег на меня, не решаясь предпринять дальнейших решительных действий, так как был совершенно к этому не готов, я сама как могла впустила его в себя…
Я так сильно и так долго его хотела, ощущение было такое восхитительно необычное и тонкое, что мне хватило слабого, едва уловимого движения во мне, чтобы неудержимо, бесконечно и бурно, содрогаясь всем телом, сжимая его своими бедрами, улететь вместе с ним за пределы блаженства.
Конечно, можно сказать, что эта победа далась ему незаслуженно. Но можно так и не говорить. Разве не он своими собственными руками и губами, не жалея сил и времени, приблизил ее?
Как бы там ни было, но именно эта победа вдохновила его. Я почувствовала, как он поднял голову и распрямился во мне во весь рост, как движения его стали ощутимы, уверенны и настойчивы, как все мое существо привычно отозвалось на них и стало ритмично двигаться им навстречу, с каждым движением набирая новую силу и неутоленность…
Краем глаза я заметила, как просветлело его лицо, как губы тронула победная, ликующая улыбка. Я еще не знала, что он был счастлив от того, что у него получилось с первого раза, но его счастье заразило и меня, и, когда его исказила болезненная гримаса неотвратимого блаженства, я взорвалась и улетела вместе с ним…
Как потом выяснилось, я в этот момент больно укусила его в плечо.
Он потом долго гордился этим укусом. Через Таньку я узнала, что он хвалился синяком перед ребятами. Меня его несдержанность не обидела. Я и сама гордилась этим укусом. Правда, потом уже ничего подобного я старалась себе не позволять.
В тот день мы были близки еще раза четыре. Он никак не мог успокоиться после такой удачи. А мне только того и надо было.
14
Больше такого любвеобилия он не проявил ни разу. Чаще всего дело ограничивалось одним-единственным, чуть ли не семейным, коротким соединением. Но я все равно была счастлива безмерно. Во-первых, он всегда долго настраивался, рассматривал меня, ласкал руками, изощренно и изобретательно, целовал, пусть без бешеной страсти, но нежно, тонко, чувственно, а во-вторых, он все время говорил…
Боже, как он говорил, с чем он сравнивал различные части моего тела — царь Соломон позавидовал бы, как он мне самой рассказывал обо мне! Как рисовал меня словами. Это было настолько образно, что я просто видела себя в его речах как в зеркале.
А потом, когда все заканчивалось, он рассказывал об этом. О том, какова была я и что чувствовал он.
Однажды я ему в порыве простодушного восторга сказала, что ему бы не живописцем быть, а писателем, так зримо он все рисует словами. Он жутко обиделся.
Много лет я не могла понять почему, пока не прочла в какой-то очень серьезной критической статье о нем, что вся его живопись грешит чрезмерной литературщиной…
А тогда мне всего хватало. Больше того — я совершенно приспособилась и за его короткий домашний разочек успевала не менее трех раз подняться на вершину блаженства.
Мне казалось, что его благодарности за то, что со мной он чувствовал себя настоящим мужчиной, не будет конца. Он и сам не раз говорил о необыкновенной гармонии наших отношений.
В таком счастье я пребывала еще несколько месяцев, до весны 1952 года.
А за три дня до годовщины нашего знакомства, к которой я с таким волнением готовилась, он позвонил мне и отрешенным голосом сказал:
— Я прошу спокойно выслушать меня и не перебивать…
— Что случилось, родной? — забеспокоилась я, почувствовав опасность в его голосе.
— Я же просил не перебивать, — резко одернул он меня.
— Хорошо, я тебя слушаю, — все-таки успела вставить я.
— Нам было хорошо, во всяком случае, мне… Я не думаю, что стоит это портить. Я оставляю на твоей совести все, что ты от меня скрывала, и я не вправе тебя осуждать. Я благодарен тебе за все, что ты мне дала. Я думаю, и тебе будет что вспомнить…
Он замолчал. Молчала и я, напуганная его строгим окриком.
— С завтрашнего дня, — сказал он изменившимся голосом, — мы с тобой прекращаем все наши отношения. Мы не будем встречаться, я не буду тебе звонить и отвечать на твои звонки. Если ты не хочешь перечеркнуть все хорошее, что у нас было, то не советую преследовать меня. В любом случае, подчеркиваю: в любом, ты получишь жесткий и бескомпромиссный отпор. Я больше ничем не обеспокою тебя и буду вспоминать о тебе с нежностью. Надеюсь, что в твоей памяти я останусь светлым пятном. Объяснять причины такого моего решения я не намерен ни под каким видом. Передай своей подруге Тане, что она тоже не должна приходить в мою мастерскую. С Дубичем она может встречаться где угодно.
Он замолчал, а я просто оцепенела от неожиданности и не могла даже рта открыть.
Потом он вроде как откашлялся и сказал тоном, которым говорят с приговоренными к казни или со смертельно больными:
— Я тебе от всей души желаю счастья, малыш.
И повесил трубку.
15
Мы с ним не виделись больше сорока лет.
Я не хочу здесь описывать, как я страдала, потому что дело не в этом. Да, сильно. И больше всего от несправедливости. От того, что он даже не захотел объяснить, почему он меня бросил.
«Сладким Ежиком» я его называла, когда он, увлеченный той самой картиной, где я была героиней, неделями забывал бриться и натирал колючей щетиной мои щеки, шею и бедра.
Разве он не мог быть автором письма, присланного с букетом роз? На мой взгляд, он был первым из претендентов на авторство. Но пошла я к нему не сразу. Телефон, конечно, забыла за эти сорок лет, но через общих знакомых выяснила, что мастерская его в том же месте, в Собиновском.
Просто он увеличил ее в три раза, прикупив соседние мастерские. Я забыла вам сказать, что в том доме весь этаж был отдан под мастерские художников.
Те же общие знакомые дали мне и его телефон, но звонить я не хотела. Больше всего не терплю выяснений по телефону, когда приходится долго и нудно объяснять, кто ты и где мы познакомились.
Помните, как было сказано в письме? «Место нашей первой встречи по-прежнему ждет тебя. Оно стало немного другим, но я надеюсь, что и в своем новом виде оно тебе понравится…»
Всё сходилось: и деньги, и дачи, и машины. Вот только насчет яхт я была не уверена. И все же колебалась, зная о его высоком нынешнем положении. Мне много раз приходилось сталкиваться с такими людьми, и я знала, как деньги и власть меняют человека. А вдруг даже при таком обвальном стечении обстоятельств это не он? И все-таки я решилась. Письмо и кольцо я взяла на всякий случай с собой.
Когда он увидел меня, то отшатнулся, словно перед ним возник призрак. Первые его слова были такие:
— Я был совершенно уверен, что тебя давно нет в живых.
После этой фразы было бессмысленно продолжать визит, но я все-таки вошла в мастерскую после его любезнейшего приглашения.
Да, действительно, он многого добился в жизни. Коллекция икон на его стенах была сравнима с коллекцией Третьяковской галереи, а картины старых мастеров не выглядели бы бедными родственниками и в Пушкинском музее.
Старой кухоньки не было. Вся его прежняя мастерская превратилась в огромную гостиную, где стойкой был отгорожен уголок с холодильником, микроволновой печью и кофеваркой.
В гостиной мягкая мебель была кожаная, чрезвычайно дорогая, а вся остальная — книжные шкафы, горки, бюро, ломберный столик, консоли под редчайшими вазами — антикварная и, стало быть, просто драгоценная. Я уже не говорю об аудио- и видеоаппаратуре высочайшего класса, которой была оборудована гостиная.
Все это, несмотря на некоторую эклектику, было подобрано и расставлено с умом и вкусом, тут надо отдать ему должное. Даже явно новая кожаная мебель не выпадала из стиля и смотрелась тоже старинной.
16
Илья был совершенно искренне рад моему появлению и принимал меня по-царски. Какого-то человека, очевидно личного секретаря, послал в ресторан «Прага», который, как известно, расположен по соседству. Человек вскоре вернулся, и не один. С ним пришел официант в темно-малиновом костюме, белоснежной сорочке и бабочке. Он был молодой и очень симпатичный и, сервируя стол, все время косился на мои ноги.
Пока официант накрывал на стол, Илья рассказывал о себе, показывал свои многочисленные альбомы и каталоги бесконечных выставок у нас и за рубежом. Потом он достал откуда-то самый скромный, но, как мне показалось, самый дорогой для него альбом, молча открыл и протянул мне. Там на развороте я увидела себя. Молодую. Красивую, несмотря на синяки и ссадины на лице. Это была та самая картина, где я стою в окружении фашистов.
Были там и другие картины, точно такие, как он про них рассказывал. Я словно со старыми знакомыми встретилась. Даже горло сдавило от умиления и глаза повлажнели.
Илья растолковал мои переживания по-своему и сказал с затаенной гордостью:
— С этой серии все и началось. Моя первая премия, имя… Потом все пошло как по накатанному. Если б меня тогда не осенило, то неизвестно, как сложилась бы моя судьба-
Глаза его затуманились сладкими воспоминаниями. Но меня в них уже не было.
Задав Илье несколько наводящих вопросов, я окончательно убедилась, что никакого письма он мне не писал, хотя причин для этого у него было больше, чем у кого бы то ни было…
С тех пор как мы расстались, он был три раза женат, и, по его словам, все три раза удачно. Что он имел в виду и почему все-таки разводился, я выяснять не стала. Был он женат и сейчас. Показал фотографию молодой и, на его взгляд, красивой жены. Я сдержанно одобрила его вкус.
После второй бутылки шампанского он мне намекнул, что был бы не против реставрировать наши отношения.
— А что скажет по этому поводу твоя жена? — спросила я.
— А мы ее не пустим в этот уголок моей жизни, — беззаботно сказал он. — К тому же ты была раньше ее. Важно только твое согласие…
— Там видно будет, — уклончиво ответила я. Потом отпила добрый глоток шампанского и решилась. — Судя по тому, как мы оба дружно уклоняемся от вопроса, почему мы расстались, об этом стоит поговорить прежде чем затевать что-то новое… Не так ли? И потом, меня очень волнует, что дало тебе повод думать, что меня давно нет в живых…
— Как, ты еще не врубилась? — вскричал он и словно помолодел лет на сорок.
— Нет, — неуверенно ответила я, чувствуя себя дурочкой.
— Да ладно тебе… — Он недоверчиво махнул рукой. Потом нахмурился. — Впрочем, если не хочешь об этом говорить — не надо, это твое полное право. Но я тогда чудом избежал Колымы или чего похуже.
— Не понимаю, о чем ты говоришь, — пожала плечами я.
— Только не надо делать из меня идиота… Я, к счастью, тогда вовремя обо всем догадался. Или ты предпочла бы, чтобы я за свою любовь взошел на костер? Нет? Я к тебе тогда очень хорошо относился, можно сказать, любил и даже подумывал о женитьбе, но насчет костра — уволь! У меня были другие жизненные планы.
— Ты только не злись, но я все равно ничего не понимаю, — сказала я, начиная догадываться, к чему он клонит.
— Ну хорошо. Ты хочешь подробностей моей трусости. Пожалуйста. Только учти: я не считаю это трусостью. Это и не является трусостью. Если бы я хоть как-то мог повлиять на события, я бы попробовал, но такого шанса у меня не было.
Он замолчал. Взволнованно прошелся по комнате и заговорил, вспоминая:
— Однажды, провожая тебя домой, я увидел его машину и не придал этому значения. Только поежился, так как машина эта мне была слишком хорошо известна. Мне ее однажды показал Дуб. Его дядька работал где-то в органах. Она обогнала нас и притормозила чуть подальше. Потом я повел тебя до двери, потом мы целовались, а спускаясь по лестнице, я столкнулся со здоровенным типом. Он был в сером габардиновом макинтоше, в серой шляпе, и физиономия у него была лошадиная. Нижняя челюсть безобразно выдавалась вперед, а надбровные дуги нависали над глазами, как у гориллы. Он внимательно посмотрел на меня своими маленькими, глубоко запавшими глазками, словно хотел запомнить навсегда.
Я тогда не придал этому никакого значения, но машину и этого человека все-таки запомнил.
В следующий раз я увидел, что эта машина с тем же шофером, только без шляпы, медленно, в некотором отдалении следует за нами по Собиновскому переулку. Тут уж у меня натуральные мурашки побежали по спине и волосы на голове зашевелились.
Я ничего не стал тебе говорить, полагая, что следят за мной. Хотя предполагать, что за мной следит лично Лаврентий Павлович Берия или даже его личный шофер, было несусветной глупостью. Но у страха глаза велики, и тут уж ничего не поделаешь…
Потом однажды я шел мимо твоего дома и решил без звонка зайти за тобой, так как достал билеты на Ружену Си- кору. Тебя не было. Бабушка твоя встретила меня приветливо, как всегда, и попыталась напоить чаем. Она и сама беспокоилась, так как ты должна была вернуться из школы полтора часа назад.
Мы позвонили Татьяне. Она сказала, что в самом конце последнего урока в класс заглянул директор школы и зачем- то позвал тебя. Она решила, что он позвал тебя обсуждать театральные костюмы для первомайского вечера, как это уже случалась. Она знала, что это надолго, и, не дожидаясь тебя, пошла домой.
Какое-то тяжелое предчувствие кольнуло меня. Но я не стал пугать бабушку и, отказавшись от чая, пошел домой.
Когда я отошел от твоего дома на приличное расстояние, какое-то шестое чувство заставило меня оглянуться.
К твоему дому бесшумно подъехал тяжелый черный автомобиль и остановился. Сперва открылась шоферская дверца и из нее вышел тот, похожий на гориллу, с лошадиной челюстью. Он спереди обогнул автомобиль, подошел к задней правой дверце и открыл ее. Оттуда вышла ты и оглянулась по сторонам. Меня, слава Богу, ты не заметила и скрылась в подъезде. Человек в шляпе сел на шоферское место, и машина уехала. Спутать тебя с кем бы то ни было я, как ты понимаешь, не мог.
Илья облизал пересохшие от прошлого страха губы и продолжал:
— Ситуация тотчас сделалась прозрачной. Среди нашего кружка — да ты, наверное, и сама слышала — ходили легенды о том, что Берия разъезжает по улицам в этом самом автомобиле и похищает женщин, которые ему понравились… Ходили также разговоры об известных актрисах и балеринах. Но те пребывали в полном здравии и благополучии, а вот молоденькие, никому не известные девушки с полными ножками — таков был его особый вкус — в конце концов пропадали без следа. Защитить тебя, как сама понимаешь, я не мог. Конкурировать с Лаврентием Павловичем тоже было бессмысленно. Я отошел в сторону.
Он замолчал. Потом спросил меня, глядя прямо в глаза:
— Ну, что скажешь?
— Какая все это глупость! — в сердцах сказала я. — У тебя есть коньяк или водка?
— Конечно, есть, — сказал он и, достав из бара бутылку коньяка, налил в подставленный мною фужер, из которого я только что пила шампанское.
Я залпом выпила, не почувствовав ни крепости, ни вкуса, перевела дыхание и сказала:
— Это страшная глупость и совпадение. В тот день его шофер, Николай Николаевич, рассказывал мне о моих родителях и передал письмо от отца. Он обещал похлопотать о папе. Наркома я увидела только через месяц. И все это время сходила с ума от того, что ты бросил меня, от этой чудовищной несправедливости.
Надо ли говорить, что Илья никаких букетов и колец мне не посылал и никаких писем не писал.
Но это меня не сильно огорчило. Я была довольна и тем, что сыграла в его жизни заметную роль и роль эта оказалась, к счастью, положительной.
Мы расстались друзьями.
ЧЕТВЕРТЫЙ (1952–1953 гг.)
1
Как я уже говорила, моего папу, которого я всю жизнь считала просто маминым знакомым, посадили по делу врачей-отравителей, а мама, как жена декабриста или как настоящая русская женщина, поехала за ним в Магадан, где вскоре начала работать по специальности и, насколько это возможно, поддерживать Льва Григорьевича материально и морально.
Уехала мама по вербовке и потому устроилась там довольно сносно. Работала в городской больнице, получала хорошо, со всеми северными надбавками. Кроме того, как она нам намекала в письме, работы и помимо больницы хватало.
Все знали, в какой московской больнице она работала, и поэтому ценили ее там очень высоко и только сильно недоумевали, почему она место в главной больнице страны променяла на место в Магадане. Она отговаривалась тем, что решила подзаработать, но ей верили с трудом. Потом, конечно, все всплыло, но относиться к ней стали еще лучше. В Магадане в то время было много «жен декабристов». Их так и называли в глаза и за глаза.
Сперва она нам часто писала, раза два-три в месяц. Потом письма стали приходить раз в месяц. Потом начались перерывы, причем было ясно, что письма пропадают. Для того чтобы это знать точно, мама начала нумеровать их. Порой пропадало по два-три номера подряд. Мы же, со своей стороны, писали чаще чем регулярно, потому что я писала самостоятельно, нарушая бабушкино расписание.
Письмами у нас заведовала бабушка. Она следила за тем, чтобы в гостиной на полке книжного шкафа не иссякала стопка конвертов и специальной почтовой бумаги. Бабушка терпеть не могла писать на чем попало.
Чтобы следить за регулярностью отправки писем — а их должно было уходить не меньше двух в месяц, — она, когда относила письмо в почтовый ящик, брала сегодняшний листок из отрывного календаря и клала его в отдельную стопочку рядом с конвертами.
Своих писем она мне не показывала. Иногда, когда сердилась на меня за что-нибудь, грозилась, что опишет все мои художества в следующем же письме, но, судя по маминым письмам, ни разу свою угрозу не выполнила. Даже наоборот — очевидно, нахваливала меня каждый раз. Мама писала, что она гордится своею умницей дочкой, тем, что я помогаю бабушке и слушаюсь ее.
Я же писала ей, как только у меня появлялось настроение и желание излить душу, чаще всего на тетрадных листочках или вообще на каких-нибудь огрызках бумаги. Мои письма были короткие, восторженные и бестолковые.
Мама отдельных писем мне не писала, но всегда выделяла красным карандашом кусочек, предназначенный лично для меня.
2
К тому времени, когда произошли события, результатом которых стал совершенно необъяснимый для меня прощальный звонок Ильи, писем от мамы мы не получали больше трех месяцев и уже начали всерьез беспокоиться. Но что мы могли предпринять? Ровным счетом ничего. Нам оставалось только ждать, отправляя в никуда письмо за письмом.
В этот момент и вызвал меня с последнего урока директор. Он таинственным голосом сообщил, что со мной хотят поговорить, а кто и зачем, не объяснил, но портфель велел забрать с собой.
Он довел меня до дверей своего кабинета, робко постучался, приоткрыл дверь, что-то спросил вполголоса и только тогда пропустил меня в кабинет, аккуратно притворив за мной дверь. Сам он в кабинет так и не вошел.
Я остановилась около двери. За директорским столом сидел, откинувшись на стуле, человек в сером габардиновом пыльнике, который в народе почему-то называли «макинтошем», и в серой же шляпе, сдвинутой на затылок.
Его очень точно описал Илья, а звали его, как потом выяснилось, Николай Николаевич. Когда я вошла, он выпрямился, принял строгий вид и машинально надвинул шляпу на лоб. Потом молча указал на стул, стоящий перед директорским столом. В школьном фольклоре он именовался «электрическим стулом», так как на него директор^ усаживал только провинившихся учениц. Со всеми другими он дружески беседовал на широченном кожаном диване, стоящем справа от стола, между двумя книжными шкафами.
Я подошла и села. Тогда человек в шляпе молча положил передо мной две фотографии. На них был изображен Лев Григорьевич анфас и в профиль. Он был в таком знакомом двубортном костюме в широкую светлую полоску, что у меня сдавило горло и из глаз потекли слезы.
— Ты знаешь этого человека? — спросил он и кольнул меня из-под тяжелых бровей маленькими острыми глазками.
Я кивнула, глотая слезы.
— Это твой отец? — спросил он таким тоном, словно хорошо знал ответ и только хотел уточнить.
Я снова кивнула, забыв с испуга, что еще недавно это было страшной тайной.
Он достал другую фотографию, на которой была моя мама. Я узнала эту фотографию — точно такую, как на паспорте, только сильно увеличенную.
— Это твоя мать? — снова уточнил он.
Я кивнула.
— Хочешь помочь отцу? — неожиданно спросил человек в шляпе, ощупывая меня твердым взглядом.
Я ничего не сказала, потому что боялась разреветься, и только мелко закивала ему в ответ.
— Ну вот и хорошо, — удовлетворенно сказал он. — Иди одевайся, я подожду тебя на улице. Только ни одного слова! Никому, буквально! — строго предупредил он.
Я с готовностью закивала головой и бросилась в раздевалку.
3
На улице он подвел меня к длинной черной машине с зашторенными задними окнами и открыл передо мной заднюю дверцу.
Я залезла на сиденье, сжалась в комочек, поставив портфель на колени и огляделась. Заднее сиденье было отгорожено от переднего стеклянной перегородкой, задернутой так же, как и окна, серыми занавесками.
Ехали мы совсем недолго, не больше пяти минут. У меня был большой соблазн отогнуть угол занавески и посмотреть, куда мы едем, но я этого не сделала.
Машина остановилась. Открылась и захлопнулась передняя дверца. Потом открылась моя, задняя. Человек в шляпе внимательно оглядел меня, словно хотел убедиться, что ничего во мне не изменилось, и кивнул:
— Выходи.
Я вышла и огляделась. Машина стояла в закрытом со всех сторон небольшом дворике светло-зеленого двухэтажного особняка. Все окна его были зашторены, как и в машине, только шторы были не серые, а кремовые, французские, такие, которые собираются снизу вверх.
— Пошли, — сказал человек в шляпе и кивнул на неприметную дверь с маленьким стеклянным глазком, которая открылась перед нами сама собой. Потом я поняла, что открыл ее маленький белобрысый солдатик в малиновых погонах и непомерно большой фуражке с малиновым же околышем.
Мы долго бесшумно шли по каким-то коридорам, стены которых сплошь были отделаны полированным деревом, а пол выстлан ковровой дорожкой темно-красного цвета, с зеленоватым орнаментом по краям.
Разделись мы в маленькой комнатке, в которой ничего не было, кроме деревянных вешалок вдоль стен, потом поднимались по дубовой лестнице с резными перилами. Ее ступени были покрыты ковром со светло-коричневым рисунком.
Подойдя к тяжелой дубовой двери, мой сопровождающий сделал мне знак остановиться, осторожно нажал на массивную бронзовую ручку, приоткрыл дверь, заглянул за нее, только после этого открыл пошире и кивнул мне, чтобы я проходила.
Мы оказались в просторной, сплошь отделанной темно- вишневым деревом комнате. Посередине располагался большой круглый стол. На его полированной поверхности стояла большая хрустальная ваза с белыми розами. Стулья вокруг стола и вдоль стен были обтянуты серым рытым бархатом. Таким же бархатом были обтянуты глубокие кресла и диван. Кроме того, вдоль стен стояли два книжных шкафа, в которых я разглядела сочинения И. Сталина, В. Ленина, Ф. Энгельса, К. Маркса и М. Горького. Между креслами расположились маленькие столики. На одном из них, с поверхностью в виде шахматной доски, стояли замысловатые фигуры явно китайского происхождения, вырезанные из светло-зеленого и серо-красного камня.
На другом столике находился телефонный аппарат без диска с цифрами.
Левый угол комнаты занимал самый настоящий рояль.
Прямо над столом низко висела огромная люстра из темной бронзы, ее пять рожков заканчивались белыми плафонами в виде полушарий. На стенах по всему периметру висели двухрожковые бра с такими же плафонами.
Потолок был тоже отделан деревом, только более светлым, но по нему шли широкие балки, делившие его на шесть равных квадратов, каждый из которых был примерно два метра на два. Балки эти были почти черного цвета.
На полу лежал громадный, почти во всю комнату, ковер с плотным и коротким ворсом.
Окна, как я и говорила, были наглухо задрапированы французскими шторами. Дверей в комнате, кроме той, в которую мы вошли, я не увидела. Но оказалось, что они есть.
— Подожди здесь, — сказал мой сопровождающий и кивнул на диван. Потом он подошел к одной из стенных панелей и нажал на ручку, которую я сперва не заметила. Это была дверь. Он приоткрыл ее и сказал, дернув ртом в некоем подобии улыбки:
— Здесь туалет, если что.
После этого он подошел к другой панели между роялем и столиком с телефоном. Она тоже оказалась дверью, за которой он и скрылся.
Туалет оказался как нельзя кстати, так как в школе я ничего не успела сделать.
Я вошла туда и обомлела. Это была ослепительно светлая комната метров двадцати, отделанная с полу до потолка белоснежным кафелем. Над широкой сверкающей раковиной было прямо в стене овальное зеркало без единого пятнышка на безукоризненной поверхности. По бокам зеркала выступали прямо из стены круглые шары светильников.
Просторная ванна с двумя отдельными смесителями и закругленными краями была наполовину утоплена в пол. Все сверкало никелем, а рукоятки кранов блестели, как золотые. Это я тогда так подумала, а теперь я понимаю, что они и были золотые. Или по меньшей мере позолоченные.
Другое широченное зеркало, во весь рост, было расположено напротив ванной и еще некоего сооружения, о котором позже. Зеркало было вделано в стену и крепилось к ней громадными золотыми винтами по углам. Оно увеличивало и без того просторное помещение в два раза.
Больше всего меня поразило то, что там же стояла медицинская кушетка, только пошире и укрытая не желтой клеенкой, как обычно в поликлиниках, а махровой простыней. В те годы махровых полотенец в обиходе еще не было. Одно такое откуда-то привез в наш дом Лев Григорьевич. О махровых простынях или халатах я уже не говорю.
Тут же стояла круглая вешалка, точно такая же, как у нас дома, только наша была деревянная, а эта металлическая.
Теперь о том сооружении рядом с ванной, которое я тогда не могла назвать унитазом — язык не поворачивался. Это теперь мы привыкли к любым конструкциям в этом роде, а тогда ничего, кроме чугунного сливного бачка над головой, который постоянно потеет и плачет тебе на спину холодными слезами, мы не знали. Я даже и приближалась-то к нему с почтением. Прямо над унитазом, составляя с ним одно целое, возвышался сверкающий никелированной ручкой фаянсовый бачок. Сам же унитаз был закрыт тяжелой, то ли пластмассовой, то ли фаянсовой, крышкой. Под ней помещался такого же материала кружок изысканной формы. Все это сияло безукоризненной чистотой, разумеется.
Усевшись на это сооружение, я вдруг увидела себя с ног до головы в зеркале. Ощущение было настолько необычное, что я даже забыла, зачем села. Мне стоило больших трудов сосредоточиться и начать то, что до этого я так сильно хотела сделать. И то для этого мне пришлось отвернуться. Зато потом я не удержалась и полюбовалась на себя в зеркало во всяких видах, сзади и спереди, и растерла ноги в тех местах, где они были перетянуты резинками и на коже отпечатался рубчик простых хлопчатобумажных чулок — в других чулках нам в школу ходить было запрещено.
Потом, вспомнив, где нахожусь, я быстро оделась, подтянула чулки, причесалась — расческа всегда была со мной в кармане передника — и вышла из этой чудесной комнаты, подумав при этом, что если б такая была у меня, то я бы в ней жила. Жалко, еще подумала я, что никогда в жизни мне не удастся принять там ванну и узнать, зачем там целых два смесителя с двумя золотыми рукоятками на каждом.
Как показала жизнь, я тогда глубоко ошибалась.
4
В гостиной — я буду так называть эту комнату — я опустилась на диван, который указал мне человек в шляпе, и приготовилась ко всему.
Меньше всего я ожидала каких-нибудь домогательств. Очень уж не похоже было, что мой спутник интересуется чем-нибудь этаким. Я была убеждена, что таким хитрым способом меня заманили в какое-то очень высокое правительственное учреждение (вот только зачем здесь такая ванная, я не совсем понимала), чтоб выпытать у меня подробности отношений между Львом Григорьевичем и мамой.
Я уже кусала локти, что пусть хоть кивком, но подтвердила то, что Лев Григорьевич мой отец. В крайнем случае, решила я, от всего можно будет отказаться, сказать, что я не так поняла этого в шляпе. Или он меня не так понял. Сказать, что да, он приходил изредка к нам в гости. Потому я и кивнула.
В тот день мне пришлось ждать долго. Тогда я и смогла рассмотреть все подробности обстановки, подробный отчет о которых дала вам выше. Не буду скрывать — обстановка эта меня поразила настолько, что до сих пор все стоит перед глазами, словно я только что оттуда вышла. Будто и не было этих сорока с лишним лет.
Было совершенно тихо, как ночью на даче.
Я уже начала томиться, предполагая, что про меня забыли. Даже подумала, не пойти ли туда, куда скрылся мой сопровождающий, и напомнить о себе, но вовремя опомнилась…
Минут через сорок пять дверь открылась и оттуда появился человек, который меня привез, но уже без шляпы и пыльника, в сером облегающем двубортном костюме. Волосы его были гладко зачесаны назад. Я невольно удивилась ширине его плеч, которую скрывал реглан «макинтоша».
Он молча сел рядом со мной на диван, посмотрел куда-то мимо моего уха и сказал:
— В общем, сейчас домой… — Он наморщил лоб и болезненно скривил рот. Было похоже, что слова ему давались нелегко. — Не сегодня. Потом. Я позвоню! Меня зовут Николай Николаевич. Тебе помогут… Папе, — пояснил он. — Жди. Ни одного слова, буквально. Никому. Погубишь папу и маму… — Особенно трудно ему дались эти неказенные слова — «папа» и «мама». Он даже вспотел, залез в карман широких брюк, вытащил никогда не бывавший в деле платок и вытер свой цокатый лоб. Потом он встал и, бросив мне: «Пошли», вышел из гостиной.
Мы прошли той же дорогой. В гардеробной я оделась. Мимо уже другого солдатика мы вышли на улицу. Он подвел меня к машине, на которой мы приехали, открыл заднюю дверцу, я села на то же самое место и снова поставила портфель на коленки.
Некоторое время я сидела в машине одна, потом услышала, как он сел на свое водительское место, и машина почти бесшумно тронулась.
Буквально через пять минут я была уже около своего дома.
Когда он открыл мою дверцу, то оказалось, что он опять в своей серой шляпе и пыльнике.
— Я позвоню, — сказал он вместо прощания.
— А телефон? — пискнула я.
— Какой телефон? — поднял свои тяжелые брови он.
— Мой. Вы не записали мой телефон.
— Он у меня есть, — нахмурился Николай Николаевич и захлопнул за мной дверцу.
Поднималась по лестнице я как во сне. Я понимала, что в моей жизни произошли перемены, но не знала, к добру ли они.
Первым моим порывом было набрать Танькин телефон и все ей выложить. Но я отдернула руку как от горячего утюга. «Ни одного слова. Буквально», — вспомнила я. И только тут до меня дошло, что я осталась один на один со своими проблемами.
На другой день позвонил Илья…
Я и об этом никому не рассказала. Меня словно замкнуло на моей боли. Что-то поднялось во мне такое, о чем я и сама не знала. Я ведь действительно ни разу ему не позвонила с тех пор. Даже для того, чтобы помолчать в трубку и послушать его голос. Ни разу не прошла по Собиновскому переулку.
Когда Танька допекла меня своими вопросами, я сказала, что мы с Ильей расстались, и если она спросит об этом еще, то и с ней мы расстанемся навсегда. И представьте себе, она мне поверила и не спрашивала несколько дней. Потом все- таки спросила, и я ей спокойно все рассказала, передав его телефонную отповедь слово в слово.
— Вот сука! — сказала Танька. — Сегодня же позвоню Дубу и пошлю его к черту. Все они суки, эти художники!
5
Через месяц, когда я уже перестала ждать, позвонил Николай Николаевич.
Мы встретились в начале Тверского бульвара у памятника Пушкину. Я опять была в школьной форме и с портфелем, так как пришла на свидание прямо из школы.
Машина ждала нас на Большой Бронной за углом. На этот раз Николай Николаевич сел со мной на заднее сиденье. За рулем был человек в кепке, лица которого я не запомнила.
— Значит, так, — сказал Николай Николаевич, захлопнув дверцу. — Ты взрослая. Я буду говорить напрямую. Отец твой осужден по серьезной статье. Помочь трудно. Пересмотреть нельзя. Можно изменить режим. Это хорошо. Это жизнь. Или помилование. Но это должен подписать Сам! — Он указал пальцем на небо. — Дело у него на контроле. Хлопотать может только нарком. Понравишься ему — вытащишь отца. И мать вернется. Поняла?
Я молча кивнула в ответ. Кровь ударила мне в лицо и тут же отлила, вспотели от страха ладони. Только тогда я вспомнила разговоры в мастерской у Ильи о бесследно исчезающих девушках. Но в этих рассказах их хватали на улицах и затаскивали в машину. За мной же приехали в школу… И потом, я же не исчезла в первый раз… Может, и теперь пронесет, с надеждой подумала я.
— Сама ничего не говори. Он скажет. Все поняла? — Николай Николаевич тронул меня за локоть, так как я слишком углубилась в свои мысли. Я кивнула ему в ответ и снова погрузилась в размышления.
Что значит «понравишься»? В каком смысле? А если не понравлюсь?.. Какие же из девушек пропадали — те, которые нравились, или наоборот? А если понравлюсь, то что дальше?
Живьем я видела его только один раз — недавно, Первого мая на мавзолее Ленина, и то с большого расстояния — наша школа шла в пятой от Мавзолея колонне. Он стоял по левую руку от товарища Сталина в низко надвинутой на лоб шляпе, из-под которой поблескивали стеклышки знаменитого пенсне. До этого я видела его только на портретах.
И что же — этот человек подойдет ко мне, возьмет меня за руку и… Что будет дальше, я даже представить себе не могла.
6
На этот раз мне не пришлось его ждать. Мы с Николаем Николаевичем прошли через гостиную в следующую дверь, за которой оказалась столовая, поразившая меня своими размерами.
Посередине стоял огромный прямоугольный стол, который, как я потом узнала, в собранном виде был рассчитан на двадцать четыре человека, а в разобранном — на сорок. Но больше всего меня поразил сам Нарком. Я буду его так называть. Так мне почему-то проще, чем по имени-отчеству.
Нарком шагнул мне навстречу с протянутыми для приветствия руками, улыбаясь, как старой знакомой, с которой давно не виделся. А я-то, дура, почему-то рассчитывала увидеть его в шляпе, как на мавзолее…
Он был в светло-коричневом однобортном костюме спортивного покроя, с накладными карманами, и в белой рубашке- апаш. Мягкий ее воротничок был выпущен на воротник пиджака. Две верхние пуговицы рубашки были расстегнуты, и в разрезе виднелась грудь, густо поросшая черными волосами.
Он оказался более лысым, чем я думала, но голова у него была красивой формы, и лысина его не портила. Грозное лицо с тяжелым подбородком и глубокими горькими носо-губными складками улыбалось и казалось немного по-детски удивленным.
— Гамарджоба, генацвале! — вскричал он, пожимая двумя руками мою ладонь. Руки у него были волосатые, небольшие, но очень крепкие. — Здравствуй, дорогая, как дела, как успехи, как учеба?
— Спасибо, все хорошо, надеюсь на серебряную медаль, — машинально пролепетала я. Нарком посмотрел на меня с удивлением, словно он вовсе не ожидал от меня ответа на свой вопрос.
— Молодец, — сказал он. — Сейчас будем обедать, ты руки мыла?
Я покачала головой.
— Пойдем, я тебе покажу где. Слушай, положи куда-нибудь свой портфель, здесь не украдут… — Он так заразительно засмеялся, что я, позабыв о всех своих страхах, не удержалась от улыбки.
Он открыл какую-то дверь и пропустил меня вперед. Это была просторная спальня со стенами и мебелью светлого дерева, с огромной кроватью, двумя платяными зеркальными шкафами напротив кровати и трельяжем. На большом круглом столе стояла ваза с разнообразными фруктами. Мне запомнились желтые изысканно удлиненные груши.
Еще одна дверь из спальни вела в ванную комнату, похожую на ту, в которую я заходила из гостиной. Только стены здесь были не белоснежные, а малахитовые.
Я быстро вымыла руки, вытерла их о темно-зеленое махровое полотенце и вернулась в столовую, где маленькая, сухонькая, но очень шустрая старушка накрывала стол на две персоны. Нарком называл ее тетей Шурой.
Николая Николаевича в столовой уже не было.
Пока тетя Шура хлопотала, я, поощряемая доброй улыбкой Наркома, подошла к дивной красоты серванту из карельской березы. На серванте стояла массивная хрустальная ваза, оправленная в почерневшее от времени серебро. В вазе лежал футбольный мяч, который и привлек мое внимание. Он был весь расписан химическим карандашом как складская накладная. Рассмотрев надписи, я поняла, что это автографы известных футболистов из московского «Динамо», к которому Нарком всю жизнь был неравнодушен.
Я спросила разрешения и взяла мяч в руки. Как сейчас помню, он был очень твердый, тяжелый и почему-то теплый.
— Как же они играют таким твердым и тяжелым? — простодушно воскликнула я. — Ведь если этим мячом куда-нибудь попасть…
— Бывает и такое… — усмехнулся Нарком, очевидно, довольный моим сочувственным отношением к футболистам.
— Но ведь и в другое место, наверное, больно? — осмелела я.
— В другое место ничего, — снова улыбнулся Нарком и стал похож на хулиганистого, хитрющего мальчишку. — Дай-ка сюда мячик.
Я протянула ему мяч. Он принял его одной рукой и вдруг уронил… Я ойкнула от неожиданности. Но мяч не упал. Почти коснувшись зеркального паркета, он волшебным образом взлетел к хрустальной люстре. Я только потом поняла, что Нарком успел поддеть его носком начищенного ботинка. Опустился мяч почему-то на поднятую голову Наркома. Он, сверкнув стеклышками пенсне, боднул его своим гладким лбом, и мяч снова взлетел к самому потолку. На этот раз мяч упал почти до пола, но снова был поддет ботинком.
Ударяя мяч то ногой, то головой, Нарком сделал полный круг вокруг стола, чуть не сбив тетю Шуру, которая выкатила откуда-то маленький деревянный столик на больших резных деревянных же колесах. Столик был уставлен целой батареей самых разнообразных бутылок. Тетя Шура испуганно пискнула и тайком перекрестилась. А Нарком пошел на второй круг, усложнив свои упражнения. Теперь он поддевал мяч ногой, принимал головой, сбрасывал на грудь и только с груди на ногу. Я не выдержала и зааплодировала.
Таким манером он сделал еще один полный круг и закончил тем, что внезапно отпаснул мяч мне. Я машинально выбросила вперед руки и поймала его неожиданно для себя.
— Молодец! — весело, чуть запыхавшимся голосом сказал Нарком. — Отличная реакция. Если я буду собирать команду, пойдешь ко мне вратарем.
— Я боюсь, у меня не получится… — виновато улыбнулась я.
— И правильно! Не ходи! Там все время нужно падать. А падать такой нежной девушке нужно только на что-то очень мягкое… Правильно я говорю? — Он вопросительно взглянул на меня.
Я не знала, что ответить, и опустила глаза.
— Положи мячик на место — и обедать, — деловым голосом сказал он.
7
Обед был в чисто грузинском стиле. Вместо хлеба был горячий лаваш. Много зелени. На закуски подавали лобио, сациви, какую-то соленую кудрявую травку, грузинский белый сыр, помидоры, огурцы, редиску. Потом было огненное харчо, а на второе запеченная целиком крупная форель, которую я не только никогда не ела, но и видела-то впервые.
— Может, тебе что-то не нравится? — спросил он в самом начале. — Мы тогда попросим принести тебе что-нибудь другое.
— Нет-нет, — поспешила я его успокоить, — все очень нравится. Совершенно другие запахи… Я все это впервые пробую.
— Так пахнет моя родина. Человек до самой смерти помнит запах своей земли, еды и первой любви… Когда человек отказывается от родной еды и от своей любви, он перестает быть человеком и от него можно ждать чего угодно…
Он произнес это с глубокой горечью и раздражением. Было понятно, что он имеет в виду какого-то конкретного человека, но кого именно, мне тогда и в голову прийти не могло.
Чтобы загладить это тягостное впечатление, он вдруг подмигнул мне и спросил:
— А чем пахла твоя первая любовь?
Вопрос был такой неожиданный, что я даже вздрогнула как от выстрела. Ведь ответ на этот вопрос мог потянуть за собой и другие вопросы, и тогда мне пришлось бы рассказывать все. И об Илье, и о Макарове. Но врать, делать вид, что я еще девочка, и мне рано говорить о любви, было бессмысленно. Поди знай, как все обернется… И как я тогда буду выглядеть со своим враньем? Все это промелькнуло в моей голове за долю секунды, и я сказала:
— Снегом и мандаринами… И еще чуть-чуть сапожной ваксой…
— Он был военный? — быстро спросил Нарком. И, наверное заметив тень беспокойства в моих глазах, добавил: —
Потом как-нибудь расскажешь, если захочешь, конечно… Попробуй лобио.
Я попробовала.
— Ну, что скажешь? — спросил он с таким видом, словно это он готовил.
— Восхитительно!
— Молодец! — с веселым удивлением воскликнул он. — Так теперь никто не говорит. Наверное, подружки твоей бабушки в Институте благородных девиц так разговаривали? — с невинным видом предположил он.
Могильным холодом повеяло на меня от этого вопроса. Он означал, что я здесь не просто так, не случайно, что он или его люди, Николай Николаевич например, очень серьезно занимались не только мною, но и всей моей семьей. Да, наверное, и не только семьей, но и всеми моими знакомыми… И что же из этого следует?
— Есть такая примета, — через небольшую паузу, словно удовлетворившись моей плохо скрытой реакцией, продолжал Нарком, — когда первый раз что-то пробуешь, надо загадывать желание. Загадай желание, — он неожиданно подмигнул мне, — и я его исполню…
После этого мы отдали дань изумительной еде и говорили только о каких-то пустяках.
Он все время подливал мне удивительно вкусное шампанское, а сам пил коньяк.
Когда принесли форель, я посмотрела на нее с ужасом, не зная, как подступиться к этой большущей рыбине, еще скворчащей в масле, с аппетитнейшей розово-золотистой корочкой. Он, заметив мое смятение, весело начал меня учить:
— Не смущайся, эту рыбу умеют есть только настоящие грузины… — Он сделал паузу, довольно сверкнул стеклышками пенсне и продолжил: — А они едят ее так, — он поднял над форелью руки с жадно скрюченными пальцами, — хватают двумя руками и жрут, с головы до хвоста. Кости они сплевывают на пол. Жир течет по их небритым подбородкам, а руки они вытирают о белую скатерть и запивают форель огромным количеством цинандали из залапанных липкими руками стаканов.
Мои глаза округлились от веселого ужаса. Он же, довольный произведенным эффектом, развел руками и с сожалением сказал:
— Но мы будем ее есть по-европейски, вилками. Сразу двумя. Видишь эти маленькие вилки? Бери сразу обе и начинай с корочки.
Он ловко, одним движением снял кожу с половины рыбины, скатав ее в трубочку, нанизал на вилку и со смачным хрустом откусил.
— Это самое вкусное. Есть люди, которые самое вкусное оставляют на потом, а сперва съедают что похуже. Я всегда поступаю наоборот. Сначала и немедленно ем самое вкусное, а потом будь что будет. А то, глядишь, и не доживешь до сладкого куска… Или в последний момент отнимут. Когда я был молодой и особенно нетерпеливый, так я в борще со сметаной в первую очередь съедал сметану. Ребята из команды всегда смеялись… — Он задумчиво посмотрел на меня. — Слушай, ты случайно не знаешь, почему меня на воспоминания потянуло? Это, наверное, от старости…
— От чьей старости? — уточнила я.
— От твоей, конечно, — улыбнулся он. — Ну, ладно, продолжим нашу учебу… Когда ты скушаешь корочку, сними верхние и нижние плавнички вместе с мелкими косточками.
Он ловко подцепил плавнички, похожие из-за частых коротких косточек на гребешки, и положил на край тарелки.
— Если бы эта рыба была поменьше, то я обязательно обсосал бы эти косточки, а так нужно экономить силы, чтобы с нею справиться. Потом вилочкой, аккуратно, от хребта вниз снимаем это нежное мясо с ребрышек. Тут кроме ребер других костей нет, потому едим смело. Жевать не обязательно, это мясо само тает на языке. Но не забывай запивать вином. Конечно, положено под форель пить «Цинандали» или «Эрети», но молоденькие барышни любят шипучее и сладкое…
— Он подлил мне шампанского. — А я люблю коньяк, украшающий нежную форель как острая ароматная аджика.
Он поднял свой бокал и задумался. Потом легко кивнул своим мыслям и заговорил:
— Человек может обходиться без воздуха две-три минуты, без воды пять суток, без пищи месяц, а без любви ни мгновения. Как только он появляется на свет, он начинает любить свою мать, потом он подрастает, и у него появляются друзья, которых он любит, потом возлюбленная или возлюбленный, если речь идет о девушке. Потом человек начинает любить своих детей и внуков. Но есть еще одно чувство, которое человек получает вместе с молоком матери. Это любовь к своей Родине. Это чувство прекрасно. Оно движет каждым советским человеком. Так выпьем за то, чтобы все эти чувства мирно уживались в человеке. Чтобы любовь к близким не мешала нам любить нашу великую Родину и, наоборот, чтобы наша беззаветная любовь к Родине не запрещала нам любить наших близких, отринутых ею как чуждый или даже враждебный элемент. Выпьем за любовь без трагических противоречий и последствий!
Он произносил эти слова, неотрывно глядя мне в глаза. У меня от его взгляда мурашки побежали по коже.
Мы выпили.
— Продолжим нашу учебу, — как ни в чем не бывало, сказал Нарком. — Когда мы закончили с ребрышками, приступаем к спинке. Тут нужно быть предельно осторожным. В спинке находятся вилочковые кости, очень тонкие и очень острые. Правда, в форели их не так много, но они есть. Для того чтобы избежать неприятностей, мы будем снимать вилкой мясо вдоль хребта небольшими кусочками. Вот смотри. — Он подцепил кусочек не больше сантиметра длиной и снял его со скелета. Из кусочка торчали две косточки. Нарком пальцами осторожно вынул их, положил на край тарелки, а кусочек на вилке поднес к моим губам. Я послушно открыла рот, и он осторожно положил туда кусочек. — Теперь так до самого хвоста. Поняла?
Я кивнула.
— Сама Справишься?
Я снова кивнула.
— Ты способная ученица. Это безобразие, что тебе хотят дать серебряную медаль. Наверное, кое-кто из учителей к тебе несправедлив… А может, неравнодушен? — Он изучающе посмотрел на меня. — У вас много мужчин-учителей?
«Господи, неужели он и это знает?» — похолодела я. У меня действительно был незатихающий конфликт с учителем физики, неопрятным холостяком лет сорока с безобразными испорченными зубами. У него всегда так дурно пахло изо рта, что я невольно отодвигалась, когда он подходил к моей парте и пытался что-то объяснить, тыча грязным пальцем в мою тетрадку. Это было совершенно бесполезно, потому что от этого запаха я переставала соображать вообще. Каждый раз, чтобы получить четвертную четверку, мне приходилось ходить к нему на дополнительные занятия и терпеть невыносимые муки, так как он сажал меня за свой стол и постоянно касался моей ноги своим костлявым коленом.
— Хватает, — сокрушенно вздохнув, ответила я.
— Мы посмотрим, может, действительно кто-то пристрастно к тебе относится. Кушай, пожалуйста, делай, как я говорю, и не думай ни о чем грустном.
Я стала делать, как он меня научил, и действительно, дело пошло быстро и безопасно. Все косточки были видны, и я их легко вынимала.
Когда мы очистили одну сторону, то перевернули рыбину и с другой стороны начали все сначала.
К концу обеда у меня уже было ощущение, что никакой это не грозный Нарком, перед чьим именем трепещет вся страна, а веселый, озорной дядечка, который знает и умеет в этой жизни очень много всего веселого и забавного и готов меня всему этому научить. И я была уже не против, чтобы меня учили…
— Ты знаешь, что все грузины поэты и романтики? — спросил он и вдруг снял пенсне. Глаза его сразу сделались беспомощными и очень симпатичными. — Хочешь, я прочту тебе свои стихи?
— Конечно! — бесшабашно воскликнула я, салютуя ему хрустальным бокалом с нежно-золотым шампанским. — Какой же праздник без стихов?!
— Молодец, девочка! — довольно крякнул он. — Удача идет к веселым людям. Я прочту самое любимое стихотворение.
Он отпил глоток коньяка, поставил свой бокал на стол и, слегка откинувшись на стуле, закрыл глаза. Я приготовилась слушать.
Первые же гортанные звуки незнакомой речи поразили меня. Он читал по-грузински. Стихотворение было коротким, очень грустным и, очевидно, назидательным. Оно кончалось каким-то вопросом. Задав его, Нарком открыл глаза и вопросительно посмотрел на меня, словно я могла понять смысл этого вопроса.
Разумеется, ничего я понять не могла, но музыка этих стихов понравилась мне и нашла какой-то отзвук в сердце. Я снова захлопала в ладоши, как и тогда, когда он с таким мастерством обрабатывал мяч, и воскликнула совершенно искренне:
— Очень, очень красиво!
— Это не совсем мои… — скромно потупился он, — это стихи Омара Хайяма. Я их только перевел. Слышала о таком?
К моему огромному стыду, я о таком поэте тогда еще не слышала. Но врать я не стала.
— Нет, — со стыдом призналась я.
— В твоем возрасте я тоже о нем не слышал, — успокоил меня Нарком. — Он жил тысячу лет назад и был еще математиком и астрономом. Писал он на персидском языке, а на грузинском я его стихов еще не встречал. По-русски это стихотворение звучит так:
На кровлю шахского дворца сел ворон, Череп шаха-гордеца держа в когтях, И спрашивал: Где ж трубы? Трубите славу шаху без конца!Замолчав, он посмотрел на часы.
— Ты сыта? — спросил он так, как спросила бы об этом моя бабушка.
— Да, конечно! — воскликнула я, недоумевая, как можно спрашивать об этом после всего, что мы съели.
— Ну и хорошо! А мне сегодня предстоит обедать до самого утра…
Меня поразила эта фраза, но я не стала выяснять, что же он имеет в виду.
Между тем он нажал на какую-то кнопку, в столовую тут же вошла тетя Шура и безмолвно застыла в дверях в ожидании дальнейших распоряжений.
— Ты Левона покормила?
Тетя Шура молча наклонила голову.
— Тогда позови, и побыстрее, — сказал Нарком и еще раз взглянул на часы.
Через минуту в столовую вошел маленький согбенный человечек, лицом схожий с химерой собора Парижской Богоматери.
— Давай, только быстро, — деловито сказал Нарком и повернулся ко мне. — Ничего не бойся, это портной, он только тебя измерит.
Левон достал из кармана обычный портновский метр, приблизился ко мне и, не решаясь приступать к делу, вопросительно взглянул на Наркома.
— Не тяни, — с раздражением сказал тот. — А ты встань, — бросил он мне и, подозвав к себе тетю Шуру, стал что-то тихо ей говорить. Она только послушно кивала ему в ответ.
Я поднялась со стула, и Левон начал профессионально, по-портновски обмеривать меня, а данные записывать в засаленный отрывной блокнотик.
Нарком тем временем прощально махнул мне рукой и деловой походкой вышел из столовой. Как я поняла, вышел окончательно, чтобы уже не вернуться в тот день.
Я почувствовала себя жестоко обманутой. О папе не было сказано ни слова. Слезы непроизвольно покатились из моих глаз. Портной, участливо заглянув в мои глаза, спросил:
— Я сделал тебе неприятно, дочка?
Я отрицательно помотала головой. Слезы еще сильнее потекли по щекам. Тетя Шура, составлявшая бутылки на сервировочный столик, с неодобрением покосилась в нашу сторону.
Наконец портной закончил и, не сообщив мне, что же он собирается шить, удалился, а я гак и осталась, как дура, стоять посреди столовой. Я не знала, нужно ли мне снова садиться или уже можно уйти.
Тетя Шура, сметая со скатерти крошки специальной щеточкой в красивый серебряный совок, как бы себе под нос проворчала:
— Хозяин вызвал его. Нельзя. Не ослушаешься. Велел тебе фрукты брать с собой. Какие захочешь. Вон виноград, груши, конфеты бери.
— Как же я их домой принесу? — всхлипнув, сказала я.
— А я тебе бумажный пакетик дам, с ручками, — деловито пояснила тетя Шура.
— А что я дома-то скажу? — Я уже заревела в голос. — Откуда у меня в мае виноград и груши?
— А ты по дороге съешь, — невозмутимо предложила тетя Шура, — не пропадать же добру. А насчет отца своего не плачь. Он говорит, сурьезное очень это дело. Хозяин о нем помнит. Тут, не загадывамши, нужно сперва о послаблении хлопотать, а там видно будет. Может, и забудется… А сплеча рубить тут нельзя. Но он похлопочет, похлопочет…
Я, не веря своим ушам, подбежала к крошечной тете Шуре с такими бурными объятиями и поцелуями, что чуть не свалила бедняжку.
— Будет, будет лизаться-то! — заворчала тетя Шура. — Я, что ли, хлопотать буду. Кто дело сделает, того и целуй…
Ничего я, конечно, в тот день с собой не взяла, кроме горсти конфет «Трюфели», которые мне насильно засунула в карман школьного передника тетя Шура. Она же и проводила меня на улицу.
Машины, на которой я приехала с Николаем Николаевичем, во дворе не было. Тетя Шура хотела меня усадить в другую, поменьше, но я отказалась и пошла домой пешком. Кстати, и идти-то там было не более пятнадцати минут. Мы с Наркомом жили по соседству.
8
Я так подробно вспоминаю все, что произошло со мной в первую нашу встречу, потому что она по сей день вся, во всех подробностях стоит у меня перед глазами и по-прежнему занимает в моей жизни место гораздо большее, чем я хотела бы. Наверное, это оттого, что я никому никогда не рассказывала об этом, не делилась ни с кем своими переживаниями, оттого они, нерастраченные, и хранятся во мне. Может быть, таким способом мне удастся облегчить душу, и эти воспоминания перестанут являться мне непрошеными в самый неподходящий момент.
Из зеленых сплошных ворот его особняка я вышла около десяти часов. Домой я не спешила, так как сказала бабушке, что сразу после школы иду к Илье в мастерскую. Я не рассказала ей о нашем расставании. Не хотела ее волновать. Она очень любила Илью, считала его воспитанным молодым человеком и талантом. Поэтому она отпускала меня с ним куда угодно и на сколько угодно.
На улицы мягко опускались сиреневатые майские сумерки. Девочки-третьеклассницы, расчертив утоптанную во дворах землю осколками стекол или старыми гвоздиками, играли в классики. В ту пору еще большинство дворов были не заасфальтированы.
Девчонки постарше крутили прыгалки, а еще постарше стайками бродили по улицам. В некотором отдалении от них двигались ватаги пацанов, которые изо всех сил делали вид, что они к девчонкам не имеют никакого отношения. Впрочем, и те и другие разговаривали и смеялись громче, чем обычно…
Господи, как все это было далеко QT меня, хотя я сама ходила так по весне всего три года назад… Теперь же я шла, и все тело у меня гудело, как трансформатор, от невероятного нервного напряжения, которое я только что пережила.
Теперь, с вершины своего сегодняшнего опыта, я могу сравнить общение с Наркомом с приемом контрастного душа. Вот только что он согревал тебя вниманием, открытой веселостью, искрометными тостами и комплиментами, как тут же без всякого перехода от него вдруг веяло ледяным, могильным ужасом. Он был человеком крайностей. Наверное, он стал таким из-за своего незаурядного кавказского темперамента и глубокого душевного надлома, который скрывал от всех.
Однажды, когда он был особенно мрачен, я спросила у него, отчего он такой невеселый? Он задумчиво посмотрел на меня:
— Послушай, если б тебя без твоего согласия выдали замуж за Синюю Бороду, который свою первую жену задушил, вторую зарезал, третью отравил, а четвертую утопил в пруду. Зная об этом, ты бы очень веселилась? Да, он тебе говорил бы, что больше всех любит тебя, ценит твою красоту и верность, но была бы ты спокойна и счастлива?
Я, дуреха, тогда не сообразила, о чем он говорит, и попыталась перевести его слова в шутку. Он даже не улыбнулся. Мне и в голову не могло прийти, что под женой он имеет в виду себя.
9
Николай Николаевич позвонил через два дня рано утром. Была суббота, и у нас было всего четыре урока. Мы назначили нашу встречу на час дня на старом месте.
Он попросил меня прийти в белом праздничном фартуке и с белым бантом в косе. И еще он предупредил, чтобы я не пользовалась духами.
Когда в трубке раздались длинные гудки, я украдкой покосилась на бабушку, которая с нескрываемым любопытством поглядывала в мою сторону, и добавила:
— Ладно, Татьяна, обо всем договоримся в школе. Сама- то не опаздывай…
Да, я забыла сказать, что в то время носила косу, и довольно толстую. Она и сейчас хранится у меня в специальной коробке. Но бантами я ее никогда не украшала, даже на праздники. Ленты, разумеется, у меня еще с начальных классов были.
Меня удивила такая просьба Николая Николаевича, но я почему-то подумала, что Нарком ждет какую-то делегацию и мне будет поручено ее приветствовать. Какая делегация? Почему ее нужно приветствовать? Глупость все это, конечно, неимоверная, но тогда ничего другого мне не пришло в голову.
После уроков я забежала домой, наврала бабушке с три короба, подвязала косу бантом на затылке, одела белый передник и помчалась к памятнику Пушкину.
Машина нас ждала за углом на Большой Бронной. Николай Николаевич сел опять рядом со мной, всю дорогу молчал, а когда мы уже остановились во дворе особняка, похлопал по плечу, улыбнулся, обнажив по-лошадиному длинные желтоватые зубы, и сказал:
— А ты молодец! Никому ни слова не сказала, буквально! Молодец!
Пока мы шли по коридорам, я с ужасом думала, откуда же он знает, что я действительно никому ни слова, буквально. Впрочем, я сейчас думаю, что он таким образом меня проверял и запугивал одновременно. Но тогда я выдержала проверку, потому что совесть моя была чиста.
Нарком встретил меня в столовой как старую знакомую, обнял, громко расцеловал в губы и в щеки. Я почувствовала, что от него сильно пахнет коньяком. Похлопывая меня по спине, повел за стол.
— Надеюсь, ты еще не обедала? А то тетя Шура обидится.
Тетя Шура тут же хлопотала у стола и на реплику Наркома что-то проворчала под нос.
В углу за резным буфетом я заметила огромную круглую шляпную коробку. Она была такая большая, что в нее могла бы спокойно поместиться крышка нашего круглого стола из гостиной. «Ничего себе шляпка», подумала я. В ней я бы выглядела как пляжный зонтик.
Перехватив мой взгляд, Нарком таинственно улыбнулся.
— Это для тебя.
— А что это такое?
— Об этом ты узнаешь позже. А тебе идет белый передник и бант. Ты в этом наряде как настоящая гимназистка.
10
Обед начался так же, как и в прошлый раз. Нарком говорил замысловатые тосты, много пил сам и заставлял пить меня. Еда на этот раз была не грузинская, а просто дорогая, ресторанная. Было много икры, которой он кормил меня прямо с серебряной ложечки, были куриные шницели по-министерски, которые я спустя несколько лет так полюбила в угловом кафе гостиницы «Националь», был жульен из грибов, только вместо хлеба опять был горячий лаваш и много грузинской зелени. Я даже одну травку со смешным названием «цицматы» запомнила и полюбила навсегда.
Нарком в этот раз как-то особенно быстро развеселился. Посреди" обеда он открыл крышку роскошного музыкального комбайна, стоявшего в углу, поставил «Вальс цветов» из балета «Спящая красавица» и пригласил меня танцевать. Оказалось, что он прекрасно танцует. Легко, красиво и уверенно.
Я ему сказала об этом. Он улыбнулся с довольным видом и прошептал, щекоча губами мое ухо:
— Я все делаю легко, красиво и уверенно…
Тут как бы прозвенел первый звоночек. Я почувствовала, как что-то горячее возникло у меня под сердцем в районе солнечного сплетения и мягко опустилось в низ живота.
Дело в том, что этими ночами, ворочаясь в тревожном полусне почти до самого утра, я видела такие зловещие и вместе с тем возбуждающие сцены с участием Наркома, что теперь никак не могла дождаться; когда же они станут явью. Мне было и страшно и любопытно одновременно. Я понимала, что не просто же так, чтобы покормить обедом, меня вот уже второй раз привозят к нему.
А между тем Нарком выпустил меня из объятий, жестом приказал покрутиться в одиночку, а сам опустился в кресло и с улыбкой, кивая головой в такт музыке, смотрел на меня. Больше на мои ноги…
Потом мы снова пировали и танцевали. У него было много пластинок. В нижней части комбайна для них было специальное отделение. Нарком разошелся, поставил знаменитый канкан из оперетты Оффенбаха «Прекрасная Елена», и мы начали с лихим гиканьем и уханьем танцевать, что есть силы задирая ноги.
Когда мы, обессиленные, упали на диван, он обнял меня за плечи и, лукаво улыбнувшись, спросил:
— А не пора ли позвонить нашей бабушке?
— Не пора! — мотнула я головой.
— А ты не боишься, что она тебя заругает, если ты придешь поздно?
— Нет, не боюсь! — засмеялась я, и он засмеялся со мной.
— Какая ты смелая! Ничего не боишься?
— Ничего не боюсь, — сказала я, приблизив свои широко открытые глаза к стеклышкам его пенсне. Мне вздумалось, что мой зажигательный взгляд не проходит сквозь стекла, и я с замирающим от страха и любопытства сердцем медленно подняла руку к его лицу, осторожно взялась двумя пальцами за металлические рычажки, надавив на них, медленно сняла пенсне с грозного Наркома и, приблизившись к нему еще ближе, повторила: — Ничего не боюсь!
Теперь я понимаю, что была тогда просто пьяна. И не столько от шампанского, которое я пила так, как научил меня он, добавляя в бокал немного, не больше чайной ложки, коньяку для аромата. Я опьянела от всего. От предвкушения неизбежной близости с этим загадочным, страшным и влекущим к себе человеком, от боязни этой близости. От волнения за судьбу отца и стремления облегчить ее. От страшной тайны, в которую я оказалась вовлечена. Ведь у меня просто дыхание перехватывало, когда я представляла, что было бы с Танькой и другими моими школьными подружками, узнай они, где я и в качестве кого бываю, пока они дома учат уроки. И от облегчения той нестерпимой боли, которую совершенно незаслуженно причинил мне Илья, ведь узнай и он о том, кому я приглянулась, его отношение ко мне резко изменилось бы. Но теперь это уже не было для меня столь важно.
А главное, я опьянела от чувства личной опасности, которой была насыщена каждая минута моего внешне беспечного пребывания в этом доме.
— А мы сейчас проверим, боишься ты или не боишься… — со значением сказал Нарком и, положив руку на мое колено, пристально посмотрел мне прямо в глаза незнакомым обнаженным взглядом.
— Не боюсь, — улыбнулась я ему прямо в лицо.
Он передвинул руку повыше по бедру, туда, где кончались чулки и была полоска голого тела между чулками и свежими шелковыми трусиками, которые я предусмотрительно переодела, когда забегала домой.
Меня словно током ударило, когда я почувствовала голой кожей его горячую ладонь, я вздрогнула, но улыбнулась еще шире и упрямо помотала головой:
— Нет, не боюсь!
Он продвинул руку еще дальше. Мои бедра были плотно сжаты, и его рука никак не могла попасть туда, куда настойчиво стремилась.
— И все-таки похоже, что боишься, — сказал он внезапно севшим голосом, и я почувствовала, как участилось его дыхание.
— Совсем не боюсь! — сказала я тоже почти шепотом и медленно раздвинула ноги.
Его рука легко скользнула под трусики, и он, неожиданно отпрянув от меня, с удивлением воскликнул:
— И действительно, не боишься!
Я там давно уже была вся мокрая, набухшая, огненно горячая и готовая одним движением бедер утолить свое ожидание.
Но я не стала этого делать…
И он остановился, словно почувствовал, что еще одно его неосторожное прикосновение приведет дело к концу. Почему «словно»? Именно почувствовал. Уж чего-чего, а опыта в этих делах ему было не занимать.
Он вынул руку из-под моего подола, отодвинулся от меня, забрал у меня пенсне, которое я держала в прямой руке на отлете, нацепил его на свой мясистый римский нос, подошел к столу, опустил руку под столешницу и нажал на невидимую кнопку.
Немедленно в столовой появилась тетя Шура.
— Быстро одеваться!
Тетя Шура кивнула мне, приказывая следовать за ней, подхватила круглую шляпную коробку, которая была больше ее и, остановившись перед дверями в спальню, сказала мне сердито:
— Что стоишь как пень? Открой.
Я отворила дверь, и мы оказались в спальне. Там тетя Шура поставила коробку на пол и, развязав перетягивавший ее шпагат, открыла.
Я ахнула от неожиданности. В коробке лежала самая настоящая белоснежная балетная пачка.
— И это мне надевать? — задала я дурацкий вопрос.
— Не мне же! — возмутилась тетя Шура. — Не стой тут колодой, раздевайся. Он ждать не любит. Это с тобой он чтой-то зачирикался… Наверное, приглянулась ему. Он любит таких толстопятых…
Тут я обиделась. Уж что-что, а пятки при полноватых ногах у меня были маленькие и аккуратные. Ничем не проявляя свою обиду, я быстро разделась.
Снимая промокшие трусики, я решила, что было бы неплохо забежать в ванную и подмыться, но тетя Шура запретила мне это.
— Он любит все натуральное, чтоб ни мылом, ни духами не пахло… — сказала она, застегивая на спине невидимые крючочки лифа.
— Зачем все это? — спросила я.
— Не вздумай у него спросить. Осерчает.
И вот тут мне стало по-настоящему страшно. Ясно, что это какой-то каприз, но почему все так серьезно? Ведь портной был вызван наверняка заранее, еще до того, как я пришла. Значит, эта прихоть возникла у Наркома задолго до того, как он меня увидел. Или он видел меня раньше? Когда и где? И что означают эти причуды? А может, он сошел с ума, но этого пока никто не знает? А если он действительно сумасшедший, то свободно может меня задушить или заколоть вилкой.
Когда все было готово, я, робея, повернулась к зеркалу. То, что я там увидела, потрясло меня. Там стояла пародия на балерину, но пародия не уродливая, а в какой-то степени, может быть, даже более привлекательная, чем оригинал…
Как я уже говорила выше, и талия у меня имелась, и ноги достаточной длины и хорошей формы, просто все это было большое… Особенно грудь и задница… Вот и представьте себе балерину, у которой руки примерно такой же толщины, какой обычно бывают в балете ноги, а шестого размера грудь выпирает из тесного лифа и колышется от каждого вздоха. Ноги в плотном облегающем трико бледно-розового цвета, вызывающая задница и над этим всем моя испуганная физиономия с косой и белым бантом.
Впрочем, косу тетя Шура, вставая для этого на цыпочки, уложила в клубок на затылке и заколола дюжиной шпилек. Осмотрев меня с ног до головы, она удовлетворенно пробормотала:
— Ну вот, чистая Идиллия…
— А теперь что? — дрожащим голосом вымолвила я.
— А теперь будем ждать, когда позовут. Такая наша планида… — Она сокрушенно вздохнула, и в ее взгляде я уловила жалость, что еще больше усилило мой страх.
Через какое-то время в столовой раздались звуки знаменитого адажио из балета Чайковского «Лебединое озеро», и тетя Шура молча подтолкнула меня к двери.
Но едва я, шурша накрахмаленной пачкой, протиснулась в столовую, как мой страх уступил место смертельному ужасу. Посреди столовой в серебристом костюме принца Зигфрида стоял Нарком. На голове его была чалма со страусовым пером и огромным рубином во лбу. Из широко распахнутого ворота виднелась густо волосатая грудь. Кривоватые и мускулистые ноги футболиста обтягивало белое трико с огромной гулей в паху. Я тогда еще не знала, что у балетных артистов там специальные ватные подкладки, чтобы не выпирали естественные органы, да и не видела я балерунов так близко, но то, что выпирало внизу у Наркома, просто ошеломило меня. Так вот почему тут пропадают молоденькие девочки, промелькнуло в моей голове, он их просто убивает своею штуковиной…
Между тем Нарком как ни в чем не бывало направился ко мне балетной походкой с элегантно поднятой рукой, словно приглашал меня на танец. Так оно и оказалось на самом деле. Я протянула ему свою ледяную и липкую от страха руку, и мы двинулись в каком-то непонятном танце… Лицо Наркома было спокойно и торжественно. Мы исполнили что-то наподобие полонеза, потом, повинуясь музыке, он начал кружить меня на месте, потребовав, чтобы я подняла одну ногу, что я и сделала как могла. И даже встала второй ногой на носочек.
Кружась таким образом, я поискала глазами тетю Шуру. Она бесследно исчезла.
Потом мы совершали еще какие-то немыслимые па. Нарком перегибал меня через руку и даже пытался оторвать от земли, чему я мягко, но настойчиво воспротивилась, потому что испугалась за него.
Наконец музыка кончилась. Он оставил меня посреди столовой, подошел к радиокомбайну и чем-то щелкнул там. Наступила тишина. Слышно было только наше прерывистое дыхание. Я задыхалась от страха, а он от страсти.
Он подошел ко мне, снова предложил руку и подвел к дивану. Ни жива ни мертва я опустилась на диван, а он встал передо мной на колени и принялся нежно гладить мои ноги, покрывая легкими, еле уловимыми поцелуями. Повинуясь его желанию, я широко развела ноги, и он поместился весь между ними и продолжал целовать внутренние поверхности бедер, приближаясь к самому заветному месту. Когда он наконец губами и руками дотронулся до этого места, по моему телу пробежала дрожь, и совсем не от страха. Закрыв глаза, я забыла про наши странные балетные костюмы и про болезненный идиотизм ситуации.
Он начал гладить меня кончиками пальцев по туго натянутому трико сверху вниз. Необыкновенное, восхитительное чувство охватило меня. То, что его рука легко скользила по шелковому трикотажу, вызвало непередаваемые ощущения, в которых чего-то не хватало, но чего-то было с избытком.
Там внизу меня стало так много, что казалось, трико не выдержит и лопнет по шву. В изысканно-легких, мучительно-неуловимых движениях его пальцев было столько его и моего желания, что я, не сообразуясь с тем, где я и с кем, застонала в полный голос. Этот стон больше походил на рык разъяренной, голодной пантеры. Я попыталась сжать бедра, но, почувствовав между коленями его голову, побоялась ее раздавить и со стоном сожаления расслабила мышцы.
Он словно нарочно не давал мне удовлетворения, с каждым движением усиливая мое желание, и не позволял мне самой его утолить. В бесконечной череде его неуловимых движений мне было просто не за что зацепиться, чтобы извлечь из глубины себя последнюю, освободительную судорогу наслаждения.
Вдруг что-то отвлекло меня от тщетной сосредоточенности. Я открыла глаза. Он стоял надо мной, приложив палец к губам.
— Молчи и не двигайся… — прошептал он, потянулся к столу и взял там вилку.
Ну вот и вилка, пронеслось в моей голове. Что же теперь делать? Кричать? Кто тут услышит? Кто поможет? Вот так они все и погибали…
В то время как мысли панически метались в голове, словно только что пойманная птица в клетке, тело мое оцепенело, и я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой.
Он бесконечно долго, будто в замедленном кино, приближался ко мне, а я чувствовала, как по мере его приближения что-то отзывается именно в том месте, куда он был устремлен, и чем ближе он с блестящей серебряной вилкой был ко мне, тем сильнее, ощутимее был этот отклик… Вот он снова опустился на колени передо мной и уверенно втиснулся между моими коленями. Я поняла, что теряю сознание от страха и оттого, что кончаю…
Да, это было именно так. Я кончила от страха. Конец был тихий и опустошительный. Глаза мои закрылись, и душа отлетела… Когда она вернулась, я почувствовала, как что-то потрескивает там, внизу… Потом, ощутив внезапную прохладу и его дыхание на волосках, я поняла, что он вилкой подпарывает шов балетного трико. «Вот дура-то», подумала я устало и открыла глаза. Нарком усердно трудился у меня между ног.
Наконец долгий треск разрываемой материи сказал мне, что труды его увенчались успехом, и я замерла в ожидании дальнейшего развития событий. Желание мое, только несколько минут назад утоленное страхом, шевельнулось снова, готовое разгореться в любую секунду Я закрыла глаза и решила — будь что будет.
Сперва долго ничего не было. Наверное, он рассматривает меня, решила я, и ноги мои непроизвольно дернулись и напряглись. Пусть рассматривает, если хочет, вяло подумала я и еще плотнее сжала закрытые веки.
Потом я почувствовала еле ощутимое прикосновение к волоскам. По телу пробежала нервная дрожь, и оно сплошь покрылось мурашками. Огромного усилия мне стоило оставаться недвижимой, не дернуться, не вскрикнуть. Потом я почувствовала его пальцы. Он стал осторожно и нежно как бы поправлять там то, что неправильно слежалось под плотным трико. Расправил, уложил как надо, раскрыл, и опять движение замерло. Только обнаженной, открытой плотью я стала сильнее чувствовать его дыхание. Потом он легонько дунул, и я непроизвольно застонала, потом я ощутила прикосновение, и не поняла чего. Оно было острым, мягким и твердым одновременно. Это нечто, как бы вибрируя и слегка погружаясь в меня, прошлось по мне снизу до самой чувствительной точки, которая отозвалась нестерпимым блаженством, заставило меня изогнуться и податься навстречу источнику этого блаженства, но тут же все оборвалось, и я ощутила мягкое скольжение снизу вверх. Было похоже на то, как кошечка вылизывает своих котят. Я наконец поняла, что это его язык, и сладкий ужас охватил меня…
До этого момента я даже не слышала о таком и не читала нигде в литературе. Только в одной новелле «Декамерона» я встречала упоминание о том, что какой-то кавалер любил поднять юбку своей подружке и запечатлеть на ее розе пламенный поцелуй, но я простодушно думала, что, собственно, поцелуем, куда-нибудь вверх, в лобок, все и ограничивалось…
Разумеется, Макарову такое и в голову не пришло бы. А Илья если и знал о таком, то, очевидно, не испытывая в этом никакой потребности. Во всяком случае, он не произвел ни одной попытки сделать что-либо подобное. В теперешней литературе и кинематографе известного свойства это уже общее место, но тогда можете представить, какое это произвело на меня впечатление?
Прямые лижущие движения сменились зигзагообразными, вибрирующими уже внутри меня. Возбуждение мое начало нарастать, и я с замиранием сердца ждала, когда подкатит освобождение от этой сладкой муки, и уже жалела, что оно наступит слишком скоро, как снова все прекратилось и я почувствовала освежающий ветерок. Вздох разочарования вырвался из моей груди. Долго ничего, кроме ветерка, не ощущалось. Потом случилось что-то непонятное. Я неожиданно почувствовала что-то резкое, быстрое, острое и даже не поняла, что это — боль или удовольствие. На второй или третий раз я поняла, что он меня легонько подергивает за волоски в самых нежных местечках. Потом его язык внезапно прикоснулся к тому месту, где начинается желание, и меня без всякой подготовки, без подкатывания и нарастания буквально насквозь пронзило нестерпимое блаженство, и я забилась в любовных судорогах. Не понимая, что делаю, я схватила его голову и вжала в себя, чтоб было еще, еще, еще сильнее… Словно со стороны я услышала безобразный, животный свой визг, но уже не могла остановиться.
Это продолжалось так долго, как никогда до того… Потом вдруг все кончилось так резко, что я почувствовала отвращение и к этому занятию, и к своему телу, и к тому, кто доставил мне это чрезмерное блаженство.
Теми же руками, что только что ненасытно прижимали его голову, я стала вяло его отталкивать и при этом мотала головой и бормотала сорванным голосом:
— Нет, нет, да нет же… Нет! Пожалуйста, нет…
Но не тут-то было! Как мне легко было притянуть к себе его голову, так оказалось трудно, невозможно ее от себя отстранить. Его язык продолжал с удвоенной силой жалить меня. Мне было резко, больно, я ничего не хотела и, инстинктивно сопротивляясь, сжимала ноги, пытаясь отодвинуться, уйти от его огненного языка. Но он, сжав мертвой хваткой мои бедра, не отпускал меня. Это продолжалось до тех пор, пока внезапно остро-болезненное ощущение не превратилось в острое блаженство и я не забилась в новых конвульсиях, оглашая гулкую столовую еще более пронзительным и безобразным, просто кошачьим визгом и воем. Потом это повторилось. Потом еще раз…
Потом я потеряла не сознание, а ощущение реальности. Я была точно в горячечном бреду. Я что-то кричала бессвязное, билась головой о диванную подушку с такой силой, что коса моя, бережно уложенная тетей Шурой в пучок, разлетелась и расплелась, а волосы прилипли к мокрому от пота, слюней и слез лицу…
Я даже не сразу поняла, что меня наконец оставили в покое… Открыла глаза и увидела, что Нарком судорожно сдирает с себя свои серебристые панталоны, прилипшие к потному телу.
Мне было настолько ни до чего, что я даже сразу не поняла, чем это грозит моему растерзанному телу.
Наконец ему удалось стянуть с себя трико с этим чудовищным гульфиком, и я с облегчением убедилась, что все у него хоть и очень внушительных размеров, но, к счастью, не такое огромное, каким казалось в этой ватной накладке.
Странное дело, еще секунду назад я чувствовала себя неспособной даже пальцем пошевелить, но, когда он наконец навалился на меня всей своей тяжестью (я так давно ждала этого), вошел в меня во всю длину и заполнил меня до отказа, до самого дна, совершенно другое желание переполнило меня, и я, обняв его ногами, наконец сжала что есть сил бедра…
Успокоился он не так скоро, как я ожидала, ведь это был его первый раз после такого долгого возбуждения. Но какой это был раз! Я успела несколько раз взлететь до вершины блаженства и столько же раз дойти до отчаяния, всерьез опасаясь, что сойду с ума от перевозбуждения. Полностью теряя контроль над собой, я кричала ужасные слова, которые поднимались откуда-то из глубины моего сознания, ведь в жизни я их не произносила, царапала ему спину в шелковом камзоле… Страшно представить, кому я царапала спину…
Со мной и раньше случались провалы во время оргазма, но это было одно только мгновение, а тут это мгновение растянулось на минуты, на часы.
Наркому это нравилось. Он словно специально, нащупав какое-нибудь слабое местечко, усиливал ласки, доводя меня до совершеннейшего экстаза.
Потом мы сделали перерыв. Я заправила вынутые им груди в лиф, закинула растрепанные волосы за спину и, как была, в помятой пачке и в распоротом по промежности трико, села с ним за стол.
Никогда в жизни я с таким удовольствием, с такой жаждой не пила шампанское.
Он с большим интересом посматривал на меня. Потом спросил ласковым голосом:
— А ты не боишься, Маруся, что кто-то узнает, как сам Нарком, — он назвал себя полностью, по имени, отчеству и фамилии, — тебе с усердием п… лизал?
— А кто же узнает? Нас же никто не видел, — сказала я машинально первое, что пришло в голову, завороженная его ласковым голосом, но тут же до меня дошел смертельный смысл его вопроса, и, поперхнувшись шампанским, закашлялась до слез.
Он похлопал меня по спине и, когда я успокоилась, дружески потрепал по мокрой от слез щеке.
— Не нервничай, ты правильно сказала. Любой другой ответ заставил бы меня задуматься…
Он заново наполнил наши бокалы, поднял свой и стал серьезным.
— Это будет поминальный тост, — сказал он, склонив голову, и скорбно замолчал. Потом, как бы через силу, поднял голову и продолжал трагическим голосом: — Сегодня мы хороним что-то очень важное в моей жизни…
Когда-то в юности, когда я был в говне, я случайно оказался в Большом театре… Там я увидел балет «Лебединое озеро». И мне смертельно захотелось туда, в эту чистую возвышенную жизнь в белых костюмах… Много времени прошло с тех пор. Все было в моей жизни. И страшные разочарования, и большие победы. Была удача, но и борьба была не на жизнь, а на смерть. Была любовь… Были друзья. Многих из них я потерял. Многих из тех, что потерял, забыл. Много обид забыл, а казалось, что не забуду никогда… А вот этот балет помню до мельчайших подробностей. А еще помню я свою тоску и безнадежную мечту оказаться там, в той жизни… И как бы я ее не отгонял от себя, надежда побывать в этом прекрасном, сказочном мире жила во мне все это время. Сегодня она сбылась. Сегодня она умерла. Ибо сбывшиеся надежды умирают. Вечная ей память…
11
Потом мы перебрались в спальню, где наконец сбросили наши театральные костюмы и занимались любовью до глубокой ночи и, может быть, продолжали бы еще, если б не телефонный звонок.
— Как чувствует… — раздраженно пробормотал он и потянулся к телефону, стоящему рядом на тумбочке.
Я с изумлением только что увидела, что лопатки его поросли густыми длинными волосами и подобны черным крыльям. Меня это так поразило, что я поцеловала его в каждое крыло. Он поежился, сдвинул лопатки и, повернувшись ко мне, приложил палец к губам.
— Слушаю, Иосиф Виссарионович! Работаю, Иосиф Виссарионович. Конечно, Иосиф Виссарионович. Обязательно, Иосиф Виссарионович.
Он повесил трубку и долгим взором посмотрел на меня.
— Вот что, Маруся, — наконец сказал он. — Я уезжаю. Ты можешь остаться здесь. Утром тетя Шура накормит тебя завтраком и отправит на машине домой. А могу и я подкинуть тебя до дома, для меня это небольшой крюк. Решай.
— Я лучше поеду домой, — сказала я, — а то бабушка будет беспокоиться.
— А то она уже не беспокоится… — усмехнулся Нарком. — Придумала, что соврешь ей?
— Я ей сказала, что буду у Таньки готовиться к экзаменам.
— А если она позвонила и проверила?
— Она никогда не звонит и не проверяет.
— Вот что значит хорошее воспитание… Большая удача родиться в приличной семье… — добавил он задумчиво и изучающе поглядел на меня. — За отца не переживай, его на днях переведут на работу в больницу Магаданского управления лагерей, с правом выхода за пределы. Он сможет видеться с матерью. Приказ уже ушел. Большего пока сделать нельзя…
В машине, которую вел Николай Николаевич, мы ехали молча. Когда она остановилась, Нарком пожал мне коленку и в ту же секунду забыл обо мне, углубившись в свои мысли. Он не взглянул на меня ни разу за все время, пока Николай Николаевич неторопливо вылезал из машины, подходил к моей дверце и выпускал меня на волю. Никогда больше у нас не было такого продолжительного и жаркого свидания.
12
Мы встречались не чаще раза или двух в месяц. И каждый раз за мной приезжая Николай Николаевич в своей неизменной шляпе, которую он не снимал ни зимой, ни летом.
Нарком был неистощим на любовные выдумки. Правда, карнавалов он больше не устраивал, зато его ласки каждый раз были с какой-то новой изюминкой. Мне кажется, что только в постели он позволял себе забыться и отключиться от государственных забот, которых, судя по всему, у него с каждым днем становилось больше.
Однажды он в своей зашторенной машине повез меня на Ленинские горы, где строилось новое высотное здание
Московского государственного университета. Он, попросив меня подождать в машине, сам в сопровождении многочисленной свиты отлучился на полчаса. Когда он вернулся, лицо его светилось гордостью.
— Ну, как тебе нравится? Какой теремок я строю?
— А разве это вы?.. — спросила я и осеклась, поняв, что сморозила чепуху.
Он понял, что я поняла, но все равно обиженно спросил:
— А чьи же, по-твоему, здесь рабочие работают? Кто отвечает за сроки? Вот тут все лежит! — Он похлопал себя по мощному загривку. — Ты даже не представляешь, сколько дел лежит на этой шее. А кто атомную бомбу сделал и остановил третью мировую войну, которую американский милитаризм обязательно развязал бы, не будь у нас бомбы? А кто страну восстанавливает из праха? А кто треть товаров народного потребления выпускает? А кем за все за это меня считают в народе? Думаешь, я не знаю? Я все знаю! Все! И это самое тяжелое в моей работе…
Он замолчал и больше за всю дорогу не проронил ни слова.
Письма от мамы начали приходить регулярно, будто прорвало какой-то затор. Пришли и старые письма, которые неизвестно где путешествовали. Мама была счастлива, потому что отца, как она писала, совершенно неожиданно и без всяких просьб и хлопот с его стороны перевели в межлагерный госпиталь, где он работает обыкновенным фельдшером, но все равно по сложным кардиологическим случаям приходят консультироваться с ним. Они уже три раза виделись, за что мамочка горячо благодарит Бога. Отец был худющий, но теперь она его откармливает.
Знала бы она, кого нужно благодарить.
С каждой встречей Нарком доверял мне больше и больше. Я не имею в виду какие-нибудь государственные тайны. Просто он становился свободнее и открытее с каждым разом.
Как-то он сказал, что секрет длительности наших с ним отношений в том, что я его не боялась с самого начала. Я уж не стала его переубеждать и рассказывать, как кончила со страху.
— У меня было много женщин, — разоткровенничался он, — и ни от одной из них я не слышал слова «нет». И я никогда не знал, нравлюсь я ей или нет, хочет она меня или только боится. Но главное — все безотказны, в кого ни ткни пальцем… От этого можно стать импотентом. А в тебе я не почувствовал страха. Только любопытство и желание… Ты согласилась, потому что хотела. А хотела ты страшно. Это подделать нельзя. — Он лукаво усмехнулся. — Никогда не забуду, с каким ты видом себе ляжки, намятые резинкой от чулок, растирала… Будто просто забежала на переменке в школьный туалет. Некоторые там блевали со страху. Плакали. Или вели себя как мыши в мышеловке, а тебе все было нипочем.
— А как же ты увидел? — рассердилась я. Он давно уже велел мне называть его на «ты».
— Пойдем покажу.
Он завел меня в ванную, вход в которую был из спальни, и нажал на две кафельные плитки, внешне ничем не отличающиеся от соседних. Плитки повернулись и встали ребром, образовав между собой квадратное отверстие. Нарком жестом пригласил меня подойти поближе. Я прильнула к этому отверстию и увидела другую ярко освещенную ванную, в которой тетя Шура, прямо напротив меня, драила тряпкой с какой-то голубоватой пастой унитаз. Так же хорошо, как на ладони, была видна утопленная в пол ванна.
— А оттуда сюда тоже можно смотреть? — спросила я, покраснев до кончиков волос.
— Нет. Оттуда нельзя, — улыбнулся довольный моим смущением Нарком.
Хорошо, что я тогда только по-маленькому ходила, подумала я с облегчением и больше не возвращалась к этому вопросу.
Я так думаю, что это был не последний секрет в его доме. О других я не стала спрашивать.
13
К осени, в самый разгар нашего романа, он вдруг сказал:
— А почему ты ни о чем меня не просишь?
— Ты же уже помог отцу, — сказала я.
— Ты об этом меня не просила… Это я сам предложил, когда приглашал тебя в первый раз. Я просто выполнил наш договор.
— Мне не о чем больше тебя просить…
— Такого не может быть. Неужели ты ничего от меня лично не хочешь?
— От тебя лично хочу, — сказала я.
— Интересно… — снисходительно улыбнулся он.
Я понимаю, ему было интересно услышать, какие глупости — шубки, кольца, брошки — может желать такая несмышленая девочка… Но я почувствовала ловушку в его предложении. Ведь мне пришлось бы объяснять бабуле, да и Таньке, с которой мы не расставались и получив аттестаты зрелости, откуда у меня такие дорогие вещи. И потому я попросила то, чего мне действительно не хватало в нем:
— Я понимаю, тебе это будет трудно выполнить, но постарайся для меня…
— Интересно, что мне будет трудно выполнить? — еще более снисходительно и самоуверенно улыбнулся он.
— Не побрейся хотя бы два, а лучше три дня…
— Что за странная просьба? — опешил он.
— Просто я так хочу… Тебя сколько раз в день бреют?
— Два, а когда и три раза…
— Вот я и хочу хоть разочек поцеловаться с тобой небритым.
— Хорошо… — неуверенно произнес он, — на свою работу я могу ходить и небритым, но он меня в любой момент может вызвать в Кремль или на дачу… Как мне тогда быть?
— Ты же сам спрашивал, чего я хочу…
— Ну хорошо, я попробую.
У него получилось только через две недели. Для этого он был вынужден постоянно и всюду таскать парикмахера за собой. Только раз за две недели его два дня подряд не вызвали к хозяину.
В тот вечер он был особенно горяч и как-то приподнят. Наверное, его вдохновило то, что он сам лично, а не через секретаря, помощника или шофера сделал что-то для женщины, подвергаясь при этом определенному риску.
Во время наших бурных любовных игр на его необъятной кровати я сжала его голову бедрами и, почувствовав, как упоительно колются его щеки, воскликнула, теряя самообладание:
— Мой сладкий ежик!
Наркому эти слова очень понравились.
Это была наша последняя интимная встреча.
В начале декабря ушел под лед мой отец Лев Григорьевич.
Впрочем, я об этом рассказывала. Не говорила я только о дурацких мыслях, преследовавших меня долгое время. Мне вдруг стало казаться, что это я повинна в его гибели. Ведь это по моей просьбе его перевели в фельдшеры.
Нарком мне сказал на это, что на руднике он еще раньше загнулся бы.
Потом вскоре пришло известие о смерти мамы… Так мы с бабушкой осиротели.
Не хочу лишний раз об этом писать. Упоминаю лишь с тем, чтобы восстановить хронологию событий.
14
Наступил 1953 безрадостный год.
На новогодний праздник я осталась с бабушкой вдвоем. После этих утрат она резко сдала и держалась из последних сил. Я так думаю, что, если б не я, не чувство ответственности за меня, она не захотела бы жить. Рук на себя, конечно, не наложила бы, но перестала бы сопротивляться своим бесчисленным хворям.
Я много работала в начале года, сидела за машинкой, буквально не разгибаясь.
В середине февраля бабушка умерла.
На другой день после похорон Нарком сам лично позвонил мне, чего никогда не бывало. От его участливых вопросов я ревела не останавливаясь. Он предложил мне денег, но деньги у меня были.
Я уже хорошо зарабатывала, потому что благодаря знакомствам, приобретенным в мастерской у Ильи, у меня сложился большой круг клиентуры… Я ведь шила не только женское платье, но и мужские брюки…
Потом этот человек, который никогда не слышал от женщины слова «нет», осторожно сказал:
— Я понимаю, тебе сейчас ни до чего… Но если захочешь, забегай хоть на часок… Позвони Николаю, и он за тобой заедет.
Пока я собиралась с духом, наступило 5 марта. Позвонила я ему уже после похорон товарища Сталина, чтобы выразить свои соболезнования. Нарком как-то странно принял их. Он очень торопился, но все-таки успел сказать:
— Ничего, ничего, подожди, мы с тобой еще побываем на «Лебедином озере». Нам это озеро домой, в спальню принесут. Только подожди… Очень много работы. Их много, а я один…
Только через три месяца, в начале июля, я поняла смысл его слов, когда развернула свою любимую «Вечерку». В тот день я совсем заработалась и даже не выходила на улицу, а то наверняка услышала бы об этом раньше, в какой-нибудь очереди…
Я до сих пор почти наизусть помню это сообщение:
«На днях состоялся Пленум ЦК КПСС. Заслушав и обсудив доклад товарища Маленкова Глеба Максимилиановича о преступных и антигосударственных действиях Л.П.Берия, направленных на подрыв Советского государства в интересах иностранного капитала и выразившихся в вероломных попытках поставить Министерство внутренних дел над правительством и Коммунистической партией Советского Союза, пленум принял решение — вывести Л. П. Берия из состава ЦК КПСС и исключить из рядов Коммунистической партии Советского Союза как врага Коммунистической партии и советского народа. Президиум Верховного Совета СССР постановил:
1. Снять Л. П.Берия с поста 1-го заместителя Председателя Совета министров СССР и министра внутренних дел.
2. Дело о преступных действиях Л. П. Берия передать на рассмотрение в Верховный Суд СССР».
Я сложила газету и заплакала. У меня не было сомнений в том, что его уже нет в живых.
15
Через несколько дней я забежала к Татьяне, которая поступила в строительный институт и теперь была уже первокурсницей.
Мы стояли с ней на кухне и следили, чтобы не убежал кофе в синем эмалированном кофейнике. Тут же крутился под ногами Гришка, соседский лопоухий мальчишка лет восьми.
Пытаясь привлечь к себе наше внимание, Гришка, жутко гримасничая, запел на всю кухню:
Берия, Берия,
Вышел из доверия,
А товарищ Маленков
Надавал ему пинков!
Как тигрица, я налетела на этого ни в чем не повинного малыша, треснула его ладонью Цо затылку и, схватив за тонкое оттопыренное ухо, выволокла из кухни в коридор, где он, обиженно ноя: «За что?», медленно растворился в коммунальном мраке.
— Ты чего это? — испуганно спросила Танька, когда я вернулась на кухню.
— А пусть не поет всякой похабщины, — буркнула я, понимая, что действительно переборщила.
— Какая же там похабщина? — искренне удивилась Татьяна.
Я, конечно, понимаю, что о нем пишут и говорят в основном правильно, но все же, но все же… Мне он не сделал ничего плохого. Наоборот. Он даже не забыл об учителе физики. Тот на последних занятиях был исключительно любезен и предупредителен со мной. Я получила подряд три пятерки, что позволило вывести мне твердое четвертное «отл.». На выпускных экзаменах он совершенно явно подыграл мне, и я закончила школу с золотой медалью, несмотря на четверки по физике в четвертях.
Несомненно, Нарком пытался подмять и партию и правительство, но у него не получилось. Получилось у них. Их было много, как он тогда сказал, а он один. Конечно, они испугались и разозлились по-настоящему… А я тогда не знала, что было бы лучше для страны… Та свистопляска, которая началась после смерти Сталина, или же твердое правление Наркома. Ведь правил же нами почти тридцать лет один грузин — и ничего…
А что касается его злодейств, о которых ходят легенды, то тут еще надо посмотреть, кто в этой команде был самый большой злодей… Помните ту притчу о Синей Бороде, которую он рассказал мне? Разве это он убил своих предшественников? Разве он мог надеяться, что дракон сыт и его собственной крови не потребует? Так как же он должен был вести себя на таком посту?
Конечно, всегда можно сказать: не поднимайся на такие посты, сиди дома, на кухне, и про себя, шепотом, будь честным и порядочным. Но у него был темперамент и неукротимое желание вылезти из говна и побывать на «Лебедином озере». Я имею в виду не балет и не то, что у нас с ним однажды было.
Я и написала-то о нем вопреки всем своим обещаниям хранить наши отношения в тайне только для того, чтобы сказать всем, что он был человеком. Да, человеком крайностей. Темпераментным и неистощимым на выдумки мужчиной. Он жил, постоянно рискуя, и погиб, рискнув жизнью в попытке завладеть одной шестой частью земной суши, которая и без того ему почти принадлежала…
Такая ставка в игре невольно вызывает уважение, не правда ли?
Первого сентября того же 1953 года я одна пошла на Ленинские горы на праздник открытия нового высотного здания МГУ.
Да, он построен на костях невинно осужденных. Но ведь судил их не Нарком. Он только отвечал за сроки сдачи этого Дворца Науки. И Дворец был сдан в срок, даже после его смерти. Он умел добиваться своего.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПЯТЫЙ (1953 г.)
1
Он был маленький, но крепкий, как сучок в бревне, и быстрый. Его огненно-рыжие волосы, стриженные под полубокс, торчали ежиком. Друзья звали его Сидор. На самом деле имя его было Александр и смешная фамилия — Дровяк.
Мы познакомились в ресторане «Пекин», который только что открылся в Парке культуры и отдыха им. Горького, на набережной около Крымского моста.
В ресторан мы с Татьяной пошли вовсе не с целью с кем- то познакомиться. Дело в том, что я Таньке сшила нарядненький, но строгий светло-серый костюмчик для ее занятий в институте. Костюмчик получился миленький, и Татьяна была просто счастлива. А то она ходила в институт в материнской красной шерстяной кофте со стеклянными пуговицами и жутко этого стеснялась.
Денег я с нее, разумеется, не взяла, но она только что получила стипендию и в знак благодарности решила сводить меня и ресторан, кутнуть там по-царски. Мы отправились в «Пекин» попробовать, чем там питается наш любимый Мао Цзедун.
Мы всем классом встречали его в декабре 1949 года на Ярославском вокзале. Танька как самая красивая девочка в классе и не самая толстая, как некоторые, лично вручала ему букет красных гвоздик, за что получила от Мао Цзедуна значок с его изображением, а от кого-то из-за его спины — шоколадный набор с бегущим оленем на крышке коробки.
Мы долго надеялись, что значок этот золотой, и если наступят черные дни, то сможем загнать его за страшные деньги.
В ресторане Татьяна заказала по одной порции каждого кушанья. У нее до сих пор хранится наш счет. На пожелтевшей бумажке еще можно разобрать каракули официанта — молодого смазливого армянина.
В счете перечислены бамбуковые ростки, трепанги, икра каракатицы, бульон из ласточкиных гнезд, морской гребешок и утка по-пекински.
Из всего этого мы смогли съесть только по кусочку морского гребешка, который напоминая маринованные белые грибы с укропом, и утку по-пекински.
По поводу остальной еды Татьяна категорично заявила, что это страшная гадость и что она была о Мао Цзедуне гораздо лучшего мнения. И что если и значок окажется не золотым, то она окончательно разочаруется в Великом Кормчем.
2
Когда вошел он, все ресторанное пространство с разношерстной публикой, с озабоченными собственной выгодой официантами, с золотыми драконами и иероглифами, с китайскими фонариками и сизым папиросным дымом свернулось и, как в гигантскую воронку, устремилось в него.
Он был в темно-синем, почти черном капитанском кителе и в восхитительно кремовой рубашке… Я не могу спокойно видеть эти морские рубашки, напоминающие мне мои любимые чайные розы. Ох, знали бы капитаны, за что я их люблю!
Рядом с ним были еще двое капитанов, но поначалу я их просто не увидела.
Он остановился в расписных красных дверях и посмотрел в зал с таким видом, словно хотел сказать: «Ну что, заждались? Вот он я! А вы не верили, что я приду!» Головы всех сидящих, словно по команде, повернулись в его сторону.
Скупым движением руки он подозвал метрдотеля, грузного, представительного мужчину, который уже сам, без зова, трусил к нему, лавируя между столиками со слоновьей грацией.
Отдав необходимые распоряжения, рыжий капитан, прищурившись, оглядел зал с видом охотника, высматривающего дичь в собственных угодьях. Дойдя взглядом до нас с Татьяной, он удовлетворенно кивнул и, как мне показалось, еле заметно улыбнулся в мой адрес.
Было уже часов девять, и все столики в ресторане были заняты, но для рыжего капитана тут же вынесли свободный и поставили около низенькой эстрады, где оркестранты, не переставая играть, косились на нового посетителя и обменивались многозначительными взглядами.
Однако капитану не понравилось местоположение столика, и он заставил перенести его таким образом, что он оказался рядом с нашим.
Только после этого капитан, сверкнув новым орденом Ленина на кителе, прошел через весь зал, но не к приготовленному для него столику, а к оркестрантам, и что-то зашептал в ухо совершенно лысому коротышке скрипачу, на что тот несколько раз согласно, с пониманием, кивнул. Капитан что-то незаметно сунул ему в карман и сел за свой столик, который наш официант Сережа уже уставлял целой батареей бутылок.
И только тут я заметила, что рядом с рыжим еще два капитана. Один атлетического сложения черноволосый красавец со сладкими греческими глазами и другой, симпатичный, неторопливый, больше похожий на инженера или ученого, как впоследствии и оказалось.
На кителях у обоих также сверкали новенькие ордена. Кажется, они назывались орденами Трудового Красного Знамени. Там сверху был такой флажок, а в середине — золотые серп и молот. Впрочем, может быть, я что-то путаю.
Надо сказать, что за последний год это был первый мужчина, на которого я посмотрела с интересом. Когда завязались наши жутковатые отношения с Наркомом, то, естественно, он занимал все мое воображение без остатка, но, если б даже мне кто-нибудь и понравился, я все равно боялась бы лишний раз взглянуть на него. На другой же день это стало бы известно Наркому.
Много позже я поняла, что это просто особенность моей натуры: я никогда не искала других приключений, пока находилась в близких отношениях с кем-то. Даже если эти отношения уже пошли на убыль. Было, правда, исключение, но до сих пор у меня от него неприятный осадок…
Музыканты заиграли «Одесский порт», очень модную в ту пору песенку. Рыжий благосклонно кивнул скрипачу, и тот неожиданным баском запел. В том месте, где должны быть слова «Мне бить китов у кромки льдов, рыбьим жиром детей обеспечивать…» он пропел «Им бить китов» и сделал подбородком в сторону капитанов.
Когда песня кончилась, капитаны поднялись и направились к нашему столику. Разумеется, впереди был рыжий.
— Китобои! Орденоносцы! — воскликнул он на весь зал. — Если вы сейчас же не познакомите меня с самой красивой девушкой города Москвы и ее прекрасной подругой, я буду считать свой праздник омраченным, а вас перестану называть друзьями.
Говоря это, он смотрел на меня в упор.
— Девушки, — выступил вперед похожий на ученого, — разрешите вам представить самого знаменитого китобоя планеты, капитана-гарпунера Сидора… Тьфу ты, черт! То есть Александра Дровяка!
— Бедные киты… — шепнула Татьяна.
— Очень приятно, — церемонно сказала я, протягивая руку, которую рыжий с жадностью схватил и начал больно тискать в своей жесткой ладони, — Маша. А это моя подруга Татьяна.
— Девчонки, — сказал рыжий, не отпуская моей руки, — мы сейчас из Кремля. Там нас награждали! Давайте отпразднуем это вместе! Не каждый день ордена дают! Правильно, Люсик? — спросил он у интеллигентного, которого, как это позже выяснилось, на самом деле звали Леня.
И, не особенно дожидаясь ответа, он скомандовал друзьям:
— Вира помалу!
Мы не успели понять, в чем дело, как столик наш со всем, что было на нем, поднялся в воздух, торжественно перелетел к их столику и слился с ним, укрывшись одной скатертью. Мы испугались, что нас тоже будут переносить на руках, и перешли за их столик сами. При этом кто-то из приятелей тихонько присвистнул. Я была в маминых танкетках на высоченных каблуках, и Александр едва доставал мне макушкой до носа. Его это нисколько не смутило, он галантно отвел меня к объединенному столу и ловко подставил перенесенный кем-то из ребят стул.
Метрдотель возник было в дверях, но Александр послал ему особенный взгляд, и тот успокоился.
Тотчас за столом появилось еще шампанское, гора шоколада, огромный букет багрово-красных роз, и началось…
Выяснилось, что у Сидора — так все почему-то звали Александра — тройной праздник. Во-первых, он добыл своего 350-го кита, что является абсолютным рекордом среди гарпунеров страны, а может быть, и всего мира, во-вторых, его за это наградили, а в-третьих, у него сегодня день рождения. За это и выпили.
3
Оркестр тем временем играл песню об Одессе, которую голосом Утесова пел скрипач. Между прочим, очень похоже. Кстати, оркестр весь вечер пел одесские, в том числе и блатные, песни. Или это были песни о моряках и рыбаках. Когда кто-то из публики пытался прорваться к эстраде, чтобы изменить репертуар, наши китобои вставали грудью, и сладкие, как черный виноград, глаза третьего моряка Егора, которого друзья почему-то называли просто Чоем или Великим Чоем, становились горькими, как маслины. Искатели музыкального разнообразия благоразумно отступали.
Татьяне понравился именно он. Это она мне сказала в туалете, когда мы выскочили туда «почистить перышки».
Сидор — так я вслед за всеми стала называть Александра — все время приглашал меня танцевать, даже если музыка была не слишком подходящая для этого. Танцуя, он прижимал меня к себе стальными руками, и я все время коленом — из-за нашей разницы в росте — чувствовала, как он возбужден. Принимая во внимание, что у меня не было мужчины больше четырех месяцев, можно догадаться, как это действовало на меня.
Татьяна танцевала с Егором. Разница в росте у них была противоположной, но, судя по их лицам — ее разгоряченному, а его смущенному, — между ними тоже происходило что-то похожее.
Во время одного танца, чтобы хоть как-то отвлечься от искушения, я спросила у Сидора, почему друзья его так зовут, и он рассказал мне забавную историю…
Они учились в мореходке и, как и положено нормальным студентам, отчаянно бражничали. И вот в одно прекрасное утро, когда вся веселая компания в жутком похмелье лежала вповалку у кого-то на даче и оглашала окрестности десятой станции Большого Фонтана стонами и жалобами на судьбу, явился он и приволок целый ящик яблочного сидра. С тех пор к нему и прилипла эта кличка. Буква «о» в ней появилась для благозвучия.
4
Естественно, такое поведение моряков привлекло к ним внимание всего зала. А если к ним, то и к нам. Мы пользовались невероятным успехом. В дальнем углу, в полумраке сидела холостяцкая компания грузин, которые были чуть постарше наших морячков, — они не сводили с нас глаз. В конце концов они прислали за наш столик с Сережей две бутылки шампанского.
Егор страшно вспылил и собрался пойти бить морду, но Сидор остановил его, сказав, что «сделает» их другим способом. Он пошептался о чем-то с Сережей, тот скрылся за своей занавеской и вскоре продефилировал оттуда через весь зал с подносом, на котором было не менее полудюжины шампанского.
А потом мы с удовлетворением наблюдали, как раздувались щеки, сверкали глаза и дергались усы за грузинским столиком.
Сидору этого показалось мало, он подошел к скрипачу и что-то ему сказал. Скрипач кивнул и объявил, перекрикивая гул возбужденных голосов:
— А сейчас мы для наших гостей из солнечной Грузии исполняем грузинскую народную песню «Сулико». В этой песне поется о несчастной любви…
Кто-то из грузин вскочил и схватился за то место, где у него должен был висеть кинжал, но его товарищи в шесть рук осадили его.
Вскоре грузинская опасность чудесным образом рассосалась. Взглянув украдкой в их сторону, я увидела, что их столик пуст.
Потом мы поехали кататься по Москве на такси, сразу на двух машинах. Сперва, конечно, на смотровую площадку около высотного здания МГУ. Там я вдруг почувствовала себя страшно одинокой. Одиночество мое было вдвойне горьким оттого, что я не могла никому ничего рассказать.
Я вдруг поняла, что Нарком был для меня больше чем страх, больше чем удивление, больше чем страсть, что никто его не знал лучше меня. Его вообще не знали и потому ненавидели. И всю эту людскую ненависть к нему я вдруг всем своим существом почувствовала на себе, словно она, отражаясь от него, попадала в меня. Тяжелая, безысходная тоска навалилась на меня, и я заревела…
Танька — дура — решила, что это пьяная истерика, и стала уговаривать меня, как ребенка из школы для умственно отсталых детей… Я жутко разозлилась и набросилась на нее с кулаками, чего не было уже с пятого класса, когда она вздумала что-то очень остроумное сказать в адрес Лехи.
Насчет кулаков — это, конечно, сказано для красного словца. Я лупцевала ее ладонями по спине и по ядреной упругой заднице, а она, стерва, с кокетливым смехом уворачивалась и звала на помощь Егора. За этой возней я как-то забыла о своем одиночестве, и слезы высохли в моих глазах.
Потом я успокоилась, и мы поехали на Красную площадь. Сидор сказал, что он своими глазами должен прочитать эту надпись на мавзолее.
Мы оставили наши машины около Исторического музея и пошли по влажной после ночной уборки брусчатке.
Откуда ни возьмись тут же появились два милиционера и направились к нам. Сидор шепнул мне, чтобы я не переживала, и пошел к ним навстречу.
Я невольно залюбовалась им. Столько в его неторопливой вразвалочку походке было уверенности и какой-то неколебимости, что душу мою охватил покой. Вот, подумала я, пока такой человек рядом, действительно не о чем переживать. А как он нес свою рыжую голову. Я такой посадки головы не видела ни у самых больших начальников тогда, ни у самых богатых людей в наши новейшие времена. Вот кто был подлинным хозяином жизни!
Сидор сказал милиционерам несколько слов, что-то показал им, и они, козырнув ему, а потом нам всем, отошли.
Мы подошли к мавзолею и долго молчали, вглядываясь в непривычные два слова вместо одного:
ЛЕНИН
СТАЛИН
Я вспомнила, как восторженно замирало мое сердце, когда я смотрела на товарища Сталина в тот единственный в жизни раз, из своей колонны.
Потом я вспомнила, как останавливалось лицо Наркома, когда он говорил о нем. Я не понимала этого выражения лица. Мне тогда казалось, что все люди так же, как я, должны любить эти красивые густые волосы, ласковый прищур мудрых глаз, мужественные, волнующие усы…
Оказалось, что они поселились в гостинице «Москва», куда мы и зашли сразу после Красной площади, чтобы оставить там тоскующего от полной бесперспективности Люсика.
Егор сделал было робкую попытку пригласить нас в гости, но, встретив непреклонный взгляд Татьяны, быстро перевел все на шутку. Сидор тоже посмотрел на него неодобрительно. Я это отметила про себя.
Как мы им ни объясняли, что до нас ходьбы пятнадцать минут, такси они все же не отпустили.
Так, в сопровождении двух машин, пешком мы дошли по улице Горького до Тверского бульвара. В конце пути таксисты уже вели свои машины рядом и вполголоса переговаривались от скуки.
Сперва мы провожали Татьяну.
Одна из машин осталась около ее подъезда, когда Чой зашел вместе с нею в лифт.
— Пойдем, — шепнул Сидор, — это надолго…
— Вы так думаете?! — оскорбилась за Татьяну я.
— Не подумайте ничего плохого, — поспешил оправдаться Сидор. — Егор сейчас начнет ей читать Эдуарда Багрицкого, а он его наизусть помнит почти всего. Он так всегда делает, когда девушка ему нравится.
— А что делаете вы, когда вам нравится девушка? — провокационно спросила я.
— Я делаю ей подарок, — серьезно ответил Сидор.
— И что же вы ей дарите? — с некоторым разочарованием спросила я.
— Одессу… Хотите?
5
Через два дня я в одном купе с китобоями ехала в Одессу.
Согласилась ехать я сразу, как только он меня пригласил. Я не умела ломаться, и к тому же в Москве меня ничего не держало. Все заказы, которые у меня были, я выполнила накануне, так что была еще и при деньгах.
И потом, после всего, что случилось со мной в этом году, сменить обстановку и отвлечься от своих бед мне было совершенно необходимо.
В порядочности Сидора я была совершенно уверена. В Москве он вел себя как настоящий джентльмен. Правда, в тот же вечер, когда провожал домой, попытался меня поцеловать, но я мягко его отстранила, и он больше не предпринимал ни одной попытки, даже когда мы оставались вдвоем у меня дома и танцевали под пластинку Глена Миллера, которую он купил за бешеные деньги у спекулянта около музыкального отдела в ГУМе.
Танцуя, он страшно возбуждался и у него начинали гореть уши. Он отстранялся от меня на расстояние вытянутой руки, и его глаза суживались, словно он смотрел в прорезь прицела своей гарпунной пушки.
Для меня было загадкой, как он сдерживается при таком бешеном темпераменте? Да и зачем? Неужели он теперь боится получить отказ? Да, я отстранила его в первый момент, но сделала это непроизвольно…
Он мне уже нравился, хотя еще ничего во мне не отзывалось на его пламенный призыв в глазах, который он и сам пытался скрыть, постоянно отводя взгляд. Но, честно говоря, слегка задевало, что он не предпринимает новой попытки поцеловать меня.
Нужно не забывать, что у меня не было мужчины уже несколько месяцев. Я, правда, о них и не думала, но это головой, а тело не забывало ни на минуту. Особенно по ночам…
Нет, не может он бояться, убеждала я сама себя, меньше всего он похож на труса. Больше того, не считая, конечно, Наркома, я не встречала мужчины, более уверенного в себе и решительного.
Татьяна поехать с нами не смогла, у нее был в самом разгаре семестр, и потому Великий Чой всю дорогу грустил и пил пиво на верхней полке. Мы же с Сидором и Люсиком внизу пили шампанское и пели морские песни.
Когда все песни кончились, я спросила у мальчиков, почему Егора зовут Великим Чоем?
— Из-за нашей лени, амикошонства, панибратства, полного отсутствия воспитания и дурацкой привычки всем давать уменьшительно-ласкательные клички, — охотно пояснил Люсик. — Полное его прозвище — Хорлогийн Чойбалсан.
Егор, свесившись, поставил пустую бутылку пива на стол и той же рукой, быстро сложив пальцы бубликом, закатил Люсику звонкий щелбан.
— Правды никто не любит, — с укором сказал Люсик, потирая еще гудящий лоб. — Дело в том, Машенька, что каждый уважающий себя одессит имеет кличку, которой гордится и которую бережет как зеницу ока или как орден…
Люсик с любовью скосил глаза на свой темно-синий китель и потер новенький орден рукавом.
— Заслуживаются клички по-разному, — продолжал он. — Некоторым они достаются по происхождению, как, скажем, мне. Другие добывают их в славных пирушках, как небезызвестный вам Сидор, а третьи — в кровавых битвах, которыми так полна наша нелегкая одесская жизнь. Так произошло и с нашим Великим Чоем…
Сверху свесился увесистый смуглый кулак с маленьким якорьком в основании большого и указательного пальца.
Люсик брезгливо взял кулак двумя пальцами, повертел его, презрительно сморщив нос, и неожиданно легко забросил наверх, словно это был теннисный мячик.
— Не надо меня таким образом поощрять, я же и без того рассказываю… Значит, в прошлом году пришли мы в Одессу под самый Новый год.
Пока не огляделись, чтобы далеко не ходить, «зашли в портовый ресторан», как поется в известной песне о вашей тезке Мурке. Надеюсь, на этом ваше сходство с ней и кончается. На самом деле это был Дом культуры портовиков, который, наверное, еще не до конца отремонтировали после нашего последнего посещения. В этом Дворце портовой культуры в буфете работала некая Фаина, на которую у нашего Егора, еще не получившего своей клички, были особые виды. Но она о них, очевидно, не догадывалась, и потому, пока Егор доблестно «бил китов у кромки льдов», не то чтобы «вышла замуж за Ваську диспетчера», но уже почти пообещала. Во всяком случае, очень серьезно обсуждала этот вопрос с бригадиром докеров Василием Радченко. Он известен в СССР как автор комплексного метода Радченко. После третьей бутылки знаменитого одесского шампанского вперемешку с не менее известным коньяком «Одесса», Егор убеждается, что Фаина и Василий очень далеко продвинулись в своих дебатах и буквально готовятся к свадьбе. Тут у Егора испортилось настроение, и он почему-то стал плохо относиться ко всем портовым работникам. До этого же он их любил как родных братьев.
— Может, хватит? — лениво прозвучало с верхней полки.
— Кличка без истории ее возникновения недействительна, как орден без наградного удостоверения, — назидательно поднял палец Люсик и продолжал: — Выпив еще бутылочку шампанского и закушав это дело стаканом коньяка, Егор внезапно подошел к огромной компании крепких ребятишек, которые, сдвинув три столика, уже справляли Новый год несмотря на то, что было еще только двадцать восьмое декабря, и культурно поинтересовался, не в порту ли они работают. Ребята, очевидно, увидели что-то забавное в его облике и дружелюбно заулыбались. А самый амбалистый из них, водоизмещением раза в два больше, чем у Егора, тоже вежливо ответил, что они работают именно в порту и он этим фактом бесконечно гордится. Он еще добавил, что очень уважает китобоев, и пригласил Егора присесть с ними и выпить рюмку водки за славных докеров, которые, как известно, морякам братья… А кто-то из сидящих за столом тихонько добавил «молочные». Но как бы он тихо ни говорил, Егор это сакраментальное словечко услышал и обвел компанию заинтересованным взглядом, чтобы определить, кто это сказал. Но все сидели и анонимно хихикали в ответ на его любознательность. Тогда он, собрав всю свою недюжинную вежливость, спросил: «А кто главный в этой компании?» Тот мордоворот, с которым он разговорился, ответил ему с ласковой улыбкой: «Я главный, сынок. И какие же из этого следуют выводы?» Тогда Егор — весь воплощенная вежливость — говорит: «Мне очень неловко отрывать вас от вашего праздника, но не могли бы вы на минуточку подняться со стула?» — «А почему я должен подняться со стула, — удивился амбал, — когда лучше тебе присесть рядышком и открыть мне душу». — «Видите ли, — пояснил Егор, — моя мамочка еще в далеком детстве запретила мне бить лежащих, а также нагло сидящих…» На этих словах амбал начал надменно подниматься…
Как опытный рассказчик, Люсик на самом интересном месте прервался, неторопливо разлил шампанское по железнодорожным стаканам в массивных подстаканниках, потом откупорил бутылку «Жигулевского» и не глядя передал ее наверх. Бутылка немедленно исчезла.
— Я считаю, пришло время выпить за Великого и Легендарного Чоя. Да не померкнут его слава и величие.
Сидор одобрительно кивнул. Все чокнулись и выпили. Люсик поставил на стол свой стакан и спросил:
— Так на чем я остановился?
— На том, что амбал начал надменно подниматься, — с готовностью напомнила я.
— Да, он начал подниматься, — продолжил Люсик, — совершенно при этом не догадываясь, что наш мальчуган славится своим резким боем, как хорошее охотничье ружье. Другими словами, он поднимался навстречу неизвестному. И стоило ему принять вертикальное положение, как наш Егорушка, у которого, казалось бы, последние силы ушли на вежливость, сделал неуловимое движение своей уникальной левой, и амбал медленно сел на стул уже совершенно в другом настроении и с закрытыми глазами.
Тут поднялась легкая паника, потому что кому-то показалось, что Егорушка его пырнул ножичком. Естественно, потребовалось наше немедленное вмешательство, чтобы вывести их из этого обидного заблуждения. При этом напоминаю, что их было человек двенадцать, не считая женщин, а нас по-прежнему только трое, потому что остальная, более умная, часть коллектива китобойной флотилии «Слава» наслаждалась заслуженным покоем и комфортом гораздо выше, на Приморском бульваре в Клубе моряков.
Но для полного прояснения ситуации я должен сообщить, что Сидор, если продолжать пользоваться той же ружейной терминологией, при наличии такой же резкости боя известен в определенных кругах еще и кучностью, дальнобойностью, а также немыслимой скорострельностью. И пока главный амбал с блаженной улыбкой отдыхал на стуле, несколько его товарищей устроились на холодном и не очень чистом полу. И если вы, Машенька, пообещаете мне ничего не рассказывать Танечке, то я вам признаюсь, что среди тел поверженного противника обрел блаженный покой и наш герой…
Вскоре раздались соловьиные трели нашей доблестной портовой милиции, которая спешила только затем, чтобы защитить своих земляков от этих негодяев-китобоев… Мы поспешили избежать этой вопиющей несправедливости и унесли на руках бездыханного смельчака.
Когда мы опустили его на уютную лавочку в парке Шевченко, он открыл глаза и тихо заплакал. Мы бросились его утешать, говорили, что он пал в совершенно неравной борьбе, что он должен собой гордиться, а не плакать, но он заливался еще безутешнее и убеждал нас, что плевал он на этих портовых…
Тогда мы зашли с другого бока и стали намекать, что на Фаине свет клином не сошелся, что завтра же он встретит кого-нибудь еще лучше, и, между прочим, совершенно угадали, если вспомнить о Танечке… Но он зарыдал еще сильнее, и мы только расслышали: «При чем здесь Фаина?» Эти слова нас сильно заинтриговали, и мы хором спросили у него: «Тогда чего же ты плачешь, если Фаина здесь ни при чем?!» И что, вы думаете, ответил этот великий гуманист? Он сказал нам сквозь неудержимые слезы: «Сегодня умер Хор-хорлогийн Чойбаясан!» И просто зашелся в плаче.
Мы потом проверяли по газетам. Все так и было. И вот теперь я вас спрашиваю: вы встречали еще человека, который с таким блеском заслужил бы свое прозвище? Нам оставалось только удивляться тому, что он до сих пор не имел клички, и учить это трудное имя: Хорлогийн.
6
В Одессу я влюбилась сразу, едва мы сошли с поезда. Нас на красном «москвиче» встречал приятель Сидора, которого звали Беби. В эту маленькую горбатую машинку мы погрузили наши пожитки, а сами пошли пешком по Пушкинской улице, самой красивой улице в мире, как дружно хором утверждали китобои.
Улица действительно была хороша. Она очень похожа на московские переулки в районе Кропоткинской, но, очевидно, морской воздух покрыл благородной патиной фасады домов и приглушил все краски. К тому же вся улица заросла гигантскими платанами, листва которых только-только начала желтеть и застилать золотыми резными листьями черные после недавнего дождя тротуары. Это было необыкновенно красиво.
Поселили меня в гостинице «Красной». В том, что она была лучшей в городе, сомневаться не приходилось. Свободных номеров там, разумеется, не было. Но Сидор о чем-то пошептался в сторонке с администраторшей, и та, расплывшись в улыбке, пододвинула мне регистрационный листок. Поистине для этого человека не существовало преград.
В графе «цель приезда» Сидор твердой рукой вывел: «Командировка».
Я пыталась взять обыкновенный одноместный номер, но Сидор настоял на люксе и заплатил за неделю вперед.
Вечером мы с ним ужинали в ресторане гостиницы, а потом пошли гулять по ночной Одессе. Мы дошли до оперного театра, и я убедилась сама, что это один из красивейших театров Европы, потом профланировали из конца в конец по Дерибасовской, которая, несмотря на довольно позднее время, была не менее оживленна, чем улица Горького в Москве.
С Сидором то и дело уважительно здоровались. Мне было приятно, что я иду с таким популярным человеком.
Потом мимо памятника потемкинцам мы вышли на Приморский бульвар.
Где-то внизу мерно дышало море. Вспыхивал знаменитый одесский маяк. Что-то поскрипывало и постукивало в порту, катилась к черному горизонту горстка огней. Это уходило к заморским берегам какое-то судно. Я вдруг почувствовала себя грустно-счастливой и благодарно прижалась к Сидору. Он метнул на меня молниеносный точный взгляд и продолжал что-то рассказывать.
— А нас пустят в гостиницу? — вдруг спросила я.
— Нас? — быстро переспросил Сидор.
— Меня, конечно, — поправилась я. — Но может быть, ты меня захочешь проводить…
— Может быть, захочу… — усмехнулся он.
Мы попрощались около гостиницы. Как потом выяснилось, он мог бы беспрепятственно пройти в мой номер. Для него действительно не существовало преград, когда он чего- либо хотел. Но в тот первый мой одесский вечер он даже не зашел в гостиницу, не говоря уже о том, чтобы подняться в мой номер.
7
На другой день рано утром Сидор и Люсик заехали за мной на знакомом красном «москвиче», который, как оказалось, принадлежал Сидору и был дан Беби во временное пользование, пока хозяин был в рейсе.
— Куда мы едем? — спросила я.
— Мы едем делать Привоз, — ответил Люсик, но я ничего из его слов не поняла. Я еще не знала, что Привозом называется знаменитый одесский базар.
Когда мы вошли в него со стороны рыбных рядов, то стало ясно, что и знакомство в Москве, и веселая дорога, и прогулка по ночной Одессе были только подготовкой к встрече с Привозом, увертюрой перед основным действием…
Поражали горы рыбного серебра и золота на каменных прилавках. Продавщицы стояли могучие, как пирамиды, и надменные, как сфинксы. Их белые передники и халаты были пропитаны селедочным рассолом, облупленный ярко- красный маникюр стал жемчужным от прилипшей чешуи, но пышные и замысловатые прически у всех были такие, словно они полчаса назад вышли от самого дорогого парикмахера. И все они, без исключения, были блондинками. Настоящие дочери мадам Стороженко из катаевского «Белеет парус одинокий». Только онемевшие от благополучия. Они с молчаливым презрением взирали на снующих меж рядами бойких бабешек, чьи ногти никогда не знали маникюра, а синеватые тонкие ноги вполне довольствовались замызганными галошами. Вот те кричали, заглушая друг друга: «Бычки, бычки! Храмадные свежие бычки!» Причем ударение они делали на букве «ы» и потрясали тяжелыми связками черно-зеленых блестящих бычков, похожих на жирные запятые.
Другие кричали что-то созвучное, только вместо «ы» ударяли на «а»: «Рачки, рачки! Храмадные рачки!» Я их не сразу научилась различать. У этих в руках были ведра с розовыми и серо-зелеными существами, почему-то напомнившими мне кузнечиков. И тех и других они мерили стаканами, как семечки, и насыпали в газетные кульки. Розовых покупатели тут же начинали лузгать, сплевывая на асфальт розовую шелуху.
— Что это? — сгорая от любопытства, спросила я.
— Да ты шо?! — со страшным одесским акцентом изумился моей необразованности Люсик. — То ж вареные рачки! Черноморские креветки! Хочешь?
— Не знаю… — пожала плечами я. — Лучше в другой раз…
Я прежде никогда такого не видела, а повторять печальный опыт «Пекина» мне не хотелось. В Москве креветки начали продавать значительно позже.
Худые задумчивые мужики с недельной пегой щетиной на впалых коричневых щеках уныло встряхивали связками маленьких белобрюхих камбалок и монотонно повторяли, не стараясь никого перекричать: «Глось, глось, глось…» Понять их было совершенно невозможно.
— Это камбала у вас так называется? — спросила я.
— Это — глось! — с большим удовольствием произнес это слово Люсик. — Камбалу я тебе покажу.
Отчаянно торгуясь с несчастным мужиком и сбив цену вполовину, он купил весь улов. Впрочем, мужик не выглядел разочарованным.
Люсик купил еще две связки бычков, связку провисной качалки, так называлась свежесоленая и слегка подвяленная скумбрия. Он также купил нежнейшего посола тюльку, которую мы тут же начали поедать, отламывая ей голову. Ничего общего с килькой, за которую я ее сперва приняла, черноморская тюлька не имела.
И тут Люсик нашел камбалу. Она была огромной, не менее полуметра в диаметре, и древней. Вся ее спина заросла ракушками, как днище видавшего виды корабля.
Люсик подмигнул Сидору, чтобы тот оттащил меня подальше с моими не совсем уместными восторгами, и начал виртуозно торговаться с рыбаком, гордым своим уловом. Он с таким азартом это делал, так махал руками, отпускал такие шуточки по поводу размеров и качества рыбины, что вокруг начали собираться болельщики.
Куда только подевалась вся его интеллигентность, которая так поразила меня в Москве. Но, странное дело, вместо того чтобы одернуть наглеца, указать ему на явную беспардонную ложь, болельщики явно держали сторону покупателя и одобрйтельно улыбались, когда Люсик, выворачивая рыбине жабры, пытался доказать, что почти живая рыбина уже несвежая, и нес при этом заведомую чепуху, убеждая публику в том, что камбала без воды живет неделю, а если эта умерла, то, значит, ее поймали в прошлом году…
Наш бедный рыбак почти согласился с тем, что пытается по сумасшедшей цене всучить протухшего малька, и уже был готов подарить Люсику рыбку для котенка, который, возможно, от нее откажется, но тут подошла приземистая энергичная тетка, возможно его жена, и сказала, уперев крепкие руки в бока:
— Шо-о?
— А ничего, тетя, продано, — быстро среагировал Люсик, делая вид, что принимает тетку за покупательницу. Он всунул растерявшемуся рыбаку несколько мелких бумажек и вырвал из его рук рыбину.
— Да ты шо? — взвизгнула тетка. — Ты шо даешь, фармазон?
— На чем сошлись, то и даю! — невозмутимо ответил Люсик и отвел руку с рыбиной за спину.
— Люди добрые! — заголосила тетка. — Да шо ж это делается? Грабят натурально!
— Так они договорились, — радостно подтвердили люди.
— Да шо ты тут робишь, бычок сушеный, — вскинулась на рыбака тетка и с размаху двинула его по гулкой спине.
Рыбак ничего ей не ответил. Люсик тем временем стал пробираться вон сквозь ряды болельщиков, тетка бросилась было за ним, но хохочущая толпа ее не пустила. Тем временем Сидор приблизился к понурому рыбаку, молча сунул ему крупную купюру и отошел прежде чем тот сообразил что-то сказать в знак благодарности. Когда разъяренная тетка вернулась к супругу, чтобы выместить на нем всю свою злость, бумажки в его руках уже не было. Все остальные ругательства и тумаки рыбачок выносил стойко, пряча лукавую улыбку.
Остальную провизию покупал сам Сидор. Принцип его покупок был очень прост. Он выбирал самое лучшее и покупал не торгуясь. Это был самый крупный гусь в птичьем ряду, самые красивые фрукты, самые аппетитные домашние колбасы.
Люсик каждый раз, когда тот расплачивался, укоризненно качал головой. Он считал такое поведение на Привозе святотатством и норовил прихватить помидорину или грушу покрупнее «на поход». Когда крестьянки пробовали возмущаться, он говорил:
— Да вы шо, тетечка, хочете разбогатеть на умственно отсталом? Вы ж видите, он даже не торгуется.
Несколько раз мы возвращались к «москвичу» и выгружали в багажник и на заднее сиденье продукты.
В какой-то момент мне показалось, что вот оно, наступило то, о чем мечтает каждая девушка, — у меня появился жених. Ясно было, что ребята затевают грандиозный праздник, посвященный их награждению, но на этом празднике я буду представлена его родителям и всем остальным родственникам и друзьям. Значит, у него по отношению ко мне вполне серьезные намерения…
Только одно слегка смущало. За все это время он ни разу даже не сказал мне, что я ему нравлюсь, не говоря уже о полноценном признании. Было несколько романтических моментов — и в Москве во время танцев, и во время нашей ночной прогулки по Одессе, когда, казалось бы, и говорить не о чем, кроме как о любви, но Сидор молчал, как партизан на допросе. Сомнений в том, что я ему нравлюсь, и очень сильно, у меня не было. Достаточно было видеть его глаза, когда он смотрел на меня.
Ну ничего, решила я, это такой характер. И еще неизвестно, что лучше! Илья вон соловьем разливался, а этот молчит и делает. Разве их можно сравнить?
8
Оказалось, что торжество готовилось у Люсика. Это тоже меня озадачило, но ненадолго.
Едва я переступила порог его квартиры, как мама Люсика, маленькая пухленькая женщина с добрыми глазами навыкате, подбежала ко мне и обняла, весело вскрикивая при этом:
— Это же Маша! Боже ж мой, деточка моя, какая ты красивая! Как же этот рыжий бандит сумел тебя загарпунить? У тебя есть подруга? Нет, не та, что уже с Егором, а другая? Можно чтобы не такая красивая, как ты. Красивую у него быстро уведут. Можешь звать меня тетей Геней. Я чувствую: мы с тобой, деточка, подружимся.
— Геня, я не собираюсь жениться, — отозвался с кухни Люсик.
— Ой! А кто тебя спросит? — крикнула она и, подмигнув мне, шепнула: — Мы его так женим, что он даже сам не почувствует. — Она снова крепко обняла и поцеловала меня. — Спасибо, что присматривала там за ним в Москве. Знаешь, что он вытворил в прошлый год в Клубе моряков? Я тебе как — нибудь потом расскажу! Он тоже бандит тот еще! Все они бандиты. Всех их женить надо, пока в Сибирь не загремели со всеми своими орденами и медалями. Как только с ними Соляник справляется? Ты знаешь, кто такой Соляник?
Я помотала головой.
— Аркадий! — закричала она куда-то в глубь квартиры. — Иди скорей сюда, тут человек не знает, кто такой Соляник.
В комнату вошел тоже низенький сухощавый мужчина в темно-зеленой с черным полосатой пижаме, с газетой под мышкой и в больших черных очках с толстыми стеклами.
— Аркадий, ты посмотри, какую красавицу этот рыжий бандит себе в Москве отхватил! Деточка, это дядя Аркадий, папа Люсика! Он любит себе портить глаза политикой. Аркадий, скажи Машеньке, кто такой Соляник.
Дядя Аркадий подошел ко мне, церемонно пожал руку, снял очки, положил их в нагрудный кармашек пижамы и, взглянув на меня маленькими и круглыми, как у плюшевого медвежонка, глазками, сказал совершенно серьезно:
— Соляник — это фактический хозяин города.
— Ой, Аркаша, — замахала на него руками тетя Геня, — деточка второй день в Одессе, она ничего не знает, только на Привозе и успела побывать. Ты ей скажи, кем работает Соляник.
— Герой Социалистического Труда Соляник работает капитаном — директором китобойной флотилии «Слава», а мы все работаем у него. Я инженер-экономист. Генечка — заведующая нашей парикмахерской, а Люсик — старший механик холодильных установок, без которых…
— Ой, не морочь деточке голову, она сюда отдыхать приехала, а не лекции слушать. Ну, что вы там возитесь? — крикнула она в сторону кухни и, не дожидаясь ответа, побежала туда сама.
— Люсик! Куда ты кладешь немытую зелень? Сидор, зачем ты вешаешь рыбу, это же не гардины. Ничего не трогайте здесь руками. Почему вы девочку не повезете на море? Все равно раньше чем через четыре часа ничего не будет готово. Давайте, я вам бутерброды с собой сделаю.
Тетя Геня была вихрь, тайфун! При этом безумно обаятельная и очень теплая. Я даже пожалела, что она не мама Сидора… О своих родителях он мне почему-то до сих пор не рассказывал.
9
На море я не была с цятого класса, с тех пор, как мама возила меня на детский курорт в Анапу. Я его даже слегка забыла. Помню только что-то сероватое у берега и сине-черное, в белых барашках, вдали. И ветер, ветер. Мы приехали не очень удачно. В то лето в августе вдруг задул норд-ост и дул целых двенадцать дней. А мы приезжали всего на двадцать. Я больше помню чебуреки, которыми торговал в палатке на пляже кореец.
Они были огненно-горячие и безумно вкусные. Нужно было высоко поднимать их и прокусывать маленькую дырочку в уголке, чтобы сперва выпить ароматный сок, а уж потом приступать к хрустящей корочке и мясу.
С тех пор я на море не была ни разу и даже боялась встречи с ним. Но идея тети Гени была принята ребятами с восторгом, мы быстро собрались и поехали. Правда, Люсик вдруг вспомнил, что ему срочно нужно повидать какую-то Галочку и позвать ее на праздник. Он обещал приехать прямо на их старое место.
Когда он вышел из машины, Сидор покачал головой ему вслед и, криво усмехнувшись, сказал:
— Скорее Дюк Ришелье приедет на море, чем он. — И рванул машину с места.
По дороге я заскочила в гостиницу за купальником, и через полчаса мы оказались не на пляже, как я ожидала, а в какой-то крохотной, невероятно красивой бухточке, отгороженной от любопытных глаз скалистыми берегами. Дно около берега было усеяно крупными черными камнями и прозрачнейшая вода завивалась вокруг них тонким кружевом.
За узким входом в бухточку открывался безбрежный ярко-синий простор. Тесный песчаный островок посреди каменистого берега хранил на себе следы многочисленных пикников. Около костровища, прислоненные к скале, стояли несколько закопченных железных листов.
— Вот тут мы и живем, — с видом довольного хозяина сказал Сидор. — Располагайся. — С этими словами он за одну секунду разделся и каким-то сложным путем, кружа вокруг видимых и невидимых камней, побежал в воду.
Я невольно залюбовалась его ладным, очень крепким телом, сплошь пркрытым нежно-рыжими веснушками и золотистым пушком. В тот момент во мне впервые что-то шевельнулось и отозвалось на безмолвный страстный призыв, который непрерывно шел от него с первой секунды нашей встречи.
Я разулась, подошла к морю, по щиколотки зашла в воду, показавшуюся мне сперва очень холодной, через минуту уже терпимой, а еще через минуту приятной. Было тепло и тихо.
— Раздевайся! — крикнул из воды Сидор. Он уже плавал кругами по бухточке и фыркал, как тюлень в зоопарке.
Была не была, решила я и стянула через голову платье. Фырканье прекратилось, и я увидела, как голова Сидора с округлившимися, широко открытыми глазами медленно и безмолвно погружается в воду… Я даже успела испугаться, прежде чем она вновь появилась на поверхности.
— Дурак! — крикнула сердито я ему и, не глядя в его сторону, медленно пошла в воду, скользя на заросших тиной камнях.
— Стой! Не двигайся! — крикнул он и, бешено работая руками, поплыл ко мне.
— Ну вот еще! — сказала я про себя и продолжала идти. Но идти становилось с каждым шагом труднее. Скользкие камни, обросшие острыми ракушками, делали движение почти невозможным. К тому же вода была все-таки прохладной. В нее хорошо было бы нырнуть или шумно вбежать, поднимая тучу брызг, но вот так медленно, по сантиметру погружаться приятного было мало.
— Я же сказал, не двигайся! — прокричал Сидор, он уже встал на дно и продвигался ко мне какими-то нелепыми замедленными прыжками.
Он подбежал в тот момент, когда моя нога скользнула в какую-то расщелину между камнями. Я потеряла равновесие, замахала беспомощно руками и готова была рухнуть в воду, ломая щиколотку Он подхватил меня, мокрый, холодный, сильный, испуганный не меньше моего, и, бережно приподняв за талию, поставил на безопасное место. И не разжал рук, приблизив ко мне тревожное лицо с прилипшими на лбу волосами. Сама не понимая, что делаю, я прижалась к нему всем телом и приблизила свои губы к его мокрым губам. Он нежно и тихо поцеловал меня. Этот горько-соленый, холодный снаружи и огненный внутри поцелуй привел нас в состояние какой-то неописуемой любовной ярости, никогда до того не испытанное мною. Он крепко обхватил мою голову руками и стал покрывать мое лицо ненасытными, неутолимыми поцелуями, и я отвечала ему тем же. Я, как маленький голодный скворчонок, открывала со стоном рот и жадно ловила его поцелуи, которые из горьких постепенно становились сладкими.
Вскоре его тело и мой промокший купальник стали горячими. Я уже поймала себя на том, что в воде, ставшей вдруг теплой, как парное молоко, судорожно нащупываю ногами ровный кусочек дна, чтобы поставить их рядом и сомкнуть в сладкой истоме бедра…
У меня был раздельный купальник, и его руки смело и сильно сжимали то мою спину, то чувствительное место на талии, там, где она переходит в бедра, то ягодицы, залезая при этом под купальник.
Его тесные сатиновые плавки на завязочках сбоку, не приспособленные для любовных игр, сгибали и уродовали его отвердевшую до хрупкости плоть. Я испугалась, что все у него там сломается, и непроизвольно потянула сперва одну завязочку, потом другую…
Плавки упали в море. Он, удивленно взглянув на меня, завел обе руки под резинку трусиков и, опустив их до колен, зарылся лицом в мой живот и стал, покусывая, целовать его, как-то по-особенному урча при этом. Его волосы уже начали просыхать и снова поднялись упругим рыжим ворсом. Я зарыла в них ладонь и, надавив на его пушистую макушку, простонала, сжимая в полубеспамятстве бедра:
— Мой Сладкий Ежик…
Его рука между тем протискивалась между бедер, которые я толком и развести не могла, потому что трусики держали мои ноги, как путы.
Каким-то чудом стряхнув с себя трусики, я поставила одну ногу чуть повыше на камень и пустила его руку туда, куда она стремилась. Он схватил меня в пригоршню так, что снаружи ничего не осталось, и сильно, сладко, почти больно сжал…
От неожиданности я вскрикнула. Он ослабил руку, но не выпустил меня, и держал теперь бережно и нежно, как птенца, потираясь при этом лицом о мой живот, о волосы на лобке.
Потом он, не отпуская руки, медленно выпрямился и свободной рукой умело расстегнул пуговицы моего лифчика, а грудь словно сама сбросила его в воду. Он припал к соску как оголодавший младенец, взял его столько, сколько поместилось во рту, и выпустил только для того, чтобы взять другой.
Я подняла ногу, опиравшуюся на камень, и закинула на его бедро. Он свободной рукой подхватил ее и, медленно разжав другую, отпустил меня, и я почувствовала, как он, горячий, настойчивый, трепещущий, напористо, не разбирая дороги, стремительно врывается в меня…
Все было мгновенно и оглушительно… Потом он взял меня на руки и, шатаясь на камнях, отнес в море, в глубину, и я чувствовала, как вода коснулась сперва моих бедер, потом ягодиц, потом спины, потом я поплыла, перевернувшись на живот.
Совершенно невозможно передать это восхитительное ощущение плаванья нагишом после любви, когда твоя разгоряченная, еще вздрагивающая после бурного оргазма плоть вдруг погружается в холодную воду, которая обнимает тебя всю, остро ласкает внутренние поверхности бедер, шевелит волосы на лобке, колышет свободно парящие груди… Это может сравниться лишь с самой любовью…
Он выловил наши пожитки из воды, выжал и ждал меня, еще возбужденный, готовый к продолжению…
Когда я подплыла к нему, он передал мне наши купальники, подхватил меня и вынес на берег.
— Отпусти, — шептала я ему, — я же тяжелая…
— Своя ноша не тянет, — засмеялся он мне в ответ.
Мы занимались любовью еще несколько раз, нимало не заботясь о том, что нас может кто-нибудь сверху, со скал увидеть.
Подстилки у нас никакой не было и, чтобы песок не попал в самые нежные места, он сажал меня на себя… Никогда не забуду его восторженных глаз, которые, казалось, поедали меня. Он, выгибаясь всем крепким торсом, с силой подбрасывал меня, и я боялась сразу нескольких вещей. Во-первых, раздавить его — а во мне было уже под сто килограммов, во-вторых, я боялась, что он случайно выскочит из меня, и я, сев на него неправильно, просто сломаю его, а в-третьих, я боялась, что моя тяжелая, прыгающая вверх-вниз и еще как- то вбок грудь выглядит некрасиво.
Но, несмотря на все волнения, эта поза приносила мне максимум наслаждения и, кроме всего прочего, очень волновала и возбуждала. Ведь это была любимая поза служанки Фотиды из «Золотого осла» Апулея, с которой однажды мы вместе достигли вершины блаженства. Между прочим, у меня это было тогда в первый раз.
Все это продолжалось бесконечно. Я уже потеряла счет нашим любовным схваткам, но не отказывала себе каждый раз после зайти по пояс в воду и медленно присесть, широко разведя ноги и чувствуя, как прохладная вода остужает и одновременно возбуждает.
Он тоже вместе со мной входил в воду, проплывал в бешеном темпе, разворачивался и плыл обратно. Подплыв ко мне, хватал за руку и тащил на берег. Я с ужасом видела, что он выходит из холодного октябрьского моря таким же возбужденным, как и вошел. Я даже начала сомневаться, кончает ли он. От кого-то я слышала о такой болезни, когда мужчины не могут кончить и часами тщетно мучают своих партнерш. Но ведь это же ерунда, возражала я самой себе, глупости! Я ведь чувствовала, как он горячо, обильно вливает в меня свою страсть… Да и сама я разве насыщаюсь раз от раза?
Мы просто с ним совпали. У него несколько месяцев не было женщин, у меня долго, бесконечно долго не было мужчин наяву. Зато они являлись мне каждую ночь в таких изощренных, запретных сновидениях, что я просыпалась каждый раз с чувством стыда и страха за свои измены неизвестно кому…
Кстати, я могла бы решить все свои сексуальные проблемы простым сжатием бедер, но ни разу сама не сделала этого. Впрочем, может быть, это происходило со мной во сне, непроизвольно… Мне не хватало любви.
10
Мы с ним очень совпали. Он восхищался моим большим телом. Особенно ему почему-то нравился мой живот. Он даже процитировал мне знаменитые слова из «Песни песней»: «Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями…»
Странно, что никто нам не помешал. Ведь в такую прекрасную погоду мог кто-то и кроме нас прийти в эту чудесную бухточку. Правда, был будний день и пляжный сезон практически закончился, но ведь влюбленные в Одессе, я думаю, не перевелись…
…Однако свидетели нашей любви немного погодя обнаружились. Уже когда мы одевались, он обратил внимание, что как раз напротив нашей бухточки метрах в семистах от берега находится сторожевой пограничный катер. Взглянув на него еще раз, он убедился, что тот дрейфует, время от времени подрабатывая винтом, чтобы не сходить с места.
— Вот салажня сопливая, — беззлобно выругался он и погрозил катеру рыжим веснушчатым кулаком.
— Да что они могут там рассмотреть… — беззаботно отмахнулась я.
— Что?! — возмутился он. — Вон видишь на рубке блики?
— А что такое «рубка»? — спросила я.
— Ну вот это возвышение посредине.
— Вижу.
— Там стационарный пятидесятикратный бинокль. С его помощью можно волоски на тебе сосчитать…
— Вот засранцы, — весело сказала я. Мне почему-то впервые в жизни не было стыдно. Даже наоборот, что-то во мне шевельнулось, когда я представила, как они смотрели, а мы…
— А видишь по борту фигурки и еще несколько бликов?
— Вижу.
— Это простые двадцатикратные бинокли. Через них можно только пуговицы сосчитать на твоем платье. Интересно, и давно они здесь болтаются?
Он лежал лицом к берегу и от родного моря предательства не ждал. Я же, когда сидела на нем, ничего не видела, кроме его жадных глаз. Или, откинувшись назад, опершись руками на его колени и изогнув шею, я смотрела, как он входит в меня…
— А черт их знает, — сказала я, — надеюсь, они успели тоже получить удовольствие…
— Сейчас они получат еще больше, — сказал он и, взяв с камня мои купальные трусики и лифчик, начал что-то семафорить на катер. Ему длинно ответили с рубки, после чего катер, взревев моторами, выпустил из-под себя пенный бурун, смешанный с сизым дымом, заваливаясь на один бок, резко развернулся в сторону моря и стал стремительно уменьшаться.
— И что же ты им сказал? — спросила я.
— Я не могу тебе это перевести… — шкодливо улыбнулся он.
— А что они тебе ответили?
— Ответили стихами.
— Ой, скажи, скажи, — запросила я.
— Но там тоже есть словечко… Я не могу…
— А ты вместо словечка скажи ля-ля, а я пойму.
— Надо еще вспомнить… — сказал он и поскреб свой рыжий затылок.
— Все ты помнишь. Сейчас же читай стихи.
Он помотал головой и прочитал:
Обожайте, девки, море И любите моряков. Моряки ля-ля-ля, стоя, У скалистых берегов.— Господи, неужели они здесь были с самого начала? — сказала я.
— Да нет, — улыбнулся он, — это старая песня.
— И ты ее раньше знал? — подозрительно спросила я.
— Что ты имеешь в виду? — улыбнулся он.
— Насчет стоя! Может, у вас, у моряков, традиция такая? Может, вы клятву дали? — Я со злостью кинула в него горсть мелких камешков.
— Да ты что, братец? — крикнул он, со смехом уворачиваясь от камней.
— Какой я тебе братец?! — Вслед за первой горстью полетела вторая.
— Ну хорошо, сестренка, сестренка, — хохотал он, пытаясь обхватить меня за талию и прижать к себе, чтобы мне неудобно было швыряться камнями.
— И не сестренка я тебе вовсе! — пропыхтела я, выворачиваясь из его крепких объятий и кидая в него очередную пригоршню камней. — Я-то, дура, думала, что это нас страсть настигла посреди моря, а это он специально все подстроил, чтобы все по инструкции было! Чтобы соответствовать своему дурацкому морскому гимну!
— Ага, значит, ты так?.. — Он неожиданно по-вратарски кинулся мне в ноги и поймал за щиколотки. Я была уже в платье и жалко было падать, но пришлось…
— А как ты догадалась? — спросил он, лежа на мне и нахально улыбаясь. — Конечно, я все подстроил! И в Одессу я тебя завез, и на берег я тебя завел, и погранцов я вызвал, чтобы ты не могла уйти морем. И теперь ты вся в моих руках…
И я почувствовала, что я опять в его руках… Вернее, в руке…
Когда мы вновь искупались голышом и снова оделись, я сказала:
— Давай назовем это место «Бухтой любви».
Он вдруг спохватился, достал из кармана брюк часы, посмотрел и присвистнул:
— Мы опаздываем больше чем на два часа. А это даже по одесским меркам многовато.
— «Счастливые часов не наблюдают», — тут же процитировала я.
Он снова промолчал мне в ответ. И я снова это заметила.
Когда мы приехали к Люсику, еще и половина компании не собралась.
Ложная тревога, капитан.
11
С этого момента моя Одесса закружилась в каком-то немыслимом хороводе и понеслась. Мы с Сидором или до обмороков занимались любовью на царской двуспальной кровати в моем номере, или как бешеные носились на его «москвичонке» по городу. Мелькали пирушки, квартиры, рестораны, дачи на разных станциях Фонтана, где никаких фонтанов давно не было. Я познакомилась с огромным количеством различного одесского народа, естественно, частенько навещала мою любимую тетю Геню, с которой мы не раз всплакнули, когда я ей рассказывала о маме, папе, бабушке…
— Деточка! — кричала сквозь слезы тетя Геня. — Приезжай! И без этих бандитов! Мы с тобой… — дальше она говорить не могла, ее душили слезы.
Сидор даже с каким-то непонятным азартом с утра до вечера возил меня по всей Одессе и по пригородам, словно специально демонстрировал… Впрочем, так оно и оказалось. Но тогда я не очень-то углублялась в подобные мысли, решив, что он во всем так азартен.
И только в одном месте мы с ним не были. У него дома. Только с одними людьми во всей Одессе он меня не познакомил — со своими родителями.
Когда я у тети Гени спросила, почему он так поступает, она решительно отмахнулась:
— И в голову не бери, деточка! Он же чокнутый! Не нужно тебе обращать внимания на его заскоки! Для тебя это не опасно…
Вот тут-то я и поняла, что существует некая тайна, которую я всей кожей ощущала, и мне действительно грозит опасность. Я попробовала выпытать у тети Гени, а потом у Люсика подробности, но у меня ничего не вышло. Тетя Геня насупилась и сказала:
— Подожди, пока он сам расскажет. Только ребят ни о чем не спрашивай, а то начнут врать…
А Люсик округлил глаза и спросил с самым искренним удивлением:
— Какие еще тайны Мадридского двора?
Я поняла, что тетя Геня была, как всегда, права, и тут же прекратила все расспросы. Терпеть не могу вранья.
12
Впрочем, ответы на все загадки я получила. Сперва на первую, на московскую.
В один из дней, когда мы потные, изможденные любовью расползлись по разным углам необъятной гостиничной кровати, он вдруг начал рассказывать о своей работе.
— Представляешь, — говорил он, — тебя качает, и кита качает. Притом оба вы качаетесь в разных амплитудах и ритмах. У тебя скорость и у него скорость, у него направление и у тебя, да еще и ветер до двадцати метров в секунду и бешеная парусность линя… И вот тебе нужно уловить тот единственный момент, когда все совпадает, когда линии судеб, твоя и кита, перекрещиваются, и успеть нажать на спуск гарпунной пушки. Для этого нужен особый охотничий инстинкт, своего рода талант. Я это умею лучше всех. Поэтому и китов за сезон у меня бывает больше всех. И практически ни одного подранка. Я бью только наверняка.
Вот тогда-то мне и открылось, что именно охотничий инстинкт не позволял ему сделать решительный шаг в Москве. При том особом душевном состоянии, помня Наркома и еще боясь его тени, я непременно в самый последний момент взбрыкнула бы, и уж тогда исправить положение было бы невозможно.
Правда, я тогда еще не знала за собой такого свойства собственного характера, это обнаружилось в недалеком будущем, а он уже знал. Чувствовал своим необыкновенным охотничьим чутьем. И выстрелил наверняка, когда стало можно, когда все совпало и линии наших судеб пересеклись.
Он и относился-то ко мне как к своей добыче. Как он, раздев, оглаживал меня, осматривал. Какое вспыхивало в его глазах охотничье удовлетворение. Он даже признался мне, что предпочитает сажать меня сверху, чтобы при этом видеть всю и иметь возможность погладить или забрать в руку любую часть моего тела, особенно живот, к которому имел особенное пристрастие.
Однажды, в редком перерыве между любовными схватками, целуя мой влажный еще от пота живот широко открытым ртом и слегка покусывая его, он сказал:
— Ты похожа на касатку.
— На ласточку? — удивленно спросила я.
— Нет, что ты! — покровительственно улыбнулся он. — Ты похожа на огромную морскую касатку.
— Так это кит?
— Какой кит? Ни один кит не сравнится с ней ни скоростью, ни красотой. Это самый большой дельфин. Они бывают длиной больше десяти метров и весят тонн десять… Они самые лучшие пловцы, потому что тело у них идеальное, и страшные хищники, но живот у них нежный и белый, как у тебя…
— Ты убивал касаток? — с внезапным тревожным предчувствием спросила я.
— Это не киты, их трудно убить…
— Но ты убивал? — Мне вдруг стало нестерпимо жалко похожих на меня дельфинов. Ну и что из того, что они хищники. Должны же они чем-то питаться. Я вон тоже много ем мучного и сладкого…
— Бывало… — уклончиво ответил он.
— И тебе их не жалко было?
— Охота есть охота, — жестко ответил он.
13
Вторая, главная его загадка раскрылась внезапно. Это произошло в баре гостиницы «Красная».
Мы зашли туда на минуточку, по дороге в очередные гости, просто выпить по чашечке кофе, потому что там его готовили лучше, чем где-либо.
В Одессе вообще к питью кофе относятся ритуально, как к серьезному делу. Так же, как к этому относилась моя покойная бабушка. Одесситы говорят: «Конечно, пойдем, только сперва выпьем кофе». Или: «Давай сперва выпьем кофе, а потом уж пойдем…»
Сидор относился к кофе точно так же. Планируя наш день, он не забывал вставлять туда непременные кофепития.
Мы зашли в бар, который назывался еще «кафе», потому что бары у нас появились только через двадцать лет, сели за столик и стали ждать официантку Люсю, которая, увидев нас, кивнула и пошла на кухню, потому что точно знала, что нам нужно. Она нас очень любила — таких чаевых, как от Сидора, она не получала ни от кого.
Как только Люся принесла нам кофе, за соседний столик села компания — двое молодых людей и девушка. Молодые люди оба были в крупных роговых очках. Один — в черной бархатной блузе, а другой в сильно приталенном пиджаке и полосатом шарфе, замотанном поверх пиджака на горле и перекинутом через плечо.
Девушка была худенькая, черноволосая, с короткой стрижкой. На ее огромные, как бы слегка испуганные глаза спадала длинная ровная челка, которая закрывала даже брови. У нее был большой нервный рот с чуть вывернутыми губами, впалые щеки и очень бледная кожа, словно она никогда не загорала. Молодые люди заказали кофе с ликером себе и кофе с лимоном для девушки.
Сидор, отвлеченный разговором с каким-то моряком за соседним столиком, заметил ее не сразу Но когда увидел, в ту же секунду так преобразился, что я просто перестала его узнавать. Это был совершенно другой человек. Прежде всего, что-то искательное появилось в посадке его головы и в глазах. Шея ушла в приподнявшиеся плечи, губы растянулись в какой-то жалкой, заискивающей улыбке. Он весь напрягся и, как спаниель ловит взгляд хозяина, стал ловить ее взгляд. А она, конечно же, не спешила встретиться с ним глазами, хотя, даю голову на отсечение, заметила его как только вошла.
Наконец она соизволила индифферентно посмотреть в его сторону, он тут же расплылся в счастливой улыбке и начал ей мелко, как китайский болванчик, кивать.
— Здравствуйте, Бэла, — дрожащим от переполнивших его чувств голосом сказал маленький Сидор.
— Здравствуйте, Александр, — как строгая учительница шалуну-пятикласснику ответила Бэла и снова повернулась к своим спутникам, один из которых произносил в это время слово «экзистенциализм».
Прошло еще не менее пяти минут, когда ему удалось снова поймать ее взгляд.
— Бэла, не хотите ли присоединиться к нам? — робко предложил Сидор, расчетливо обращаясь больше к ее спутникам. — Мы как раз обмываем мой орден Ленина, и я угощаю.
Ушки у ее спутников встали топориком, но Бэла, надменно поджав губы, предупредила согласие, уже готовое сорваться с их губ:
— Спасибо, Александр. Как-нибудь в другой раз. А сегодня мы спешим. — И, не думая никуда спешить, повернулась к своим разочарованным спутникам.
Это и была его страшная тайна!
Я молча встала и вышла из кафе. Через несколько секунд он догнал меня. Некоторое время мы шли молча. Потом он через силу выдавил:
— Не думай ничего плохого… Это совершенно другое. Это к тебе не относится…
Даже соврать на эту святую тему у него язык не поворачивается, раздраженно подумала я. Не знаю, каким образом, но мне в одну секунду стала ясна вся ситуация. Это как если б в свое время мой Лexa спал с кем-нибудь на стороне, а потом встречался со мной и боялся ко мне прикоснуться.
— Это ее ты хочешь когда-нибудь привести домой и сказать своим родителям: познакомьтесь — это моя невеста? Так?
Он промолчал.
— Это для нее ты таскал меня по всему городу? Хотел, чтобы ей передали, с какой москвичкой ты разгуливаешь… Для этого ты меня и привез сюда?
— Все не так просто… Мне с тобой очень хорошо…
— Хорошо что? Хорошо спать? Ты просто использовал меня, да? Нужно же для здоровья… Конечно, лучше спать с тем, кто нравится, а не с какой-нибудь уродиной… А Бэлочка твоя, конечно, честная. Ее нельзя трогать до свадьбы. Она уже согласилась или еще немножко маринует тебя, выдерживает, чтобы крепче любил?
— Не говори о ней так. — Он шевельнул желваками, и в нем проглянул прежний, жесткий и решительный, Сидор.
— А может, ты еще и предложение не сделал, выжидаешь, когда перекрестятся ваши судьбы? Эх ты, охотничек!
Я повернулась и пошла в противоположную сторону. Я хотела вернуться в гостиницу, собрать вещички и в ту же минуту убраться из этого города.
Он догнан меня, крепко, неумолимо схватил за руку:
— Не уходи, не уезжай.
Все понял охотник, чутье опять не подвело.
— Почему?
— Я тебе ничего плохого не сделал. Не встреть мы ее, все продолжалось бы по-прежнему. Разве мы не можем остаться друзьями? Нам же хорошо друг с другом.
— Ты ее любишь? — спросила я.
Ему очень трудно было ответить на этот вопрос, он долго собирался с силами, но все же ответил и даже глаза не отвел:
— Да. Я полюбил ее еще на третьем курсе института, когда она пришла к нам на вечер поэзии и читала стихи. У нее потрясающие стихи, и она так их читает…
— Без подробностей, пожалуйста…
— Но ведь и ты не любишь меня без памяти. Для тебя это только приключение…
— А вот это уже не твое дело! — сказала я, закусив губу, чтобы не расплакаться, ибо только в эту минуту я и поняла, как сильно была влюблена в него.
— И все равно не уезжай, — упрямо сказал он.
— Это еще почему? — Я начала смеяться, чтобы не заплакать.
— Ты мне очень нравишься, я хочу тебя.
— Тебе и касатки, которых ты убиваешь, тоже очень нравятся, — сказала я и, вырвав свою руку, побежала по улице.
Все-таки охотничьего чутья у него отнять было нельзя.
Когда я вернулась в Москву, Татьяна, выслушав мою историю, демонстративно вычеркнула адрес Великого Чоя из своей записной книжки. Она скребла это место карандашом до тех пор, пока не прорвала бумагу, и приговаривала при этом:
— Все они сволочи, все без исключения, и убийцы, если у них рука поднимается на бедных беззащитных китиков. Хорошо, что я хоть не успела влюбиться в него как следует! А ты успела?
Я заплакала ей в ответ.
Мы еще долго переписывались с тетей Геней. Из ее писем я узнала, что через семь лет, когда Бэла развелась со своим первым мужем-поэтом, она наконец согласилась выйти замуж за Сидора. Он ее ждал все это время. Потом он перешел работать в райком партии, потом стал первым секретарем горкома. Бэла ему родила четверых детей, двое из которых близнецы. Это была самая образцовая семья в городе.
Такой она, наверное, и осталась, дай-то им Бог здоровья.
Ведь ни он, ни она ничего плохого мне не сделали. Даже наоборот, Сидор вывел меня из депрессии. Я недолго на него злилась. Довольно скоро я стала вспоминать о нем с удовольствием и повторяла за Татьяной: «Слава Богу, что не успела влюбиться серьезно».
Это тогда от обиды и от чувства потери показалось, что я без памяти влюблена в него.
Выяснять, не он ли прислал этот букет и кольцо, я в Одессу не поехала. Да и в каком гнездышке он мог меня там поджидать? Ведь не «у скалистых же берегов», в самом деле…
ШЕСТОЙ (1953 г.)
1
Знакомо ли вам чувство острого одиночества, которое однажды поселяется в вас и незримо точит душу, повергая временами в смертельное уныние, как скрытая болезнь?
Оно может кольнуть вас в сердце совершенно неожиданно в самый неподходящий момент, например во время веселой вечеринки в кругу близких друзей. Казалось бы, что еще тебе нужно? Веселись, танцуй, наслаждайся жизнью, — но нет, стоит кому-то из друзей только для того, чтобы повеселить компанию, рассказать о своем забавном любовном приключении или заторопиться на свидание, как зеленая тоска, словно клещами, сдавливает твою грудь, и становится нечем дышать, и твоя собственная жизнь кажется тебе беспросветно тусклой и унылой.
Ты вдруг забываешь, что лишь вчера еле выползла из-под обломков бурного, практически рокового романа, и до сих пор еще толком не зализала сердечные раны; что еще вчера клялась самой себе, что больше ничего подобного в своей жизни не допустишь, что важнее всего покой и здоровье, — и вот вдруг задыхаешься от черной зависти к чужой любви, даже забавной, и ощущаешь свое одиночество как ржавую клетку, в которой ни сесть, ни лечь, ни выпрямиться во весь рост. Я читала, что существовал такой вид пыток во Франции во времена Людовика XI.
Теперь я знаю, что это чувство в той или иной мере свойственно всем рожденным под знаком Близнецов, но тогда мы гороскопов не читали, астрология считалась реакционной лженаукой и прислужницей империализма, как генетика, кибернетика или алхимия.
Свойственны эти чувства и другим людям.
Тогда я совершенно искренне была убеждена, что одинока в своем одиночестве. Какая самонадеянность!
Я вовсе не оправдываюсь. Я просто пытаюсь объяснить, в каком душевном состоянии я вернулась из Одессы.
Омар Хайям, которого в свое время открыл для меня Нарком, замечательно сказал:
Ты лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало.Под каждой буквой в первой строке я готова подписаться кровью, но вот со второй дело обстоит гораздо сложнее… Умом я понимаю, что в ней абсолютная истина, да и сердце согласно ей непреложно следовать, но в жизни все получается совершенно по-другому. То есть просто наоборот.
Оставшись одна, я начинаю метаться, как крыса в клетке, места себе не нахожу, постоянно смотрю в зеркало на свои толстые ноги, на непомерные груди, на талию, которая начинает заплывать…
А между прочим, талия — это единственная моя гордость, это, можно сказать, фундамент, на котором держится вся моя фигура. Не будь ее, я давно бы превратилась в толстое и длинное бревно.
Талия, конечно, не так, как прежде, держится у меня до сих пор, но в состоянии глухой тоски я всякий раз отчетливо вижу, как она заплывает.
Все, что я сказала выше, относится к обычному, самому заурядному одиночеству. А ведь, как ни крути, — из Одессы я вернулась брошенной…
Да, я сама гордо повернулась посередине улицы Пушкина, самой красивой улицы мира, и ушла не оглядываясь… Да, он бежал за мной, упрашивал вернуться, но ведь себя не обманешь, хоть иногда это и удается. Бросил меня он. Первый.
Задолго до нашей встречи. И я подозреваю, что не меня одну.
Бедная Бэла, думала я тогда с деланной иронией, наверное, нелегко быть средоточием такого упорного внимания, такой неистребимой, как тараканы, преданности. Нет, я сравнивала с клопами. Они тогда были подлинным бичом Москвы. Тараканы пришли позже…
В общем, зря я иронизировала… Чуть позже я убедилась, что и сама увязла в точно таком же… По самые уши.
Что говорить — обидел меня рыжий! Очень обидел. Просто ранил. Глубоко и больно. В момент удара боль была нестерпимая, но короткая. Теперь же душа саднила глухо и без передышки.
В таком-то состоянии я и встретила нашего француза Дмитрия Владимировича Мерджанова. Я его сперва не узнала. Сперва я на него рассердилась…
2
Незадолго до Нового года я шла домой с Пушкинской площади и вдруг заметила, что за мной увязался какой- то черный и бровастый. На длинном, крючковатом и явно грузинском носу его сидели очки в толстой модной оправе.
Что же это такое, возмущенно подумала я, совсем нет прохода от этих грузин. А в том, что он именно привязался ко мне, а не просто так идет по своим делам, не было никакого сомнения.
Вы же сами, девочки, знаете, как это сразу чувствуешь. Идешь по улице, и все вроде прохожие как прохожие, спешат по своим делам, и вдруг замечаешь, что между тобой и каким-нибудь типом словно протягивается некая незримая нить…
Нет, это не совсем точно. Даже не нитка, а какой-то жесткий металлический стержень, потому что если ты от возмущения ускоряешь шаг, то и он его ускоряет, если ты замедляешь шаг, то замедляет и он, а стоит тебе остановиться, и он останавливается как вкопанный. Правда, при этом делает вид, что его что-то заинтересовало в витрине или на афише. В общем — «Сети шпионажа», трофейное кино.
В таких случаях я любила выбрать местечко понеуютнее, где нет ни витрин, ни афиш, ни досок «Мосгорсправки», где нет ничего, кроме бегущей толпы, и с самым дурацким видом вдруг замереть прямо посреди человеческого потока, повернуться к нему лицом и стоять так минуту, две, пять, наблюдая, как этот несчастный топчется на тротуаре и изображает, что у него шнурок развязался или что-то срочно нужно найти в карманах, или останавливая прохожих за рукав и спрашивая какую-нибудь чепуху. И не спускать с него глаз, пока у бедолаги нервы не выдержат и он либо, развернувшись, потрусит в противоположную сторону, либо, пряча глаза и отворачиваясь, прошмыгнет мимо. И тогда можно будет спокойно идти дальше.
Подходили они с предложением редко, за всю мою жизнь раза два-три, не больше. Однажды, много лет спустя, я у одного из этих смельчаков, когда мы с ним познакомились поближе, спросила, чего же он так долго выжидал? Он помялся, помялся и признался, что очень страшно было. И не просто боязнь отказа ему мешала, а что-то большое…
— Что-то необъяснимое, — смущенно пробормотал он.
— Наверное, это из-за моего роста и комплекции? — предположила я.
— Не только из-за этого… — ответил он.
— А из-за чего же?
— Не знаю, как сказать… Наверное, из-за того, что у вас внутри…
— Да? — сказала я и вспомнила слова скульптора, который с пьяной категоричностью отрубил Илье: «Она больше женщина, чем ты мужчина».
Наверное, и этот храбрец имел в виду что-то похожее…
3
Человек же, которого я не узнала, и не думал прошмыгивать мимо или смущаться. Он прямиком направился ко мне и сказал:
— Здравствуй, Маша! Ты меня не узнаешь?
И только тогда я его наконец узнала. Это был мой школьный учитель французского языка. Мы с девчонками, разумеется, звали его просто Французом. На самом же деле он был аджарцем и родился в селе под Батуми.
— Здравствуйте, Дмитрий Владимирович, — сказала я.
В жизни не встречала человека, который мог так измениться всего за каких-то полгода… Правда, я и сама за эти полгода очень сильно изменилась, но не настолько же! И только спустя минут десять я догадалась, что он сбрил свои роскошные сталинские усы.
Зачем же он столько времени шел за мной и не признавался? — удивилась я. Меня-то он наверняка сразу узнал. Я же усов не сбривала. Значит, просто хотел подольше полюбоваться, как я при ходьбе задницей кручу…
И он сразу стал мне совершенно понятен. Это позже, в годах, мы начинаем ценить любое внимание, но тогда мне это было крайне неприятно. Тогда я, дурочка, еще была уверена, что мое внутреннее содержание гораздо ценнее того, что у меня снаружи. И притом имела в виду совсем не то, что скульптор, — не сексуальность, а свою неповторимую душу и недюжинный интеллект.
— Как ты живешь? — спросил он, строго заглядывая мне в глаза. — Поступила в институт? Ты, кажется, хотела в медицинский?
Он никак не мог найти со мной правильного тона и злился из-за этого. Ведь с какой бы целью он ни увязался за мной, еще полгода назад я была его ученицей, и освободиться от этого ему было нелегко. К тому же он, наверное, чувствовал себя рядом со мной чуть ли не дедушкой. Знал бы он о Наркоме… Между прочим, тот тоже был грузин.
— Это мама хотела, — по-взрослому, как равная, усмехнулась я. — А мне больше нравился библиотечный…
— И что же? — все еще учительским тоном спросил он, но, спохватившись, по-свойски улыбнулся, подмигнул и добавил игривым тоном: — Поступила в библиотечный или не сдала иностранный?
Это была тонкая шутка, так как французский я знала лучше всех в классе и иногда, когда он заболевал, даже вела вместо него уроки.
Французским языком с трех лет занималась со мной бабушка, и поэтому у нас с Дмитрием Владимировичем постоянно возникали разногласия по поводу произношения того или другого слова. Дошло до того, что он однажды поймал меня после уроков в коридоре и попросил при всем классе замечаний ему не делать. Он сказал, что воевал, и поэтому у него был четырехлетний перерыв и он кое-что подзабыл, что каждый вечер занимается и очень благодарен за мои замечания. Он попросил меня передать привет моей бабушке и пошел по коридору, важно и строго неся свою голову с густой черной шевелюрой, зачесанной тоже по-сталински немножко вверх и назад.
Он был самый строгий из всех наших учителей. На его уроках всегда стояла мертвая тишина. Говорил он негромким отчетливым голосом и багровел от гнева, когда кто-нибудь нарушал дисциплину. Краснел он и когда я его поддразнивала, то выставляя обтянутую грудь, то показывая больше, чем положено, ноги…
Войдя в класс, он обычно доставал из брючного кармана большие золотые часы, маслянисто поблескивавшие в свете электрических ламп (мы учились во вторую смену), с мелодичным боем открывал крышку и клал часы на стол. И весь класс благоговейно замирал, чтобы не пропустить этого звона.
А когда девчонки забегали за чем-нибудь в учительскую, то видели одну и ту же картину: он всегда стоял лицом к окну под открытой форточкой и курил сигарету «Чайка», вставленную в толстый мундштук темного янтаря с золотым колечком на конце.
Сигареты эти продавались в маленьких пачках по десять штук и стоили рубль. У Дмитрия Владимировича они почему-то всегда пахли крепким одеколоном. Может, оттого, что лежали в кармане с надушенным носовым платком? Это было жутко шикарно и безумно нравилось девчонкам. Они все были в него тайно влюблены. Ему было тогда лет тридцать, никак не больше.
— Нет, — ответила я ему, — в этом году я никуда не поступала.
— Почему? — живо поинтересовался он. — Уж в ком, в ком, а в вас-то с Татьяной я был совершенно уверен.
— Бабушка умерла, и мне было не до этого… — сказала я, еле сдерживая слезы. На меня опять вдруг навалились все мои несчастья одновременно: и бабуля, и Нарком, и этот проклятый рыжий…
— Прости, Маша, я не знал, — тихо сказал он, участливо пожимая мне руку. Все-таки выдавил он из меня слезу.
4
Мы остановились у моего подъезда.
— Вот здесь я живу, — сказала я, промокая слезы уголком платка. Идти в пустой дом мне совсем не хотелось. Я знала, что в таком состоянии прореву целый вечер и даже не смогу читать.
— Как же ты живешь… одна? — осторожно спросил он.
— Так вот и живу… — прерывисто вздохнула я.
— Может, тебе нужна помощь? Деньги или еще что?..
— Нет, спасибо, Дмитрий Владимирович, — вздохнула я. — Деньги у меня есть, я хорошо зарабатываю.
— Ты пошла на работу?
— Нет, я шью на дому. Бабулечка меня научила. Только вы никому не говорите, а то патента у меня еще нет… — Я попыталась улыбнуться, и он с готовностью улыбнулся мне в ответ. Улыбнулся как равной.
— Если вы теперь такая важная персона, — сказал он по- французски, — то не соблаговолите ли посетить со мной известное вам кафе на Арбате и откушать там мороженое с клубничным вареньем?
— Пожалуй, — величественно ответила я тоже по-французски, — но только в том случае, если вы пообещаете, что мороженое будет шоколадное…
Мы рассмеялись. В это кафе-мороженое он однажды водил нас с Татьяной, когда мы еще учились в девятом классе. Мы тогда с Дмитрием Владимировичем втайне от всей школы готовили к Ноябрьским праздникам сатирический монтаж по «Клопу», «Бане» и стихам Маяковского.
Он жил рядом с нами на Суворовском бульваре, но домой нас пригласить не мог, так как сестра, у которой он жил, только что родила двойню. Поэтому он и повел нас в это кафе. Мы объедались мороженым и жутко хохотали, примеривая сцены и персонажи Маяковского к нашим школьным делам и некоторым нерадивым ученицам.
Наше выступление имело невероятный успех, и нас еще долго приглашали на всевозможные районные показы.
Попросив его минуточку подождать, я отнесла домой рулон бортовки, за которой ходила в отдел тканей ЦУМа, заодно переоделась, и мы отправились на Арбат.
В кафе он к мороженому заказал для меня бокал шампанского, а для себя коньяк «Самтрест» пять звездочек.
— Ты ведь уже взрослая, — строго улыбнулся он. Наверное, снова вспомнил, что он учитель.
5
Мы помянули бабушку, маму… Погрустили. Потом вспоминали наши школьные дела, смеялись. Потом я поинтересовалась, как поживают его племянники-близнецы.
Потом он заказал мне второй бокал шампанского, а себе снова коньяк, и принялся на чистом французском языке уговаривать меня поступать в институт иностранных языков хотя бы на вечернее отделение. Он сказал, что у него там работает фронтовой дружок, который поможет, хотя мне помогать не нужно.
Я по-французски, чтобы сделать ему приятное, согласилась.
А на следующий год и вправду поступила…
Он был чрезвычайно мил в тот раз в кафе. И вообще мы прелестно смотрелись со стороны. Ласково-снисходительный, чуть ироничный учитель и его ученица, осмелевшая от шампанского, мужского внимания и самостоятельности.
Мы болтали все больше по-французски, и он мне высказал много такого, что по-русски просто не решился бы произнести.
Потом мы с ним пошли в кинотеатр «Художественный» на последний сеанс и смотрели «Пармскую обитель» с Жераром Филиппом в главной роли.
Во время фильма я все время чувствовала его ищущее колено. Но когда я решительно отодвинулась и строго посмотрела на него, он тут же убрал ногу, а заодно и руку, которой постепенно стремился накрыть мою ладонь, лежащую на подлокотнике.
Мне не было жалко ни руки, ни ноги, но я очень увлеклась фильмом, мне безумно нравился Жерар Филипп, и если бы Дмитрий Владимирович сразу смело прижался ко мне ногой и забрал бы мою руку в свою, то я, наверное, среагировала бы иначе и, скорее всего, оставила все как есть, тут же об этом забыла и продолжала смотреть кино. Но то, что делал учитель, выводило меня из себя и отвлекало от фильма/ И слишком напоминало молодость и походы в кино с Алексеем… Где-то он там, бедняга? — со вздохом подумала я и опять сосредоточилась на экране.
После кино он проводил меня до дома и долго не хотел уходить. Мы замерзли, зашли в подъезд и постояли у окна на лестничной площадке между первым и вторым этажами. Там было так тепло, что его очки запотели, и он долго протирал их своим надушенным платком. Я сразу же вспомнила наши с Татьяной предположения и, вспомнив еще и о часах, спросила, не сломались ли они, ведь он за весь вечер ни разу не достал их из кармана.
— Нет, не сломались, — удивился он моему вопросу и достал часы.
Я протянула руку, и он положил их мне в ладонь. Они были восхитительно тяжеленькие, гладкие и теплые. Какая- то горячая волна пробежала у меня от руки по всему телу.
— Можно открыть? — спросила я.
— Конечно, — снисходительно улыбнулся он.
— А как?
— Нужно нажать на головку завода.
Я нажала. Крышка откинулась, и раздался тихий, мелодичный перезвон…
Я, как шестиклассница, увлеченно играла часами, а он стоял, глядя в замерзшее окно, и глухим голосом рассказывал, что, несмотря на все строжайшие запреты, вопреки здравому смыслу, вопреки всем человеческим законам я понравилась ему сразу, с первого же урока в нашем шестом «Б» классе. Как он ругал себя, запрещал себе смотреть в мою сторону и старался ничем не проявить своего чувства…
А может, он и вправду не на задницу мою смотрел, когда шел сзади, рассеянно думала я, слушая одновременно звон часов и его голос. А может, и вправду судьба посылает мне средство залечить раны, нанесенные Сидором.
— Нельзя сказать, — продолжал он, — что все это время после выпускного бала я ждал встречи с тобой… Но не забывал тебя ни на минуту. Ты постоянно жила в моем сердце…
Чувствуете, как это похоже на слова из письма, присланного мне с букетом чайных роз?
Я посмотрела на него с интересом и вдруг увидела, что он прической больше похож на Жерара Филиппа, чем на Сталина, на которого он теперь, без усов, стал совершенно не похож. И потом, у Сталина волосы от лба шли назад ровно, а у Дмитрия Владимировича с некоторым выступом посередине, который будет у нас страшно моден года через два и назовется «коком».
И потом, он в очках, а Сталин никогда не носил очков. Очки, вернее, пенсне носил Нарком. И когда он их снимал, глаза его становились немного напуганными.
— Конечно, — говорил Дмитрий Владимирович, — я почти на двадцать лет старше тебя, и у меня по-прежнему нет жилья, но мне обещают дать комнату на будущий год… Я понимаю, что ни на что не могу надеяться, но все же я надеюсь… Может быть, когда мне дадут комнату, а ты узнаешь меня поближе… Ведь, в сущности, эта проклятая разница в возрасте не так уж страшна… Главное — желание сделать женщину счастливой… У нас в селении очень много случаев, когда женятся вдовцы и муж бывает старше своей жены на тридцать и больше лет. И никто из женщин не жалуется… Главное — это сделать женщину счастливой…
— Вы женаты? — неожиданно для самой себя спросила я.
— Гм, гм, как сказать… — смутился он. — Я расписан с одной женщиной… Когда я пришел с войны и приехал в Москву, мне было так одиноко, а тут она. Кто-то ей внушил, что все грузины богатые люди… В общем, когда выяснилось, что я не как все грузины… Мы с ней не живем как муж и жена. Уже два года…
— Значит, когда я вам нравилась, вы еще жили с ней?
Он сверкнул на меня очками и снова отвернулся к окну.
— Это нельзя было назвать жизнью… Мы с утра до вечера скандалили…
— Почему же вы от нее не ушли тогда? — наивно спросила я.
— Это не так просто. Я боялся сделать ее несчастной…
— А сделать счастливой вы уже не надеялись? — спросила я и почувствовала себя учительницей, а его — учеником.
Он промолчал. Только щеки его побагровели настолько, что это стало заметно даже при тусклом свете пятнадцатисвечовой лампочки.
— А сейчас вы обитаете у нее? — спросила я и сама удивилась своей безжалостности.
— Нет, нет, что вы… — Он и сам не заметил, как сказал мне «вы». — Я снимаю комнатку тут недалеко на Сретенке, в Селиверстовом переулке, у одной милой старушки. У нее внучатый племянник работает на рафинадном заводе и приносит ей бракованный сахар…
— Как это — бракованный? — рассеянно спросила я, потому что мне показалось, что дверь моей квартиры тихонько шевельнулась. Словно бы она была слегка приоткрыта, и вдруг кто-то изнутри бесшумно прикрыл ее поплотнее.
— Бракованный — это значит или загрязненный, или поломанный в крошку, или промокший…
— Зачем же он вашей старушке? — спросила я, не отрываясь от двери. Дмитрий Владимирович с тревогой посмотрел в направлении моего взгляда и спросил почему-то шепотом:
— Что-то случилось?
— Да нет, ерунда, — тряхнула головой я. — Мне показалось, что моя дверь шевельнулась. Ну так зачем же ей грязный сахар?
— Она ставит на нем бражку. Потом, недели через две, ночью затыкает все щели и замочные скважины старыми тряпками и гонит самогонку.
— А потом? — спросила я.
— Потом она ее тихо пьет.
— Весело же вам живется, — сказала я.
— Да нет, пьяной я ее ни разу не видел. Обычно она запирается и тихонько шуршит у себя, как мышка в норке… Вполне безвредная старушка…
Он мне рассказывал забавные истории из жизни своей хозяйки, а я стояла, смотрела, как шевелятся его непривычно голые губы, и думала, что судьба могла бы быть и пощедрее ко мне. Неужели, думала я, мне придется поцеловать эти губы, которые, в общем-то, ничего, вполне нормальные губы, только, может быть, чуть тонковаты…
Для меня этот момент был очень важен. Если я не могла себе представить, как я поцелую какого-то человека, то ни о каких отношениях между нами он не мог и мечтать.
Это всегда было для меня чем-то вроде теста на совместимость. Так оно и осталось. Больше того — всякое увлечение с моей стороны, не говоря уже о большом и сильном чувстве, начинается с невинного и чаще всего подсознательного желания поцеловать кого-то в губы.
Почему, думала я, глядя на Дмитрия Владимировича, у пожилых мужчин всегда тонковатые губы? А у мальчишек полные, сочные? Ведь если он сейчас попытается меня поцеловать… Конечно, он не осмелится, он еще не привык, что меня можно целовать и за это ему ничего не будет, если только я разрешу это сделать, конечно… А я разрешу? Нет, не сейчас. Мне нужно к нему привыкнуть. Нет, он вполне нормальный, думала я, и губы у него нормальные, только немного тонковатые, и зубы хорошие, только чуть-чуть потемневшие от курева, а так он вполне нормальный и мужественный и похож на Жерара Филиппа, если слегка прищурится. Только нужно время, чтобы к нему привыкнуть, и поэтому ни о каких поцелуях и речи пока быть не может. Потом, попозже, может быть… Да и поздно уже!
Я слегка тронула его за рукав. Он повернулся ко мне с такой готовностью, словно ожидал от меня даже не знаю чего…
— Уже поздно, — как можно мягче сказала я. В конце концов, он же не виноват, что я пока не смогла бы его поцеловать. Он очень хороший и воспитанный человек и вполне сносно говорит по-французски, и глаза у него за очками горят такой надеждой, что я обязательно его поцелую…Только попозже, когда привыкну к тому, что он уже не строгий учитель, а совсем наоборот, хотя, конечно, не стоило ему так резко меняться…
— Да, да, конечно… — заторопился он, не зная, что делать дальше. Тогда я первая протянула ему руку и удивилась тому, какая у него маленькая и мягкая ладонь.
— А почему вы усы сбрили? — вдруг спросила я.
Он сильно смутился и пробормотал что-то невразумительное:
— Случайно… Так получилось…
— И решили теперь ходить без усов? — спросила я, чувствуя, как растет во мне подозрение, что и у него так же, как и у рыжего гарпунера, существует в жизни роковая тайна. И ничего хорошего лично для меня эта тайна не предвещает.
— А почему это тебя так интересует? — насторожился он.
— Я думаю, что вы напрасно их сбрили. Вам очень шли усы. В них были влюблены все наши девчонки. Я понимаю, они могут кому-то и не нравиться…
Он еще гуще покраснел.
— Совершенно не в этом дело, — сердито сказал он. — Нет у меня никого такого, кому они могут нравиться или не нравиться. Просто я сейчас без усов. Может быть, и отпущу со временем… А пока похожу так. Между прочим, без усов борщ есть удобнее. А я очень люблю борщ.
— А если я попрошу вас снова отпустить усы?
— Странная просьба… — замялся он.
— Что же в ней странного? Просто с усами вы мне нравитесь больше, чем без усов.
— А если я попрошу чего-нибудь взамен? — со значением спросил он.
— Вы сперва мою просьбу выполните, а потом мы и вашу рассмотрим… — уклончиво сказала я и еще раз взглянула на его голые тонковатые губы. Я совершенно не была уверена, что смогу удовлетворить его просьбу.
И все-таки что-то не так с этими усами, подумала я и, как потом выяснилось, была права.
На прощание он галантно поцеловал мне руку.
Поднимаясь к своей двери, я думала, что если с этими усами у него все в порядке и у него на самом деле никого нет, то, пожалуй, со временем я смогу привыкнуть к его губам. Тем более что он отпустит усы, они скроют верхнюю губу, слегка пожелтеют от дыма и будут приятно пахнуть табаком и одеколоном, а тогда он, может быть, вернется в тот образ, в который были влюблены все девчонки нашего класса, и я буду смотреть на него прежними глазами.
Оказывается, с печальным удовлетворением думала я, и мне не удалось уберечься от чьей-то неистребимой преданности…
6
Услышав, как он вышел из подъезда, я вставила ключ в замочную скважину.
После смерти бабули, которая почти всегда ждала меня дома, я стала бояться входить в пустую и темную квартиру. Это не прошло и до сих пор. И не столько боюсь, как неприятно. Просто мурашки по спине пробегают… Поэтому я всегда оставляю свет в прихожей.
Горел свет и в тот вечер. И чем-то неуловимо пахло. Чем- то совершенно непонятным, но отдаленно знакомым, и еще почему-то чаем. Я замерла с одним ботиком в руке…
На мне тогда были потрясающие итальянские лакировки, которые я купила в комиссионном магазине в Одессе, а поверх я надевала для тепла черные фетровые ботики с блестящими металлическими пряжками.
Так и не узнав запах, который я сразу отнесла к родным, домашним запахам, просто внезапно проявившимся ярче других, я сняла второй ботик, подошла к зеркалу, чтобы причесаться, и ноги мои подогнулись… На зеркале, приколотый иголкой к резной деревянной раме, висел фрагмент моей бумажной выкройки, на котором жирным красным карандашом было написано:
«НЕ БОЙСЯ — ЭТО Я, ЛЕХА. Я В СПАЛЬНЕ».
Тихо охнув, я, чтобы не упасть, прислонилась плечом к косяку, взглянула на дверь, как бы примериваясь к бегству, и шепотом спросила:
— Лешенька, это ты?
Если бы ответил чужой голос, то я даже не сумела бы убежать, так бы и сползла на пол по косяку, но через невыносимо долгую паузу из глубины квартиры раздался чуть глуховатый, с хрипотцой голос Алексея, который я не спутала бы ни с каким голосом на свете:
— Долго гуляешь…
Осторожно и робко, словно по тонкому льду, я направилась в спальню.
Он сидел в черном бушлате и черной шапке, положив правую ногу в чудовищном ботинке на стул. В руках у него был маленький алюминиевый ковшик с длинной ручкой, в котором обычно я варю яйцо к завтраку. Он что-то отхлебывал из этого ковшика. Уже более отчетливо запахло чаем.
Я, зажав себе рот ладонями, молча остановилась в дверях.
— Кто этот фраер? — спросил он и, поморщившись, переменил положение ноги, лежащей на стуле.
— Это мой бывший учитель французского языка… — чужим голосом с трудом выговорила я.
— Он не вернется?
— Нет, — помотала головой я. — Мы с ним не виделись с выпускного вечера, а сегодня встретились совершенно случайно, и он пригласил меня в кафе-мороженое… — почему-то начала оправдываться я, но Алексей меня перебил:
— Ключи от квартиры у кого-нибудь есть?
— Нет, только у меня. Бабушка…
— Я знаю, — снова перебил меня Алексей. — Папирос у тебя нет?
— Я не курю. Тебя выпустили? Как ты вошел? Почему ты не раздеваешься? Ты хочешь есть? Что у тебя с ногой?
Я сыпала вопросами, потому что совершенно не знала, как себя вести. Это же был мой Леха, которого я любила с самого детства, с которым мы ходили в «Повторку»… Мне бы надо было броситься к нему, обнять и расцеловать, а я как присохшая стояла у косяка, и мне было страшно, потому что этот человек не был моим Лехой, потому что он непонятно как попал в мою квартиру, потому что это он подсматривал за мной сквозь щелку в приоткрытой двери, и это мне не показалось, потому что он был в явно тюремной одежде, хоть я настоящей тюремной одежды не видела никогда, потому что он не зашел к себе домой и не переоделся, а явился сразу ко мне, потому что я не дождалась его…
Он поставил ковшик с дегтярно-черной жидкостью, от которой пахнуло чаем, на стул рядом с ботинком и снял шапку. Через его стриженную под нуль, залитую кровью голову наискосок шла глубокая, уже запекшаяся рана.
— Я в бегах, — сказал он.
— Господи! — выдохнула я. — Тебе же надо к врачу!
— Умнее ты ничего не придумала? — криво, как-то по- волчьи усмехнулся он, и у меня мурашки поползли по коже от этой усмешки. — Не бойся, я и так уйду…
— Ты с ума сошел! Куда ты пойдешь ночью в холод? — Я постепенно приходила в себя. Необходимость что-то предпринимать, спасать его придала мне силы и уверенности. — Что у тебя с ногой?
— Собака икру порвала…
— Разувайся, — скомандовала я. — Тебя ищут?
— Ищут, но не здесь…
Я наконец подошла к нему и осмотрела его голову. Рана, к счастью, была неглубокая.
— Чем это тебя? — спросила я, лихорадочно соображая, есть ли в нашей домашней аптечке, организованной еще дедушкой, йод и бинты.
— Мент промазал, — снова усмехнулся Алексей.
— Зачем же ты бежал? Тебя бы и так освободили. Сейчас всем амнистия, — сказала я.
— Не освободили бы, — покачал окровавленной головой Алексей. — Я там одной суке глаз выбил после амнистии. Мне еще пятерку накинули. И мента, который промазал, похоже, замочил, теперь мне вообще вышка светит.
— А как же ты сюда-то вошел?
— А как оттуда вышел? — спросил он.
Больше я его об этом не спрашивала, но поняла, что преград для него не существует.
7
Прихватив в спальне свой шелковый халат, я зашла в ванную, переоделась, тщательно со щеточкой вымыла руки, потом, забрав из аптечки все нужные медикаменты, вернулась в спальню, обработала йодом рану на голове и перевязала. Хорошо, что мама научила меня азам медицинской науки.
Потом я взялась за его ногу. Сняла ботинок, но задрать штанину не смогла — она вся пропиталась кровью и задубела. Я велела Алексею снять штаны, но он стал испуганно отказываться.
Судя по количеству вытекшей крови, рана была серьезная, и я настаивала. Наконец уговорила и собственноручно стянула с него брюки, так как он сам не смог бы это сделать.
Когда я развязала какую-то тряпку, которой он сам перевязал себе ногу, то чуть не упала в обморок, — рана была чудовищная. Она имела форму буквы «г», длиной сантиметров семь, а глубиной сантиметра полтора-два, и кровоточила. От страха я заплакала, но от страха же и решилась на то, на что не решилась бы никогда.
Я промыла эту жуткую рану перекисью водорода, потом обработала ее йодом…
Он сидел и побелевшими глазами молча смотрел на мои процедуры, словно это была чужая нога. Только желваки на скулах шевелились.
Потом я нашла тонкую и длинную иголку, слегка согнула ее, как видела в какой-то книге по хирургии, и вдела шелковую нитку. Она была, как назло, красной. Зато из натурального китайского шелка. Но после того как я пропитала ее йодом, она стала черной.
Нет, совсем не зря я читала медицинские книжки, выискивая, правда, в них совсем другое… Здравым умом я понимала, что просто так эта развороченная рана не зарастет и ее нужно зашить, а из книжек я смутно помнила, как это делается. Чтобы проверить себя, я пулей взлетела на стремянку, достала из-под самого потолка ту самую хирургическую книгу и взглянула на нужную картинку еще раз.
Все было верно. Я точно помнила, как делать хирургический шов. Нужно стягивать и завязывать по отдельности каждый стежок.
Я так переволновалась по поводу методологии, что само шитье у меня вызвало гораздо меньше эмоций и в обморок при первом же стежке я не упала.
Была уже глубокая ночь, в квартире стояла мертвая тишина, и я слышала, с каким страшным хрустом проникает иголка в тело и визжит протаскиваемая, мокрая от крови и йода нитка, как скрежещет зубами Леха. Еще было слышно, как стучат его зубы о ковшик с чаем. Но ни одного, даже самого тихого стона я от него не услыхала.
Шов получился отличный: хвостики у узелков одной длины, стежки ровные, на одинаковом расстоянии. Кровь почти перестала сочиться, потому что шов был плотный. Даже Алексей, осмотрев и пощупав шов, сказал одобрительно:
— Где научилась?
— Пошей с мое! — гордо ответила я.
8
После операции он почти не сопротивлялся. Я отвела его в ванную, раздела и по частям, чтобы не мочить голову и ногу, помыла. Трусы он, правда, не снял. Боже, какой же он был худющий! А грязный! И весь исколотый. С головы до ног…
Я дала ему дедушкин теплый халат и вышла, чтобы он сам домылся…
Пока он мылся, я приготовила на скорую руку яичницу из шести яиц с колбасой и целый кофейник густого сладкого какао.
Сперва я было села напротив, но не смогла смотреть на то, как он ест. Горло перехватило от жалости, глаза переполнились слезами, и я выбежала из-за стола, пробормотав, что пойду найду ему что-то из одежды.
Какое счастье, что бабушка ничего не выбросила из дедушкиных вещей. Кое-что было перешито для меня, например, серый габардиновый пыльник. Из него бабушка сшила мне замечательную юбку, которую я, расставляя в год по сантиметру, носила уже третий год, но остальное все висело в нашем огромном трехдверном гардеробе, заботливо укутанное марлей, с мешочками нафталина в карманах.
Рубашка для Алексея нашлась, и не одна. Он хоть и еще подрос в тюрьме, но был худее дедушки. А рукава на дедушкиных рубашках были всегда слишком длинны, и он, чтобы их подтягивать, носил специальные круглые резинки. На самом деле это были плотные пружинки из тонкой металлической проволоки, слегка приплюснутые с двух сторон, но их все упорно почему-то называли резинками. Я любила играть этими пружинками, а бабушка все время их у меня отнимала, потому что боялась, что я их растяну.
Рубашки у дедушки были двух типов, обыкновенные и со сменными воротничками. Они лежали отдельной стопкой и пристегивались к рубашкам изумительно гладенькими холодными никелированными запоночками. Я и ими любила играть, но бабушка в панике отнимала их у меня, опасаясь, что я их проглочу от восхищения или засуну в нос.
Опасения ее были не так уж и беспочвенны, в ухо я себе такую запоночку уже засовывала… И так глубоко, что для ее извлечения бабушке пришлось вооружаться пинцетом и надевать золотые «рабочие» очки.
Идеально чистые, накрахмаленные и отглаженные рубашки бабушка с нежной верностью хранила в верхнем ящике своего личного комода.
А я не дождалась Алексея…
Правда, он сам освободил меня от этого, передав с Толя- ном, чтобы я не приходила на суд и не ждала его. Но он не велел мне забывать его…
И вот он пришел и вправе спросить… И что я ему отвечу? Что забыла? Что была неверна? Сколько раз, спросит он. И я ведь не захочу соврать. Только имен, пожалуй, не назову. Не потому что боюсь. Ни к чему ему знать их имена. Хотя и боюсь тоже. Только не за себя. За них. За тех, кто жив.
Тут я невольно вздрогнула, ведь из четырех моих мужчин половины уже не было в живых. И кто знает, не для меня ли Нарком хотел завоевать эту шестую часть света, хозяином которой он уже фактически был? Тогда выходит, что и он погиб из-за меня? Хотя мне, конечно, очень самонадеянно и даже глупо было думать так про Наркома. Все его любовницы, которые уцелели, вероятно, думали так же, но все же…
А не из-за меня ли сел в тюрьму Алексей? Не для того ли он воровал, чтобы с шиком водить меня в кино и угощать шоколадом, который в те времена был немыслимой роскошью?
А я не дождалась его…
Но ведь он сам сказал, чтобы я его не ждала!
А разве дедушка своей смертью не освободил бабушку? Но она была верна ему до смерти. Умирая, она улыбнулась и шепнула мне, что скоро они встретятся. Она могла говорить в голос, но шептала, чтобы остальные женщины в палате не слышали. Это для нее было слишком личное, почти интимное…
Потом она попросила меня сходить за сестрой, чтобы та сделала ей укол. А когда я вернулась, она уже умерла. И на губах у нее застыла улыбка тайной надежды. И никто в семиместной палате даже не заметил, как она скончалась. Все думали, что она задремала.
Последние слова ее были о верности.
А я не дождалась Алексея.
И моя готовность отвечать за это уже ничего не меняла.
9
Глотая горькие слезы, я выбрала для Алексея две рубашки. Одну голубую в полоску, а другую чисто белую.
Пиджаки у дедушки тоже были всегда роста на два больше, чем это требовалось. Очевидно, он себя видел человеком более высоким, чем был на самом деле. Причем он не давал бабушке укоротить рукава, и они всегда закрывали его маленькие, сухонькие и, по признанию бесчисленных пациенток, «золотые» ручки до половины пальцев. Я выбрала темно-коричневый, двубортный, сильно приталенный.
С брюками было сложнее. Они были явно коротки, и отпустить было нечего. Я осмотрела даже летние, чесучовые. О том, чтобы Алексей мог появиться на улице в своих лагерных, и думать было нечего. Даже если бы я смогла их отстирать и погладить.
Вспомнив, что у меня лежит отрез костюмной полушерстяной ткани, черной в редкую полоску, я решила сшить ему брюки.
Хозяйка отреза заказала мне костюм. Она была полная и, в отличие от меня, низенькая, квадратная, и сильно страдала от своей полноты или, как говорят теперь, комплексовала. Ткань мы с ней выбирали вместе в Серпуховском универмаге. Она, вопреки моим советам, купила ее на полтора метра больше. Я была уверена, что ткани хватит и на брюки, тем более что ширина ее была 140 см.
Я готова была сидеть за машинкой всю ночь. Я готова была сделать все что угодно, лишь бы он не спрашивал, как я его ждала вопреки его наказу не ждать…
Дедушкино прямое пальто с черным каракулевым воротником и такой же каракулевый пирожок даже и примерять не нужно было. Дедушке оно было почти до ботинок. Я беспокоилась лишь о том, подойдут ли Алексею дедушкины белоснежные бурки из белого плотного войлока, которые бабушка всегда мыла мочалкой с мылом.
Если не подойдут, решила я, нужно будет отмыть с мылом его ужасные ботинки и как следует надраить гуталином, тогда в них можно будет выйти из дома.
А вот в чем не было недостатка в нашем доме, так это в шерстяных ручной вязки носках, перчатках и варежках. На этот счет я была совершенно спокойна. Бабушка навязана их на всю мою жизнь вперед. Я и до сих пор зимой хожу дома в ее носках, которые приятно пахнут нафталином.
Это странно, но я тогда ни на секунду не задумывалась о том, что, укрывая и способствуя беглому заключенному, я совершаю уголовно наказуемое преступление. О том, что Алексей действительно опасный преступник, что он кому-то там выбил глаз, что кого-то «похоже, замочил»… Я уже знала значение этого слова и слова «вышка». Мне его как-то объяснил Нарком.
Когда я вернулась в кухню, он стоял около плиты и готовил в ковшике свой особый чай, который называл «чифирем». Он даже не оглянулся на меня, когда я вошла. От него и раньше-то слова не услышишь, а тут я решила, что он все про меня знает. Знал же он откуда-то про смерть бабушки. Я хотела, чтобы он сам заговорил об этом, и боялась этого.
Не зная, что ему, сосредоточенному на булькающей кастрюльке, сказать, я решила, что лучше всего продолжать действовать, и вышла за портновским метром.
Когда я вернулась, он уже приготовил свой «чифир» и держал обернутый полотенцем ковшик в ладонях, словно сидел в заснеженном лесу и грелся, хотя на кухне, как и во всей квартире, было очень тепло и уютно. Он с закрытыми глазами склонился над ковшиком и глубоко и осторожно вдыхал горячий, пахучий пар.
Никогда я не видела у него такого мечтательного выражения лица. Я поняла, что он не слышал, как я в своих толстых вязаных носках подошла к кухне, и, бесшумно отступив, вошла, уже громко топая.
Он поднял голову и посмотрел на меня затуманенными глазами.
— Мне нужно обмерить тебя, — сказала я, показывая ему метр.
— Зачем? — спросил он.
— Я подобрала тебе всю одежду, кроме брюк. Хочу сшить.
— Когда? — коротко спросил он.
Я замялась, так как не знала, когда он собирается уходить, но через секунду ответила:
— Сейчас… — и, предупреждая его вопросы, добавила: — Мне потребуется часа три. Ты сможешь пока отдохнуть…
Он взглянул на наши кухонные часы в виде деревянного резного домика с давно умолкнувшей кукушкой и украдкой вздохнул про себя. А я почувствовала, что в нем словно распустилась туго скрученная мощная стальная пружина.
— Хорошо, — сказал он, бережно ставя на стол ковшик, — обмеряй.
— Встань, — сказала я деловым тоном, как бы исключающим любые другие отношения кроме отношений портного и клиента.
Он поднялся, такой домашний и смешной в дедушкином тяжелом бархатном халате с расшитыми шелковым шнурком петлями, туго перехваченный в тонкой талии шелковым же толстым шнуром с кистями на концах.
Я смело подошла к нему, обмерила его талию и перемерила еще раз, так как не поверила себе — талия у него была 59 сантиметров в толстом халате. На халат я сбросила три сантиметра, и получилось 56. Такой талии не было у Таньки и в двенадцать лет, а уж обо мне и говорить не приходится. Потом я обмерила его в бедрах.
Когда я мерила длину по бедру, то нечаянно наткнулась рукой на что-то твердое и тяжелое в его кармане. Я сразу поняла, что это пистолет, и вопросительно взглянула на него. Он догадался, о чем мой немой вопрос, но промолчал, и только губы дернулись в подобии усмешки.
Мне еще оставалось смерить только длину в шаге, от промежности до косточки на щиколотке, но я не решилась на это. Я не знала, в трусах он или без. Вся его одежда, включая ватник и шапку, была им свернута в аккуратный узел и лежала в углу, в ванной комнате. И вообще было как-то неосмотрительно лезть с метром в промежность человеку, у которого в кармане наверняка заряженный пистолет. Я решила эту цифру определить на глазок.
10
Швейная машинка стояла у меня в спальне, но кроила я всегда в гостиной на большом круглом столе, сняв с него хрустальную вазу с букетом засушенных листьев, которые я и в эту осень собрала на Тверском бульваре, как делала это всегда с бабушкой, а иногда и с мамой, и обе скатерти, льняную и кружевную.
Алексей сел со своим ковшичком в дедушкино и мое кресло и, шумно прихлебывая еще горячий «чифир», наблюдал за мной.
Кроила я всегда быстро и экономно. Бабушка говорила, что у меня хорошо развито пространственное воображение. У нее самой оно развито было слабо, и потому кройка давалась ей с трудом.
Когда я подросла, она с легкой душой переложила ее на меня, оправдываясь ослабевшим зрением. Но нитку в самую тонкую иголку она по-прежнему вдевала с первого раза.
За всю кройку мы не проронили ни одного слова. Он даже не двигался. Лишь когда допил свой «чифир», нагнулся и поставил ковшик не на широкий подлокотник, куда мы с дедушкой ставили стакан с чаем в серебряном подстаканнике, а на пол около кресла.
Когда я все сметала на живую нитку и протянула ему, чтобы он примерил, он поднялся, растерянно взял у меня брюки и беспомощно посмотрел вокруг, не зная, что делать. Но растерянность его длилась лишь мгновение. Он тут же нахмурился, рассердившись на меня за свою растерянность, и сказал с излишней грубостью:
— Выйди! Или не понимаешь?
Я, пряча грустную улыбку, вышла из гостиной: Очень уж мне эта ситуация напомнила наши посещения кино, когда я в темноте тщетно пыталась прикоснуться к его руке или ноге. И как это он так расслабился, что позволил себя раздеть и помыть? Наверное, просто не было сил сопротивляться…
Теперь же он, зашитый, перевязанный, мытый, сытый и напившийся «чифиря», стал прежним, неприступным, таинственным и непостижимым Лехой. Только папиросы в углу рта ему не хватало..
И я опять стала прежней. И расстояние между нами опять сделалось бесконечным, как в те безмерно далекие годы… И я не знала, радоваться этому или огорчаться.
Примерял он наметку долго. Наверное, ему было это трудно с раненой ногой. Я даже не вытерпела и спросила, можно ли войти. И только через минуту после моего вопроса он глухо ответил:
— Входи.
Все оказалось по-другому. Дело было, как я поняла, не в ноге, а в оружии. Халат, аккуратно сложенный, лежал на стуле, и под его полой сверху я сразу различила силуэт большого пистолета.
Он перехватил мой взгляд и шевельнул желваками, недовольный тем, что не смог укрыть его от моего взгляда.
— Не прячь ты его, — сказала я так, словно говорила о рогатке, — мне нет до него никакого дела.
— Если меня здесь с ним заметут, то и дело заведется, — оскалился он в своей новой волчьей усмешке, не распуская прищуренных напряженных глаз.
— Ты же сам сказал, что ищут тебя не здесь, — бесстрашно возразила я.
— Всякое бывает… — уклончиво сказал он.
— Поэтому ты и боишься лечь и поспать? — с обидой сказала я, потому что в его уклончивых словах просквозило такое презрительное недоверие, что уж лучше бы он плеснул мне в лицо своим «чифирем», и то было бы менее обидно…
— Ладно… — примирительно, с каким-то даже удовлетворением сказал он, наверное, ему понравилась моя реакция. — Я же сказал, что всякое бывает… — Он произнес это уже совсем другим, чуть ли не дружеским тоном. — Меня же могли выпасти… Я хоть и смотрел, но у ментов сноровки много…
— Тогда они тебя бы давно взяли. Не стали бы утра дожидаться… Брать по ночам у них любимое занятие, — сказала я, вспомнив, что именно ночью, как рассказывала мне мама, забирали папу, хотя могли сделать это днем, просто на той же служебной машине отвезти куда надо. Ведь шофер-то зарплату получал в органах.
— Береженого Бог бережет, — сказал он, и в его словах уже не было ни презрения, ни злобы.
— Ну хорошо, — вздохнула я, показывая, что принимаю его оправдания. — Шить я буду в спальне. Хочешь, ложись здесь на диване, я дам тебе подушку и укрою, а хочешь, пойдем со мной. Только там ты вряд ли уснешь под машинку…
Я ушла в спальню и принялась налаживать машинку. Вскоре появился и он, в халате, с одной рукой в кармане с пистолетом и с наметанными брюками в другой руке. Я молча взяла их у него, вывернула и принялась строчить.
Он сел сбоку от меня на кровать. Машинка у меня была ножная, и от движения ног скользкий шелковый халат соскользнул с колена. Я не скажу, что так все и было задумано, но боковым зрением я с удовлетворением увидела, как он уставился на мою ногу и заерзал на кровати.
А может, он и не знает ничего обо мне, легкомысленно подумала я, может, про бабушку ему дружки написали. На ее похороны пришли все ее подруги и с Тверского бульвара, и из Лехиного двора. Может, чья-то мамаша или бабушка была среди них, вот они и узнали. А большего они знать не могли. Про Макарова вообще никто не знал, кроме Татьяны и Зинки, когда она нас подловила в подвале.
Илья очень редко провожал меня до дома. Хотя, конечно, с Ильей меня могли видеть…
Зато про Наркома они вряд ли могли догадаться. Там дело было поставлено четко. Он же сам сказал, что у них сноровки много.
Рыжий вообще в Москве был три дня… А больше у меня никого и не было…
И вообще, откуда я могла знать, что с ним. Жив ли он, помнит ли? Почему он даже адреса мне не прислал? Я бы письма ему писала, посылки посылала…
— Почему ты мне не написал? — спросила я, не отрываясь от шитья.
— А чего писать? — Он пожал плечами. — Отрезано так отрезано…
— А кто отрезал? — спросила я, ведя строчку и со скоростью швейной машинки соображая, что до Ильи, вернее, до того времени, когда он начал меня провожать и его могли со мной увидеть, прошло около года. А до этого мы с Танькой просто таскались в его мастерскую, и вряд ли кому-то пришло в голову за нами следить.
— Я отрезал, — сказал он без всякого выражения.
— А было что отрезать? — тут же воспользовалась ситуацией я. Но напрасно я думала, что с ним можно чем-то воспользоваться. Он мне просто не ответил.
— Как ты там жил? — через долгую паузу, приступая к следующему шву, спросила я.
— Хорошо. — Он помолчал. — Было нормально со жратвой и с шалавами.
— Что, что? — переспросила я, оторвавшись от шитья.
— Я говорю — хватало и хавки и баб.
Мне опять показалось, что он все про меня знает и пытается мне отомстить.
— Зачем ты это мне говоришь?
— Чтобы ты знала.
— Где же ты все это находил? — растерянно спросила я.
— Рассказать подробности? — холодно спросил он.
— Нет, нет… — торопливо сказала я, так и не зная, верить ему или нет. Мне очень не хотелось ему верить.
Мы надолго замолчали, и во мне начала потихоньку вскипать злость. «Как же так? — думала я. — Тут сидишь, мучаешься угрызениями совести, а оказывается, он первый мне изменил. И при этом не дал ни соломинки, за что могла бы ухватиться моя верность. Он просто вычеркнул меня из жизни».
— А тебе не интересно знать, как я здесь без тебя жила? — спросила я, понимая, что во мне просыпается стерва, которую будет трудно остановить.
— Не интересно, — сказал он.
— Мне тоже тут хватало мужчин, — с мстительной усмешкой сказала я, ожесточенно нажимая педаль машинки.
— Не гони машину, вспотеешь — простудишься… — усмехнулся он.
— Ты мне не веришь? — Я остановила машинку и разъяренно взглянула на него. На его губах блуждала загадочная улыбка. Да он просто пьян от своего «чифиря», решила я, но, заглянув в его глаза, поняла, что заблуждаюсь…
11
Дошивала я брюки в полном молчании. Несколько раз я видела, как он клюет носом, но лечь больше не предлагала. Во все время этого злобно-молчаливого шитья я поносила его про себя последними словами. Ну что я в нем находила, часами вжимаясь лицом в колючий штакетник или дожидаясь на лавочке во дворе? Что в нем такое есть, чтобы думать о нем годами и теперь страдать от того, что он спая там с какими-то шлюхами, наверняка такими же ворюгами, как и он?
Но вскоре справедливость во мне победила и я вспомнила, что сама изменила ему вовсе не потому, что узнала о его изменах, а потому, что больше не могла терпеть. И тогда я его не то чтобы простила, а как-то успокоилась насчет его зечек мокрохвостых.
Когда я закончила брюки — это было около пяти часов утра, — мы были уже совершенно посторонними людьми. Я думала, что, когда он уйдет, лягу спать и не буду вставать трое суток. А телефон я обрежу…
Розеток, чтобы его можно было спокойно выключить, тогда еще не было. А снимать трубку мы боялись. Существовало поверье, что за это могут отключить телефон насовсем.
Брюки удались на славу. Это хоть и не исправило моего гнусного настроения, но доставило минутное наслаждение. Я всегда искренне радовалась, когда вещь у меня получалась. Этому научила меня бабушка. Она говорила, что если не радоваться удачам больше, чем заказчик, то быстро разучишься огорчаться неудачам и из свободного и гордого мастера превратишься в тупого и бесчувственного батрака, в подневольное животное.
Радость свою в данной ситуации я, естественно, скрыла за пренебрежительной миной. Когда он похвалил мою работу, я только пожала плечами — мол, получилось и получилось, что мы, брюк не шили?
— И что ты собираешься теперь делать? — спросила я у него, откровенно зевая.
— Я сейчас пойду, — безнадежно сказал он.
— Я тебя не гоню, — как можно безразличнее пожала плечами я. — Просто я валюсь с ног и пойду сейчас спать в бабушкину комнату. Ты хочешь — иди, хочешь — оставайся и ложись здесь или в гостиной на диване. Я дам тебе подушку и чем укрыться.
— Нет, — неуверенно сказал он, — я пойду.
— Ты специально пойдешь в пять часов, чтобы быть одному на улице и чтобы каждый милиционер обращал на тебя внимание? Кстати, я так и не поняла, зачем ты приходил?
— Еще поймешь, — ответил он без всякой угрозы, но я поежилась от этих слов.
— Ну хорошо, скажешь, когда захочешь, но я тебе советую поспать часов до восьми, потом спокойно позавтракать и вместе со всеми выйти из дома, как на работу. На тебя и внимания никто не обратит.
Он с минуту подумал, потом сказал:
— Я лягу здесь. Встану в восемь и уйду.
— А я заведу тебе будильник, — с облегчением сказала я.
— Мне не нужен будильник, — ответил он.
— Тогда я поставлю его себе, чтобы приготовить тебе завтрак, — сказала я.
12
Хоть сил уже не было никаких, но я, опять же неукоснительно следуя бабушкиным заветам, помылась и почистила зубы. Проходя в ее комнату мимо своей спальни, я заметила из-под двери полоску света. Понимая, что спросонья он может и выстрелить, я решила все-таки войти и погасить свет, чтобы не мешал ему спать. Тихонечко надавив на ручку, я бесшумно открыла дверь и сперва просунула туда руку, чтобы он понял, что это я. В крайнем случае, думала я, в руку труднее попасть, чем во все остальное, а в самом крайнем случае от ранения в руку никто не умирал.
Немного подождав и убедившись, что в меня никто не стреляет, я заглянула в спальню.
Он спал на животе, зарывшись лицом в подушку и разметавшись по кровати. Одна рука его была засунута под подушку, где, как я догадалась, лежал пистолет. Одеяло почти все сползло на пол.
Он был страшно худой, с выступающими ребрами и весь разрисованный своими крестами, могилами, кинжалами и звездами. На нем были трусы. Наверное, он их выстирал и высушил на себе. Теперь они стали стального цвета, а когда я его по частям мыла в ванной, то решила, что они черные.
Как ни тепло у нас было, но я побоялась, что он, ослабленный голодом и ранами, может простудиться, и, подойдя к нему, осторожно подняла с пола одеяло и укрыла его.
Он перевернулся на спину, но не проснулся. На порозовевших от сытости и сна припухлых, почти мальчишеских губах проступила блаженная улыбка. У меня сердце защемило от жалости. Он стал так похож на того маленького Леху, которого я безмолвно и беззаветно любила все детство. Он так улыбался, когда я приносила ему бабушкино печенье… Или когда мы наконец сбивали лед с самой последней, стертой и пожелтевшей от времени ступеньки его белокаменной лестницы, и он, сметя осколки льда, голяком, бегом, вприпрыжку поднимался до самой своей двери на втором этаже и смотрел на меня сверху с довольной, вот точно такой же улыбкой.
Слезы сами собой побежали по моим щекам и одна капнула ему на веко. Он медленно, все еще продолжая улыбаться, открыл глаза и, протянув свою худую, но сильную руку в наколотых перстнях, неловко и бережно, согнутым указательным пальцем вытер слезы с моих щек. Так он делал всегда, когда мы были оба маленькие, и перестал, когда повзрослели, а он стал курить и стоять со взрослыми ребятами у голубятни, откуда слышались гитара и ленивый мат.
Забыв обо всех своих страхах и обидах, я наклонилась и прижалась к нему щекой, чтобы поплакать по загубленным нашим жизням, особенно по его, по нашей несостоявшейся любви, по его неизвестной теперь судьбе… Он лежал не шевелясь, но и этого мне было достаточно. Выплакавшись и успокоившись, я тихонько поцеловала его в небритую щеку. Впервые уколовшись губами о колючки, я, не помня себя от внезапных чувств, прошептала:
— Мой сладкий ежик…
— Свет, — тихо сказал он.
— Что? — не поняла я.
— Свет погаси, — сказал он хриплым голосом.
Я живо встала, подбежала к двери и щелкнула выключателем. В темноте я расстегнула пуговицы халата и слегка шевельнула плечами. Скользкий и тяжелый шелк, лаская тело, мгновенно сполз с меня. Переступив через халат, я подошла к кровати и на ощупь, так как глаза еще не привыкли к темноте, приподняла одеяло и скользнула в нагретую им постель.
Он лежал на спине, вытянувшись и положив руки на одеяло. Я прижалась к нему пылающим от внезапного желания боком. Он даже не шевельнулся в ответ, только его вдруг начала бить дрожь. Она была настолько сильная, что его всего выгибало, и я слышала, как клацают зубы.
Будь я понеопытнее, обязательно испугалась бы… Но такая же дрожь в похожих обстоятельствах била и меня, и Илью…
Не обращая внимания на его зубную дробь, я повернулась к нему, навалясь своей тяжелой грудью, закинула на него ногу и прижалась губами к родным губам.
Я беспокоилась только об одном: как бы не потревожить его рану, и поэтому положила ногу повыше, туда, где сразу почувствовала, как бешено он возбужден…
Он совершенно не умел целоваться. Когда я своими губами и языком раскрыла его рот, он так и остался недвижим и безволен. Словно он даже не догадывался, как действуют в таких случаях. Я тщетно вдыхала его чайный запах, но поцелуя не получалось.
А потом, у него совершенно куда-то пропали руки. У него их опять не было, как много лет назад в темноте кинотеатров. Он не то что не обнимал меня, он даже умудрялся каким-то образом не дотронуться до меня, до тех мест, прикоснуться к которым мечтали сотни мужиков, и я видела это в их глазах. До тех мест, едва притронувшись к которым мужские руки становятся жадными и ненасытными, как и их глаза, если они не гасят при этом свет…
Медленно, едва прикасаясь, чтобы чувствовать его каждой клеточкой, я повела ладонью по его атласному, хоть и худому телу, ощутила напряженные, твердые, как и у меня, соски, почувствовала, как катится вслед за моей рукой по его колее волна крупных мурашек, добралась таким образом до трусов и, прежде чем нырнуть под резинку, погладила его сверху, удивляясь почти хрупкой, почти звенящей, почти стальной твердости.
От этого движения Леха внезапно вскочил, перелез через меня и встал с кровати. Потом он скинул с кровати мои ноги, явно побуждая встать и меня. Я поднялась, ничего не понимая, и потянулась, чтобы обнять его. Он почти грубо оттолкнул мои руки, развернул к себе спиной и заставил нагнуться. Сообразив наконец, что от меня хотят, я оперлась руками о кровать и слегка расставила ноги.
Нельзя сказать, чтобы такая позиция была мне незнакома, но никогда еще мне не приходилось с нее начинать, притом в самый первый раз.
Это было восхитительное ощущение, когда он, огненно- горячий и твердый, начал настойчиво и слепо, как теленок, впервые подпущенный к материнскому вымени, тыкаться в меня и никак не мог нащупать дорогу к блаженству.
А дорога, как я уже говорила об этом раньше, была свободна, широка, выстлана розами желания и умащена росою любви, но все равно он долго не мог найти правильного пути, словно и вовсе не знал его.
Я помогала ему как могла, но он все время, наверное из- за своего роста, попадал чуть выше. Наконец я не выдержала, изогнулась назад, поймала его своей рукой и направила на путь истинный… Он не вошел, он ворвался в меня и заработал как бешеный…
Никогда я еще не испытывала ничего подобного. С первого же его сильного проникновения меня пронизало болезненно-восхитительное, невероятно острое наслаждение. Будучи уже совершенно готовой ко всему, я в одно мгновение взлетела на самую вершину блаженства, и такое у меня потом создалось впечатление, что не спускалась с нее до тех пор, пока наслаждение незаметно не перешло в боль…
Опомнилась я тогда, когда боль, усиливаясь с каждым его движением, стала нестерпимой. Я даже попыталась отстраниться от него, но, кажется, я уже говорила о том, какие у него сильные руки? Он схватил меня за бедра и с силой насаживал на себя… Под конец я уже в голос умоляла его кончить, но он все с той же беспощадностью входил и входил, раздирая меня изнутри, так как от пресыщения, боли и страха я даже высохла, чего до этого со мной не случалось никогда.
Когда он наконец содрогнулся в последнем глубоком движении, наполняя меня освободительным теплом, я, к своему глубокому удивлению, все же успела, позабыв на мгновение о боли, отблагодарить его тем же.
Обессилено выйдя из меня, он вытерся своими трусами, которые, как выяснилось, он и не снимал вовсе, а только слегка приспустил.
Фонари на улице светили ярко и, отражаясь в чистом, свежем снеге, заливали спальню синевато-серым светом. Глаза мои освоились в полумраке настолько, что я различила все наколки на его плечах и на спине, когда он ложился.
От торопливости, с которой он поспешил натянуть трусы и скрыться под одеялом, от того, что он сразу отвернулся к стене и, вытянувшись в струнку, застыл, я вдруг сразу поняла про него все. Я будто увидела всю его страшную, исковерканную жизнь в лагере, жестокие и отвратительные нравы, царящие там, всем сердцем почувствовала его полудетское, полублатное отношение к любви… Грязное и нелепое. Мне стало безумно жалко его. Я поняла: кроме меня, ему никто не расскажет, что все это не так… Может, и расскажут, но никому, кроме меня, он не поверит.
Нужно было бы побежать в ванную, помыться, но мне было жаль расставаться с его сладко-горьким соком, и я, заключив его в себе, словно в плотно сомкнутых ладонях, не позволяя ни капле просочиться наружу, осторожно легла рядом с ним.
Некоторое время мы лежали молча. Потом я тронула его за плечо, и он послушно перевернулся на спину. Я погладила его по лицу, по забинтованной голове, по груди, по губам, и начала что-то шептать…
Уже на другой день я не помнила, какие слова я ему говорила, щекоча его ухо своим дыханием, но до сих пор помню, что именно хотела ему сказать.
Мне хотелось, чтобы он узная, как это прекрасно — целоваться и чувствовать трепетный, неутомимый, жадный язык любимого и алкать его со всей его сладкой влагой, о том, как дорого каждое прикосновение, как жаждет любимых губ все тело и особенно самые потаенные его уголки, как оно узнает и чувствует их.
Я хотела, чтобы он поверил в то, что руки его могут быть чудом, восторгом, откровением, прибежищем.
Что вовсе не обязательно монотонно работать своим поршнем подобно паровозу на длинном перегоне, что вдвоем с женщиной можно сделать это путешествие восхитительным, а поодиночке приедешь совсем не туда, если вообще доедешь до конца.
Мне хотелось убедить его, что не нужно стыдиться своего тела, потому что оно прекрасно, если ты его отдаешь, даришь человеку, которому оно нравится, и ужасно, когда ты хочешь его без любви и нежности насытить чужим телом. Ты при этом становишься людоедом.
Я хотела открыть для него бесконечность любви, безграничное разнообразие ее движений и поз.
Откуда во мне был этот опыт? Где он хранился, неосознанный и неощутимый? Этого я до сих пор не знаю. Но в одном я твердо убеждена: если бы кто-нибудь записал эту любовную проповедь на магнитофон, то получился бы вполне современный учебник по сексологии. Но мы тогда такой науки не знали. Да и секса на шестой части света, как известно, не было до 1990 года.
Гипнотизируя его своим сбивчивым шепотом, я наконец стянула его мерзкие липкие трусы и с восторгом ощутила все его тело. Оказывается, он уже давно был готов к новой любовной схватке, но я решила не торопить события и стала нежно ласкать его руками, как бы иллюстрируя свою лекцию… И тут вдруг мои пальцы наткнулись на какое-то непонятное твердое и круглое утолщение. Оно было сверху, сразу под головкой, величиной с лесной орех и такое же твердое. Возможно, именно из-за этого утолщения я и получила новые небывалые ощущения. Именно оно привело меня поначалу в экстаз и чуть позже, когда желание иссякло, причинило такую острую боль.
— Что это? — испуганно спросила я.
— Шарик, — с затаенной гордостью ответил он.
— Какой шарик? — ошарашенно спросила я.
— Золотой.
— А как он туда попал? — растерялась я.
— Еврей лепила вживил. — В его голосе почувствовалось расположение к этому еврею.
— А что такое «лепила»? — спросила я.
— По-вашему — врач, — ответил он, и я отметила это «по- вашему», которое разделяло нас решительнее, чем кирпичная стена с колючей проволокой.
— А зачем? — робко спросила я.
— Чтобы лучше шалашовок шкворить, — по-волчьи усмехнулся он.
— А где же ты золото достал? — спросила я, чтобы только не молчать и не заплакать от острой и распирающей горло жалости.
— Там я могу все достать, — гордо ответил он.
— И тебе не больно? — спросила я, осторожно потрогав его шарик.
— Нет, — сказал он, — зато от шалашовок отбоя нет. И спускаешь не так быстро…
Странные чувства охватили меня. С одной стороны, я помнила недавнюю острую боль, а с другой — во мне неудержимо поднималось желание снова испытать то острое, ни на что не похожее наслаждение, которое предшествовало боли. Я чувствовала, как с его влагой смешивается обильная моя и сочится из набухшей, как весенняя почка, плоти.
Не будучи в состоянии противиться этому желанию, я осторожно, чтобы не повредить его раненую ногу и не спровоцировать к привычным ему грубым и резким действиям, как змея, заползла на него и, не прикасаясь к нему руками, своею раскрытой плотью захватила и поглотила его.
Или я и в самом деле загипнотизировала его своим горячечным бредом, или он сознательно понял и принял мои слова, но так или иначе он доверился и покорился мне, желая на деле проверить справедливость моих слов. Он был податлив и послушен каждому мучительно замедленному движению и шел навстречу, безошибочно попадая в мой по- змеиному вкрадчивый ритм.
Зная о его шарике, я чувствовала его каждой клеточкой своего тела, боялась быстро насытиться и превратить наслаждение в боль и потому оттягивала завершающую вспышку как могла, вкладывая в это все силы и получая неизведанное изысканное удовлетворение от самих этих усилий.
Потом, не выпуская его из себя, я перевернулась, высоко подняла ноги, и, поддерживая их руками, позволила ему проникнуть в себя так глубоко, что мне показалось, будто мы слились в одно, и это я в него проникаю, а не он в меня…
Последней вспышки не было. Нас не было! Мы одновременно растворились и исчезли в нашей любви…
И так в то утро и в тот день было много раз. Так было много по многу раз.
13
Он все-таки немного словно оттаял. В перерывах он, закурив свой горький «Север» (я даже не помню, когда сбегала в магазин за папиросами, едой и чаем), рассказывал о лагере и прихлебывал живительный «чифир», от которого он чувствовал, как шевелятся и зарастают раны. На мой вопрос, почему он так странно сзади со мной начал, он сказал, криво усмехнувшись:
— По-другому там нельзя.
— Почему? — не поняла я.
— Там они грязные, я грязный, и под ногами грязь… Повсюду грязь. И потом, так не видишь, кто перед тобой…
Я не совсем поняла, что он имеет в виду.
Ушел Алексей вечером.
Когда он полностью оделся, то стая так похож на доцента МГУ, что я, не выдержав, прыснула. Ему только очков не хватало. Я предложила ему бабушкины, золотые, для маскировки, но он отказался, потому что плохо в них видел.
Мы ни слова не сказали о продолжении. Но под конец я не удержалась и спросила:
— Мне тебя ждать?
— Надо мной «вышка» висит за того мента…
— А если ты его не убил? Если ты выйдешь оттуда по-настоящему?
— Тогда не так скоро я оттуда выйду…
— Ну и что? — спросила я.
— Вору жена не полагается, — отрезал Алексей.
Он подошел к двери и остановился.
— Шмотье мое разрежь на куски и разнеси по разным помойкам подальше от своего дома. В бушлате за подкладкой два пресса денег. Один тебе, другой передай матери. Сообрази сама как. Наболтай что-нибудь об освободившемся дружке… Скажи, что не пишет, потому что писать не любит. Скажи, что посылок не надо… Но не сейчас. Ее наверняка уже менты пасут… В общем, не знаю, что ты ей будешь говорить… Скажи, чтобы зла не держала, а я, если выплыву, — ее не забуду, а если нет, тогда и суда нет…
Он улыбнулся с прищуром, по-лагерному.
— Посмотри на всякий случай на лестнице, с понтом, будто почту проверяешь.
Я вышла на лестничную клетку и долго гремела висячим замочком на почтовом ящике, словно никак не могла его открыть. На лестнице не было ни души. Достав из ящика «Вечерку», я зашла в квартиру и сказала, что вроде никого нет. Он достал из нагрудного кармана пистолет, щелкнул там какой-то кнопочкой и переложил его в боковой карман.
— Если что, то перевязывался и зашиваяся сам, а тебя все время держал под пистолетом. С понтом, мол, ты не по своей воле. День пройдет, от одежды избавишься — ничего не бойся. Деньги чистые, из общака. На них ни крови, ни списанных номеров нет.
— Да, я забыла тебе сказать, когда рана заживет, ниточки разрежь и резко за узелок вытащи.
— Лагерный лепила вытащит, — безразлично сказал он и добавил: — Не было ничего у нас и не будет. Вору любовь не полагается.
И вышел.
На очень долго…
Так и получилось, что моим шестым был мой самый первый.
Чтобы решить, мог ли он прислать эти розы с письмом, нужно знать о том, каким он стал через много лет. Но об этом позже, в свое время…
СЕДЬМОЙ (1953–1954 гг.)
1
Да, уж седьмой…
После всего что со мной произошло в этом проклятом 1953 году, я решила запереть свое сердце на три амбарных замка и заняться собой: начать плавать, делать гимнастику, похудеть, сменить гардероб, переклеить обои в бабушкиной комнате и сделать из нее швейную мастерскую, поступить в институт иностранных языков, чтобы иметь разговорную практику, получить диплом о высшем образовании, изучить французскую литературу на французском же языке и когда-нибудь попробовать себя в качестве литературного переводчика.
Татьяна одобрила все мои планы и начинания, пообещала поддержать во всем и даже попросила у меня один из трех замков, чтобы запереть и свое сердце, слегка поцарапанное не совсем идеальным романом.
Надо сказать, что Татьяна с октябрятского возраста была страшная идеалистка и резко отрицала все, что не совпадало с ее октябрятскими идеалами. А идеалами ее были Д'Артаньян, Владлен Давыдов в фильме «Встреча на Эльбе» и наш учитель французского Дмитрий Владимирович Мерджанов.
Ее китобой этим высоким требованиям не отвечал, особенно после всего случившегося со мной…
— Но ведь твой-то тебе ничего плохого не сделал, — пыталась я ее урезонить.
— Пока не сделал, — безапелляционно парировала Татьяна. — Все китобои одинаковы! Только у последнего мерзавца может подняться рука на этих бедных китов.
Она с радостью согласилась ходить со мной в открытый бассейн «Чайка», где всегда звучит приятная музыка, весело плещут теплые ласковые волны, стелется над ними мягкий, густой туман, из которого вдруг выплывает прекрасный златокудрый принц или летчик-испытатель…
— При чем здесь летчик-испытатель? — вовремя спохватилась я. — Ведь мы же запираем сердца на амбарные замки!
— Ну да! Я и говорю — он выплывает, а мы ин-диф-ферентно плывем мимо и на него ноль внимания…
— На кого? На летчика или на принца? — поинтересовалась я.
— Дура ты, Маня, после этого. Нас же двое! И их двое. Если будет один, то у него глаза вывихнутся в разные стороны и он вообще потонет. А так они просто захлебнутся от восторга и слегка притонут, мы их вытащим и выложим рядышком на снег, чтобы они остудили свой пыл, а сами гордо, но очень скромно поплывем дальше. И пусть дальше как в песне поется: «Ищут пожарные, ищет милиция…»
— Это не в песне, а в стихах, — осторожно поправила я ее.
— Я знаю, — отмахнулась Татьяна. — Давай еще по рюмочке, и все, а то у меня завтра очень серьезное собрание. Будем исключать одного типа за аморальное поведение. Представляешь, гад, самую тихую, самую беззащитную девчонку на курсе соблазнил… И вообще, мы даже не сомневались, мы даже с девчонками деньги по списку собирали на свадебный подарок, а он, гнида, с ее же лучшей подругой уже вторую неделю шьется. А у той папа заведующий колбасным магазином на Таганке, и вообще разлюли малина… А бедная Алка, круглая отличница, между прочим, и очень активная общественница, стихи пишет…
— Тогда ей так и надо, — сказала я.
Танька сообразила, что насчет стихов брякнула лишнее, и тут же поправилась:
— Нет, она только к праздникам, в стенгазету, — должен ведь кто-то писать… Ну вот, а он с этой фикстулой Нелькой уже три недели…
— Ты же говорила, что две.
— А я свечку над ними не держала, может, и целый месяц. И представляешь, лучшая подруга — ни словечка. Как мы понимаем, она ждала, пока у него все это закрепится…
— Что закрепится?
— Ты, что ли, дура, Маня? Что, что! Любовь — вот что! А потом, когда убедилась, что он серьезно в нее втюрился, с наслаждением все Алке выложила. Представляешь картину: та ревет белугой, а эта ее подробностями, подробностями, подробностями! Собственными руками бы задушила.
— Кого?
— Всех!
Она поднесла ко рту старинную ликерную рюмку и даже не отхлебнула, а кончиком языка отлизнула капельку нашего любимого изумрудного «Шартреза».
Мы с ней любили иногда посидеть на кухне, попивая ароматный «Шартрез», и перемыть косточки всем нашим бывшим кавалерам. Татьяна называла это «станцевать танец победителя», который обычно исполняют собачки, облегчившись на пахучие следы своего врага.
Пили мы совсем немного. Одной бутылки нам хватало на три-четыре, а то и на пять посиделок.
— Все! — сказала Татьяна, ставя рюмку на стол с такой силой, что капли драгоценного «Шартреза» выплеснулись на потертую клеенку. — Больше никаких глупостей! Только серьезное чувство! И по всем правилам: сначала в загс, а потом хоть ложкой хлебай… И мой совет: «до обрученья не целуй его…», — пропела она.
— Никогда! — подтвердила я и поставила свою рюмку, тоже слегка пролив.
2
Я не стала рассказывать Татьяне о том, что произошло три дня назад.
Про француза я промолчала потому, что Танька больше всех девчонок в классе вздыхала по нему, и еще потому, что я в тот момент была совершенно уверена, что эта случайная встреча не будет иметь никакого продолжения. Ведь расставаясь, он не назначил никакого свидания, даже в кино не пригласил девушку, в которую, по его словам, влюблен с шестого класса, а это, если посчитать, уже целых шесть лет!
Кроме того, мы даже телефонами не обменялись. Допустим, в его подвале у старушки-самогонщицы телефона нет, мне его номер и не нужен, но мой-то он мог записать. На всякий случай… Чтобы, скажем, поздравить девушку с Новым годом, который уже через неделю, а где и с кем я его буду встречать, совершенно неизвестно. Вернее, известно где — дома, потому что, конечно же, у меня свободнее, чем у Татьяны, холодец она донесет, тут идти-то три минуты. А вот с кем?
Кстати, Татьяна тоже не знала, с кем она будет.
Не могли же мы с ней встречать Новый 1954 год вдвоем. Не к лицу это двум молоденьким, хорошеньким девушкам. Это ведет к преждевременным морщинам и испорченному характеру.
Про Леху я ей не рассказала по понятным причинам. Я и сама-то порой начинала сомневаться, что это было в действительности, и тогда доставала две пачки сторублевок, перевязанных крест-накрест красной шерстяной ниткой явно из какого-то распущенного вязания.
Пачки были плотные, толстые и тяжелые. Я не удержалась и пересчитала их. В каждой было по сто пятьдесят бумажек. Значит, по пятнадцать тысяч рублей. Сумасшедшие деньги.
Конечно же, я боялась к ним прикоснуться… Если бы было лето, то я, как раньше, засела бы в его дворе на лавочке с книжкой, дождалась, пока пойдет с работы Екатерина Михайловна, его мама, и сумела бы будто случайно с ней заговорить, а там уж по обстоятельствам… Но была зима, мороз, на лавочке не было даже самых стойких старушек в валенках, подшитых двойным войлоком. Куда уж мне в моих ботиках?
Идти к ней домой я, по совету Лехи, пока остерегалась и решила выждать как минимум месяца два, рассудив, что деньги за это время не испортятся и будут нужны Екатерине Михайловне точно так же, как и сегодня. Тем более что она их не ждет и не рассчитывает на них. Потом мне нужно было придумать какую-то более или менее правдоподобную версию их появления, а пока в голову ничего путного не приходило.
Свою пачку я тоже не решалась трогать… Я даже еще не знала, трону ли я ее вообще… Деньги на жизнь у меня были. Не много, но мне хватало, и я свободно могла заработать еще больше, так как от многих заказов отказывалась, чтобы оставалось время на жизнь. Что толку много зарабатывать, сидеть ради этого за машинкой с утра до ночи и не иметь времени, чтобы с удовольствием потратить эти деньги?
К тому же я не очень любила сидеть за машинкой. Мне нравилось придумывать новый фасон, кроить, подгонять по фигуре, так, чтобы ни одной морщиночки, ни одной лишней складочки не было, а вот строчить я не любила. Я даже подумывала договориться с какой-нибудь аккуратно шьющей женщиной, чтобы она по моим сметкам строчила, а я бы в это время занималась другими клиентками… Даже если бы мы с ней делили заработок пополам, что было бы несправедливо, ибо на мне лежала бы основная часть работы: моделирование, кройка, подгонка, и главное — нахождение заказов и работа с заказчицами, что уже совершенно отдельная песня, то и тогда мои заработки выросли бы как минимум в три раза, а занята я была бы в два раза меньше.
В общем, деньги у нас с Татьяной имелись, прилагалась к ним свободная трехкомнатная квартира, была неукротимая воля к жизни, к любви, к семье, к детям, к счастью. Но, несмотря на это, мы, заперев свои сердца на ржавые амбарные замки (она на один, а я на два), сидели вдвоем на кухне и совершенно не знали, с кем встречать Новый, так много сулящий год.
В конце концов, Новый год мы встретили в студенческом общежитии на Стромынке. Это в Сокольниках, около тюрьмы «Матросская тишина».
3
Холодец в метро растаял и все время капал на пол из обливных мисок, которые стояли в авоське этажеркой. Когда мы, как это и положено хорошеньким девушкам, в половине двенадцатого вошли в 17-ю комнату на первом этаже, в наших мисках плескался густой наваристый суп. То-то Клавдия Сергеевна, Танькина мама, все время сокрушалась о том, что мяса получилось много, а костей мало. Вот если бы хоть одну голяшку, причитала она.
Но мы не растерялись. Мы выставили холодец на улицу, в специальный деревянный ящик — холодильник, приделанный у ребят к форточке. Они хранили в нем присланное из деревни сало. Холодец не застыл, а замерз и приятно хрустел на зубах, не оставляя после себя никакого вкуса.
Было весело и бестолково. В 17-ю комнату набилось человек восемнадцать, причем девушек было всего пять. Танькины сокурсники, деморализованные такой сильной конкуренцией, вообще отказались от каких-либо попыток ухаживать и очень быстро напились. Не оттого, что было много вина «Фрага», которое мы пили в ту ночь, не считая, конечно, обязательного шампанского, а оттого, что всем хотелось казаться ужасно взрослыми, пьяными и развязными.
Границ приличия они, правда, не переступали и при этом ревниво исподтишка следили друг за другом как за возможным соперником. В общем, успех мы имели большой, но попользоваться им не было никакой возможности.
Мы много танцевали под патефон. Пластинок было всего четыре, и их прокрутили раз по двадцать.
Домой мы с Татьяной отправились еще затемно, с первым поездом метро, и тут выяснилось, что все тринадцать человек внезапно протрезвели. Они всей гурьбой, невзирая на тайное возмущение трех однокурсниц, отправились нас провожать до метро, и мы всю дорогу пели песни. В том числе и про Одесский порт, и про Ваську-диспетчера. Она была тогда ужасно модная.
4
Седьмым моим мужчиной стал-таки наш бывший учитель французского языка. Француз, как мы называли его в школе. Дмитрий Владимирович Мерджанов. Митя.
Начиная с новогодних праздников, я, почти не разгибаясь, сидела за машинкой, только два раза сходила с Татьяной на каток «Динамо» и один раз — в Парк Горького. На «Динамо» нас водили Петя и Вова — однокурсники Татьяны, с которыми мы встречали Новый год, а в Парк Горького — Коля и Коля из той же новогодней компании.
Нас это вполне устраивало, поскольку позволяло держать наши сердца на ржавых амбарных замках. Всерьез к этим ребятам мы не относились. Они это чувствовали и не предъявляли к нам никаких претензий, ибо не надеялись на их удовлетворение, хотя были далеко не прочь.
По-моему, один из Колей был серьезно в меня влюблен. Но так тщательно скрывал все за напускной бравадой, что мне это совершенно не мешало.
Кроме того, мы, к нашему общему удивлению, начали посещать бассейн «Чайка». Но это было чисто физкультурное мероприятие, так как, вопреки всем Танькиным надеждам, из тумана навстречу нам выплывали накрашенные бантиком губы перезрелых дам и сверкающие каплями хлорированной воды энергичные лысины. Молодежи в бассейне было мало. Может, мы ходили в неправильное время. Мы попытались сменить график, но результат был точно таким же.
Дмитрий Владимирович после нашей памятной встречи так ни разу и не позвонил. Я пребывала в такой глухой тоске, что раз или два, подчиняясь внезапным приступам ностальгии, приходила к нашей старушке школе и с какой-то завистью, разбавленной удовлетворением и подкрашенной тайным ехидством, смотрела на молоденьких, хорошеньких, но таких глупеньких девчонок, половина из которых, та, что изучала французский, была влюблена в своего импозантного учителя. А вторая половина изучала немецкий язык. Так уж была устроена наша школа.
Разумеется, я и не рассчитывала увидеть Дмитрия Владимировича. И не увидела… Мне даже стали приходить в голову разные печальные мысли о том, что мы с Татьяной поступили правильно, замкнув наши сердца. Что мужчинам, даже самым, казалось бы, надежным и самостоятельным, просто нельзя верить.
А об Алексее я вообще не думала, так как это было совершенно бесполезно и безнадежно. С его деньгами все вышло гораздо проще, чем я предполагала. Мы с Екатериной Михайловной, его мамой, случайно встретились в соседней булочной на улице Станиславского.
Я, жутко смущаясь, издалека завела разговор об Алексее, она прервала меня и сказала, что все знает, что ей звонили на работу и вызывали в органы, на Петровку… Она, как мне показалось, с удовлетворением сообщила, что его снова поймали.
— И никаких его поганых денег я не возьму, — строго глядя на меня, сказала она. — Хочешь — потрать, хочешь — выкинь на помойку. Насчет денег в органах ничего не говорили…
Суровая у него была матушка.
Так я внезапно оказалась владелицей тридцати тысяч рублей. На эти деньги можно было свободно купить «Победу", которая стоила шестнадцать тысяч, и съездить на все лето в Сочи, ни в чем себе там не отказывая.
Но я их пока не трогала. Они так и лежали на полке для головных уборов в прихожей, в картонной коробке из-под моих итальянских лакировок, купленных в Одессе. На хлеб и на кино мне хватало, а одежду я изобретала и делала для себя сама.
Да и франтиться мне было не для кого. Татьяна звала меня в свой институтский ДК, но мне было не до того. Я все время была в подавленном состоянии. С одной стороны, я лезла на стены от одиночества и уже погладывала на заветную полку с любовной литературой, чтобы в кресле, как в ранней юности, без чьей-либо помощи забыться в скромном и облегчающем наслаждении, но так себе ни разу и не позволила этого.
В ванной случилось, правда, раз, но, честное слово, это было внезапно, на ровном месте, без всяких таких мыслей, просто я как-то неосторожно коснулась себя тугой струей воды, и… И не смогла остановиться.
Но кто осудит бедную девушку, которая могла бы воспользоваться услугами на все готовых однокурсников Татьяны или многочисленных мужчин, которые преследовали ее повсюду взглядами, буквально прожигающими одежду, однако не воспользовалась. Она берегла себя для подлинного, настоящего, чистого чувства. А оно не приходило и не приходило, и не приходило, и не приходило, и не при…
5
Вот в этот-то момент, когда я, можно сказать, окончательно утратила веру в худшую половину человечества (если уж мы считаемся лучшей), и появился Дмитрий Владимирович.
Он позвонил по телефону — оказывается, телефончик-то у него был — и попросил разрешения зайти буквально на десять минут по очень важному делу, если, конечно, я не занята, а если занята, то он может зайти и завтра после школы.
Я была не занята и до его прихода успела принять душ, нагреть щипцы на газу и подкрутить концы волос. Тогда я их носила до плеч с пробором на левой стороне, и если не ленилась завиваться, то прядка волос очень красиво ложилась наискосок через лоб над правой бровью, как у Дины Дурбин.
Он пришел в пять часов вечера изумительно усатый, пахнущий морозом, в запорошенном снегом пальто с шалевым воротником из светло-коричневой цигейки с переливами. В руках он держал странный громоздкий предмет, укутанный в оберточную бумагу и перевязанный голубой лентой.
На лестничной клетке он долго, поставив свой сверток у стены, стряхивал снег с пальто. Я отметила шелковую простеганную, дорогую подкладку. В прошлый раз он был в совсем другом пальто.
Потом он, весело надувая щеки, сдул снег со своего загадочного свертка и протянул его мне, сказав по-французски:
— Сударыня, примите это с самыми искренними извинениями за столь долгое отсутствие. Поверьте, что для того были более чем уважительные причины.
— Принимаю вместе с извинениями, — сказала я и, присев в шутливом книксене, приняла у него сверток, который оказался легче, чем можно было подумать, глядя на его размеры.
Под бумагой была корзина чайных роз. Тех самых, которые с этого дня по совершенно понятным причинам стали моими любимыми цветами на всю жизнь.
Именно Дмитрий Владимирович в этот вечер сказал мне по-французски, что находит в чайных розах большое сходство со мной, и я ему безоговорочно поверила.
Он объявил, что сегодня у него два праздника. Во-первых, ему наконец дали жилплощадь. И не комнату в коммуналке, а самую настоящую отдельную однокомнатную квартиру на Малой Бронной, недалеко от школы.
Помог ему в этом его фронтовой товарищ, с которым они вместе работали в политотделе армии. Дмитрий Владимирович в качестве переводчика, так как второй язык после института у него был немецкий, а его друг — главным редактором армейской газеты. Они долго не виделись, случайно встретились, и оказалось, что тот теперь работает в Моссовете большим начальником. Он и ускорил решение вопроса.
— А второй праздник… — Он загадочно улыбнулся и протянул мне «Вечернюю Москву». — Вот здесь, на последней странице. — Для верности он указал мне пальцем где.
Я прочла:
«Мерджанов Дмитрий Владимирович, прож. Суворовский б-р, 12, кв. 64, возбуждает дело о разводе с Мерджановой Натальей Семеновной, прож. ул. Чайковского, 13, кв. 15. Дело подлежит рассмотрению в нарсуде 3-го уч. Краснопресненского р-на г. Москвы».
— Дело слушалось сегодня, и народный судья Куте- пов В. Н. постановил: брак между гражданином Мерджа- новым Д. В. и гражданкой Мерджановой Н. С. расторгнуть, — казенным судейским голосом провозгласил Дмитрий Владимирович. — По этому поводу, — продолжал он по-французски и совершенно другим голосом, — позвольте пригласить вас в новую, но уже отремонтированную квартиру на предварительное новоселье и на праздник освобождения.
Я не успела ничего ответить, как раздался звонок в дверь. Я открыла. Это была вся облепленная снегом, похожая на снежную бабу Татьяна. Она, видите ли, проходила мимо и потому заявилась без звонка.
Когда она увидела в гостиной за столом около корзины цветов нашего француза, то чуть не брякнулась в обморок. Сперва стала белой, как снег на ее цветастом платке, потом красной, как вареная свекла, и еле-еле выдавила из себя дурацкое школьное: «Ой, здрасьте, Дмитрий Владимирович».
И поделом ей! Даже Дмитрий Владимирович растерялся. Ну тут начались обычные «охи» и «ахи», потом, выслушав подробный отчет о том, где она учится, на каком курсе и почему она до сих пор не настояла на том, чтобы я продолжила свое образование, он начал приглашать к себе и Татьяну.
Она, нахалка, с минуту поотнекивалась и тут же согласилась, несмотря на то, что я все время за спиной француза делала ей глаза. Сначала извиняющиеся — мол, я сама не понимаю, как он у меня оказался, а потом страшные — мол, не вздумай соглашаться на его приглашение. Но она согласилась и, как выяснилось, оказалась совершенно права, так как на новоселье был приглашен и товарищ из Моссовета.
Когда я об этом узнала, то тут же успокоилась. А то ведь мне показалось, что Дмитрий Владимирович, которого я не без основания уже считала своим кавалером, переключился на Татьяну.
6
Вечеринка прошла чудесно. В квартире еще не было никакой мебели. Все сидели на чемоданах, а меня посадили на плотно свернутый и перетянутый ремнем, чтобы не разворачивался, матрас, на котором, очевидно, и спал Дмитрий Владимирович.
Стол был устроен из табуретки, накрытой чертежной доской. Мы пили шампанское и заедали пирожными, которые Дмитрий Владимирович купил в известном магазине в Столешниковом переулке.
Товарищ из Моссовета оказался замечательным дядечкой, просил называть его дядей Ваней и все время напевал:
Дядя Ваня, хороший и пригожий, Дядя Ваня всех юношей моложе. Дядя Ваня, прелестный наш толстяк, Без дяди Вани мы ни на шаг.Ему было лет пятьдесят, он действительно был толстячком, но таким энергичным, веселым и обаятельным, что мы невольно забывали о его возрасте, весело дурачились с ним и танцевали под оперу Бородина «Князь Игорь», которую передавали по радиотрансляции.
Потом они вдвоем провожали нас до моего дома. Танька от Дмитрия Владимировича позвонила домой и предупредила мать, что останется у меня.
Конечно, они попытались зайти к нам «на чашечку кофе», но очень не настаивали.
Я, честно говоря, побаивалась Татьяниной реакции на все случившееся, но оказалось, что реагирует она правильно. Детское ее увлечение Дмитрием Владимировичем давно и бесследно прошло.
Выслушав нашу с ним историю во всех самых мелких подробностях, она торжественно объявила, что наконец хоть одной из нас повезло. Она ни секунды не сомневалась в серьезности намерений своего бывшего кумира. Я же, наоборот, расслабленно возражала ей.
— А корзина чайных роз! — восклицала она.
— Ну, может, просто ухаживает?..
— Когда просто ухаживают, приносят три гвоздички, бутылку портвейна «777» и шоколадку.
— А почему он так долго не появлялся?
— А усы? — поднимала указательный палец к потолку она. — И потом, как ты, дурочка, не понимаешь, что он хотел прийти к тебе свободным! Обеспеченным жилплощадью! А то бы я подумала, что он обхаживает тебя, чтобы прописаться в твоей квартире. Ведь ты и сама небось так подумала в первый раз. Мол, услышал, что ты осталась одна на бескрайней жилплощади, и спикировал. Ведь подумала, скажи честно?
— Даже и в голову не пришло.
— Потому что дура! — рассердилась Татьяна. — Так тебя любой вокруг пальца обведет! Опомниться не успеешь, как останешься на улице в чем мать родила. А тут сразу видно благородного человека. Он специально дождался, когда ему дадут жилплощадь, чтобы ты ничего плохого про него не подумала. Это очень тонко с его стороны.
— А возраст?
— А что возраст?
— Он же лет на семнадцать старше меня.
— Во-первых, не на семнадцать, а на пятнадцать…
— Откуда ты знаешь?
— Когда мы на Новый год переодевались в кабинете директора, я подглядела в его личном деле… — сказала Танька, слегка покраснев.
— Ну пятнадцать — это тоже будь здоров! — сочла необходимым возразить я и подумала про себя, не рассказывать же ей про Наркома.
— Во-первых, кавказцы все долгожители, во-вторых, вы потрясающе смотритесь вместе, а в-третьих, — скажи-ка, пожалуйста, на сколько лет твой дедушка был старше твоей бабушки?
— На шестнадцать… — пробормотала я, постепенно теряя способность к сопротивлению.
— Что и требовалось доказать! — воскликнула очень довольная собой Танька. — И потом, — добавила она тихо и совершенно серьезно, — если уж не я, то пусть ты. И за меня тоже… Должно же кому-то из нас в конце концов повезти. А потом, может, и моя очередь настанет…
7
В общем, выдала она меня замуж.
Правда, я еще долго сопротивлялась. Дмитрий Владимирович, понимая мое состояние, не торопил меня с ответом. Предложение он сделал на 8-е марта, но до мая я ничего не могла решить.
Прежде всего потому, что Лешка, мой бедный, сладкий, израненный ежичек, у меня из головы не уходил, как я ни старалась его прогнать.
Нет, я его уже не любила, хоть и пробирал мороз по коже, когда я вспоминала, как он в первый раз меня нагнул, и почему-то еще раз хотелось испытать эту боль, которая следует сразу же за немыслимым наслаждением.
Нет, я уже не любила его. Жалела до боли в сердце, когда представляла его, худющего, жалкого, гордого, в каком-нибудь сыром подземном карцере, о котором он мне рассказывал. Там круглосуточно горит стосвечовая лампочка, а стены из лохматого бетона, чтобы заключенные не могли на них писать. Металлическая койка там на день поднимается к стене и запирается на замок, чтобы заключенный не мог днем даже присесть, а на холодном полу вода и мокрицы…
Алексей постоянно попадал в такие карцеры за упорный отказ от работы. Ему не было преград, и никто в целом мире не мог заставить его делать то, что он не хочет.
Только я одна, выходит дело, его заставила… Наверное, он и сам этого очень хотел… Наверное, он убил бы того человека, который вслух заподозрил бы его в подобных нежностях.
Я всегда считала, что только глаза могут выражать удивление, и представить себе не могла, что и губы могут быть удивленными. Робкими, нежными, чуткими — да, но удивленными! Его нельзя было оторвать от меня… Он словно хотел забрать с собой весь мой вкус и весь запах… Наш запах, потому что уже было не различить, где мой, а где его… Какая красивая жизнь могла бы зародиться из этого смешения… Но Господь не дал. И наверняка не просто так. Наверное, он при этом что-то имел в виду…
Надо отдать должное Дмитрию Владимировичу — осаду он вел по всем правилам. Мы с ним и в губы-то целовались крайне редко, да и то так… Поверхностно и мимолетно. Как правило, я позволяла себе это уже прощаясь, чтобы особенно не заводиться…
Он мне уже начинал нравиться. Правда, сперва усы щекотали нос, так что я раза два чуть не чихнула прямо во время поцелуя, но потом как-то привыкла.
Татьяна следила за нами, как коршун с высоты следит за цыплятами. На все мои сомнения у нее был один ответ: «От добра добра не ищут! Не затягивай, сорвется с крючка, будешь век себе локти кусать».
Ох уж мне эта народная мудрость. Я ей старалась ответить тем же:
— А как же говорят: «Семь раз отмерь — один раз отрежь»?
— Брось ты свои портновские штучки, — отмахивалась от меня Танька. — Ты даже когда крепдешин кроишь — режешь сплеча, а тут заменжевалась вся…
Но я металась, не зная на чем остановиться… Попросту говоря, как я теперь это понимаю, мне элементарно не хватало мужчины, но признаться в этом себе я тогда еще не могла. Для этого нужно определенное женское мужество…
8
В своих метаниях я даже чуть на целину не отправилась…
Один из Николаев, однокурсников Татьяны, — тот, что был влюблен в меня, решил уехать на целину. У них на курсе собрался целый отряд целинников. Их всех перевели на заочное обучение и убедили, что уделят особое внимание. Даже пообещали, что для приема экзаменов специальная группа преподавателей будет выезжать к ним на целину…
Были устроены торжественные проводы в Доме культуры. Татьяна, уже хорошенько хватанувшая шампанского, оттащила меня в сторонку и шепнула:
— Это он из-за тебя уезжает…
— Да брось ты, — отмахнулась я, но мне было приятно это слышать.
— Точно. Все знают.
Я невольно нашла его глазами и поймала тоскливый, отчаянный взгляд.
Потом я видела, как он за колонной в кружке знакомых мне ребят выпил из горлышка бутылку любимой его «Фраги», после чего решился пригласить меня на танец.
Студенческий оркестр играл знаменитую мелодию, а Николай напевал в такт мелодии известные слова:
Мы идем по Уругваю — аю, Ночь — хоть выколи глаза! Слышны крики попугая — Ара! Надвигается гроза-а-ааа-а…Голос у него был приятный, он это знал, потому и напевал громко, чтобы не одна я слышала.
— А слабо махнуть с нами на героическую целину?! — с рекрутской отчаянной улыбкой спросил он.
— А может, и не слабо! — многообещающе улыбнулась я, и в голове моей вихрем пронеслось: «А что, если действительно! И сразу пропадут все мои проблемы и исчезнут сами собой все мучительные вопросы…». — А может, и совсем не слабо, — впадая в какой-то транс, бесшабашно крикнула я, прижимаясь к нему бедрами. Как-никак, шампанское мы с Татьяной пили поровну…
— Татьяна! — возбужденно крикнул Николай, перекрывая музыку, хоть Танька и танцевала от нас всего через две пары.
— Что еще? — отозвалась Танька, направляя своего Николая к нам.
— Маша едет с нами! — на весь зал крикнул Николай, инстинктивно пытаясь закрепить неожиданный успех. Он хотел привлечь в свидетели весь зал, чтобы мне потом было труднее отнекиваться.
— Ну и правильно! — одобрительно махнула рукой Танька.
— Мы будем жить в палатках! — восторженно прокричал Николай.
— В разных? — уточнила эта стерва Танька.
— Там видно будет! — крикнул Николай, притягивая меня к себе за талию.
— А что ты там будешь делать? — как бы между прочим поинтересовалась Танька. — Трактором землю пахать?
— Зачем? — беззаботно возразила я. — Буду шить. Хорошие портнихи везде нужны.
— Что шить? Телогрейки? — невозмутимо спросила Татьяна и потащила своего партнера резко в сторону. И вовремя. Я чуть-чуть не достала ее своей лакированной сумочкой на тонком ремешке.
9
Татьяна ни с чем не считалась, чтобы добиться своей цели. Я думаю, что такая ее неотступность и целеустремленность объяснялась отчасти еще и тем, что ей просто нравилось таскаться за нами… Дмитрий Владимирович ей нравился, хоть и не так, как прежде… И она получала определенное удовольствие от общения с ним. Но наверняка не признавалась в этом себе самой. Хотя, конечно, она мне совершенно искренне желала счастья.
Дмитрий, я тогда уже начала его изредка так называть, приглашал ее куда только можно и куда нельзя. Наверное, он тоже чувствовал ее скрытое отношение, и нельзя сказать, чтобы это его раздражало. Нравилось ему это. При ней он даже как-то молодцеватее выглядел.
Они взяли по отношению ко мне этакий ласково-покровительственный тон, а между собой общались как заговорщики, обмениваясь многозначительными взглядами и понимая друг друга с полузвука.
У меня постоянно создавалось впечатление, будто они мои взрослые дядя и тетя, которые лучше знают, что мне нужно для счастья, и твердо решили меня в это счастливое стойло загнать, а я, маленькая, глупая девочка, счастья своего не понимаю и капризничаю. Но я им позволяла так ко мне относиться. Так уж устроен человек. Он порой терпит и грубость, и резкость, и правду, когда знает, что это делается из любви к нему. И особенно когда ему при этом скрыто льстят…
Куда мы только ни ходили втроем. И в цирк на программу феноменального силача Григория Новака, и в Большой театр на «Жизель» с Галиной Улановой, и в «Ударник» на первый день демонстрации фильма «Рим в одиннадцать часов» режиссера-неореалиста Де Сантиса, и на чемпионат мира по канадскому хоккею с шайбой, на котором победила наша советская сборная, не проиграв ни одной игры и только одну сведя вничью.
Ужинали мы после театра или хоккея в ресторане ВТО, куда пускали только артистов и где важный швейцар, завидев Дмитрия, бодро брал под козырек и вежливо сторонился, пропуская нас.
Любили мы с Татьяной бывать и в коктейль-холле в начале улицы Горького, в доме 6. Однажды мы зашли туда и с Дмитрием. И тут выяснилось, что из-за нашего особого пристрастия к этому теплому местечку чуть было не попали в фельетон, который появился в «Вечерке».
Он назывался «О жующих соломинку», и в нем фигурировали некие Марик и Лекочка, которых мы с Танькой прекрасно знали, так как они жили в ее дворе. Эти ребята подсаживались за наш столик чисто по-дружески. Они были значительно моложе нас, но денежки у них водились, и они никогда не скупились на угощение.
Еще в фельетоне говорилось о молодом режиссере Театра юного зрителя, которого мы тоже знали. Оказывается, он учинил пьяный дебош и разбил стекла в фойе и в легковой машине.
Мы пришли буквально на третий день после этих событий, и Марик с Лекочкой наперебой взахлеб читали нам фельетон, который кончался гневными словами: «И такому человеку дано право утверждать новую мораль молодых людей на сцене ТЮЗа!»
Дмитрию этот фельетон очень не понравился, и он во время чтения осуждающе посматривал то на Марика, то на Лекочку, на их набриолиненные коки, гигантские плечи их клетчатых пиджаков и широкие галстуки с попугаями.
А ребяткам этим вСе было нипочем. У них предки сидели так высоко, что журналист, написавший этот фельетон, остался на своей работе только по просьбе ребят. Им фельетон жутко нравился. Они, по-моему, скупили все газеты в округе и дарили знакомым, ставя автографы поперек фельетона заграничными шариковыми ручками.
Потом мы ходили в Дом кино на улицу Воровского. У Дмитрия был еще один фронтовой товарищ, ставший после войны артистом. Он сыграл заметную роль в фильме «Коммунист». Конечно, это был не сам Урбанский, но тоже талантливый актер. Он нас и пригласил на премьеру фильма «Верные друзья», где тоже был занят в совсем крошечном эпизоде.
Кстати, на этой премьере, когда мы перед началом сеанса гуляли в фойе, Татьяна вдруг толкнула меня локтем в бок.
— Смотри, — прошептала она, незаметно показывая глазами в сторону.
Я оглянулась. В очереди к буфетной стойке стоял Илья с какой-то ощипанной черноволосой девицей с фиолетовым громадным ртом.
— Нашел себе королеву… — злобно прошипела Танька и отодвинулась, чтобы Илья мог получше рассмотреть представительного, импозантного Дмитрия.
Мы встретились с Ильей глазами. Он на мгновение задержал свой безразличный взгляд на мне, потом перевел на Татьяну и Дмитрия и отвернулся, даже не кивнув. И я ему не кивнула. И ничего не шевельнулось в моем сердце. Вернее, шевельнулось, но не заболело. Я даже удивилась своему хладнокровию. Хорошо, что у меня теперь Дмитрий, подумала я. Есть в этом какая-то защищенность и покой. И с благодарностью прижалась к его плечу. Он мне в ответ улыбнулся.
Может, эта минутная встреча и склонила чашу весов в сторону замужества. Никогда не забуду, какими презрительно-торжествующими глазами взглянула на Илью Татьяна и каким восторгом загорелся ее взгляд, когда она перевела его на Дмитрия.
Можно с уверенностью сказать, что все это время и я смотрела на Дмитрия Танькиными влюбленными глазами. Это тоже в какой-то мере решило исход дела.
Еще до того момента, когда на сцену поднялась вся съемочная группа, Дмитрий указал мне на шикарного мужчину средних лет с высоким лбом и изящными усиками. Он был в изумительного покроя пиджаке и галстуке-бабочке.
— Это автор сценария. Он живет в моем доме. Я вас как- нибудь с ним познакомлю. Очень интересный и остроумный человек.
— Он холостой? — живо заинтересовалась Татьяна.
— Увы — женат, — развел руками Дмитрий.
— Ничего… — сказала Танька, не спуская с него хищно прищуренных глаз. — Жена — не стена, можно и подвинуть.
Фильм нам очень понравился.
10
Первого апреля, прямо в день снижения цен на товары народного потребления, в том числе и на культтовары, в размере 10–12 процентов, мы все втроем отправились в недавно открывшийся после долгой реконструкции ГУМ покупать Дмитрию телевизор.
Мы долго выбирали, пока не остановились на самом дорогом и современном «Авангарде». Его экран был в четыре раза больше, чем у КВН-49, а наверху открывалась специальная крышка, служившая отражателем для звука.
Когда я видела эти телевизоры в витрине, я думала, что под этой крышкой электропроигрыватель, и, узнав, что это всего лишь навсего резонатор, слегка разочаровалась. Но ненадолго. Все-таки и без проигрывателя он был лучше, чем все другие. Мы купили к телевизору комнатную антенну, а линзу решили не покупать, так как экран был почти с нее величиной.
Когда Дмитрий ушел на улицу за такси, Татьяна восхищенно сказала:
— Ну и повезло же тебе, Маня. Какой шикарный мужчина. Ездит только на такси, из вещей выбирает самое лучшее и не торгуется, ужинает в ресторане ВТО или в кафе «Националь», костюмы носит только чистошерстяные… — Она вдруг задумалась и удивленно спросила: — Слушай, Маня, а откуда у него столько денег? Ведь не на учительскую зарплату он все это покупает?
— У него еще классное руководство и часы в медицинском училище, где он преподает немецкий, — заступилась я за Дмитрия.
— Нет, ты не подумай, я ничего такого не думаю, просто мне вдруг пришло в голову, что на учительскую зарплату и на дополнительные часы не будешь покупать телевизор сразу вслед за румынским мебельным гарнитуром с инкрустациями…
— Наверное, ему что-то из Грузии присылают. Ты же видела, как они всю зиму мандаринами торговали. А у него там отец и мать под Батуми. Он сам говорил, что у них в саду больше двухсот мандариновых деревьев.
— Вот я и говорю, что тебе повезло, — сразу же забыв о всех своих подозрениях, облегченно вздохнула Татьяна.
— Это еще неизвестно, кому повезло, — сказала я.
— Как это неизвестно?! — возмутилась Татьяна. — Очень даже известно!
— А вот Дмитрий говорит, что ему.
— Как это он говорит?
— А вот так и говорит. Он говорит, что у него в жизни не было такого везения, как сейчас со мной.
— В каком это смысле? — подозрительно прищурилась Татьяна.
— В прямом, — засмеялась я.
— А ты это… У вас ничего не было? — строго спросила Татьяна.
— Да не было, не было. Ему вообще со мной повезло! — самодовольно сказала я.
Боже! Как я ошибалась!
11
Свадьбу мы наметили на 4 мая. Это был единственный день между майскими праздниками, когда работали загсы.
Платье я себе, разумеется, сшила сама. Это было даже не платье, а легкий, можно сказать, летний костюмчик с сильно приталенным жакетом на трех огромных перламутровых пуговицах и с прямой юбкой до половины икры. Материал был необыкновенный, тонкий, как полотно, но при этом мягчайший и хорошо облегающий.
Свидетельницей с моей стороны была, конечно, Татьяна, которой я к такому случаю тоже сшила крепдешиновое платье с рукавами фонариком и треугольным вырезом до самой ложбинки на груди. Она специально об этом попросила, так как на свадьбу обещал заглянуть тот самый сценарист с усиками, на которого она положила глаз.
Тогда было не нужно заранее подавать заявление и ждать несколько месяцев своей очереди, чтобы расписаться. Можно было сделать все в один день. Очередь была, но живая. Когда мы пришли, в вестибюле загса уже томились две пары со своими свидетелями и с цветами. Значит, у нас было не меньше часа до бракосочетания. Достаточное время, чтобы одуматься…
— Наш лучше всех, — шепнула Татьяна, критически оглядев двух других женихов, томящихся от нетерпения в предвкушении первой брачной ночи.
Татьяна уже успела накокетничаться с дядей Ваней и, кажется, даже что-то наобещать ему Во всяком случае, после таинственного перешептывания с нею он тоже сделался нетерпелив, стал посматривать на часы и даже предложил Дмитрию своей властью ускорить процесс загсирования, на что мы в один голос с Дмитрием сказали, что это неудобно, что другие молодые такие же люди, как мы, и им тоже поскорее хочется за стол…
— И так далее… — тихонько, только для меня добавила перевозбужденная Татьяна.
Я не поддержала ее шутливый тон, хотя, как это ни странно, все время думала об этом «и так далее…».
Как я уже говорила, целоваться с Дмитрием мы постепенно начали, но ничего большего ни он себе, ни я ему не позволяли. Я имею в виду, никаких ласк. Я бы просто не остановилась… И не посчитала нужным останавливать его. Да и зачем, если кровь закипела и возникло желание?.. Ведь это — дар Божий, желание. Я так считаю. Нечасто оно возникает. Я имею в виду настоящее, непреодолимое желание, которому бессмысленно противиться.
Многие девчонки, как я знаю, позволяют делать с собой все, не доводя до самого главного. Из-за глупой боязни неизвестно чего им удается каким-то немыслимым и неприемлемым для меня способом удерживать себя на самом краю пропасти, для того чтобы потом никогда туда не броситься… И не воспарить… У ниx непроизвольно вырабатывается страх высоты.
Потому-то я и не позволяла себе ничего, кроме торопливых и вполне невинных поцелуев в губы, как бы на прощание.
Чтобы оправдать такую свою холодность, а также чтобы предупредить возможные вопросы в первую брачную ночь, я рассказала Дмитрию, что еще не оправилась после потери возлюбленного, которого любила страстно, и просила дать мне время забыть его.
И самое интересное, я действительно испытывала нечто похожее, но к кому? Вот в чем вопрос!
Еще в самую первую нашу встречу я вскользь, без всяких задних мыслей упомянула о капитане-гарпунере. Туманно сказала, что потеряла его… Что, впрочем, и было истинной правдой. Но не могла же я Дмитрию рассказать, как я его потеряла. А когда я, с энергичной помощью Татьяны, убедилась в серьезных намерениях Дмитрия, то стало ясно — рассказать что-то придется. Но что? Не все же как оно есть! Я ни на секунду не забывала любимую Танькину пословицу: «Мужу-псу не заголяй жопу всю!» Да, впрочем, я и не могла заголить всю, так как о Наркоме и об Алексее даже Татьяне не рассказывала, а уж ближе ее на свете для меня в то время никого не было.
И тогда, используя информацию о потерянном капитане как базовую, я начала создавать легенду моей жизни, в которой все элементы были или голой правдой, или почти правдой, но которая по сути своей была самой бессовестной ложью.
Конечно же, он был единственный в моей жизни. Конечно же, мы собирались пожениться, и только трагическая гибель… Впрочем, о трагической гибели чуть позже, подробнее и со смаком.
Имя я ему дала Алексей. Не Александр, конечно, и не Сидор! Не заслужил!
Роста он был высокого. Стройный. С неправдоподобно тонкой, как у настоящего Алексея, талией.
Руки и усы у него были как у Макарова. Руки крупные, ухватистые, горячие и ласковые одновременно. Усы лихо закручены чуточку вверх. В какой-то момент меня потянуло рассказать о ледяном троне, о том, как пахнет мандаринами, свежим снегом и хвоей, но я вовремя сдержалась. Придав, однако, характеру мифического Алексея некоторую мака- ровскую бесшабашность…
Глазами моего сборного Алексея я наградила голубыми, как у Ильи, и он прекрасно, как и Илья, рисовал. Это была очень важная деталь — она позволяла мне обнародовать бесчисленные карандашные и угольные наброски, которые делал с меня Илья. Ни под каким другим видом я показать их не могла. Еще он, как Илья, был эрудирован и прекрасно говорил.
Волосы у него были цветом ближе к макаровским, а волнистостью ближе к Ильюшиной шевелюре.
Жизненный темперамент у него был как у Сидора, и его же неколебимая уверенность в себе.
В постели он был изобретателен и изощрен, как Нарком, напорист и предприимчив как Федор Макаров, и неутомим как Сидор. Не хватало ему только заветного золотого шарика под головкой, — впрочем, он не пригодился, как и все остальные его постельные свойства. Про постель мы с Дмитрием не заговаривали, даже про собственную. Ему это не позволяло его батум- ское воспитание. Видно, в Аджарии это — не предмет разговора. Во всяком случае, с женщиной. Тем более с женой.
Знакомство я взяла целиком из нашей истории с Сидором. Только грузин в ресторане, следуя безотчетному чувству, заменила на армян. При этом я заручилась полной поддержкой Татьяны. Она одобрила мою концепцию единственного возлюбленного.
С большим удовлетворением от того, что говорю правду, я в мельчайших подробностях описывала мою фантастическую поездку в Одессу, Привоз, гостиницу «Красная». Наградила Сидора родителями Л юсика, моей любимой тетей Геней и дядей Аркадием. Рассказала, какие есть в Одессе безлюдные скалистые бухточки, укрытые с трех сторон от любопытных взглядов, где можно загорать нагишом, и никто тебя не увидит, кроме салажат на пограничном катере. Рассказала, как отсемафорил им Алексей, используя вместо флажков мое платье и свою рубашку… Я-то загорала в купальнике…
В рассказе о том, как погиб Алексей, было что-то садистское, я сама это понимала, но не могла остановиться и с тайным наслаждением смаковала ужасные детали его гибели.
По моей версии (якобы в пересказе Люсика), они несколько часов преследовали гигантского полосатого кита. Штормило. Алексей произвел несколько выстрелов впустую, чего за ним не водилось прежде. Он на всю флотилию «Слава» был известен своей меткостью и удачливостью. Что, если вдуматься, опять же истинная правда. Но море разбушевалось не на шутку, и предательская волна каждый раз в момент выстрела то подбрасывала вверх легкое суденышко, то накрывала огромное млекопитающее…
Наконец, с пятой только попытки, Алексею удалось загарпунить кита, и тут началось многочасовое изматывающее состязание на выносливость.
Сколько раз обезумевший от боли кит резко менял курс, накреняя отважный кораблик, или подныривал под киль и пытался перевернуть судно. Сколько раз помощники капитана советовали обрезать линь, чтобы избежать худшего, но капитан был непреклонен.
Победило выдающееся мастерство капитана, его несгибаемая воля. Вымотанный борьбой и обескровленный, кит был притянут и привязан к борту китобойца.
Но случилось непредвиденное. Тонны крови, вытекшей из кита, привлекли к нему сотни хищников. Акулы ходили кругами вокруг мертвого чудовища и каждая пыталась вырвать свой кусок, но их удавалось отпугивать выстрелами из винтовок и ракетниц. Однако вскоре появилась стая бесстрашных, молниеносных касаток, достигающих десяти метров в длину и весом в десять тонн. Акулы пропали. Касатки сужали свои круги, не обращая внимания ни на винтовки, ни на ракетницы.
Ох, не случайно в моей трагедии появились именно касатки. Теперь, когда нам разрешили и все мы прочли старика Фрейда, я понимаю, что тогда я себя подсознательно идентифицировала с этими стремительными красавицами. К тому же Сидор и сам меня с ними сравнивал.
Итак, появились касатки. И тут выяснилось, что основной канат, которым кит был привязан к борту, перерезан острыми акульими зубами и болтается в воде.
Нужно было принимать решение. Алексей, презирающий страх и чувствующий себя на качающемся корабле увереннее, чем на паркете, взял длинный багор и, свесившись через фальшборт (спрашивается, какого черта засело у меня в мозгу это словечко из его бесконечных рассказов?), начал ловить багром конец каната. И тут кита, а через него и легкий кораблик, сотряс чудовищный удар. Это две касатки на полной скорости одновременно врезались в брюхо полосатика. Алексей, не ожидавший такого коварства от хищниц, вылетел за фальшборт (вот прицепилось!), скатился по скользкой спине побежденного им кита в воду и был тут же перекушен пополам гигантской касаткой.
Экипаж видел, как судорожно дернулись торчащие из пасти ноги капитана и как другая хищница, поменьше, подплыла к своей мамаше (я их определила как маму и дочку) и ноги скрылись в ее зубастой пасти. Некоторое время в воде можно было различить кровавое пятно — все, что осталось от Алексея. Потом его накрыло волной, и оно пропало…
Так что от моего возлюбленного жениха не осталось даже могилы. Я очень жалею, что он не оставил сына…
Рассказав эту античную трагедию, я и на самом деле почувствовала всю горечь утраты и вместе с тем необыкновенное уважение к себе. Я словно стала старше за этот час. Я как бы стала настоящей вдовой…
Впрочем, мне ведь и на самом деле было знакомо это чувство…
Когда я не удержалась и пересказала эту поэму Татьяне, та даже заплакала, а потом, опомнившись, долго ругалась и уже плакала просто так…
12
Говорят, что, когда человек погибает, перед его глазами за какую-то долю секунды проходит вся жизнь.
У меня же перед регистрацией брака промелькнула перед глазами вся моя любовная жизнь. И я, правда не без некоторого сожаления, в одно мгновение простилась с нею навсегда.
Когда подошла наша с Дмитрием очередь, я была уже совершенно готова к браку.
Церемония в те времена была не столь торжественна, как сейчас. Колец у нас не было, они считались пережитком. Я уже не говорю о фате, флердоранже и прочих атрибутах, напоминающих о венчании в церкви. Всего этого старательно избегали. Даже мой костюм, очень далекий от подвенечного платья, вызвал любопытные взгляды только из-за откровенно белого цвета.
Регистраторша нас скромненько' поздравила, мы где надо расписались, потом там же расписались наши свидетели. Поцеловавшись чисто формально в губы, мы поехали домой.
Народу на нашей свадьбе было немного: сестра Дмитрия Медея с мужем-филологом, дядя Ваня, Татьяна, сосед-сценарист с женой и тот актер кино, который приглашал нас на премьеру. Из нашей школы, по вполне понятным соображениям, никого не было.
На свадьбе произошло то, что и должно было произойти. Татьяна очень быстро напилась и начала кокетничать со всеми напропалую, включая и бедного филолога, который все время растерянно оглядывался на свою жену, как бы призывая ее на помощь. Медея только кривила рот в презрительной улыбке.
Сценарист, подмигнув жене, очень элегантно танцевал с Татьяной, которая буквально повисла на нем и шептала какую-то глупость вроде: «Увезите меня отсюда, украдите…»
Актер, воспользовавшись ситуацией, откровенно ее лапал и, может быть, давно уволок бы в ванную, если бы она внезапно не бросила его и не вытащила на танец другого партнера. Она пыталась даже с Дмитрием танцевать, но тут уж я встала грудью, объявив для всех, что все танцы он обещал мне.
Дядя Ваня во время танцев все время подталкивал Татьяну своим животиком к двери и что-то пытался ей объяснить. Танька в ответ только отчаянно махала рукой, хохотала, как ее сестра Зинаида, и бросалась на другого мужчину.
В общем, все развлекались, кроме дяди Вани, которому она, видно, всерьез что-то пообещала…
Все это кончилось, как и должно было кончиться, истерикой. Ее хохот внезапно перешел в рыдания. Плакала она безудержно, некрасиво повалившись на диван и колотясь головой о полированный подлокотник.
Наверное, целый час мы ее никак не могли успокоить. В конце концов я разозлилась на нее за испорченную свадьбу и от всей души влепила ей пару оглушительных оплеух. Она тут же пришла в себя, умылась и тихо засобиралась домой.
Дядя Ваня — вот человек — все-таки пошел ее провожать.
13
Зря я волновалась перед первой брачной ночью. Она прошла совершенно безболезненно.
Вы когда-нибудь видели, как ведет себя очень голодный человек, неожиданно попавший за пиршественный стол? У него разбегаются глаза, он хватает то один кусок, то другой, не в силах сосредоточиться на чем-нибудь одном и быть последовательным. Он, почти не жуя и не чувствуя вкуса, рискуя подавиться, глотает громадные куски, глаза его при этом прикованы к другим, еще более заманчивым кускам, а жадные руки уже нашаривают следующие…
Вот так примерно вел себя и Дмитрий. Он слишком долго голодал, чтобы быть последовательным и нежным. Он все глот ал, вообще не жуя, и ему было мало. И все это молча, в кромешной темноте.
Когда дело дошло до главного, он вдруг развил такую бешеную скорость, что я ничего не могла понять и почувствовать… Тем более что кончилось все через какую-нибудь минуту…
Скатившись с меня и часто дыша, он спросил меня почему-то шепотом:
— Ты пойдешь сейчас мыться?
— Потом… — расслабленно ответила я.
— Тогда я пойду, — сказал он и, спрыгнув с кровати, побежал в ванную. Уютно загудела газовая колонка. Вот оно, счастье, подумала я.
Мне было приятно, что он такой предупредительный и такой чистоплотный. Мне вообще было все приятно…
Я же даже не успела толком его захотеть, поэтому и не испытывала никакого разочарования. Наоборот — меня переполнила необыкновенная нежность и благодарность к нему… Ведь он не обманул меня ни в чем и не дал повода разочароваться в себе… А для меня это, памятуя о моих прежних неудачах в любви, было очень много!
Дмитрий оказался настоящим, и я была тихо счастлива и думала, какой у нас с ним получится красивый сынок. И, может быть, он зарождается прямо сейчас… И чтобы дать ему больше шансов, я даже не пошла мыться.
Когда Дмитрий вернулся, я с радостью убедилась, что он готов к новой любовной схватке и голод его если и не усилился, то, во всяком случае, не пропал.
Как и в первый раз, не включая света и не говоря ни слова, он с жадностью набросился на меня. И опять его руки и губы алчно шарили по мне, забыв о всякой последовательности, не доведя ни одной ласки до конца и не проникая в самые сокровенные местечки. С одной стороны, это приводило меня в легкое недоумение и не давало сосредоточиться, но, с другой стороны, состояние восхитительной неопределенности и незаконченности усиливало мое желание, которое выросло из нежной признательности ему, из мыслей о ребенке и из его горячего, обильного семени, переполненность которым я ощущала всем своим существом.
Мне вдруг остро захотелось поймать его, почувствовать, познать руками и губами. Но как только я протянула руку для ответной ласки, он навалился на меня гораздо легче, чем в первый раз, не прибегая к помощи рук, проник в меня и прямо с места развил бешеную скорость. Я опять ничего не успела понять — ни его размеров, ни формы, как все внезапно кончилось.
Он отвалился от меня и, не переведя духа, спросил прерывистым шепотом:
— Ты идешь мыться?
— Потом… — так же прерывисто ответила я, сжимая бедра.
Резво спрыгнув с кровати, он побежал в ванную, а я приложила последнее усилие и, еще не утратив ощущение его в себе, тихо и сладко провалилась в долгое блаженство…
Вот оно, счастье, подумала я, когда ко мне вернулась способность думать.
Когда он вернулся, я тоже отправилась в ванную, хоть мне было и жаль расставаться с тем, что он во мне оставил. Но я не могла допустить, чтобы он начал меня подозревать в нечистоплотности. И потом, ничто не должно было ему мешать ласкать меня, если он захочет еще… И чтобы быть для него потеснее, если он снова захочет…
Ему захотелось!
На этот раз я приноровилась к его темпу и улетела одновременно с ним.
Так продолжалось всю ночь. Мы были близки раз десять или одиннадцать. Я уже сбилась со счета. Помню только, что под конец я уже освоилась и почти всегда успевала приплыть к берегу блаженства вместе с ним. Когда же не успевала, то догоняла его в одиночку, и мне это нравилось не меньше. Один или два раза я даже руку клала сверху на разгоряченную, влажную плоть, сжимала ее бедрами и получала особое наслаждение, чувствуя, как у меня там все вздрагивает и бьется как живое. Как постепенно затихает. Один раз я даже нечаянно провалилась пальцами внутрь, и от этого блаженная судорога повторилась.
Вот тогда-то я и поняла, что много лет назад, сидя в дедушкином кресле с «Золотым ослом» Апулея в руках, я обрела не просто первый эротический опыт, я обрела сексуальную независимость, что впоследствии уберегло меня от многих разочарований.
Безусловно, лучше этого не делать без партнера, но если строго спросить почему, то и ответа можно не найти. Другое дело, что в присутствии партнера это уже не называется противным медицинским словом «мастурбация». Но когда мы очень хотим есть, то хватаем первое, что подворачивается под руку, и не думаем ни о диете, ни о правилах хорошего тона. А я не думаю, что любовный голод легче натурального и спокойнее переносится.
Конечно, не следует себя специально, от скуки, возбуждать и удовлетворять, но если уж ты как-то случайно, непроизвольно возбудилась, то, каковы бы ни были причины возбуждения, ведут они все к одному… И тогда, стиснув зубы от одиночества, можно и стиснуть бедра.
Я говорю только о себе, прекрасно понимая, что у всех это происходит по-разному Главное, не очень казнить себя за это, но и не делать из этого пагубной привычки, в результате которой будешь сама себе милее, чем любой партнер. «Когда ж соблюдены все эти оговорки, — как сказал мой любимый Омар Хайям, — пить — признак мудрости, а не порок совсем»…
И потом, этим мы не делаем никому плохого — даже наоборот, готовим себя для любви. Прочитайте повнимательнее заключительную часть «Гавриилиады» А. С. Пушкина.
А еще в свою первую брачную ночь я упивалась изумительным и непривычным для меня чувством неторопливости и основательности, несмотря на бешеный темп Дмитрия. Спешить было некуда! Ничего не кончалось. Ни ночь, ни его силы, ни мое желание. Это, наверное, и есть семейное счастье, думала я, когда не надо спешить…
Правда, я так ни разу и не дотронулась до него ни руками, ни губами… Впрочем, и он до меня. Если была возможность, он старался обходиться без рук, словно эти прикосновения были ему неприятны. Только когда я была свежевымытой и скрипела там, как капустный листок, он был вынужден помогать себе руками.
И вся наша ночь прошла впотьмах и молча. Глядя на него, я тоже сдерживала себя в проявлении чувств. Но зато я тихо радовалась тому, что они появились. А все остальное, думала я, как-нибудь образуется.
Забегая вперед, должна сказать, что напрасно я на это надеялась. Вот как я сейчас описала, точно так все и происходило всегда. Разница была только в количестве схваток… Всегда были одни и те же беглые, поверхностные ласки, словно он каждый раз проверял, все ли его хозяйство на месте…
Никогда он не ласкал меня там, где мне Хотелось. И ни разу я ему об этом не сказала. Интимных разговоров мы с ним не вели.
После торопливых ласк, на которые в конце концов все во мне перестало отзываться, следовала привычная, всегда одна и та же поза, минута бешеной работы, последний долгий толчок, обжигающая струя внутри, потом он съезжал с меня, как с ледяной горки, и бежал в ванную.
Попривыкнув ко мне, он начал напевать в ванной во время мытья, из чего я сделала очень важный вывод, что ему со мной хорошо.
И мне всего хватало. Если бы он вообще не вылезал из постели, мы бы с ним жили и до сих пор… Но в медовый месяц ведь не думаешь о плохом.
14
После свадьбы, особенно после своего памятного выступления, Татьяна несколько дней не показывалась нам на глаза. Ей было стыдно. Чтобы не лишить подружку уверенности в себе и не усугублять ее мучения, мы решили 9 мая, в День Победы, пригласить ее к себе на обед, а потом куда-нибудь сходить втроем. Как прежде.
Дмитрию пришла гениальная идея сходить на ипподром, где мы с Татьяной никогда не были.
Мы отложили обед и поехали туда на такси. Дмитрий даже захватил свой полевой армейский бинокль, который, очевидно, привез с войны.
По дороге на ипподром, в машине Дмитрий объяснил нам, что такое рысистые испытания, что такое скачки, а главное, как работает тотализатор и сколько можно выиграть. Он объяснил, что сегодня разыгрывается приз Победы, наездники будут стараться изо всех сил, и поэтому совершенно не известно, кто придет первым, а значит, выдача в тотализаторе может быть очень высокой.
На ипподроме в тот день было празднично и многолюдно.
Я с гордостью поглядывала на Татьяну. Мне было приятно, что Дмитрий все на свете знает и во всем разбирается. Я вообще сильно гордилась им. Особенно в первый месяц. Поэтому меня слегка царапнуло, что, когда мы пробирались к кассам, чтобы поставить на какого-то жеребца со смешным именем Квадрат, с Дмитрием поздоровалась какая-то неприятная, мрачная личность в потертом прорезиненном плаще, обросшая пегой щетиной. При этом личность поздоровалась без должного уважения и назвала его Митей…
Дмитрий, поймав мой удивленный и возмущенный взгляд, пожал плечами и пробормотал:
— Кого здесь только не встретишь… Это сосед сестры.
Мы поставили по совету Дмитрия на Квадрата, а от него «паровозом» на всех остальных лошадей в следующем заезде все наши деньги.
— Новичкам всегда везет, — горячился Дмитрий, доставая из кармана все деньги. — А ты у меня вообще везучая… Давай сама, своими руками…
Татьяна решила поставить тоже. Но не на Квадрата — ей не понравилась кличка жеребца, — а на кобылу по кличке Гортензия.
— Можно? — спросила она, доверчиво глядя на Дмитрия.
— Наверное… — растерянно пожал он плечами. — Чем черт не шутит, если тебе что-то подсказывает… Только я советую на Квадрата. Он хоть и не привозил больших денег, но из молодых самый перспективный… Как мне говорил сосед… — добавил он, отчего-то смутившись.
Купив целую кучу билетиков, мы направились к трибунам.
До сих пор не знаю, что со мной сделалось… Я неотрывно в бинокль смотрела за Квадратом, которого мне показал Дмитрий еще во время тренировочной проездки, и с первого взгляда влюбилась в него. Ну просто по-настоящему!
Взгромоздившись ногами на лавочку, я не сводила с него глаз. Мне безумно понравилось его лицо. Язык не поворачивается сказать «морда». Такие шальные глаза, косящие чуть назад, прямо на меня… Могучая грудь, сухой, поджарый и такой мускулистый круп, глядя на который, я почему-то вспомнила Алексея. Не придуманного, а настоящего. И вспомнила апулеевского Луция, превращенного в осла. В общем, самые дурацкие мысли приходили мне в голову, но я поспешила их прогнать и стала любоваться Квадратом чисто эстетически.
Потом, когда прозвучал колокол официального заезда и Квадратик начал вырываться вперед, я завизжала от восторга. Танька стала тянуть у меня из рук бинокль, чтобы взглянуть на свою несчастную Гортензию, толкущуюся где- то в середине… Я, конечно, дала, но тут же забрала обратно. В конце концов, это мой муж! И мой бинокль!
Когда эта замухрышка Гортензия ни с того ни с сего вдруг вырвалась вперед, я чуть с лавочки не свалилась. Дмитрий тоже напрягся и побледнел, ноздри его раздулись, как у Квадрата, который упорно шел вторым и не желал догонять эту выскочку.
Как назло, половина болельщиков были в восторге от того, что Гортензия впереди. А Танькина неуместная радость меня просто бесила. Я ей чуть биноклем по голове не дала, чтобы она успокоилась и вела себя прилично…
Потом по радио что-то объявили, и Дмитрий обмяк, а половина болельщиков как-то скисли и поскучнели. Только Танька продолжала радоваться, а я убиваться, так как радио мы не слушали и ничего не понимали в их специальной терминологии.
Клянусь, я ни разу не вспомнила о деньгах, которые мы проигрываем. А это были немалые деньги.
Наверное, я бы заплакала от огорчения или просто умерла, если б Дмитрий не объяснил нам, что Гортензия, как передали по радио, «заскакала», то есть перешла с рыси на галоп, и теперь, даже если она придет первой, ее результат не будет засчитан.
— Как это не будет засчитан? — возмутилась Танька.
— А вот так! — мстительно ответила ей я.
— Девочки, это не важно, не важно! Смотрите!
Мы взглянули на дорожку. Впереди, на цёлый корпус обгоняя Гортензию, летел Квадрат.
Раздался колокол, диктор объявил, что заезд выиграл Квадрат, и на пол как осенние листья посыпались порванные в сердцах и целые, но уже никому не нужные билетики. Я заплясала на лавочке, забыв спуститься на землю. Проходящий мимо нас какой-то франт в светлой шляпе и в широченном светлом пальто с накладными карманами, туго перетянутый поясом, завязанным небрежным узлом, оглядел меня с ног до головы и бросил с завистью:
— Ладную кобылку завел себе, Митя, породистую, с крутым бедром и тонкой лодыжкой…
— Иди, иди, не примазывайся, — отмахнулся от него Дмитрий и протянул мне руку, помогая сойти.
Когда минут через десять объявили «выдачу», то есть сумму, выдаваемую на один билет, выяснилось, что мы выиграли кучу денег, что-то около двадцати тысяч рублей, так как билетов у нас было много.
Выигрыш был так велик, что Дмитрий тихо посоветовался с нами, не взять ли нам милиционера для сопровождения. Мы заверили его, что будем ему надежной охраной.
Когда мы подошли к окошку кассы, где кроме нас было только два счастливца, так как половина ипподрома ставила на Гортензию, а вторая половина на Коралла, кто-то сзади спросил:
— Кто дал наколку, Митенька? Или просто повезло?
Я оглянулась. На нас с завистливой иронией смотрел седовласый полковник в парадной форме и при всех орденах.
— Вот мое везение, Георгий Семенович, — почтительно ответил Дмитрий, указывая глазами на меня.
15
Это был один из самых светлых дней в моей жизни.
Едва мы вышли из ворот ипподрома, как выяснилось, что все жутко голодные. Поймав такси, мы отправились кутить в недавно открывшийся в Химкинском речном вокзале ресторан «Волга», в котором пели цыгане.
По дороге Дмитрий остановил машину около цветочного магазина и купил нам с Татьяной по огромному букету оранжерейных роз. Татьяне красных, а мне, естественно, чайных. Это ее немножко утешило, а то она чуть не плакала от огорчения и все время повторяла:
— Как же так? Ведь она была впереди всех! И вдруг заскакала! А кто это определил, что она заскакала? Кто это видел?
— А все равно Квадрат пришел первым и привез нам кучу денег, — поддразнивала я ее.
— Ну конечно! Когда объявили, что она заскакала, наездник начал ее сдерживать, чтобы она больше не скакала, — ворчала в ответ Татьяна.
В ресторане Дмитрий жутко гусарил. Наверное, ему все- таки запал в сердце мой рассказ о выдуманном Алексее.
Понятно, что подавали нам все самое дорогое и самое лучшее. Ясно также, что официанты тучей кружили вокруг нас, вызывая зависть и недовольство остальных посетителей.
Цыгане пели только для нас. Кончилось дело тем, что их красавец солист со своим скрипачом и гитаристом просто не отходил от нашего столика. А всем хором они исполняли дйя нас величальную и подносили Дмитрию стопку водки на подносе, на который он бросил две сторублевки под изумленный вздох всего зала.
Когда мы поздно вечером отвезли Татьяну домой, она, поцеловав меня на прощанье, шепнула мне на ухо:
— Похоже, он свой в доску на этих бегах…
— Ну и что? — Я беззаботно повела плечами.
На этот выигрыш мы сперва решили купить «Москвич», но деньги незаметно разошлись прежде, чем мы собрались это сделать.
Кончился наш медовый месяц, который был сплошным праздником, и мы вдруг начали как-то очень быстро беднеть. Нам почему-то стало не хватать денег не то что на ужин в ресторане ВТО, но даже и на пачку пельменей. Мне все время приходилось перехватывать у Татьяны, которая умудрялась быть постоянно при деньгах, несмотря на то что жила только на стипендию, правда, на повышенную. Ну конечно, кормила ее по-прежнему мама.
Потом я стала хватать заказы и брать у клиенток авансы, чего прежде не любила делать, чтобы не чувствовать себя зависимой. А взяв аванс, я не вставала из-за машинки, пока не заканчивала вещь. Если раньше я работала только по настроению и могла день или два просто побездельничать, то теперь я вкалывала часов по двенадцать в сутки. Иной раз я даже оставалась ночевать у себя на Тверском бульваре, так как на Малую Бронную идти было поздно.
Дмитрий не любил сидеть у меня во время моего шитья и терпеть не мог сталкиваться с заказчицами, особенно с капризными. Он говорил, что в таких случаях ему начинает казаться, что женился на служанке… Хотя понимал, что это просто приработок и это временно. У нас было намечено, что я буду поступать не на вечернее, как он предлагал мне в нашу первую встречу, а на дневное отделение института иностранных языков.
— Неужели я не прокормлю одну студентку, — со смехом говорил он мне, — какой же я тогда мужчина?
Но тем не менее денег не хватало, несмотря на то что мы работали вдвоем.
16
Первой подняла панику все та же Татьяна.
— Слушай, Маня, а как вы ведете хозяйство? — недоуменно спросила она, когда я в очередной раз перехватила у нее полсотни до Митиной получки. — Вы что, на завтрак едите черную икру со шпротами, а обедаете и ужинаете в ресторане с цыганами?
— Да нет, — развела руками я, — питаемся мы дома, так же, как и все. Я харчо научилась варить из баранины, Митя любит. На ужин едим или сосиски, или микояновские котлеты с картошкой или гречневой кашей…
— А может, он пропивает? — страшным шепотом спросила Татьяна.
— Ты, что, Танька, дура? — обиделась я. — Ты же знаешь, что он пьет только по праздникам. И вообще среди грузин алкоголиков не бывает. Он мне рассказывал, что у них дети вино пьют вместо воды.
— Так куда же вы деньги деваете?
Я развела руками.
— Ну хорошо, — зашла с другого бока Татьяна. — Кто у вас распоряжается деньгами?
— Никто, — пожала плечами я.
— А кто продукты и все такое покупает?
— У кого время есть или кому по пути.
— А где он деньги берет?
— В ящике письменного стола.
— А кто их туда кладет?
— Мы же и кладем! — возмутилась я. — Кончай задавать дурацкие вопросы.
— Это не вопросы, это ответы дурацкие, — невозмутимо возразила Татьяна. — Теперь ответь на самый последний вопрос: а кто считает эти деньги? Кто их распределяет? Кто ведет хозяйство?
— Никто… — растерянно сказала я.
— Тогда все ясно. Каждый может положить сколько может, а взять сколько захочет. Полный коммунизм. А мы, милая, живем еще при социализме. А социализм, как ты сама знаешь, — это учет. Доверяй, но проверяй! Так что же получается? Зарабатываете вы прилично, живете скромно, ничего не откладываете, а денег все равно не хватает. Такого в природе не бывает. Значит, существует неучтенная, а может быть, и тщательно скрываемая утечка средств.
— Что ты имеешь в виду? — насторожилась я.
— Помнишь, я у тебя спрашивала, откуда у него столько денег?
— Помню. Ну и что?
— А то! Ты еще не поняла? То он был в выигрыше, а теперь проигрывает. Не может же ему бесконечно везти.
— Значит, ты считаешь… — начала я.
— И ты так считаешь, только не хочешь признаться ни мне, ни себе. Помнишь, он все время твердил, что ты ему приносишь счастье, что ты его везение, как он сказал тому полковнику. Ты что, не заметила, что его на этих бегах каждая собака знает…
— Так что же теперь делать? — испуганно спросила я.
Действительно, подобные догадки мне и самой приходили в голову, но я гнала их прочь. Бабушка не зря обучала меня ведению домашнего хозяйства. Однажды я сосчитала деньги в ящике письменного стола, и оказалось, что они тают гораздо быстрее, чем тратятся на хозяйственные надобности. Но я подумала, что у мужчины должны быть карманные деньги на сигареты, на галстуки, на бритье…
Митя редко брился дома, предпочитая утром перед работой заходить в парикмахерскую по дороге. Потом, он почти никогда не обедал дома, особенно по средам, пятницам и субботам, когда преподавал немецкий в медицинском училище. Значит, ему нужно было перекусывать где-то. Или в школьном буфете, или в шашлычной на Никитских воротах под «Повторкой». Я знаю, что Митя очень любил шашлык по-карски. На это тоже нужны были деньги.
В шашлычную он ходил всегда с кем-нибудь из коллег или с дядей Ваней, которому до шашлычной было близко от Моссовета. В таких случаях они обязательно брали бутылочку* другую «Мукузани». Платил всегда Митя. Он же был грузином, хоть и московским. Он просто не умел иначе и знал десятки приемов, как сделать это незаметно, так, чтобы, когда все достают кошельки и зовут официанта, тот подходит и вежливо говорит, что уже за все заплачено. И на все это нужны были деньги…
Так я себя уговаривала… Но для того чтобы тратить столько, сколько тратил он, ему нужно было бы обедать по три раза в день. Об этом я старалась не задумываться. В одном я была совершенно уверена — что тратит он не на женщин и не откладывает тайком на сберкнижку или в кубышку, а остальное меня мало беспокоило. И, выходит, зря. Раз уж и Танька что-то почувствовала, значит, дело серьезное. Поэтому я и испугалась.
— Так что же теперь делать? — спросила я. — Может, поговорить с ним? А как об этом поговоришь? Он же взрослый человек. Не запретишь же ему ездить на ипподром, если он туда вообще ездит. А что, если он скажет, что и не был там с того раза?
— Еще как скажет! Его нужно поймать на месте преступления и там припереть к стенке.
— Ты с ума сошла! — возмутилась я. — Как это поймать? Следить за ним, что ли?
— Ты, Маня, не представляешь масштабов бедствия. Моя Зинаида рассказывала, что у них был директор Ресторанторга, который настолько увяз в этом деле, что проиграл на бегах дачу, машину, сделал громадную растрату и сел с конфискацией имущества, оставив жену ни с чем. Только что коронки с нее не сняли, а так все: шубы, кольца, отрезы, хрусталь, ковры, мебель антикварную — все забрали! Это же больные люди. Знаешь, как их называют в народе?
— Как?
— Сухие алкоголики. Ты его свяжи по рукам, по ногам, запри, так он зубами веревки перегрызет и через окно убежит. Деньги спрячешь, вещи начнет продавать…
17
До сих пор мне неприятно вспоминать, как мы с Татьяной за ним следили, как убедились, что самые страшные ее опасения сбываются. Что ни в каком медицинском училище он уже давно не преподает, что пиджак у него перепачкан мелом не у школьной доски, а около бильярдного стола в Доме учителя.
Никогда не забуду сцену, подсмотренную нами на бегах, как он с перекошенным лицом, со сбившимся набок галстуком просил у того самого пижона в широком пальто взаймы только на один заезд… Как он говорил, что обязательно выиграет и тут же отдаст ему вдвойне, и как тот его унижал, смеялся в лицо и говорил, что пока тот не отдаст старые долги, то и копейки не получит.
— Или как в тот раз, — небрежно предложил пижон, — сбрей усы, и я тебе дам на три заезда и верну твои котлы…
При этих словах он достал из кармана Митины часы и, держа их за цепочку, помахал перед Митиным носом.
Дальше я не могла смотреть и опрометью бросилась домой, хоть Татьяна и предлагала устроить «Явление Христа народу», чтобы он не мог отпереться.
Меня чуть не стошнило самым натуральным образом, когда я представила себе эту сцену.
В тот день у нас с ним состоялся серьезный разговор. Он плакал и клятвенно обещал, что больше никогда не будет играть. Вот только в субботу в последний раз… Ему тренер дал точную «наколку», и можно в один удар все поправить, со всеми расплатиться, вернуть часы и вообще начать жить по- новому…
— Помнишь, как тогда с Квадратом, — бесконечно твердил он. — Ведь ты же со мной…
Потом был еще разговор, потом еще, еще, еще и еще. Потом пропал бинокль, потом я хватилась моего любимого дедушкиного подстаканника, недосчиталась на полке некоторых книг…
18
К осени я почти потеряла надежду на то, что жизнь наша наладится. Приближался к концу дождливый октябрь, плавали в лужах грязные листья, жить не хотелось. Я не знала, что делать. Уйти и оставить его один на один с его болезнью? Наверное, это было бы бесчеловечно. Продолжать бороться было бесполезно. Я пребывала в состоянии неустойчивого равновесия. Если бы он бросил на свою чашу весов хоть перышко, хоть былинку надежды, его чаша перетянула бы, и еще неизвестно, сколько я с ним промучилась. Но он бросил кирпич на противоположную…
Однажды ночью, когда я уже проваливалась в сон после обязательных почти механических ласк, которые он производил со скоростью швейной машинки в кромешной темноте и тишине, какое-то предчувствие кольнуло меня, и я вдруг проснулась. Мне показалось, что картонка из-под обуви, в которой я хранила деньги Алексея, лежит на одежной полке в прихожей на Тверском бульваре не так, как я ее положила. Не той стороной.
Раньше она лежала тыльной стороной, а теперь лицевой, на которой нарисованы мои лакировки. Еще сегодня, собираясь сюда, на Малую Бронную, я полюбовалась на их силуэт и подумала, что пусть моя семейная жизнь не удалась, зато больше ни у кого в Москве нет таких лакированных лодочек. На тыльной же стороне была напечатана таблица размеров.
Я стала вспоминать, не перекладывала ли коробку сама. Нет, не перекладывала. Или переложила машинально во время уборки и теперь сама не помню? Но я в своей квартире давно не убиралась. Закончив работу, пулей летела на Малую Бронную, чтобы, забежав по дороге в продмаг на Никитских воротах, успеть приготовить какой-нибудь простенький ужин. Чем бы он там ни занимался, а кормить-то его все равно надо…
В эту ночь я не спала ни минуты.
Утром, как только он отправился в школу, я быстро оделась и полетела к себе домой. Ворвавшись в квартиру, цапнула коробку, и ноги у меня подкосились. Она была пуста. Не нужно было и открывать ее, чтобы это понять. Но я открыла. Ничего, кроме туфель, завернутых в папиросную бумагу, в ней не было. Я медленно опустилась на сундучок, где хранились старые шлепанцы, банки с высохшим гуталином и обувные щетки, и заревела.
Мне не было жалко денег. Мне было жалко себя. И этого несчастного… Как же он себя перекрутил внутри? — плача думала я, как же он себя изломал? Ведь он же каждый день в глаза мне смотрит. Ласкает меня. По утрам идет на работу в школу. В свежей рубашке, в синем полосатом галстуке. Важно поблескивая очками, объясняет plus-que-parfait, его сигареты, которые он вставляет в прокуренный янтарный мундштук, по-прежнему пахнут хорошим одеколоном от надушенного носового платка.
Только золотые часы он не открывает с музыкой и не кладет на раскрытый журнал, потому что отцовские часы эти он в который раз уже проиграл на бегах.
А если так дело пойдет и дальше, то и усы, свою гордость грузинскую, проиграет и опять будет ходить с голой тонкой губой… А по-другому дело пойти и не может…
Какие затейливые хитросплетения вывязывает порой наша жизнь, сквозь слезы думала я, деньги, добытые явно нечестным путем, хоть, как говорил Алексей, на них нет ни крови, ни списанных номеров, проиграны на бегах. Как пришли, так и ушли. На них можно было купить две машины — «Победу» и «Москвича» или безбедно прожить года два, ни в чем себе не отказывая. Но ничего, кроме беспокойства и неприятностей, они мне не принесли.
Кроме того, я совершенно не знала, что мне теперь делать, как в связи с пропажей этих денег попытаться вывести его на чистую воду? А если это не он взял деньги и его совесть чиста, то как я буду выглядеть перед ним? Возникает естественный вопрос: откуда у меня эти деньги?
И не только он меня может об этом спросить. Татьяна, у которой я стреляла постоянно по полсотни или по сотне, имея тридцать тысяч в картонке, тоже вправе задать мне этот вопрос. Ни ему, ни Татьяне объяснить их происхождение я не смогу.
Можно было бы наплести что-то про фамильные бриллианты, но тогда Татьяна спросит, почему она их до сих пор не видела в нашей семье? Глупости все это.
Что значит — не он взял? Тогда кто? Татьяна? У меня никого, кроме нее и заказчиц, в доме не было. Заказчицы взять не могли. Кому придет в голову заглядывать в обувную картонку в прихожей?
Но и делать вид, что ничего не случилось, тоже было плохо. Он мог догадаться, что деньги эти незаконные и поэтому я не признаюсь в том, что они вообще существовали.
Я зябко передернула плечами. От такого предположения у меня по спине на затылок побежали мурашки. Закрыв коробку, я поставила ее на прежнее место, сняла пальто, переобулась и тяжело, как бабушка, шаркая шлепанцами по паркету, пошла варить кофе.
На кухне я вспомнила, что в левой колонке старинного буфета, на верхней полочке за чашками, лежит непочатая шоколадка «Экстра», которая специально хранилась у меня на такие вот горькие моменты жизни, когда ничем другим подсластить ее уже невозможно.
Кофе я сварила очень крепкий, какой уже давно не пила, плеснула в него ложку «Шартреза» и, отхлебнув крошечный глоточек восхитительно горького и ароматного напитка, закусила маленькой долечкой шоколада и запила глотком нарзана, который специально берегла для кофе. Так пить его научила меня бабушка.
Вспомнив ее, я стала невольно думать о том, как она бы поступила на моем месте. В результате долгих размышлений я пришла к неутешительному выводу, что бабушка на моем месте оказаться не могла, потому что у нее были высокие нравственные принципы и четкие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо.
А что, если сказать, что это чужие деньги, которые мне дали на хранение? — внезапно пришло мне в голову Ну и что изменится? — тут же возразила я самой себе. Где я возьму такого человека? И почему он хранит деньги у меня, а не в сберегательной кассе или в крайнем случае в облигациях трехпроцентного займа? Потому, что это деньги из «обща- ка»? Так, что ли, прикажете объяснять их происхождение?
И потом, а вдруг все-таки не он взял?
Как я хотела поверить в это «а вдруг»! Я бы все отдала, чтобы оно оправдалось. Пусть бы это была любая заказчица. Пусть сам Алексей тайно пришел и забрал. Я бы по этим деньгам ни разу не вздохнула. Я бы забыла о них на второй день, потому что одно дело общие деньги из ящика письменного стола, книжки и даже подстаканник и совершенно другое дело какие-то абстрактные тридцать тысяч…
19
Но не оправдалось. Через несколько дней упорного обоюдного молчания на эту тему я собралась стирать его светлый китайский плащ, прежде чем до весны повесить его в шкаф на хранение, и вывернула карманы, чтобы вытряхнуть табачные крошки.
В одном из карманов мое внимание привлек какой-то ярко-красный шарик, забившийся в самый уголок. Я взяла его в руку. Это был шерстяной катышек, который я развернула, и в руках у меня оказался крученый кусок шерстяной нитки. Той самой, которой были перевязаны обе пачки денег, пропавших из обувной картонки…
На другой день, когда он был в школе, я призвала на помощь Татьяну и собрала свои вещи, которых, к счастью, на Малой Бронной было немного. Ничего из тех вещей, которые мы приобретали вместе, я, разумеется, не взяла.
Чтобы избежать ненужных выяснений отношений, которых, к слову сказать, терпеть не могу, я ему оставила короткую записку, где объяснила, что дальнейшая наша совместная жизнь, в свете известных ему событий, невозможна и поэтому я возвращаюсь к себе домой навсегда. Уговаривать меня вернуться на Малую Бронную безнадежно, а преследовать бесполезно, так как я, в крайнем случае, чтобы уберечь себя от домогательств, обращусь в райком партии, дабы наша родная Коммунистическая партия оградила меня от преследований.
На этой приписке настояла Татьяна. Она сказала, что иным способом от него не отвяжешься. Митечка был секретарем школьной партийной организации и ужасно серьезно относился к этому общественному посту.
— А может, не будем про райком? — в последний момент засомневалась я.
— Это еще почему? — подбоченилась, точь-в-точь как ее Зинаида, Танька.
— Очень уж противно…
— А когда книги пропадают — это не противно? А подстаканник? А его бесконечное вранье? Это все приятно? Ты не знаешь этих людей. Он же от тебя не отстанет! Ты его в дверь, а он в окно залезет! И будет сосать из тебя кровь, как наук, пока не высосет до конца! Это он дома и на работе нормальный человек… Да и то только кажется нормальным. Ты же видела, во что он превращается на ипподроме. Жалкое, трясущееся существо! И ты не обязана такому отдавать свою молодую жизнь. Хорошо, что у тебя ума хватило не прописывать его к себе в квартиру…
— Что ты говоришь? Это же он сам не хотел…
— Ну и что? Ты могла бы и настоять, у тебя ума хватило бы. Или обменяли его и твою квартиру на четырехкомнатную… Вот тогда бы я на тебя посмотрела…
— А кто меня во всю эту историю втравил? Забыла? — разозлилась в конце концов я. — Он хороший, он чуткий, он щедрый, он долгожитель…
— Я ошибалась, как и все! Он удачно маскировался…
— Тогда не надо меня во всем обвинять.
— Ну прости, Мань… — Она обняла меня и потерлась щекой о мою щеку. — Я же тоже нервничаю. Я ведь чувствую свою вину. Думаешь, я бревно бесчувственное? А ключи от Тверского у него есть? — внезапно спохватилась она.
— Конечно.
— А как же мы их у него заберем? Может, припишем в записке, чтобы передал директору школы…
— Не говори чепухи. Нужно будет что-нибудь придумать…
— Давай я их у него возьму. Подстерегу у школы… Или сюда приду. Ты только напиши, чтоб он их мне отдал.
— А не побоишься?
— А чего мне бояться? Я с собой гангелину в сумочке возьму. Чуть что — сумочкой по голове.
На том мы и порешили.
Тем же вечером часов в шесть Татьяна, махнув рюмочку «Шартреза» для храбрости, отправилась на Малую Бронную.
Вернулась она часа через два и, положив ключи на кухонный стол, долго молчала. Вид у нее был испуганный. Потом она попросила еще рюмочку «Шартреза» и заговорила:
— Он плачет.
Потом она выпила еще одну рюмку и добавила:
— Он передо мной на коленях стоял. Похоже, он и вправду тебя любит, Маня.
— Мне от этого не легче, — сказала я и тоже попыталась налить себе «Шартреза», но половину пролила на клеенку — так сильно дрожали у меня руки.
20
Развелись мы в том же Краснопресненском суде через полгода.
Сладким ежиком я его, конечно, называла. Он брился по утрам, а к вечеру его щеки становились синими. У грузин очень быстро растет щетина.
Я его и до сих пор постоянно встречаю то на Тверском бульваре, то на Большой, то на Малой Бронной. Первые два- три года мы делали вид, что не замечаем друг друга. Потом постепенно начали здороваться. Потом он все время ходил с одной и той же милой женщиной, потом с коляской, в которой лежал симпатичный черноглазый малыш.
Судя по тому, что у его жены был постоянно несчастный вид, играть он так и не перестал.
Мой любимый дедушкин подстаканник (я узнала его по надписи на донышке) я случайно увидела в комиссионном магазине на улице Горького через шесть лет после случившегося, при весьма романтических обстоятельствах, о которых я расскажу позже…
Разумеется, я его выкупила, а дома долго драила с содой и с зубным порошком, как бы соскребая с него прикосновения чужих рук.
Больше я с ним никогда не расставалась.
ВОСЬМОЙ (1955 г.)
1
История с восьмым была нелепа и эфемерна, но странным образом оказала огромное влияние на всю мою остальную жизнь…
Началась она, как и множество моих странных историй, в новогоднюю ночь. Просто какой-то заколдованный для меня праздник. Но все равно я люблю его больше всех остальных, включая и собственный день рождения.
К тому времени в замужестве я разочаровалась. И не потому, что замужество — это вообще плохо, просто мне лично с этим делом не совсем повезло. Не то что Митечке со мной поначалу…
Но тогда меня бросало в дрожь от одного слова — муж. Если раньше я, как и все порядочные девушки, стремилась к семье, к детям, то теперь сознательно решила пуститься в самую забубённую гульбу. Не в самом ее крайнем выражении, разумеется. Не нужны вам моя любовь, преданность и доброта, думала я с обидой и злостью, так получите стерву.
Раньше меня оскорбляло, что мужикам от нас только одного и надобно, а теперь я решила поменяться с ними ролями. И когда кто-нибудь из них заводил разговор о вечной любви, я смеялась ему в лицо.
В таком состоянии я и встречала Новый год. К Татьяне я решила не идти, чтобы не ловить на себе весь вечер ее сочувственные взгляды. Я вообще решила никуда не ходить, но тут одна из заказчиц, моя ровесница, дочка какого-то штатского генерала от науки, услышав об этом, буквально затащила меня к себе.
У нее была огромная шестикомнатная квартира с двумя туалетами, на улице Горького в доме рядом с Моссоветом. Гостей набилось человек пятнадцать. Стол ломился от дорогих деликатесов. Я принесла шампанское и большой праздничный набор шоколадных конфет, но мой жалкий взнос так и остался лежать забытый под зеркалом в прихожей.
Идя в этот дом, я опасалась, что отношение ко мне будет слегка снисходительное, но этого, к счастью, не произошло. Все относились ко мне с почтением и интересом, так как одета я была если не лучше всех, то в любом случае интереснее… К тому же Милочка — так звали хозяйку — представляла меня всем как переводчицу с французского.
Как мне вскоре стало понятно, — я предназначалась для кого-то из чопорных молодых людей, пришедших на вечеринку без дам. Один из них, сын какого-то посла, услышав, что я переводчица, криво усмехнулся — мол, знаем мы таких переводчиц — и заговорил со мной по-французски с чудовищным акцентом и абсолютно безграмотно, хотя и бойко. Я вежливо ему ответила и тактично посоветовала, как лучше произносить некоторые слова и как грамотнее строить фразы, чтобы французы его лучше понимали. Впрочем, на подобных вечеринках это совершенно все равно, добавила я с обворожительной улыбкой. Он не обиделся. По-моему, у него отсутствовал орган, которым обижаются.
2
Сначала все было очень церемонно и почти официально. Все сидели ровно, ели и пили очень благовоспитанно, строго придерживаясь правил этикета. Кавалеры тактично ухаживали за дамами. За мной сразу двое, один из которых сидел по правую руку, а другой — по левую.
Тостующий обязательно вставал с бокалом в руке, поправлял галстук и, обращаясь к пирующим, называл их товарищами. Я уже подумывала, что придется проскучать всю новогоднюю ночь, но скучать мне, увы, не пришлось…
Часам к двенадцати, когда на подоконнике выстроилось каре пустых бутылок из-под шампанского и коньяка, у моих чопорных ухажеров развязались галстуки и распустились языки. Они стали нести полную скабрезных намеков веселую чушь. Весь стол покатывался со смеху. Как бы соперничая из-за меня, они бесконечно поддевали друг друга и были в этом деле равно милы и изобретательны.
Глядя на них, я не решалась отдать кому-либо предпочтение. Каюсь, что промелькнула даже шальная мысль, что мне все равно, что тот, что этот, что никого…
Такое у меня было настроение в ту пору. Если год назад мы с Татьяной запирали наши сердца на ржавые замки, то сейчас двери были распахнуты. Кто же запирает пустые амбары?..
После громкой и безалаберной встречи Нового года под Кремлевские куранты, слышные в этой квартире и без телевизора «Грюндиг», который для такого случая был выключен, начались безудержные поздравления, сопровождаемые звонким целованием всех со всеми. Причем, когда я стоя целовалась с сыном посла, его приятель попытался засунуть мне руку под юбку Я откинула его хилую ручонку и весело шлепнула по макушке, чтобы не баловался.
Потом были танцы под магнитофон. Потом Милочка залезла на стол и под восторженные вопли уже сильно захорошевшей публики начала раздеваться, неумело вихляя бедрами.
Парочки начали разбредаться по комнатам. Кто-то уже успел наблевать в одном из двух туалетов мимо толчка, и все ходили в другой.
Мы с моими поклонниками, «чтобы соблюдать всеобщую справедливость», как сказал сын посла, танцевали втроем. Причем могу вас уверить, что одной меня для них было более чем достаточно. Каждый из них прижимался животом к одной моей ноге, и ее хватало, чтобы вызвать в нем острое желание, которое я, естественно, чувствовала при каждом движении.
Должна признаться, что это необычное ощущение сразу двух меня не на шутку завело, и я сама начала раскачивать бедра в таком ритме, чтобы чувствовать то одного, то другого, то обоих сразу.
На какое-то мгновение потеряла контроль над ситуацией и опомнилась, когда мы дотанцевали таким образом до, очевидно, родительской спальни с белой мебелью в стиле «Людовик» и с огромной кроватью, на которую мои кавалеры, сосредоточенно сопя, начали меня заваливать.
От такого их усердия я вдруг начала жутко хохотать и все время приговаривала, вяло отпихивая их руками:
— Ну подождите, мальчики! Ну не так резво, мальчики. Ну подождите, давайте еще потанцуем…
Я не знаю, что было бы, если б мы еще потанцевали. Может быть, я, раззадорившись окончательно, сама бы потащила их в кровать, но они, не обращая на мои слова никакого внимания, молча сдирали с плеч мое темно-лиловое шелковое платье с глубоким и острым треугольным вырезом, эффектно перехваченным бабушкиной белой камеей.
Тут вся веселость слетела с меня, и я попыталась их всерьез урезонить. В ответ на это сын посла так дернул платье, что камея отлетела, а вырез с треском разорвался до пупа. Это меня по-настоящему взбесило, и я отвесила этому сынку громкую оплеуху. Потом еще одну, потом еще! Очень он меня разозлил.
Я бы забила этого подонка до смерти, но его приятель подкрался ко мне сзади и обхватил словно клещами, прижав мои руки к телу. Не разжимая мертвой хватки, он попятился к кровати и повалился на нее спиной, увлекая за собой меня.
Я испугалась, что раздавлю мерзавца, потому что с виду он был хлипким и весил килограммов на двадцать меньше меня, но он даже не пискнул. И руки у этой сволочи оказались крепкими.
Пока мы с ним валялись в этом дурацком положении, ко мне подскочил сынок посла и сперва залепил мне пощечину, как бы отомстил, а потом залез под юбку и начал решительно стаскивать с меня трусы. Тут уж я озверела окончательно и двинула его коленом в морду, а когда он выпрямился, ступней, самым подъемом, — в пах.
Он скрючился и, тихонько завыв, уполз в угол. Я почувствовала, что негодяй, лежащий подо мной, оторопел от таких моих действий, и мне вдруг пришло в голову, что не только мои, но и его руки скованы. Притом его полностью, а мои частично… Тогда я не без труда завела одну руку под собственную задницу и, нащупав его причинное место, сжала так, что он завизжал по-поросячьи.
Не выпуская из руки его хозяйства, я встала, подняла с пола бабушкину камею и вместе с этим мерзавцем вышла в коридор. Нам кто-то попался навстречу. Я не разглядела кто и только услышала изумленное: «Ни фига себе!»
В прихожей я одной рукой посбрасывала с вешалки чужую одежду, пока не нашла свою шубейку и висящую на ней театральную лакированную сумочку, которая так подходила к моим итальянским лодочкам.
Забыв в этой поганой квартире свои теплые ботики и белый пуховый берет, я выбежала на улицу, чуть не переломав ноги на лестнице.
3
Было около четырех часов ночи. На улице Горького было пустынно и очень ветрено. По обледенелому асфальту несло поземку — мелкий, колючий снежок, который пробивал через мои французские капроновые чулки.
Едва я выскочила из подъезда, как за мной увязались три какие-то подозрительные личности, которые были не по- праздничному молчаливы. Я прибавила шагу и свернула за Моссовет на улицу Станкевича, чтобы мимо моей любимой церковки выйти на улицу Станиславского, а там через Лехин двор пройти на Тверской бульвар и через несколько шагов оказаться у своего подъезда. Но не тут-то было. Эти трое все так же молча прибавили шаг и тоже свернули на улицу Станкевича… Я побежала. И они побежали.
Вот тут-то мне стало страшно по-настоящему. Тех двух мозгляков, папенькиных сынков, я не боялась, а тут были трое здоровенных молчаливых мужиков. От ужаса у меня ноги сделались ватные. Я и так не очень быстро бежала по льду на высоких каблуках, а тут, как в дурном сне, заскользила на одном месте.
Они налетели беззвучно. Я не успела даже добежать до церкви. Один, оборвав тоненький ремешок, сорвал с меня сумочку, второй начал одной рукой искать пуговицы на моей шубе, а другой рукой поднес к самому подбородку нож и, дохнув водкой и селедкой с луком мне в лицо, прошептал:
— Молчи, сука, а то попишу.
Он никак не мог нащупать пуговицы — они были потайные и, разозлившись, прохрипел:
— А ну скидовай шубу, профурсетка, пока вместе со шкурой не содрали!
Я расстегнула пуговицы и, оставив шубу у них в руках, бросилась в подъезд ближайшего дома, рассчитывая позвонить во все двери, если грабители ворвутся вслед за мной.
Это был очень приличный подъезд с вымытой лестницей. За лифтом в закутке горела лампа на маленьком канцелярском столике, и из-за ее зеленого абажура на меня смотрела строгая старушка в круглых очках.
Придерживая на груди разорванное еще на вечеринке платье и прислушиваясь к звукам на улице, я ей кое-как рассказала о своих злоключениях. Бабушка-вахтерша мне сразу поверила, тут же достала из тумбы стола телефонный аппарат и придвинула ко мне:
— Звони в милицию, дочка.
Я как безумная смотрела на телефон и никак не могла вспомнить, что же с ним нужно делать… Тут на улице раздался шум мотора, скрип тормозов, хлопанье автомобильной дверцы, а затем дверь в подъезд распахнулась, и, впуская клубы пара, вошел высокий мужчина в бобровой «боярской» шапке с черным бархатным верхом, в пальто с широким бобровым же воротником и с лицом, замотанным шарфом по самые глаза.
Вместе с ним вошли две дамы в шубках. Одна — в каракулевой, а другая — в котиковой, в выходных туфельках и без головных уборов. Они прижимали к груди по огромному букету цветов, громко смеялись, обнажая белоснежные зубы, и распространяли вокруг себя запах незнакомых мне, но безусловно дорогих духов.
В этот момент я сама себе показалась жалкой замарашкой. У меня выступили слезы, и я, выйдя из светового пятна, отбрасываемого лампой, спряталась за спину вахтерши.
Мужчина вызвал лифт и, пока тот степенно двигался вниз, поднялся на три ступеньки, вытащил откуда-то из-под пальто коробку конфет и еле слышно произнес из-за шарфа:
— С Новым годом, Варвара Степановна. Как здоровье вашей внучки?
Тут он, всмотревшись в темноту, разглядел меня и спросил:
— Так это она и есть?
— Нет…
Вахтерша, с почтением привстав со стула, назвала мужчину по имени и отчеству, которые я по вполне понятным соображениям, так как живы родственники этого великого человека, не хочу упоминать в своих приватных заметках.
— Нет, — сказала вахтерша, — внучка, слава тебе, Господи, поправляется, но я еще не разрешаю вставать, потому что грипп — болезнь серьезная и дает осложнение на сердце, если подняться раньше времени, а эту девушку только что, вот буквально минуточку назад, ограбили.
И бабушка со вкусом пересказала мою историю.
— Какое безобразие! — все так же еле слышно воскликнул мужчина. — Надо будет сказать милиционерам, чтобы лучше смотрели за порядком, а то скоро и среди бела дня начнут раздевать… — Потом он всмотрелся в мое лицо и, наверное улыбнувшись где-то там под шарфом, ласково спросил: — Что же вы теперь, милая девушка, будете делать?
Я, придерживая рукой края разорванного выреза, пожала плечами и отступила дальше в темноту, так как сопровождавшие его дамы заинтересовались громким рассказом вахтерши и уже поднимались по лестнице к ее столику.
— Мы милицию будем теперь вызывать! — сурово ответила Варвара Степановна.
— Так что же, она так и будет в одном платьишке здесь милицию дожидаться?
— Да я вот… — начала было вахтерша, но мужчина властно перебил ее все тем же еле слышным голосом:
— Мы сделаем так: вы, Варвара Степановна, вызывайте милицию и все объясните им, да построже. Когда приедут, посылайте их наверх. А мы с милой девушкой подождем их у меня. Машина сейчас отвезет милых дам по домам… — Он довольно хмыкнул под шарфом, а дамы с готовностью закивали, — а потом вернется за милой девушкой…
Он еще раз внимательно осмотрел меня с головы до ног. Готова поручиться, что от его цепкого острого взгляда не ускользнуло ничего… Очевидно, оставшись довольным своим осмотром, он легонько кивнул и спросил:
— А где вы живете, милая девушка?
— Здесь недалеко, на Тверском бульваре, — затравленно ответила я.
— Ну и хорошо, — сказал он.
4
Дамы, проводив нас на восьмой этаж, громко расцеловали мужчину, отворачивая при этом шарф, передали мне оба букета и исчезли в лифте.
Дверь открылась. Средних лет дама, одетая по-домашнему в теплый байковый халат, подозрительно осмотрела меня, вопросительно взглянула на мужчину и, получив от него ка- кой-то невидимый мною взгляд, пропустила в квартиру.
Мы вошли в обычную прихожую, в которой меня поразила лишь большая китайская ваза для тростей и зонтов.
Жутко смущаясь, я попросила у дамы разрешения зайти в туалет, так как от всего пережитого выпитое мною шампанское особенно остро давало себя знать.
Когда я вышла, мужчина уже разделся и размотал шарф, и я узнала в нем одного из самых известных теноров нашего времени.
Он о чем-то беседовал с дамой. Должно быть, рассказывал ей мою историю. Та в ответ кивала, но скорее подозрительно, чем согласно, и бесцеремонно разглядывала меня. Когда он кончил свои тихие речи, она уверенно сказала:
— Да брось ты — очередной сыр…
— Сыр? — удивился певец и изучающе покосился на меня. — Ты знаешь, Таточка, а я об этом и не подумал… Но а как же…
— Ты что, их не знаешь? — насмешливо поинтересовалась Таточка.
— Ну да, ну да… — пробурчал певец, — но чтобы так тонко… И потом… — Он снова изучающе взглянул на меня и помотал головой: — Ну, нет же, Тусик, нет, не может быть! Хотя…
Он подошел ко мне и, взяв меня за руку, вывел в большую, торжественно обставленную комнату на свет, где снова с сомнением оглядел.
— А откуда же вы шли, милая девушка, в столь поздний час?
— Мы встречали Новый год здесь неподалеку, на улице Горького… — ответила я, невольно заробев.
— Ну да, ну да… — задумался певец. — А что же вы были одна, без кавалера, на этом веселом празднике? — поинтересовался он, коротко взглянув на Таточку, как бы требуя похвалы своему ловкому вопросу.
— Нет, — с горькой улыбкой ответила я, — у меня было целых два кавалера.
— Так почему же ни один из них не взял на себя труд проводить вас? — спросил он строго и, торжествуя, посмотрел на Таточку. Та в ответ с сомнением покачала головой.
— От них-то я и сбежала, — печально вздохнула я.
Певец и Таточка обменялись недоуменными взглядами.
Приехала милиция во главе с немного подвыпившим оперативником в коричневом костюме с зеленым галстуком. Он извинился за задержку и сказал, что его вытащили прямо из-за стола.
Когда в результате первых вопросов выяснилось, что я не имею к певцу никакого отношения, интерес оперативника ко мне настолько ослаб, что певец тут же заметил это и счел нужным строго сказать:
— Я вас лично прошу заняться этим вопросом. А то что же получается? Скоро даме в приличной шубе нельзя будет появиться на нашей улице? На что это похоже? А у меня много… — он на секунду замялся, но тут же поправился: — Ответственных товарищей бывает. И все они, заметьте, весьма прилично одеты.
Оперативник составил, как это и положено, протокол, попросил меня написать заявление с точным описанием шубы, ее особых примет, размера и фасона.
После этого строгая дама с таким легкомысленным именем Тата принесла мне старое, но теплое пальто певца, так как ее одежда мне была решительно мала, и милиционеры, не дожидаясь персональной машины певца, отвезли меня домой на своей, где я сидела сзади, за железной решеткой, в специальном отделении для преступников.
Шубу, к огромному моему удивлению, вернули. Я ходила за ней в милицию. Оперативники были рады не меньше моего…
Через день я позвонила Певцу и попросила разрешения зайти, чтобы принести пальто.
Вернув его с благодарностью, я и не собиралась задерживаться, но он раздел меня, усадил пить чай, который с некоторой ревностью подавала нам какая-то дама, и начал неторопливый и вдумчивый разговор, похожий на собеседование при приеме в какое-то учебное заведение.
Он подробнейшим образом расспрашивал о моих родителях, о бабушке и дедушке. Мне очень помогло, что дама, подававшая нам чай, вдруг вспомнила мою маму, которая ее лечила. И вспомнила даже моего дедушку, о котором ей рассказывала ее мама. После этого отношение ко мне изменилось, но собеседование на этом не прекратилось.
Узнав, что я умею немножко музицировать, певец С внезапной надеждой в глазах усадил меня за рояль, который стоял во второй, музыкальной комнате, отделенной от просторной гостиной высокой аркой. Я попробовала поаккомпанировать ему, но у нас ничего не получилось. Для того чтобы аккомпанировать такому великому певцу, нужно было иметь более серьезные музыкальные способности.
Певец заметно поскучнел и оживился только тогда, когда узнал, что я свободно говорю по-французски. Но оживления хватило ненадолго, и он, о чем-то поразмышляв про себя, продолжал собеседование своим тихим, вкрадчивым голосом, медленно выговаривая слова и глядя мне прямо в глаза. Он словно прощупывал что-то во мне, что-то искал в моих простодушных рассказах.
Я, честно говоря, не была большой его поклонницей. Конечно же, он мне нравился как певец, но не больше, чем его негласный соперник. А больше всех я любила знаменитый бас Максима Дормидонтовича Михайлова.
Он меня заинтересовал больше как мужчина, потому что был в свои пятьдесят с небольшим очень моложав, подтянут, строен, силен и красив.
Но мое сообщение о том, что я недавно разошлась с мужем, было впспринято им с явной настороженностью и неудовольствием. Он на минуту нахмурился и перевел разговор на другую тему.
Когда вдруг выяснилось, что я шью, он сперва как бы не поверил в свою удачу и даже переспросил:
— Действительно шьете? Не может быть!
— Почему же не может быть? — почти оскорбилась я.
— Просто удивительно! — тихо воскликнул он.
— Что же тут удивительного?
. — Такая юная, милая, интеллигентная девушка — и шьет как заправская портниха. И что же, это платье, которое сейчас на вас, вы сами сшили?
— Сама, — пожала плечами я. Мне еще было неясно, куда он клонит.
— Что же, вы и заказы принимаете? — осторожно спросил он.
— Конечно, — сказала я. — Я этим зарабатываю на хлеб.
— Значит, вам можно заказать что угодно?
— Не совсем… Я берусь только за интересную работу…
— Почему? — живо заинтересовался Певец. — Профессионал должен делать все.
— Это не совсем точно для нашей профессии, потому что самые лучшие мастера имеют узкую специализацию — бывают только брючники, бывают портные по верхней одежде, бывают мужские, бывают женские…
— Ну, а у вас какая специализация?
— Я придумываю и шью женскую одежду.
— Конгениально! — Он довольно потер руки, как человек, нашедший то, что давно и упорно искал. — Таточка! — нисколько не повышая своего тихого голоса, позвал он.
В дверях через секунду возникла его сестра, из чего я сделала вывод, что она слышала каждое слово нашей беседы.
— Оказывается, Машенька у нас модистка! — сказал он. — Она сама придумывает и шьет женскую одежду! Это же не просто дамочка, тру-ля-ля, а самостоятельный уважаемый человек! Как это приятно! А скажите, милая Маша, вы бы смогли сшить вот такое платье? — И он красивым плавным жестом указал на сестру, которая при этом даже не шевельнулась.
— Конечно, могла бы, — сказала я, — но мне интереснее делать выходную, праздничную одежду Она требует большей выдумки…
— Превосходно! — тихо сказал он и взглядом услал сестру на кухню.
5
Так я стала своим человеком в этом блестящем, известном среди московской элиты доме. Впрочем, эта публика в то время элитой себя не называла. Она скромно именовала себя творческой интеллигенцией.
Странный, на взгляд непосвященного человека, был этот дом. В нем под неусыпным надзором сестры певца Наташи, которую он звал Татой, или Таточкой, или Тусей, постоянно толклись человек пятнадцать привлекательных женщин. Они все были особо приближенными из бесчисленного отряда его поклонниц.
Сказать, что они были больше чем поклонницы, я с уверенностью не могу. Да это и не имеет значения. Они все страстно обожали певца, ходили на все его оперные спектакли, на все концерты, забрасывали его цветами, встречали у служебного выхода и оберегали от возможных происков поклонниц его соперника, тоже известного тенора, работающего в том же театре. Любая из них не задумываясь отдала бы за него жизнь. Чего уж тут говорить о прочих пустяках.
Они любили его безумной, фанатичной любовью, а он относился к их любви с крестьянской рачительностью. У каждой из них были свои раз и навсегда определенные обязанности.
Одна из них, например, жена директора крупнейшего в Москве гастронома, полностью отвечала за снабжение его дома провизией. Она через день привозила продукты целыми багажниками, причем делала это на машине своего мужа, с его полного согласия и даже под его строгим профессиональным надзором, дабы не положила она в багажник чего-нибудь непотребного.
Зато он мог в компании своих коллег многозначительно намекать, что его жена довольно близка с великим певцом… При этом он делал вид, что она с ним гораздо ближе, чем они себе могут представить…
Другая, очень гордая на вид дама, отвечала за его сорочки. Существовала в Москве единственная прачечная, которой она могла доверить драгоценные воротнички и манжеты, чтобы они были достойны их великого хозяина. Там, безусловно, знали, кому принадлежат эти сорочки, и принимали их трясущимися руками.
Третья дама, самая роскошная из всей команды, была женой крупного работника МИДа и отвечала за антиквариат и бриллианты. Певец всю жизнь собирал и то и другое. В ее обязанности входило найти где-то уникальную вещь и уговорить продавщиц придержать ее до посещения их магазина самим певцом, если речь шла о магазине. Если же вещь находилась в частных руках, то владелец в условленное время, под конвоем дамы, сам приносил ее домой певцу.
Четвертая дама отвечала за верхнюю одежду.
Пятая — за обувь и концертные костюмы. Шестая за лаун-теннис. То есть не только была его постоянным спарринг- партнером, но и отслеживала график тренировок, договаривалась о кортах, заботилась о мячах, перетяжке ракеток, о спортивной обуви и костюмах.
Седьмая заведовала отдыхом. На ее хрупких, но крепких плечах были все высококлассные санатории. Она с легкостью доставала путевки туда, куда министры союзного значения попадали не каждый год. Все было очень просто. Она «сидела на путевках» в управлении делами ЦК КПСС.
Восьмая у него была для выхода. Она обладала скромной, но очень приятной внешностью, безупречными манерами и могла поддержать любой разговор. Она была по профессии музыкальным критиком.
Но за связи с прессой отвечала девятая, заведующая отделом культуры в одной из самых влиятельных газет.
Всеми бытовыми и ремонтными вопросами владела десятая. Она была большой начальницей в районном жил- управлении.
Таков далеко не полный список обязанностей его «сырной» команды. Да, да, именно «сырной». Звезды Большого театра за глаза называли своих поклонников «сырами».
Сегодня, когда эстрада серьезно потеснила оперное искусство, без «сыров» не обходится ни один популярный рок- певец или певица, только они теперь называются «фаны», от слова «фанатик».
Именно это имела в виду Тата, когда впервые увидела меня. Ее можно понять. «Сыры» — а это были в основном женщины — пускались на самые невероятные уловки, чтобы попасть в ближайшее окружение и быть непосредственно допущенными к божественному телу, в прямом или в переносном смысле, хотя бы в роли массажистки, парикмахерши, маникюрши, зубного врача, уборщицы, прачки или поварихи.
Певец в то время был холост. Его брак с очень известной киноактрисой, которая в свое время, как теперь это принято говорить, была секс-символом нации и сыграла в кино множество соблазнительных героинь, распался. От этого брака у него были две очаровательные дочки.
Я не знаю, почему они разошлись. Но, похоже, он продолжал ее любить всю жизнь. Во всяком случае, когда раздавался телефонный звонок с улицы Горького, где жила его бывшая жена с дочками, весь дом замирал, а он в благоговейной тишине бежал к телефону, поправляя на ходу галстук.
Надо сказать, что он все время ходил в свежайшей сорочке и в галстуке-бабочке, даже если поверх был надет роскошный домашний халат с широким атласным воротником и обшлагами.
Посомневавшись совсем немного, меня он тоже отнес к отряду «сыров», и с той же крестьянской рачительностью нарядил меня быть портнихой, этот отряд обшивающей.
6
Буквально на второй день после собеседования мне позвонила та самая дама, которая подавала нам чай. Ее звали Альбина Сергеевна. Она оказалась ответственной за антиквариат. Едва войдя в мою квартиру и цепким взглядом оценив нашу старинную мебель, она сделала стойку и как бы между прочим вскользь поинтересовалась, не собираюсь ли я что-нибудь из мебели продавать. Но, услышав мой решительный отказ, быстро успокоилась.
Мы провели с ней волшебных два часа, выбирая из кучи иностранных модных журналов, которые она принесла, фасон ее вечернего платья для предстоящего через месяц приема в английском посольстве, куда был приглашен певец, а ей выпала честь сопровождать его туда, так как приглашение пришло через советника по культуре. Она же давно является советником по русскому искусству и антиквариату этого советника.
Мы придумали ей платье, взяв самое интересное из трех разных журналов: французского, английского и итальянского. Она была в полном восторге от того, что такого фасончика не только в Москве, но и во всем мире не будет.
В тот же день мы, объехав все «Мосторги» (так в просторечии назывались тогда универмаги), купили подходящий материал в Марьиной Роще из-под прилавка.
Через три дня платье было готово. Оно имело оглушительный успех, и на меня посыпались заказы от всей «сырной» команды. А вскоре я была приглашена к певцу на обед и гордо восседала среди двенадцати самых избранных его «сыров».
Так он по-крестьянски сметливо и точно приспособил меня к хозяйству. Он и на самом деле был из крестьян. Предание гласило, что, когда он был еще безусым юношей и пел в церковном хоре, мимо их села проезжал Николай II. Во время службы он зашел в церковь и был поражен голосом молодого певчего. Побеседовав с юношей после службы, он с разрешения родителей забрал его в Петербург, где юноша и пел некоторое время в придворной капелле.
Я склонна верить этому преданию. Голоса и таланта он, конечно, был выдающегося. Публика приходила в немыслимый экстаз во время концертов. Я сама видела, что делается с поклонницами во время его пения. Они с блаженными улыбками на просветленных лицах буквально сползали с кресел, и я не исключаю, что получали при этом не только эстетическое удовлетворение…
Он владел ими безраздельно, как могущественный султан владеет гаремом. И наверняка многие из них побывали в его постели, но дело, повторяю, не в этом.
7
Переспала с ним и я. Это случилось примерно через два- три месяца после нашего знакомства. Произошло это так странно, что я даже не помню подробностей. Осталось только ощущение, что он награждает меня этой близостью за верную службу в рядах «сыров».
Я же сделала это из чистого любопытства и чтобы снять вопрос, постоянно висевший в воздухе…
Несомненно, он мне нравился как мужчина. Но не настолько же, чтобы только от одного взгляда на него я чувствовала, как становятся тесны трусики. Постоянным любовником я его иметь не хотела и не смогла бы, захоти он этого сам. О замужестве было просто смешно думать. Больше всех на свете он любил самого себя, свой талант, свой голос, свою популярность. Он был самым преданным своим «сыром».
Разобралась в нем я очень скоро, но это не мешало моему теплому и уважительному отношению к нему. Я же для него долгое время была загадкой. Как я уже сказала, он сразу причислил меня к «сырному» отряду, но что-то во мне не давало ему покоя. Он постоянно пристально и изучающе вглядывался в мои глаза и недоумевал, не находя в них привычного огня обожания.
Долгое время он был уверен, что я прячу свое восхищение из-за природной стеснительности, и всячески поощрял меня в его проявлении, но я его не проявляла ни в какую.
После нашей вялой близости он всерьез засомневался в наличии этих чувств и начал меня осторожно прощупывать. Он задавал массу наводящих, невинных на первый взгляд вопросов, из ответов на которые вырисовалась чудовищная картина.
Оказалось, что я только один раз была на его концерте в консерватории, на который меня затащила его зубная врачиха, добрейшей души тетечка. Что на его спектаклях в Большом театре я вообще не была PI никогда не ждала его у служебного входа.
Он принялся меня уверять, что точно видел меня там, и не однажды, но оказалось, что он меня спутал с другой девушкой в белом берете. Это ему впоследствии подтвердили и «сыры».
В довершение всего обнаружилось, что его пластинок у меня нет и никогда не было. Выяснив все это, он тут же утратил ко мне всяческий интерес.
Но из его дома я не была удалена, так как вся «сырная» команда грудью встала на мою защиту. Особым расположением я вдруг начала пользоваться у Таты. Безусловно, она была самым горячим из «сыров» и потому ревновала брата ко всем без разбора. Меня же она считала безопасной во всех отношениях и, найдя во мне внимательную слушательницу, часами сидела у меня в гостях, пока я шила ей очередное строгое платье, и с наслаждением перемывала кости всей «сырной» команде.
Она до самой смерти носила один и тот же фасон. Это была единственная неинтересная работа, за которую я бралась с удовольствием.
Конечно, мне и в голову не могло прийти назвать певца сладким ежиком. Кроме того, он не мог сожалеть в письме, что виноват в нашей разлуке. Мы с ним никогда не расставались, потому что никогда не были близки. Но, по иронии судьбы, след, отставленный им в моей жизни, был гораздо глубже, чем от всех предыдущих моих мужчин.
Во-первых, знакомствами, которые я приобрела в его доме, я пользуюсь и по сей день, а во-вторых… Но об этом позже, так как это уже совершенно другая история…
Он умер за несколько лет до получения мною этого загадочного письма в роскошном букете чайных роз.
ДЕВЯТЫЙ (1955 г.)
1
Бесспорно, мы, женщины, являемся существами более приспособленными к жизни, чем мужчины. И функции наши для продолжения и существования рода человеческого более сложны и обширны, чем мужские. И устроены мы в силу этого гораздо сложнее и запутаннее, чем мужчины. Это является общим местом и не требует никаких доказательств. Однако это не мешает мужчинам ощущать себя высшими созданиями, а нас существами второго сорта. Бог с ними. Пусть их, если от этого им легче живется.
Сейчас я хочу поговорить не о нашем первенстве, а об обратной стороне этой медали, о нашей непреодолимой зависимости от природы.
Эту зависимость можно было бы назвать гармоническим слиянием с природой, в том числе и с природой собственного организма, но вся беда в том, что подобная гармония редко случается в жизни. Чаще непреодолимые мучительные противоречия.
Теперь, по истечении стольких лет, после упорных размышлений я понимаю, в чем причина этих противоречий. Дело в том, что тело и душу нашу создал Господь Бог, а характер, самосознание и интеллект возникли из груды разрозненных предрассудков нашего общества. Они не могли не вступить в противоречие. И чаще всего вместо того, чтобы покорно и мудро следовать своей природе, мы противимся и восстаем против нее. Мучаемся от этого страшно, но при этом зачастую у нас возникает ощущение, что мы победили ее. Это пиррова победа, уверяю вас. Побеждаем мы самих себя.
Сейчас в каждой школе с определенного возраста занимаются половым воспитанием, все прилавки завалены специальной и популярной литературой. Существуют даже сексуальные энциклопедии для детей младшего возраста, чтог бы родителям самим не приходилось отвечать на трудные вопросы детей. В наше время ничего подобного не было. На эту тему никто вообще не заговаривал. Тем более дома. Мы все узнавали от подруг. А откуда они узнавали — неизвестно. Мы были полны сексуальных мифов и предрассудков самого дурацкого свойства.
Татьяна, например, находясь уже совершенно в зрелом возрасте и собираясь замуж, была твердо уверена, что близость во время месячных и несколько дней после особо опасна, так как матка в это время открыта и сперматозоиды могут в нее беспрепятственно проникнуть. Она это считала настолько неоспоримым и всем известным фактом, что ей и в голову не приходило обсуждать это с кем-либо. Заговорили мы с ней на эту тему случайно. Каково же было ее удивление, когда она узнала, что дело обстоит с точностью до наоборот. Она мне не поверила. Мне пришлось извлекать из коридора лестницу-стремянку, лезть к самым высоким полкам и доставать целую охапку специальной медицинской литературы.
Прочитав с десяток статей, она сказала, побледнев от страха:
— Господи, как же я могла залететь с моими убеждениями.
Залететь мы боялись смертельно! Это было ночным и дневным кошмаром всех женщин без исключения.
До 1955 года аборты в СССР были запрещены. Подпольные аборты, конечно, делались, но найти врача было чрезвычайно трудно, так как они были невероятно осторожны. Еще бы! Им за это грозил очень серьезный срок с непременной конфискацией всего имущества. Находились такие врачи исключительно через знакомых или через знакомых знакомых.
2
Несмотря на то что мама у меня была специалистом высокого класса и, очевидно, понимала всю важность полового воспитания, у нее не хватило смелости ввести меня в курс дела. Повезло мне в том, что все-таки я росла в семье потомственных гинекологов и мы с бабушкой были большие друзья.
Она меня посвятила во все тайны пола довольно рано, едва у меня начались месячные. Как я догадалась много- много лет спустя, она вовремя заметила мой повышенный интерес к специальной и эротической литературе и по возможности постаралась предупредить почти неизбежные в юном возрасте женские неприятности.
Не следует рассчитывать на старческую подслеповатость и рассеянность бабушек. Они все видят и все подмечают. Просто у них хватает мудрости не показывать это.
Бабушка и научила меня предохраняться. И даже как бы ненароком сказала, что в рабочем шкафу деда, на нижней полке, в полированном деревянном сундучке еще хранятся большие стеклянные банки с притертыми пробками, полные чистой аскорбиновой кислоты, которую дед прописывал своим клиенткам для предохранения. Как показывала его практика, совсем небольшое количество порошкообразной кислоты, буквально на кончике пальца, введенной непосредственно внутрь незадолго перед близостью, в 95 случаях из ста предохраняет от беременности.
Я сделала вид, что пропустила эту информацию мимо ушей, но, естественно, запомнила навсегда. Когда после смерти бабушки я начала самостоятельную жизнь, в моей сумочке среди обычных женских мелочей постоянно находился маленький пузырек темного стекла с завинчивающейся крышкой и с горлышком достаточно широким, чтобы туда пролез указательный палец.
Когда кто-то из моих любопытных поклонников, копаясь с моего разрешения в моей сумочке, спросил, что это такое, я, ни на мгновение не смутившись, сказала, что это аскорбинка, которую я принимаю как профилактическое средство против гриппа. Кстати, это было правдой. О том же, что аскорбинка имеет другое применение, ему знать было не обязательно.
Вот почему, пережив несколько бурных романов и даже побывав замужем, мне удалось не забеременеть. Правда, было несколько ситуаций, когда я не успевала предохраниться или было просто не до того, как в случае с Макаровым на ледяном троне, с Наркомом или с Сидором «у скалистых берегов». Но в этих случаях меня берегла судьба…
Через полмесяца после того, как великий Певец решил прописать меня в своем гареме и отнесся к этому не с большим рвением, чем начальник паспортного стола, ставящий свою подпись в паспорте переехавшего в его район нового жильца, у меня случилась задержка.
Бывали задержки у меня и раньше, но Бог миловал… Сперва я надеялась, что пронесет и на этот раз, и довольно спокойно ждала, приняв, естественно, все соответствующие меры: ударную дозу аскорбинки, горчичники на поясницу, какие-то таблетки, которые подсунула мне одна из моих заказчиц, прыгала с табуретки так, что чуть пол не провалила, поднимала бак для кипячения объемом в двадцать пять литров, полный воды. Его тяжести я даже не почувствовала и тогда решила поднимать Татьяну.
Я обхватила ее руками за талию, прижала к себе и начала методично поднимать. На третьем или четвертом разе Татьяна закрыла глаза и подозрительно замолчала. Я поставила ее на пол и потеребила за плечо.
— Что с тобой, Тань? — испуганно спросила я. — Я тебе что- то пережала? — И легонько похлопала ее ладонью по щекам.
— Не знаю, как насчет выкидыша, — сказала Татьяна, томно открывая глаза, — а забеременеть от такого упражнения, по-моему, можно. Если закрыть глаза, то такое впечатление, что это Володька тискает. Только у него почему-то груди выросли. Но так даже интереснее…
— Дура ты, Танька, — обиделась я.
Но это упражнение мы делать перестали. Ничего не сработало. Для меня все это как для слонихи дробинка. Смешно было и думать, что, подняв Таньку или прыгнув с табуретки, я смогу выкинуть…
Тогда мы с Татьяной решили предпринять генеральное сражение.
3
Мы закупили две бутылки нашего любимого «Шартреза» и целую пачку горчичного порошка. Из этих двух бутылок я выпила, наверное, граммов четыреста… А крепость у «Шартреза» такая же, как у водки. Пила я его сперва нашими любимыми маленькими рюмочками, но скоро очень устала и перешла на чайную чашку. До сих пор не знаю, почему я не взяла хрустальный фужер?
Крепко выпив, я наполнила полную ванну горячей воды, залезла в нее и спустя минут десять, разогревшись как следует, растворила в ней почти полпачки горчичного порошка. Через пять минут все тело у меня горело, как под горчичником, но я мужественно терпела. Вернее, не чувствовала-
Спасла меня Танька. Всмотревшись в желтую от горчицы воду, она вынула из воды мою безвольную руку и тихо ойкнула — рука была багрового цвета. Уцепив меня за пятку, она попыталась вытащить ногу, но мокрая пятка все время выскальзывала из рук, и нога, обдавая Таньку с ног до головы брызгами, со страшным шумом плюхалась обратно.
Все это я передаю исключительно со слов Таньки, так как тогда в ванной совершенно отключилась, смотрела на нее бессмысленными глазами и хихикала. Потом мне это понравилось, и я сама начала поднимать ноги и с размаху плюхать их в воду, заливая и бедную Татьяну, и пол желтой водой, едко воняющей горчицей.
Но Татьяна, проявляя чудеса храбрости и дружеской преданности, не уходила, так как то, что она видела, было ужасно. Мои огромные ноги, которыми я так резвилась, были почти свекольного цвета, и Татьяна понимала, что если меня немедленно не извлечь из ванной, то я просто сварюсь и с меня клочьями слезет моя гладкая, атласная, нежно-розовая кожа, которой я всегда так гордилась…
Но извлечь меня оказалось неожиданно трудно. Ни на какие уговоры я не поддавалась и только истерично хохотала в ответ. Татьяна пробовала вытащить меня силой, но багровые руки и ноги мои выскальзывали из ее рук и падали в воду, обдавая ее новыми порциями брызг. В довершение всего горчичная вода попала ей в глаза, и Татьяна заливалась горючими слезами, сперва чисто механически, а потом и по-настоящему от страха. И еще от обиды, что я такая скотина, издеваюсь над ней и могу в этой сраной ванной с говном умереть совсем.
Наконец она сообразила, что нужно вытащить из-под меня пробку и спустить воду с горчицей. Пробившись с плотно зажмуренными глазами сквозь тучу брызг, Татьяна нашарила между моих дрыгающихся ног пробку и вытащила ее. Я же, подмигнув глупой подружке, с пьяной хитростью заткнула сливное отверстие пяткой. Танька это заметила и, бросившись на меня с площадной руганью, от которой я опешила, несмотря на весь хмель, прямо в кофте залезла с рукавами в воду, обхватила мои ноги, подняла, прижала к груди и не выпускала до тех пор, пока горчичная вода не слилась до последней капли.
После этого она включила холодный душ и обмыла меня с ног до головы. От холодного душа и, наверное, от боли, которую я наконец почувствована, я немного пришла в себя и уже сама безропотно вылезла из ванной, правда, поскользнулась и растянулась на кафельном полу, набив себе здоровенный синяк на бедре и ободрав локоть.
Татьяна вытерла меня, завернула в полотенце и, отведя в спальню, уложила в кровать. После этого она содрала с себя мокрую, провонявшую горчицей одежду, приняла душ, вытерлась и, накинув на себя какой-то мой халат, пришла ко мне в спальню. Я уже мирно спала. Кожа моя горела. Татьяна нашла тюбик с питательным кремом и смазала меня всю с головы до пяток. На это дело у нее ушел весь тюбик…
Наутро, противно хихикая, она сказала мне:
— Когда я начала тебя смазывать везде… Ну не совсем везде, — поправилась она, — а только сверху… Ну, грудь там, живот, бедра… Ты вдруг так застонала, что я сперва испугалась и подумала, что ты от боли… Но потом поняла, что ты просто завелась, и даже захотела прекратить это дело, а потом подумала: да черт с тобой, заводись, а смазать все равно надо, чтобы кожа не облезла. Потом ты начала так двигаться… Потом, когда я уже всю тебя обмазала и укрыла одеялом, ты как-то так сжалась… Потом выпрямилась, громко вскрикнула, задрожала вся, потом замерла и через секунду заснула.
— Ну и что? — спросила я.
— Здорово! — сказала Татьяна. — Научишь так меня?..
— Дура, — сказала я, — с человека чуть кожа чулком не слезла, а она все о своем.
— Одно другого не касается, — сказала Танька.
4
Еще через месяц стало ясно, что я беременна основательно и бороться с этим можно только радикальными средствами. Никаких других мой могучий организм признавать не хотел.
— Конечно, аборт, — сказала Татьяна. — Тем более что они теперь разрешены официально и не нужно искать по всей Москве врача, платить ему бешеные деньги и бояться, как бы чего не вышло…
Мы сидели у меня в спальне. Я строчила ей батистовую кофточку с длинными рукавами и с круглым воротничком под горлышко, которую она с тоненьким галстуком собиралась носить под свой серый костюм, а она потягивала кофеек, сидя от меня подальше. Меня от запаха кофе, особенно по утрам, в последние две недели тошнило. И от сладкого чая тоже. И от воды — особенно кипяченой. Единственное, что я могла безнаказанно пить, это кефир или пиво.
— Хорошо, что не водку, — пошутила по этому поводу Татьяна. Она была сторонницей немедленного избавления от ребенка. — А если ребеночек в папу, так он должен требовать исключительно шампанского.
— При чем здесь отец? — возмутилась я.
— Как при чем? А вырастет сыночек, протянет к тебе свои тоненькие ручонки и спросит: «А где же мой папочка?» Что ты ему ответишь? Погиб на фронте?
— Что-нибудь придумаю… На того же рыжего свалю. Я его все равно уже один раз убила…
— Давай, давай… Хочешь стать матерью-героиней? Не получится, дорогая! Ты станешь матерью-одиночкой! Кому ты будешь нужна с ребенком? Ты знаешь, что на десяток таких, как мы, сейчас приходится не больше пяти нормальных женихов. Остальные или на войне погибли, или на целину уехали, или сидят… А уж с чужим ребенком… Тут каждый подумает. Или ты надеешься их заманивать тем, что это дитё Великого Певца?
— Ты что — совсем? Ты учти, Татьяна, если ты хоть кому- нибудь брякнешь сдуру, я тебя вот этими ножницами заколю!
— Вот видишь! Сама не хочешь, чтобы это всплыло. А как лучше всего сохранить тайну?
— Ты пойми — он уже живой, он уже шевелится…
— Ты сама мне на картинке показывала, какие они бывают на шестой неделе. Чему там шевелиться?
— А я чувствую… А как меня тошнит? Значит, он очень быстро развивается! Я всегда выглядела старше своих лет…
— Это внешне! А умом ты сейчас не старше десятилетней… Ну подумай сама, куда тебе еще и ребенок. Без мужа, без родителей, даже без бабушки. Кто тебя кормить будет? Ведь моей стипендии, даже повышенной, все равно не хватит. А мне в этом семестре тройка по сопромату светит. Значит, будет обычная степуха, на которую вообще не разбежишься…
— Да кто на твою стипендию рассчитывает, — сердито отмахнулась я и склонилась пониже к машинке, чтобы скрыть подступившие слезы. — Я буду комнату сдавать или две… Шить буду.
— А институт?
— Возьму академический отпуск по беременности. Все так делают.
— Нет, дорогая, тебе придется уходить из института.
— Почему?
— Потому… — многозначительно сказала Татьяна.
— Не понимаю, — пожала плечами я и, оторвавшись от машинки, посмотрела на нее.
— Потому что еще не известно, какой ребенок родится…
— Почему не известно?
— Сколько ты его травила? Сама чуть не окочурилась… Ты думаешь, ему это все равно? И потом, ты что его — на трезвую голову зачинала? Сколько вы перед этим шампанского выпили с вашим гением? И потом ты «Шартрез» глушила бутылками…
— Но это же только один раз… — оправдалась я.
— А больше и не надо, — безапелляционно отрезала Татьяна.
— Но существует же биологическая защита организма, — растерянно пробормотана я. — Во всех книжках про это написано. Даже у алкоголиков, бывает, рождаются хорошие дети, а от одного раза вообще…
— Да, бывает, рождаются и хорошие, а бывает и наоборот… Раз на раз не приходится, — сурово сказала Татьяна. — И потом еще эти таблетки. Черт знает, как они могут повлиять! Наверное, это порядочная дрянь, если зародыши от них умирают.
— Но это же живое существо! — взмолилась я. — Грех ведь.
— А чего же ты о Боге не помнила, когда таблетки пила или в горчице резвилась? Оно и тогда было живое.
— Это жестоко!
— Это правда! И это лучше, чем потом всю жизнь смотреть, как ты мучаешься.
Я ей прощала все эти страшные слова, потому что сама уже не раз их произносила про себя бессонными, страшными ночами, когда мне казалось, что выхода нет, что жить незачем, так как счастья уже не будет никогда, а в нашей теплой, уютной квартире по всем углам скребутся крысы.
5
Через неделю я, пройдя все унижения женской консультации, получила направление на аборт.
Делали мне его во Второй градской больнице, где я и родилась. У мамы там работала подруга, иначе бы ее отвезли в роддом имени Грауэрмана, который был ближе всего к нам и считался самым лучшим в Москве. Но мама предпочла подругу, про которую знала, что у нее легкая рука. И потом, мама была уверена, что подруга отнесется к ней повнимательнее, чем к обычной роженице.
Мамину подругу звали Ольга Николаевна. Она была заведующая отделением. Я постеснялась к ней обращаться, и это было самой страшной моей ошибкой… Ведь можно было сказать ей, что я замужем, тем более что штампа о разводе я в паспорт, к счастью, еще не поставила. Как знала. А то бы мне еще не того пришлось хлебнуть в консультации, где к будущим матерям-одиночкам, вопреки всем постановлениям правительства, и тогда и сейчас относятся как к врагам народа.
Аборт мне делал дежурный хирург. Как это происходило, я не стану здесь описывать. Скажу только одно: как в каменном веке, когда не было еще ни веселящего газа, ни внутривенного укола, ни вакуумной установки… Короче говоря, скоблили меня практически по живому…
Дежурный хирург был усталый, злой и безжалостный. Ассистировал ему какой-то коренастый малый с колючими глазами и широкими ладонями лопатой. Я еще успела подумать, что с такими руками надо на лесоповал, а не в женскую хирургию, и опять ошиблась. Уж лучше бы операцию делал он. Эти руки оказались золотыми. Но кто мог знать?
После аборта меня поместили в палату, где кроме меня лежали еще пять человек. Хорошо, что моя кровать была около окна и я могла, отвернувшись, смотреть на начинающую желтеть листву и отдаваться своим мыслям, в которых со сладострастным наслаждением предавала всех своих мужчин таким страшным смертям, по сравнению с которыми гибель рыжего капитана в зубах касатки не страшнее детской прививки против ветрянки.
Не столько было больно, сколько обидно, что природа так несправедливо поступила, распределив на нашу долю все страхи, страдания и мучения, а на долю этих паразитов — одни удовольствия.
Ведь подумать страшно, что бедным женщинам приходится терпеть на этом свете! Сперва боязнь зря потерять невинность, потом во время самой потери боль, потом бесконечный страх забеременеть, потом тайные опасения, что он окажется подлецом и не женится, как обещал, когда соблазнял…
Правда, лично у меня было все по-другому, но тут, под горячую руку, я крушила мужиков, не разбирая лиц и жизненных обстоятельств. Потом, когда они наконец соизволят жениться, боишься, как бы не ушел к другой. Если он никому не нужен, боишься, как бы не запил. Когда и с этим все в порядке, вдруг оказывается, что он игрок, и все равно твоя жизнь летит ко всем чертям. Потом ты не вовремя беременеешь и тебя кромсают ножами по живому, а эти сволочи пьют свое шампанское и в ус не дуют…
Исключительно шампанское пил Певец, но он в этой ситуации был вообще ни при чем. Он не очень-то и настаивал на нашей близости, и я не очень-то и хотела. Просто после концерта ему не с кем было пойти в ресторан, потом не с кем было вернуться домой, потом не от кого было услышать, что он гений, что он лучший из лучших, потом было что-то недоделанное, неопределенное в моем положении, потом в ресторане на меня «положил глаз» известный музыкальный критик, который незадолго до этого написал хвалебную рецензию о вечном сопернике Певца, потом просто погода была такая, и Певец отвел меня к себе наверх, где у него был кабинет и спальня и висели гимнастические кольца, на которых он с легкостью, несмотря на свой возраст, честно отработанный концерт, выпитое шампанское, плотный ужин и позднее время, продемонстрировал несколько гимнастических упражнений, чем и вызвал мое искреннее изумление и восторженный блеск в глазах, который, очевидно, принял за привычный «сырный» восторг… Одним словом, он тут был совершенно ни при чем, хоть старался и совсем не ударил в грязь лицом…
А если б я оставила ребенка, исступленно думала я, то мне пришлось бы корчиться в страшных муках, рожая его, потом кормить, после чего мои прекрасные груди повисли бы в районе пупка как спущенные воздушные шарики и никому уже больше не были бы нужны…
— Потом нужно растить одной этого ребенка, а им что? Их дело не рожать, сунул, вынул и бежать. Да чтобы я хоть одному кобелю теперь дала, да никогда на свете! Да пусть у них теперь мудя от хоча отвалятся — на километр не подпущу…
Я не заметила, как мои собственные мысли плавно перетекли в хриплый голос Тамарки-штукатурщицы. Это была скандальная баба лет тридцати, худющая, с торчащими из-под обязательной косынки иссиня-черными, как крыло ворона, волосами. Она делала уже пятый аборт, три из которых были подпольные, четвертый по липовому предписанию врача, из которого следовало, что рожать ей нельзя ни в коем случае, и только последний законный, но самый, по ее словам, болючий.
Под ее хриплые проклятья я заснула. Мне снились сперва голые мужики с торчащими пылающими членами, которые тянулись ко мне и шевелились, как змеи, покачивая смертоносными головами… Я, тоже совершенно голая, пыталась укрыться от них в какой-то пещере и отмахивалась руками, шлепая их по гладким горячим головкам, которые, несмотря на мои отчаянные усилия, обвивали меня кольцами, вкрадчиво скользили по мне, направляясь в самые укромные местечки, и наконец проникали всюду, доставляя нестерпимое наслаждение, по силе равное или превышающее ту боль, которую я совсем недавно испытывала. И я сама извивалась, и сжимала их изо всех сил руками, и рычала, и выла от страсти, и умоляла их сильнее, еще сильнее, еще сильнее сжимать меня сладостными кольцами, еще глубже, еще, еще, еще глубже проникать в меня…
Очнулась я оттого, что кто-то осторожно тронул меня за плечо. Я открыла глаза. Рядом с кроватью, склонившись ко мне, стоял медбрат, который ассистировал при операции, и внимательно всматривался в мое лицо.
— Что с вами? Вам плохо? — шепотом спросил он.
— А? Что? — спросила я, еще не совсем проснувшись и ощущая его горячую руку на своем плече как часть моего кошмарного сна.
— Вы так громко стонали во сне… — сказал медбрат и шевельнул рукой, собираясь ее убрать, но я молниеносным движением перехватила ее и крепко сжала, как сжимала моих ночных пришельцев из сновидения.
— Нет, нет, — пробормотала я, — только не уходите… Посидите со мной… Мне так страшно, так плохо…
— Ну хорошо… — сказал он, осторожно присаживаясь на край кровати. Да так, что я — о Господи! — почувствовала его всем бедром. — Только скажите, что с вами? Может, нужна помощь?…
— Да, да, нужна, — стуча зубами от внезапного озноба, прокатившегося волной по телу, но не выпуская его тяжелой руки, прошептала я и обвела палату шальным преступным взглядом, лихорадочно соображая, что же делать…
В палате было темно. Над дверью горела синяя лампочка дежурного освещения. Заливисто по-мужицки храпела Тамарка, ей тихо подхрапывали и подсапывали остальные подружки по несчастью.
— Да у вас, кажется, температура… — озабоченно сдвинул брови медбрат.
— Да, да, температура и сердце… Вот, посмотрите, послушайте…
С этими словами я отвернула одеяло и одним движением свободной левой руки содрала с плеча свою тоненькую ночную рубашку, обнажив при этом полностью левую грудь с уже торчащим и, кажется, даже дрожащим от возбуждения соском, а правой рукой я положила на нее его послушную от изумления ладонь. От этого прикосновения меня точно пронзило током от груди до пятки, бедра мои непроизвольно напряглись, и я почувствовала, что еще одно совсем крошечное усилие и… Я слегка расслабила бедра в надежде, что произойдет еще хоть что-то, хоть одно движение, от которого по всему телу как по бикфордову шнуру пробежит стремительный огонь и взорвет последним наслаждением уже готовую, пульсирующую, начиненную болью и желанием бомбу. И он сделал это движение. Прокашляв внезапно застрявший в горле комок, он сказал:
— Да… Возможно, и сердце… — И робко, как бы в подтверждение этих слов, сдавил грудь своей огромной раскалившейся лапищей.
Я снова сжала и снова отпустила бедра, не пуская побежавший огонь совсем туда, вниз, к бомбе. Я, наглая, надеялась, что будет еще что-то, что будет продолжение.
— Да, доктор, сердце… Очень… Послушайте… — бессвязно пролепетала я и, схватив его свободной левой рукой за лацканы халата, потянула его голову к груди.
Он послушно склонился. И как только его невидимая в синих сумерках щетина царапнула мой напрягшийся сосок, не искра, а ничем не сдерживаемая лавина огня прокатилась по моему телу и уже я вся взорвалась, вылетев, исчезнув на неопределенное время из этой жизни.
Когда я открыла глаза, он, воровато оглядываясь на спящую палату, укрывал меня одеялом и бормотал:
— Ничего, ничего, это сердце, это бывает, я сейчас принесу вам лекарство…
Он выбежал из палаты.
Я огляделась. В палате стояла настороженная тишина. Тамарка не храпела. Никто ей не подсапывал. Когда торопливые шаги медбрата смолкли в коридоре, прозвучал еще более хриплый, чем обычно, Тамаркин голос:
— Ну ты, Маня, даешь! Все отделение разбудила.
Я молчала, не зная, что ей ответить, не зная, догадалась она или нет.
— Приснилось что или куда стрельнуло? — спросила Тамарка.
— Да сердце у ей… — отозвалась другая больная, которая проснулась, наверное, раньше Тамарки. — Доктор за каплями побежал.
— Это бывает. У меня в другой раз так кольнет, что ни бзднуть, ни перднуть! Стоишь, как конный статуй с яйцами, и грехи свои вспоминаешь, чтобы не окочуриться без покаяния… Ничего, сейчас он тебе накапает, и ничего…
Я тихо перевела дух. Лицо мое пылало от стыда. Когда медбрат принес что-то вонючее и горькое в маленьком больничном стаканчике, я, стараясь не встречаться с ним взглядом, привстала на кровати, придерживая одеяло у подбородка, залпом выпила эту гадость и, не глядя на него, протянула стаканчик.
— Если что — позвоните… — сказал медбрат, и я в его голосе различила едва уловимую усмешку.
— Позвоним, не сомневайтесь, доктор, — игриво сказала Тамарка невинным голосом на два тона выше обычного. — А там у вас еще стаканчика не найдется?.. Только чего-нибудь покрепче… — И она захохотала своим обычным, прокуренным, хриплым хохотом.
Я легла на спину и почувствовала большую, вкрадчиво надвигающуюся боль внизу живота.
6
Наутро температура у меня поднялась до тридцати девяти. Ко мне вызвали заведующую отделением, мамину подругу Ольгу Николаевну, которая, разумеется, тут же меня узнала и начала шепотом материть за то, что я не обратилась к ней с самого начала.
У меня началось воспаление придатков. По-научному — андексит. Болезнь эта протекала невероятно трудно. Меня перевели в другую, двухместную, палату, где рядом со мной лежала пятнадцатилетняя школьница Настя, забеременевшая от отчима. Ее привезли с жутким кровотечением после криминального аборта, который ей делала на кухонном столе вязальной спицей какая-то грязная цыганка, живущая в переулке за Павелецким вокзалом.
Настю выходили. А меня Ольга Николаевна предупредила, что детей у меня, скорее всего, не будет. Разве что если случится чудо… И то после того, как я проведу несколько курсов лечения на специальных курортах в Саках, в Крыму, или в Куяльнике, под Одессой.
Надо сказать, что Слава, так звали того самого медбрата, когда мне было особенно плохо, а это был довольно продолжительный период, не отходил от нас с Настей ни на шаг. Он много сделал для моего выздоровления.
В те дни, когда у меня была температура под сорок и Ольга Николаевна боялась за мою жизнь, так как с минуты на минуту мог начаться перитонит, когда я корчилась от невероятной боли и теряла сознание, Слава просто сидел рядом со мной на больничной табуретке и держал меня за руку. И это была для меня самая большая помощь. Он словно удерживал меня над черной бездной, куда я стремилась всей своей изболевшей душой.
О чувстве стыда за тот ночной случай я уже забыла.
Когда было не его дежурство, я смотрела на краснеющую кленовую ветку, которая от малейшего ветерка скреблась в наше окно, как бездомная кошка. Помню, что мне было ее безумно жалко… Особенно когда с нее начали по одному опадать листья… Я даже вспомнила рассказ ОТенри, в котором больная девушка внушила себе, что умрет, когда с ветки упадет последний лист. Он, кажется, так и назывался — «Последний лист». В рассказе художник нарисовал лист на стене и спас девушку. Мои же листья все облетели. А спас меня Слава.
7
Через два месяца после того, как меня выписали из Второй градской больницы, я сочла своим долгом позвонить Славе и пригласить его к себе домой. Я хотела в знак благодарности сшить ему брюки или что-нибудь еще, так как те единственные брюки, в которых ходил он, были неумело зашиты сзади на протертых местах.
Он пришел с охотой. Я его сперва даже не узнала. Ведь в больнице он был всегда в шапочке, а тут оказалось, что у него густая шевелюра и прическа бобриком. Он был настолько похож на ежика со своими острыми круглыми глазками, что я еле сдержалась, чтобы не погладить его по упруго стоящим волосам.
Брюки я ему сшила. А к ним еще модную твидовую курточку с вельветовой кокеткой. Потом я сшила брюки и его товарищу, потом заузила брюки всем стилягам с его курса. Потом они всей гурьбой ходили ко мне есть жареную картошку между лекциями и дежурствами. Приносили много пива, портвейна… В общем, было весело. В конце концов я заставила их забирать пустые бутылки с собой, а то замучилась выносить их через черный ход на помойку. Потом они и картошку начали жарить сами.
Со Славой мы несколько раз переспали. Первый раз я сделала это из чувства благодарности и справедливости. Мне все-таки не давала покоя мысль о том, что я его тогда в больнице поимела без его на то согласия.
Он был чудный мальчик, и нам с ним было хорошо и спокойно до тех пор, пока, болтая после очередной близости в кровати, он не признался, что на самом деле он по своей природе любит худых, черных и стервозных, как Тамарка-штукатурщица, что он даже несколько раз побывал у нее, когда я болела… Свой адресок она ему на прощание сунула в карман халата, когда выписывалась… Потом он признался, что на первом курсе есть один маленький остроносый и крикливый галчонок, мимо которого он спокойно пройти не может…
— Но ты очень хорошая, ты не думай… — в конце разговора поправился он.
— А я и не думаю, — сказала я и по-матерински, хоть он был на несколько лет старше меня, погладила его по голове. — Я все про тебя, ежик, знаю. И про себя..: Нам ведь хорошо с тобой?
— Конечно! Еще бы! — удивился он вопросу и потянулся за сигаретами «Джебел», которые только-только начали появляться в табачных киосках.
— Дай и мне одну, — сказала я.
Дружить мы с ним после этого разговора не перестали, а наши интимные отношения вскоре, когда он поближе познакомился со своим галчонком и начал приводить ее ко мне в гости, сами по себе прекратились и переросли в дружеские.
8
Разыскивать мне его после получения известного письма не пришлось, так как он был постоянно на виду.
С тех пор он стал академиком, профессором, лауреатом всевозможных премий. Занимается он теперь не гинекологией, как вы можете подумать, а совершенно другой областью медицины. И стал в этой области всемирно известным специалистом.
Огромные мужицкие его лапы оказались способны к немыслимо тонким, сложнейшим операциям, которые он сам и разработал.
Его работа в гинекологическом отделении в качестве медбрата была короткой и совершенно случайной. Его затащил туда дружок-однокурсник. А в той клинике, куда он хотел бы пойти работать в любом качестве и которую со временем возглавил, тогда не было свободных рабочих мест.
Кроме медицины, он в последнее время ведет активную общественную деятельность и временами его мало изменившееся с возрастом лицо с молодыми, колючими глазами месяцами не сходит с экранов телевизоров.
Конечно, у него больше, чем у кого-либо, было бы оснований быть автором этого загадочного письма, так как именно он мог бы бросить к моим ногам и дома, и машины, и яхты, и деньги, потому что все это у него есть, но давно брошено к ногам известного вам галчонка, который не давал ему спокойно пройти мимо, учась еще на первом курсе.
Эта женщина (кстати, зовут ее вовсе не Галина, как это могло бы показаться), до сих пор похожая на остроносого галчонка и острая на язычок, моя большая подруга. И с ней мы видимся чаще, чем с ним. Она до сих пор шьет у меня свои шикарные туалеты.
Но иначе, как ежиком, я Славку никогда не звала и, уж конечно, называла и «Сладким ежиком». И неоднократно. Поэтому, соблюдая принцип «вспомнить всех», я не могла не вспомнить его. А вспомнив, решила написать о нем. Тем более что эта глава говорит больше о женской природе и судьбе вообще, чем о моей судьбе в частности.[1]
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ДЕСЯТЫЙ (1956 г.)
1
Если бы в Москве был женский монастырь, то я, несомненно, постриглась бы в монахини. Я даже узнавала, где они находятся. Самый большой из действующих монастырей оказался в Западной Украине. Туда я, конечно, не доехала.
Но образ жизни я стала вести практически монашеский. Если не считать редких исключений, таких, например, как дружба со Славкой и с его компанией. Однако наши с ним отношения в скором времени стали такими целомудренными, что я в расчет их не принимаю.
Кроме Славки, из всей его компании никто ко мне не приставал. Очевидно, ребята ценили возможность завалиться ко мне в любое время, попить пивка или вина, поесть жареной картошки, поржать над своими бесконечными медицинскими историями гораздо выше возможности оказаться в моей постели.
К тому же они пришли ко мне со Славкой, справедливо полагая, что я его девушка, и поэтому никому из них и в голову не пришло влюбиться в меня.
За Татьяной же они, напротив, ухаживали все до одного. Это был ее звездный час. Она флиртовала и кокетничала со всеми, не отдавая никому явного предпочтения. Наверное, рассчитывала, что этот невероятный успех будет вечным. Но вслед за Славкиным галчонком в компанию постепенно начали просачиваться и другие девушки, пополняя список моих заказчиц. В отличие от голоштанных, чаще всего иногородних ребят, девчонки, как на подбор, были из приличных семей и шили у меня далеко не бесплатно.
Работать с ними было весело. Они приходили обычно вместе со своими парнями и развлекали меня разговорами во время работы. Но картошку чистить ни одна из них толком не умела. Картошку, когда я была занята шитьем, чистили ребята. Делали они это солдатским способом — «кубиками», то есть обрубали картофелину с шести сторон. В дело шел маленький кубик, остающийся в центре. Но так как картошку тоже приносили они и сами же выносили невероятное количество очисток на помойку, то никаких нареканий с моей стороны за свою расточительную технологию не получали.
Я еще не то была готова от них терпеть, лишь бы они приходили ко мне, звенели бесконечными пивными бутылками, занимали у меня червонцы или четвертные (речь идет о старых деньгах, до реформы 1961 года), колготились на кухне и сотрясали весь дом безудержным молодых хохотом.
Без них мне было бы очень плохо! Без них я, наверное, сошла бы с ума… И было от чего. Я вдруг начала в невероятном темпе полнеть. За месяц после выхода из больницы я прибавила шесть килограммов.
Первой на это обратила внимание Татьяна. Однажды после веселой пирушки со студентами-медиками, когда мы, оставшись одни, мыли на кухне посуду, она сказала:
— Ты, Маня, наверное, серьезно оголодала на больничных харчах…
— Да я больничного почти и не ела Ты же сама мне туда таскала целыми авоськами… А почему ты об этом заговорила?
— Ты в последнее время лопаешь, как не в себя…
— Да брось ты, — отмахнулась я. — Ем как обычно.
— А ты давно что-нибудь, кроме этого безразмерного халата, на себя надевала? — прищурилась Татьяна.
Я бросила недомытую тарелку в раковину, прошла в спальню, достала из шкафа свою самую тесную, облегающую юбку и попыталась ее надеть. Она не смыкалась в поясе сантиметра на три. Я втянула в себя живот и, приложив усилие, застегнула крючок, но, когда я распустила живот, с громким хлопком крючок отлетел.
Я померила другую юбку, которая была мне даже несколько великовата. Результат оказался тот же самый. Крючок, правда, не отлетел, но дышать в этой юбке было практически невозможно.
Вот тут-то у меня и началась истерика, которая не прекращалась несколько месяцев.
Я уже говорила, что по женской линии в нашей семье все полные. Это меня должно было бы подготовить к жизни, но я почему-то вбила себе в голову, что на мне эта эстафета прерывается. Да, я была крупной, даже очень, но толстой меня назвать никто бы не решился. Все во мне было соразмерно и гармонично, только женские достоинства были, словно специально, слегка преувеличены. Я имею в виду грудь, бедра, ягодицы… Но это не выглядело чрезмерно и карикатурно. Теперь же все это начало стремительно покрываться жиром. Это была катастрофа.
Сделав с помощью лучшей подруги это печальное открытие, я села на строжайшую диету. Но так как всех современных очковых, творожных, кефирных, яблочных, рисовых и прочих диет мы тогда еще не знали, то я, попросту говоря, почти перестала жрать. Каких мне это стоило мук, я вам передать не могу.
Как только я решила бороться с весом, есть мне захотелось до головокружения. Голодные кошмары начали мучить меня по ночам. Мне приснилось, что я ворую в Филипповской булочной теплые калачи и тут же с жадностью пожираю. Меня ловят и бьют почему-то бухгалтерскими деревянными счетами. Жутко стыдно и больно. Я проснулась в холодном поту.
От пива, вина и жареной картошки пришлось отказаться наотрез. Мы с Татьяной начали по четвергам ходить в Сандуновские бани. Каждую неделю я, тщательно отрегулировав медицинские весы, взвешивалась и с ужасом убеждалась, что, несмотря на все мои героические усилия, вес увеличивается на полкилограмма в неделю.
Мне позвонила Ольга Николаевна справиться о моем самочувствии, и я, ревя белугой, рассказала ей о своей беде.
Она, не перебивая, выслушала меня, потом категорично сказала:
— Приезжай. Прямо сейчас. В больницу.
2
Когда я вошла в ее кабинет, там сидела еще одна пожилая тетка в белом халате. Ее звали Клара Абрамовна. Это имя я запомнила на всю жизнь, потому что именно она и объявила мне приговор.
Сперва они долго расспрашивали меня о том, что я ем, когда, по скольку. О том, как работает мой желудок, почки. Задавали еще кучу бессмысленных, с моей точки зрения, вопросов. Потом раздели меня и принялись ощупывать. Потом отвели в смотровую комнату и уложили в кресло… Потом долго переговаривались между собой, употребляя совершенно непонятные слова. Потом, когда я оделась, Клара Абрамовна, оказавшаяся эндокринологом, подняла на меня печальные глаза и тихо заговорила:
— Вот что, деточка, ты не думай, что это произошло только с тобой и жизнь на этом кончается… Это бывает, и довольно часто, после воспаления придатков. У тебя в результате болезни оказалась затронутой эндокринная система, которая отвечает за обмен веществ в организме. Теперь значительная часть потребляемой пищи идет в жировые депо… Я не знаю, насколько основательно затронута твоя эндокринная система, но, судя по темпам набора веса, дело обстоит достаточно серьезно… Я попытаюсь тебе помочь. Но без твоей помощи все мои лекарства будут как мертвому припарки. Ты должна очень строго следить за собой. Я дам тебе очень хорошую книгу по диетологии профессора Лурье. Ты внимательно ее прочтешь, выпишешь те разделы, которые касаются непосредственно тебя, и будешь неукоснительно выполнять все предписания профессора. Обещаешь?
Ее огромные грустные глаза выражали полное неверие в любые мои обещания, но я все-таки кивнула.
— Хорошо, — сказала Клара Абрамовна. — Ты замужем?
Я отрицательно покачала головой.
Глаза эндокринолога стали еще печальнее.
— Тебе Ольга Николаевна сказала, что, возможно, ты обречена на бесплодие?
— Да, — прошептала я.
— На временное или на окончательное, сейчас тебе сказать никто не может. Возможно, вообще все обойдется и ты сможешь рожать, но проверить это можно, только ведя регулярную семейную жизнь. Ты понимаешь, что я имею в виду?
Я снова кивнула.
— Случайные, нерегулярные связи не могут дать объективной картины. Ты понимаешь, что я имею в виду?
— Да, — сказала я.
— Ты, деточка, не подумай, что я ханжа. Я сама была молодой, но нужен муж. Один. Проверенный. Я имею в виду проверенный на бесплодие. Ты должна привыкнуть к нему, приспособиться. Бывает, что и при частичной непроходимости труб вода камень точит. Ты понимаешь, что я имею в виду?
— Понимаю, — сказала я.
— Нет, ты не понимаешь, — сказала Клара Абрамовна. — Тебе нужен муж, чтобы родить, а родить тебе нужно для того, чтобы попытаться восстановить поврежденную эндокринную систему. Роды вообще оказывают благотворное влияние на женский организм. Это болезни наших детей нас старят, а роды нас омолаживают. Бывает, что они дают положительные результаты в подобных случаях. Но бывает и наоборот… — Она задумалась. — Но этого тебе бояться нечего. Одно нарушение обмена веществ у тебя уже есть, а другого не будет.
3
По дороге домой я зашла в наш гастроном на Никитских воротах и купила бутылку грузинского коньяку «Самтрест» пять звездочек. Армянского в нашем магазине не оказалось, а бежать за ним в Елисеевский я в тот день была не в состоянии.
Придя домой, я немедленно вызвала Татьяну и рассказала ей все. Потом мы с ней начали пить коньяк. Я пила из дедушкиной граненой стопки толстого хрусталя и закусывала лимоном без сахара, так как программу похудения решила начать немедленно.
Татьяна пила из своей любимой ликерной рюмочки и заедала моим любимым пористым шоколадом «Слава». При этом каждый раз, отламывая от плитки очередной кусок и отправляя его в рот, она говорила:
— Ты хоть отвернись, а то мне стыдно одной его трескать…
— Ничего… — успокаивала ее я. — Мне не до шоколада…
Но, честно говоря, несмотря на все переживания, шоколада хотелось страшно. От мысли, что теперь я навсегда обречена только смотреть, как другие едят шоколад, становилось тошно. Жизнь казалась потерянной окончательно.
— Подожди, может, еще и забеременеешь, и у тебя все наладится, — без особой веры в голосе сказала Татьяна, глядя на мою убитую физиономию.
— От Славки же не забеременела, — сказала я, глядя мимо нее.
— Но ведь нужно регулярно, — слабо возразила она.
— А мы как?
— А может, он сам бесплодный?
— Ну да! Ты бы посмотрела на это бесплодие…
— Что там снаружи можно разглядеть?
— Да перестань ты… Он мне рассказывал, что с этим делом у него просто беда, бабы от одного взгляда залетают… А я специально не предохранялась… Хотела проверить, права Ольга Николаевна или нет…
— А если б залетела?
— Оставила бы. Я и в тот раз хотела оставить…
Татьяна заплакала, убежала в ванную и заперлась там. Я начала рваться туда и кричать, что совсем не то имела в виду. В ванной было подозрительно тихо. Я здорово испугалась и ласково зашептала в дверную щель:
— Танюша, открой. На минуточку… Я тебе одну вещь расскажу…
В ответ на это раздался шум воды и гудение газовой колонки.
— Ты что, дура, Танька? — закричала я и что есть силы стала рвать на себя дверную ручку. Ручка была прочная, бронзовая, дореволюционная, но и щеколда была прочная. От бессилия я уселась на пол под дверью и заплакала. Она каким-то образом расслышала за шумом воды мой плач, зареванная, с размазанными ресницами выскочила из ванной, больно ударив меня дверью, и начала поднимать с пола.
— Расселась тут, — сердито бормотала она. — Ты что, специально на холодном полу сидишь? Застудить все хочешь? Хочешь заболеть и умереть? Учти, одна ты не помрешь! Я в таком случае и дня жить не буду…
Я дала себя поднять и отвести в спальню. Там Татьяна уложила меня на широкую бабушкину кровать.
А я и впрямь почему-то внезапно замерзла. Меня начал колотить озноб. Татьяна укутала меня одеялом, заботливо подоткнув его под меня со всех сторон. Это меня не согрело. Она укрыла меня вторым одеялом. Но противный озноб не отпускал. Тогда она нырнула ко мне под одеяло, прижалась и горячо зашептала в ухо:
— Ты думаешь, я не переживаю? Все твои несчастья из- за меня… Это я тебя уговорила выйти замуж за француза… И на аборт я тебя уговорила… Все из-за меня…
— Д-д-да ладно, — стуча зубами сказала я, — при чем з-з-здесь ты. Ты всегда говорила то, что я и сама думала, только сказать боялась…
— И все равно я виновата, — с пьяным упрямством сказала Татьяна и всхлипнула. — Это я загубила твою жизнь, а ты такой костюм мне сшила и вообще… — И она зарыдала, содрогаясь всем телом и моча мою щеку слезами.
Тут моя дрожь сама собой прекратилась, и я стала гладить Таньку по голове и целовать в мокрые щеки.
— Ну перестань, перестань… Неужели ты думаешь, что я так про тебя думаю? Ни в чем ты, глупая, не виновата… Знаешь, кто во всем виноват? Знаешь?
Она стала реветь тише.
— Кто?
— Мужики проклятые — вот кто! Ты вспомни хоть одного, кто стоил бы наших слез и страданий?
Танька озабоченно притихла. Потом спросила:
— А из каких? Из моих или твоих?
— Из всех, — сказала я.
— Из каких «всех»? — уточнила Татьяна.
— Из всех на свете!
— У меня нет таких… — прерывисто вздохнув, сказала Татьяна.
— И у меня таких нет! — сказала я.
— Может, Жерар Филипп? — несмело предложила она. — Или Олег Стриженов?
— Это у их жен нужно спросить. Думаю, у них найдется, что нам рассказать…
— Ох, найдется… — горестно вздохнула Танька и сунулась мокрым носом мне в шею. — Слушай, Мань, — вдруг встрепенулась она, — а ну их к черту, этих проклятых мужиков! Завтра же Гришку погоню поганой метлой!
Гришка был, пожалуй, последний из Славкиной компании, который не утратил надежду завоевать ее расположение. Она, видя, что все ее вздыхатели разбегаются, как тараканы, когда включишь свет, благосклонно решила ответить на его ухаживания и начала с ним встречаться. Впрочем, ни к чему серьезному это пока не привело. Наверное, он ей не очень нравился. Не так, скажем, как Жерар Филипп…
— Ты подожди горячиться-то, — сказала я. — При чем тут Гришка. Мы же говорим о мужиках вообще!
— А что же он, не мужик?! — взвилась Татьяна. — Такой же, как и все! К черту, к дьяволу всех мужиков! Как нам хорошо с тобой! — Она ласково потерлась о мою щеку носом. — Давай всегда будем вместе! Хочешь, я к тебе перееду? Вместе худеть будем… И не нужен нам больше никто. Ты меня шить научишь, а я тебе сопромат объясню… Выпивку больше пить не будем…
— А мама твоя?
— А мама всегда спокойна, когда я у тебя…
— Ага, спокойна… Видела бы она сейчас твою пьяную рожу.
— Я не пьяная, я за тебя очень переживаю. А мужиков ненавижу! Неужели без них совсем нельзя? — встревожено спросила она и даже привстала в постели.
— А ты попробуй, а потом скажешь, — предложила я, изо всех сил стараясь перевести разговор на шутливый тон, чтобы она вновь не расплакалась. Мне и самой-то было тошно, несмотря на выпитый коньяк, а каково же было ей, если она всерьез обвиняла во всем себя?
— Что в них есть такого, без чего нельзя обойтись? — философски спросила Татьяна, перевернувшись на спину и задумчиво уставившись в потолок. — Ноги у них волосатые и корявые и пахнут не так, как у нас… То ли дело у тебя… — Она провела пяткой по моей ноге. — Гладкие, мягкие, красивые… Помнишь, как я тебя кремом натирала?
— Дура ты, Танька. — Я отодвинулась от нее. — Мужика у тебя давно не было, что ли?! Ты подожди, пока Гришку прогонять, а то вообще на стенку полезешь…
— А что, я тебе противна? Вот мне от тебя все приятно…
— Почему противна, я люблю тебя, — серьезно сказала я.
— И я тебя люблю, — сказала она, прижимаясь ко мне всем телом. — Я так тебя люблю… Когда ты шьешь или что — нибудь делаешь, я могу часами на тебя смотреть… И фигура у тебя такая красивая… Так бы и любовалась… И гладила бы, и гладила…
— Была фигура, да сплыла, — сказала я, переводя разговор на другие рельсы.
— Ничего подобного! — горячо возразила Татьяна. — Для тебя эти несколько килограммов ничего не значат. Зря ты так всполошилась…
— Это первые несколько килограммов ничего не значат… А вторые и третьи…
— Ну и что? Вон мама и бабушка у тебя были полные, а какие красивые.
— Мама всю жизнь с весом боролась…
— Зато какой человек ее любил… — мечтательно сказала Татьяна. Она несколько раз наблюдала праздничные появления у нас Льва Григорьевича.
— Вот видишь, а ты их всех хочешь отправить к дьяволу.
— Теперь таких не делают! — печально вздохнула Татьяна. — Хотя, может быть, где-то и завалялся один такой… — Она снова вздохнула. — А больше мне и не надо…
— Хорошие мужики хоть и редко, но встречаются, — авторитетно заметила я. — А вот хороших мужей не существует в природе.
Она вздохнула в третий раз, а я еще долго лежала и осмысливала наш с ней разговор.
У нас давно так повелось, что именно она озвучивала, как это теперь модно говорить, наши общие мысли, которые я произнести вслух не решалась…
Я это все так подробно вспоминаю для того, чтобы вы лучше поняли мое душевное и физическое состояние в ту пору. Иначе вам будет трудно понять и правильно оценить все, что произошло со мной потом…
4
Как я уже говорила, меньше всего в своих бедах я винила самого Певца, отца моего нерожденного ребенка.
Послушай, а что ты скажешь, если он будет Моцарт, этот неживший мальчик, вытравленный тобой.Эти строчки из стихотворения Дмитрия Кедрина, почему-то ходившего в списках и поэтому бывшего тогда особенно популярным, каждый раз возникали в моем мозгу, когда я вспоминала о своем аборте.
Одним словом, я зла на Певца не держала и продолжала бывать в его многолюдном доме, сохраняя со всеми, особенно с его сестрой Татой, прекрасные отношения. Надо ли говорить, что вся его «сырная» команда по-прежнему обшивалась в основном у меня. Больше того, круг моей клиентуры благодаря «сырихам» расширился, так как почти каждая из них привела ко мне свою подругу или родственницу.
Права была моя мудрейшая бабуля, которая все время мне говорила: «Шей хорошо и ни о чем больше не думай. Заказчики тебя сами найдут».
Не нужно забывать, что тогда выбор в магазинах был совсем не такой, как сейчас. Да и магазинов было раз в пятьдесят меньше. И поэтому статус хорошей портнихи с фантазией — а я была, да и остаюсь, очень хорошей портнихой — был такой, как, скажем, сейчас у Славы Зайцева или у Юдашкина.
Правда, имя мое было не так известно и передавалось из уст в уста шепотом, потому что в те времена я еще не имела лицензии и шила как бы нелегально.
Лицензию на шитье на дому я взяла только лет через пять, в начале шестидесятых годов. До сих пор не понимаю, почему я так долго тянула с этим делом? Ведь налоги по сравнению с теперешними были совсем пустяковые.
Однажды одна из «сырих» — та, которая у Певца занималась международными связями и была женой видного дипломата, — позвонила и попросила у меня разрешения привести с собой свою старинную школьную подругу, которой нужно кое-что сшить.
Это было в самом начале июня, дней за десять до моего дня рождения, который, как известно, четырнадцатого числа. Я еще не совсем разобралась с завалом, который возник у меня в связи с болезнью, последовавшей за ней жесточайшей депрессией и постоянной борьбой с весом.
Но, несмотря на это, я с радостью согласилась на эту встречу, так как дружбу с Эллой — так звали жену дипломата — я очень ценила. Она была моим главным источником самых последних зарубежных модных журналов и каталогов.
Я назначила им на четыре часа и с часу начала приводить себя в порядок. К июню я уже поправилась на пятнадцать килограммов. Правда, в последние три недели положение как-то стабилизировалось, и я неимоверными усилиями удерживалась на отметке девяносто пять. Рост у меня к тому времени был уже 177 сантиметров…
Моя поврежденная эндокринная система выкинула еще одну шутку — я вдруг опять начала расти. Вроде бы ничего совсем необычного для двадцатилетней девушки в этом нет. Наша с Танькой одноклассница, Женя Кузнецова, вышла в восемнадцать лет замуж за двадцатипятилетнего парня своего роста, а к двадцати одному году переросла его на четыре сантиметра! Но она была совершенно здорова, и это произошло постепенно, за три года, а у меня внезапно и за полгода. И я испугалась, что теперь из-за своей болезни буду расти в каждые полгода по два сантиметра. И так до двадцати пяти лет.
Я тут же залезла во все справочники и выяснила, что женщина теоретически может расти именно до двадцати пяти лет. Что же из меня получится? Коломенская верста? Колокольня Ивана Великого? Ведь это выходит в год по четыре сантиметра. Значит, за оставшиеся четыре года 16. 177 + 16 = 193! Значит, в собственную дверь я буду входить чуть согнувшись?
Забегая вперед, могу сказать, что мой рост, к неописуемому моему счастью, остановился на 177 сантиметрах.
Сейчас я с улыбкой вспоминаю о тех переживаниях, но тогда для меня это было очень серьезно. Тогда это была катастрофа! Ни о чем другом, кроме как о своем весе и росте, я не думала и уже всерьез начала стесняться и того и другого.
Потому-то я и принялась готовиться к их визиту за три часа. Мне всегда хотелось произвести благоприятное впечатление на новую заказчицу От этого во многом зависели наши дальнейшие отношения.
Заказчик, а особенно заказчица, должен верить в своего портного точно так же, как пациент в своего врача. Иначе заказчики никогда не будут довольны своей одеждой, а пациент никогда не выздоровеет. Это тоже из бабушкиных заповедей.
Если бы я сама шла с визитом, то все было бы проще, так как на выход у меня кое-что было, а вот для домашнего приема придумать что-то было значительно сложнее. Ведь не будешь же заказчика принимать в вечернем туалете? Во-первых, это деловой визит, а во-вторых, на дворе еще день.
И в халате их не примешь. Ладно, была бы Элла одна, но она с подругой, которая увидит меня впервые в жизни. Значит, нужно было что-то скромное, не такое официальное, как мой черный шелковый костюм с большими перламутровыми пуговицами, в котором я поступала в институт, но и не затрапезное, как то хлопчатобумажное платьишко, в котором я обычно ходила у Таньки на даче в Валентиновке.
Одним словом, тут было над чем поломать голову…
5
Более красивой женщины я не видела ни до того, ни после. Ее звали Вероника. Элла звала ее Верочкой. Она была среднего роста, но казалась высокой из-за стройности.
Фигура у нее была потрясающая, но я в этом убедилась позже, на примерках, а тогда меня поразило и буквально заворожило ее лицо.
Кожа у нее была, что называется, мраморной. Идеально гладкая, бело-матовая, с легчайшим розовым свечением изнутри.
Ее брови, не тронутые пинцетом, были нарисованы природой так уверенно, с таким изяществом, что могли бы сделать красивым любое лицо. Даже если, кроме бровей, на нем не было бы ничего. Но на этом лице были еще глаза. Светло-голубые, прозрачные, они имели темно-синий, постоянно расширенный зрачок, который придавал им ощущение невероятной глубины.
Если вы когда-нибудь бывали на Байкале, то ощущение это хорошо вам знакомо. Когда плывешь по Байкалу в неторопливой лодке от берега, то поражаешься прозрачности и какой-то особой светлости воды, сквозь которую виден на дне каждый камушек. И так происходит довольно долго, пока дно не обрывается в бездонную глубину и вода из светлой не становится темной, но по-прежнему прозрачной до самого дна. Этого ты уже не можешь определить, но твердо знаешь. То же самое ощущение вызывали ее глаза, опушенные густыми темными, не нуждающимися в туши ресницами.
Hoc — прямой, тонкий, с чуть заметной курносинкой на конце и с удлиненными, изящно вырезанными, чуткими ноздрями.
А вот губы она красила. Но это, на мой взгляд, не усиливало, а даже несколько сбавляло ее ослепительную красоту, внося в нее некоторую дисгармонию. Когда я увидела ее без помады, то убедилась, что ее крупные, удивительного рисунка губы ни в какой помаде не нуждаются. Впрочем, может быть, она красила губы сознательно, давая тем самым возможность людям спокойно смотреть на себя… Ведь на солнце долго смотреть невозможно-
Когда она улыбалась, зубы ее светились белизной и здоровьем. Но улыбалась она редко. Обычным состоянием ее лица была углубленная сосредоточенность, обращенная одновременно на собеседника и в себя. И прибавьте ко всему вышеописанному идеальный овал лица с высокими, крутыми скулами, с волшебными впадинками под ними и прелестными ушами, в розовых мочках которых сверкали некрупные бриллианты.
Волосы, густые, тяжелые, слегка волнистые от природы, темно-орехового цвета, она закалывала в низкий пучок.
Одета она была безукоризненно.
6
Мы познакомились. Я, почему-то волнуясь, усадила их в гостиной, дала самые последние модные журналы и ушла на кухню варить кофе.
Я глядела, как набухает и поднимается кофейная пена, и думала, что она и так прекрасно одета. Чего же ей еще надо? Интересно, где она так одевается?
Когда я принесла поднос с чашками и готовым кофе, на нашем большом круглом столе лежали несколько раскрытых журналов. Мельком взглянув на открытые страницы, я с удовольствием отметила про себя, что там все знакомые вещи. Я уже это делала. А вкус у нее есть, решила я.
Отодвинув журналы в сторону и расставив чашки, я налила в них кофе. Вероника отпила крошечный глоточек и спросила, глядя на меня пронзительным долгим взглядом:
— Вам знакомы эти модели? — Она кивнула на журналы.
— Да, я знаю эти модели, — сказала я со скрытым удовлетворением в голосе.
— Все это у меня уже есть, — еле заметно улыбнулась Вероника. — Мне хотелось бы, чтобы мы с вами придумали что-то новенькое… Мне вскоре предстоит защита докторской диссертации, после которой будет банкет в каком-нибудь хорошем ресторане. Потом, сразу же вслед за защитой, продолжительная зарубежная поездка, которая закончится только осенью. Я хотела бы быть готовой и к первому, и ко второму, и к третьему Кроме того, хотелось бы, чтоб все это было выдержано в одном стиле. Что вы скажете?
— Право, не знаю… — смутилась я под ее долгим, завораживающим взглядом. — Я не уверена, что справлюсь… А какие сроки вы предполагаете? Ведь это все еще надо придумать… А потом там будет много шитья…
— Об этом не беспокойтесь, — сказала Вероника, не отводя от меня своих обворожительных глаз. — Я дам вам женщину, которая все прекрасно исполнит по вашим выкройкам. Главное — чтобы мы с вами все придумали. Элла мне показывала ваши вещи. Ничего, кроме восторженных слов, я о них сказать не могу Вы очень талантливы. Вы знаете об этом?
Этот вопрос привел меня в окончательное замешательство. Я пожала плечами, чувствуя, как под ее неотрывным взглядом мое лицо заливается румянцем, а в груди сладко теплеет. Не зная, что ответить, я пожала плечами.
— Вы должны об этом знать, — сказала она, неожиданно улыбнувшись, — это так помогает в тяжелые времена… — Так же внезапно согнав с лица улыбку, она пытливо взглянула на меня: — Так вы согласны?
— Можно попробовать… — неуверенно сказала я.
— Вас что-то смущает? — спросила она, кладя свою изящно удлиненную ладонь на мою руку.
— У меня из-за болезни сейчас скопилось много работы… Не в моих правилах подводить людей…
— Мне Элла говорила о вашей болезни… — сказала Вероника, и я пожалела, что была откровенна с этой болтуньей — «сырихой». Мне почему-то не хотелось, чтобы Вероника знала о моих болячках и проблемах. Наверное, потому, что сама она была такая идеальная.
Она, похоже, прочла мои мысли и тепло улыбнулась.
— Не стоит на этом сосредоточиваться… Наоборот, вам лучше отвлечься от этих проблем и сделать что-то грандиозное…
Она не улыбнулась, но последние слова ее прозвучали шутливо.
— А справиться с вашим завалом я вам помогу, — продолжила она уже деловым тоном. — Женщина, о которой я вам говорила, приедет к вам уже сегодня вечером. Она быстро и очень аккуратно шьет. И все схватывает на лету. Вы ей только объясните — она все сделает. О деньгах не беспокойтесь. С ней я рассчитаюсь сама. Свою машинку она привезет с собой. Для нее найдется место?
Я кивнула.
— У вас есть оверлок? — неожиданно спросила она.
— Нет.
— Вам он ведь все равно нужен?
— Хорошо бы, но это промышленная машина, и ее трудно купить, — сказала я.
— Вам ее привезут, — сказала Вероника, — и это ускорит вашу работу.
— А сколько это будет стоить?
— Нисколько.
— Да, но… — начала было я, но она меня перебила:
— Никаких но. Вы же должны на чем-то шить. — Она допила свой кофе и решительно поднялась. — К сожалению, мне надо идти.
Она обошла стол, подошла ко мне и протянула руку.
— Значит, мы обо всем договорились? Мою швею зовут Надежда Ивановна. Она вам сегодня же позвонит.
7
Так Вероника вошла в мою жизнь.
Когда она ушла, я, конечно же, набросилась на Эллу с вопросами. С едва скрытой гордостью, будто Вероника ее дочь, Элла мне рассказала, что Вероника была легендой школы. Все ребята из соседней мужской школы за ней бегали, но она их просто не замечала.
Окончила школу с золотой медалью, хотя никто и никогда не видел, чтобы она делала домашние уроки. Закончила сразу два вуза: Первый медицинский институт и факультет психологии МГУ.
Между прочим, весь мужской состав обоих учебных заведений по ней с ума сходил. А один студент, красавец Вадим, ради нее среди бела дня прыгнул с Крымского моста, прямо во всей одежде. Правда, не разбился, но от милиции долго бегал.
Оба института она закончила с красными дипломами. Потом работала в Соловьевке, в психиатрической клинике, поступила в аспирантуру, закончила, защитила кандидатскую диссертацию и вышла замуж за человека, старше себя на двадцать один год.
Ее муж министр. Очень влиятельный человек. Она зовет его Василий. Он относится к ней снисходительно и совершенно равнодушно. Для него, кроме работы, ничего на свете не существует.
Живут они с ним в доме политкаторжан около кинотеатра «Ударник» в огромной шестикомнатной квартире. Вероника родила от него двоих детей-погодков и работать при этом почти не прекращала.
Детей воспитывала бабушка, ее мама, тоже красавица в молодости, но, безусловно, не такая, как Вероника, потому что таких не бывает.
Теперь Вероника доцент МГУ, преподает психологию и готовит докторскую диссертацию. И обязательно защитит ее, потому что она сгусток воли, целеустремленности и красоты. Элла не встречала еще человека, который мог бы хоть в чем-то ей противостоять.
8
На другой день от Вероники приехала швея. Вопреки моим ожиданиям, это была молодая, очень привлекательная и модно одетая женщина лет двадцати семи. Привезший ее шофер внес вслед за ней две машинки. Одна была немецкая, с моторчиком, а вторая оверлок. Он же подключил и наладил их.
Надежда Ивановна не была профессиональной швеей. Просто увлекалась шитьем и всю жизнь помогала маме. Одним словом, ее история была вполне схожа с моей, только вместо бабушки шить ее учила мама.
Она была родом из-под Одессы, из села со странным французским названием Дофиновка. Училась в Одесском университете, закончила биофак. В Москву приехала за мужем, с которым вскоре разошлась, и жила поэтому в маленькой комнатке у Вероники. Там же она и шила, потому что из всех женских слабостей Вероника сохранила за собой только одну — слабость к красивой и дорогой одежде.
К украшениям Вероника была равнодушна. Она носила только маленькие серьги со старинными бриллиантами и «скромное» колечко с бриллиантом величиной с хорошую горошину. Это был свадебный подарок мужа. А серьги он ей подарил на рождение первенца.
За несколько дней мы с Надей — так она попросила ее называть — в две машинки подогнали все мои долги. Шила она удивительно быстро и аккуратно. И притом очень хорошо соображала в конструкции и фасонах. Работоспособна и упорна фантастически. Работать с ней было одно удовольствие. Даже в самой большой усталости она сохраняла приветливость. Выгоняя бесконечные строчки на наших машинках, мы с ней весело болтали и бесконечно пили кофе, до которого Надя была большая охотница.
Частенько к нам присоединялась и Татьяна, которую мы жутко интриговали рассказами о таинственной и прекрасной Веронике. Татьяна к нашим рассказам относилась с мрачным недоверием. Похоже, что она, глупышка, ревновала меня и к Наде, и к загадочной Веронике.
9
Через неделю, когда я была уже практически свободна, за мной приехал правительственный «ЗИМ» и отвез меня к Веронике, на улицу Серафимовича, в дом № 2.
Она встретила меня в белоснежном шелковом халате, опушенном лебяжьим пухом по подолу и обшлагам широких рукавов.
Даже не знаю, на кого из зарубежных актрис она была больше похожа — на Грету Гарбо или на Марлен Дитрих. Но совершенно определенно она была красивее обеих, вместе взятых. Мне даже прямо смотреть в ее завораживающие и влекущие, как бездна, глаза было почему-то неудобно.
Она провела меня по всей квартире, уставленной тяжеловесной, дорогой мебелью. И при этом украдкой и с любопытством поглядывала на меня. Ей, наверное, была интересна моя реакция.
Она же не знала, что я достаточно погостила в особняке Наркома и теперь меня масштабами и обстановкой удивить трудно. Впрочем, может быть, она интересовалась совсем другим…
В просторной гостиной огромный овальный стол был весь завален раскрытыми модными журналами, а на спинках всех стульев и глубоких кресел, укрытых полотняными чехлами, были живописно разбросаны куски различной материи.
Все отрезы были подобраны в определенной гамме от серо-серебристого до нежно-охристого, включая просто серый, кремовый, цвета топленых сливок, цвета кофе с молоком, цвета луковой шелухи.
В стороне, на одном из кресел, лежал нестерпимо красный кусок материи и, казалось, излучал тревогу. Я направилась прямо к нему. Это была тончайшая шерсть такой невероятной выделки, что переливалась как шелк.
Пощупав материал, я подняла голову и встретилась с ее смеющимися, озорными глазами.
— А если в таком костюмчике на защиту докторской диссертации заявиться? — спросила она и подмигнула мне. — Представляете, что будет с ученым советом?
Представив себе их постные старческие физиономии в черных академических шапочках с подслеповатыми глазками, вытаращенными от изумления, как у рачков-отшельников, мы дико захохотали.
Мы долго не могли остановиться, а Вероника все время подливала масла в огонь, рассказывая, как сползут по вспотевшему носу очки у некоего Ивана Перфильевича, как поперхнется своей пегой козлиной бородкой Аристарх Платонович и как почернеет и сольется со своим платьем Ариадна Гавриловна.
Изнемогая от хохота, мы повалились в кресла, а Вероника от восторга заболтала в воздухе своими словно точеными, идеальной формы ногами, обнажая их чуть ли не до пояса.
— Все! Решено! — сказала она, отсмеявшись. Встала и запахнула халат. — Будем шить на защиту красный костюм.
— Ой, что будет… — пискнула я.
— Пошли они все к чертям собачьим! — весело махнула рукой Вероника. — Пусть эти волы хоть на часок почувствуют себя быками.
— А если они разозлятся и завалят вас?
— Меня? — Она широко распахнула глаза. — Да кто же им это позволит? Да они такой блестящей диссертации в руках не держали со дня образования ученого совета. Я им завалю! — сказала она с веселой угрозой в голосе, и я подумала, что лучше им ее не заваливать.
— А фасон какой будет, Вероника? — спросила я.
— Зови меня Ника, так короче. Все друзья меня зовут так.
— Но Элла вас зовет Верой, — возразила я.
— Я сказала — друзья, а Элла моя одноклассница, — спокойно пояснила она и посмотрела на меня своим долгим взглядом, устремленным в самую глубину моей души и в себя одновременно. — А вот фасон, я думаю, должен быть строже, чем у королевы английской на официальных приемах.
— Потрясающе! — воскликнула я.
10
Целыми днями, разбросав по стерильно чистому полу наши эскизы, выкройки, куски материи, мы конструировали ее гардероб. Я говорила ей «ты» и с обожанием ловила каждый ее взгляд, каждое слово, как сумасшедшая хохотала малейшей шутке. А она, видя такую мою реакцию, острила часто и охотно и доводила меня до изнеможения, до слез, пока я не начинала молить ее о пощаде. Юмор ее был тонок и беспощаден, а замечания умны и глубоки.
В общем, за эти несколько дней совместного фантазирования, споров и творческих озарений мы стали близкими друзьями. Мне чрезвычайно льстила дружба с такой потрясающей женщиной. Я просто влюбилась в нее, как влюбляются школьницы в свою красивую и недоступную учительницу, как влюбляются молоденькие девушки в артисток. Я похудела на три килограмма. Жизнь вернулась ко мне.
Дети Ники были в Артеке. На работу она не ходила, взяв отпуск. Муж постоянно жил на государственной даче где-то по Рублевскому шоссе. Каждый раз, заезжая в субботу после работы домой, он зазывал нас на дачу, соблазняя теплой водой в Москве-реке, зеленой травкой на лужайке перед домом и чаем из самовара, растопленного сосновыми и еловыми шишками.
— Самовар с шишками — это хорошо придумано, Василий, — отвечала ему Ника серьезно, глядя долгим, задумчивым взглядом. — Дым будет разгонять комаров, а то после слепней, грязной воды в речке и солнечных ожогов кожа будет покрыта струпьями и каждый укус комара будет чрезвычайно болезнен. И потом, у самовара можно просидеть до рассвета, как у костра… Ведь комары все равно не дадут заснуть… А потом можно прикорнуть в машине на заднем сиденье… Комары ведь не любят запаха бензина, не так ли?
Василий Ермолаевич разводил руками и говорил, обращаясь ко мне:
— Машенька, вы даже представить не можете, с какой черной завистью я смотрю на людей, у которых еще остались силы острить…
Он галантно целовал мою руку, многозначительно пожимая при этом кончики пальцев, чмокал жену в щечку и уезжал.
А мы, переглянувшись со значением и облегченно вздохнув, с азартом и нетерпением набрасывались на наше шитье.
Ника была совершенно неутомима в работе. Она могла по двадцать, тридцать раз в день примерять наметанные вещи или терпеливо стоять перед зеркалом и безропотно сносить мои портновские причуды, пока я на разные лады драпировала ее в куски материи. Только зрачки ее еще больше темнели и становились глубже, а по телу пробегала дрожь от моих назойливых прикосновений.
Однажды мы расшалились, нашли в книжке «Легенды и мифы Древней Греции» изображение Дианы-охотницы и нарядили точно так же Нику. Мы уложили ей волосы, как было на картинке, и соорудили из серо-серебристого материала нечто вроде короткой охотничьей туники. На левом плече закололи ее большой круглой серебряной брошкой с медовым янтарем посредине, а правое плечо и грудь оставили обнаженными. В поясе мы туго перехватили тунику золотистым ремешком.
Когда Ника, удовлетворенная своим нарядом, оторвалась наконец от зеркала и вышла на середину гостиной, я просто ахнула. Она была необыкновенно хороша. Настоящая Диана! Короткая туника едва прикрывала ее слегка смуглые точеные ноги. До сих пор на всех примерках она была в бюстгальтерах, и я даже не могла предположить, что у нее совершенно юная грудь, формой напоминающая половинку спелого крепкого яблока с крошечным темным, острым, то ли от холода, то ли от стеснения, соском.
Я даже не удержалась и, не отдавая себе отчета, подошла к ней и дотронулась кончиками пальцев до ее груди, словно хотела убедиться, что она настоящая. Ника от моего прикосновения вздрогнула и посмотрела на меня долгим вопросительным взглядом.
— Вот бы тебе в таком виде прийти на защиту диссертации… — смущенно пробормотала я, чтобы смягчить возникшую неловкость.
— Это идея! — улыбнулась Ника.
Тут раздался звонок в дверь. Я протянула Нике ее халат. Она бросила халат в кресло и, как была, с обнаженной грудью, направилась в переднюю открывать дверь.
— Ты что, оденься! — крикнула я.
— Да это же тетя Груша, — беззаботно ответила Ника.
— А если это водопроводчик? — сказала я, напоминая Нике, что он обещал прийти в первой половине дня и починить кран в ванной.
— Ну и черт с ним, — весело махнула рукой Ника.
У меня от страха и восхищения сладко замерло сердце, и я, схватив халат, побежала вслед за ней, пытаясь прикрыть ей плечи. Она же с озорным смехом сбрасывала его.
К счастью, это была тетя Груша, приходящая домработница, высокая ворчливая женщина неопределенного возраста, в неизменном черном платье и белом в мелкий горошек платочке. Увидев Нику, она охнула, отступила назад и начала истово креститься. Ника захохотала и убежала в гостиную, чтобы не доводить тетю Грушу до паралича и не остаться без обеда.
Тетя Груша готовила нам ледяной свекольник со сметаной, яйцом, луком и огурцами. Еще она делала удивительно вкусные холодные щи из щавеля, ни с чем не сравнимые окрошки. На второе зажаривала целиком в сливочном масле молодую картошку и посыпала ее мелко рубленным укропчиком и молодым прозрачным чесночком. Сумасшедший запах шел от нее по квартире.
Обедали мы на кухне, так как огромный овальный стол в гостиной был завален обрезками материала, бумажными выкройками и полуготовой одеждой.
Надя шила у меня дома на Тверском бульваре. Каждый день я на министерском «ЗИМе» отвозила ей сметанные и подогнанные вещи, а она их сострачивала с изумительной точностью и чистотой. Ее швы просто глаз радовали. Впервые для меня шитье было чистым творчеством без утомительной и кропотливой работы.
Несмотря ни на что, я могу твердо сказать, что эти три недели в июне были одними из лучших дней в моей жизни.
11
Узнав, что у меня скоро будет день рождения — а он пришелся на самый разгар нашей страды, — Ника предложила сходить в ресторан, чтобы мне не нужно было тратить время и силы на всякие предпраздничные хлопоты.
Она захотела взять на себя все расходы и, несмотря на все мои отговорки, настояла на своем. Эта женщина умела настоять на своем.
Она велела мне не стесняться в расходах и позвать столько гостей, сколько мне вздумается. Я сказала, что никого кроме Татьяны видеть не хочу.
— Неужели ты никого больше не хочешь пригласить? — спросила она меня и пристально посмотрела в глаза.
— Нет, не хочу, — сказала я.
Единственный мужчина, которого я могла бы пригласить, был Славка. Но звать его без всей веселой компании было как-то нелепо. А шуму и гоготу мне не хотелось. Кроме того, мне не хотелось делить Нику с кем бы то ни было. Татьяна в счет не шла.
Больше к этому разговору мы не возвращались, но в долгих изучающих взглядах, которые изредка бросала на меня Ника, я прочла новый интерес.
Чтобы прояснить ситуацию, я рассказала ей почти все о своей жизни. Обо всех моих мужчинах. Только о Наркоме ни словом не упомянула. А о Певце, как выяснилось, она уже знала. Я поняла, что в «сырной» команде ничего скрыть нельзя…
Ника внимательно слушала меня, умелыми редкими вопросами направляя и поощряя мое повествование. И я рассказывала ей такие подробности, которые не знала обо мне даже Татьяна.
В тот уютный июньский вечер, под приглушенную музыку «Травиаты», которую транслировали по телевизору, под шуршание троллейбусов и бранчливые гудки автомобилей, залетающие в открытые окна, мне показалось, что ближе, чем Ника, у меня нет человека на всем свете. Татьяна, разумеется, не в счет. Я была рада, что мы не зажигали свет. В ласковых фиолетовых сумерках не видно было моих слез. Это были слезы жалости к самой себе и слезы умиления от сознания, что я теперь не одна, что у меня есть старший, мудрый и сильный друг.
Словно в который раз прочитав мои мысли, Ника подошла ко мне и нежно обняла за плечи.
— Ничего, — прошептала она. — Все будет хорошо. Все будет по-другому… Ты стоишь лучшего. Я помогу тебе обрести себя…
12
Мы ходили в недавно открывшийся в гостинице «Советской» и страшно модный ресторан «Новый Яр» с самым настоящим варьете. Программа была очень интересная. Играл эстрадный оркестр под управлением Вадима Людвиковского.
Нам было очень весело. Мы так роскошно выглядели, что к нам боялись подойти, только исподтишка косились с соседних столиков. Лишь один пьяненький толстячок, по виду бухгалтер, попытался пригласить Татьяну на танец, но его быстренько увели под руки официант и метрдотель. Потом метрдотель подошел к нашему столику и с элегантным полупоклоном извинился. Ника благосклонно кивнула ему в знак прощения, и он, счастливый, удалился.
— Вот это шик! — пискнула Татьяна.
Губы Ники дрогнули в улыбке.
Когда стало понятно, что мы успеваем со всем гардеробом, Ника вдруг загорелась идеей сшить и мне два новых туалета. Один для защиты, потому что она очень хотела, чтобы я собственными глазами увидела реакцию ученого совета на наш красный костюмчик, который получился такой, что и английской королеве было бы не стыдно в нем принимать королеву Дании, и вечернее платье для банкета.
Она взялась за осуществление этой идеи с такой страстью и целеустремленностью, какую не проявляла, изобретая свою одежду.
Для костюма мы нашли великолепный нежно-коричне-вый штапель в крупный белый горох. К однобортному, сильно приталенному пиджачку с глубоким и узким вырезом мы в том же комиссионном приобрели широкий черный лаковый пояс, к которому идеально подходили мои черные лаковые туфли. Никина театральная сумочка черного же лака и длинные перчатки в тон материала завершали туалет.
На голову мы подобрали маленькую черную шляпку, сплетенную из искусственной соломки. Ника лихо, «по-парижски» сдвинула мне ее на бок, на один глаз, и я впервые за много месяцев понравилась сама себе.
Для банкета решено было построить мне длинное бархатное, как у Клавдии Шульженко, платье. Только не черное, а темно-зеленое, малахитовое. Оно должно быть цельнокроеное, сильно в талию, очень узкое спереди и присборенное сзади, со вставным клином для шага.
Плечи мы решили открыть насколько это возможно. Декольте должно быть низкое, смелое, почти дерзкое. Без Ники я бы никогда не решилась на такое. С ней я не боялась ничего.
В последнее время, когда я начала стремительно поправляться, стала стесняться своей фигуры настолько, что старалась даже при Татьяне не переодеваться. Мне стало неприятно, когда Славка по старой памяти клал мне руку на бедра или на талию или случайно дотрагивался до живота… Мне все казалось, что он или хочет проверить, насколько я еще потолстела, или намекает таким образом, что пора бы и остановиться. А если ни то и ни другое, то он прикасается ко мне через силу, из жалости, потому что желать прикоснуться к этим массам жира никто из нормальных людей не может.
13
Когда мы начали заниматься моей одеждой, Ника взялась собственноручно меня обмерять. Она считала, что сама я это делаю неточно.
Произведя необходимые замеры, она долго озабоченно молчала и что-то подсчитывала на бумажке. Потом посмотрела на меня расширившимися от изумления глазами и сказала:
— Потрясающе! У нас с тобой практически одинаковые фигуры!
Я вся вспыхнула от удивления, готового перейти в обиду, так как не понимала, о чем она говорит, зачем, в чем тут скрытая насмешка?
Она как всегда совершенно точно поняла мое состояние и поспешила объяснить:
— Посмотри — ты ровно на десять сантиметров выше меня. — Она показала издалека листок с какими-то цифрами. — Если бы ты была по всем окружностям больше меня на те же десять сантиметров, то при таком росте выглядела бы даже тощей! Меня Василий называет худышкой, особенно когда я надеваю что-то очень узкое и туфли на высоких каблуках. Но ты повсюду больше меня на семнадцать сантиметров. Причем точно в такой же пропорции, как и у меня. У меня разница между талией и бедрами тридцать два сантиметра, а у тебя — тридцать, это почти то же самое, что и у меня. Объем груди у меня больше талии только на двадцать семь сантиметров, а у тебя — на все тридцать пять! Представляешь! У тебя параметры были бы почти как у Венеры, будь она повыше ростом.
Я с недоверием взяла у нее листок и долго изучала ее цифры. Оказалось, все точно.
— И вот из-за этого ты моришь себя голодом? — удивилась она. — Глупость какая!
Я не знала, что и сказать.
Но все равно, когда мне пришлось раздеваться, чтобы примерить раскроенный и сметанный на живую нитку костюм, мне нужно было совершить над собой гигантское усилие. Я стояла в лифчике и в шелковых трусиках посреди ее гостиной и готова была провалиться сквозь паркет. А она, долго не давая мне костюма, смотрела своим медлительным взглядом и вдруг раздраженно сказала:
— Дура ты, Маша!
Я вопросительно взглянула на нее, мечтая лишь о том, чтобы поскорее натянуть на свои слоновьи бедра костюмную юбку.
— И с такой фигурой ты стесняешься раздеваться на пляже? Ты посмотри, какое у тебя тело, — восторженно говорила она, легко, как лектор указкой, касаясь рукой моей груди, талии, бедер. — Ни лишней складки, ни ямочки! Ничего не висит! А кожа! Извини, но ты точно дура!
Потом, когда мы примеряли малахитовое платье, она наговорила о моей груди столько комплиментов, что мне было даже неудобно слушать.
Я совсем забыла сказать, что Нике для банкета мы придумали платье в стиле модерн по картинкам начала века. Оно отдаленно напоминало тунику и струилось элегантными, утонченными складками с плеча на плечо, обнажая ее изумительную шею. Низ платья от пояса поверх юбки был декорирован случайно найденной в сундуке моей бабушки шелковой кружевной шалью с роскошной длинной бахромой по краям. Она так попадала по цвету и по фактуре в наш материал, что мы не смогли устоять перед искушением использовать ее.
14
Защита прошла триумфально. Нику слушали затаив дыхание. Даже кто-то из ее аспирантов, сидящих на задних рядах, попытался аплодировать. Ее научные оппоненты говорили о ней не иначе как с почтением и указывали лишь на некоторые места, в которых они бы лично, не меняя ничего по сути, несколько изменили формулировки. Впрочем, заканчивали они все как один, это чисто вкусовые проблемы.
Оппонентов я встретила как старых знакомых. Даже чуть не поздоровалась с приятным старичком Аристархом Платоновичем, который действительно, когда увидел Нику в ее ослепительно красном костюме, принялся гмыкать, покашливать и жевать кончик своей козлиной бородки — она сама полезла ему в рот, когда он оперся подбородком о старческий сухонький кулачок.
Ариадна Гавриловна, как и было предсказано, почернела, увидев Нику. Ей стоило большого труда дать положительную оценку диссертации. Но она выступала последней и не смогла пойти против общего мнения ученого совета.
А Иван Перфильевич, так тот просто уронил очки со своего потного носа на стол. Но потел он от удовольствия и не спускал с Ники восторженных глаз. Она даже едва заметно улыбнулась ему.
При голосовании из четырнадцати шаров не было ни одного черного. Я представила, чего это стоило Ариадне Гавриловне.
Перерыв между защитой и банкетом был объявлен в тридцать минут.
Пока ученый совет степенно перемещался из Института психологии, расположенного на Моховой между зданиями Московского университета, в Красный зал ресторана гостиницы «Метрополь», до которого ходьбы было никак не больше пятнадцати минут самым медленным шагом, нас на «ЗИМе» домчали до Никиного дома.
Там мы содрали с себя наши костюмы, по очереди залезли под душ, сполоснулись, подправили прически, грим, надели наши вечерние туалеты, украшения, чуть тронули себя стеклянными пробочками, смоченными разными духами, и та же машина помчала нас к «Метрополю».
По дороге я вспомнила, как старалась не смотреть на Нику, когда та мокрая выскочила из-под душа и, резко встряхнув кистями рук, обдала меня капельками воды. Я усмехнулась этим воспоминаниям и тут же, спохватившись, покосилась на Нику. Она, должно быть, и на этот раз прочла мои мысли и улыбнулась в ответ. От этой улыбки у меня мурашки поползли по открытым плечам.
— А на банкет Василий Ермолаевич приедет? — спросила я, чтобы скрыть свое смущение.
— Разве я тебе не говорила, что он сегодня уехал в Куйбышев на торжественное открытие нового объекта?
— Жалко…
— Кому? — уточнила Ника, шевельнув бровью.
— Вообще… — Я пожала плечами. — Василий Ермолаевич, наверное, расстроился…
— Не думаю, — сказала Ника. — Василий у нас, слава Богу, не сентиментален.
15
Через минуту мы, преображенные до неузнаваемости, встречали гостей у дверей Красного зала ресторана «Метрополь».
Гости были поражены и раздавлены. Теперь, когда защита и голосование были позади и необходимость сдерживать свои эмоции отпала, мужчины из ученого совета рассыпались в комплиментах и самой победительнице и ее подруге (так представляла меня всем Ника) и галантно целовали ручки.
— Вероника Борисовна, в этом платье вы просто Вероника Самофракийская, — по-старомодному тонко пошутил Аристарх Платонович и, довольно загмыкав, забрал в кулачок свою тощую бороденку.
А когда при мне Ариадна Гавриловна, преодолевая себя, сдержанно похвалила платье Ники и при этом вскользь заметила, что и костюм был «весьма эффектным», то я почувствовала себя победительницей не меньше, чем Ника.
За столом я сидела рядом с Никой на том месте, где должен был сидеть Василий Ермолаевич.
Успех мы имели ошеломительный. Кроме старичков из ученого совета, на банкет пришли ученики Ники — аспиранты и студенты, которые болели за нее на защите. Их было много, они были молоды, красивы, остроумны и наперебой приглашали нас с Никой танцевать.
Один из них со смешным именем Гурий такое мне говорил во время вальса-бостона, что у меня даже грудь краснела.
Он был значительно ниже меня ростом, и его нос все время стремился забраться в ложбинку между грудями. А я, в свою очередь, видела только его невероятно набриолиненный кок.
На нем был песочного цвета пиджак из колючей шерстяной материи с огромными подбитыми ватой плечами, черные брюки дудочкой, которые он, очевидно, натягивал на себя с мылом, лежа на спине, на ногах желтые ботинки на невероятно толстой микропорке в рубчик.
Танцуя, он сильно вихлял бедрами и оттопыривал зад. Впрочем, Гурий был очень милый…
Были среди ее учеников и высокие, с сильными руками, на которые так приятно откинуться во время страстного танго, не отставали от молодежи и старички, но каждый раз, танцуя, смеясь, мы с Никой отыскивали глазами друг друга и посылали неуловимый для посторонних взгляд, который одновременно и спрашивал: «Тебе хорошо?!», и отвечал: «Да, очень хорошо!»
Мы ни на секунду не теряли друг друга из вида. Когда мы сближались в танце или наконец оказывались одновременно на своих местах за столом, то шептали друг другу:
— Ты потрясающе выглядишь!
— На себя посмотри!
— Они все влюблены в тебя, как мальчишки!
— Нет, в тебя!
— Здорово, да?!
— Потрясающе!
— Ты не жалеешь, что подружилась со мной? — спросила она, задерживая на моих губах свой медленный взгляд.
— Как ты можешь спрашивать?! — укоризненно ответила я и тайком крепко пожала ее руку.
Как я любила ее в этот день! Она открыла для меня новый триумфальный мир. Мы купались, плавали, резвились во всеобщем обожании и поклонении. Я даже совсем забыла, что это была не моя защита, не моя победа! Она сделала все, чтобы я об этом забыла, и я была ей бесконечно признательна за это.
16
Старички довольно быстро испарились, но молодежь держалась до последнего. Правда, мой самый пылкий ухажер Гурий все время пытался улечься на составленные в рядок около стены стулья и моментально засыпал. При этом из-за стола, укрытого длинной скатертью, его было совершенно не видно, и каждый раз, когда кто-то натыкался на него, за столом поднимался веселый гвалт. Гурий просыпался и со страстными криками устремлялся ко мне. Его кое-как успокаивали, мы шли танцевать, и все повторялось сначала.
Нам пришлось уходить последними. Ника сходила куда- то и рассчиталась за банкет, потом дала на чай трем официантам, которые обслуживали наш огромный, стоящий буквой «П» стол.
Все это время нас ждал служебный «ЗИМ». Когда мы вышли на улицу, вышколенный водитель бесшумно подал машину к самому подъезду.
Сна у меня не было ни в одном глазу. Никакой усталости. Я бы могла праздновать до утра, но, решив, что для Ники этот день был неизмеримо труднее, я деланно зевнула и, прикрывая рот ладонью, спросила:
— Ты меня отвезешь?
— Куда? — весело удивилась Ника.
— Домой.
— И не подумаю… — созорничала она и прищурилась, наблюдая за моей реакцией. Я поняла, к чему она клонит, и все внутри у меня задрожало от радости, но решила продолжить игру.
— Но как же я пойду в этом платье? — с притворной тревогой сказала я. — У меня и денег нет, они остались в черной сумочке…
Она всегда знала, что я думаю.
— А я рассчитывала, что мы продолжим праздновать у меня… — сказала она, изображая разочарование.
— Я просто подумала, что ты устала… — оправдываясь, сказала я.
— А я подумала, что ты устала, — повеселела она. — Ну что? Едем?
— Едем! — бесшабашно сказала я.
Мы подождали, пока шофер вынесет из ресторана все букеты, подаренные Нике, уселись на заднее сиденье и покатили.
— Зря мы не взяли шампанское из ресторана, — заметила я, — там несколько запечатанных бутылок осталось… И коньяк.
— Какая ты хозяйственная… — усмехнулась Ника и похлопала меня по коленке. — Ничего, пусть официанты за наше здоровье выпьют. А дома мы что-нибудь найдем…
Ника снова не отделила меня от своего торжества. Мне так тепло стало от этого на душе, что я блаженно закрыла глаза, точно зная, что она знает, почему я это сделала. Удивительно было чувствовать, что тебя понимают до мелочей. Приятно было сознавать, что тебе не стыдно ни за одну, даже самую сокровенную свою мыслишку. Потому что все они полны добра и любви.
17
Дома нас встретила заспанная тетя Груша. Она приняла в охапку цветы у шофера, отнесла их в гостиную и, как мне показалось, со значением переглянувшись с Никой, спросила:
— Ну так я поеду?
— Спасибо, поезжай, — ласково кивнула Ника.
И мы остались одни.
— Теперь в ванну, переодеваемся и продолжаем! — скомандовала Ника.
Мы разделись, залезли в ее просторную ванну и пустили мощную струю теплой воды. Ванна быстро наполнилась до половины, и мы легли валетом, лицом друг к другу.
Чтобы поместиться, нам пришлось слегка согнуть ноги. Причем мои сомкнутые ноги оказались между расставленными ногами Ники.
Минут десять мы лежали, закрыв глаза и расслабившись. Я только все время опасалась, что мои скользящие по гладкой эмали ноги коснутся Ники, и все время подтягивала их к себе.
И все-таки мои ноги коснулись ее. Как я ни контролировала их, в какой-то момент почувствовала, что мои ступни касаются чего-то мягкого, нежного… Я в испуге подобрала свои ножищи и взглянула на Нику Она лежала, закрыв глаза, с блаженной улыбкой на губах. Лицо ее, покрытое жемчужной испариной, было прекрасно.
Воспользовавшись тем, что глаза ее закрыты, я стала наконец спокойно рассматривать его. До сих пор я стеснялась пристально смотреть на нее, потому что каждый раз сталкивалась в ее глазах с вопросом, на который не знала ответа…
Я невольно скосила глаза на ее прекрасную грудь, уходящую наполовину в воду и кажущуюся там, под водой, больше, чем на самом деле.
Струйка пота побежала по ее виску, губы, шевельнувшись в улыбке, обнажили влажные, поразительной красоты зубы, ресницы дрогнули, и между ними мелькнул черный огонек зрачка. Я поняла, что она давно наблюдает за мной, и, словно застигнутая за подглядыванием, торопливо закрыла глаза… Через минуту забылась и даже успела увидеть обрывок какого-то эротического сна, в котором Гурий пытался что-то сделать со мной посредине Манежной площади, среди снующих мимо машин, на составленных в два ряда стульях…
Очнулась я от того, что она несколько раз ногами сильно сжала мои икры. Я открыла глаза. В ее глазах светился шаловливый огонек.
— Давай-ка я тебя помою, — сказала она, показывая мне уже намыленную губку.
— Давай лучше я тебя, — предложила я. — Сегодня ведь твой праздник.
— Давай, — сказала она, глядя мне в глаза и протягивая губку.
Мы поднялись во весь рост. В принципе, в этом деле для меня не было ничего нового или особенного. Мы с Татьяной в бане каждый раз лихо терли друг другу спины лохматыми мочалками из натурального мочала.
Иногда, как и многие в бане, мы мыли друг дружку целиком. Для этого одна из нас ложилась на каменную, еще горячую после споласкивания крутым кипятком скамью, а другая ставила одну шайку с небольшим количеством кипятка в другую, почти полную кипятка, и в верхней разводила мыльную пену, положив туда мыло и болтая мочалкой до тех пор, пока горячая пена не полезет через край. Потом набирала мочалкой побольше этой огненной пены и плюхала ее на спину лежащей под ее блаженный визг. Потом с веселым усердием терла ее, постоянно подбавляя пены, до тех пор, пока плечи, спина и ноги подружки не становились малиновыми. Потом окатывала ее из шайки горячей водой, отдавала команду переворачиваться, и все начиналось сначала…
Но тут ничего подобного мне и в голову не пришло. Я так робко провела губкой по плечам Ники, словно дотрагивалась до нее руками. Потом прикоснулась к ее нежной шее и по плечу скользнула на руку.
Ника все это время неотрывно смотрела на меня долгим вопросительным взглядом. Когда я осторожно провела губкой по ее груди, она вздрогнула и медленно закрыла глаза.
Я гладила ее грудь, чувствуя через губку, как тверды и напряжены ее соски. Потом начала водить губкой по ее бокам. Чтобы мне было удобнее мыть, она, не открывая глаз, подняла руки и сцепила их на затылке, сразу став похожей на статуэтку.
Как завороженная, я смотрела на ее гладкие, идеально выбритые, очень белые подмышки как на что-то тайное, сокровенное. Никто из моих подружек и клиенток не брил подмышек. Тогда это было еще не очень принято. Когда я прикоснулась к ним губкой, она начала вся извиваться, как от щекотки, но рук не опустила и глаз не открыла.
Чтобы было удобнее мыть ее живот и ноги, я опустилась перед ней на корточки. Прямо перед моим лицом оказалось то, от чего я так упорно отводила глаза… Растительность на лобке у нее была удивительно густая и темная, а из-под треугольника волос отчетливо виднелось начало глубокой складочки, из которой, как живое существо, выглядывало нечто розовое, гладкое, напоминающее черешенку…
Я прекрасно знала, что это такое и как называется, но никогда не видела. В бане много не увидишь, да и не присматриваешься. Мы С Татьяной не рассматривали друг друга даже в детстве, как это частенько делают любопытные девчонки, а у меня, как я об этом могла судить на ощупь, все было по-другому… Не так выражено…
Спохватившись, я подняла голову и взглянула на ее лицо. Ее глаза были закрыты. Или она их успела закрыть. Я стала мыть ее живот и ноги, не решаясь прикоснуться к лобку, и тогда она медленно подняла и поставила на край ванны одну ногу.
Я поняла, почему все так поразило меня. Она вся там снизу, под заросшим лобком, в промежности, была так же тщательно выбрита, как и под мышками. И ее черешенка была крупнее, чем у меня и чем те, что я видела в книжках под другим, научно-противным названием…
Я впервые в жизни видела все так открыто, отчетливо, близко, и это зрелище, показавшееся мне красивым и достойным всего образа Ники, неожиданно сильно взволновало меня, и мне нестерпимо захотелось дотронуться до всего руками, но я сдержалась и, устыдившись этого желания, опасливо посмотрела на Нику.
Ее глаза были по-прежнему закрыты, а голова откинута так сильно, что подбородок, шея и грудь составляли почти одну прямую линию. Даже если бы она и открыла глаза, то увидела бы только потолок над собой.
Осмелев, я начала водить губкой по внутренней поверхности ее бедер, постепенно поднимаясь к промежности, к дразнящей розовой черешенке, выглядывающей из набухших складок. Когда я, едва касаясь, провела губкой по промежности, то почувствовала, как все тело ее напряглось и она издала сдавленный стон.
У меня было полное ощущение, что я касаюсь всего собственными руками, и это доставляло мне такое тонкое, не испытанное доселе наслаждение, что я сама чуть не застонала… Меня съедало искушение дотронуться до всего рукой, и один раз я как бы случайно задела ее черешенку тыльной стороной ладони, но тут же отдернула руку и, поднявшись, скомандовала деланно бодрым голосом, как командовала Таньке в бане:
— Переворот.
Спину, отогнав все дурные мысли, я мыла спокойнее и энергичнее, любуясь с эстетической точки зрения изящными обводами ее бедер, волшебной ложбинкой вдоль спины и очаровательными ямочками над ягодицами.
— Слушай, — спросила я, — а у меня эти ямочки на пояснице есть?
До сих пор я почему-то даже не задавалась этим вопросом и не пыталась увидеть себя в зеркало со спины.
— Конечно! И еще какие, — ответила она не оборачиваясь.
Я закончила ее мыть и взяла в руки душ на гибком шланге, чтобы смыть мыльную пену, но она не позволила.
— Потом, — сказала она. — Сперва я тебя помою.
Она сполоснула губку под струей воды, отжала, намылила и стала быстро и совсем не робко, а как-то даже по-деловому тереть меня, почти не касаясь сокровенных местечек.
Я даже испытала легкое разочарование, потому что ожидала, в свою очередь, долгого и тонкого удовольствия. Ника улыбнулась, будто совершенно точно подслушала мои мысли, но темпа не сбавила.
— Перевернись, — деловито скомандовала она и с такой же скоростью пробежалась по всей моей большой спине, провела наспех губкой по заднице, словно смахнула тряпкой пыль с тумбочки, и перешла к ногам. И с ногами она справилась в одно мгновенье.
Потом я увидела, что губка упала в воду, и почувствовала на своей коже ее нежные, юркие от мыла руки. Медленно и вкрадчиво они прошлись по моей спине, скользнули под мышки (нужно будет срочно побрить их, подумала я) и, пробравшись под груди, которые у меня под собственной тяжестью слегка прилегали к телу, стали смело и чутко массировать и мять грудь, то пощипывая соски, то едва касаясь их скользкими ладонями, то водя чуткими пальцами по альвеоле.
— Это же гораздо лучше губки, не правда ли? — прошептала она мне в ухо и вдруг, прижавшись ко мне, начала, словно гигантской мочалкой, тереть меня всем своим скользким, упругим телом.
Это было так необычно и так прекрасно, что я даже охнула от неожиданности. Невольно подогнув ноги, чтобы как можно полнее почувствовать ее, я вдруг отчетливо ощутила волосы на ее лобке и, уже совершенно не соображая, что делаю, выпрямилась и попыталась сжать ягодицы и бедра…
Ника отодвинулась от меня и, легонько похлопав по попке, как расшалившегося ребенка, сказала с довольным смешком:
— Расслабься, расслабься, девочка…
И было непонятно, поняла она, с какой целью я напряглась, или подумала, что я зажалась от смущения. Но скорее всего, поняла. Она очень, очень многое понимала про меня. Да и про других тоже-
Потом она молча взяла меня за плечи, повернула к себе лицом и стала мыть живот, бедра, икры, присев передо мной на корточки… Потом одна ее рука скользнула между моих судорожно (уже действительно от смущения) сжатых бедер и попыталась пробраться выше, но ноги были у меня слишком сильные, и она удивленно снизу вверх посмотрела на меня.
Я, сделав над собой усилие, слегка разжала бедра и закрыла глаза, проваливаясь во что-то сладкое, запретное, стыдное, от чего каждое ее прикосновение становилось еще слаще.
Ее руки требовательно потеребили меня за коленки, пытаясь раздвинуть их еще шире. И тогда я, внутренне сжавшись, словно прыгала с моста в холодную воду, поставила, как и она, одну ногу на край ванны…
Ее рука, правда, очень медленно и чутко прошлась сверху по всем моим самым нежным местам, потом даже скользнула дальше, между ягодиц, чего я уж совсем не ожидала, и на этом все закончилось.
Ника засмеялась и поднялась.
Ну вот, а ты, глупенькая, боялась! Ведь было же не противно, не так ли?
Я молча кивнула.
Она взяла душ и тщательно сполоснула меня. Всю. Там она споласкивала особенно тщательно и со всеми подробностями. Остренькие струйки душа доставляли уже известное мне удовольствие. От того, что душ был в ее руках, ощущение было необычным и особенно сильным, и я даже пожалела, что все так быстро закончилось. Чуть раньше, чем нужно было…
Потом я споласкивала ее. И тоже в подробностях… Она, чтобы мне было удобнее, снова поставила ногу на край ванны. Я сперва осторожно, потом сильнее и сильнее поливала ее черешенку. Представляя, что она может ощущать, и, слегка забывшись, я начала водить струями вверх-вниз, но она, издав какой-то неопределенный звук, отвела мою руку с душем и, проглотив комок, с хриплым смешком сказала:
— Не шали, девочка, не шали… Сейчас быстро одеваться и за стол…
— А я уже совсем об этом забыла, — сказала я. — А у тебя есть что выпить?
— Поищем, — справившись со своим голосом, весело сказала она.
18
Она первая вытерлась, накинула прямо на голое тело свой белый, отороченный лебяжьим пухом халат и вышла из ванной, оставив мне другой, китайский шелковый, бледно-голубой, разрисованный белыми журавлями с ярко-красными ногами и черными клювами. Сперва я хотела надеть белье, но потом, вспомнив, что Ника под халатом без белья, махнула рукой и, подпоясав просторный с широкими рукавами халат витым шнуром с кистями, вышла из ванной.
В гостиной слышалась тихая джазовая музыка У Ники был высококлассный магнитофон «Грюндиг» и коллекция джазовых записей. Я узнала бархатный голос Ната Кинг Кола.
Когда я вошла в гостиную, возглас изумления помимо воли вырвался из моей груди. На огромном овальном столе, застеленном белоснежной накрахмаленной скатертью, в хрустальных кувшинах стояли цветы, горели свечи в старинных бронзовых подсвечниках.
Язычки пламени отражались в грудах черешни, в лакированных бочках спелой земляники, в антрацитовой горке паюсной икры, играли на серебряном ведерке со льдом, из которого выглядывала головка шампанского, множились в разнокалиберных бокалах и рюмках.
Кроме шампанского, на столе стояла еще целая батарея бутылок. Там был армянский коньяк «Отборный», мои любимые белые полусладкие грузинские вина «Твиши» и «Псоу».
Я тут же вспомнила, что совсем недавно мы с Никой как бы к слову разговорились о винах и я, совсем не думая, что этот разговор будет иметь прикладное значение, рассказала о своих пристрастиях. Поведала даже о том, что совсем недавно обожала «Шартрез», а теперь по известным причинам терпеть его не могу. «Шартреза» на столе не было. Среди бутылок стоял кофейный ликер и «Бенедиктин». Будучи законченной сладкоежкой, я не забыла в этом разговоре и о них.
Подойдя поближе, я разглядела вазочку с сочными крупными маслинами, круглую сырницу, в которой под стеклянной куполообразной крышкой слезился свежайший «Рокфор», и большое серебряное блюдо, на котором на листиках салата лежали горки консервированного крабового мяса, политого майонезом. Между салатными листьями был рассыпан редис вперемешку с маленькими огурчиками и веточками укропа. Мне тут же захотелось есть, словно и не было никакого банкета.
В конфетнице была груда шоколадных конфет, среди которых я опытным глазом лакомки сразу же различила шоколадные бутылочки, завернутые в разноцветную фольгу, что, несомненно, означало наличие в них различных напитков: коньяка, ликеров, наливок, рома.
Рядом с конфетами стояла тарелка с заварными эклерами, купленными явно в кондитерском магазине в Столешниковом переулке. Спутать их с какими-либо другими было просто невозможно.
— Потрясающе! — прошептала я, понимая, для чего нас дожидалась тетя Груша. — Это нужно разглядеть при полном освещении. Зажги свет хоть на минуточку. Я сперва хочу съесть все это великолепие глазами.
Но больше всего мне хотелось взглянуть на Нику, которая стояла в тени и наблюдала за моей реакцией. Я догадывалась, что она все это великолепие устроила для меня, но мне хотелось в этом убедиться, увидеть это.
Мне было безумно дорого ее внимание, ее желание сделать мне приятное. Я была словно девушка, которая долго, издалека, безответно и безнадежно любила какого-то недосягаемого и прекрасного юношу и вдруг узнала, что и он ее любит. И не просто узнала на словах, а убедилась на деле.
Я и сама предполагала, что Ника ко мне неплохо относится, но думала при этом, что закончатся наши общие дела и закончатся наши отношения… Я никогда даже не мечтала, что мы останемся близкими подружками и после ее защиты, когда моя задача будет выполнена.
То, что она создала очень хорошие условия для работы, всячески опекала меня и исполняла любые мои просьбы, было, по моему разумению, выражением здравого смысла и производственной целесообразности.
Приглашение на защиту и на банкет я расценила как выражение благодарности, как премию за мою ударную работу, потому что в коллекцию ее туалетов я вложила всю душу. То, что ей при этом удалось создать у меня ощущение полной причастности к ее торжеству я отнесла к Никиному воспитанию и чувству такта. На банкете мы были вместе только потому, что рядом с ней не было Василия.
О ее подлинном отношении ко мне я до этой минуты могла судить лишь по косвенным признакам и вот вдруг-получила, выражаясь на языке любви, неожиданное и самое настоящее признание, красноречивее которого было трудно что-либо придумать… Конечно же, мне хотелось слышать его еще и еще…
Она подошла к выключателю и зажгла люстру. Я посмотрела в ее глаза. В них была неподдельная радость. Она радовалась моим восторгам, всем прочитанным ею моим мыслям и словно говорила мне: «Чего ты, глупенькая, боялась? Разве ты не видишь, как я люблю тебя? Как я стремлюсь сделать тебе приятное, исполнить все самые сокровенные твои желания?..»
— Ну как?.. — спросила она, и в ее вопросе отчетливо прозвучало: «Убедилась?»
— Да, — прошептала я, отвечая на ее главный незаданный вопрос, — это прекрасно! Я потрясена!
— Тогда гасим электричество и начинаем, — сказала она.
19
Мы ели и пили медленно. И так же медленно таяли и оплывали свечи, так же медленно и неотвратимо подступал рассвет…
— Ты рада? — в который раз спрашивала меня она.
— Я счастлива! Я так тебя люблю! — отвечала я, любуясь огоньками, загорающимися то ли от свечей, то ли от радости в ее бездонных зрачках. — Хорошо бы так было вечно!
— Так будет! — горячо шептала она, и я уже не понимала, почему она так близко. Почему целует мою шею, почему щекочет губы лебяжий пух ее халата, а мои губы чувствуют атласную кожу ее груди и ловят ее восхитительно твердый сосок. И уж совсем было непонятно, как я очутилась на диване, а она у меня в ногах… Между бесстыдно и жадно распахнутыми бедрами, там, где все вздувалось и текло, готовое лопнуть от любого неосторожного прикосновения, и как мучительно долго не было этого последнего, решающего прикосновения, как я кричала и царапала ее затылок руками, чтобы приблизить его, как я молила, называя ее сладким, сладчайшим ежиком, и не могла блаженно сжать бедра, чтобы самой прекратить эти сладостные пытки, и как она не давала мне сделать это и проникала туда, куда не проникал никто, куда проникать нельзя, куда проникать стыдно, страшно, необычно, больно, ужасно, сильно, остро и невыносимо, неправдоподобно прекрасно, как в том кошмарном сне в больнице, как во всех смятенных одиноких снах.
Я не понимала, откуда во мне столько терпения и избыточной, не востребованной вечно торопящимися мужчинами нежности? Где она скрывалась, за какой могучей плотиной бурлила, перегорая в самой себе? И что прорвало эту плотину? Что заставляет меня мучительно медленно, почти неощутимо касаться губами ее тела, ее волос, ее нежности, продвигаясь к тому, чего я не видела до этого дня, что завораживало своим дерзким напряженным видом, из-за чего я не могла спокойно смотреть на груду черешни на столе, от чего вздрагивали мои губы, когда я брала ягодку в рот.
Я впервые узнала, как можно быть жестокой, какое наслаждение дает чужое неутоленное желание, как сладостно мучить, бесконечно, каждым движением то приближая, то отдаляя избавление. Как приятно чувствовать, что кто-то трепещет и извивается в твоих руках. Какой музыкой звучат его стоны, мольбы о пощаде и просьбы продолжать еще, еще, еще… А как приятно вдруг прерваться, и замереть в самый ответственный момент, и сжать ее руки, стремящиеся покончить с этим желанным адом…
О, эта безраздельная власть над чужим и одновременно настолько родным тебе телом, что, лаская его, ты как бы ощущаешь все эти ласки на себе, а изысканно мучая его, ты и сама стонешь и корчишься в этих мучениях…
Я чуть не сошла с ума, когда, изнуренная собственным желанием и истерзав до беспамятства ее, вдруг ощутила во рту тот самый запретный плод, к которому подбиралась уже целую вечность, эту ягодку познания добра и зла! Зла и наслаждения.
А потом мне то же самое пришлось испытать самой. Только ее ласки в этот раз были еще мучительнее и изощреннее…
Перемежая поцелуи любовным бредом, она мне шептала такие слова, от которых медленно таяло и вытекало из меня сердце:
— Я ждала тебя… Я знала, что ты есть, что рано или поздно ты появишься в моей жизни… Такая прекрасная, осененная божественным даром любви. Это самый редкий и самый прекрасный дар на свете. Он не встречается у них… Все в тебе создано для любви… Ты и жрица, и богиня, и храм любви одновременно… В тебя можно погрузиться навеки и забыть все — работу, детей, себя… Боже мой, как я боялась, что ты не отзовешься на мой призыв, на мою мольбу, что ты не поймешь меня… Еще когда эта дурочка Элка о тебе рассказывала, в моем сердце что-то шевельнулось, и я сказала, что обязательно должна тебя увидеть… Я подумала, что, не любя и не чувствуя женщин, так шить, как шьешь ты, невозможно… И я оказалась права…
Она тихонько засмеялась.
— Как ты нелепа была в своем скромном костюмчике, против которого бунтовало все твое роскошное тело. Каждым движением оно пыталось вырваться из этой скучной тряпки, освободиться… Оно уже тогда было умнее тебя… Оно всегда было умнее тебя, только ты его не слушалась… Но мне приятно было, что ты готовилась, волновалась перед встречей со мной… Волосы у тебя были прекрасно уложены, ногти в абсолютном порядке… И прелестные ноготки на ногах… Тебе говорили, что у тебя античная стопа? Конечно, нет. Кто тебе мог это сказать?
Твоя Таня — милая девочка… Только не осененная… И немножко примитивная… Но ведь тебе всегда хорошо с ней, не правда ли? Ничего не говори. Я все про вас знаю. И про ваши невинные шалости… И про случайные прикосновения. Они не в счет. Прикосновение не должно быть случайным. На него нужно идти сознательно и бесстрашно, как в атаку. Я никогда не забуду первого прикосновения, когда в первую нашу встречу я положила свою руку на твою. Она встрепенулась, дернулась и застыла, как пойманный птенец, готовый вспорхнуть при первом же удобном случае, сам не понимая для чего, ведь в ласковой и чуткой ладони ему тепло и уютно…
Это было первое настоящее женское прикосновение…
Или были другие? — Она оторвалась от моей груди, изучающе посмотрела на меня и, облегченно вздохнув, прошептала: — Да, первое.
А с какой радостью я узнавала тебя! Как ты талантлива, щедра на выдумку! Как твоя любовь настойчиво искала выхода и, найдя эту лазейку, вся воплотилась в творчестве. Какое было счастье наблюдать за тобою во время работы, видеть, как загораются твои глаза, когда ты находишь новое решение, как чувственно трепещут твои ноздри, когда у тебя начинает что-то получаться. Какая была радость день за днем убеждаться, что я не ошиблась в тебе, что твое сердце, покрытое рубцами от ран, нанесенных тебе этими грубыми и бессмысленными животными, размякает и готовится для любви настоящей…
Что хорошего было у тебя от мужчин? Что они тебе дали? Нежелание жить? Депрессию? Оскорбительные воспоминания?
Что они про нас знают? Что они могут? Что у них есть такое, чего нет у нас? Эта жалкая штуковина, которая чаще всего не слушается их самих? Если они не могут ею управлять, значит, они принадлежат ей, а не она им. Значит, они вовсе не хозяева жизни и думают не головой, а головкой своего члена. Как их можно любить? Они недостойны любви. Они и не нуждаются в ней. Им не нужна наша нежность, наша тонкость. Им нужно только отверстие… Любое… Они проникают в нас, чтобы получить свое примитивное, жалкое, торопливое удовлетворение, которое возможно даже без удовольствия… Им даже не нужно, чтобы кто-то им нравился, достаточно, чтобы эта штука у них стояла. Основная их черта — это жадность. Как голодные шакалы, они рыщут с утра до вечера, чтобы найти себе новое отверстие и, суетливо осквернив его, искать новое.
Ты сегодня постигла самую главную тайну любви. Она в самоотречении. В полном забвении себя…
Она меня убедила…
20
Проснулась я оттого, что страшно затекла и совершенно онемела рука. Я скосила глаза и то, что увидела, напугало меня. На руке лежала голова незнакомой мне женщины с ненасытным, воспаленным и оттого потерявшим свои очертания ртом, со спутанными темными волосами и резкими, хищными чертами бледного лица. С трудом я узнала в этой женщине Веронику.
Стараясь не разбудить ее, я тихонько вытянула руку из- под ее головы. Она застонала, страшно заскрипела зубами во сне и, перевернувшись на другой бок, громко задышала, пристанывая на каждом выдохе.
Отчего-то мурашки поползли по моей спине. Я выскочила в ванную и, пустив холодную воду, долго стояла под колючими струями душа. Потом чистила зубы. Зубной щетки у меня с собой не было, и поэтому я долго с каким-то остервенением терла их пальцем, выдавив на него полтюбика зубной пасты «Мятная». Но и это не дало ощущения свежести и чистоты. Мне показалось, что я утратила его навсегда.
В куче несвежего тряпья, наваленного на стиральную машину, я отыскала свое белье и сарафан, в котором вчера утром приехала в этот дом. Оделась. На цыпочках вышла из ванной и чуть не вскрикнула от страха. В дверях, ведущих в гостиную, с грудой грязных тарелок в руках стояла тетя Груша и в упор с холодным презрением смотрела на меня.
Под этим взглядом я втянула голову в плечи и попятилась по направлению к прихожей, там схватила свои босоножки и, не надевая их на ноги, выскочила на лестничную площадку, даже не захлопнув за собой дверь.
Только спустившись на два или три лестничных пролета, я услышала щелчок замка и надела босоножки.
На улице я обнаружила, что оставила там сумочку и у меня нет ни ключей, ни копейки денег на дорогу. Потом я вспомнила, что оставила там и свои шикарные туалеты и заработанные мною деньги, которые я еще не получила и о которых даже не вспоминала все это время…
Это почему-то дико рассмешило меня. Я расхохоталась так, что на меня стали оглядываться прохожие, и пошла домой пешком.
После смерти бабушки, когда осталась одна, запасную связку ключей я всегда держала у Иры, соседки по лестничной клетке.
21
Через несколько часов, когда я, еще раз приняв душ, тщательно щеткой почистив зубы и сменив белье, валялась с закрытыми глазами на диване, раздался телефонный звонок. Я знала, что это звонит Вероника, но долго не снимала трубку. Я очень не хотела никаких выяснений отношений, никаких вопросов. Да и не знала, что сказать…
Почему я на это пошла? Почему сбежала утром? Почему в ванной позволила себе так возбудиться? Ведь я тогда еще знала, где край и гибель, почему же я пошла туда? И погибла ли? Смогу ли я забыть эту ночь? И куда делась моя восторженная, романтическая любовь школьницы к своей учительнице?
А она упрямо продолжала звонить, давая мне понять, что я не ошиблась, что это именно она звонит и точно знает, что я дома. Что в конце концов я подниму трубку и объясню, почему не хочу ни видеть, ни говорить с ней. Почему, несмотря на бесконечное мытье и чистку зубов, ко мне не возвращается ощущение свежести?
Телефонные звонки звучали настойчиво и выразительно, как слова. Сперва вопросы, потом укоры, потом уговоры… Но этих телефонных слов я не боялась. Я боялась ее тихих и точных слов, всегда попадающих в цель. Против этих слов у меня не было защиты…
И все-таки я сняла трубку.
— Доброе утро, — сказала Вероника таким голосом, каким разговаривала со своими любимыми аспирантами. — Ты что, была в ванной?
— Да… — пролепетала я, чувствуя, что цепенею от ее голоса, как кролик от взгляда удава.
— Я так и подумала… Как ты попала домой?
— У соседки были мои запасные ключи.
— Разумно, — одобрила она. — Ты, надеюсь, помнишь, что мы с тобой еще не рассчитались? И, кроме того, ты у меня забыла костюм и бархатное платье…
— Разве?.. — по-идиотски спросила я.
— Да… — тихонько засмеялась она, — так мы с тобой далеко пойдем, дорогая… Какое счастье, что второй защиты не будет, а к выборам в академики я уже ничего, кроме кефира, пить не буду… Ну хорошо, ты приходи в себя, побольше пей чего-нибудь кислого и свари себе крепкого куриного бульончика, а я убегаю по делам, а то с этой защитой я всю текучку забросила… Твои вещи и деньги тебе подвезет шофер. Звони, когда отойдешь…
22
До сих пор не понимаю, как она сумела перевернуть ситуацию? Мы с ней не расстались, но и прежней близости между нами уже не было. Я, разумеется, имею в виду чисто человеческую, дружескую близость. А о тех отношениях мы с нею ни разу с тех пор не заговаривали.
Она своим необыкновенным чутьем совершенно точно поняла мое к этому отношение и все-таки сумела выпутаться из этой, казалось бы, совершенно безнадежной ситуации.
Вскоре она, как и собиралась, уехала за границу и привезла оттуда мне кучу милых пустячков. Впрочем, как потом выяснилось, точно такие сувениры она подарила Элле и еще одной их общей подруге.
Я ей еще много шила, но уже у себя дома. Перед первой примеркой я сильно напряглась, но все прошло без эксцессов, словно ничего и не было. И я еще раз поразилась ее силе воли и выдержке…
Она вскоре овдовела. Дети подросли и вместе поступили в Институт международных отношений. Причем старший специально подождал один год, чтобы они с братом могли учиться на одном курсе. Они были очень славными ребятами и держались повсюду вместе. Этим они, наверное, компенсировали недостаток родительского внимания.
Академиком ее избрали довольно быстро, в начале семидесятых годов. К тому времени она могла пить не только кефир и выглядела прекрасно, не прибавив и не потеряв ни одного сантиметра, так что, создавая ей коллекцию к этим торжествам, я новых обмеров не делала.
На банкете рядом с ней сидела ее любимая ученица, чем- то похожая на меня в молодости. Одежду ученице шила тоже я.
В те же годы прошло много громких политических процессов. Главным экспертом по определению психического состояния диссидентов была Вероника.
Ее бывшая швея Надежда Ивановна до сих пор работает со мной. Мы ей нашли славного мужа, построили кооперативную квартиру. А когда наступила перестройка, оказалось, что это не она у меня, а чуть ли не я у нее работаю в качестве модельера. Она оказалась гением организации, и мы с ней создали огромную фирму по моделированию и производству модной одежды.
В какой-то момент я даже засомневалась: не Ника ли написала это загадочное письмо. Все, что мне предлагалось в нем: деньги, дома, машины, яхты, — она имела. «Гнездышко» свое она отремонтировала, и, по слухам, превосходно. Мне наверняка понравилось бы, с усмешкой подумала я. А от мужского лица она ко мне обращается, чтобы, по обыкновению, запутать меня…
Но очень быстро я отогнала от себя эту игривую мыслишку…
ОДИННАДЦАТЫЙ (1956 г.)
1
Все началось с того, что Таньке в ее шальную голову пришла очередная гениальная идея. Она решила, что мы должны сшить к зиме по каракулевой страшно модной шубке типа манто.
— Сколько можно ходить в бабушкиной дохе? — наседала она на меня.
— Но сейчас же лето, июль на дворе, опомнись! — попыталась урезонить ее я.
— Готовь сани летом, а телегу зимой, — отразила она народной мудростью мои нападки. — К зиме все это будет в два раза дороже.
Изюминка ее плана была в том, что она познакомилась с неким Додиком, который работал начальником почтового вагона на поезде «Москва — Ташкент» Казанской железной дороги.
В свободное от руководства вагоном время Додик занимался тем, что скупал в Москве ковры и отрезы и вез в Ташкент. Там он это выгодно продавал, а на вырученные деньги покупал выделанные шкурки каракуля без печатей. Из этих шкурок его знакомый скорняк подбирал и шил шикарные расклешенные шубы типа манто. Остальное Додик сдавал в меховое ателье, где у него тоже работали знакомые.
Я вяло сопротивлялась. Все мои аргументы против этой затеи, кроме приведенного выше, сводились к пресловутой печати… Дело в том, что на всех шкурках, которые выделы- вались на государственных предприятиях, печать эта стояла, а шкурка без печати на изнанке считалась нелегальной и, стало быть, такая покупка могла вызвать вопросы в известных органах.
Выделка этих шкурок, приобретение, хранение и изготовление из них скорняжных изделий считались незаконными и вели к наказанию различной степени тяжести. Это зависело от характера и размаха твоего преступления. Но конфисковывали эти шкурки или изделие из них обязательно. Когда же дело было поставлено на широкую ногу, то конфисковывалось и все остальное имущество.
— Ты думаешь, что на каждом углу к тебе будет подходить милиционер, задирать подол твоего шикарного манто, отпарывать подкладку и смотреть, есть печати на шкурках или нет? — ехидно спросила меня Татьяна.
— А если что-то случится во время шитья? Купим мы шкурки, принесем домой, а к нам милиция… Откуда у вас шкурки, девочки?
— Нашли.
— А если они по качеству хуже государственных?
— Они лучше!
— Почему?
— Спекулянты сами смотрят за качеством, чтобы к ним не было никаких претензий!
— Но почему не купить точно такие же шкурки в магазине и не сшить то же самое манто, но совершенно легально?
— Конечно, у тебя богатые заказчицы, Маша, ты можешь себе позволить все что угодно, а на мою стипендию не разбежишься… — обиделась Татьяна. — Мне и так после этого нужно будет полгода долги отдавать…
— Ну хорошо, — сказала я. Этот аргумент меня добил.
— А если мы купим сразу много, то можно будет сбить цену, — мечтательно сказала Татьяна.
2
Все оказалось не так-то просто. Сперва мы ходили на Казанский вокзал, пробирались по путям в нужный почтовый вагон, долго ждали Додика, который отошел на минуточку. Потом он пришел, но оказалось, что товара у него не больше чем на детскую шубейку, и то шкурки были различные по качеству и расцветке, хотя две из них, темно-золотистые, мне очень понравились и натолкнули на одну конструктивную мысль. Мне сразу же захотелось сделать на просторном трапециевидном силуэте маленький воротник стоечкой. Вернее, даже хомутиком. А еще точнее, отложной широкий воротничок, который при желании мог с помощью двух невидимых крючочков собираться в элегантный хомутик, а в просто поднятом виде смотреться как испанский средневековый воротник.
Ради осуществления этой смелой идеи я могла пойти на все!
Додик пытался нас угостить портвейном из зеленого эмалированного чайника и намекал на то, что можно получить значительную скидку, если познакомиться с ним поближе. Был он коренаст, рыж, непоседлив и очень напорист. Переглянувшись, мы от значительной скидки решительно отказались. В конце концов я готова была пойти на все ради идеи, а не ради скидки.
Додик обещал привезти нужное нам количество «материала» следующим рейсом. Несколько раз он назначал нам встречу дома, где нас встречала его жена с рыженьким смеющимся младенцем на руках.
У него были две смежные комнаты в огромной коммунальной квартире, коридоры которой терялись где-то во мраке. Мы ждали его в гостиной, обставленной новехоньким, еще пахнущим мебельной фабрикой гарнитуром.
Жена, не снимая младенца с левой руки, правой подавала нам жидкий чай и обещала, что Давид Моисеевич обязательно придет.
Два раза мы его прождали зря. В первый раз он вообще не пришел до одиннадцати. Мы посмотрели у него по телевизору «Утраченные грезы» с Сильваной Пампанини и в одиннадцать ушли. Второй раз просидели всего час, потому что он догадался позвонить домой и предупредил, что придет очень поздно. Но задаток попросил оставить.
Вся сложность была в том, чтобы найти необходимое количество шкурок нужного для меня медвяного цвета. С Татьяной все было гораздо проще. Она хотела короткую шубку из серого каракуля. Мы оставили деньги.
Еще раз десять мы с ним созванивались, и наконец он объявил, что товар на месте, то есть у него дома, и что он приглашает за ним прийти сегодня, «не позже семи часов…
— Ко мне сегодня кое-какая кинематографическая общественность заглянет на чаек, так что прошу составить компанию… Ничего особенного, семейный вечер со знаменитостями! Софочка торт испечет, так что приходите. Вы ей уже стали как родные. Она к вам привыкла! — Он суетливо захихикал в трубку.
— Как-то неудобно… — сказала я. — Мы там никого не знаем. Может, мы пораньше, до гостей зайдем?
— Как неудобно? Очень удобно! Кто знает, кто вы такие? А вдруг вы мои родственницы? Неудобно будет, если вы не придете и эти киногерои будут ухаживать за моей Софочкой и отвлекать ее от ребенка! И слушать ничего не хочу.
Что тут оставалось делать? Мы решили, что он просто хочет угостить своих именитых гостей хорошим женским обществом и, может быть, даже заранее им это общество обещал. Ничего плохого мы в этом не усмотрели и согласились.
Явились мы к нему, как школьницы, ровно в семь, успели полюбоваться нашими шкурками, полностью за них расплатиться и завернуть их в бумагу. Тюки образовались такие большие, что стало ясно — придется везти их на такси, хотя от Додика до наших домов было не так далеко. Он жил на улице Мархлевского, это между улицей Кирова и улицей Дзержинского, бывшей и нынешней Лубянкой.
— Только при гостях о делах ни слова! — строго предупредил Додик.
— Что же мы, не понимаем? — сказала Татьяна.
3
Кроме нас пришли еще две весьма взрослые пары — почтовое начальство Додика. Это мы поняли по тому, как он перед ними заискивал. Не было сомнения, что это их он угощал знаменитостями.
Кинодеятели пришли в половине восьмого. Один из них был довольно популярный в те времена молодой актер, приходившийся каким-то дальним родственником Додику, а второй был сценарист. Тот самый, который был у меня на свадьбе. Мы с Татьяной переглянулись.
Додик представил нас весьма неопределенно.
— А это наша Машенька и наша Танечка, — сказал он, делая в нашу сторону широкий, непонятно что обозначающий жест рукой.
Артист бросился целовать нам ручки, а сценарист, пожимая нам руки, пробормотал:
— Мы, кажется, знакомы…
— Кажется, знакомы, — подтвердила я, а Татьяна покраснела. Она еще переживала за тот концерт, который устроила на свадьбе.
Вечеринка прошла, как обычно проходят подобные вечеринки. Актер без умолку говорил, а потом, выпив, начал петь под гитару, которую Додик благоговейно вынес из другой комнаты и вручил почему-то сценаристу. Тот весь вечер мрачно молчал и пил, натужной улыбкой отвечая на похвалы его фильмам и спектаклям, которые только в Москве, оказывается, шли в трех театрах.
Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Ему не нравились гости Додика. Не нравился и сам Додик, которого он, судя по всему, видел впервые в жизни. Даже на нас он косился с каким-то неодобрением. Татьяна это принимала на свой счет и жутко огорчалась.
Он сидел с правой стороны от меня и за весь вечер даже ни разу не посмотрел в мою сторону.
Когда были спеты хором неизбежные «Тишина», «Ландыши» и «Песня первой любви», когда киношные истории и хохмы актера начали иссякать, разговор неизбежно скатился на политику и перешел на таинственный полушепот.
В феврале этого года прошел исторический XX съезд КПСС, на котором партия вскрыла и осудила культ личности. Потом по партийным организациям прошли читки закрытого письма ЦК КПСС, в котором подробно рассказывалось о преступлениях, творимых Сталиным и его приспешниками.
Все гости с таким пылом принялись обличать культ личности, будто они всегда о нем знали и только нехватка времени мешала им разобраться с этим проклятым культом и с самой личностью.
Сценарист их песни слушал с едва уловимой ироничной улыбкой, а когда они заговорили о Сталине, начал кривиться так, словно у него заболели зубы, и чаще подливать себе коньячку, тяжелея с каждой минутой прямо на глазах.
Мне почему-то стало тревожно за него. Я склонилась к нему и чуть слышно сказала:
— Уж лучше бы они пели…
— Выпьем? — шепнул он мне в ответ.
Я кивнула. Он потихоньку налил и, беззвучно чокнувшись со мной, понес было рюмку ко рту, но был застукан бдительным Додиком.
— А теперь слово для тоста предоставляется нашему выдающемуся сценаристу! — проорал он и почему-то встал. Его примеру машинально последовали и остальные гости. Пришлось и нам с Татьяной подняться. Сценарист с рюмкой в руке затравленно оглядел стол и, дернув ртом, поднялся.
— Давайте выпьем за то, чтоб все тайное всегда становилось явным… — сказал с кривой ухмылкой сценарист и в упор посмотрел на Додика. Тот побледнел и забегал глазами.
Все, серьезно покивав, выпили и сели. Остался стоять сценарист.
— Вы, конечно, помните гайдаровского Мальчиша-Кибальчиша? — спросил он с вкрадчивой улыбкой. Я заметила, как дрожит и расплескивает коньяк его рука. Мне показалось, что сейчас что-то произойдет, и я невольно взяла его за другую руку. Он посмотрел на меня и еле заметно качнул головой, словно хотел сказать: «Не беспокойся, я в порядке».
— Конечно, знаем, — расплылся в улыбке актер, готовясь услышать шутку.
— Вы помните; как его поймали буржуины и пытали, стараясь узнать его главную тайну?
— Обязательно помним! — за всех ответил актер. — Я сам играл Мальчиша в пионерском лагере.
— Вы помните, что, по Гайдару, он ничего не сказал и противные буржуины умылись… Но на самом деле все было не так, и это будет отражено в следующем письме ЦК КПСС, посвященном исправлению злонамеренных искажений нашей истории. Письмо уже готовится и в последнем квартале будет разослано по первичным партийным организациям. Там, разумеется, речь будет идти не только о Мальчише, который, как выяснила прогрессивная историческая наука, был реальной исторической личностью. Так что же в действительности произошло в те далекие годы Гражданской войны?
За столом стояла мертвая тишина. Сценарист под взглядами заинтригованных гостей ловко хлопнул рюмку коньяку, неторопливо зажевал ломтиком лимона, сел, поставил рюмку на стол, вытер салфеткой облитую коньяком руку и продолжил:
— Мальчиша действительно поймали и начали жутко пытать. «Открой нам главную тайну!» — кричали ему в лицо буржуины и брызгали ядовитой слюной. А Мальчиш гордо вскидывал голову и кричал им прямо в их жирные, мерзкие хари: «Не открою. Хоть убейте!» Уже под все ногти загнали ему иголки безжалостные буржуины, а он в ответ упрямо твердил: «Не открою!» Тогда главный буржуинский палач выжег ему на груди пятиконечную звезду. Но гордый Мальчиш твердил свое: «Не открою!» Тогда палач на спине вырезал ему точно такую же звезду, но и тогда Мальчиш не сдался. И тогда буржуины пошли на неслыханную хитрость. Они собрали с окрестных деревень немощных старух и грудных детей — всех, кто не ушел на войну, и поставили перед Мальчишом. «Говори свою тайну, Мальчиш, — гадюкой прошипели буржуины, — а не то мы погубим всех старух и детей». И упала гордая голова Мальчиша на грудь. «Отпустите старух и детей, — прошептал Мальчиш. — Я открою вам эту тайну». Буржуины тут же отпустили старух и детей и окружили Мальчиша плотным кольцом. Каждому из них хотелось схватить эту важную тайну и первым прибежать с ней к верховному правителю, чтобы подороже продать. И поднял Мальчиш свою гордую голову, сверкнул очами и прокричал на все ущелье: «Жрать я хочу! Вот моя главная тайна! И таких, как я, миллионы! Всех не перевешаете! Убьете меня, за мной придут другие голодные! И так будет всегда, потому что мы землю нашу возделываем штыком. И ничто нам не любо, кроме поля битвы при лунном свете…» И устрашились буржуины этой ужасной тайны, задрожали и утащили свои жирные тела в каменные джунгли, где постоянно тепло и сыро! И победил их Мальчиш, открыв им самую главную нашу тайну. С тех пор плывут пароходы — привет Мальчишу! Дымят паровозы — привет Мальчишу! Ну и далее по тексту…
Сценарист неторопливо вылил из бутылки остатки коньяка себе в рюмку и выпил.
За столом все ошарашенно молчали, не зная, как реагировать на слова сценариста. Даже актер, совсем уже приготовившийся рассмеяться, только гмыкнул и втянул голову в плечи.
Первым пришел в себя Додик. Он выдрался из-за стола и, включая магнитофон на полную мощность, закричал:
— Танцы! Все танцуют буги-вуги! Девочки наши засиделись!
Красавец актер тут же пригласил Татьяну, а Додик — жену одного из своих начальников. Бедняжка так смутилась, что чуть не опрокинула стул. Видно, она давно уже ни на что не рассчитывала…
Сценарист тоскливо посмотрел на пустую коньячную бутылку. Вторая, почти полная, стояла на другом конце стола около начальства. Я перехватила его взгляд.
— Хотите, я попрошу их передать сюда бутылку? — сказала я ему вполголоса.
— А ну их к черту! — мрачно и громко сказал сценарист.
Начальники посмотрели в его сторону такими взглядами, точно хотели запомнить его лицо навсегда. Тогда он с издевательской улыбкой поклонился им и тихо сказал мне уголком рта:
— Давайте смоемся отсюда.
— Давайте, — тихо ответила я.
— Уйдем по-английски, — тихо сказал он, любезно улыбаясь хозяйке, вносившей огромный круглый торт, усыпанный орешками.
— Как это? — спросила я, непроизвольно следя за тортом глазами.
— Ни с кем не прощаясь, — пояснил сценарист.
— Храбрый народ эти англичане, — сказала я. Тогда еще мало кто знал об этом обычае.
— Я выйду первым и подожду вас на улице, — оглянувшись по сторонам, таинственно прошептал сценарист.
— Действуйте, — не менее таинственно ответила я.
Гори оно все огнем, подумала я, когда сценарист исчез, но без торта я не уйду.
Дождавшись, когда Софочка разрежет торт, я взяла самый маленький кусочек себе и побольше Татьяне и, приманив ее тортом, шепнула, что ухожу, что за шкурками приду завтра, и попросила предупредить об этом Додика.
Торт оказался невероятно вкусным. Верхняя половина его была белая, а нижняя черная. Я хотела было взять кусок с собой, но после некоторых раздумий с огромным сожалением решила, что это неудобно, и выскользнула из комнаты.
План мой был прост. Туалет в этой гигантской квартире был недалеко от входной двери. Я сперва забежала туда, что было совсем не лишним перед еще неведомыми приключениями, потом, осторожненько выглянув в щелку и убедившись, что в коридоре никого нет, выбралась из квартиры, побежала по полутемной лестнице, совсем забыв про лифт.
4
Со страшным грохотом я летела по полутемной лестнице, и искры сыпались из-под моих подбитых стальными подковками каблучков. Зрелище было еще то. Я думала, что он стоит на улице, а он притаился на подоконнике между вторым и третьим этажом. И очень кстати! Я споткнулась, потеряла ритм и уже летела вниз, не разбирая дороги, через две ступеньки на третью, и непременно вылетела бы в окно, если б он не раскрыл мне навстречу объятия.
— Боже мой, — прошептал он, крепко прижимая меня к себе. — Ко мне еще никогда женщина так не спешила… Вы как комета с огненным хвостом. Я боюсь отпустить вас, боюсь, что вы понесетесь дальше в свои бескрайности… Как удержать вас?
— А разве комету можно удержать? — бурно дыша, спросила я. — Ведь когда комета сталкивается с любым твердым телом, она взрывается…
Он покачал головой, щекоча мне шею своими щегольскими усиками.
— Ее можно удержать в памяти, но…
— Что но? — Я шевельнулась, как бы желая освободиться от его объятий.
— Нужно, чтоб было что вспомнить… — прошептал он, и не думая меня выпускать.
— Разве вы запоминаете падающую звезду, когда случайно видите ее в ночном небе?
— Это же все метеоритная пыль… А настоящую комету я бы действительно запомнил…
— Пролетевшую мимо?
— Нет… Столкнувшуюся со мной… С моим твердым телом…
— С очень твердым… — не без оснований прошептала я и не успела ничего добавить, проваливаясь в какой- то бесконечный, сумасшедший, почти бессознательный, огненный, словно тот первый, настоящий, морозный, пахнущий снегом, мандаринами и крепким табаком поцелуй…
Не знаю, сколько времени он продолжался… Очнулась я оттого, что моей груди как-то необычно легко и ее беспрепятственно ласкают его нежные и настойчивые руки. Каким образом он смог незаметно проникнуть под платье через пройму рукава и расстегнуть три крошечных крючочка лифчика, я до сих пор не понимаю.
Пьяной я не была. Я не влюбилась в него с первого взгляда! Я даже не воспринимала его как возможного героя моего романа. Я знала, что он женат, успешен, избалован славой, а значит, и вниманием женщин, но в тот момент я действительно потеряла голову, как та пятнадцатилетняя девчонка под елкой около детского садика…
Все, что происходило потом, я помню смутно, отрывками, без связи одного с другим. Только что мы стоя целовались, а потом он вдруг сидит на низком мраморном подоконнике, а я стою перед ним…
— Сумасшедший… — шепчу я. — Сейчас кто-нибудь выйдет.
— Пусть… — бормочет он.
Зарывшись головой под широкий подол платья, он целует мой живот, одновременно лаская бедра, ягодицы и стягивая с меня трусики… Я сопротивляюсь и изо всех сил сжимаю бедра, чтобы не позволить стащить их с себя и не пустить его руку выше… Потом, чувствуя, что к добру это не приведет, я расслабляюсь… Трусики цепляются за проклятую подковку на каблуке и я, перегнувшись назад, снимаю их вместе с туфлей, которая падает и отлетает куда-то в сторону. Он нашаривает ее и, прежде чем надеть, целует мою ногу… Каждый пальчик в отдельности… Потом я сижу у него на коленях спиной к нему, накрыв его широким подолом. Он ласкает мою грудь, а я чувствую там, внизу, его и впрямь очень твердое тело и, чуть привстав, пытаюсь забрать его в себя, и это мне наконец удается… Это какая-то мистика, но я как тогда, на ледяном троне, чувствую мгновенную сладостную боль и почти теряю сознание от самого настоящего взрыва чувств и ощущений… Последнее, что я помню, это его сдавленный стон…
Мы оба пришли в себя от звука открываемой входной двери. Кто-то медленно подошел к лифту. Загудел на чердаке электромотор. Со страшным скрежетом и скрипом поползла вниз темная кабина.
Я вскочила с его колен.
— Где мои трусики? — прошептала я ему в ухо.
— Тсс-с… — Он прижал палец к губам.
Лифт спустился, громыхнули двери, и кабина, уже освещенная, поползла вверх. Какой-то мужчина с седой бородой стоял в ней с закрытыми глазами и шевелил губами, словно что-то напевал или молился…
Едва кабина миновала нас, как мы брызнули на улицу.
— Так где же мои трусики? — все еще шепотом спросила я на улице.
— У меня в кармане… — улыбнулся он.
5
Потом мы шли по улице Дзержинского и свернули на Пушечную. Потом вышли на Кузнецкий мост. Я понятия не имела, куда мы идем, но у него, оказывается, уже был план…
— Я очень хочу вам спеть, — сказал вдруг он. — Я время от времени сочиняю песни…
— Так в чем же дело? Пойте! — засмеялась я.
— Нет, это не такие песни… Их нельзя петь на ходу… Нужна гитара, обстановка… Подождите, я сейчас… — Он заскочил в телефонную будку и начал яростно накручивать диск.
Он прозвонил все свои пятнашки. Потом я выгребла свои. Потом мы стреляли пятнашки у редких прохожих, даже у милиционеров.
— Я схожу с ума от мысли, что там на тебе ничего нет… — сказал он, кладя руку на мой лобок.
— Меня это тоже жутко возбуждает… — призналась я. — Так что лучше отдайте их мне.
— Ни за что! — засмеялся он и, страстно погладив себя по внутреннему карману пиджака, побежал к очередной телефонной будке.
Через минуту он вышел из нее, раздраженно хлопнув стеклянной дверью. Видно, ничего у него не получалось. Из каждой следующей будки он выходил все мрачнее и мрачнее…
Таким образом часам к двенадцати мы дошли до Пушкинской площади, до ресторана ВТО.
А там веселье было в самом разгаре. Недавно закончились спектакли в театрах, и актеры только начали расслабляться.
Нас тут же пригласили за столик, притащив откуда-то дополнительные стулья. Официантка Лида принесла еще две бутылки коньяка, на которые, очевидно, и рассчитывала пригласившая нас компания. Все уже были навеселе, говорили сценаристу «ты», хлопали его по плечу и рассказывали последние анекдоты.
Сценарист громко хохотал, с убийственным остроумием рассказал о дурацкой вечеринке, откуда мы с ним сбежали, уморительно показывая чванливое почтовое начальство, их церемонных жен, испуганную навсегда Софочку и как окаменел спекулянт Додик, когда он пожелал в тосте, чтобы все тайное стало явным…
— Кстати, — воскликнул он, озорно подмигнув мне, — вы знаете подлинную историю Мальчиша-Кибальчиша?..
Мы еще долго пировали. Сценарист все время отводил от стола то одного собутыльника, то другого и подолгу о чем- то шептался с ними. Временами он смотрел на меня и многозначительно похлопывал себя по внутреннему карману пиджака. Я жутко краснела. Ему это нравилось.
— Представляешь, что бы началось, если б они узнали, что у меня здесь лежит?.. — спросил он, склонившись ко мне.
6
Часа в два ночи мы оказались в маленькой комнатке в Настасьинском переулке. Нас туда привел старый знакомый сценариста, эстрадный конферансье. У него была странно вытянутая, как у Фернанделя, физиономия, маленькие плутоватые глазки и светлая курчавая шевелюра. Мне он представился Рудольфом. Сценарист называл его Рудиком.
Когда сценарист этого не видел, Рудольф тайком подмигивал мне и делал какие-то знаки. Я же делала вид, что не понимаю их.
Нашлась и гитара. Но сценарист капризничал и не пел, хоть Рудик очень настойчиво просил его об этом.
— Я сегодня спою только для моей кометы!
— Странное имя! — осклабился Рудик.
— Это не имя! Это — ее огненная сущность! — поднял палец к потолку сценарист.
— Другими словами — позвольте нам выйти вон? — поинтересовался Рудик.
— Ты же все равно не уйдешь, пока мы не допьем коньяк, — печально сказал сценарист, сбивая сургуч с бутылки.
— Инженер человеческих душ! — воскликнул Рудик, как завороженный глядя на бутылку и потирая руки.
Сценарист очистил от сургуча горлышко и несколькими легкими, я бы даже сказала, любовными шлепками согнутой ладони по донышку бутылки выбил пробку и разлил весь коньяк в три граненых стакана, с готовностью подставленных Рудиком.
Рудик взял стакан, оттопырив мизинец и, вращая вытаращенными глазками, с ужасом произнес:
— Коньяк? Стаканами? В два часа ночи? С удовольствием!
И залпом опрокинул полный стакан в широко открытый рот. После этого он показал нам, где кофе, где кофейник, где чашки, предупредил, что старуха соседка глуха, как пень, показал, в какой ящик кухонного столика нужно бросить ключ, и уехал к жене, на прощанье незаметно подмигнув мне и покивав почему-то на мою сумочку.
Сценарист не спеша отпил глоточек из своего стакана, взял в руки гитару, долго настраивал ее, а потом запел своим странно-тягучим, завораживающим баритоном про облака, которые плывут туда, откуда мало кто возвращается…
Он пел свои едко-грустные песни, и мне все время хотелось плакать…
Потом мы грустно и неспешно любили друг друга. Он был усталый и нежный. И я подумала, что хорошо бы было его усыновить, чтобы он все песни нес ко мне и рассказывал о всех своих любовных неудачах…
Когда я сказала ему об этом, он тихо засмеялся.
7
На улице уже было светло, когда мы по Тверскому бульвару возвращались домой.
Он мне с усталой иронией объяснил, что муж, явившийся до Гимна Советского Союза по радио, считается ночевавшим дома.
Он очень удивился, но промолчал, когда мы свернули с Тверского бульвара не направо к Малой Бронной, а налево, к моему дому.
Около подъезда он было остановился.
— А если там на лестнице бандиты? — сказала я с усмешкой, начиная понимать, какая ошибка была заложена в ушедшую ночь.
Он вопросительно посмотрел на меня, но покорно вошел со мной в подъезд, поднялся по лестнице.
Я открыла свою дверь и посторонилась, пропуская его вперед. Ему ничего не оставалось, как войти.
— Вот здесь я живу… — сказала я, проводя его в гостиную. — Хотите кофе?
Заглянув в спальню и в бывшую бабушкину комнату, он вдруг захохотал.
— А где же муж, мой сосед с Малой Бронной?
— Мы давно развелись.
— Так какого же черта я полночи искал, куда приткнуться?
— Я не знала, что только в этом проблема. Я думала, что у вас какие-то серьезные дела. Вы так нервничали…
Он снова захохотал.
— Ну так что насчет кофе? Может, яичницу с помидорами? Я хорошо умею.
Он подошел ко мне, бережно взял в ладони мою голову и нежно поцеловал в губы.
— Спасибо, девочка! Эта ночь ни в каком продолжении не нуждается.
И ушел.
Мы с ним больше ни разу не встретились даже случайно.
Выспавшись, я вспомнила про свои шкурки и полезла в сумочку за телефоном Додика. В сумочке сверху лежал листок, вырванный из записной книжки с буковкой «Я». На нем был номер телефона и размашистая подпись «Рудольф» и «Позвони!!!!!!!». Именно так с семью восклицательными знаками. Я мелко порвала эту записку и, найдя в записной книжке телефон Додика, сперва набрала номер Татьяны, чтобы скоординировать наши действия.
Сонная Танька никак не могла понять, что я от нее хочу. Потом мы договорились, что я созваниваюсь с Додиком, назначаю время и перезваниваю ей.
У Додика долго не подходили к телефону. Потом трубку взяла насмерть перепуганная Софочка. Запинаясь и путаясь в словах, она дрожащим голосом рассказала, что в семь утра к ним пришли трое из органов с ордером на обыск и с двумя понятыми из соседей и пять часов подряд что-то искали. Что они перерыли все книги и все требовали какую-то литературу… Когда нашли запакованные шкурки и деньги, то очень удивились и вызвали людей из других органов…
И шкурки, и деньги, и все ценности, включая и ее каракулевую шубку, которую они только что пошили, они увезли. Мебель описали… Что делать, она не знает…
Мы с Татьяной тоже не знали!
8
Сценариста давно нет в живых и, конечно же, он не мог прислать мне букет цветов в мое шестидесятилетие, хотя, будь он жив, то от него можно было бы ожидать чего угодно. Он был способен на самый великодушный и красивый поступок.
Он умер за границей, в чужом городе, кажется, в гостиничном номере при загадочных обстоятельствах. Наши газеты дружно писали, что это несчастный случай, но чего бы им так захлебываться, если это просто несчастный случай с человеком, которого выперли насильно из Союза и о котором логичнее было бы не вспоминать. Особенно если он так удачно умер от несчастного случая. Так нет же, не было, кажется, газеты, не упомянувшей об этом случае с каким-то плохо скрытым злорадством. Мол, собаке собачья смерть… Оставалось добавить, что так будет со всяким, кто посягнет… Мол, на каждого такого у нас найдется свой несчастный случай…
Но не вспомнить о нем я не могу, потому что без него не будет для меня полной картина мира. Потому что воспоминание о нем мне особо дорого и бережно мною хранимо. Потому что я жутко бесилась, когда газеты дружно облаивали его перед высылкой за границу, и плакала, когда узнала, что он умер.
ДВЕНАДЦАТЫЙ (1956 г.)
1
В результате этой блистательной операции со шкурками мы с Татьяной остались без шуб и, что самое обидное, без денег, на которые можно было бы махнуть на юг.
Лето кончалось. Настроение было ужасное. Вот когда я по-настоящему пожалела о деньгах, проигранных Митенькой на бегах. Я сказала об этом Татьяне. Мы сидели в беседке у нее на даче и пили чай из самовара, растопленного еловыми и сосновыми шишками. После таких чаепитий от нас пахло дымом, как от партизан. Любой немецкий патруль нас арестовал бы.
Вились уставшие за лето комары. Где-то сипло гудела электричка. Зинаида качалась в гамаке, повешенном между двух толстенных лип. Татьянина мама ходила по двору с веником, подметала еще редкие желтые листья и ворчала, что никому ни до чего нет дела. По проулку как угорелый носился на велосипеде соседский мальчишка Волик и оглушительно бренчал велосипедным звонком. Как известно, противнее этого звука нет ничего.
— Уж лучше бы мы сами проиграли эти деньги… — тихонько сказала Татьяна и спросила: — А много он проиграл?
Я поняла, что чуть не проболталась о деньгах Алексея, и сказала с равнодушным видом: — Все, что было дома… Свою зарплату и мои заработки… У меня тогда как раз хороший заказ был…
— Паразит он! — в сердцах сказала Татьяна.
— Все они паразиты! — подтвердила из своего гамака Зинаида. Она недавно пустила к себе одного разведенного таксиста и была очень горда им. Водила по знакомым и родственникам и представляла уже как своего мужа. Он всем очень нравился, потому что был самостоятельный и обходительный человек. Дело шло к свадьбе. Зинаида уже обговаривала со мной по телефону фасон подвенечного платья, как в один прекрасный день он в одной рубашечке вышел на минутку из дома, чтобы заправить машину, и пропал навсегда.
— Все они паразиты и сволочи! — с удовольствием повторила Зинаида. — О ком. вы?
— О Митечке прекрасном! — пояснила Татьяна.
— Больной человек! — авторитетно прокомментировала Зинаида. — Я его недавно видела около бильярдной в парке Горького… Одетый шикарно! Видать, опять в выигрыше…
— Да? — задумчиво переспросила Татьяна.
Я не обратила на это внимания. А зря. Через три дня Татьяна, запыхавшаяся, с вытаращенными глазами ввалилась ко мне, закрыла за собой дверь на цепочку и, тяжело дыша, плюхнулась на старое полукресло в прихожей, заваленное шарфами, косынками и авоськами, и протянула мне бумажный пакет, в которые в гастрономе отвешивают сахарный песок.
Что с тобой? Что это? — спросила я, обеспокоенная ее невменяемым состоянием.
— Обещай, что не будешь ругаться, — все еще не переведя дух, сказала она.
— Ничего я тебе обещать не буду, — строго сказала я, предчувствуя неладное.
— Я же для тебя, для дуры, старалась, — обиделась Татьяна и спрятана пакет за спину.
— Ну и чем ты еще меня облагодетельствовала? — подозрительно спросила я и принюхалась. От Татьяны явственно пахло спиртным.
Татьяна вдруг без всякого перехода зарыдала. Я, конечно, бросилась ее утешать, обнимать, гладить по головке и вытирать слезы и сопли первой подвернувшейся под руку косынкой.
— Ты думаешь, мне было легко? — сквозь рыдания еле выговорила Татьяна. — Я, может быть, его до сих пор люблю… А он это знает… — Рев ее усилился.
— Кого ты любишь? — Я никак не могла связать нашу досужую болтовню в Валентиновке три дня назад с теперешней ее истерикой.
— Д-дмитрия… — проревела Татьяна. — Он меня в постель тащил…
— Какого Дмитрия?
— Твоего…
Когда я откачала ее лошадиной дозой валерьянки, она наконец рассказала мне все…
2
Оказывается, после нашего разговора в беседке, услышав от Зинаиды, что Митечка опять франтит и, стало быть, в выигрыше, Татьяна сочла такое положение дел несправедливым и скрепя сердце направилась к нему. Тем более что считала себя виноватой в моей неудачной семейной жизни.
Митечка, как и следовало того ожидать, принял ее по- царски. Как известно, нет щедрее и великодушнее людей, чем игроки, когда они в большом выигрыше. Так же, как нет более ничтожных, жалких и лживых, когда они в долгом проигрыше.
Там были и цветы, и шампанское, и роскошный шоколадный набор, и икра, и коньяк. В общем, Митечка умеет поразить воображение, когда захочет…
Татьяна хотела прямо с порога выложить свои претензии, но Митечка не дал ей и рта раскрыть, усадил за стол и стал всячески обхаживать.
Татьяна от волнения пила шампанское целыми фужерами. Через час она уже не знала, как приступить к разговору. А тут еще он поставил пластинку и пригласил ее танцевать…
Он, очевидно, решил, что она пришла к нему не по какому-то делу, а просто так… А дело она просто выдумала, чтобы был повод…
Они немного потанцевали, и Татьяна совершенно недвусмысленно почувствовала, что Митечка не на шутку распалился. Больше того — страшно смущаясь, Татьяна призналась мне, что и сама не на шутку завелась и потеряла контроль над собой. Что опомнилась она, когда он в бешеном поцелуе подтащил ее к кровати и стал постепенно укладывать, не прекращая целовать. И тогда Татьяна, понимая, что еще секунда и все ее дело лопнет, собрала в кулак всю свою волю и выскользнула из-под него…
Впрочем, этот момент, судя по волнению, с которым она его рассказывала, не представляется мне окончательно проясненным, но мне не хотелось бы докапываться до истины. Мне, в общем-то, все равно, к Митечке я уже давно ничего, кроме чувства жалости, не испытывала, но для Татьяны это все по-прежнему важно.
По Татьяниной версии, она очухалась, привела себя в порядок, умылась и, вперив в него инквизиторский взгляд, выпалила фразу, которую готовила два дня:
— Дмитрий Владимирович, дела, как видно, идут у вас хорошо и в средствах вы стеснения не чувствуете?
— Да, да… — закивал головой бедный Митечка, — я понимаю, о чем вы говорите… Конечно, конечно… Я и сам собирался ей позвонить на той неделе, когда соберется нужная сумма, но пока вот возьмите то, что есть…
И с этими словами он лезет в верхний ящик письменного стола, где мы всегда с ним держали деньги, достает тот самый бумажный пакет из-под сахара и протягивает Татьяне. Та заглядывает в него, и ей чуть дурно не делается. Там лежат две пачки сотенных купюр в банковской упаковке.
— Вот, — бормочет Митечка, — это все, что я пока собрал… Передайте Марии Львовне, что мне еще много должны и обещали отдать на той неделе… Как только соберется вся сумма, я дам ей знать… Или вам, Танечка, если Маше неприятно меня видеть…
И тут, освободившись от этого щекотливого момента, он начал молоть какую-то лирическую чепуху и вспоминать былые школьные денечки, кафе-мороженое на Арбате и все такое прочее, хорошо известное по предыдущей истории. Но Татьяне уже было не до лирики. Ее мучил и пугал вопрос — откуда у меня такие деньжищи?
Пришлось ей все рассказать.
Она испугалась еще больше.
— А Дмитрий знает, откуда у тебя эти деньги?
— Конечно, нет. Надеюсь, ты ему об этом не расскажешь?
— Так сколько же здесь? — наморщила лоб Татьяна. От волнения она никак не могла сосчитать деньги.
— Двадцать две с половиной тысячи.
— Это же страшные деньги! — прошептала Татьяна. — И что же мы теперь будем делать?
— Поедем к морю! — неожиданно для самой себя сказала я.
— А если Алексей за ними придет?
— Он же мне их не на хранение дал, а для того чтобы я их тратила. И потом, я все равно с ними уже попрощалась… Как говорится, легко пришли — легко ушли.
3
Через три дня мы были на берегу Черного моря в абхазском селе Гантиади. Мы поселились у знакомых Зинаиды. Она отдыхала у них два сезона подряд. Это была дружная и очень гостеприимная грузинская семья, жившая в огромном двухэтажном доме. Вокруг всего второго этажа шла галерея, на которую вела резная деревянная лестница.
На вокзале нас встретил Автандил, старший сын хозяев, жгучий красавец лет двадцати пяти, в новой соломенной шляпе и в рубашке с галстуком, на котором под пальмой нежилась фиолетовая красавица с красными волосами.
Автандил погрузил нас в собственный «ЗИМ» с открытым верхом и, как мы это поняли позже, повез нас не прямо к дому, а через все село. Во все время следования все встречные машины приветствовали его продолжительными восторженными гудками, а некоторые круто разворачивались, выбивая из каменистой дороги столбы пыли, и пристраивались к нам в хвост.
Когда мы подъехали к дому, за нами следовала целая кавалькада машин, мотоциклов и велосипедов.
Нас хотели поместить на втором этаже в отдельных комнатах. Причем глава семейства батоно Григорий уверял нас, что на цене это никак не отразится, но мы побоялись разъединяться и поселились в одной.
Едва мы разложили наши вещи и умылись, как Эка, черноглазая и крайне застенчивая жена Григория, позвала нас отведать «хлеб-соль».
Мы поблагодарили, попросили у нее электрический утюг и сказали, что через пять минут будем. Когда мы в одном белье наспех гладили нарядные летние платьица, раздался осторожный стук в дверь.
— Кто там? — прокричала Татьяна, в панике натягивая на себя только что выглаженное платье.
За дверью раздался неопределенный шорох. Потом стук повторился. Татьяна подбежала к двери.
— Кто там? — спросила она.
За дверью медовый баритон произнес:
— Любов!
Потом раздалась гневная тирада Эки на грузинском языке, звонкие шлепки, словно по мешку с песком кто-то колотил палкой, топот, недовольное ворчание батоно Григория, тоже на грузинском, виноватый голос Автандила, смех его младшего братишки Гурама — и все смолкло.
— Веселенький у нас тут будет отдых, — сказала Татьяна.
4
Стол был накрыт в беседке, увитой черным виноградом. Надо ли описывать, что такое щедрый грузинский стол, накрытый для «хороших людей»? Особенно запомнились жареные ломтики баклажанов, разрезанных вдоль, в которые были завернуты толченые грецкие орехи с чесноком и восхитительными травами, и лобио из плоских и длинных, стручков зеленой фасоли с мацони, в котором плавал мелко резанный чеснок и фиолетовые листики базилика. Ну и, конечно, копченый сулугуни и хрустящие кусочки слегка подвяленного и потом обжаренного на сильном огне мяса. И хачапури! Прозрачные от масла, огненные.
В широких эмалированных мисках лежали лопнувшие от зрелости, истекающие медвяным соком смоквы, изысканно-удлиненные, лимонного цвета груши, черный пахучий виноград, мед в сотах. Экзотические колбаски чурчхелы, груды зелени, плоские лепешки пури.
В стеклянных графинах стояло черное вино. Мы, особенно предупрежденные Зинаидой насчет вина, которое будут вливать в нас ведрами и от которого невозможно будет отказаться, облегченно вздохнули. Графины нам показались не такими уж и большими.
Кроме нас, были приглашены ближайшие соседи наших хозяев, сестра Григория с мужем, впрочем, она тут же убежала на кухню помогать Эке, и друг Автандила Кесоу, студент Московского института тонкой химической технологии. Интересный мальчик, как определила его Татьяна. Он о ней был более высокого мнения. Это видно было по каждому его пламенному взгляду.
Тамадой, разумеется, был Григорий. Он говорил такие тосты, с таким серьезным видом, что отказаться было просто невозможно. И вино было сладкое, с пряным привкусом винограда «изабелла».
Эка, видя, как мы лихо взялись за дело, потихоньку предупредила, что не обязательно пить каждый стакан до дна. Можно оставлять. В ценности этого совета мы убедились, когда на смену быстро пустеющим графинчикам начали появляться точно такие же, только полные, а тосты не кончались. Даже наоборот — все время казалось, что мы только подходим к главному, а до сих пор была лишь разминка.
Во все время пирушки мимо дома на тихой скорости проезжали машины. Они притормаживали напротив беседки, потом, просигналив, срывались с места, точно пришпоренные скакуны.
Стемнело очень рано, часов в восемь. Григорий зажег в беседке лампу, вокруг которой тут же стали, как бешеные, кружить мотыльки и жуки.
С улицы послышались восторженные гортанные возгласы и автомобильные гудки.
— Они, как мотыльки, летят на огонь вашей красоты, — сказал Григорий, кивая в сгустившуюся от нашего света темноту.
Он неторопливо разлил вино по стаканам, поднял свой, и стало ясно, что он говорит тост.
— Что заставляет мотыльков лететь на огонь? — задумчиво спросил Григорий. — Ведь он несет в себе гибель. Но они летят, обжигают крылья и гибнут, а на их место летят новые. Потому что красота, будь то красота пламени или женских глаз, сильнее разума! Сильнее инстинкта самосохранения. И у людей бывает подобное. Некоторые «мотыльки» сходят с ума и летят на красоту, забывая о мужском достоинстве, о долге перед семьей, перед старшими, перед детьми, забыв о чести и о стыде!
Григорий сурово посмотрел на притихшую молодежь. Никто из них и не думал улыбаться. Автандил сидел, потупив взор, а Кесоу со столичной смелостью смотрел Григорию в глаза и важно кивал на каждое слово.
— У этих «мотыльков» нет ни ума, ни стыда, ни чувства долга, — продолжал Григорий, — а у людей должно быть все наоборот. Потому что гибнет в этом столкновении не «мотылек», забывший о том, что он мужчина, а сам источник света и красоты. Так выпьем за любовь, за настоящую любовь, которая не губит женскую красоту и не отнимает у мужчин их честь. За любовь, от которой рождаются красивые дети и умножается род человеческий!
Григорий неторопливо поднялся. За ним шумно встали все мужчины.
Он с ласковой благодарностью взглянул на Эку, которая как раз в это время принесла глиняное блюдо с жареными цыплятами, и протянул ей стакан с вином. Эка зарделась от удовольствия, поставила блюдо на середину стола, торопливо вытерла руки о темный передник, бережно приняла стакан и, дождавшись, когда все выпьют, поблагодарила всех, аккуратно выпила весь стакан до дна и, снова вытерев руки о передник, убежала на кухню.
Мы с Татьяной, последовав ее примеру, тоже поблагодарили всех за прекрасный тост и выпили все до дна. Нечего и говорить, что к содержанию тоста мы прислушались с особым вниманием.
Потом пили за дом Григория, за него как за тамаду отдельно, за то, какой он прекрасный мастер, отдельно.
Оказалось, что Григорий строитель и все новые дома в селе, мимо которых мы проезжали, возведены его золотыми руками или под его непосредственным руководством…
Потом мы пили за его детей и за Автандила отдельно. Он работал вместе с отцом, и, по мнению всего села, достойная смена будет у Григория, когда придет время тому уйти на покой. Так что за будущее Гантиади мы можем не беспокоиться.
Нас это очень порадовало. И мы не стали скрывать своих чувств. С позволения тамады я выразила надежду, что, пока есть такие замечательные продолжатели дела своих отцов, прекрасное село Гантиади будет еще прекраснее, а населять его будут такие же прекрасные люди, как и сейчас, потому что прекраснее и гостеприимнее быть уже невозможно.
И что мотыльки — отдыхающие — будут еще активнее слетаться на эту солнечную щедрую красоту, и гибнуть при этом никто не будет, хоть и крылышки кое-кто обожжет, потому что с солнцем нужно обращаться осторожно…
Все были потрясены и смотрели на меня как на заговорившую статую.
Так началась наша веселая и трудная жизнь в Гантиади.
5
В ту первую ночь, несмотря на выпитое вино, мы долго не могли заснуть и ворочались в постелях, прислушиваясь к каждому шороху.
— Кажется, мотылек прилетел… — зевая, сказала Татьяна, когда перед нашей дверью послышались явственные шаги.
— Ничего, — сказала я. — Запоры на двери и на окнах крепкие, я сама проверяла.
— Если бы это были те, что с нами пировали, то я не очень бы и испугалась… — пропела Татьяна, томно потягиваясь. — Ты видела, как твой смотрел на тебя?
— Кто это мой?
— Автандил! Кто же еще?! — возмутилась моему лицемерию Татьяна. — Кесоу глядел на меня…
— Если не хочешь, чтобы Григорий нас из дома выгнал, перестань строить ему глазки! — со всей строгостью, на которую была способна, сказала я.
— Что же мне, вообще умереть или глаза выколоть? — возмутилась Татьяна.
— Не придуривайся! Ты знаешь, о чем я говорю, — одернула ее я. — Ты видишь, какая тревожная обстановка. Мы здесь должны быть как две неприступные Бастилии.
— Но ведь Бастилию в конце концов взяли… — хихикнула Танька. — Даже праздник такой есть, «День взятия Бастилии» называется! Четырнадцатого июля празднуют…
— Значит, мы должны быть крепче Бастилии. Кстати, и Зинаида об этом предупреждала. Если дадим хоть маленькую поблажку, хоть кому-нибудь — на следующий же день пойдем по рукам. Для них две блондинки, приехавшие одни на юг, знаешь кто?
— Известно кто…
— Вот так они все про нас и думают. И будут думать! Пока мы не докажем обратного.
— Ой права, Маня, ой права… — горестно вздохнула Танька. — Жалко, такие мальчики пропадают…
— И Автандил — ничего… — сказала я задумчиво. — А галстук ему можно и другой купить. И потом, с чего ты взяла, что они пропадают? Они же скоро в Москву поедут! Кесоу — учиться, а Автандил мандарины продавать.
— Действительно, а я и забыла! — обрадовалась Татьяна. — Вот мандаринов полопаем вволю!
6
На пляж мы ходили в сопровождении Автандила, или Кесоу, или обоих сразу. Когда мы пришли в первый день, то не знали, куда и деваться. Вокруг нас на расстоянии метров десяти образовалось кольцо людей, лежащих на песке, перемешанном с крупной галькой. Они были одеты в черные брюки и черные рубашки, а некоторые даже в кепках. Они лежали кучками. Некоторые лениво перебирали четки, другие играли в нарды, третьи неторопливо ощипывали виноградную кисть и плевались косточками, и все они непрерывно курили. Даже виноград ели, не выпуская сигареты изо рта.
Когда мы разделись, по пляжу прокатился стон. Затем раздались гортанные выкрики, на которые Автандил и Кесоу отвечали сердито и односложно. Переговоры велись, естественно, на грузинском, а может, и на абхазском языках. Разницы мы не улавливали.
Стоило случайно встретиться взглядом хоть с одним из них, как со стороны счастливого ловца нашего взгляда сыпались самые фантастические предложения: от немедленного замужества до поездки в горы с шашлыком-машлыком, с шампанским и с музыкой. Предлагались также поездки в Сочи, на озеро Рица, в Новый Афон, в Гагры, в Сухуми, Батуми, Тбилиси и почему-то даже в Ереван, морские прогулки на лодке, на катере и на круизном судне. Предлагались кольца, серьги, кулоны, броши и прочие украшения, а также целые сады фруктов и огороды овощей, барашки, козлята, индюки и даже фазаны. Предлагались кефаль, форель, барабулька и ставридка. Один раз даже предложили мороженое. Автор этого предложения явно погорячился и тут же, осознав его ничтожность, махнул в отчаянии рукой и отошел, потупив стыдливо взор.
Самое серьезное предложение сделал мне директор соседнего дома отдыха Авксентий — высокий, сурового вида мужчина лет сорока пяти. У него был орлиный профиль, светло-голубые глаза, а по-русски он говорил почти без акцента.
Он был очень уважаемым человеком. Когда около базара возле нас остановилась новенькая «Победа», из нее вышел незнакомый человек и направился к нам, то наши верные рыцари, которые каждый раз в таких ситуациях рычали как сторожевые псы, почтительно отошли в сторону.
Авксентий степенно представился, назвал свою должность, потом вежливо попросил Татьяну оставить нас одних.
— Я очень занятой человек, — сказал он вполголоса, когда Татьяна, поджав губы, отошла к ребятам. — У меня год назад умерла жена. Остался сын двенадцати лет. Его зовут Руслан. Рустик. Он хороший мальчик. Учится на пятерки и четверки. Помогает мне в саду и по хозяйству. Я хочу, чтобы вы стали моей женой. Сейчас. Или потом, когда лучше меня узнаете. Я здесь могу все. Вам ни в чем не будет отказа. Не хотите замуж — можно и так. Вы будете приезжать когда захотите… Я запишу на вас дом. Шесть комнат. Два румынских гарнитура. Один спальный, другой — жилая комната. Эта машина будет ваша… — Он показал на «Победу». — О продуктах и прочих мелочах я не говорю. Подумайте. Я вас не тороплю! Я приду за ответом завтра. Передайте большой привет Григорию.
Он попрощался с нами за руку, сел в машину и уехал.
Когда мы остались вдвоем и я рассказала обо всем Татьяне, она только и сказала:
— Везет же некоторым!
7
Однажды мы спросили у наших телохранителей, почему они хоть и стараются всячески оградить нас от армии соискателей нашего расположения, но никаких решительных действий не предпринимают и вообще довольно вяло реагируют на эти оскорбительные для нас предложения.
— Почему оскорбительные? — удивился Автандил. — Они ничего дурного не предлагают. Они предлагают приятные, хорошие и дорогие вещи. Что в этом оскорбительного?
— Но ведь известно, к чему ведут подобные предложения… — сказала проницательная Татьяна.
— К чему ведет шашлык? ~ пожал плечами Автандил. — Поел и забыл! А ему приятно, что он в такой приятной компании. Один шашлык есть не будешь…
— Ну, шашлык — это допустим, хотя и тут ничего не известно, а дорогие подарки типа золотого кольца? Ведь чем- то нужно за них расплачиваться?
— Не хочешь — не берешь, — сказал Автандил. — А предложить в уважительной и вежливой форме имеет право каждый.
— Неужели находятся такие, которые принимают подобные предложения? — брезгливо передернула плечами Татьяна.
— Иначе бы не предлагали, — сказал Автандил.
8
Так и проходили наши дни. У нас даже сложились определенные традиции. Каждый день утром мы шли на маленький, но очень кипучий базарчик и покупали там что-нибудь к обеду. Нас там уже все знали и здоровались, как с родными.
Разумеется, речь не шла о фруктах и овощах, которые мы брали в больших корзинах и жестяных тазах, уже с утра стоящих в беседке.
Когда Эка успевала их набирать — оставалось для нас загадкой. Мы, вопреки нашим московским привычкам, поднимались здесь очень рано, часов в семь, но к этому времени овощи и фрукты уже лежали грудами, источая фантастические запахи, и буквально на глазах теряли с румяных боков матовую дымку росы.
На базаре мы покупали мацони, потому что у Эки не было коровы. Мацони было в глиняных горшочках, прикрытых широким виноградным листом и обвязанных разноцветными нитками «мулине». Почему хозяйка пользовалась именно этими нитками, мы так и не поняли. У нее же мы покупали полюбившийся нам копченый сыр сулугуни и живых цыплят, которым Эка, нисколько не смущаясь, широким тесачком отрубала головы и с такой скоростью ощипывала и потрошила, что они даже не успевали остыть.
Крупное перо шло в отдельную корзинку, а мелкое перо и пух — в отдельную. Потом, после мытья особым способом и тщательной просушки, им набивались подушки.
Нам все это было в диковинку, и в чужих руках казалось таким легким делом, что мы поочередно за все брались и с позором бросали, так как у нас ничего не получалось.
Еще на рынке мы покупали рыбу. Оказывается, это тоже целая наука, и для этого Эка отправлялась с нами сама. Правда, от нашего дома до рынка было не больше трех минут ходьбы.
Когда мы приходили на рынок с Экой, ни один мужчина не смел открыто посмотреть в нашу сторону. Если такое и случалось, Эка обливала его такой оглушительной, визгливой бранью, что он старался молча и побыстрее скрыться с глаз ее долой. Ни о каких оправданиях или, не дай Бог, возражениях и речи не было. Стоило ему, болезному, хоть словечко промолвить в свою защиту, как на него набрасывалась вся женская половина базара, и ругань, многократно усиленная, подолгу висела над селом, словно пыль, поднятая возвращающимся с гор стадом овец.
Потом у толстого дяди Тиграна или у одного из его многочисленных внуков мы на выходе из базара покупали по порции замечательного шоколадного мороженого в конусных вафельных кулечках и несли продукты домой. Вернее, несли, конечно, не мы, а наши преданные и молчаливые телохранители. А мы в это время ели мороженое.
Иногда, когда продуктов было слишком много, Автандил нас отвозил домой на машине.
После этой приятной прогулки мы шли на пляж. Там нас уже ждали наши самые стойкие почитатели в черных рубашках. Мы даже не понимали, зачем они приходят, потому что надежды мы им не давали никакой и на все их самые соблазнительные предложения уже по нескольку раз ответили вежливым отказом. Но они с упорством грифов каждое утро занимали свои места. А может, они уже просто ходили на бесплатное зрелище. Ведь когда влюбленные зрители ходят по нескольку раз на фильм со своей любимой актрисой, они же не надеются на более близкое знакомство…
Со временем они довольно комфортабельно устроились около нашего излюбленного лежбища, натащив туда каких- то выброшенных морем ящиков и досок и даже соорудив что-то наподобие столика для нард и домино.
9
Так прошло пятнадцать дней из отпущенных нам двадцати.
На шестнадцатый день Автандил повез нас на базар на машине, потому что мы уже начали готовиться к отъезду и хотели купить с собой по два-три килограмма фундука, по банке горного меда с альпийских лугов и еще каких-нибудь экзотических южных гостинцев.
Мы особенно долго и придирчиво выбирали товар и относили его в машину. Автандил сказал, что он сам отвезет продукты домой, потом позвонит в Адлер, в стройуправление, где ему давно обещали какой-то дефицитный провод, и после этого сразу же придет к нам на пляж.
Мы купили у какого-то новенького внука дядюшки Тиграна по порции нашего любимого шоколадного мороженого и неторопливо направились на пляж…
Очнулись мы у себя в комнате, когда было уже темно…
Я открыла глаза и долго не могла понять, где я и что со мной. Страшно болела голова. Во рту было сухо и горько. Я прислушалась. Где-то недалеко в другом помещении я услышала женский голос и обрывки грузинской речи. Женскому голосу ответил басовитый мужской… Это же Григорий и Эка, с облегчением подумала я и вспомнила, что отдыхаю на Черном море, в селе Гантиади…
Совсем рядом раздался хриплый стон.
— Татьяна, это ты? — спросила я и сама не узнала собственный голос.
— Я-я… — просипела Татьяна.
— А который час?
— Не знаю…
— А почему?.. — Я замолчала, сама не зная, о чем я хочу спросить.
— Что почему? — спросила Татьяна.
За окном вдруг посветлело, а на потолок легли рваные тени от листвы. Я поняла, что зажгли свет в беседке.
Скосив глаза, я различила Татьяну на ее кровати, поверх легкого покрывала, которым мы пользовались вместо одеяла. Она лежала навзничь, вытянув руки вдоль туловища. На ней был ее любимый голубой сарафан, в котором она ходила на базар.
Протянув непослушную руку к изголовью, я нащупала выключатель маленькой настольной лампы, напоминающей грибок, и нажала на него. Поднесла левую руку к лицу и посмотрела на часы.
— Половина девятого, — сказала я.
— Чего? — спросила, не открывая глаз, Татьяна.
— Девятого.
— Утра или вечера? — еле выговаривая слова, простонала Татьяна.
— Вечера, — сказала я обиженно. — Утром в это время мы уже возвращаемся с базара…
— Подожди! — Татьяна подпрыгнула, резко села на кровати и со стоном схватилась за голову. — О-о-о, Господи, как же она болит… Мы ведь ходили на базар?
— Ходили, — отозвалась я, — ну и что?
Татьяна обвела комнату мутным взглядом. На столике стояли банки с медом, пакеты с орехами, лежала чурчхела…
— А потом что? — спросила Татьяна, бессмысленно уставясь на груду гостинцев.
До меня только что начало доходить, что никакого «потом» не было, а сразу наступила половина девятого вечера. Двенадцать часов из нашей жизни исчезли бесследно.
Я с трудом села и почувствовала, что болит не только голова, но каждая клеточка тела.
Оглядев себя, я убедилась, что на мне то же самое платье, в котором я вышла утром на базар. Это было единственное платье, в котором можно было безбоязненно ходить по улицам, потому что все остальные были более открытые…
— А что потом? — переспросила Татьяна.
Мы уставились друг на друга, силясь осознать происходящее. Оно не осознавалось. Только появилось ощущение чего-то не то страшного, не то гадкого…
— Подожди, — сказала я. — Давай попробуем спокойно разобраться…
Татьяна слабо кивнула.
— Утром мы встали как обычно и пошли на базар…
Татьяна снова кивнула.
— Там мы купили продукты и кое-что с собой…
— А где продукты? — спросила Татьяна.
— Не знаю! — сказала я раздраженно. — Наверное, где-то на кухне или в погребе… Какое это имеет значение?
— Сейчас бы холодного мацони… — простонала Татьяна.
— Не отвлекайся! — одернула я ее. — Мне и самой хочется. Во рту будто кошки нагадили… Слушай, но ведь мы с тобой ничего не пили! — вдруг опомнилась я.
— Ничего! — подтвердила Татьяна. — Только мороженое шоколадное…
— Подожди, — перебила я ее, — давай все по порядку. Значит, мы пошли на базар, закупили продукты, погрузили в машину, купили мороженое, отправились на пляж и очнулись здесь у себя в комнате в половине девятого… И что бы это могло значить?
— Понятия не имею… — пожала плечами Татьяна. — Но мы точно ничего не пили. Даже газировку…
Газировку мы действительно не пили, потому что обычно мы это делали, чтобы запить сладкое мороженое при входе на пляж.
— Это значит, что после того, как мы съели мороженое, и до того, как проснулись здесь, мы ничего не помним.
— А может, мы потеряли сознание на улице и нас привезли сюда? — предположила Татьяна.
— Обе сразу мы его потеряли?
— Может, мы отравились мороженым?
— Тогда бы очнулись в больнице, — сказала я и посмотрела на тумбочку в изголовье. — А тут никаких следов лечения нет, ни лекарств, ни градусника. Даже стакана воды нет. И вообще, где ты слышала, что здоровые люди теряют сознание на двенадцать часов…
— Я поняла! — страшно округлила глаза Татьяна. — Нас усыпили.
Подобная версия уже вертелась у меня в голове, но я ее отвергала как слишком романтичную.
— У тебя что-нибудь болит? — спросила я.
— Ничего, кроме головы, — сказала Татьяна, ощупав себя с ног до головы. — А у тебя?
— И у меня ничего…
— Девочки? — раздался со двора голос Эки. — Просыпайтесь. Пора ужинать…
— Вот видишь! — еще больше округлила глаза Татьяна. — Они думают, что мы просто спим… Значит, нас действительно усыпили…
— Но это же бред какой-то… Зачем нас усыплять?
— Ты прямо как глупенькая! — возмутилась Татьяна. — Нас усыпили, чтобы украсть…
— Так почему же не украли, а, наоборот, привезли домой?
— Нас уже вернули! Ты что — не понимаешь?
Татьяна задрала подол, осмотрела свои ноги, трусики и даже засунула руку внутрь…
— Сухо… — озабоченно сказала она и понюхала руку, которой лазила в трусы. — Ничего не понимаю…
— Девочки, вы идете или нет?
— Пойдем, — сказала я, — неудобно…
10
За ужином все было как обычно. Только Эка поинтересовалась, не заболели ли мы, что-то уж больно разоспались. Она, когда вернулась с Григорием домой в половине восьмого, заглянула тихонько к нам в комнату, увидела, что мы спим, и решила нас не будить до ужина.
Мы уверили ее, что все с нами в порядке, просто перекупались и перегрелись на пляже…
На этих словах Автандил пристально посмотрел на меня и спросил, не приставал ли к нам кто-нибудь на пляже.
— Нет, нет, все было как обычно, — сказала я.
Григорий вопросительно посмотрел на сына и строго спросил у меня:
— Надеюсь, Кесоу был с вами?
— Он ездил со мной в Адлер, — сказал Автандил, прежде чем я успела сообразить, что ответить.
— Как же вы могли оставить наших дорогих гостий на произвол судьбы? — спросил Григорий. — Допустим, у тебя было важное дело, а зачем этот студент за тобой увязался?
— Он не за мной увязался, — мягко поправил отца Автандил, — а ездил по своему делу.
— Какое может быть дело, если человек отдыхает?
— А я знаю, какое у него дело?! — вспылил Автандил. — В библиотеку он ходил, книжку какую-то читал по химии. Откуда я знаю его химию-мимию?! Я что, в институте учусь в Москве? Я с утра до вечера камни таскаю на чужих стройках!
— Никто тебе не запрещает учиться… — примирительно сказал Григорий, глядя в нашу сторону. — Что у меня, денег не хватит на эту химию-мимию? Куда хочешь могу тебя отправить! Учись на здоровье! Честное слово, сколько раз ему предлагали: езжай, сынок, учись, профессором, станешь, а он только смеется…
— Нужно было не предлагать, а приказать… — проворчала Эка, внося в беседку глубокую глиняную миску с мамалыгой, из которой, как рожки у морской мины, торчали квадратные куски сулугуни… — А то одной рукой предлагает, а другой рукой радуется, что сын у него помощник… Как сам неуч, так и сын пусть таким будет. Так или неправда?
Видно, Экины слова попали в самую точку, и Григорий, чтобы скрыть свое смущение, потянулся к графинчику с вином.
Мы с Татьяной пить вино решительно отказались и, поковыряв в тарелке с мамалыгой, быстро ушли в свою комнату.
11
Итак, ситуация более или мене прояснилась, то есть сделалась еще запутанней и загадочней. Выяснилось, что целый день дома никого не было, потому что Автандил с Кесоу приехали еще позже Григория и Эки. И, судя по всему, никто не видел, ни когда мы пришли, если мы это сделали сами, находясь в некоем лунатическом состоянии, ни когда нас принесли, что, скорее всего, и было на самом деле.
Я решила действовать. Закрыла и занавесила оба наших окна, включила верхний свет, заперла дверь и скомандовала Татьяне:
— Раздевайся!
— Как?
— Совсем!
— Зачем?
— Будем проводить следствие.
— А ты?
— Я тоже, не беспокойся.
Татьяна разделась первая, и я ахнула. Ее задница, живот и грудь, — словом, все скрытое под купальником и незагорелое тело было в багрово-синих пятнах.
У меня оказалось то же самое.
— Мамочка родная, — воскликнула Татьяна. — Да это же самые натуральнее засосы! Вот сволочи! — Она выгнулась и, встав около гардероба, одна из створок которого была зеркальной, осмотрела свою задницу. — Ты смотри, они совершенно симметричные на обеих половинках… Специально, что ли? А это не засос, а просто укус…
Я присела и рассмотрела поближе то пятно, которое она показывала. Отчетливо были видны два полукруга синячков от зубов.
— Ну не гады! — Глаза Татьяны наполнились слезами. — Завтра приду на пляж, возьму дубину и по поганым рожам… И пусть меня зарежут после этого.
— А если это не они?
— А кто же еще? — удивилась сквозь слезы Татьяна.
— Кто-то посерьезнее, чем эти бездельники, которые целыми днями пялятся и, как стервятники, выжидают, когда мы дрогнем. Нет, это кто-то очень смелый сделал. И засосы не побоялся оставить… Словно расписался…
— Так что же это — один гад нас?.. — всхлипнула Татьяна.
— Один, или два, или больше, какая разница… Ясно, что они не из этой компании п--страдателей.
Татьяна так удивилась моему мату, что тут же перестала плакать. Раньше я при ней не ругалась и очень не любила, когда она приносила из института какой-нибудь матерный анекдот. Между прочим, к мужскому мату я относилась вполне терпимо…
Я взяла и тщательно изучила свои купальные трусы, которые были на мне с самого утра. Ничего подозрительного я на них не обнаружила.
— Ничего не понимаю… ~ пробормотала я. — Дай-ка мне твои плавки.
На ее трусах тоже ничего не было.
— Слушай, — несколько смутившись, спросила я, — из тебя потом, после, что-нибудь вытекает? — Несмотря на всю нашу близость, мы с Татьяной не обсуждали всякие там подробности…
— Конечно. Не глотает же она ее… Бежишь подмываться, а по ногам так и течет… А почему ты спрашиваешь? Разве у тебя по-другому?
— Да! Она, мерзавка, ни капли обратно не отдает. И куда все девается — сама не знаю…
— Ну ты даешь! Феномен! — Татьяна уже забыла о своих слезах. — Неужели ни капли?
— Ни одной.
— Так что же, выходит, они нас не того?.. Потому что из меня уж точно вытекло бы…
Татьяна для верности даже попрыгала, потом присела, раскорячившись, на корточки и провела по промежности рукой.
— Выходит так, хотя… — Я задумалась. — Хотя ничего не известно. Они могли просто не кончать в нас. Или делать это с презервативом. Скорее всего, так оно и было.
— Но почему? — удивилась Татьяна.
— В случае чего сперма — это серьезная улика! По сперме можно установить человека…
— Вот суки! — прошипела Татьяна. — Все предусмотрели, гады ползучие! И как же мы их теперь узнаем?
— Боюсь, что никак…
— И что нам теперь делать?
— Не знаю… — сказала я.
— А если это какие-то уроды?
— Тебе было бы легче, если б эти скоты оказались красавцами?
— Ну, все-таки… — сказала Татьяна. — А если это больные и мы теперь зараженные?
— А вот это очень может быть.
— Ой, Маня, не пугай меня… — замахала на меня руками Татьяна.
— Ты думаешь, мне меньше твоего страшно?
12
Уже совсем засыпая, Татьяна пробормотала в темноте:
— А все-таки жаль…
— Чего тебе жаль?
— Ну, что мы совсем ничего не помним… Судя по засосам, они долго над нами трудились… Вряд ли это были какие-нибудь старые уроды… Слушай, а как же они это сделали?
Что? — недовольно спросила я. Мне хотелось поскорее уснуть и хотя бы во сне избавиться от этого кошмара.
— Ну это… Усыпили нас?
Я засмеялась и включила лампу.
— Ты чего? — спросила Татьяна, щурясь на свет.
— Все равно не уснем! Мы же только что проснулись и проспали двенадцать часов… А вот как они нас усыпили — это интересный вопрос. На завтрак мы ели вареные яйца и помидоры без хлеба… Кофе молола, варила и разливала я сама. Воду брала из-под крана. Больше мы ничего дома не ели и не пили…
— Я еще съела большущую грушу… — виновато сказала Татьяна.
— Когда это ты успела? — удивилась я.
— Когда ты молола кофе…
— Но ведь ты в это время сидела в сортире…
— Ну, там я ее и доела… — совершенно смутилась уличенная Танька. У нее с ясельного возраста была глупая детская привычка жевать чего-нибудь, сидя на толчке. Она с ней мужественно боролась, но, как оказалось, стоило ей расслабиться, забыться от полного безделья, южной ленивой одури и развращающего изобилия даров земли, как привычка, запрятанная глубоко в душе, высунула свою коварную головку…
— Ну, Танька, ты даешь! В этой хлорке… А если бы кто увидел?
— Да что я, совсем уж! — возмутилась Татьяна. — Автандил со своей машиной в гараже возился, а Григория, Эки и Гурама не было. Они уже уехали.
Не найдя на это никаких слов, я покачала головой. Танька развела руками.
— Хорошо, — сказала я, — в конце концов, это дело твоего будущего мужа. А что мы еще ели и пили?
— Орехи ели на базаре, — вспомнила Татьяна. — Я специально для пляжа в сумку отсыпала из пакетов, которые мы в Москву приготовили…
Она резво спрыгнула с дивана и заглянула в полотняную пляжную сумку, которая лежала на стуле, там, где всегда. Под нашей пляжной подстилкой были нетронутые орехи.
— Все орехи на месте… — растерянно сказала Татьяна.
— А ты хотела бы, чтобы мы их во сне грызли, пока нам засосы ставили?
— Значит, мороженое! — сказала Татьяна, не обращая внимания на мою иронию.
— Ничего другого не остается, — согласилась я. — Ты заметила, что сегодня мороженым торговал совсем незнакомый мальчишка. Я еще подумала, сколько же внуков у дяди Тиграна.
— А я не обратила внимания, — сказала Татьяна. — Значит, все очень просто — пойдем завтра на базар и возьмем пацана за горло…
— А если на его месте будет другой? Неужели они не предусмотрели, что мы догадаемся про это мороженое…
— Тогда пойдем в милицию! — решительно рубанула рукой Татьяна.
— А если это сделал милиционер? Разве он не предлагал тебё поехать на Холодную речку посмотреть на дачу Сталина? Или какой-нибудь ближний родственник милиционера? Да если он и догадается, кто это сделал, разве он доведет дело до суда и следствия? Посмеется, и только. Но на другой день все село будет на нас пальцами показывать. Да и наверняка эти сволочи все продумали с мороженым, и никаких концов мы не найдем.
— Но неужели никто не видел, как они нас волокли куда- то, а потом домой?
— Ты помнишь, как в первый день к нам «любов» в дверь стучалась? И никто мерзавца не заметил, когда он входил. Его застукали уже около двери, и то только потому, что Эка пришла нас звать к столу.
— Так что же нам делать? — чуть не плача от злости, спросила Татьяна и принялась нервно чесаться.
— Ничего, — грустно сказала я. — Доживем последние четыре дня и тихонько уберемся восвояси…
— Слушай, — вдруг вытаращила глаза Татьяна, — а на какой день выступает сыпь при сифилисе?
Она спрыгнула с кровати, подбежала к зеркалу, задрала рубашку и стала изучать расчесанные места.
— Успокойся, через несколько дней…
— А почему же чешется?
— Это у тебя психоз.
— А вдруг и вправду нас сифилисом заразили? Нужно же как-то провериться…
— В Москве и проверимся. Осталось всего четыре дня.
— А не поздно будет?
— Ой, Танька, замолчи, а то накаркаешь действительно! Ничего эти четыре дня не изменят.
— А если у нас действительно сифилис, то можно будет определить, у кого он тоже есть, — и все! Конец голубчикам!
— Ну да, — сказала я — здесь тысяч пять мужиков живет. Нужно будет их всех с милицией отвезти куда-нибудь в Сочи или в Гагры в кожно-венерический диспансер и у всех взят!» из вены кровь для анализа. Ты думаешь, что говоришь?
— Что же, мы так и уедем как оплеванные? — возмутилась Татьяна.
— Почему как? — спросила я.
13
Последние четыре дня мы назло всем сволочам ходили, задравши что есть силы наши облезшие от солнца носы. На любые знаки внимания со стороны всего мужского населения Гантиади мы отвечали холодным молчаливым презрением. Это, конечно, не относилось к Григорию и Автандилу с Кесоу.
Ребята, естественно, заметили резкие перемены, произошедшие с нами, и Автандил после того как мы даже не ответили на вежливое приветствие Авксентия, укоризненно заметил:
— У нас старших уважают несмотря на плохое настроение. Вы что, обиделись на нас?
— За что? — удивилась Татьяна.
— За то, что в тот день мы оставили вас одних, — пояснил Кесоу. — Если бы вы сказали, кто вас в тот день обидел, мы бы с ним поговорили по-своему…
— Никто нас не обидел, мальчики, — сказала я. — Просто мы устали от этого постоянного преследования… И вообще, если бы не вы…
Надо ли говорить, что в эти дни мы в каждом проходящем видели коварного насильника. И разумеется, как это бывает в подобных случаях, нам бросались в глаза прежде всего их недостатки и уродства… Гнилые зубы, например, слюнявые рты, огромные животы, грязные ногти… Быстрое воображение тут же рисовало самые мерзкие картины с этими уродами, и нас просто выворачивало от отвращения. Меня однажды натурально стошнило…
Никого мы не вычислили, как ни присматривались.
А в предпоследний день случилось забавное происшествие. Рано утром мы проснулись от того, что кто-то фыркал и топотал по комнате. Таньке показалось, что что-то серое юркнуло под ее кровать. Она подумала, что это крыса, и завизжала, как сирена «скорой помощи».
На ее вопли сбежался весь дом. Гурамчик бесстрашно нырнул под кровать, потом, что-то весело говоря по-грузински, высунул оттуда руку. Эка вложила ему в руку веник, и он выкатил из-под кровати колючий шарик, который тут же развернулся и превратился в маленького симпатичного ежика, у которого только что закостенели иголки.
— Как он сюда попал? — спросила Татьяна.
— Они часто забегают, — весело объяснил Гурамчик. — Правда, на первый этаж. А на втором этаже я их первый раз вижу.
Между иголками у ежика что-то белело. Я взяла у Гурамчика веник, попридержала шустрого ежика и, присев на корточки, получше его рассмотрела. Вся его спина была присыпана каким-то мелким белым песком…
— Что это?! — воскликнула я, боясь поверить в то, что вижу. — Чем он посыпан?
Все с любопытством склонились над ежиком, а Автандил с еле заметной усмешкой сказал:
— Это, наверное, сахар…
— Ара, почему сахар?! — воскликнул Гурамчик, поднимая указательный палец к потолку.
— Чтобы был сладкий ежик, — ответил Автандил и взглянул на меня сверху вниз.
Я медленно поднялась с корточек, шагнула к Автандилу и что есть силы ударила его ладонью по щеке.
Он не шелохнулся. Забыл даже убрать с лица усмешку.
В воцарившейся тишине отчетливо было слышно, как протопал к открытой двери ежик.
— За что? — выдохнула Эка.
— Не тем мороженым угостил, — сказала я.
Танька округлила глаза. Гурамчик засмеялся нелепости моего ответа. Эка растерянно помотала головой и повернулась к Георгию:
— Ты что-нибудь понимаешь?
Григорий что-то резко сказал Автандилу по-грузински, от чего тот перестал наконец улыбаться с видом превосходства, втянул голову в плечи и выбежал из комнаты. Тогда Григорий подошел ко мне и, пытливо заглянув в глаза, спросил:
— Моя помощь нужна, дочка?
— Нет, мы уже разобрались… — сказала я.
— А вот я ничего не понимаю! — воскликнула Татьяна, разводя руками.
Она ведь тогда еще не знала, как я их всех называю в беспамятстве…
14
Получив то самое письмо, я подумала: а чем черт не шутит… Правда, Автандила я с тех пор ни разу не видела, но Кесоу прочно обосновался в Москве. Он мог наблюдать за мной со стороны и держать друга в курсе всех моих дел…
Я даже представила романтическую картинку, как бедняжка Автандил, продав свои мандарины, стоит на заснеженной улице и, съедаемый угрызениями совести, часами ждет, пока я выйду из дома, чтобы хоть на мгновение увидеть меня…
Про то, что Кесоу в Москве, я знала от Татьяны. Она случайно встретила его той же зимой. Он даже пытался закрутить с ней настоящий роман, или, говоря точнее, продолжить прежний летний. Но ничего у них не вышло, хотя кавалер он, конечно, был шикарный. Татьяна не смогла его простить.
Через адресное бюро я легко нашла его адрес. Кроме него, других людей по фамилии Аджба и по имени Кесоу в Москве не оказалось.
Телефона мне не дали. Он жил на Ленинском проспекте недалеко от гостиницы «Турист».
Этот район я знала очень хорошо и потому вела свой «жигуленок» почти автоматически, размышляя о том, зачем же я еду. Что меня туда несет? Очень ли я обрадуюсь, убедившись, что письмо написал действительно Автандил?
Да, он был симпатичным парнем, и я его давно простила. Хотя бы за то, что он не побоялся признаться в содеянном… Ведь, не подкинь он нам этого ежика, посыпанного сахарным песком, мы бы до сих пор оставались в мучительном неведении и представляли себе самых отвратительных уродов, покрывающих нас слюнявыми поцелуями… Теперь, по крайней мере, мы не ежились от омерзения, вспоминая об этом…
Но каков он сейчас? Толстый, лысый, с золотыми зубами и цепями на шее?.. Приму ли я от него эти деньги, дома, машины, яхты? Скорее всего, нет. Если не приму и его самого в свою жизнь. А это вряд ли случится…
Зачем я вообще ищу автора этого дурацкого письма? Что мне от него надо? Верю ли я сама, что еще возможно счастье, о котором я мечтала всю жизнь? Да и нужно ли оно мне сейчас? Не разрушит ли оно мою размеренную и удобную жизнь, и без того наполненную друзьями, поклонниками и приятными рабочими проблемами? Наверняка разрушит. Так, может, развернуться под ближайшим знаком разворота и вернуться домой, к своей налаженной жизни?
Размышляя таким образом, я припарковалась около гостиницы «Турист» и через пять минут уже звонила в нужную мне квартиру.
Мне открыла седая изможденная женщина в черном платье и в черной же косынке. За ее плечами стояла женщина помоложе, но тоже в черном платье и платке.
Я объяснила, что мне нужен Кесоу Аджба.
— Его нет, — односложно ответила мне пожилая женщина. Говорить было больше не о чем. Чтобы не уходить ни с чем, я попыталась объяснить, что, собственно говоря, интересуюсь больше его старинным другом и односельчанином Автандилом и была бы очень признательна, если б мне дали его адрес или телефон. Я объяснила, что у меня был адрес Автандила, что я отдыхала в его прекрасном доме в Гантиади, но адрес затерялся…
Женщины слушали меня не перебивая. Во время моего сбивчивого монолога из глубины квартиры вышла девочка с огромными черными глазами и в таком же черном платье, как у взрослых женщин, только без черного платка на голове. Она молча встала сзади.
Когда я закончила, старшая женщина сказала, поджимая бесцветные губы после каждого слова:
— Их нет. Ни Кесоу, ни Автандила. Они убили друг друга во время войны. И дома, в котором вы отдыхали, тоже нет.
Его сожгли. И моего сына — ее мужа — нет. Кесоу сказал, что они должны защищать родину. От Автандила. Они бросили дом, семью, работу и поехали воевать. И теперь их нет. Зато есть родина, на которой никто не живет…
Я не смогла произнести ни одного слова ей в ответ и, молча поклонившись, вышла из квартиры.
Обратный путь мне показался бесконечно долгим…
ТРИНАДЦАТЫЙ (1956 г.)
1
Безусловно, эти заметки не претендуют на объективное и последовательное отображение моей жизни на фоне жизни всей страны, так как я изначально не ставила себе такой задачи. Поэтому время от времени, когда в этом появляется необходимость, мне приходится такие огромные исторические события, как, например, разоблачение культа личности, доставать, словно фокуснику, из рукава.
Для того чтобы хоть чуть-чуть исправить положение, я сейчас попытаюсь буквально несколькими словами напомнить, чем жила в 1956 году наша страна.
Потому что именно с этого года началась эпоха, названная потом «Оттепелью», и страна, замороженная страшным сталинским режимом, словно очнулась от летаргического сна, шевельнулась, открыла глаза на окружающий ее мир и начала потихоньку двигаться, расправляя свои затекшие члены…
В этом историческом контексте вам будет понятнее и моя жизнь.
ЯНВАРЬ. В зимние школьные каникулы вышел фильм «Матрос Чижик» с замечательно голубоглазым Михаилом Кузнецовым.
Сразу же вслед за ним появились такие знаменитые фильмы, как «Максим Перепелица», «Чужая родня» и «Хитрость старого Ашира».
Ива Монтана мы впервые узнали тоже в январе. Сперва как киноартиста, исполнителя главных ролей в фильмах «Идол» и «Плата за страх».
Гастролировала в Москве будапештская оперетта. Показывала «Сильву». А наша московская оперетта показывала «Белую акацию» с блистательной Татьяной Шмыгой в роли Тани Чумаковой. Мы с Татьяной специально пошли на этот спектакль. Нам было любопытно еще разок взглянуть на жизнь китобоев. К сожалению, ничего общего с реальной жизнью, кроме факта безжалостного истребления самых крупных млекопитающих на планете, в этом спектакле не было.
Оперная труппа Блевинса Дейвиса и Роберта Брина из США привезла в Москву оперу Джоржа Гершвина «Порги и Бесс».
В ГУМе началась широкая продажа чулок из капрона и шелка «паутинка» с контурной и ажурной пяткой. Были снижены цены на пылесос «Днепр-2». В Кортина д'Ампеццо открылись VII зимние Олимпийские игры.
В институтах, в том числе и в моем, начались каникулы. Ребята-медики не вылезали из моего дома. Я так толком и не рассказала, как по совету Митечки поступила в иняз. Как-то не пришлось к слову. Да и для меня это не было большим событием. Тех знаний французского языка, которые дала мне бабушка, вполне хватило, чтобы поступить в Институт иностранных языков и довольно легко там учиться на вечернем отделении. Единственная сложность была в том, чтобы достать справку с места работы, но с помощью друзей Митечки это нам удалось.
Потом, когда я взяла лицензию на надомную швейную работу, эта проблема отпала сама собой.
ФЕВРАЛЬ. Умер великий художник Петр Петрович Кончаловский, лауреат Сталинской премии, народный художник РСФСР, засл. деят. культ. РСФСР, дедушка Никиты Михалкова.
Исполнилось 75 лет Герою Советского Союза Клименту Ефремовичу Ворошилову.
Наши хоккеисты в Кортина д' Ампеццо выиграли из семи матчей семь с общим счетом 40: 9, стали олимпийскими чемпионами и одновременно чемпионами мира и Европы, завоевав в общей сложности 51 золотую медаль. *
Во всех овощных магазинах Москвы появился зеленый лук.
Открылся XX съезд КПСС.
Во МХАТе состоялась премьера пьесы Н.Погодина «Кремлевские куранты». Я этот спектакль не видела, но несколько раз слышала по радио. Была такая замечательная передача «Театр у микрофона». Я обожала под нее шить.
Поступил в продажу телевизор «Знамя» с самым большим в то время экраном. Его размер был 340 х 225 мм. Мы со Славкой и его женой смотрели «Утраченные грезы» с Сильваной Пампанини.
МАРТ. Сократились на два часа субботние и предпраздничные рабочие дни.
Именно тогда в столовых появилось самообслуживание. До этого даже в самых жалких чайных и станционных буфетах посетителей обслуживали официантки. Вышел художественный фильм «Дело Румянцева» с молодым и уже тогда невероятно обаятельным и интеллигентным Алексеем Баталовым.
Еще из знаменитых наших фильмов тогда же появились «Отелло» со Скобцевой и Бондарчуком, «Судьба барабанщика», «Два капитана», зарубежные фильмы «Леди Гамильтон» с Вивьен Ли и сэром Лоуренсом Оливье и «Борьба в долине». В этой египетской картине мы впервые увидели Омара Шарифа, будущую звезду Голливуда первой величины. Только тогда его звали Ахмад Омар аш-Шариф.
Совершил свой первый рейс самолет «ТУ-104». В театре имени Ермоловой я видела премьерный спектакль «Чудак» по пьесе Назыма Хикмета. В главной роли был замечательный Всеволод Якут, он играл блестяще, его завалили цветами и вызывали раз десять. Он вытащил на сцену автора. Назым Хикмет улыбался как ребенок и неловко кланялся. Меня поразило, что у турка ярко-голубые глаза.
Каким-то образом он выделил меня из зала (я сидела в третьем ряду) и бросил мне веточку мимозы, чудом уцелевшую от женского праздника.
Это было единственное заметное для меня лично событие в том месяце.
АПРЕЛЬ. Спроектирован и активно застраивается на юго-западе Москвы, на месте деревни Черемушки, новый показательный квартал. Впервые массовым порядком стали строить крупнопанельные дома с маленькой кухней, совмещенным санузлом и встроенными шкафами. Квартал назвали Новые Черемушки. И скоро почти во всех городах страны появились свои «Черемушки». Н. А. Булганин и Н. С. Хрущев отправились с официальным визитом в Англию — страну, как известно, буржуазную. Они вообще заслужили в народе прозвище «Два туриста» за свои международные поездки. Появилась в широкой продаже новая капроновая ткань — белая, набивная и гладкокрашеная. Она легка, прозрачна и прочна. У меня ее появление вызвало множество новых конструктивных идей. Я закупила по отрезу каждого вида.
В конце апреля мы ходили в ЦДКЖ (Центральный Дом культуры железнодорожников) на новую программу Мирова и Новицкого, которая называлась «Коротко и ясно». Билеты покупала Татьяна. У нас с ней своеобразное разделение труда. Она достает билеты на все легкомысленное, а я на все серьезное. В нагрузку ей продали билеты на октет сестер Федоровых. А может быть, у них к тому времени был уже секстет — я точно не помню. Ясное дело, что мы на них не пошли. Татьяна пыталась продать билеты перед концертом, простояла полчаса, окоченела, все на свете прокляла, но не продала. Билеты стоили по пятнадцать рублей каждый. А тридцать рублей были тогда большими деньгами. Можно было спокойно прожить на них три дня.
Из наших фильмов не было ничего потрясающего — «Мексиканец», «Главный проспект», «Первый эшелон». Про целину. Это мы посмотрели. Нас ведь тоже туда звали… И еще комедия «За витриной универмага». Ничего, смешная… С Сергеем Филипповым. Из иностранных — индийская картина «Девушка из Бомбея» и немецкий (ГДР) «Эрнст Тельман — сын своего класса».
МАЙ. Кино наше: «Дело № 306», «Они были первыми».
Иностранное: «Девушки с площади Испании». Там играл Марчелло Мастрояни.
В Москве прошли концерты Исаака Стерна (США). Я ходила на концерт одна.
На эстраде Сада имени Баумана пела шуточные и лирические песни Гелена Великанова. На этот концерт ходила одна Татьяна. В «Эрмитаже» концерты оркестра под управлением Леонида Утесова.
В СССР, по приглашению Союза писателей, прибыл из Америки Давид Бурлюк с супругой Марией Никифо- ровной. Он прожил в США тридцать восемь лет. Указом Президиума Верховного Совета СССР подросткам от шестнадцати до восемнадцати лет рабочий день был сокращен до шести часов. Открылась гостиница и ресторан «Пекин». В самом конце мая я познакомилась с Вероникой.
ИЮНЬ. Наше кино: «Любимая песня» с участием Рашида Бейбу- това, «Убийство на улице Данте» — первый фильм Михаила Козакова — с этой картины началась его слава; «Бессмертный гарнизон», «На подмостках сцены». Зарубежное кино: польский фильм «Ирена, домой!» с Адольфом Дымшей, итальянский «Полицейские и воры».
В Москву прибыл Иосип Броз Тито. Татьянин институт полным составом гоняли встречать. Они стояли вдоль Большой Калужской улицы. Потом это был Ленинский проспект. Теперь, кажется, снова Большая Калужская.
Вышел на московские линии новый городской автобус «ЗИС-158».
Была запущена первая промышленная атомная электростанция мощностью в 5000 киловатт. Несколько килограммов урана заменили 75 ООО тонн угля. Это поражало воображение.
Не меньше поразила мое воображение и Вероника- Завод имени Сталина (ЗиС) был переименован в Завод имени Лихачева (ЗиЛ).
ИЮЛЬ. Наконец вышло Постановление Центрального Комитета КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». Теперь не только члены партии, которым зачитывали закрытое письмо, но и весь беспартийный простой народ знал, как ему относиться к «гению всех времен и вождю всех народов».
На этом и погорел бедняжка Додик. Ведь если бы не это постановление, не решились бы его гости с таким жаром осуждать культ личности и саму личность. Стало быть, сценарист не разозлился и не сочинил бы на ходу «Подлинную историю Мальчиша-Кибальчиша», а значит, кто-то из гостей не стукнул бы в «органы», они не наткнулись бы случайно на шкурки и не вызвали бы ОБХСС.
Суд над Додиком состоялся осенью. Об этом даже было написано в газете «Вечерняя Москва». Ему дали десять лет с конфискацией имущества. После отбытия наказания ему на пять лет запретили жить в Москве. После того как он отбыл срок и прожил пять лет в Туле на улице Смидовича, он вернулся в Москву. Мы с ним случайно встретились. Он, несмотря ни на что, очень обрадовался и пригласил меня в ресторан. Я согласилась, так как, сама не знаю почему, чувствовала свою вину за то, что с ним произошло.
Там он мне и поведал, что следователь на последнем допросе под большим секретом рассказал ему, кто на него стукнул. Это был один из его непосредственных начальников. Так что сам Додик винил во всем не сценариста, а начальника. Да и на того уже не обижался. В тюрьме он обзавелся необходимыми связями и, выйдя на волю, организовал два подпольных цеха. Один по производству трикотажных изделий, а другой по изготовлению какого- то пластмассового ширпотреба. Он очень шиковал в ресторане и делал мне весьма заманчивые предложения, забыв о том, что годы, проведенные в тюрьме и ссылке, его совсем не омолодили.
Из наших фильмов запомнились «Первые радости» по роману К. Федина и «Есть такой парень». Только не путайте с «Живет такой парень».
Из зарубежных — фильм с Евой Руткаи «Кружка пива». Скульптор Вучетич заканчивал работу над памятником Ф. Э. Дзержинскому, который позже был установлен на площади его имени, а еще позже низвержен и перевезен на Крымский вал. Но тогда, если бы кто-нибудь сказал, что такое будет возможно, — его бы сочли сумасшедшим.
АВГУСТ. 1-го числа в Лужниках состоялось открытие Центрального стадиона, которому тогда же Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено имя В. И. Ленина. А 5 августа началась Спартакиада народов СССР, которая явилась важным этапом подготовки нашей сборной перед Олимпийскими играми в Мельбурне. Исполком Моссовета запретил в Москве подачу звуковых сигналов на автомобильном транспорте. Запомнившихся фильмов в августе не было. Да мы бы их и не посмотрели, так как отдыхали в Гантиади.
СЕНТЯБРЬ. Исполнилось 50 лет уже прощенному Д. Д. Шостаковичу.
Вышел фильм «Разные судьбы». Начато строительство Московской кольцевой автодороги (МКАД).
ОКТЯБРЬ. Это был месяц, богатый на кино.
Из наших вышли фильмы «Сорок первый», «Белый пудель».
Прошла Неделя итальянского кино. «Весна», «Дорога» Федерико Феллини, «Умберто Д.» Витторио де Сика и его же фильм «Хлеб, любовь и фантазия» с Джиной Лоллобриджидой, «Мадам Баттерфляй» и «Машинист» Пьетро Джерми.
Потом был фестиваль индийских фильмов, в рамках которого показывали «Господин 420» с Раджем Капуром, «Пробуждение», «Наследник»… Гастролировал в Москве пражский цирк. Открылся каток с искусственным льдом в Сокольниках. Шло активное строительство на 1-й Мещанской улице, которая совсем скоро, на будущий год, стала Проспектом Мира.
НОЯБРЬ. Отечественный широкоэкранный фильм «Илья Муромец», а также фильмы «Человек родился», «Софья Ковалевская», «Павел Корчагин», «Кнопка и Антон» и один из любимых моих фильмов «Весна на Заречной улице» Марлена Хуциева.
Зима была очень ранняя, и уже в начале ноября открылись некоторые катки. Одним из первых открылся наш с Танькой любимый каток «Динамо» на Петровке. Мы, узнав об этом по радио, отправились туда на другой же день.
Очень большое место в нашей жизни занимало кино, катки. На танцы, скажем, в «Шестигранник», тот, что в Парке Горького, я не ходила. Татьяна, правда, таскалась туда пару раз со своей институтской компанией. Но в жизни молодежи танцы занимали огромное место, большее, пожалуй, чем сейчас занимают дискотеки. Открытие Олимпийских игр в Мельбурне. Торжественное открытие кинотеатра «Темп» на Беговой улице.
В цирке — Олег Попов.
ДЕКАБРЬ. Старое Калужское шоссе переименовано в Профсоюзную улицу.
Закончились Олимпийские игры. Наша команда по всем показателям побила основного соперника — команду США.
СССР
золотых медалей — 37 серебряных — 29 бронзовых — 32 всего — 98
США
золотых медалей — 32 серебряных — 25 бронзовых — 17 всего — 74
Из фильмов помнится только один. Зато это фильм на все времена. Это «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова. Он первый попытался «с улыбкой расстаться с прошлым»… Но не получилось. Тот, кто придумал эту фразу, был, безусловно, остроумным человеком. Он не учел только одного — с прошлым расстаться невозможно. И слава Богу! Иначе человечество вымерло бы… Для Дворца спорта лесники приглядели в лесу красавицу елку высотой 18 метров.
Все эти сведения я почерпнула из пожелтевшей пачки «Вечерки» за 1956 год, которая чудом сохранилась у меня на антресолях в прихожей.
В одной из последних газет я прочла заметку о том, что в Москву приехал популярный французский киноактер и шансонье Ив Монтан со своей женой, неповторимой Симоной Синьоре.
Первый его концерт прошел в концертном зале имени Чайковского (Мне показались занимательными эти хроники, но речь шла уже о документальных фактах, и я обязан был проверить их точность. В Исторической библиотеке я прежде всего усомнился в словах автора о «пожелтевшей пачке», так как годовая подписка размещалась в четырех громадных и тяжеленных альбомах. Но что касается информации, то она оказалась на удивление точной. За исключением того факта, что Додика судили не осенью, а в середине апреля. (Прим. ред.)).
А еще был Будапешт… Но об этом газеты почти не писали.
2
Среди студенческой молодежи Москвы за неделю до его приезда началась паника. Билеты на концерты Ива Монтана были существенно дороже билетов в Большой театр. И к тому же их не было. Вернее, они были у спекулянтов, но там в два раза дороже — почти как студенческая стипендия.
Я обратилась было в «сырную» команду Певца к женщине, ответственной за все билеты, которой я уже успела сшить летний костюмчик, но с первых же слов о Монтане поняла, как неуместна и даже бестактна была моя просьба. В окружении Певца имя Ива Монтана произносилось только с эпитетами «профанатор», «безголосый», «балаганный паяц», «захребетник», сделавший свою карьеру на женщинах.
Сперва на Эдит Пиаф, а теперь вот на великой Симоне Синьоре.
Тогда мы с Татьяной решили обратиться к нашим знакомым по коктейль-холлу Марику и Лекочке. У их родителей были безграничные возможности, но и они ничего не обещали.
После я узнала, что эти молодцы вытянули из предков столько билетов, что на первый концерт по ним прошел каждый двадцатый человек. И на каждом двадцатом человеке эти два юнца заработали по половине студенческой стипендии, то есть больше чем по сто рублей. Продавали они их не сами, а через подставных лиц. Нам же им было неудобно предлагать по спекулятивной цене, и поэтому они просто отказали.
У спекулянта купить их было тоже непросто, его еще нужно было найти. Это только перед кинотеатрами они не прятались, но там прибыль у них копеечная, а тут сотни рублей…
3
В один прекрасный день, когда мы с Татьяной вместо того, чтобы готовиться к зимней сессии, сидели с утра на телефоне и обзванивали всю Москву в поисках человека, который достал бы нам хоть самые галерочные билеты на Монтана, меня внезапно вызвали в деканат.
Не зная, что и думать, я одела самый строгий костюм и совсем не стала красить губы.
До иняза от меня можно доехать на троллейбусе, что я и делала летом, а зимой ездить на них было долго и холодно. Старые, маленькие еще троллейбусы не отапливались так хорошо, как большие современные, и стекла у них были мохнатые от мороза. Поэтому я взяла такси и всю дорогу ломала голову над тем, зачем же меня вызывают.
У декана в кабинете сидел незнакомый мне мужчина лет сорока с гладко зачесанными назад волосами и в коричневом костюме. Он сидел за маленьким столиком, приставленным к большому письменному, и внимательнейшим образом изучал содержимое раскрытой папки типа «скоросшиватель». В пепельнице, стоящей рядом, дымилась забытая папироса. Тут же лежала коробка папирос «Казбек». У меня тревожно екнуло сердце.
Декан вышел мне навстречу с протянутой для приветствия рукой. Незнакомец даже не поднял головы от бумаг.
— Здравствуйте, здравствуйте, Анна Львовна…
— Мария… — смущенно поправила я.
— Конечно, конечно, — почему-то обрадовался декан. Он был чрезмерно полный и от любого резкого движения у него начиналась одышка. — Вам, уважаемая Мария Львовна, в связи с вашими выдающимися успехами в изучении языка, оказано исключительное доверие…
— Я сориентирую товарища, — не отрывая глаз от бумаг, тихо перебил его незнакомец.
— Конечно, конечно! — еще больше обрадовался декан. Он с преувеличенной озабоченностью взглянул на часы, похлопал себя зачем-то по карманам и как бы сокрушенно развел руками. — Евгений Кондратьевич введет вас в курс дела, а мне, к сожалению, нужно бежать…
Он потряс мне руку и, с испугом заглядывая мне в глаза, проникновенно сказал:
— Я очень на вас надеюсь…
Незнакомец легонько прокашлялся, и декан, шумно дыша, убежал.
— Садитесь, — кивнул Евгений Кондратьевич, все еще не глядя на меня и указал рукой на стул напротив.
Я села.
Некоторое время мы молчали. Евгений Кондратьевич торопливо долистывал странички, сшитые в папке. Очевидно, для того, чтобы мне не было видно, что на них написано, он слегка приподнял папку и держал ее в руках перед собой. На самой папке каллиграфическим почерком черной тушью была выведена моя фамилия. Я зябко передернула плечами.
— Ну как, вы сшили себе новую шубку или все еще в бабушкиной бегаете? — внезапно, как бы между делом, спросил он и внимательно посмотрел на меня из-за папки.
Я почувствовала, как кровь бросилась мне в лицо, а ноги почему-то похолодели.
— В бабушкиной… — просипела я голосом удавленника.
— Это плохо… — сказал он наконец, захлопнув папку и положив ее рядом с собой лицом вниз.
Он откинулся на стуле и, откровенно изучая меня, забарабанил белыми пальцами с ухоженными ногтями по коробке папирос.
— Это очень плохо, — повторил он с удовольствием, — вам действительно очень пошла бы шубка из золотистого каракуля… Ну ничего, шубку получите по этому адресу.
Он вынул крошечный блокнотик в картонной обложке, нацарапал там несколько слов, вырвал листок и протянул его мне. Я прочла: «ГУМ, секция № 200, распоряжение М. У. № 9, № 13/34 от 23.12.1956» и ничего не поняла. Он мне объяснил, как найти 200-ю секцию ГУМа, кому назвать номер требования, где расписаться в получении.
— Выбирайте, какая понравится, — сказал он в заключение, — хотя не думаю, что там очень большой выбор… — Я машинально кивнула. — А почему вы не спрашиваете, с какой стати вам выдают такую дорогую спецодежду? — почти весело спросил он, явно наслаждаясь моей растерянностью.
— Я думаю, вы мне все равно об этом скажете, — начала злиться я.
— Вы знаете, что к нам в страну приехал наш большой друг, член Коммунистической партии Франции товарищ Ив Монтан с супругой?
Я кивнула.
— Вас направляют к ним вторым переводчиком.
— Что значит вторым?
— Это значит, что первый уже есть. Но когда супруги захотят провести время врозь, а программой пребывания это предусмотрено, то им понадобится второй переводчик.
— Но почему я? Я ведь только на втором курсе? — растерялась я.
— Вы возражаете? — прищурился Евгений Кондратьевич.
— Нет, нет, конечно, не возражаю…
— Вот и хорошо. И руководство института не возражает, а даже наоборот — рекомендует вас… И компетентные органы поддерживают вашу кандидатуру…
Он открыл пачку папирос, достал одну, классическим жестом постучал бумажным мундштуком по крышке, сдул выпавшую табачную крошку на пол, прикурил, сделал несколько затяжек и положил дымящуюся папиросу рядом с первой, погасшей. Дым замысловатой ядовитой струйкой пополз к моим ноздрям…
— Вышеназванные органы очень надеются, что вы достойно будете представлять нашу великую страну и не ударите в грязь лицом перед неожиданными трудностями. С этой минуты вы поступаете в мое полное распоряжение и обязаны каждый день давать мне исчерпывающий отчет по телефону, во сколько бы вы ни освободились. Вот вам номер телефона.
Он, предварительно написав на нем телефон, вырвал из блокнотика еще один листик и протянул мне. Потом достал из кармана и положил передо мной две фотографии. На них были двое неприметных мужчин неопределенного возраста.
— Запомните этих людей. К ним вы всегда можете обращаться, если возникнет какая-нибудь нештатная ситуация.
— А как я их найду? — спросила я, незаметно отстраняясь от дыма забытой им папиросы.
— Они будут постоянно рядом и сами вас найдут, если случится что-то непредвиденное. Вы должны всячески ограждать товарища Ива Монтана с супругой от всевозможных провокационных вопросов и заявлений…
— Каким образом? — тревожно спросила я.
Евгений Кондратьевич поднял брови и внимательно посмотрел на меня, словно внезапно засомневался в правильности выбора кандидатуры.
— Вы их просто не переведете, — сказал он после длительной паузы. — Не переведете этих сукиных детей! — крикнул он и оглушительно шлепнул ладонью по шаткому столику. Пепельница подпрыгнула и задребезжала. Папироса, свалившись с бортика пепельницы, покатилась по полированному столу и упала на ковер. — Не переведете — и все, — повторил он, внезапно успокоившись.
Он встал, нагнулся, поднял папиросу.
— И эти подонки и отщепенцы подавятся своими провокационными вопросами и заявлениями, — сказал он и с таким ожесточением смял папиросу в пепельнице, что из нее брызнул табак.
Он сел, достал из коробки следующую папиросу и, проделав с нею точно такие же манипуляции, положил на борт пепельницы. Дым опять пополз мне в лицо.
— Вам разрешено входить в гостиницу, принимать мелкие подарки и сувениры, выполнять различные просьбы и поручения, предварительно посоветовавшись со мной. Каждое утро за вами будет заходить машина, и вы вместе с Андреем — так зовут другого переводчика, вашего напарника, — будете приезжать ко мне на инструкцию…
— Куда приезжать? — простодушно спросила я.
— Туда, куда вас привезут, — невозмутимо ответил Евгений Кондратьевич. — После инструкции вы будете направляться в гостиницу и сопровождать наших дорогих гостей до отбоя. Вдвоем или поодиночке, смотря по обстоятельствам. Вы должны ни на секунду не терять их из вида. Товарища Ива Монтана в случае чего будете сопровождать вы, а супругу… — он как-то со значением подкашлянул, — Симону Синьоре будет сопровождать Андрей. Вам все ясно?
Я кивнула.
— Не слышу ответа, — ласково произнес он.
— Все ясно, — звонким пионерским голосом выкрикнула я и чуть не вскинула руку в пионерском салюте.
Евгений Кондратьевич с печальным сожалением покачал головой.
— Я вижу, вам не все ясно… — с отеческой укоризной произнес он. — Это вам не игрушки! Это — не краденый каракуль покупать и со всякими подозрительными личностями якшаться. Это серьезнейшее политическое мероприятие. И здесь не может быть «все ясно»! — Он удивительно точно повторил мою интонацию. — Здесь должно быть все ясно! Таких, как вы, сотни! Тысячи! Но именно вам оказано высокое доверие. — Он многозначительно поднял палец вверх. — Очень высокое. И я вам по-дружески советую его оправдать.
Я чуть было не брякнула, что очень дорожу его дружбой, но вовремя сдержалась. Меня интересовало совершенно другое.
— Скажите, Евгений Кондратьевич, — робко обратилась я к нему, — мне придется его сопровождать и на концерты?
— И на концерты, и на концерты, — ответил он, укоризненно качая головой, словно заранее зная, что я скажу.
— А можно мне будет еще один билет или пропуск?..
— Можно. Только никаких контактов во время работы. Ни автографов, ни фотографий, ничего. Можно только цветы на сцену. Товарищ надежный?
— Это моя подруга — сказала я.
— Знаю, что подруга. — Он недовольно поморщился. — Я спрашиваю, как она сейчас — надежная, выдержанная?
— Вполне.
— Хорошо, — сказал Евгений Кондратьевич. — Вы отвечаете за нее головой. Будет вручать ему цветы на концертах, как Мао Цзедуну… — Он лукаво усмехнулся.
Так мы с Танькой посмотрели почти все концерты.
4
Андрей оказался таким былинным красавцем, что, увидев его, Танька застонала, а я, кажется, поняла принцип, по которому отбирались кандидатуры для обслуживания дорогих гостей.
Когда супруги были вдвоем, то первую скрипку играл Андрей, а я у него была как бы на подхвате. Он сперва часто советовался со мной по поводу произношения того или другого слова, пока я ему не объяснила, что у меня произношение начала века, а его учили современному, значит, так, как говорит он, даже правильнее.
Наш спор разрешила Симона Синьоре. Она сказала, что в Париже говорят и так, и эдак, только языком Андрея говорят военные и полицейские, а моим — аристократы.
Андрей на это замечание жутко покраснел и стал еще симпатичнее. Чтобы утешить беднягу, Симона накрыла его ладонь своею и дружески пожала. От этого Андрей зарделся еще сильнее.
Ив звал меня «русская матръёшка». Началось это после того, как мы в магазине «Подарки» на улице Горького купили ему огромную полуметровую матрешку. Он нес ее по улице, прижав к груди, и привлекал всеобщее внимание. Потом, оглянувшись на меня, воскликнул с лукавой улыбкой:
— Я не знаю, кто из вас больше матръёшка — она или ты, но вы мне обе очень нравитесь. Жалко, что нельзя вас обеих сразу обнять.
По-русски это звучит как-то неуклюже, или я не могу это перевести, сохранив весь галльский блеск, но по-французски это было сказано изящно…
Мне это было очень приятно, так как я понимала, что он имеет в виду. Дело в том…
5
Дело в том, что в двухсотой секции ГУМа манто из золотистого каракуля не оказалось, а норковые мне, очевидно, были не положены по чину, поэтому выбор был действительно невелик. В самый последний момент я заметила короткую шубку из рыжей лисицы. Это было прямо противоположное тому, что я задумывала, но делать было нечего, я взяла ее, потому что мне тут же в голову пришла другая, не менее увлекательная идея…
В этой же волшебной секции я выбрала огромную роскошную чистошерстяную шаль. По тонкой, мягкой и ласковой материи цвета топленых сливок были рассыпаны сочные красные розы. По краям была потрясающая бахрома. Сгорая от нетерпения, я примерила ее, надев поверх шубки и закинув один из концов за спину. Честно говоря, я сама себе понравилась. Щеки у меня пылали от жары и возбуждения. Я представила, как они будут розоветь на морозе, и это окончательно решило дело.
Деньги у меня были, оставались от тех, что вернул Митечка, и я была готова на серьезные траты, так как никак не могла поверить в соблазнительные слова: «получите», «выдают» и «спецодежда», употребляемые Евгением Кондратьевичем в первом нашем разговоре.
Когда я окончательно определилась, милая продавщица, дружелюбно улыбаясь, стала выписывать чек, а я подумала, что чудес на свете не бывает, но, когда я на чеке, уже около кассы, прочла общую сумму в пятьсот рублей, поняла, как была не права…
Для современных, особенно молодых, читательниц эти цифры ровно ни о чем не говорят, поэтому я себе позволю для сравнения привести несколько цен. Хорошее зимнее мужское пальто из дорогого драпа с каракулевым воротником стоило 1000 рублей. Обычная женская цигейковая шуба — 3000 рублей. Так что пятьсот рублей за лисью шубку до колен и за роскошную чистошерстяную шаль — это цена сказочная.
На меня прямо повеяло сладостным дыханием далекого коммунизма… Тогда мы еще не знали, когда он наступит. Только в 1960 году Н.С.Хрущев объявил нам точное время его прихода — 1980 год.
6
Итак, мы шли из магазина «Подарки» в гостиницу «Националь». Всемирно известный певец в замечательном твидовом пальто, перетянутом широким поясом, без шапки, с поднятым воротником, с прижатой к груди полуметровой матрешкой, и рядом с ним я — живая матрешка в шали точно таких цветов, как на игрушке. На мне были туфли на высоком каблуке и ботики, так что ростом я была почти вровень с высоким Монтаном. Валил крупный мягкий снег и ложился на его густые, небрежно уложенные назад волосы.
Зрелище, надо сказать, было выдающееся. Недаром, когда мы переходили наискосок улицу Горького, весь транспорт остановился. Один из таксистов не сдержал восхищения и дал запрещенный недавно длинный гудок. За ним загудели другие шоферы.
Милиционер вместо того, чтобы начать всех подряд штрафовать, взял под козырек. Прохожие, мгновенно собравшиеся по кромке тротуара, начали аплодировать и махать руками, словно встречали правительственный кортеж из Внукова с каким-нибудь высоким иностранным гостем.
Ива Монтана у нас очень любили. Я — как и все. Можете представить, какое я удовольствие испытывала, идя рядом с ним. Удовольствие это стократно усиливалось от его тонкого французского ухаживания. Когда раздались гудки и аплодисменты, он слегка улыбнулся, посмотрел на меня и сказал с непередаваемой интонацией:
— Я никогда не думал, что в Советском Союзе так высоко ценят красивых женщин…
Я зарделась от столь изысканного комплимента… Пролепетала что-то, пытаясь вернуть ему так ловко переадресованную мне народную любовь, но не нашла нужных слов, запуталась и замолчала, еще больше покраснев.
7
В огромном трехкомнатном люксе, который они занимали с Симоной Синьоре, никого не оказалось.
Он помог мне раздеться. Делал он это так изящно! Казалось, шуба сама соскальзывает с моих плеч и исчезает. Потом мы прошли в гостиную, и Ив Монтан поставил матрешку на рояль.
— Как вы думаете, я могу ее… раздеть? — спросил, он глядя на меня с каким-то затаенным лукавством.
— Конечно, — ответила я.
— Вы думаете, ей будет это приятно?
— Безусловно, — улыбнулась я. — Ведь она для этого и создана…
Он принялся энергично тереть ладони и, сложив их лодочкой, греть своим дыханием. При этом он поглядывал на меня, явно ожидая моей реакции.
— Вы замерзли? — простодушно спросила я.
— Я — нет! — воскликнул он. — Но не могу же я прикоснуться к даме холодными руками…
Приложив ладони к своим щекам и, видимо, сочтя их температуру удовлетворительной, он протянул было руки к матрешке, но тут же испуганно отнял и вопросительно, с надеждой взглянул на меня. Словно это меня он хотел раздеть, но не был до конца уверен, понравится ли мне это. Я, подключаясь к его игре, медленно кивнула ему.
Бесконечно осторожно он протянул свои тонкие и чуткие пальцы к матрешке и, снова взглянув на меня, робко прикоснулся к ее гладкому боку, словно к живому бедру… Нежно погладил. У меня от этого движения мурашки побежали по коже… Словно он прикоснулся к моему… Я непроизвольно прикрыла глаза. Он, явно заметив мою реакцию, плавно снял верхнюю, самую большую половинку…
— О, мой Бог! — воскликнул он, восхищенно качая головой и даже слегка отворачиваясь, будто ослепленный увиденным… Прежде чем поставить крышку на рояль, он перевернул ее и понюхал внутри. Даже с моего места — а я стояла по другую сторону рояля — был слышен приятный запах свежего, морозного дерева. Один из моих любимых запахов. Еще я люблю, как пахнет только что внесенное в дом, вымороженное после стирки белье.
Ив Монтан закрыл глаза, с шумом втянул воздух затрепетавшими тонкими ноздрями и прошептал:
— Как очаровательно вы пахнете, мадам!..
Потом он собрал первую, самую большую матрешку, и принялся за вторую, потом за третью, десятую… Всего их образовалось четырнадцать. И с каждой из них он снимал оболочку, будто снимал новую деталь туалета с живой женщины… И смотрел при этом на меня…
Я не знаю, чем закончилось бы это раздевание, если бы в номер не вошли Симона и Андрей, а за ними какие-то люди из Министерства культуры, из Общества дружбы с Францией, работники французского посольства, человек с фотографии, которую демонстрировал мне Евгений Кондратьевич, и шофер с какими-то свертками.
Четырнадцать матрешек, выстроенных в ряд на черной идеально отполированной крышке рояля, произвели на всех огромное впечатление. Все оживленно загалдели. В поднявшейся веселой суматохе Симона Синьоре изучающе посмотрела на меня, потом бросила на Ива быстрый вопросительный взгляд, на что он ответил тоже безмолвным вопросом и нашел глазами красавца Андрея.
«Жизнь непроста, — с грустью подумала я, — даже у мировых знаменитостей…» Но грусти моей хватило ненадолго. Воспоминания о его прикосновениях к матрешке, о его взглядах, вздохах и восклицаниях быстро исправили мне настроение.
В этот день они с Симоной больше не расставались. Когда я случайно встречалась взглядом с Монтаном, то в его глазах читала напоминание о тайне, связывающей нас…
8
Через пару дней, после утреннего концерта, во время которого публика буквально завалила его цветами, и обязательного приема в его честь с бесчисленными изнурительными тостами, мы стояли с Ивом в вестибюле Центрального дома композиторов в окружении виднейших мастеров музыкального искусства — Тихона Хренникова, Марка Бернеса и Леонида Утесова. Среди них был и закутанный в белый шарф Певец с рассеянным и отстраненным лицом, в окружении выездной команды «сырих».
Улучив момент, когда вокруг нас не осталось ни одного франкоговорящего человека, Ив вставил в ответ Тихону Хренникову слова, предназначающиеся только мне:
— Нам надо поговорить… — И, оглянувшись, незаметно приложил палец к губам. Неподалеку маячило лицо с фотографии Евгения Кондратьевича.
Мне кажется, что Ив узнал их раньше, чем я, не видя при этом никаких фотографий. Каждый раз, сталкиваясь нос к носу, он с французской учтивостью здоровался с ними, награждая при этом такой язвительной улыбкой, что, будь на их месте люди потоньше, они бы давно сгорели или провалились на месте от стыда. Но моим «коллегам» ничего не делалось. Стыдно становилось мне, и я невольно задумывалась о том, догадывается ли Ив о моем тайном задании, которым меня нагрузил несгибаемый Евгений Кондратьевич? Правда, я выполняла его спустя рукава. То есть совершенно не выполняла.
Каждый вечер я своевременно звонила ему и докладывала, что день прошел без происшествий, никаких непредусмотренных инструкцией действий мой поднадзорный не совершал, подозрительных контактов не имел, провокациям не подвергался.
На что каждый раз Евгений Кондратьевич долго молчал, как-то подкряхтывал и потом произносил голосом, полным отеческой укоризны:
— Ох, не понимаете, не понимаете вы серьезности задания лично для вас… Ведь гостю что? Он коммунист, проверенный товарищ. Он споет и уедет в свою Францию к оасовцам, а вам тут жить дальше. С нами…
Аккуратно переведя ответную реплику Хренникова, я закончила ее словами:
— Я готова поговорить. Но когда и где?
— Нужно оторваться от этого воротника… — сказал Монтан, указывая мне глазами на лицо с фотографии.
— Но как это сделать? — еле вымолвила я. Внутри у меня все оборвалось. Я не знала, что означает это таинственное предложение. То ли это начало романа, то ли попытка завербовать меня. И то и другое ничем мне хорошим, как вы понимаете, не грозило при таком неусыпном наблюдении.
— Сейчас попробуем… — весело улыбнулся Монтан. Он надел пальто, благоговейно поданное каким-то незнакомым мне композитором, собрал сваленные на бархатную банкетку в гардеробе букеты цветов в одну охапку и внезапно шагнул к ничего не подозревавшему филеру, который потел в своем тяжелом пальто на ватине, якобы с интересом изучая какую-то афишу.
— Камарад, — с широкой свойской улыбкой сказал Монтан, — ты не поможешь оттащить этот гербарий в гостиницу? Моя жена обожает цветы. Скажешь, что это от меня, она будет счастлива! — И, как охапку дров, свалил ему на руки цветы.
Нужно было видеть, как ошалело лупало глазами лицо с фотографии, инстинктивно прижимая к груди букеты.
— Это здесь недалеко… — тараторил Монтан, похлопывая его по плечам. — Зайдешь в отель «Националь», спросишь, где живет Симона Синьоре, и тебе каждый рассыльный покажет. Ты не представляешь, камарад, как она будет счастлива, получив зимой такие прекрасные цветы. Скажи, что я просил подарить тебе нашу фотографию с автографами — она знает, где они лежат. Ты все запомнил, камарад?
Я перевела, стараясь сдержать смех.
Камарад обалдело кивнул.
— Что он сказал? — спросил Ив Монтан.
— Что вы сказали? — спросила я у лица.
— Я гм, гм… — прокашлялся он.
— Вы все поняли? — спросила я, понижая голос.
— Да, но я… — деревянным голосом начал он.
— Вы хотите международного скандала? — тихо поинтересовалась я.
— Нет! Не хочу! — просипело лицо.
— Камарад счастлив оказать вам эту услугу, — перевела я и незаметно подмигнула Монтану.
— Что ты тянешь, любезный? — прошипел откуда-то сзади Тихон Хренников и улыбнулся что есть мочи дорогому гостю. — Быстро делай что тебе говорят! Чтобы цветы не замерзли, возьмешь у подъезда мою машину номер 18–32, скажешь, я велел.
Лицо с цветами исчезло. Музыкальная общественность гурьбой высыпала на улицу нас провожать. Все были раздетые. От разгоряченных лысин валил пар. Видно было, что все намерены вернуться и продолжать банкет.
Только Певец был как всегда закутан и задумчив. Он направлялся домой, благо жил в нескольких десятках метров от Дома композиторов. Он не собирался оставаться на банкете не в его честь… Встретившись со мной взглядом, он ласково кивнул. Он не сердился на меня, понимая, что я приставлена к этому «выскочке» не по своей воле…
9
Когда мы оказались в машине, то, не сговариваясь, дружно расхохотались. Отсмеявшись, Монтан сказал:
— Послезавтра Рождество, а я еще не купил Симоне подарка. Я хочу, чтобы ты мне помогла. Я хочу выбрать что-нибудь очень хорошее, но чтобы это был секрет.
— А что любит мадам? — спросила я.
— Она обожает фарфор. Хороший старинный фарфор. У вас есть магазин, где это можно купить?
— Конечно, есть! — облегченно воскликнула я. — Но зачем нужно было отсылать этого типа? Он же все равно ничего не мог сказать мадам, потому что не знает французского.
— А что бы я потом рассказывал Симоне? Разве это было бы романтично? Для дамы сердца нужно рисковать.
— Вы потрясающий кавалер! — воскликнула я.
— Я француз! — с достоинством ответил Ив Монтан.
Мы поехали в антикварный магазин, что на улице Горького между площадью Маяковского и Белорусским вокзалом.
В магазине Ив Монтан, пересмотрев весь существующий в наличии фарфор, остановился на прелестном кофейном сервизе фабрики Попова.
Он долго не мог поверить, что этот сервиз сделан в России, а когда я это ему объяснила, показав все полагающиеся клейма, восторгам его не было конца. Но когда заведующая секцией, решительно отодвинув молоденькую продавщицу с трясущимися от возбуждения руками, сама завернула сервиз в мягкую бумагу и уложила в коробку, вдруг оказалось, что у Монтана не хватает советских денег. Притом не хватало приличной суммы — что-то около полутора тысяч рублей.
Когда это обнаружилось, он, нисколько не смутившись, достал из кармана бумажник крокодиловой кожи с монограммой и начал предлагать заведующей на выбор франки, доллары, марки, фунты стерлингов и даже итальянские лиры.
Заведующая, посерев от страха, безмолвно отпихивала валюту и твердила как заведенная:
— Пожалуйста, я вас очень прошу, пожалуйста… — и умоляюще смотрела при этом на меня.
Я объяснила Монтану, что в нашей стране это совершенно невозможно, что у заведующей могут быть крупные неприятности по службе, если она примет валюту.
— Но все остальные русские деньги у Симоны, — сказал он и посмотрел на меня с детской беспомощностью. — Она мой менеджер. Она где-то меняла деньги, а где, я не знаю… Я даже не знаю курса и хватит ли мне этой мелочи…
Я взяла у него из рук разрозненные смятые купюры, аккуратно их сложила, положила обратно в бумажник и засунула бумажник ему в карман пиджака.
— Все будет хорошо, пойдемте, — сказала я и сама улыбнулась просквозившей в моем голосе материнской интонации. Больно уж он был похож на ребенка, которому вдруг отказали в давно обещанной игрушке.
— Куда мы пойдем? — капризно спросил он, не спуская взгляда с заветной коробки, уже перевязанной по его просьбе розовой лентой. — А Симона? А Попофф?
— Пойдемте, я все улажу с деньгами.
— Тогда нужно внести задаток, — забеспокоился он, — иначе этот прелестный сервиз тут же купят. Это же настоящая редкость.
— Не купят, — успокоила я его. — У нас же есть чек! — Я потрясла в воздухе бумажкой. — Магазин не имеет права продавать его целых полчаса, а за это время мы успеем привезти деньги.
— А если придет богатый человек и предложит им в два раза больше, чем мы?
— Такого не может быть! — твердо заверила я его. — Цена товара в этом магазине может только уменьшаться со временем.
— О, великая страна! — воскликнул Ив Монтан, воздевая руки к потолку, к роскошным хрустальным люстрам, выставленным на продажу.
Заведующая секцией посуды, как только я убрала валюту, снова порозовела и заулыбалась. Когда я объясни ла ей ситуацию, она заулыбалась еще сильнее и заверила нас, что спешить совершенно некуда, так как сейчас без пятнадцати два, а обеденный перерыв у них с двух до трех. Стало быть, у нас есть больше часа времени. И потом, разве она не понимает, кому она продает… Она ни на что не претендует, даже на билетик, потому что была на первом его концерте, но лично досмотрит, чтобы сервиз не был выставлен на продажу до самого вечера… А может, и еще на сутки…
Я поблагодарила ее и уверила, что сразу же после обеда мы непременно за ним заедем…
Уже уходя из магазина, я машинально взглянула на противоположную витрину, где была выставлена металлическая посуда, серебряные приборы, портсигары, часы, мелкая металлическая скульптура, курительные трубки, янтарные мундштуки, вееры, письменные приборы и прочие приятные вещи, и обомлела. На полке, в правом углу, я увидела мой, вернее, еще дедушкин подстаканник.
Подтащив с собой к прилавку Монтана, я, путаясь от волнения в словах, объяснила продавщице, что именно я хочу. Наконец она подала мне подстаканник. С замирающим сердцем я перевернула его и прочла выгравированную старинным каллиграфическим почерком надпись. Никаких сомнений быть не могло. Это был дедов подстаканник, вынесенный из дома Митечкой.
Монтан, видя мое волнение, осторожно поинтересовался, в чем дело.
— Это мой любимый подстаканник. Он принадлежал моему дедушке. Его два года назад украли. И вот теперь я его нашла.
— Поздравляю, — очень серьезно сказал Ив Монтан. — Это добрый знак судьбы.
Я выписала и подстаканник и счастливая вышла из магазина. Ив радовался подстаканнику больше, чем сервизу, и постоянно твердил, что это знак. Что для меня кончилось время потерь и наступило время приобретений…
10
Я прекрасно понимала, чем мне грозит такое явное нарушение инструкций Евгения Кондратьевича. В конце концов, бесшабашно думала я, коммунист Монтан или не коммунист? Друг или враг? Да, в инструкции не сказано, что я могу его пригласить к себе домой, но нигде не сказано, что этого категорически нельзя делать. Что же мне делать, раз сложилась такая ситуация? Разве это будет прилично, если я попрусь к себе домой, а его оставлю сидеть в машине? А где же тогда наше всемирно известное гостеприимство? И магазин только через час откроется… Что же, нам этот час перед закрытой дверью ходить? И что будет плохого, если я предложу дорогому гостю чашечку кофе?
Я попросила шофера нашего прикрепленного «ЗИМа» подождать, сказала, что мы выйдем минут через сорок, чтобы он не беспокоился и не поднял паники, и мы вошли в наш подъезд.
Надо сказать, что он хоть и был в сносном состоянии, но сильно отличался от подъезда гостиницы «Националь» и от других официальных подъездов, в которые заходил Монтан. Он с удовольствием и, как мне показалось, даже с умилением рассматривал выцарапанные, а также исполненные чернильным карандашом, мелом, куском кирпича, губной помадой надписи и рисунки. Особенно похабные рисунки были прорезаны в штукатурке гвоздем и дерзко проступали из-под тройного слоя какой-то отвратительно зеленой краски, которой постоянно подкрашивали стены в нашем подъезде.
Монтан с видом знатока поцокал языком, любуясь этими рисунками, а надписи попросил перевести.
— Все? — испугалась я.
— Все, всё! — весело подтвердил он.
Я начала с самых легких.
— Лилька самка собаки…
— Сука! — деловито сказал он. — У нас говорят сука. Неужели вас не учат этому в институте?
— Нас не этому учат в институте, — улыбнулась я. — К тому же французскому языку меня с трех лет учила бабушка. Она не могла себе позволить научить таким словам ребенка.
— Ваша бабушка была француженка? — с надеждой спросил Ив.
— Нет, она закончила Институт благородных девиц.
— А это что написано?
— Маша + Леша = любовь до гроба — дураки оба, — перевела я.
— А кто этот Лъеша? — лукаво спросил Монтан.
— А почему вы не спрашиваете, кто Маша? — скокетни- чала я.
— Полагаю, здесь живет только одна Маша, достойная любви.
— В нашей стране любви достойна всякая Маша, — отшутилась я.
— А это что?
Там было написано: «Х…Й и П…а из одного гнезда».
Разумеется, без всяких точек.
— Это невозможно перевести, — смутилась я.
— Чепуха! Все можно перевести по меньшей мере тремя способами.
— Какими?
— С арго на арго, с арго на медицинскую латынь или на обиходный язык. Допускаю, что арго парижских клошаров вы не знаете, тогда переведите на любой из двух оставшихся.
— Пенис и влагалище из одного гнезда, — перевела я.
— А где же поэзия? — удивился Монтан. — Тут же явно записано стихами. Пожалуйста, прочтите, как это звучит по- русски.
Я прочла.
Он несколько раз со вкусом повторил последнее слово первой строчки.
— Очень, очень поэтично звучит! — воскликнул он, прищелкивая пальцами. — Вы знаете, что в молодости я жил в рабочем квартале. Там то же самое писали на стенах. Только по-французски… — засмеялся он.
Монтан поднял голову к потолку. Он был весь в расплывшихся черных точках, посреди которых торчали обугленные спички.
— И это мы делали. Это называлось «пролетарский салют».
— А как это делается? — спросила я. Мне давно не давала покоя эта загадка.
— Вы действительно не знаете? — усомнился Ив.
— Честное слово.
Он достал из кармана пальто спички и посмотрел через перила вверх и вниз, не идет ли кто. Потом извлек из коробка спичку, поплевал на стену в том месте, где начиналась побелка, и соскреб на деревянный кончик увесистый комочек размокшего мела. Потом приложил спичку головкой к полоске серы на спичечном коробке и одним движением, чиркнув головкой по сере, подбросил спичку к потолку. Спичка прилипла меловым комочком к потолку. Это произошло так быстро, что спичечная головка вспыхнула и разгорелась только под потолком. Спичка живо занялась, пространство вокруг нее моментально покрылось копотью. Сгорая, спичка изогнулась наподобие рыболовного крючка и так и застыла.
— Пролетарский салют! — сказал очень довольный собою Ив Монтан. — Это не всегда получается. Сегодня фортуна смотрит на нас!
11
Войдя в квартиру, он со свойственной ему импульсивностью, даже не раздеваясь, прошел в гостиную и, оглядевшись, пощелкал пальцами от восхищения.
— Я так и думал, так и думал…
— Что?
— Что эта матръёшка благородного происхождения… — улыбнулся он. — Кто ваши родители?
— Они были врачами.
— Были? — уточнил он.
— Да, их нет…
— А дедушка, который пил чай из русского стакана с подстаканником?
— Он тоже был врач.
Он подошел ко мне и, энергично потерев руки и подув на них, спросил:
— Я могу раздеть эту матръёшку?
— Конечно… — улыбнулась я.
— Вы думаете, ей это будет приятно? — спросил он, пристально глядя мне в глаза.
— Думаю, да… — сказала я и, подумав, добавила, как тогда в «Национале»: — Ведь она для этого и создана…
Как и тогда, он протянул ко мне руки и тут же отдернул, взглянув на меня с последним вопросом. Я слегка прикрыла глаза…
Он осторожно отстегнул огромную декоративную бронзовую булавку, которой была заколота шаль, положил ее на стол и, взяв за кончик, отвернул конец шали, потом шагнул ко мне почти вплотную, завел руки мне за спину, перехватил кончик и полностью развернул шаль. Потом он, не спуская с меня глаз, аккуратно свернул шаль и, поднеся к лицу, глубоко вздохнул, закрывая от блаженства глаза…
— О, мой Бог! — простонал он.
Шаль пахла морозом и духами «Ландыш серебристый».
Положив шаль на стул, он, запустив кончики пальцев под отворот шубки, нащупал скрытые пуговицы и не спеша одну за другой расстегнул их. Когда полы шубки разошлись, он слегка отодвинулся и восхищенно покачал головой, прошептав:
— Черт меня возьми! Это каждый раз так внезапно…
«Что он там такого увидел?» — подумала я.
Он зашел сзади, и шубка нечувствительно соскользнула с моих плеч. Я стояла не шелохнувшись. На какое-то мгновение он задержался за моей спиной, а когда появился передо мной, то был уже без пальто.
Я и опомниться не успела, как, опустившись на одно колено, он отстегнул кнопку ботика и, слегка придерживая мою ногу за щиколотку, приподнял ее, вернее, предложил мне ее приподнять и стянул ботик вместе с замшевой лодочкой на высоченном каблуке. Чтобы не потерять равновесие, я оперлась рукой на его плечо.
Поставив мою ногу на пол, он вытащил туфлю из ботика. Потом он снова взял меня за щиколотку. Я почувствовала, какие у него горячие руки. Погладив ступню, он ловко надел на нее туфлю.
Вторую ногу ждала точно такая операция. Только поставив уже обутую ногу на пол, он медленно провел рукой от щиколотки вверх по икре до самой подколенной чашечки.
Я невольно сжала его плечо. Он посмотрел на меня снизу вверх, сильно наморщив лоб, и прошептал:
— Я знал, что русские женщины прекрасны, но даже не представлял, что настолько…
Он легко поднялся и, робко протянув руку к пуговице моего официального, правда, очень сильно приталенного пиджака вопросительно посмотрел на меня…
Все-таки он был великим актером. На меня никогда еще не смотрели столь красноречиво. В этом взгляде было и удивление, и восторг, и вопрос, и просьба. Мне предстояло ответить на все сразу.
Но что я могла ответить, если от его руки, скользнувшей по моей ноге, сладкая дрожь пробежала по всему телу и закружилась голова, как от глубокой затяжки сигаретой. «Что ты делаешь, дура?» — расслабленно подумала я. Где-то далеко прозвучал зловещий голос Евгения Кондратьевича: «Ему что? Он споет и уедет, а тебе тут оставаться с нами…» «А-а! Черт с ними со всеми…» — решила я.
Но он ждал ответа на все свои вопросы…
— А если придет шофер? — хриплым голосом спросила я.
— Мы ему не откроем… — сказал он, медленно расстегивая первую пуговицу.
— Это очень рискованно… — сказала я не столько для того, чтобы его предостеречь, сколько для того, чтобы поддразнить.
— Я же француз. Какая любовь без риска? — шевельнув тонкими ноздрями, произнес он своим волшебным полушепотом, которым очаровывал концертные залы, и прикоснулся ко второй пуговице…
12
Никогда ни до ни после я не испытывала ничего подобного. Он был безумно пластичен. Его руки были божественно медлительны, расторопны и умны одновременно. Из его пальцев истекала в меня какая-то волшебная энергия.
Я не знала более обаятельного мужчины в те моменты, когда они забывают обо всем, кроме своей страсти. Никто и никогда, кроме него, не относился к моему телу с таким мистическим поклонением и религиозным восторгом, словно оно было ниспослано ему в дар непосредственно Богом, без моего участия.
В какое-то мгновение мне показалось это обидным, но потом я вдруг поняла, что моя грудь, живот, бедра, каждая часть моего тела — это вся я, вернее, мы со всем нашим крошечным прошлым, с шутками и тайнами, со всем нашим несбыточным будущим… Он не отделял меня от моего тела, как делали многие, почти все…
То, что происходило, было похоже на какой-то утонченный фантастический танец. С необычайной легкостью он извлекал из меня самые сокровенные, самые утонченные звуки любви. И я упивалась ими в полной тишине, забыв обо всем на свете. Ни стона, ни вскрика не вырвалось из меня. Мне хотелось петь… И я лежала, плотно сомкнув веки и губы, чтобы не выпустить из себя эту восхитительную музыку.
И по тому, как чудесно мы с ним совпадали, я поняла, что он слышит ту же мелодию…
13
Когда мы оделись, оказалось, что прошло всего полчаса, которые показались мне целой жизнью…
— Я же хотела предложить вам чашечку кофе! — воскликнула я, медленно возвращаясь к действительности.
Потом мы пили кофе, и его взгляд опять так много выражал…
Потом я спохватилась, достала из комода недостающие деньги и положила перед ним на стол. Мне отчего-то было страшно неловко это делать.
Он же, напротив, очень мило, как сделал бы это и до всего, поблагодарил меня и, достав из кармана крокодиловый бумажник, вытряхнул из него всю разномастную валюту.
— Я надеюсь, этого хватит?.. — вопросительно улыбнулся он.
Вся кровь, которая была во мне, бросилась в лицо.
— Нет, нет… Зачем?.. Не надо! — залепетала я, отпихивая от себя валюту, как заведующая секцией недавно в магазине.
— Но почему нет? — искренне удивился он.
— Это подарок… — пробормотала я и смутилась еще больше.
— Нет, нет, — решительно сказал он и, собрав со стола валюту, бросил ее в ящик комода, откуда я извлекла советские деньги. Задвинул ящик, повернул ключ и, покачав головой, добавил: — Нет! Это было бы слишком по-русски. Как у Достоевского в романе «Идиот». — И, резко сменив тон, спросил: — Вы любите Достоевского?
— Да, — ответила я.
— Какой роман больше?
— «Братья Карамазовы».
— Не читал… — Он с сожалением пожал плечами. — У нас все читают «Идиота».
14
Когда мы вышли из подъезда, то вплотную за нашим «ЗИМом» стояла «Победа». Впереди, рядом с водителем, сидел мужчина в шапке пирожком. Мне показалось, что это Евгений Кондратьевич. Увидев, что я смотрю на него, он демонстративно отвернулся.
Эта машина ездила за нами целый день. Я так и не смогла увидеть, кто же там сидел рядом с водителем.
В тот же вечер, докладывая Евгению Кондратьевичу по телефону о том, как прошел день, я почувствовала ка- кую-то особенную тишину, с которой он меня слушал, и как бы вскользь, будто не придавая этому особого значения, сказала, что Ив Монтан побывал у меня.
Я сказала, что случайно увидела в магазине дедушкин подстаканник и упросила Ива Монтана съездить со мной за деньгами. А тут, как назло, обеденный перерыв подвернулся. Я предложила гостю кофе…
— Вам продолжают оказывать очень высокое доверие, — прошипел он в ответ, — но если вы его снова не оправдаете, вас ничего не спасет, даже ваш дедушка. — И повесил трубку.
«Слава Богу, обошлось…» — подумала я с облегчением. Как же я ошибалась…
Ив Монтан, очевидно, тоже до конца держался этой версии, хотя вряд ли ему задавали вопросы на эту тему.
Как ни странно, но эта мимолетная встреча оказала на меня огромное влияние.
В 1956-м, после событий в Будапеште, Монтан еще верил, что так надо, и, когда в августе 1968-го, после известных событий в Праге, Ив Монтан на весь мир заявил о своем выходе из Коммунистической партии Франции, я невольно задумалась о том, что происходит в нашей стране и в мире, и впервые усомнилась в правильности наших социалистических догм. Он невольно открыл мне глаза. До этого я их просто отводила от действительности…
Я не могла не вспомнить о нем.
Еще много лет, до капитального ремонта, я, возвращаясь домой, невольно поднимала голову и находила глазами черный след его ракеты и скрюченный остов спички на потолке…
Его уже несколько лет как не стало, но его голос по- прежнему живет в моем доме. Все наши и французские пластинки с его песнями, которые я смогла достать, хранятся у меня на отдельной полке. Из-за них я не выбрасываю старенький проигрыватель, хотя давно уже пользуюсь прекрасным музыкальным центром фирмы «Philips» и коллекционирую лазерные компакт-диски. И еще у меня есть пластинка с песней о «Далеком друге» в исполнении Марка Бернеса. Там есть чудесные слова:
Когда поет далекий друг, Теплей и радостней становится вокруг, И сокращаются большие расстояния, Когда поет далекий друг. Московские студенты забавно переделали эту песню: Когда поет в Москве Монтан, Пустым становится студенческий карман… И сокращаются расходы на питание, Когда поет в Москве Монтан.Между прочим, про Майкла Джексона, который тоже побывал в столице, московские студенты песню не сложили…
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ (1957 г.)
1
Со стороны моя жизнь может показаться довольно бурной, но на самом деле в последние два года она была практически монашеской, как я об этом уже говорила.
Для наглядности давайте вместе вспомним, что же со мной происходило после развода с Митечкой, с которым я жила хоть и трудной, но нормальной и, что самое главное, регулярной супружеской жизнью.
У меня была странная встреча с Певцом, ненужная, как выяснилось, ни ему, ни мне. И болезнь как результат, как наказание за равнодушие в этом главном для каждой женщины деле — в любви…
Потом был Славка, который просто оказался рядом со мной в самую трудную минуту… С которым я была близка (если не считать, конечно, того больничного, бредового случая) скорее из чувства благодарности, нежели из каких-то других чувств…
Совсем недавно один из телевизионных ведущих, симпатичный, а главное, очень остроумный человек, если только я не ошибаюсь, так определил разницу между любовью и дружбой: «Дружба — это любовь без секса, а любовь — это дружба с сексом». По-моему, очень точно. Со Славкой у нас на самом деле всегда была дружба, в которую мы по ошибке примешали секс. Но вскоре исправили эту ошибку и, исключив секс, честное слово, стали относиться друг к другу значительно лучше. Можно сказать, полюбили друг друга еще больше.
Но и находясь в состоянии ошибки, мы с ним были близки не больше десятка раз.
О Нике я не хотела бы вспоминать…
Потом была дурацкая и прекрасная ночь со сценаристом, бессознательный контакт с Автандилом, который и в счет идти не может, и, наконец, прелестное приключение с Ивом Монтаном…
Простой арифметический подсчет показывает, что за последние два года у меня было всего четырнадцать сексуальных контактов, из которых один был с женщиной, а другой — во сне…
А теперь подумайте, каково это для двадцатилетней женщины, уже познавшей прелести любви и полноценной, регулярной супружеской жизни?
Я понимаю, что бывают женские судьбы еще тяжелее, живут на свете и старые девы, но, как правило, они бывают или очень непривлекательными, или с большими психическими отклонениями. Но у меня же не было ни того, ни другого, и страдала я от своего вынужденного монашества ужасно.
Тем более что недостатка в поклонниках не было… Только на нашем курсе за мной ухаживали трое парней. И все трое были вполне ничего, но у меня ни к одному из них не лежало сердце-
Были еще двое с Танькиного курса… Один из них, правда, уехал на целину и, как я потом узнала, спился там, попал ногой под трактор, и ему раздробило ступню…
Дядя Ваня из Моссовета вдруг неожиданно стал проявлять интерес. Правда, он работал уже не в Моссовете, а в Госплане, но это было очевидное и серьезное повышение, о котором он мне очень долго рассказывал, пригласив меня в «Арагви».
Помните Лекочку и Марика, завсегдатаев коктейль-холла? Их еще протащили в фельетоне в «Вечерке»? Так вот, Лекочка начал оказывать мне совершенно недвусмысленные знаки внимания. Завалил меня цветами, шоколадом, хорошими массандровскими винами, частенько приглашал в новый коктейль-холл на восьмом этаже гостиницы «Пекин», откуда мы обычно спускались в ресторан и заканчивали вечер.
Он мне слезливо жаловался на свою жизнь, на то, что отец-сволочь не дает денег, что мать пьет и путается с отцовским шофером, что его, Лекочку, никто не любит, что все друзья его говнюки, а самое большое говно и подонок — Марик, и только я одна понимаю его душу…
В такие минуты он бывал даже мил. И я не знаю, как дальше развивались бы наши отношения, если б он проявил большую настойчивость и целеустремленность. Но он ограничивался тем, что, проводив меня домой, выпивал ритуальную чашку кофе, торопливо целовал меня в щечку и убегал, грохоча каблуками по лестнице, как когда-то я, спеша к поджидавшему меня сценаристу.
А кавалер он был шикарный, несмотря на нашу разницу в возрасте. Он был на полтора года моложе меня. И с этим я, может быть, смирилась бы, если б речь зашла о чем-то серьезном.
Только одно обстоятельство настораживало меня: я не понимала, откуда у него деньги, если отец их не дает? Насколько я знала, он с помощью отца поступил в Плехановский институт, который в то время все называли торговым, учился плохо, стипендии не получал и нигде не подрабатывал.
Эта загадка не давала мне покоя, особенно если учесть мой печальный опыт жизни с Митечкой, у которого периодически тоже водилось много денег и он их тоже проматывал с подкупающей широтой и щедростью.
Кроме того, на улице, в транспорте, в кино и в других общественных местах я постоянно ловила на себе более чем заинтересованные взгляды и понимала, что, стоит хоть как-нибудь отреагировать и одобрить очередного соискателя, как он ринется знакомиться, а там уж как Бог даст…
Но никто из них мне не нравился настолько, чтобы от одного взгляда забилось сердце. И Лекочка в том числе. Хотя, будь он поупорнее, то кто знает…
Конечно, я бы пошла за сценаристом или за Монтаном. Может быть, даже побежала бы, но ни один из них не позвал… А ведь и с тем и с другим что-то было… Возникала искорка, которая могла бы вспыхнуть самым настоящим чувством от слабого дуновения, от вздоха, слова… Но они такого слова не произнесли…
Так что эти два года я прожила практически без мужской ласки. А это очень плохо сказывается на женщине, готовой к любви, алчущей ее всею душой, всем своим молодым, горячим, истекающим жизненными соками телом.
Правда, мне могут возразить, что во время войны солдатки ждали с фронта мужей по четыре года — и ничего, держались как-то и не роптали… Ждать согласна и я, только кого? Исколотого с ног до головы Лexy с вшитым шариком? С его воровской войны? Но он мне сам запретил это. Воровской закон не разрешает ему иметь ждущих. Кого еще? Принца? Или простого бабьего счастья? Так его я ждала с утра до вечера… Его я искала в каждом встречном мужчине, обратившем на меня внимание… Его я примеривала на себя каждый раз, когда видела на Тверском бульваре молодых мамаш с колясочками или с карапузами, ковыряющимися в песочнице…
Я даже перестала ходить той стороной бульвара, где детская площадка. Почему-то ребятишки старше трех-четырех лет не вызывали у меня болезненного комка в горле, а на этих я спокойно смотреть не могла…
В общем, не лучшие два года своей жизни я прожила в самом расцвете женских лет.
2
Через неделю после отъезда Ива Монтана на родину мне позвонил Евгений Кондратьевич.
— Вы не могли бы подскочить завтра ко мне на полчасика? — с плохо скрытой угрозой поинтересовался он.
— Когда?
— Лучше с утра, чтобы вам учебу не пропускать… Часиков в десять вас устроит?
— Устроит, — соврала я, потому что в это время обычно даже не просыпалась.
— Ну вот и прекрасно, мрачно сказал он. — Кстати, как у вас с деньгами?
— Нормально… — растерялась я. — А что вы имеете в виду?
— Наверное, вы в деньгах не нуждаетесь, если за зарплатой не приходите… — вкрадчиво сказал он.
— Ой, а я и забыла… — почему-то испугалась я.
И действительно, у меня совершенно выскочило из головы, что я должна еще где-то получить за работу какие-то деньги. Где и сколько, я понятия не имела.
Все последние дни работы с Ивом Монтаном были полны переживаний. Мне все время казалось, что Симона Синьоре смотрит на меня с подозрением. А отношение ко мне Монтана после истории с покупками стало не то чтобы холоднее — нет, он был по-прежнему любезен и приветлив со мною, — но из его глаз исчез некий вопрос. Я это остро чувствовала.
И потом, я каждый день боялась, что мое чудовищное нарушение трудовой дисциплины и социалистической морали каким-нибудь образом откроется и от этого вся моя более или менее налаженная жизнь полетит вверх тормашками. Я постоянно перепрятывала по всему дому эту злосчастную валюту и каждый раз понимала, что мои простодушные тайники органам на один зубок. Кончилось дело тем, что я как- то поздно вечером вызвала Лекочку по телефону и всучила ему эти бумажки, разумеется рассказав о их происхождении.
Он их рассортировал, тщательно пересчитал и спросил у меня, поигрывая пачкой:
— А ты знаешь, сколько здесь по черному курсу?
— Откуда я знаю черный курс, — отмахнулась я.
— Он ровно в три раза выше официального.
— А какой официальный?
— Официальный… — Лекочка вынул из кармана записную книжку, открыл нужную страницу и прочитал: — Официальный курс рубля в 1950 году был повышен, переведен на золотую базу и составил 0,222188 граммов чистого золота в рубле при цене золота соответственно 4,45 рубля за один грамм. В связи с этим курс доллара США по отношению к рублю понизился и составил 4 рубля вместо прежних 5,30 рублей. Курс фунта стерлингов упал с 14,84 рублей до 11,20 рублей.
— Тебя этому в институте учат? — спросила я.
— Если бы… — усмехнулся Лекочка. — Жизнь учит…
— Ну хорошо, и что же из твоей математики следует?
— А из моей математики следует, что твой француз — прижимистый парень…
— То есть? — нахмурилась я.
— Без всякого «то есть»… — рассмеялся Лекочка. Я ведь не рассказала ему всего… — Он менял деньги во Внешторгбанке, как и любой иностранец, из расчета по четыре рубля за доллар. Ты дала ему полторы тысячи рублей. Это… — Лекочка на одно мгновение прикрыл глаза, — это 375 долларов США. Здесь, если перевести на доллары, — он потряс пачкой разномастной валюты и снова на секунду прикрыл глаза, — 250 зеленых без нескольких центов. Значит, он тебе недодал 125 долларов.
— Но может быть, он не знал курса? Он говорил, что деньгами у него занимается Симона… — попробовала я защитить Монтана.
— Это вряд ли он не знал курса, — с глубоким сомнением покачал головой Лекочка. — Эти капиталисты каждую копеечку считают… Особенно французы.
— Но он же коммунист!
— Да, но зарплату получает как капиталист. Но ты не бойся. Ты внакладе не останешься. Я у тебя эту валюту возьму за… — он пошевелил про себя губами, — за четыре тысячи рублей.
— Почему?
— Потому что она примерно столько стоит по ценам черного рынка.
— А тебе-то она зачем? — удивилась я.
— Затем, — подмигнул мне Лекочка.
— А может, Монтан и давал мне по ценам черного рынка? — сообразила я.
— Он же коммунист! — возмутился Лекочка. — Какой черный рынок?
Он меня ни в чем не убедил, а я смертельно боялась по- серьезному влюбиться в Монтана и потому считала денечки до его отъезда.
Я даже старалась не смотреть на него, чем, очевидно, и вызвала подозрительные взгляды Симоны.
Так что, когда они уехали, я вздохнула с облегчением. Тоска пришла через несколько дней. Я не знала куда себя девать, не работала, хотя на мне висело несколько заказов, с которыми я безбожно затянула из-за Монтана, пропустила несколько занятий в институте, валялась целыми днями на скомканных простынях и не подходила к телефону.
Если б я могла спуститься в магазин к Никитским воротам, то наверняка запила бы горькую. Но на это меня не хватало, а Татьяна, носившая мне продукты, коньяк покупать наотрез отказывалась.
Посудите сами, до зарплаты ли мне было?.. Конечно, я забыла о ней.
3
— Вот я и говорю, что, наверное, вы сильно разбогатели, если не помните о зарплате… — проскрипел Евгений Кондратьевич и положил прикуренную папиросу на бортик таким образом, чтобы дым вился прямо мне в лицо.
У него был очень маленький кабинет, стены которого были выложены облезшими, некогда полированными деревянными панелями.
К массивному письменному столу был приставлен другой, крошечный тонконогий столик с заляпанной чернилами столешницей и два тяжелых дубовых стула для посетителей с лоснящимися от времени кожаными сиденьями.
В одном углу, за письменным столом, стоял книжный шкаф со стеклянными дверцами, затянутыми изнутри пыльной неизвестного цвета материей. В другом углу громоздился темно-коричневый, в рост человека, сейф.
Между ними, прямо над головой Евгения Кондратьеви-ча, висел фотографический портрет Дзержинского, но квадратное темное пятно невыцветшей деревянной панели за ним было гораздо больше портрета и наводило на мысль, что там прежде висело солидное высокохудожественное изображение отца народов.
Около двери в углу стояла круглая деревянная вешалка, на которой висели скромное темно-серое пальто, поношенная шинель с майорскими погонами и моя шубка, странно смотрящаяся в таком окружении…
По всему было видно, что Евгений Кондратьевич стеснялся своего кабинета, его размеров и скудной обстановки. Больше того — все в этом кабинете вызывало в нем непрерывное раздражение… Он с таким отвращением выдвигал и задвигал ящики письменного стола, доставал какую-то папку из сейфа, запирал что-то со стола в книжный шкаф, что невольно возникали мысли, что он привык к другим масштабам и другой обстановке…
Единственной вещью, на которую он смотрел с теплотой, был письменный прибор из какого-то красного самоцветного камня в виде Красной площади, где чернильницей служило Лобное место, собор Василия Блаженного, у которого откидывалась на петельке каждая луковка, являлся хранилищем всякой канцелярской мелочи. Кремлевские башни со съемными вершинами хранили в себе карандаши и ручки, гостевые трибуны за мавзолеем служили подставкой для откидного календаря, а сам мавзолей никак не использовался и являлся как бы декоративно-идеологическим центром всей композиции.
Выполнено это произведение искусства было с невероятным мастерством и кропотливостью. Луковицы собора были инкрустированы разноцветными камушками и выглядели совершенно как настоящие. На фрагменте Кремлевской стены можно было разглядеть каждый кирпичик. А часы на Спасской башне ходили и только не вызванивали известную мелодию.
У меня потом было достаточно времени, чтобы рассмотреть этот шедевр во всех подробностях…
4
— Надеюсь, вы догадываетесь, по какому поводу я вас сюда вызвал? — спросил Евгений Кондратьевич и, взяв из пепельницы папироску, глубоко затянулся, прищурив при этом один глаз.
— Насчет денег, да? — осторожно спросила я.
— Именно насчет денег… — неопределенно подтвердил он, и я поспешила уточнить:
— Я имею в виду насчет зарплаты…
— И насчет зарплаты тоже… — с еще большей неопределенностью сказал он, помолчал, глядя на меня с усталым любопытством, и поинтересовался: — Ну что, сами все расскажете как старшему товарищу, в виде, так сказать, дружеского разговора и добровольного признания, или начнем допрос по всей форме?
Внутри у меня все похолодело, но кровь, готовую броситься мне в лицо, я каким-то непонятным усилием сдержала.
— Я не совсем понимаю, что должна рассказывать… — Я недоуменно пожала плечами. — Я ведь обо всем вам уже докладывала во всех подробностях. Других сведений у меня нет…
Он горестно вздохнул, потом снял верхушку со Спасской башни, с любовью выбрал остро отточенный красно-синий карандаш с золотым изображением Кремля и что-то быстро пометил на перекидном календаре.
— Значит, дружеского разговора у нас не получится…
Он с хрустом затушил папиросу, встал, одернул пиджак, поправил узел галстука, вынул из нагрудного кармана расческу в футлярчике, тщательно причесал волосы, продул расческу, положил обратно в карман, зашел за мой стул и вдруг, обдав меня горьким табачным дыханием, прошептал прямо в ухо:
— Ты думаешь, амнистия, реабилитация и прочая херотень, да? Ты думаешь, я на тебя, на шалашовку, любоваться буду? Раньше бы ты у меня через пять минут стала шелковой, но ничего, и сейчас заговоришь. Ты у меня птицей-иволгой запоешь, только смотри, как бы не было поздно-
После этого он как ни в чем не бывало вернулся на свое место, придвинул к себе стопку бумаги, отвинтил колпачок самописки и, отчужденно взглянув на меня, казенным голосом спросил:
— Имя, отчество, фамилия? Год и место рождения? Адрес проживания? Место работы или учебы?..
Когда я, еле сдерживая слезы, ответила на все формальные вопросы, он спросил:
— С какой целью вы завлекли к себе в дом гражданина Франции Ива Монтана?
Я повторила слово в слово свою версию с подстаканником. Он ее внимательно выслушал, потом извлек из папочки листок мелко исписанной бумаги, надел очки, что-то освежил в памяти и сказал:
— А заведующая секцией посуды Куркина Алла Семеновна и продавщица Алексеева Валентина Петровна в один голос утверждают, что товарищу Иву Монтану не хватило для покупки кофейного сервиза, номер квитанции 18640, тысячи пятисот рублей и что товарищ Ив Монтан, будучи не в курсе наших советских законов, предлагал в уплату за сервиз иностранную валюту различных стран, в том числе доллары США, французские франки и английские фунты стерлингов…
— Там еще были итальянские лиры… — вставила я.
Евгений Кондратьевич внимательно посмотрел на меня поверх очков.
— Сколько?
— Не знаю… — пожала я плечами. — Я не считала.
— Откуда же вы знаете про лиры?
— Он же при всех доставал деньги…
— Почему же тогда Куркина и Алексеева на них не указывают?
— Этого я не знаю…
— Хорошо… — сказал Евгений Кондратьевич, снова углубляясь в бумажку. — Это мы пока опустим… Дальше вы что-то сказали товарищу Иву Монтану по-французски, он вам кивнул, и вы вышли из магазина. Это было в тринадцать пятьдесят пять. Вы отсутствовали час сорок минут, а когда вернулись в пятнадцать тридцать пять, то у товарища Ива Монтана нашлась недостающая сумма денег, а валюты в бумажнике уже не оказалось… Кроме того, вы лично уплатили за подстаканник, как вы говорите, вашего деда 289 рублей. А вот теперь ответьте мне на три вопроса: откуда товарищ Ив Монтан взял недостающие полторы тысячи рублей, если вы с ним никуда, кроме вашего дома, не заходили? Куда делась его валюта и чем вы занимались у вас дома один час двадцать минут?
— В каком порядке отвечать? — уточнила я почти весело. Из его вопросов я поняла, что он ничего точно не знает, а предполагать никому не возбраняется…
— В порядке поступления, — нахмурился он и пустил мне в лицо густую струю дыма.
— Недостающие деньги дала ему я. Валюта его никуда не девалась, а дома у меня мы один час двадцать минут пили кофе с заварными эклерами из магазина в Столешниковом переулке и разговаривали о международном коммунистическом движении, о Москве и московской публике, о кино, о том, что песня — лучший проводник дружбы и мира между народами доброй воли… — Я замолчала, чувствуя, что сильно перегнула палку, но ничего с собой сделать не могла. Он задел меня за самое больное! Воспоминания о Монтане были самыми дорогими, самыми светлыми в моей жизни.
Тоскуя по его улыбке, я тихо радовалась, что ту встречу у меня дома, его руки, губы, ласковый шепот, трепетание его тонких выразительных ноздрей, вдыхающих мои запахи из одежды, которую он с такой дерзкой робостью и изяществом с меня снимал, уже никто у меня не отнимет, но оказалось, что я ошибалась… Оказалось, если нельзя отнять воспоминания, то можно их перечеркнуть, испоганить, растоптать грязными сапожищами, смешать с грязью.
«Ну уж нет! — сказала я про себя. — Его вы у меня не получите! Хоть сдохните здесь от злости!»
— Так… — побарабанил пальцами по коробке «Казбека» Евгений Кондратьевич. — Значит, будем в игры играть. Хорошо! Поиграем!
Он снял телефонную трубку, набрал номер:
— Степана Даниловича, пожалуйста!
Так звали декана нашего факультета.
— Что значит — занят? — ласково спросил Евгений Кондратьевич. — Как ваша фамилия? Так вот, товарищ Егошкина, доложите немедленно, что его беспокоят из органов… Вот так-то…
Он достал из коробки новую папиросу, постучал мундштуком по крышке, закурил.
— Степан Данилович? — оживился он. — Это Евгений Кондратьевич… Здравствуйте, здравствуйте… Ничего хорошего я вам сообщить не могу… Нет, не оправдала возложенного доверия ваша воспитанница… Нет, не оправдала… Даже и не знаю, что делать… Тут и кроме нее работы хватает… Да, да, думаю, прокуратура… Валюта, валюта… Незаконные операции… Я уж не говорю о ее моральном облике… — Он паскудно засмеялся. — Вернее, об аморальном… Ну, с этим, я думаю, вы сами разберетесь, в своем, так сказать, здоровом коллективе… Сколько у вас там комсомольцев? Все? Это хорошо! А секретарь толковый? Ну и прекрасно… Но и партийная организация и профсоюзы, я думаю, не должны стоять в стороне… Да, да, именно чтоб не повадно было… Ну конечно! У вас ведь передовая! Вы готовите людей, которые должны переводить в мир правду о нашей великой стране… Да, да, понимаю… А нужно было думать, нужно… Да нет, пока никаких мер не принимайте в интересах следствия, но оградить от нежелательных контактов обязательно… Чтоб зараза, так сказать, не распространялась… Вот вам и отличница… Да, да, мы еще разберемся, откуда такое прекрасное знание… И с бабушкой разберемся, и с дедушкой, и с родителями… На этот счет у нас есть большие сомнения… Очень большие…
Он повесил трубку и вопросительно взглянул на меня.
— Значит, деньги дали ему вы?
— Да, деньги дала ему я.
— Что значит — дали?
— Дала — и все.
— Подарили?
— Да, подарила, — бесстрашно подтвердила я и прямо посмотрела в его серенькие прищуренные глаза.
— И он спокойно принял этот подарок?
— Совсем не спокойно. Он собирался мне вернуть деньги, но я настояла на том, что это подарок. Это было нелегко…
— Хорошо, допустим, что это был, как вы говорите, подарок… Но почему, собственно говоря, вы решили сделать ему такой дорогой подарок? Почему вам не приходит в голову сделать подарок мне? Может, и я не отказался бы… — Он хихикнул.
— Если бы вы пели как он, то, может быть, я и вам что-нибудь подарила…
— Ну хорошо… А валюта из его кошелька куда делась?
— Я в его кошелек не заглядывала и ничего определенного сказать по этому поводу не могу.
— А может, он ее дал вам? Подарил… Так сказать, подарок на подарок…
«Ну, что он может знать? — пронеслось у меня в голове. — Никто же не видел… А если они Лекочку замели на какой-нибудь незаконной операции с валютой, а тот признался, где он ее взял? Ему-то что?! Папа позвонит куда надо, и ничего ему не будет… Сама, дура, виновата. Не нужно было ему отдавать, и тогда можно было бы сказать: «Да, подарил, лежит эта валюта у меня в комоде, все никак не соберусь ее вам сдать… Времени нет…» Поверить он, конечно, не поверил бы, но прицепиться было бы не к чему… Ну, а если все так, то хуже мне уже не будет. Нет никакой разницы — расскажу я сразу или буду упираться до последнего… В крайнем случае скажу, что запиралась со страха. А если они ничего про Лекочку не знают, то никаких доказательств у них вообще нет. Пусть хоть весь дом перевернут — ничего такого противозаконного у меня в доме нет. Только фотография Монтана и Симоны со мной посредине и с их подписями…»
— А почему вы решили, что валюты в его кошельке не было, когда он расплачивался за сервиз?
— Ее там не видели. Ни продавщица, ни заведующая секцией, ни кассирша.
— Но это не значит, что ее там не было, — отважно возразила я. — Бумажник у Ива Монтана был большой, а иностранные деньги гораздо меньше наших…
— Но они же их видели до того.
— Они видели их, когда он достал их из бумажника…
— Нет, они их видели в бумажнике, когда он их убрал…
— Тогда в магазине он нервничал, торопился и положил их небрежно, всей кучей, не расправляя… А потом… — Я сделала вид, что задумалась, — потом у меня дома, когда я дала… Когда я подарила ему эти полторы тысячи, он достал бумажник, поправил валюту, а потом долго пытался засунуть туда наши сотенные купюры, но они не помещались ни под каким видом ни в какое отделение. Точно, точно… Он еще посмеялся по этому поводу и сказал, что в большой стране — большие деньги… Потом он сложил пачку наших денег пополам и просто заложил в бумажник, как в книжку. А в магазине он вынул их, не раскрывая бумажника, так что я не понимаю, как продавщицы могли видеть, что у него в бумажнике есть, а чего нет… — Я возмущенно пожала плечами.
Я сказала правду. Он действительно носил наши деньги просто вложенными в бумажник и действительно очень забавлялся, пытаясь их поначалу засунуть. И фразу насчет большой страны и больших денег он произносил… Правда, несколькими днями раньше, но какое это имело значение. Я очень в этот момент гордилась собой…
— Так, так, так… — Он задумчиво побарабанил по коробке папирос, и вдруг взгляд его оживился. — Неувязочка получается… Если все, что вы говорите, правда, тогда где же он остальные деньги держал?
— Какие остальные? — растерялась я.
— Остальные советские деньги. Ведь сервиз стоил… — Он заглянул в листок. — Ведь сервиз стоил две тысячи девятьсот семьдесят рублей. Значит, тысяча четыреста семьдесят рублей у него были свои, так ведь?
Я обреченно кивнула, проклиная себя за этот оживляж с комическим засовыванием денег.
— А по вашим словам получается, что он у вас дома впервые советские деньги в руки взял. Неувязочка… Что вы на это скажете?
— Ничего не скажу, — обиженно отвернулась я. — В магазине он действительно вынул деньги из бумажника, и все вам это подтвердят, если они честные люди. А тогда ли он их пытался засунуть или раньше, я уже точно не помню… У меня и тогда все в голове перемешалось от волнения, и сейчас не самая спокойная для меня обстановка…
Я замолчала. На глазах у меня появились самые настоящие слезы. Я достала платок из сумочки и стала осторожно их промокать, чтобы не размазать тушь на ресницах. До этого я редко красилась, но Симона подарила мне роскошную тушь, и я в последнее время не выходила из дома с ненакрашенными ресницами. Надо сказать, что это мне очень шло. Глазищи у меня становились в два раза больше…
Он долго молчал и изучающе смотрел на меня. Потом открыл картонную папку, вынул оттуда две бумажки и показал мне издалека.
— Вы знаете, что это такое?
— Нет, — сказала я, бессмысленно всматриваясь в бумажки.
— Это ордер на обыск в вашей квартире и постановление о вашем аресте… Здесь не хватает только подписи прокурора. Но получить ее можно очень быстро… Я не советую вам играть со мной в игры. Мы знаем гораздо больше, чем вы думаете…
— Но я ни во что не играю, — всхлипнула я и подумала: «Как же, знаете! Давно бы приперли меня к стенке, если б знали».
Он снова встал, подошел ко мне, но на этот раз не сзади, а сбоку, положил мне руку по-дружески на плечо и, склонившись надо мной, заглянул в глаза.
— Ну что ты зажалась, глупенькая? Ну, подумаешь, валюту взяла… Ведь не родину же продала! Сдадим валюту, оформим все честь по чести… Напишешь все, как было, как он приставал к тебе… Понуждал тебя ко всяким развратным действиям… Ведь понуждал, да? — Он ласково полупал глазами, мол, я же свой, я же за тебя, ты расскажи, а там вместе придумаем, как помочь твоему горю.
От этих его ласково-затхлых слов у меня сразу же просохли глаза. «Ах ты, гнида прилизанная! — пронеслось в моей голове. — Оказывается, вон ты куда гнешь! Оказывается, тебе не только я, тебе еще и он зачем-то понадобился! Ну уж нет! Его ты у меня не получишь!»
— Да вы что?! — взревела я, сбрасывая его руку с плеча. — Да что вы такое себе позволяете?! Товарищ Ив Монтан коммунист-интернационалист, член ЦК Коммунистической партии Франции, личный друг Мориса Тореза! Да вы знаете, что за такие слова вам будет?
Он отошел на свое место, закурил, выпустил прямо мне в лицо тугую струю дыма и, гадко улыбнувшись, спросил:
— За какие слова?
— За эти! — заорала я.
— Никаких слов, выходящих за рамки моей компетенции, я не произнес, а вот вы, гражданочка, вместо того чтобы добровольно помочь следствию, сперва предлагали мне вступить с вами в преступный сговор и в половую связь прямо в кабинете, а потом, убедившись, что это невозможно, осыпали меня грубой циничной бранью, на которую не всякая вокзальная проститутка способна, и выкрикивали непристойности в адрес нашей партии и правительства.
— Ну и гнида же ты! — воскликнула я ему прямо в лицо. — Теперь ты вообще слова от меня не услышишь!
— Ну, положим, одно заветное словечко я от тебя услышу, но, правда, позже…
Он проворно собрал со стола все бумажки без исключения и запер их в сейфе. Потом с отвращением подергал ящики стола — заперты ли, проверил дверцу шкафа, подошел к двери, оглянулся и сказал, улыбнувшись каким-то своим тайным мыслям:
— Ты пока посиди, подумай над своим поведением, а я через пару минут вернусь…
Когда он ушел, я наконец от души, никого не таясь, разревелась в голос. Мне было по-настоящему страшно. Я поняла, что меня затянуло в ту же самую беспощадную и неостановимую машину, в шестернях которой погибли мои папа и мама…
Сперва я действительно думала, что он вот-вот вернется и, даже отплакавшись, поторопилась привести себя поскорее в порядок, чтобы не показывать перед этим ничтожеством своей слабости.
Потом, воспользовавшись его отсутствием, я налила полный стакан воды из графина, стоявшего передо мной на столике. Пить хотелось уже давно, но как-то было не до питья…
Выпив еще один стакан, я почувствовала наконец удовлетворение.
5
Через час я начала беспокоиться. Причем, как дура, беспокоилась не о себе, а об этой гниде… В голову полезли всякие дурацкие мысли. Что он пошел, например, в туалет, поскользнулся на лестнице, споткнулся, упал и сломал ногу или руку. А мог поехать вперед и удариться затылком… Лежит теперь, бедолага, где-нибудь в санчасти без сознания…
Почему-то все мои фантазии крутились вокруг туалета… Еще я представляла себе такую картину: забежал он в кабинку, устроился на толчке, поднатужился, и хватил его апоплексический удар… Я о таких случаях слышала. Теперь сидит там полуживой и звука произнести не может, не говоря уже о том, чтобы постучаться…
На свою судьбу я как-то странно махнула рукой. Ясно было, что из института я вылечу с треском, да еще с волчьим билетом. Что это такое, я себе не представляла, но была уверена, что поступить с ним куда-либо будет невозможно.
Это еще в лучшем случае! А в худшем — меня просто посадят. Зачем, за что — об этом я тоже не задумывалась. Очевидно было одно: они хотят меня посадить, а значит, обязательно посадят. Если не передумают…
Но ведь и в лагере можно жить, с неожиданным безразличием думала я. Очень скоро начальство узнает, что я шью, и потянется заказ за заказом… А для того чтобы их выполнять, мне потребуется хоть и маленькое, но отдельное помещение, относиться они ко мне будут хорошо, потому что я буду стараться… Питание там будет, конечно, похуже, но зато похудею… Да и не жалко этой жизни! Что в ней хорошего! Так, моменты… А главное — стоять на своем до последней капли крови. Что они — в Париж поедут допрашивать Монтана из-за таких пустяков?! Это здесь для них человека загубить — раз плюнуть, а там захочет ли он с ними разговаривать? А если и захочет, то, наверное, сообразит, что сказать. Он же умница и все отлично понимает… И, скорее всего, не прав был Лекочка, знал Монтан о черном рынке и о его ценах… Он зная, что дает мне почти в три раза больше, чем я ему. Все-таки они там, во Франции, капиталистические коммунисты… А если так, значит, будет молчать… Вернее, пошлет их к чертовой бабушке и не захочет даже разговаривать на эту тему… Вот и мне с ними не нужно разговаривать. Захотят посадить — посадят, что бы я ни говорила, а не захотят — и так не посадят…
И черт с ним! Пусть сидит в туалете хоть месяц! Пусть сгниет там совсем! Будет еще эта гнида в мою жизнь своими липкими пальцами с обгрызенными ногтями лезть… Онанист несчастный! Я слышала где-то, что обгрызенные ногти бывают чаще всего у онанистов.
Вскоре я поняла, почему мои мысли так навязчиво крутятся вокруг туалета… Оказалось, что я и сама совсем не прочь посетить это заведение. Больше того — просто обязана это сделать… И еще эти чертовы два стакана воды… Положение было еще не критическое, но очень и очень серьезное… Я еще, глупенькая, подумала о том унижении, которое мне придется испытать, спрашивая у этого подонка разрешения выйти в туалет… Я еще не знала, какое унижение меня ждет…
Положение стало критическим еще через полчаса. Меня уже не беспокоила судьба моего мучителя, я уже думала только о том, что если он не явится хотя бы через десять минут, то мой мочевой пузырь просто лопнет и позора не избежать все равно.
Через десять минут я решила — будь что будет, и подошла к двери. В конце концов они тоже люди и должны понять… Я нажала на ручку двери. Дверь была заперта. Когда же он успел ее запереть? Робко постучав ладошкой в обитую дерматином дверь, я прислушалась. За дверью стояла мертвая тишина. Ни шагов, ни разговоров. Я постучала погромче — никакого результата. Я стала колотить кулаками и пятками попеременно и кричать «откройте», время от времени припадая ухом к двери. После того как я отчетливо услышала шаги, которые даже не замедлились на мой стук и крик, я поняла, что это бесполезно.
Тогда я бросилась к телефону. В трубке было глухое молчание, как если бы я приложила к уху выключенный утюг. Не было даже характерных потрескиваний и попискиваний…
— Ну и черт с ним! — воскликнула я и с грохотом бросила трубку на рычаг. В конце концов, куда я хотела позвонить? В милицию?
Я начала лихорадочно озираться. Первым мне попался на глаза графин… У меня мгновенно возник сумасшедший план. Черт с ними со всеми, в отчаянии подумала я, можно вылить оставшуюся воду в стакан, предварительно открыв окно и подперев боком дверь, пописать в графин, вылить содержимое в окно, сполоснуть водой из стакана, и пусть эта сволочь потом пьет из этого графина.
Окно было заклеено белой бумагой. На рамах вместо привычных шпингалетов были отверстия с трехгранными штырьками, как в дверях пассажирских вагонов. Форточки не было, вместо нее фрамуга, открывающаяся с помощью длинного шнура. Дернув за этот шнур, я поняла, что без лестницы достать до этой фрамуги невозможно…
Еще через час я вспомнила, что где-то читала о том, что Микеланджело Буонаротти умер от болезни мочевого пузыря, потому что при росписи потолка Сикстинской капеллы ему приходилось подолгу терпеть, так как всякий раз спускаться с высоченных лесов была целая история… Я поняла, что умру раньше. Что выражение «лопнувший мочевой пузырь» не фигура речи, а вполне реальное явление.
На пятом часу резь в мочевом пузыре уже перестала быть сигналом острого желания облегчиться, а переросла в сплошную боль, охватившую весь низ живота и поясницу. Я корчилась на стуле и глухо стонала.
Несколько раз у меня возникала отчаянная мысль наплевать на все, облегчиться в графин и задвинуть его куда-нибудь подальше под стол, но все мое существо восстало против такого позора. Я поняла, что уж лучше смерть в страшных муках, чем такой позор на всю жизнь! И перед кем? Перед этой гнидой! Перед этим ничтожеством! Никогда! Лучше смерть!
Тюрьма, лагерь мне теперь казались счастливым избавлением.
6
Эта сволочь явилась ровно через пять часов!
— Ну, что? — как ни в чем не бывало спросил он от порога. — Вы одумались?
— Мне нужно выйти… — сквозь стиснутые зубы сказала я.
— Что значит — выйти? — поднял он свои жиденькие бровки. — Как это выйти? Вот закончим допрос, оформим ваши показания, вы их подпишете и выходите себе на здоровье…
Я тяжело поднялась и шагнула к нему с таким видом, с каким, должно быть, наши бойцы шли на танки, сжимая в руке связку гранат. Он-то, говнюк, наверное, решил, что я буду прорываться, и распластался на двери как жена пьяницы на пороге трактира с известной картины В.Перова «Не пущу!». Я же приблизилась к нему на необходимое расстояние и что было сил двинула кулаком по его глумливо ухмыляющейся физиономии. Он отлетел куда-то в угол, и у него тут же потекла носом кровь, заливая черно-полосатый галстук и белую китайскую рубашку.
В то же мгновение дверь открылась и на пороге возник высокий человек, одетый в безупречный костюм, с несколько удлиненным, строгим лицом, большими залысинами и в очках.
«Неужели такое может быть?» — подумала я. Передо мной стоял Николай Николаевич. Тот самый человек, который три года назад возил меня к Наркому.
Евгений Кондратьевич проворно вскочил на ноги и прижал к носу неизвестно откуда появившийся в его руке платок.
— Что такое? Что здесь происходит? — строго спросил Николай Николаевич. По его взгляду я не поняла, узнал он меня или нет.
Собрав все оставшиеся силы, я произнесла с независимым видом:
— Мне необходимо на минуту выйти…
— Да, да, конечно… — пробормотал он и галантно посторонился, пропуская меня. — Это по коридору направо… — добавил он мне в спину.
Бесконечно долго, еле переставляя свинцовые ноги по ковровой дорожке, я плелась до туалета… Когда, боясь совершить лишнее движение, я наконец устроилась, то поначалу ничего не вышло… От скрутившей с новой силой боли у меня потемнело в глазах… Только через мучительную минуту начало что-то получаться… И все же облегчение наступило, но наступило оно совсем не скоро… Боль и содержимое мочевого пузыря бесконечно долго уходили, а я искренне удивлялась неизведанным возможностям организма. На мой взгляд, жидкости из меня выходило гораздо больше, чем я ее выпила за последние три дня.
Наверняка эта сука подсыпала в воду какое-то сильное мочегонное, думала я, с наслаждением вспоминая, как он отлетел в угол и как брызнула из его носа кровь… Я потерла костяшки пальцев, которые приятно болели.
Вспомнив про отключенный телефон, я поняла, что ни с каким Степаном Даниловичем он не разговаривал, что это была чистая провокация. А еще я поняла, что человек, пользующийся такими методами, ни перед чем не остановится, чтобы засадить меня в тюрьму…
7
Вернувшись в кабинет, я застала радующую мое сердце картину: Николай Николаевич (это был, несомненно, он — в этом я окончательно убедилась) сидел на месте Евгения Кондратьевича и с суровым видом просматривал мое дело. Евгений Кондратьевич, прижимая платок к носу, стоял рядом с ним чуть сзади и заглядывал через его плечо, изогнувшись кренделем.
На меня они взглянули по-разному. Евгений Кондратьевич с ненавистью, а Николай Николаевич строго. Наверное, он не узнал меня, решила я. Мало ли кого он возил к Наркому. Таких, как я, у него было много.
— Присаживайтесь, — сухо бросил мне Николай Николаевич.
Я села. Он перелистал еще несколько бумажек и, не глядя на Евгения Кондратьевича, спросил:
— Это все?
— Так точно… — робко ответил Евгений Кондратьевич.
— Плохо, очень плохо, — сказал Николай Николаевич и закрыл папку. — Присаживайтесь, — указал он на место против меня.
Евгений Кондратьевич осторожно обошел меня и сел, убрав платок в карман. Нос и верхняя губа у него припухли и покраснели.
— К сожалению, этого очень мало… — Он сурово взглянул на Евгения Кондратьевича, который под этим взглядом втянул голову в плечи и снова приложил платок к носу.
Ну все, подумала я, этот доведет дело до конца. Не миновать мне тюрьмы.
Николай Николаевич встал, подошел ко мне и, на секунду задумавшись, сказал:
— Вы не могли бы пару минут подождать в коридоре… Там есть удобная скамейка…
— Меня уже просили подождать пару минут, которые растянулись на пять часов… — сказала я.
Он взглянул на Евгения Кондратьевича. Тот еще глубже втянул голову.
— Слово чекиста — не больше двух-трех минут.
Он довольно любезно подхватил меня под локоть, помог подняться и проводил в коридор, где действительно стояла обтянутая потертой кожей продолговатая банкетка.
— Я обещаю, что ждать вам придется недолго… — Он заглянул мне в глаза, и опять я не поняла, узнал или нет.
Он вернулся в кабинет, оставив то ли умышленно, то ли случайно дверь неплотно прикрытой. Щель была пальца в два, и я слышала каждое слово, сказанное в кабинете.
Сперва было молчание. Потом раздался грохот придвигаемого стула и голос Николая Николаевича, в котором отчетливо сквозила насмешливая интонация:
— Плохо работаем, товарищ Сердюк, очень плохо… По вашим материалам ни один прокурор не даст нам санкцию на арест товарища Ива Монтана…
— Да, но мы против…
— Не мы, а вы, товарищ Сердюк. Вы лично раздули это дело с сомнительной, если не сказать, с преступной идеей сделать из друга нашей страны, коммуниста и борца за мир во всем мире, пособника империализма и шпиона…
— Но, товарищ полковник, вы же сами мне…
— Что? Соскучился по Колыме, твою мать?! — взревел Николай Николаевич, треснув кулаком по столу с такой силой, что жалобно задребезжал самоцветный Кремль. — Что «я тебе»? Это я тебе, твою мать, велел нарушать социалистическую законность? Это я тебе велел лепить горбатого и мучить людей? Что ты к несчастной девке привязался? За мамашу отыграться захотелось? Или решил на чистом понте звездочку поймать? Ты что — забыл, в какие времена мы живем? Это тебе не Колыма, где ты был и хан и вохран…
— Но вы же, товарищ полковник, сами…
— Молчать! — взревел Николай Николаевич и на этот раз стукнул по столу ладонью. — Твое дело телячье — обосрался и стой! Сейчас извинишься перед гражданкой и проводишь до выхода с музыкой. А эту галиматью сейчас же уничтожить! Напишешь новый отчет и положишь мне на стол не позже десяти ноль-ноль. И моли Бога, чтобы ей не пришло в голову написать жалобу в какой-нибудь госпарт-контроль… Какого хера ты расселся?! Зови гражданку!
Евгений Кондратьевич бобиком выкатился в коридор и чуть не зашаркал передо мной ножкой. А меня охватила вдруг такая злость, перемешанная с жалостью к самой себе, усталостью и радостью, что этот кошмар наконец кончился, что ноги отказались слушаться, а из глаз градом посыпались слезы.
Он что-то говорил, мерзко изогнувшись и заглядывая своими погаными глазками мне в лицо, а я его не слышала. У меня не было сил даже плюнуть в его поганую рожу.
Через некоторое время в коридор вышел Николай Николаевич и, взяв меня под руку, чуть ли не силой увлек в кабинет. Там он вытер своим белоснежным платком мои черные слезы, дал воды, но не из графина, а из бутылки «боржоми», которую извлек из книжного шкафа, оказавшегося в верхней половине действительно книжным шкафом, а в нижней холодильником.
Когда я немножко успокоилась, Николай Николаевич, очевидно решив, что любые слова его подчиненного вызовут у меня новые слезы, сам от имени органов извинился передо мной, заверил, что подобного не повторится, лично оформил мне пропуск, помог одеться и по бесконечным коридорам проводил до самого выхода.
Уже перед самой проходной, прощаясь, он еле заметно улыбнулся, и я поняла, что он, конечно же, давно меня узнал.
— Испугалась? — вполголоса спросил он.
Я только молча кивнула головой и благодарно улыбнулась ему в ответ.
— Ничего не бойся, — еще тише сказал он. — Я тебя в обиду не дам…
И протянул мне руку. Я крепко ее пожала. Задержав мою руку в своей, он сказал, подмигнув мне:
— А ты молодец, что не подала вида, что мы знакомы… Тогда мне было бы труднее тебя вытаскивать… А Лекочке передай, чтобы был поосторожнее, а лучше вообще бы завязывал с этими делами…
— Спасибо большое! — проглотив комок в горле, сказала я.
— Ну иди, иди… — Он грубовато подтолкнул меня к двери. — Я тебе как-нибудь позвоню, расскажу об общем знакомом…
Так в моей жизни появился Николай Николаевич.
8
Он позвонил примерно через неделю и пригласил на «Свадьбу Фигаро» в Большой театр. Я согласилась.
Он заехал за мной на такси и, как и прежде, не поднялся, а подождал меня в машине.
Одет он был, можно сказать, элегантно — длинное черное пальто, белый шерстяной шарф. Пушистая бобровая шапка делала его удлиненное лицо с тяжелыми надбровьями даже привлекательным. Во всяком случае, оно уже не пугало меня и не вызывало ассоциаций с гориллой, навязанных мне в свое время Ильей. А тяжелая челюсть придавала ему мужественный вид.
Он очень мило ухаживал за мной в театре. Темно-серый, в крупную полоску строгий английский костюм был очень ему к лицу Я, разумеется, тоже приоделась… Очень пригодилось платье, сшитое для банкета Вероники… Мы хорошо смотрелись вдвоем. Это было видно по тому, как на нас оглядывались.
Присмотревшись, я вдруг поняла, что он не так уж и стар, как это мне казалось три года назад. Ему было немногим больше сорока. Мы с ним как-то подравнялись возрастом, потому что мне при желании можно было дать и двадцать семь и тридцать лет. Прическу я в то время носила очень «взрослую» — низкий тяжелый пучок, напуская волосы слегка на уши. Это было явное подражание Веронике, которая оказала на меня огромное влияние, потому что была, независимо ни от чего, выдающейся личностью.
После спектакля я сама предложила пойти домой пешком. Было тепло и тихо, кружил вокруг фонарей легкий сверкающий снежок. Чтобы платье не мокло в снегу, я незаметно подтянула его специально прихваченным для этого пояском, а разрез и вставной клин сзади давали возможность делать нормальный шаг.
Мы медленно поднимались по улице Горького и Николай Николаевич мне рассказывал, как ему чудом удалось спастись, когда арестовали Наркома.
Дело в том, что 7 марта, через два дня после смерти Сталина и за два дня до его похорон, по инициативе Наркома, Министерство государственной безопасности и Министерство внутренних дел были объединены в одно Министерство внутренних дел, которое возглавил сам Нарком, и, естественно, началась неизбежная кадровая свистопляска.
Нарком как умный и дальновидный человек стремился посадить на все ключевые посты преданных ему лично людей. Таким образом, Николай Николаевич был направлен начальником серьезнейшего отдела в Московское управление.
Арестовали Наркома военные. Для предотвращения стычки с органами к Москве была подтянута Таманская дивизия почти в полном составе, но обезглавленные органы проявили разумную лояльность.
Содержался Нарком в специальном бункере на плацу штаба Московского военного округа на улице Осипенко.
Там же его и расстреляли. Генерал-лейтенант Батицкий уложил его первым же выстрелом, попав из «парабеллума» ему прямо в переносицу.
— Высшее начальство тоже решило проявить лояльность, — говорил Николай Николаевич своим глуховатым низким голосом. — Оно поняло, что если произвести слишком глубокую чистку, то в госбезопасности служить будет некому. Там ведь нужны настоящие специалисты, а откуда им взяться, если таких глубоких чисток было уже и было… Поэтому почти никого и не тронули, кроме самых близких: Гоглидзе, Мешика, Деканозова. Тех арестовали одновременно с Наркомом…
9
Николай Николаевич проводил меня до дверей квартиры. Зайти выпить чашечку кофе наотрез отказался…
Я его приглашала без всяких задних мыслей, просто по- человечески, потому что испытывала к нему самую искреннюю благодарность как к спасителю.
Мои слова о его вполне привлекательном внешнем виде вовсе не означают, что он мне понравился. Просто если б три года назад кто-нибудь мне сказал, что я пойду с этим человеком в театр, — я бы содрогнулась от страха и отвращения. И пошла с ним только из чувства признательности, но когда убедилась, что он выглядит вполне нормально, то очень обрадовалась за него. О том, зачем он пригласил меня в театр, я старалась не задумываться.
Потом он еще пригласил меня в театр, потом еще. Вскоре эти еженедельные посещения театра превратились в традицию. За зиму и весну мы пересмотрели с ним весь московский репертуар.
Он был неизменно любезен, предупредителен, всякий раз заезжал за мной на такси, в театральных буфетах угощал разными вкусностями и обязательно провожал до самой двери квартиры.
Я понимала, что он за мной таким образом ухаживает, но словно закрывала на это глаза. Меня в нем уже ничего не смущало — ни разница в возрасте, ни его тяжеловатое лицо с выпуклыми надбровьями и небольшими остро-проницательными глазами, — но представить с ним что-то большее, чем хождение по театрам, я не могла. Каждый раз после спектакля я его уже чисто формально спрашивала:
— Не зайдете?
И каждый раз он почти автоматически отвечал:
— Как-нибудь потом…
Однажды он добавил как бы про себя: «Когда повод будет…» Я пропустила эту фразу мимо ушей, но она-то и была ключевой в истории наших отношений.
О себе он рассказывал мало. Он был, как выяснилось, вдовец, жил с дочкой-восьмиклассницей в маленькой двухкомнатной квартирке в Новых Черемушках, которую ему дали совсем недавно. А до этого они жили в двух больших комнатах в коммунальной квартире. Женился он рано, как только пришел из армии. Овдовел год назад.
По-человечески мне было очень его жалко. Я даже предложила как-нибудь привезти ко мне дочку, чтобы я ей пошила что-нибудь нужное. Он решительно отказался, сказав, что все нужное у нее уже есть.
Татьяна Николая Николаевича просто боялась. Однажды она, зная, что он должен за мной заехать на такси, специально ждала около моего подъезда, чтобы хоть издалека взглянуть на него.
— Честное слово, в нем есть что-то такое страшное… — рассказывала она мне потом. — Он как сверкнет на меня глазами… Я чуть в водосточную трубу не залезла от страха, Он словно знал, что я пришла на него смотреть…
— Конечно, знал, — усмехнулась я.
— Ты что, ему сказала? — обиделась Татьяна.
— Ну, если он даже про Лекочку все знает, то как он может не знать тебя? Конечно же, знает, и притом как облупленную.
— Об этом я не подумала, — сказала Татьяна. — Вот я и говорю — страшный человек. Смотри, попомнишь еще мои слова. В нем есть какая-то тайна…
— Не выдумывай, — отмахнулась я от нее, прекрасно понимая, что она права.
— А вообще-то что он от тебя хочет? — допытывалась Татьяна.
— Не знаю… — пожала плечами я. — Он ничего такого не говорит…
— Собака на сене он, а не мужик, — сказала Татьяна шепотом и оглянулась. — Сам не гам и другим не дам…
И опять она была права. Несмотря на то что наши отношения с Николаем Николаевичем никак не развивались, я ничьих ухаживаний больше не поощряла. Даже Лекочке, пытавшемуся пригласить меня в очередной ресторан, я категорически отказывала. Почему-то я хранила Николаю Николаевичу верность, хотя он меня об этом не просил…
А вместе с тем меня уже начали одолевать эротические сны. Частенько я просыпалась вся мокрая и набухшая так, что только тронь меня… Очень часто мне снился Монтан… Вот кого я могла полюбить! А может, и уже полюбила, только боялась в этом признаться… И мечтала встретить такого человека, который заставил бы меня забыть о нем…
Сколько раз, сидя с Николаем Николаевичем в театре, я украдкой рассматривала его удлиненный профиль, сильно выступающий кадык на всегда тщательно выбритой и все равно синеватой от щетины шее и с каким-то отчаянием думала о своей несчастной, нескладной судьбе…
Надо же такому быть, что первая и самая сильная любовь у меня была в младенчестве. Единственного своего ребенка я зачала от человека, к которому была более чем равнодушна… Вторая любовь, вернее, предчувствие любви у меня случилась к человеку, которого я больше ни разу не увижу, кроме как на экране. Для которого если я и останусь в памяти, то только как экзотическое приключение, как «русская матръёшка»…
Для чего же были у меня все остальные? Для чего был муж? Для чего я сижу в театре с человеком, который знает обо мне больше, чем знал муж, чем знает Татьяна? И уговариваю себя, что у него интересное, хоть и странное лицо, что в нем есть привлекательные черты характера…
Когда же придет та, настоящая любовь, о которой я узнаю с первого взгляда, почувствую ее всем своим сжавшимся сердцем?
10
И все-таки Татьяна на этот раз оказалась права. В Николае Николаевиче со временем обнаружилось много тайн и служебного и чисто человеческого свойства.
Однажды он позвонил мне и, явно почему-то волнуясь, предложил пойти не в театр, как обычно, а в ресторан, и причем выбрал для этой цели самый заштатный ресторан «Северный», расположенный на первом этаже одноименной гостиницы в Марьиной Роще.
Я до этого даже и не слышала о его существовании. И вообще, в этот район, считавшийся тогда окраиной, я ни разу не забиралась. Но все равно я с радостью согласилась.
Была уже самая настоящая весна, и мне до смерти хотелось показаться на людях в новом выходном платье, которое я себе сделала колокольчиком на накрахмаленной нижней юбке, опережая отечественную моду ровно на три года.
Если честно признаться, то этот фасончик я увидела в киножурнале «Иностранная кинохроника», который теперь смотрела с особым интересом в надежде увидеть сами знаете кого. В рубрике «Их нравы» одна заводная девчонка точно в таком платьице очень лихо отплясывала рок-н-ролл — новый, только появившийся у нас «на ребрах» (были такие подпольные пластинки, сделанные из рентгеновских пленок) и повсеместно преследуемый танец.
На все мои вопросы, почему мы едем именно туда, он загадочно улыбался. Но в глазах его я читала какое-то непонятное мне удовлетворение.
Около гостиницы он помог мне выйти из машины и, взяв под руку, как-то очень торжественно повел по дорожке ко входу в ресторан.
У входа стояли две молодые пары, пришедшие, очевидно, одной компанией, и пытались прорваться в ресторан. Им преграждал дорогу тщедушный швейцар в черной фуражке с золотым околышем. На нем был форменный, почти адмиральский китель и черные брюки с широкими золотыми лампасами. Чем-то его лицо мне показалось знакомым, и я пригляделась повнимательнее. Холодок пополз по спине, и кровь застучала в висках — в дверях ресторана с неприступным лакейским видом стоял Евгений Кондратьевич.
Николай Николаевич легким движением руки отодвинул от входа настойчивых молодых людей и, небрежно кинув: «У нас заказано!», пропустил меня вперед мимо онемевшего, вытянувшегося в струнку швейцара.
Мы встретились взглядами. Он слегка отшатнулся от меня, как будто я снова замахнулась на него кулаком. Наверное, у меня был слишком красноречивый взгляд.
Придя в себя и выпив бокал шампанского, я наконец осознала, почему Николай Николаевич настаивал именно на этом ресторане.
Когда я начала его прямо за столом расспрашивать о том, как здесь оказалась эта мразь, он многозначительно прижал палец к губам и показал глазами на соседние столики. Я замолчала. Мы говорили о каких-то пустяках, но мои мысли, естественно, вертелись вокруг этой сволочи.
Все это время после вызова в Московское управление мне не давала покоя подслушанная из-за двери загадочная фраза Николая Николаевича: «За мамашу отыграться захотелось». О чьей мамаше он говорил? Мне временами казалось, что он имел в виду мою маму… Тем более в его гневной тираде звучало слово «Колыма».
Разумеется, я не могла ему признаться, что слышала эти слова, и поэтому сомнения грызли меня глубоко внутри. Теперь же мне показалось, что в изменившихся обстоятельствах я могу завести об этом разговор. Ведь если этот говнюк теперь швейцар, то, значит, над ним больше нет пугающей завесы государственной тайны, значит, о нем можно спрашивать…
Я очень быстро ела и пила. Музыка не доставляла мне никакого удовольствия, хотя трубач с прической, как у Ива Монтана, играл только для меня и подчеркивал это каждым взмахом трубы.
Привыкнув к тому, что Николай Николаевич провожает меня только до двери, я надеялась поговорить с ним на эту тему по дороге, но и в такси он, словно прочитав мои мысли, приложил палец к губам, предупредив мои вопросы.
Впервые за все наши поездки в такси я положила голову на его плечо и закрыла глаза. Я была крайне возбуждена и с каким-то бешеным, звериным восторгом представляла себе, как бы я поглумилась над этим жалким мерзавцем, дай мне волю.
Сперва я представляла, как хлещу его длинным цыганским кнутом, который видела в каком-то фильме. Потом подумала, что не справилась бы с кнутом, и решила отходить его палкой.
Взявши в руки здоровенную суковатую дубину, я вовремя поняла, что это просто больно. А самые главные муки, которые он причинил мне, — муки нравственные, стало быть, и отплатить ему надо тем же. Тогда я почему-то представила его привязанным к фонарному столбу на Пушкинской площади… Причем на нем не было ничего, кроме синей короткой майки, из-под которой выглядывал его жалкий срам… В том, что он именно жалкий во всех отношениях, я была совершенно убеждена.
Эта майка понадобилась мне специально. В ней, по моему мнению, он выглядел более непристойно, чем просто голым. Для усиления этого эффекта я даже надела на него черные сатиновые трусы и спустила их ниже колен…
Насладившись таким его похабным видом, я вдруг осознала, что это зрелище больше оскорбляет окружающих, чем его самого, так как совести и стыдливости в нем нет, а вокруг ходят дети, старики и молоденькие невинные девушки, которым не следует внушать отвращение к тому, что им предстоит любить…
Тогда я решила просто плюнуть ему в лицо… Или натянуть швейцарскую фуражку на глаза, или дернуть его за нос, через платок, разумеется… А платок потом выбросить. Потом мне стало противно про него думать.
Я и не подозревала в себе такой низкой мстительности. Однако как мы мало знаем себя, размышляла я в полудреме. Как, на самом деле, я мало похожа на Татьяну Ларину или на Наташу Ростову, которым в молодости стремилась подражать. Никакого благородства души во мне и в помине нет…
Только одно успокаивало меня — что, дай действительно мне волю, никакого глумления я себе не позволила бы… Дала бы в крайнем случае пинок под зад и на этом, скорее всего, успокоилась бы…
Так незаметно, в полном молчании, мы доехали до Тверского бульвара. Никакого откровенного разговора у нас не состоялось.
Разочарованно прощаясь с ним у двери, я, как обычно, пожала его руку и даже не произнесла свою привычную фразу: «Не зайдете?» Он задержал мою руку в своей и с загадочной улыбкой спросил:
— Вы сегодня даже не приглашаете меня зайти?
— Просто я уже отчаялась… — Я торопливо отперла дверь и посторонилась, пропуская его. — Добро пожаловать…
11
Я сварила кофе, соображая, как лучше начать разговор… Когда я вернулась с подносом в гостиную, он держал в руках фотографию моей мамы, на которой она была молода и очень хороша собой, в пальто с воротником из чернобурки и в пушистой шапочке… Поворотом головы, статью она напоминала «Неизвестную» художника Крамского, только у той взгляд был слегка надменный, а у мамы веселый…
— Красивая женщина, — сказал Николай Николаевич, ставя портрет на место. — До самых последних дней буквально была красивой… Смотрите…
Он достал из кармана любительскую карточку, на которой возле какого-то приземистого здания с аляповатыми жирными колоннами между огромными сугробами стояла группа людей. Приглядевшись, я разглядела маму. Она стояла с краю, обняв за плечи какую-то тетку в плюшевом полушубке, замотанную до самых бровей платком. Мама грустно улыбалась.
Я не знала этого снимка. Я не знала этого здания, этих людей, но по особой тяжести фасада, по выражению лиц я вдруг поняла, что это «столица Колымского края».
— Это Магадан? — спросила я.
Николай Николаевич кивнул.
Я снова вгляделась в фотографию. Посредине группы стояла приземистая, как здание, женщина в светлой, очевидно в беличьей, шубе, подчеркивающей ее формы, вернее, полное их отсутствие. Во втором ряду за ней стоял военный в белой шапке со звездой и смотрел в сторону мамы… Похоже, он хотел посмотреть украдкой, незаметно, но безжалостный аппарат запечатлел этот воровской взгляд.
Присмотревшись повнимательнее, я его узнала. Это был Евгений Кондратьевич. Я подняла на Николая Николаевича вопросительный взгляд.
— Он был начальником лагеря, где сидел ваш отец.
— А это кто? — прокашлявшись, спросила я, показывая на женщину в центре композиции.
— Это его жена, она была главврачом больницы, в которой работала ваша мама.
— Значит, то, что я слышала, это правда?
— Я не знаю, что вы слышали… Но то, что именно Сердюк послал вашего отца в этот трагический рейс, — это правда. То, что он постоянно, но безрезультатно преследовал вашу маму, — это тоже правда. То, что его жена знала об этом и безумно ревновала, — это тоже правда. То, что ваша мама умерла при весьма сомнительных обстоятельствах, — это тоже правда. В официальном медицинском заключении было сказано, что смерть наступила в результате отека легкого как последствия крупозного двухстороннего воспаления легких. Но умерла она дома на третий день после того, как взяла бюллетень, заключение о смерти подписано участковым терапевтом, лучшей подругой главврача. Вскрытия не было. Похоронили ее за казенный счет на участке, где хоронили умерших заключенных, а также лиц без паспорта. Фанерная табличка на ее могиле утрачена, как и на многих других могилах. Ее подруги по больнице, пришедшие на похороны, не могут точно указать место ее захоронения. Так что эксгумацию провести невозможно. Для этого пришлось бы вскрывать несколько десятков могил.
Лагерь, в котором командовал Сердюк, расформировали одним из первых. У его жены в Москве оставались родители. У них они и прописались, когда, используя свои прежние связи, он добился вызова на работу в Московское управление… Существует легенда, что шофера, который вез вашего отца в последний рейс, видели в другом лагере в должности хлебореза, но проверить подлинность этой легенды нет никакой возможности. Вот это вся правда. То, что Сердюк — мерзавец и способен на все, в этом, кажется, убеждать вас не надо. Никаких доказательств его вины или вины его супруги у нас нет и, вероятно, уже не будет…
Он замолчал, легонько вытянул из моих пальцев фотографию, убрал ее в карман и тихо добавил:
— Из органов его убрал я. Если вы скажете — я его уничтожу, буквально…
— Убьете? — спросила я.
— Нет, — серьезно ответил он. — Я сделаю еще хуже.
— Привяжете со спущенными трусами к фонарю на Пушкинской площади? — усмехнулась я.
— Не понял? — нахмурился Николай Николаевич.
— Это я так… Ничего не делайте.
Я подошла к нему и, сама не понимая, что я делаю, схватила его руку, лежащую на столе, и поцеловала…
Он выдернул руку, зарделся, как девушка, и пробормотал:
— Ну что вы?..
Клянусь, что в этот момент для меня не было более близкого человека, чем он. Я спрашивала его о маме, забыв, что он не был с ней знаком и даже не видел людей, которые ее видели, если не считать Евгения Кондратьевича… Он рассказывал, что знал со слов других людей, работавших в лагере вместе с Сердюком.
Оказывается, он начал свое расследование за месяц до нашей встречи в кабинете на Лубянке. Причиной этому послужила фотография, которую Сердюк к слову ему показал. На фотографии мамино лицо привлекло его внимание, так как мы с ней очень похожи. Он спросил, кто это, и Сердюк, ничего не подозревая, назвал нашу фамилию. Потом похвалился, что эта женщина была его любовницей…
Потом мы пили остывший кофе. Потом коньяк. Из благодарности я решила отдаться ему в эту ночь. Но оказалось, что одного моего решения для этого мало…
Я была совершенно убеждена, что он только об этом и мечтает, только этого и добивается, так терпеливо и элегантно за мной ухаживая, но все оказалось не так просто…
12
Время приближалось уже к двум часам ночи, у меня от пережитого устало слипались глаза. Чтобы как-то взбодриться, я приготовила еще кофе, сделав его крепче предыдущего. Бодрости это мне немного прибавило, но ничего не изменило в ситуации. Николай Николаевич сидел, не меняя позы, прихлебывал маленькими глоточками то коньяк, то кофе и рассказывал мне о лагерях, о Наркоме, о своей дочери, отличнице и молчунье, с которой они в другой день и двух слов друг другу не говорят.
Он даже думал, что она со всеми такая, но несколько раз подсмотрел и подслушал, как она щебечет не замолкая в компании с подружками, и призадумался… В доме ей ни в чем нет отказа. Он ни разу грубого слова ей не сказал…
Я пыталась осторожно свернуть разговор на любовь, как дура, что было сил строила ему свои сонные глазки, но он ничего не понимал и продолжал что-то бубнить ровным голосом.
Тогда, чтобы хоть как-то переменить обстановку, я поставила пластинку Леонида Утесова и пригласила его танцевать. Он долго отнекивался, говорил, что не танцует, но я его вытащила силой.
Это был фокстрот, и оказалось, что он вполне прилично водит. Только одна особенность в танце смутила меня… Он танцевал не как взрослый, а как застенчивый подросток, который стесняется своего поднявшегося естества и потому отстраняет таз насколько это возможно, чтобы, не дай Бог, не прикоснуться им к бедру партнерши…
Мне показалось это милым, и я, поставив более медленную пластинку, прижалась к нему всем телом. И тут я наткнулась… Но не бедром, а почти коленом… Я даже не поверила. Это не могло быть так низко…
Когда танец кончился и он сел, я украдкой взглянула на его брюки. Увиденное сильно озадачило меня. Его широкая брючина была ровно вздута до половины бедра, с внутренней стороны, разумеется. Создавалось такое впечатление, что в очень глубокий карман положили какой-то внушительный предмет круглой формы. Скажем, батон «докторской» колбасы…
Этого не может быть, лихорадочно подумала я и бросилась ставить новую пластинку. Но он перехватил меня по дороге, мягко взяв за руку… Подведя к себе, он поставил меня между своих раздвинутых ног, так что я ногой совершенно отчетливо ощутила этот «круглый предмет», положил мне руки на талию, туда, где она переходит в бедра и, заглянув снизу вверх мне в глаза, спросил прерывающимся голосом:
— Что ты хочешь?
. — Я хочу танцевать, — кокетливо улыбнулась я, впервые определенно почувствовав свою силу над ним…
— Ты уверена в этом? — спросил он серьезно и, слегка шевельнув ногой, прижал ко мне свой «предмет».
— Конечно, — мелко дрожа от возбуждения и любопытства, ответила я.
— А не страшно?
— А чего бояться?
— Ты еще маленькая… А маленькие девочки не должны танцевать со взрослыми дядями…
— Я уже давно не маленькая… — сказала я, вспомнив мои поездки к Наркому.
— Маленькие девочки всегда хотят казаться взрослыми, а потом горько плачут, — сказал он, так сильно прижимая ко мне свой «предмет», что ноге стало немножко больно.
— Не заплачут… — сказала я, делая движение ногой к нему навстречу.
Он опустил руки чуть ниже, на ягодицы, закрыл глаза, прижал меня к своему лицу и проговорил прямо в меня, приятно щекоча горячим дыханием живот под грудью возле солнечного сплетения:
— Ты для меня все равно маленькая, как тогда…
— Я уже выросла, — сказала я, сильно прижимаясь к нему ногой, отчего он издал в меня глухой звук, похожий на стон.
— Все равно я для тебя слишком большой…
— Напугал девку… — со смехом ответила я старой поговоркой, разумеется не досказав ее до конца.
— Не храбрись! Как бы потом не пожалеть…
— А ты не бойся… — прошептала я и потерлась о его голову грудью.
— Я не боюсь, — прогудел он в меня.
— Нет, ты боишься… — сказала я и, взяв его голову ладонями, прижала к груди.
Не открывая глаз, он стал покусывать мою грудь через тоненький крепдешин платья…
— Ты боишься даже смотреть на меня? — подзадорила его я.
— Я боюсь проснуться…
— Ах, так я для тебя только сновидение? — шутливо возмутилась я. — Тогда я исчезаю.
И, уперев руки в его широкие плечи, я попыталась отстраниться от него, одновременно что есть сил прижимаясь к его «предмету», который уже полностью овладел моим воображением.
Он, удерживая меня одной рукой, опустил другую и скользнул по капроновому чулку до того места, где между трусиками, поясом и чулком был открытый кусочек тела… Я сжала бедра, как бы препятствуя его дальнейшему проникновению, но на самом деле усиливая собственное возбуждение, уже готовое перейти в новую фазу…
Почувствовав, что он одной рукой пытается стянуть с меня трусики и пояс вместе с чулками, я изогнулась и, вырываясь из его сильных рук, прошептала:
— Я сама… Но сначала я должна выйти…
Он открыл глаза и изучающе взглянул на меня.
— На минуточку… — успокоила я его. — Иди ложись, — добавила я, кивая на открытую дверь в спальню.
13
Я забежала в ванную и двумя движениями содрала с себя всю одежду. Трусики были насквозь промокшие, и я их бросила в корзинку с бельем, приготовленным к стирке.
Забравшись в ванную, я пустила воду и встала под душ. Мне еще нужно было посетить туалет, но я постеснялась журчать на весь спящий дом и потом грохотать чугунным сливным бачком, который, низвергнув бурный водопад, заканчивал спуск утробным рыком, похожим на звук закарпатской трембиты. Поэтому я помочилась, прямо стоя под душем.
Я была настолько возбуждена, что помылась поверхностно, стараясь как можно меньше к себе прикасаться. Тщательно промыть все складочки, как делала обычно, я побоялась. Это могло привести к внезапному концу. А утрачивать истомившее меня желание я не хотела. В этом почти болезненном желании, подогретом острым любопытством, была особая прелесть.
За последнее время мне именно такого желания и не хватало. Если б оно хоть раз возникло не во сне, а наяву и было направлено на какого-то конкретного человека, я в любом случае сумела бы его удовлетворить…
Но все мои желания уехали в Париж.
Когда я, накинув на себя легкий шелковый халатик, прилипший к влажному еще телу, пришла в спальню, он лежал на спине, напряженно вытянувшись и укрывшись пуховым бабушкиным одеялом до подбородка. На животе под одеялом проступал неправдоподобно длинный предмет. В глазах его был самый настоящий страх.
Я присела на край кровати и, склонившись над ним, провела рукой по смуглой уже колючей щеке, по кадыкастой шее… Грудь моя рвалась наружу из разъезжающихся отворотов халатика, и он, не спуская с нее загоревшихся глаз, поднял голову с подушки и потянулся к ней лицом, губами…
Я медленно повела рукой по его телу поверх одеяла туда вниз и вдруг застыла, оторопев и издав при этом какой-то неприличный, не соответствующий ни месту, ни времени возглас…
Он откинулся на подушку и вопросительно, со страхом и болью взглянул на меня. Наверное, такой же взгляд был у чудища из аксаковского «Аленького цветочка», когда оно показалось возлюбленной во всем своем уродстве.
Честно говоря, ему было чего опасаться. Прикасаясь к нему ногой, я далеко не все поняла… Моя рука наткнулась на нечто толщиной с хороший кукурузный початок и длиной "не меньше тридцати сантиметров.
Наверное, на моем лице непроизвольно отразились такие сложные и противоречивые чувства, что он с тихим стоном отчаяния закрыл глаза.
Как я теперь понимаю, на моем лице тогда отразился неподдельный ужас и непристойное, подогретое похотью любопытство… Как вы сами понимаете, гордиться тут нечем.
Я поняла, что своей неосторожной гримасой очень огорчила, если не обидела его, и, чтобы как-то загладить свою вину, начала покрывать его лицо, шею, грудь нежными поцелуями, неуклонно спускаясь все ниже и ниже…
Он попытался вялой рукой отстранить меня, но я легко преодолела его сопротивление и очень быстро добралась до того места, куда стремилась…
Он что-то прохрипел. Я не поняла и переспросила:
— Что?
— Свет… — повторил он.
— А черт с ним! — сказала я с веселым отчаянием, будто это он заботился не о своем, а о моем целомудрии… Я ни за что бы не позволила лишить себя этого потрясающего зрелища…
Он был прям, смугл, с огромной открытой головкой, багрово-коричневого цвета, напоминающего шляпку подосиновика, весь перевит голубыми жилами, которые сотрясали его ударами туго пульсирующей крови. Стоял он параллельно животу, отстоя от него сантиметра на два-три.
Ничего подобного я не видела ни до, ни после…
— Свет выключи… — уже простонал он с закрытыми глазами.
Чтобы заставить его замолчать, я положила на него руку и медленно сомкнула ладонь. Как сейчас помню, пальцы мои не сошлись, как я ни старалась…
14
Это и была первая тайна Николая Николаевича…
Потом, когда у нас установились ровные регулярные отношения и он проникся ко мне настоящим доверием, я узнала, что этот чудовищных размеров член был просто бичом его жизни…
Началось все в младенческом возрасте в деревне. До восьми лет он, как это и положено деревенскому мальчишке, бегал на Волгу купаться нагишом с веселой ватагой своих сверстников и сверстниц. Они всей компанией купались, загорали, искали на прибрежном лугу какие-то, только детворе известные сладковато-пряные травки, толстенькие и сочные стебли которых можно очистить от жесткой шкурки и жевать, испытывая обманчивое чувство насыщения.
Маленький Коля ни ростом, ни чем другим не выделялся среди одногодков. И вдруг в один день все переменилось…
Когда наступило восьмое лето его жизни, он с друзьями и подружками направился на Волгу, разделся, как все, и бросился в еще холодноватую воду. Когда же он вышел, то почувствовал некоторую перемену в себе. Девчонки-соседки перешептывались, поглядывая на него, и как-то обидно хихикали, словно он в чем-то измазался и сам об этом не знал. Потом они оделись.
Он быстро понял, в чем дело… Он посмотрел на товарищей, на их озябшие гороховые стручочки, потом на свою уже тяжеленькую морковку и тоже надел сатиновые трусишки.
В четырнадцать лет, когда ему со взрослыми мужиками приходилось после косьбы мыться в Волге, они задумчиво качали головой и посмеивались. Никто рядом с ним встать не мог. Васька-звеньевой, самый образованный и разбитной, однажды высказал предположение, что когда Кольку заберут в армию, то служить он будет в артиллерии… Мужики весело поинтересовались: «Почему?» — «А он там будет хером пушки прочищать…», — заявил Васька, сам не подозревая, что цитирует классика русской поэзии. Мужики дружно заржали, а Колька чуть не заплакал от обиды.
Он вообще стал замечать, что мужики стали относиться к нему хуже с тех пор, как он подрос. Шуточки по поводу размеров сыпались в его сторону постоянно. Стоило появиться в поле зрения кобылке или ишачихе, мужики похабно подмигивали и кивали в сторону невинного животного — вот, мол, твоя невеста пришла…
Девчонки-сверстницы поглядывали на него с озорным интересом и обязательно похохатывали вслед. Взрослые бабы, особенно молодухи или солдатки, относились к нему с сочувствием, сквозь которое сквозило затаенное любопытство.
И самое трагичное было в том, что среди хохочущих ему в спину девчонок была одна, в которую он был тайно влюблен. Ее звали Катя. Да и она, когда оставалась одна, без подружек, поглядывала на него с каким-то особым интересом, не имеющим отношения к его мужским достоинствам или, как он был убежден, к недостаткам.
В своем убеждении он окреп после одного случая, который со стороны можно было бы назвать комичным, но в котором для самого Николая ничего смешного не было…
Дело было так. По соседству с семьей Николая жила сорокалетняя крепкая бабенка, у которой муж как ушел в Саратов на заработки, так и жил там, изредка присылая в деревню с оказией деньги.
Бабенка — ее звали Настя — была известна по деревне своим насмешливым характером, свободными нравами и любовной ненасытностью… Все мужики села, поглядывая на нее, облизывались, но мало кто решался подкатиться к ней, потому что если он не удовлетворял ее высокие любовные запросы, то она не стеснялась высказать ему свои претензии при всем честном народе…
Так вот, однажды, когда Колькины родители уехали по какой-то надобности в город Пугачев, Настя позвала его помочь сложить сено на чердак коровника.
Он подавал сено на вилах, а она принимала и утаптывала. Причем, как это очень быстро выяснилось, на ней не было ничего кроме довольно просторного платья типа ночной рубашки, и когда она наклонялась за сеном, то из прорехи чуть не вываливались ее налитые белые с коричневым треугольником загара титьки, а когда она перегибалась пополам, распределяя сено по чердаку, то короткое платье задиралось так, что был виден крутой зад и все, что расположено рядом. Колька не знал куда глаза девать и с трудом передвигался, а Настя, вроде бы ничего не замечая, перегибалась еще сильнее, сверкая на случайном солнечном луче золотистыми волосками промежности.
На половине работы она вдруг выпрямилась, вытряхнула из-за пазухи сенную труху и попросила Кольку сбегать в погреб за холодным кваском, который у нее стоит там в четверти. Да чтоб он из избы и кружку железную притащил, а то ей, дескать, не с руки слезать, залезать…
Колька был рад такому поручению. Он надеялся, что, пока он лазает в погреб да бегает за кружкой, его мучитель успокоится и перестанет позорить его, выпирая из штанов и сковывая движения…
Он поднял все, что просили — четверть и кружку, — на чердак. В четверти оказалась отстоянная до прозрачности пенная бражка-медовуха, приятно пощипывающая горло и шибающая в нос.
Они выпили по полной пол-литровой кружке. Колька хотел уже спускаться, но Настя задержала его. Налила еще. Отказаться было трудно, больно уж сладка и ядрена была медовуха, а сладенького Кольке редко перепадало. Эту кружку он пил медленно.
Потом спустился и снова взялся за вилы. И еще больше мелькали в вырезе рубахи Настькины титьки, и еще откровеннее заголялся при поклонах зад, словно за то время, пока они пили шипучую бражку, платьишко ее сделалось короче…
Я объяснила Николаю Николаевичу, что, скорее всего, так оно и было, что есть много способов незаметно подкоротить подол, не снимая платья, особенно если оно отрезное и тесноватое, что женщина если захочет показаться мужчине, так она уж покажется, будьте уверены!
Короче говоря, Николаша, толком и не успокоившийся во время перерыва, распалился не на шутку… А тут Настька вдруг вскрикнула и пропала… Николай забеспокоился. Оказалось, что ей глаз остью запорошило, проморгаться не может.
Колька полез на помощь. Она лежала навзничь в дальнем углу, как бы в тесном закутке между кучами умятого до потолка сена, слегка расставив согнутые в коленях ноги. Платье ее задралось гораздо выше колен, и между крепкими белыми ляжками чернела и угадывалась таинственная расщелина… Настя жалобно причитала, держась двумя руками за правый глаз, а левым цепко следя за Коляшкой, очумевшим и от медовухи, и от возбуждения, и от страха за ее глаз…
На этом месте его рассказа я невольно вспомнила свою уловку с засоренным глазом, которую я применила к Илье, и подумала, что все женщины одинаковы…
Подойти сбоку к ней было нельзя — там было сено. А Настька, корчась от боли, то сводила, то разводила ноги и умоляла: «Ой, скорее, ой, мочи нет, ой, умираю…» Коляше ничего другого не оставалось, как опуститься перед ней на колени и, чтобы достать до глаза, наползти на нее со стороны ног…
Почувствовав, как сжали его ее мягкие и сильные ляжки, он совершенно одурел и мало что помнил из того, что произошло дальше… Помнил только смеющиеся, разбойничьи Настькины глаза, ее твердые пятки, сомкнувшиеся на его спине, хриплый смех, какое-то копошение в его штанах, что-то горячее, огненное, боль, крик свой и ее и неудержимое желание достичь, прорваться, дотянуться до того, о чем мечтал по ночам…
Очнулся он от боли, превышающей ту, что была до того… Боль перепоясала спину, ягодицы, еще раз, еще и еще… Он перекатился на спину, чтобы руками защититься от этой боли… Над ним стоял отец и охаживал его коротким сыромятным кнутом на длинном кнутовище. За отцом стояла мать и старалась удержать его руку. Старшая Колькина сестра Евфросинья, стоя на лестнице, выглядывала снизу, шаря по чердаку любопытными глазами и не решаясь влезть совсем.
Картина ей представлялась ужасная: Колька, с идиотской улыбкой, закрывающийся руками от кнута и старающийся вмяться исполосованной задницей в сено, с торчащей из паха окровавленной штуковиной невероятных размеров, и Настя, тихо стонущая, словно в забытьи, и конвульсивно двигающая перемазанными кровью ляжками.
Как потом выяснилось, произошло следующее: Настя, не без воздействия медовухи, явно преувеличила свои возможности и храбро вправила в себя его штуковину… А он, вместо того чтобы вести дело постепенно и с осторожностью, почуяв желанное, вогнал ее со всего маха по самые по помидоры…
Настя от страсти, боли и страха заревела, как пароход. Заорал и он. И тоже от страсти и боли, потому что от такого резкого движения у него порвалась слишком короткая уздечка, соединяющая крайнюю плоть с основанием головки… До этого головка у него обнажалась с трудом, причиняя болезненные ощущения. Это прибавляло ему уверенности в том, что у него все не как у людей…
Он в горячке решил, что так и надо, что надо преодолеть эту боль, усилить проникновение, и подступит настоящее взрослое «хорошо», а не то, детское, чего он время от времени добивался собственными руками… В этот момент и настиг его кнут отца.
Родители только что вернулись из города Пугачева, начали распрягать лошадь и разгружать телегу, когда раздался нечеловеческий крик Насти. Таких криков в деревне до этого не слышали. Они кинулись спасать Настасью от верной гибели.
Отец начал охаживать кнутом своего сынка, вовсе даже не догадываясь, что это он. Тем более со свету, в сумрачной глубине чердака он его и не мог разглядеть… Сбежались соседи…
После этого случая жизнь Николая в деревне сделалась совсем невыносимой, и он уехал в Пугачев. Поступил в кровельную артель. Оттуда же, из Пугачева, он и ушел в армию, где его за выдающуюся стрельбу и отличную воинскую дисциплину отметили множеством грамот и именными часами, а после армии пригласили на работу в органы.
Так он оказался в Москве сперва в управлении наружной охраны, после окончания вечернего юридического института и академии МВД — в личной охране Наркома, а потом и на очень важном посту в Московском управлении.
Его любимая девушка Катя тоже в скором времени переехала к тетке в Пугачев и устроилась в пекарню. Они встречались с Колей по вечерам и ходили в кино, когда привозили новые картины.
Коля ее боготворил и несколько раз пытался оправдаться за тот печально-комический случай с Настей, но она и слушать не хотела. Она его простила. У них все было по другому. Чисто и благородно.
Когда он был в армии, она его ждала. Потом ждала, пока он не получил комнату в сером доме на Большой Полянке. Это было общежитие для семейных.
Они поженились. На свадьбе гулял весь коридор, то есть его сослуживцы, чьи комнаты выходили в общий с ним коридор. Таких комнат было в их коридоре семнадцать…
Обычно мало пьющий и застенчивый Николай на собственной свадьбе разошелся и хватил чуть больше, чем следовало… Поэтому жалостный шепот Катеньки: «Побереги меня, побереги, родной, прошу тебя Христом Богом…» он воспринимал как ритуальные девичьи причитания и довольно решительно приступил к исполнению супружеских обязанностей. И хоть и делал он это вполсилы, помня о печальном опыте с Настей, Кате эта процедура показалась адской мукой, которую она вытерпела только из-за любви к Николаю.
За все время истязаний она не произнесла ни звука. Это и подбодрило Николая, который решил, что наконец с этим делом у него все в порядке. Очень довольный судьбой, он вскоре заснул, сотрясая комнатенку пьяным храпом.
Утром, увидев, что простыня обильно залита кровью, он вместо тревоги почувствовал удовлетворение… Он даже не обратил внимания на искусанные губы Катеньки. Он решил, что это от поцелуев.
А губы она прикусывала до крови, чтобы не кричать от бол И; В этом доме была слишком хорошая слышимость…
Всю свою жизнь после этого она с цепенящим страхом ложилась в постель и заботилась только об одном — чтоб не пустить его глубоко, туда, где невыносимая боль. С тех пор она ни разу не допустила его до себя пьяным. Он безропотно выполнял все ее просьбы и вскоре привык к тому, что каждый раз из- за своей прихоти причиняет боль любимому человеку…
Их близость сделалась редкой, а после рождения дочери почти совсем прекратилась… Впрочем, они в конце концов приспособились… Катя ложилась к нему спиной и зажимала его штуку между ногами, вдоль промежности, а высовывавшуюся спереди из-под лобка головку она ласкала руками, пока он не кончал ей в ладонь. Под конец она даже сама начала ощущать некоторое удовольствие, но развить это ощущение не успела…
У нее обнаружили злокачественную опухоль матки. Через год она умерла.
15
Так что Николай был не очень избалованный в сексуальном отношении человек. И когда я, вдоволь наудивлявшись и налюбовавшись на его штуковину, храбро впустила ее в себя, он был очень робок и неуверен в себе.
Но я очень быстро, с первого раза сообразила, что если держать его около самого входа в кулаке, то на ширину кулака он будет короче. Это даже было пикантно, потому что и кулак был полон его твердой, звенящей плоти, и там, внутри себя, я ощущала небывалую наполненность. Ладонью я чувствовала все его жилочки и как он ходит под своей тонкой шелковистой кожицей, а внутри ощущала движение его массивной головки с выступающими, как у шляпки гриба, краями…
Как выяснилось потом, эта его редкая особенность, из которой другой, более разбитной человек сделал бы профессию и источник благополучия, не позволяла ему лишний раз подойти к женщине… Тем более что он считал себя, вернее, свой чудовищный детородный орган причиной смерти жены, которой был бесконечно благодарен за то, что она его терпела такого, и никогда не изменял.
Как он мне признался много позже, когда он увидел меня, такую здоровенную (Катя у него была миниатюрной, если не сказать щуплой), то у него возникли в связи со мной какие-то смутные надежды.
Как он слышал, у Наркома тоже был не маленький, и если уж я его выдерживала… Он знал, что у Наркома не бывает продолжительных связей, и в глубине души мечтал, что когда он мной пресытится… Дальше он свои мечтания не конкретизировал, но верил, что судьба подарит ему возможность полноценно, без опаски жить с женщиной.
Так оно и произошло. Только судьба здесь была ни при чем…
16
Второй секрет Николая Николаевича открылся не сразу, а много после того, как мы начали жить с ним регулярной жизнью…
Вскоре кончилась театральная фаза и началась фаза домашняя. Он не любил посещать рестораны. «Там слишком много наших», — шуткой объяснил он однажды свою нелюбовь к этим заведениям, и поэтому чаще всего мы встречались у меня дома. Зато какие он праздники начал устраивать из наших встреч!
Он приходил с толстым кожаным портфелем, набитым до отказа… Там был коньяк, какой-нибудь экзотический ликер, который он покупал в закрытых барах, икра, красная рыба, паштеты, дорогие колбасы, крабы, шоколад и пирожные. Всего этого добра каждый раз было как-то чересчур много… Я даже пошутила однажды, что, наверное, он все это покупал уже после работы, потому что набрать столько можно только с голодухи…
Мне это нравилось, несмотря на то что ломало все мои диеты и даже напоминало посещения Льва Григорьевича, то есть моего папы. Только от его прихода бывало праздничнее…
Однажды, когда мы готовились к одному из таких ужинов, он случайно (а может, и не совсем случайно) капнул мне на руку, чуть повыше запястья, майонезом. Я потянулась за посудным полотенцем, чтобы вытереть руку, но он опередил меня и, наклонившись, слизал капельку, несколько раз нежно проведя языком по испачканному месту.
Это было очень мило с его стороны. Какой женщине неприятно такое внимание… Я этому случаю не придала особенного значения, но почему-то запомнила. Наверное, потому, что подлизывание было более тщательное, чем того требовала ситуация… И заметно возбудило его, потому что он тут же поцеловал меня в губы, потом в шею, потом проник рукою под халат, и мне стоило труда уговорить его подождать с этим делом и сначала поужинать…
Согласитесь, что ситуация довольно обычная, случающаяся с каждой женщиной, когда нечаянное прикосновение или кусочек обнаженного тела, а то, бывает, и просто неосторожное словцо кидают любовников в объятия друг друга, где бы они ни были… Но я почему-то это запомнила.
Второй раз это произошло за столом, когда он шутливо кормил меня с ложечки янтарным сотовым медом и капнул мне на голую коленку… Вылизывая эту капельку, он поднимался по ноге выше, выше, еще выше, и дело на этот раз закончилось в постели, тем более что мы уже поужинали.
В третий раз это было в спальне…
17
Николай Николаевич почти никогда не оставался у меня ночевать, так как дома его ждала дочка Жанна, поэтому у него не было привычки по утрам подавать мне кофе в постель. Зато после любви он обожал принести мне что-нибудь вкусненькое в кровать и покормить меня с руки.
Однажды он принес мне вазочку клубники со сливками, мое любимейшее блюдо, и начал меня кормить с ложечки. При этом очень мило поддразнивал, отнимая ложку, как только я открывала рот и нацеливалась на нее.
Очень трудно было предположить в этом серьезном, даже чересчур, человеке с довольно тяжелой внешностью столько игривой нежности и фантазии…
Разумеется, мы заигрались, и произошло то, что должно было произойти. Вазочка с остатками клубники и с бело-розовыми сливками была опрокинута прямо на меня. Я быстро откинулась на подушку и прижала руки к бокам, чтобы сливки не стекли на простынь, так как я была голая.
Николай Николаевич не растерялся и, склонившись надо мной, быстро собрал губами ягоды, потом высосал лужицу сливок из пупка, потом неторопливо стал меня всю вылизывать.
Вскоре я заметила, что дыхание его сделалось прерывистым и частым, как во время близости, а между разошедшимися полами халата, который был на нем, показался его флагшток с пылающей от желания головкой.
Это было для меня тем более удивительно, что, при всех его размерах, назвать Николая Николаевича любвеобильным человеком я не могла. Мы за одно его посещение занимались любовью только один раз. Правда, это было долго, час-полтора, и я за это время успевала порой до пяти раз побывать на вершине блаженства, а ему вполне хватало одного. Зато он исторгал из себя такое количество семени, что опустошался на целую неделю…
Так вот, вылизав меня всю досуха и даже не спустившись, как он это любил, ниже пупка, он возбудился с такой силой, что, когда я, тоже страшно заведенная его страстью, сжала его пылающую штуку двумя руками и, как кинжал, вонзила в себя, он на третьем же движении кончил. Притом так же, как и в первый раз, обильно. Если еще не обильнее…
И мне этих трех движений оказалось достаточно… Это было что-то сверхъестественное… Он и раньше целовал меня всю, но это не возбуждало меня с такой силой… Что-то в его поведении было необычное. Я почувствовала это всей кожей. Не буду скрывать: что-то затаенное, неосознанное во мне отозвалось на эти причудливые ласки.
В следующий раз все повторилось сначала. С той только разницей, что это была не клубника со сливками, а молодое клубничное варенье, которое я сварила день назад. Это было даже удобнее, так как варенье растекалось по мне медленнее, чем сливки, разбавленные клубничным соком, и в этот раз ни капли не попало на простыню…
И снова я не узнавала Николая Николаевича… На этот раз все кончилось не так быстро, как в прошлый раз, но все же быстрее, чем обычно. А ведь это был второй заход подряд. И на меня снова подействовало его возбуждение.
Потом мы попробовали начать с этого, но оба остались недовольными, хоть и вполне удовлетворенными… Этот способ был слишком скор…
Мы много экспериментировали. Кончилось это тем, что пришлось передвинуть наш ужин на перерыв между любовными схватками. Хотя, если сказать точнее, ужин у нас стал частью нашей второй близости…
Теперь лакомства, которые приносил с собой Николай Николаевич, были большей частью пастообразны. Наскоро перекусив бутербродами и запив все это вином, мы занимались любовью как обычно… Но все это происходило как бы в предвкушении главного блюда. Эта близость была тоже как бы закуской перед горячим…
Наши сексуальные ужины были столь же изысканны и обильны, как и те, что были раньше… Николай Николаевич с огромным увлечением сервировал мое тело всевозможными яствами и деликатесами. Вскоре мы пришли к выводу, что и такие твердые предметы, как маслины, сыр, колбаса, могут хорошо держаться на моем большом теле и места для всего хватало.
Меня он кормил из той же посуды… Он снимал с меня снедь пальцем и клал прямо в рот…
Больше того — и коньяк пить Николай Николаевич приспособился из меня. В углубление моего пупка вмещалась добрая рюмка жидкости.
После того как я бывала начисто вылизана, на меня намазывался десерт. Это было или варенье, или сбитые сливки, или жидкий, почти горячий шоколад… Особенно ему удавался смешанный десерт, когда он одновременно поливал меня горячим шоколадом и распущенным, но еще холодным мороженым… Он ложился у меня между ног и ловил белые и черные струйки языком, не давая им стечь на простыню…
Но так как он таким образом не имел возможности кормить меня тем же десертом, то со временем я настояла и на своей доле. Я укладывала Николая Николаевича в постель и, полив его штуку точно таким же десертом — тем более что места там хватало — неторопливо его поедала…
Николай Николаевич относился к этому лакомству с прохладцей, хотя, по моему разумению, все должно быть наоборот…
18
Однажды, когда секс-ужин особенно удался, Николай Николаевич, пребывая в состоянии блаженного расслабления, рассказал, что в 29 гогоду, когда на левом берегу Волги был страшный голод со случаями людоедства, его пятилетняя сестренка Наташка совсем дошла. Живот от голода и от лебеды у нее сделался как у взрослой беременной бабы…
Кольку — ему тогда было двенадцать лет — со старшей семнадцатилетней сестрой Фроськой послали к свояку в соседнее село за сметаной. Родители договорились об этом раньше… Сметана нужна была для того, чтобы забеливать лебедовую похлебку для Наташки. В этом мать видела ее спасение. За обещанный горшочек сметаны мать отдала золотое, истончившееся от времени обручальное колечко…
Они отправились туда на телеге. Кучерил Николай, а Фрося сидела сбоку и прижимала к груди горшочек, укрытый листом лопуха.
И надо же так случиться, что посреди пути ей приспичило по малой нужде. Николай остановил. Не выпуская горшочка из рук (Фрося боялась оставлять сметану с Колькой), она как-то неловко перевернулась и стала слезать с телеги задом, зацепилась длинным подолом за чеку колеса, потеряла равновесие и, падая, взмахнула руками. Драгоценный горшочек глухо стукнулся о край телеги и, уже разваливаясь на три части, вылил на нее все содержимое. Сметана затекла между грудями на живот в пупок, а оставшимися осколками, которые она так и не выпустила из рук, она зачерпнула дорожной глубокой пыли.
Слезы брызнули из Фросиных глаз. Она поднесла к глазам мохнатые от пыли черепки и отбросила их, заревев в голос. Потом крикнула на онемевшего Кольку:
— Ну, что вылупился? Лижи сметану! Не пропадать же… — И расстегнула мелкие пуговки кофты…
Сама она даже палец не макнула в эту сметану — чувствовала свою вину…
Колька вылизал ее всю досуха… И грудь, и живот, и соски… Тогда-то и проснулось в нем настоящее мужское, и поднялось, и заломило до звона в ушах, и прокатилось по телу блаженной последней судорогой…
Фрося заметила его состояние, но ничего не сказала… Только сама громко задышала, вздымая опавшую от голода грудь…
Они вернулись, и свояк дал им другой горшочек сметаны. Николай ему потом отработал на покосе, хотя свояк и отказывался. Но Николай считал себя должным, и удержать его было нельзя.
Это и была его вторая тайна. Я оказалась права, чувствуя, что за нашими секс-ужинами стоит нечто большее, чем фантазия. Когда я узнала, в чем дело, то резко охладела к этим экспериментам. 1 — Но почему? — допытывался Николай Николаевич, когда я стала мягко, но настойчиво уклоняться от «сервировки».
— Давай все-таки не будем… — сказала я.
— Почему? — удивился он — Ведь нам так хорошо!
— Позабавились, и хватит… Все-таки это не совсем нормально… Так мы скоро дойдем до того, что без сметаны или варенья вообще не сможем этим заниматься…
А третью тайну Николая Николаевича мне открыл мой самый страшный враг…
19
Наши отношения постепенно превратились почти в семейные. Сперва он заезжал ко мне раз в неделю, потом два раза… Дочери своей он говорил что-то о дежурствах, спецзаданиях и прочей служебной надобности. Обычная его работа была с ненормированным рабочим днем.
Николай Николаевич все чаще и чаще сокрушался, что мы так и не знакомы с дочерью, что, может быть, у нас, несмотря на ее тяжелый характер, завязались бы хоть какие- то отношения, а там, не загадывамши наперед, можно было бы подумать и о создании семьи.
Ведь что может получиться, рассуждал он, — Жанна вырастет, выскочит замуж и уедет от него, как мать ее уехала из дома за ним… И тогда, выходит, напрасны были его ограничения себя во всем…
У меня же никто согласия на замужество и не спрашивал. Он полагал, раз я его принимаю, всегда весела и приветлива, значит, для меня естественным продолжением таких отношений должно быть замужество.
Меня, конечно, устраивали наши регулярные встречи. Но, честно говоря, я уже начала уставать от его размеров и от того, что все время приходится быть начеку, чтобы он, увлекшись, не покалечил меня. Те экзотические ощущения, которые раньше сильно возбуждали меня, начали слегка раздражать…
Может быть, люби я его посильнее, то все было бы по- другому, но из чувства благодарности настоящая любовь не произрастает. И потом, признательность — довольно скоропортящийся продукт. Со временем, вольно или невольно, закрадывается в тебя крамольная мыслишка: «Сколько же можно расплачиваться за однажды сделанное тебе добро? Уж кажется, отслужила за все!..»
Хотя, конечно, слово «отслужила» совершенно не точное в данном случае.
И потом, меня очень огорчало, что молодая веселая компания медиков как-то сама собой рассосалась. Несколько раз ребята, завалившись ко мне, по обыкновению, без предупреждения, сталкивались с Николаем Николаевичем.
Он отнесся к ним по-дружески и с пониманием, щедро угощал, несколько раз гонял гонцов за вином, но после этих встреч ребята стали заглядывать ко мне все реже и реже и потом совсем перестали…
Это я все подробно рассказываю затем, чтоб показать, в каком душевном состоянии я пребывала к моменту нашей встречи с Евгением Кондратьевичем.
20
Он окликнул меня, когда я проходила по Тверскому бульвару. Услышав знакомый до рвотных судорог голос, я оглянулась и увидела его, сидящего на лавочке в том же самом коричневом костюме, в котором запомнила на всю жизнь.
— Присядьте на минуточку со швейцаром, может, и не пожалеете… — загадочно предложил он. Что-то в его голосе было такое, что я, поколебавшись секунду, присела, решив уйти, как только мне этого захочется.
— Я вижу, у вас с Николаичем уже семейная жизнь налаживается? — не то спросил, не то печально констатировал он.
— Это не ваше дело! — тут же завелась я.
— Конечно, не мое, — согласился он. — Это дело ваше, но, боюсь, вы не все про своего жениха знаете, и хотел бы вас по- человечески…
— А почему вас это волнует? Откуда этот приступ доброты? — со злым ехидством спросила я.
— Доброта здесь ни причем, — охотно пояснил он. — Просто я смотрю, что человек жирует и благоденствует на костях другого человека и за это же самое считает этого другого, которого он использовал, извините, как подтирку, дураком. А это другому человеку, согласитесь, обидно.
— Я не понимаю, куда вы клоните? — нахмурилась я.
— А я туда клоню, милая барышня, что все это была постановка. Подставка, по-нашему…
— То есть?.. — растерянно спросила я, и во мне вновь шевельнулись смутные подозрения, которые я все это время пыталась спрятать поглубже.
— А как вы думаете, кто разработал всю операцию? Николаич и разработал. Именно он рекомендовал вас в переводчики французу. Он велел с вас глаз не спускать… Вы бы видели, как он радовался, когда вы прокололись с этой валютой. Я не знаю и знать не хочу, что у вас было там, дома, но, грешным делом, когда вы выскочили из подъезда, счастливые и довольные, я подумал, что было, но об этом Николаичу не сказал. Он сам настоял на версии, что непременно было… Он и велел это ставить вам в вину наравне с валютой. И с валютой он лично все раскручивал…
Евгений Кондратьевич замолчал. Закурил свой «Казбек». Дым пополз мне в глаза и ноздри, но я уже не обращала на него внимания…
— Я еще тогда подумал: чего это он? Сам рекомендовал и сам дело наворачивает? И долго не мог понять, к чему это он. И только когда узнал, что он чуть ли нё жениться собирается, тогда мне стала ясна вся картина… Что вы думаете, это я по своей инициативе применял к вам спецметоды при допросе? Он мне и приказал! А потом явился этаким избавителем! Ну, я сперва думал — для дела, для того чтобы оказать психологическое воздействие и докрутить всю эту историю до ума, а когда он отпустил вас, закрыл дело и выставил меня перед всеми дураком и сталинским палачом, я прямо обалдел и не знал, что и думать. Честное слово, я уже начал побаиваться, что он умом тронулся… Оказывается, с умом у него было все в порядке… Это я сплоховал. Не дотренькал своим умишком… Обыграл он меня всухую… Ведь все рекомендации и приказания он отдавал мне устно, без свидетелей. А потом, умница, от всего открестился, как я ни кричал. К тому же он мое начальство. А против начальства идти как, извиняюсь, против ветра пысать…
— А фотография? — тихо спросила я.
— Он и это применил? — криво усмехнулся Евгений Кондратьевич. — Далеко пойдет… Ваша мама работала с моей женой в больнице — это правда. А вашего отца я в глаза не видел, так как он сидел не в моем лагере… А ваша мама была подругой моей жены. В гости к нам ходила.
— А почему вы оправдываетесь, ведь я вас еще ни в чем не обвиняю? — подозрительно сказала я.
— Я уж потом додумался, когда смекнул, как он может использовать эту фотографию. Больно он за нее схватился, а потом она пропала… Правда, потом появилась, как и не пропадала, но я понял, что он сделал с нее копию…
Такова была третья тайна Николая Николаевича.
Наши отношения внешне еще долго оставались прежними, так как я его очень боялась.
Наверное, он действительно любил меня, раз, почувствовав во мне перемену, не стал настаивать на продолжении и уж тем более на развитии нашей связи.
Конечно, я называла его и ежиком, и еще сотней забавных прозвищ.
Когда я искала автора известного письма, то подумала О Николае Николаевиче, но найти его не смогла.
В письме многое совпадало, даже «гнездышко". Незадолго до моей встречи с Евгением Кондратьевичем он получил огромную трехкомнатную квартиру в центре, где мы провели почти сутки, занимаясь, как он выразился, настоящей «половой жизнью» на ватном матрасе, брошенном прямо на пол. Он еще спрашивал:
— Неплохое гнездышко здесь можно свить, как ты считаешь?
Наверное, он его и свил, как хотел…
Но где расположен этот дом, я, убей меня Бог, не помню. Он привез и увез меня на такси…
Примечания
1
В этой главе автор записок допустила некоторую хронологическую неточность. Из текста следует, что события, произошедшие с нею в больнице, закончились никак не позже начала ноября, и то в том случае, если осень в том (1955) году была небывало теплая и сухая. Она пишет, что во время своей тяжелой болезни, уже после аборта, видела в окне кленовую ветку сбрасывающую листву. Но это могло происходить никак не позже первой половины ноября, а Указ об отмене запрещения абортов был опубликован 23 ноября, а принят к действию наверняка позже. Заглянув на последнюю страницу газеты «Вечерняя Москва», в раздел «Погода», можно легко убедиться, что в этот день в Москве шел снег и даже открылись некоторые катки. Но кроме этой других неточностей в тексте пока не обнаружено, что делает честь его автору и позволяет надеяться на подлинность описываемых событий. (Прим. ред.)
(обратно)


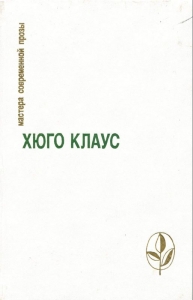

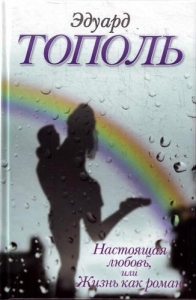
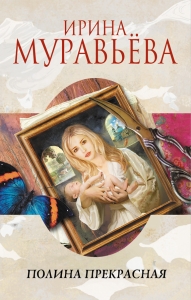


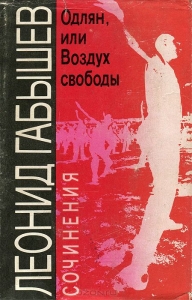


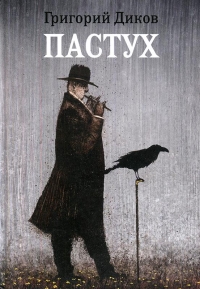
Комментарии к книге «Прекрасная толстушка. Книга 1», Юрий Федорович Перов
Всего 0 комментариев