Роман
От переводчика
Август 1989-го. Летнее кафе перед гостиницей «Москва» в Белграде. Напротив меня за столиком — Момо Капор. Он слушает меня скептически:
— «Книга жалоб» в Советском Союзе? Нет, не думаю… Если что и напечатают, то с неизбежным комментарием типа: «Вот ведь неплохой писатель, но нам чуждый…»
— Сейчас многое меняется.
Да-да, я слышал, но все равно сомнительно.
До недавнего времени действительно казалось, что произведениям Момо Капора не суждено появиться в нашей стране, Причина классическая: Капор имеет обыкновение говорить (и писать) именно то, что думает, да к тому же у него очень острый язык, а советскому читателю острое, как известно, считалось противопоказанным. Впрочем, и в самой Югославии имя Капора довольно долго было не в чести у официальной критики, которая без долгих раздумий отнесла его сочинения в разряд забавного чтива. Однако каждая новая книга «этого зубоскала Капора» (за десять лет он выпустил шесть сборников рассказов и пять романов) сразу же становилась бестселлером, и теперь один из самых авторитетных югославских критиков Игорь Мандич называет его прозу «уникальным феноменом», «явлением» и т. д., Момо Капора переводят в Англии, Германии, Швеции, Польше, Болгарии, Чехословакии.
И если уж мы знакомимся с его творчеством с таким опозданием, то начинать надо именно с «Книги жалоб»! Почему? Во-первых, потому, что это одна из последних книг Капора. Во-вторых, потому, что в ней он весь: язвительный и лиричный, насмешливый и ранимый; тут все его главные темы: личность и система, Восток — Запад, любовь — нелюбовь. Наконец, в-третьих, потому, что многое в этой книге очень нам близко, узнаваемо, до боли знакомо и по недавнему нашему прошлому, и по дню сегодняшнему. Нам понятны проблемы и беды главного героя — Педжи Лукача, вольнодумца, книготорговца по призванию! Он создает в Белграде из книжного магазина своеобразный интеллектуальный клуб и навлекает на себя гнев властей предержащих.
В этом номере «Иностранная литература» публикует первую часть романа Момо Капора.
Часть первая ЗАВАРУХА
КНИГА ЖАЛОБ
COMPLAINT BOOK
ВESCНWERDEBUCH
LIBRO DEI RECLAMI
REGISTRE DES RECLAMATIONS
«В эту книгу Вы можете записать все Ваши жалобы и предложения.
Дирекция».1
Эх, жизнь!
Я, Педжа Лукач (44 г.), несбывшаяся надежда сербской литературы со всем своим никому не нужным, приобретенным между делом образованием, встаю, улыбаюсь и вежливо отвечаю случайно забредшей ко мне домохозяйке с двумя тяжеленными корзинами в руках: «Нет, к сожалению, целлофана у нас нет». Ей банки нечем завязывать. Предложить ей что-нибудь другое? Есть хорошо сохранившаяся трилогия Генри Миллера. Или, может, «Проблемы мира и социализма в свете марксистской мысли»? Год назад присудили премию, теперь — на распродаже… (Интересно, почему у книг подобного рода такие длинные названия?) Женщина с корзинами стоит в снопе света из полуоткрытой двери олицетворением многострадальной мученицы, её бы следовало отлить в бронзе, как памятник вечной домохозяйке. Впрочем, к чему это глупое высокомерие? К чему сарказм? «Нет, что вы, целлофан не кончился, у нас его не бывает! Это книжный магазин, букинистический, вас не туда послали. Загляните на Теразие[1]…»
Снова устраиваюсь в кресле, отгороженном кассой, чтобы насладиться минутами безмятежного, ничем не нарушаемого покоя в ожидании кофе, который мне на маленьком подносе носит через дорогу хромой служитель из местного комитета самоуправления «Октябрь». Еще слишком рано для покупателей и ленивых интеллектуалов, заглядывающих около полудня, после того, как продерут глаза и совершат моцион, преисполненные сознания своей значимости. Книги аккуратно разложены, пепельницы вымыты, лавка проветрена… Лавка! Я люблю называть свой магазинчик «лавкой». Да и что он еще как не лавка? Есть в этом слове что-то солидное, по-ремесленному основательное. Лавка! На Здоровьичко заходит в лавку и еще с порога возглашает:
— На здоровьичко!
В этих двух словах заключен весь неистребимый оптимизм На Здоровьичко, до войны торговавшего коврами и неспособного даже теперь, несмотря на свои восемьдесят лет, сидеть без дела.
— Ну что, как поживаем?
— Потихоньку…
— Ну и на здоровьичко!
На Здоровьичко приносит с собой затхлый запах общественных помещений, где под слоем пыли гниют покоробившиеся шахматные доски, провонявший плесенью «красный уголок» походит на заброшенный алтарь (тут стоит выцветшее переходящее знамя, обшитое золотыми нитками, в окружении трех кубков, Бог знает, когда и где завоёванных); стены украшают рекомендации населению на случай атомного нападения и описания сигналов тревоги. Ветераны из комитета презирают На Здоровьичко, но терпят, потому что все должны ему за кофе. Презирают потому, что На Здоровьичко не сражался в последнюю войну на их стороне. Вернее сказать, он не сражался ни на чьей стороне. Держал свою сторону. Занимался помаленьку контрабандой, только чтобы выжить. По этой причине остальные считают его классовым врагом и хвастаются своими военными подвигами, в то время как он грустно сидит в углу, возле печки, на которой вечно кипит вода в кастрюле, и помаргивает своими лисьими глазками, в которых читается бесконечное терпение. Ветераны уверены, что он подпольный миллионер, так как варит кофе для сотрудников всех учреждений и магазинов в округе. Они частенько гадают о размерах его несметного богатства. Где он только его прячет? И что думает делать с такими деньгами? Одни говорят, что у него свой отель в Истре, другие утверждают, что он всю жизнь экономит, намереваясь построить церковь где-то в восточной Сербии. Когда он возвращается с пустыми чашками, спорщики умолкают.
Крепкий старикашка! Создал себе маленький мирок посреди вражеского лагеря (один против системы) и как-то умудряется существовать при помощи одной-единственной видавшей виды кастрюли, трех джезв и десятка чашек с отбитыми ручками, ничегошеньки не понимая в борьбе идеологий, из-за которой постоянно страдает. Когда у местного комитета нетерпимость возобладает над меркантильным интересом, ему откажут в приюте; тогда он молча перенесет свое жалкое кофейное хозяйство в какое-нибудь другое подобное же место и станет по-прежнему варить кофе, скромно зарабатывая на жизнь, продолжая, всегда в одиночку, свою тихую борьбу с историческими обстоятельствами. На Здоровьичко! Этими словами он как заклинанием отгоняет напасти, подбадривает себя и других, просит свою злосчастную судьбу ещё немного потерпеть, не сдаваться, не отдавать его на милость старости и накопившейся усталости. На здоровьичко! Лучший чёрный кофе во всём городе, тайна приготовления которого состоит в том, что он варит его в немытой посудине с приставшим к стенкам сахаром, бормоча над вскипающей пеной все то же магическое заклинание: «На здоровьичко!»
Итак, всё готово для нового, ещё не растраченного дня, конец которого (мне это хорошо известно) застанет меня помятым, выжатым, как лимон, в отвратительном настроении, пропитанным никотином, возможно, пьяным или того хуже — похмельным. Мне всё чаще случается напиваться в течение дня по нескольку раз, и после каждой такой микропьянки, когда удаётся протрезветь, я пребываю как бы в скрипучем лифте, застрявшем между этажами оптимизма и депрессии, накатывающих волнами, мучимый совестью, с непреходящим ощущением вины, и все это на ногах, в беспрестанном движении, всегда вежливый и любезный, как будто ничего особенного со мной не происходит. Всё больше пьянея, я останавливаюсь у самой кромки, на грани полного бесчувствия, почти подсознательно пользуюсь своим богатым опытом, приобретенным в кафанах; искусство, которым я давно овладел, заключается в своевременном чередовании напитков, а точнее — в том, чтобы, основательно нагрузившись белым вином (которое я чаше всего пью), хлопнуть чего-нибудь покрепче, а потом отлакировать пивом, которое обволакивает и навевает благостный полусон. Я дремлю в глубоком кресле, откинув голову на спинку. Прислушиваюсь к позвякиванию кассы. Это то ощущение покоя и безопасности, которое может дать только полное и окончательное поражение. Меня переполняет сладкая жалость к самому себе, когда я в полусне уже в который раз прокручиваю обрывки киноленты, где меня, главного героя и бесспорного фаворита, обгоняет и побеждает участвующая в массовом забеге безликая толпа, которую я годами оставлял далеко позади. Многие из неё когда-то были счастливы сидеть со мной за одним столом. Сегодня они меня обычно не узнают или же тонко подчёркивают свое превосходство преуспевающих людей. Каждый разбил свой маленький, аккуратный, серенький, уворованный литературный садик. Получают премии, доходные должности и почётные звания как нечто само собой разумеющееся. Но лишь один я знаю, с чего они начинали и какую цену должны были заплатить, чтобы обойти меня и стать тем, кем стали. Меня им не обмануть. Худо-бедно, я все же лучший книготорговец в городе! И несмотря ни на что, всё ещё таскаюсь по улицам, как ходячая народная библиотека (от Гомера до англосаксонской, уже не совсем новой «новой» волны, докатившейся с естественным опозданием и до ваших варварских, причудливых берегов), живое книгохранилище, которое лучше всего было бы распотрошить или распродать! О чём это я? Уж не начинается ли у меня жизненный кризис, в который, говорят, впадают как раз после сорока?
2
Кто сегодня помнит Педжу Лукача тех давних дней, когда его ещё не поглотила балканская полутьма книжного магазина «Балканы» на улице Королевы Анны? В минуты безысходной тоски, когда, накачавшись алкоголем, переполняемый чувством вины, я забываю, кем был и кем мог бы стать, я достаю с пыльного шкафа картонную коробку из-под ботинок, в которой храню комплект «Дела»[2] (1958, 1959 и 1960 годы). Тут мои ранние эссе о живописи — бренные останки бесплодной души, доказательства бесполезности утонченного вкуса… Здесь же толстая папка с вырезками, фотографиями и заметками, последняя неудачная попытка сохранить хоть немного самоуважения и убедить самого себя, что не просто прозябаю обыкновенным книготорговцем, а работаю над чем-то серьёзным, с дальним прицелом. Какой самообман! Кого я хочу обхитрить? Годами собираю материалы, расспрашиваю оставшихся в живых свидетелей, на которых мне случается натолкнуться, листаю книги и монографии, делаю записи на пачках сигарет и спичечных коробках… Все это якобы нужно мне для объемистого исследования об Эрихе Шломовиче, таинственном коллекционере и его загадочном собрании французской живописи. Сколько раз мне ночью (за стаканом белого вина, разумеется) казалось, будто я на пороге чего-то большого и значительного, что наконец оправдает мою бессмысленную, полную ошибок жизнь; я уже составлял в уме подробнейший план всей книги, видел даже репродукции в ней, шрифт, сноски, ширину полей — вcё! — на радостях напивался и предавался грезам вплоть до утра, неизменно лишавшего меня иллюзий и отрезвлявшего холодной логикой. Тогда я с отвращением отталкивал досье Шломовича, казавшееся мне теперь беспорядочным набором газетных вырезок, имен, мест и дат. Знаю наверняка: никогда мне не удастся собрать их в единое целое и расположить в какой-то логической последовательности. Всё же эта папка — воплощение моих болезненных амбиций — служит мне своего рода оправданием для бесконечных мечтаний, оправданием того, что я всё чего-то жду, что никак не соберусь закончить наконец свою работу (ведь мне ещё не всё известно о Шломовиче, хотя я уже знаю больше других!), она служит мне извинением того, что я всё больше пью, и одновременно возвышает в глазах тех, кто прослышал, будто я занят каким-то исключительно трудным и сложным исследованием. Правда, я несколько раз пытался бросить пить (одному Богу известно, какая это для меня жертва!), чтобы начать наконец писать, но стоило сесть за машинку, как у меня сразу опускались руки от осознания масштаба стоящей предо мной задачи. И вино вновь принимало меня в свои цепкие объятия! Дело, видимо, в том, что, обладая вкусом и образованием, я при этом начисто лишён способности что-либо написать! Следовало развивать эту способность параллельно и гармонично, чего я в свое время не сделал. Ну да ладно! В конце концов я прочитал по крайней мере сотню романов о тех, кто пишет книги, и ни одного о тех, кто их продает!
Я там, где я есть. Временами, открывая глаза, чтобы на часок-другой сбежать из своего фильма, я погружаюсь в созерцание картины за окном с её постоянно меняющимися сюжетами. Стекла магазина чуть затемнённые, и все, проходящие мимо, не в силах побороть искушение полюбоваться собой; разглядывают своё лицо и одежду, поправляют непослушный локон или узел галстука, самовлюблённо созерцают свое отражение, оценивающе прищуриваются; женщины проводят кончиком языка по губам, отрабатывают какой-то новый обольстительный бросаемый искоса взгляд, не зная, что я за ними наблюдаю. Сколько неуверенности в себе вперемешку с тщеславием! Ну-ка, как я выгляжу? Разве я не привлекательна? Когда я так смотрю на них, скрытый блеском витрины, остающийся невидимым до тех пор, пока они не подходят к витрине вплотную, весь мир за стеклом кажется мне огромным дурацким аквариумом, где диковинные человекоподобные рыбы суетятся, охотятся, гоняются друг за другом, пожирают друг друга, размножаются… С другой стороны, я для них, наверное, являю собой нечто вроде бледной книжной медузы, дремлющей в море печатной продукции. Мне, однако, приятнее чувствовать себя снаружи аквариума, чем внутри.
На Здоровьичко приходит забрать пустые чашки.
— Как поживаем? — спрашивает.
— Ужасно! — отвечаю.
— На здоровьичко! На здоровьичко! — говорит он и, приxрамывая, идет к себе через улицу.
3
Я — сова. Ночь — моё время. Мне нужно сделать над собой огромное усилие, чтобы вступить в новый день. Порой утро вызывает во мне такое отвращение, что я, кажется, готов выблевать все внутренности в унитаз. Кое-кто утверждает, будто это от выпитого накануне и от чрезмерной дозы никотина, но я-то знаю, от чего — от утра! Чтобы окончательно проснуться, мне необходимы две-три чашки чёрного кофе. Несколько сигарет. Рюмка чего-нибудь крепкого: водки или ракии. Тогда я кое-как доползаю до умывальника и заставляю себя побриться. Господи, неужели это моё лицо? Оно бы должно было быть костистым, с наткнутой кожей на выступающих скулах, но вино сделало его дряблым. Чищу зубы, изо всех сил сдерживая новый приступ тошноты. Зубы? В ужасающем состоянии! Протезист мне уже ни к чему, тут может помочь один Господь Бог. Кошмар! Умывание: сколько бы я ни мылся, тело непрестанно покрывается холодным липким потом и дрожит мелкой дрожью, вызываемой угрызениями совести, тяжелым похмельем, чувством вины и боязнью конца… Мне бы сейчас побегать по какому-нибудь парку или по набережной вдоль реки, поделать приседания, чтобы освободиться от токсинов, разогнать кровь в жилах, почувствовать себя сильным и бодрым… Я спросил как-то одного доктора, автора книги «Бег трусцой», что здоровее: бегать или трахаться? «Любовь для организма гораздо полезнее! — ответил он невозмутимо. — У вас тогда работают все мышцы, укрепляются нервы, улучшается кровообращение… — Так почему же тогда люди не трахаются вместо того, чтобы бегать, высунув язык? — А потому, — ответил он спокойно, — что любовь организовать несравненно труднее, чем бег. Для бега ведь не нужно ничего, кроме хороших кроссовок. А для любви нужны, как минимум, двое!» Однако вчера не было никакого траханья. Один раздрызг. Да, раздрызг! Это самое точное слово. Чистя на кухне свои старые черные мокасины, пытаюсь смонтировать в голове обрывочные кадры вчерашних событии. Что сказал я, что говорили они? Я стараюсь уловить в этой куче перепутанной кинопленки хоть какую-нибудь логическую последовательность. Зачем я вообще туда ходил? Ну-ка, ну-ка? Лёг я в три ночи, а встал в семь с таким ощущением, что опять молол нечто непотребное. Небось наговорил кому-нибудь гадостей? Или разнюнился? Был любезнее, чем нужно? Может быть, изливал душу кому-нибудь незнакомому, кто потом использует это против меня же? Жаловался, что меня бросила Лена? Напускал на себя важность? Демонстрировал свою образованность? Навязывался кому-то, сносившему это с вежливым терпением? Что-то обещал? Объяснялся в любви? Дал повод для насмешек? Кто знает, что там ещё было? Нет, нет, мне действительно нельзя никуда выходить по вечерам! Лучше всего сидеть у себя на кухне. Если уж мне так необходимо пить, буду пить за своим столом. Я люблю эту ночную картину: клеенка в красную и белую клетку, сигареты, спички, пепельница, газета, стакан вина. Ночь. Сижу. Смотрю в стол. Существую. Молчу… Вот так бы мне и стареть себе, не совершая нелепых ошибок. Но какой-то бес меня всё время толкает принимать даже самые сумасбродные приглашении, общаться с людьми, и вот после двух-трёх бокалов меня на какое-то время охватывает блаженная радость от сознания своей принадлежности к великому человеческому братству; естественно, сразу же подставляюсь, чего делать никак нельзя, и вообще тормоза у меня отказывают, всё вдруг становится возможным, все ко мне благожелательны и все меня обожают, вот и эта прекрасная незнакомка слушает меня с восхищением, и я смело трогаю под столом ее круглое колено… Меня уже просто несёт, хоть я и знаю, что потом наступит раскаяние. Вот о чём я думаю, пока чищу старые мокасины.
Чистка ботинок для меня такой же ритуал, как для монахов утренняя молитва. (И они, и я при этом стоим на коленях.) Обнаруживаю на мокасинах две капли воска. Стало быть, там вчера горели свечи! Усердно втираю черный крем в потрескавшуюся благородную кожу, а затем мягкими щётками навожу глянец. Потом, когда любой дилетант решил 6ы, что больше уже ничего сделать нельзя, я надеваю мокасины и с помощью бархотки медового цвета добиваюсь последнего, немыслимого блеска, какого редко достигают даже профессиональные чистильщики. Эта утренняя чистка ботинок для меня нечто гораздо большее, чем простой уход за обувью. Это внесение определенного порядка в хаос, в котором я живу, расстановка раскиданных вещей по своим местам. Только после этого я могу сказать: «Пусть будет день! Я готов».
4
Утром внезапно подула первая осенняя кошава[3].
Я вижу, как по ту сторону витрины движутся фигуры прохожих; наклоняясь вперёд, они борются с ветром, который бьёт их прямо в солнечное сплетение, достигая тридцати метров в секунду. Город подрагивает под ударами этого восточного завоевателя, налетающего с Украины, с берегов Чёрного моря, с Нижне-Дyнaйcкoй низменности и Южных Карпат, сметая всё на своём пути, подобно полчищам невидимых всадников, отмахивающих в дикой скачке по сотне километров в час теми же самыми дорогами ветров, по которым наши предки устремлялись на Балканы со своей далекой прародины. В кошаве есть что-то сумасшедшее: просвистев с ревом и воем сквозь город, как сквозь дырявый зуб, она вдруг замирает в оазисе тишины и рычит, словно бешеная собака, прежде нем снова накинуться на жертву. Но этот город, возведённый на скалах при слиянии двух рек, — крепкий орешек, его ещё никому не удавалось покорить навсегда: волны завоевателей лишь катились сквозь него, точь-в-точь как кошава, не позволяющая нам застояться, расслабиться и облениться, — она нам проветривает мозги, испытывает на прочность, рвёт паучьи сети, грозящие опутать всё, разгоняет тучи смога, подметает площади своей огромной воздушной метлой, чтобы потом, когда всласть набесится и накуражится, в тишине, наступающей после буйной оргии, принести благодатный, всепрощающий дождь, проливающийся слезами облегчения.
Не прост Белград, ой, не прост! Ему пальца в рот не клади. Он умеет так измочалить свирепого налетчика, что держись! Вот кошава разлетится, самодовольно поигрывая мускулами, наскочит на него, а он её хладнокровно отбросит совсем в другую сторону, куда она никогда и не дула; закрутит вокруг себя, протянет под мостами, перекинет на другую сторону Дуная, где она сталкивается лбом сама с собой, подобно тому, как толпа дезертиров, унося ноги с поля боя, налетает на собственные тылы; или даст ей забраться поглубже и начинает кружить её по переулкам возле пристани, да так, что и сама кошава теряется, обескураженно останавливается, едва переводя дух, не соображая, где она и что с ней, заползает сконфуженно в какую-нибудь подворотню или проходной двор, где скулит и воет, пока роза ветров не вы волочит её за ухо и не заставит снова нападать. Тут она может даже одержать и победу, однако того поражения никогда не забывает и опять и опять набрасывается с удвоенной яростью, мстя за то, что осрамилась.
И у каждого из нас, живущих здесь (да и где нам еще жить?), кошава, кажется, сидит внутри. Нет-нет да и подует, и понесёт нас куда-то, куда мы и не думали никогда попасть. «Как ветром сдуло. — говорят в народе, — уехал, даже не простившись». Скольких из нас разметала она по свету, но вот что интересно: мало кто уехал жить туда, где она берёт своё начало, все укатывали в прямо противоположном направлении и, очутившись там, куда долетало уже лишь лёгкое дуновение, вдруг останавливались и диву давались: «Как это меня занесло в эту страну, в этот город, откуда у меня эта семья, эта одежда, как я попал сюда?»
Возможно, именно из-за кошавы, живущей во мне, я все еще питаю какую-то безумную, ничем не подкрепленную надежду, что еще выкарабкаюсь; наверное, это она не позволяет мне, подняв лапки, признать поражение и преисполниться жалости к самому себе — стоит мне махнуть на всё рукой, как кошава вихрем подхватывает меня, вытаскивает на свет божий из темной норы, в которую я забился, бросает под самые облака, разлетающиеся перед ней во все стороны рваными кухонными тряпками. Как бы то ни было, но я, несмотря на свои годы (простите, Педжа, а сколько вам лет? — Все мои!), питаю какую-то сумасшедшую, идиотскую надежду, что у меня вырастут новые зубы, что уже поредевшие, тронутые сединой волосы станут гуще, что похудею и стану стройным, что на меня наконец обратят внимание и вознаградят за все муки, выпавшие мне на долю, что однажды кто-то мягко положит руку мне на плечо и скажет: «Ну ладно, хватит, давай я всё устрою…» Кто? Некто несуществующий, бестелесный, живущий лишь в моем воображении, не имеющий лица. Какой-нибудь ангел-хранитель, добрая фея, Мэри Поппинс, откуда мне знать, кто? Что бы он мог сделать для меня? Может, заставил бы сменить работу, город, страну, привычки; оплатил бы долги и неоплаченные счета, хоть как-то упорядочил мою жизнь, научил, как вести себя с людьми, подарил успокоение, избавил от постоянного чувства вины… Так я и живу безумной, пустой надеждой, что вот уже на будущей неделе всё образуется, что вся моя прежняя жизнь была лишь своего рода подготовкой, чем-то вроде стилистических упражнений и послужит мне пропуском в годы настоящей жизни. Время от времени я вдруг прихожу в чувство и вспоминаю о своих «за сорок». Чего, какого черта я вообще ещё могу ждать? Большая часть жизни уже прошла! Остаётся, стало быть, одна труха, никчемное растительное существование, начинаются болезни, старение… Но, может быть, это и есть то долгожданное счастье: освободиться от тщеславия, амбиций, секса, политики, довольствоваться малым, малюсеньким, быть счастливым оттого, что живёшь, что сидишь на какой-то залитой солнцем лавочке, где тебе не дует, или что тебя ждёт овощной суп, воскресная газета, одна из трех разрешённых сигарет в день, или оттого, что вдруг перестало что-то болеть, что, наконец, удалось облегчиться или выспаться без дурных снов? Откуда во мне эта надежда? Я никого не расспрашивал о её загадочном происхождении, потому что не смог бы вразумительно объяснить, о чём речь, да и человека, с которым бы я был достаточно близок, чтобы вот так исповедоваться, нет. К тому же я свою надежду храню втайне, как особую привилегию, как нечто, выделяющее меня из серой массы, — тайную отметину; я и сам не смею чересчур к ней приближаться, чтобы разгадать, расшифровать, разложить на составляющие, так как боюсь, что тогда она навсегда исчезнет, оставит меня одного на всём свете.
5
Как я живу?
Живу, окружённый книгами, как сторож кладбищенского колумбария, где захоранивают урны; стоит мне протянуть руку, и я коснусь праха чьегo-то чужого опыта: книжный магазин — огромная исповедальня, наполненная какофонией смерти, мертвый хор, что вопиет и взывает в пустыне времени, причитает и скулит, хихикает, брюзжит, шепчет, кричит и стонет, умоляет выслушать его ради избавления от вечных мук… Dixi, et anima mea salvavi![4]
Однако, чтобы спасти свою душу, недостаточно просто выговориться. Нужно, чтобы тебя кто-то выслушал. А я уже больше не в силах слушать! И самому мне некому рассказать о хаосе, творящемся в моей душе, что, вероятно, уместнее в художественной литературе, чем в обыденных разговорах, где упаси Боже переступить вежливо обозначенные границы приличия. И вот мы говорим о погоде, говорим о Паскале, говорим о табаке, часами беседуемо винах, говорим о деньгах, о женщинах, о том, как добиться успеха в жизни, рассуждаем о политике, о притворстве и трусости, говорим о литературных критиках, о несправедливости, о чьей-то новой пластинке, о каторге, об эрогенных зонах, разговариваем о похмелье, о вчерашней тусовке, о неверности, о городах, в которых не бывали, о благополучных людях, которых встретили, о бедности говорим, болтаем о нищете и о легких заработках, о болезнях и старении, о хороших и дурных годах, говорим, говорим, говорим, говорим, говорим, говорим, внимательно следя за тем, чтобы случайно не проговориться кому-нибудь о своем маленьком, тайном аде, терпеливо поджидающем нас за дверью магазина, у кафаны, в гардеробе среди сданных на хранение зонтов, на пороге комнаты, где мы занимались любовью с какой-то молодой дамой, она была столь добра, что предоставила нам на пару часов маленькое своё тело (в которое мы спрятались от непогоды), наш маленький портативный ад ждет нас у банка, где мы сняли со счёта деньги, в прихожей нашей собственной квартиры, при выходе из кинотеатра, под часами на площади, в приемной у врача, на лестничной клетке (забыл ключ от квартиры), в кровати под одеялом, так что мы боимся ложиться с ним и пытаемся оттянуть эту неизбежную встречу, пытаемся напоить его, чтобы свалился под стол, но его на мякине не проведёшь, хитер, и вино его не берёт — спокойно дожидается, когда мы протрезвеем и окажемся-таки с ним лицом к лицу, если у него вообще есть лицо. Всё же книги меня кое-чему научили! Я прибегаю к приему старого Сенеки: стараюсь, чтобы у меня каждый день представлял собой цельную, законченную жизнь, чтобы в каждый отдельный момент не было никаких счётов с миром; я пытаюсь отказаться от своей безумной надежды, что всё образуется, и от будущего (чтобы быть свободным от страха смерти и неизвестности, но при этом не впасть в отчаяние); проще говоря, стараюсь жить сегодняшним днем, готовый в любой момент (да вот хоть сейчас!) со спокойной душой всё оставить… «Жизнь, она ведь как представление в театре: не важно, сколь долго длится, важно, хороша ли! Безразлично, когда перестанешь жить. Поставь точку где угодно, пусть только конец будет достойным…»
«Гай Цезарь, когда однажды переходил через Латинскую дорогу и кто-то из взятых под стражу, с бородой, отросшей по грудь, попросил у него смерти, ответил: „А разве сейчас ты живешь?“
Я заметил, что есть книги, которые читают в постели перед сном или сидя в удобном кресле в сумерках, но есть и такие, которые следует читать при дневном свете за письменным столом с превеликим вниманием. Таковы «Письма к Луцилию» Сенеки, которые я послал Лене. Я упаковал еще «Падение» Камю и «Великого Гэтсби» Фицджеральда, адресовав посылку Лениной матери, потому что не знаю нового адреса Лены. Зачем я продолжаю посылать ей книги, хотя мы уже давно расстались? Нет ли тут бесплодной попытки несостоявшегося Пигмалиона вернуть свою утраченную любовь с помощью хорошо подобранных книг? Когда я несу посылку на почту, то сам себе кажусь потерпевшим кораблекрушение, который бросает в волны запечатанную бутылку со своим отчаянным посланием (подчеркнутые места в книгах)…
Знаю наверняка: подтверждения, что она их получила, не будет и на этот раз.
6
— Садись, Педжа, садись… — говорит главный редактор «Балкан».
Я сажусь.
— А магазин? — спрашиваю.
— Ничего! Обойдутся и без тебя.
— Ну, как ты? — спрашивает секретарь. — Как дела?
— Помаленьку…
— Выпьешь чего-нибудь?
— Я не пью.
— Да ну? Это с каких же пор?
— Со вчерашнего дня.
— А кофе?
— Я уже пил.
Главный редактор смотрит на часы:
— Надо подождать товарища Елизавету.
— А где она? — спрашивает секретарь.
— На заседании.
Товарищ Елизавета, директор «Балкан», принадлежит к тому типу людей, которые, когда о них ни спроси, всегда на заседании.
Главный редактор извлекает из ящика стола слоеный пирог и начинает жевать.
В тишине хорошо слышно, как перемалывают пищу его крепкие челюсти. Секретарь отгадывает кроссворд.
— Кровосмешение по-латыни? Первая буква «и»? — спрашивает он.
— Инцест! — отвечаю. — Инцест — забава для всей семьи!
Звонит телефон.
— Знаю, знаю… — говорит главный редактор с набитым ртом. — Я получил рукопись. Нет. Еще не успел. Месяца через два. Я в запарке. А план на следующий год все равно уже составлен. Сожалею. Не за что!
Вздыхает и снова принимается за свой пирог:
— Кто только теперь не пишет!
Трубка замаслилась. Снова звонок.
— На заседании! — говорит секретарь. — Вот-вот должна быть…
— Сумасшедший дом! — Главный редактор вытирает пальцы о бумагу, в которую был завернут пирог. — Позавтракать спокойно не дадут…
— Датский философ, предшественник экзистенциализма.
— Киркегор.
— Черт! Не подходит.
— Попробуй тогда: Кьеркегор.
— Подходит!
Входит уполномоченный по гражданской обороне и кладет секретарю на стол бумаги.
— Что это?
— Решение о строительстве атомного убежища.
— Во дела! — говорит секретарь. — Это еще откуда?
— С последнего заседания.
Секретарь подписывает. Уполномоченный уходит.
— Видал?
— Если бы нас это спасло! — говорит главный редактор.
— Знаешь, что надо делать в случае ядерного нападения? — спросил я секретаря.
— Что? — Он не подозревает подвоха.
— Закрой уши руками, просунь голову между ног, поцелуй себя в задницу и скажи: «Прощай!»
— Ух, чтоб тебя… Безвластие?
— Анархия.
— Годится.
Никто больше не заходил. Никто не звонил. Погрузившись в полудремоту, они ждали.
Я сидел и смотрел в стену, повторяя про себя, как заведённый, спасительную фразу, которая должна войти мне в плоть и кровь: «Будь добрым к себе. Будь добрым к себе. Ты должен быть добрым к себе. Будь добрым к себе. Будь добрым к себе. Будь добрым к себе. Будь добрым к себе. Будь добрым к себе…»
7
Когда от меня ушла Лена, я был в отчаянии.
Сначала я решил покончить с собой. Но тут встал вопрос как? Все способы или мне казались слишком мучительными, или чересчур отдавали патетикой. У меня даже была мысль отправиться куда-нибудь на войну, записаться добровольцем и бессмысленно погибнуть за чью-то чужую идею, да только какая армия приняла бы в свои ряды книготорговца средних лет, выкуривающего больше трех пачек сигарет в день? К тому же я не был уверен, что помню, как стрелять из винтовки: столько воды утекло с тех пор, как я служил в армии! Я регулярно смотрел по телевизору репортажи о войнах в Африке и Азии, бывших как раз в разгаре, и завидовал трупам, сожженным в пустыне. Но ведь те солдаты, в рубашках с засученными рукавами, вечно жующие резинку, были почти что дети! Что бы я, старый специалист по страданию, делал среди них? Да меня бы завернули уже на границе или арестовали как шпиона. Так из моего намерения геройски погибнуть на поле брани ничего не вышло. Я предался отчаянию и стал совершенствоваться в нём, как в олимпийской дисциплине. Признаюсь, я даже немного смаковал эту тихую, непроходящую болезнь, с последовательным коварством разъедавшую меня изнутри. B то время я много пил и смотрел на мир сквозь винные пары. Однако надо было чем-то заняться. Вне зависимости от душевного состояния её хозяина, под дверью моей холостяцкой квартиры, которая, с тех пор как от меня ушла Лена, стала походить на берлогу степного волка г. Г. Гессе, регулярно оказывались счета за квартиру, за телефон, электричество, воду, вынос мусора… Воротнички рубашек потерлись, свитер на локтях стал просвечивать, только ботинки ещё сверкали, отражая своей блестящей кожей мою измученную душу. Ледяное чрево холодильника звенело пустотой. За неуплату по счетам у меня отключили телефон, последняя связь с внешним миром была прервана. Я стал распродавать книги и картины, которые собирал годами. Я потерял всякий интерес к ним, как и вообще к любому воду собственности. Сперва я продал весьма редкую теперь «Историю Югославии» Владимира Чоровича, чувствуя себя при этом так, будто продаю свою страну и свой род, затем за полцены, вынужденный безденежьем, продал и «Югославский национальный характер» Дворниковича (куда страна, туда пусть отправляется и характер её граждан!). Какое-то время я жил на деньги, вырученные за рукописный Коран в кожаном переплете с медными украшениями, и Библию, напечатанную в восемнадцатом веке в Вене; затем я загнал «Политические записки» Слободана Йовановича, «Ереси» Драганича, «Магнум кримен» Виктора Новака и «Православную Далмацию», изданную в 1905 году епископом Милашем. Один рукописный псалтырь из монастыря Крупа я превратил в кровь Иисусову, которую выпил без просфоры, причастившись таким образом для новых грехов; увы, пришлось распрощаться и со своей небольшой, но хорошо подобранной коллекцией картин и гравюр! У меня защемило сердце, когда я выставил на продажу две гравюры на меди в стиле барокко Христофора Жефаровича (святой Стефан Стилянович и святой Климент Охридский 1753 года). Среди белградских антикваров и библиофилов разнесся слух, недалекий, впрочем, от истины, что я сошел с ума, и они подобно стае стервятников набросились на остатки моей коллекции, так что вскоре я остался и без гравюр Захария Орфелина и Томаса Месмера, пяти оригинальных оттисков первого сербского литографа Анастаса Йовановича, а также без своего любимого альбома гравюр с видами Белграда восемнадцатого века. На что-то нужно было пить! Скрепя сердце расстался я с картинами и рисунками представителей группы Медиала. Преодолевая угрызения совести, продал и последнюю ценную вещь, которую имел и любил больше остальных, — маленькую картину, выполненную маслом на дереве, моего покойного друга Леонида Шейка! Был бы жив Леонид, надеюсь, он бы меня простил, ведь и сам частенько сидел без гроша в кармане.
Когда я распродал всё, пришло наконец время протрезветь. Как-то похмельным утром, обведя взглядом стены, где когда-то гордо располагалась одна из лучших в Белграде коллекций картин и откуда теперь на меня с укоризной смотрели пустые тёмные квадраты, я окончательно решил устроиться на работу.
Я выбрал самый захудалый из всех белградских книжных магазинов (что было довольно трудно, потому что они один другого хуже) и, признаюсь, не без удовольствия встретил ошеломлённый взгляд начальника торгового отдела «Балкан», не верившего своим ушам, что я, Педжа Лукач, некоронованный король белградских библиофилов, хочу поступить на работу в это Богом забытое место, куда годами не ступала нога покупателя и где уже давно не появлялось ни одной интересной книги. Дирекция как раз серьёзно подумывала о том, как бы превратить свой единственный книжный магазин в предприятие общественного питания, чтобы избавиться от груза вечных убытков. Моё предложение было принято скептически. Я согласился на минимальную зарплату, которая будет увеличиваться только в том случае, если каким-нибудь чудом дело пойдёт.
И вот я вступил под своды глубокой, полутемной пещеры, заваленной связками скучнейших книг и журналов многолетней давности. В пыльной витрине за мутными, немытыми стеклами гнили юбилейные издания. Они были буквально усыпаны дохлыми мухами и двухсантиметровым слоем пыли, а их выцветшие на солнце обложки печально ветшали под надписью: «СКИДКА НА НАШИ И3ДАНИЯ 30 %! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПЕРВОЕ МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ТРУДЯЩИХСЯ!» Был ноябрь. Лица трудящихся, которых я застал в магазине, были столь же печальны, как и его витрина; подобно тому, как супруги в долгом и нудном браке с течением времени становятся похожими друг на друга, так и они стали походить на место, прозябание в котором составляло их печальный удел. Один из них, какой-то лысый холерик, был переведён сюда в наказание из бухгалтерии, где что-то там напортачил. Уже в первую неделю после моего прихода он до срока ушёл на пенсию по инвалидности, плюнув на прощание в витрину. Его помощница, отечная беременная молодая женщина, убивала время вязанием чепчиков и штанишек для будущего ребенка. Вскоре ушла и она в отпуск по беременности, и больше я её уже не видел. Так я остался совсем один в этой темнице для книг, из которой намеревался сделать лучший книжный магазин в Югославии!
Для чего? Или, может, лучше спросить: для кого? Наверное, в то время я и сам это не вполне сознавал, но начал строить что-то вроде замка из книг — фантастический дворец, похожий на тот, который возвёл Гэтсби, чтобы однажды ночью заманить в него свою прекрасную, потерянную, любопытную Дэзи. Я хотел создать нечто подобное, создать при помощи книг, музыки и своей души место, куда валом повалят все, кто чего-нибудь стоит в Белграде, все красивые женщины, все интересные и умные мужчины; и принялся за дело с фанатизмом отчаяния, словно на карту была поставлена моя жизнь. Впрочем, так оно и было.
8
Как рождается книжный магазин?
Сначала необходимо вымыть стёкла витрины, смыть засохшую пыль и трупы насекомых, истлевшие рекламные наклейки, следы весенних и осенних дождей, отпечатки пальцев, обрывки прошлогодних объявлений, плакатов и извещений о смерти, пленку равнодушия… Но это не всё! Их следует мыть ежедневно, пока не соблаговолят вновь засверкать прежним блеском, уверившись, наконец, что попали хорошие руки.
Если стены посерели и потрескались, их следует обклеить афишами художественных выставок и кинофильмов (сорванных ночью с афишных тумб), так получается нечто похожее на пёструю внутренность волшебного ящика фокусника. И ещё: на свете существует множество картин, жаждущих попасть на свою стену, и множество стен, ждущих свою картину. Надо обходить мастерские художников и убеждать хозяев, что созданные ими полотна мертвы, пока их не оплодотворит взгляд зрителя. При этом следует отбирать картины, сюжеты которых достаточно неопределенны, чтобы выглядеть современно, и вместе тем достаточно понятны, чтобы не ставить зрителя в тупик.
Я внимательно просмотрел оказавшиеся в магазине книги и убедился, что в основном это барахло. Более или менее стоящие расставил по полкам, а остальные стал обменивать у другого издателя на чуть более приличные, чтобы и их потом обменять на лучшее, что можно найти на книжном рынке. Я решил ориентироваться на так называемую полудиссидентскую литературу, на те книги, что вызывали или вызывают больше всего споров и дискуссий. Затем обошел частных издателей, чудаков, безумцев, изобретателей вечного двигателя и тех отвергнутых энтузиастов, чьи книги никто не хотел ни печатать, ни продавать, и они решились сами на этот рискованный шаг, поставив на карту всё, что имели. И любители легкого и быстрого заработка, и снедаемые неутолимой жаждой славы — все они издавали книги, которые не взялся бы выпускать ни один серьёзный издатель. Это трактаты о снах и их толковании, о предсказании будущего, о игре в тарокко, брошюры о дзен-буддизме и медитации, о гипнозе, книги неудачников — какая ирония! — о том, как преуспеть в жизни, и учебники несостоявшихся писателей о том, как стать литератором; альбомы с позами во время любовных игр, книги об икебане, бридже, биоритмах, астрологии и хиромантии, словари тайного языка растений и животных, сборники поэзии хайку, исследования о движении хиппи, о йоге и разных диетах, пособия для начинающих фокусников, автобиографии и дневники, сборники афоризмов и системы чисел, обеспечивающие верный выигрыш в лотерее… Авторы были просто счастливы, что кто-то интересуется их презираемыми сочинениями. Когда всё распродам, я рассчитаюсь с ними по совести. На складе «Балкан», куда годами никто не спускался, я обнаружил старые издания русских послереволюционных писателей, снова входящих в моду; тут были собраны все: Пильняк, Олеша, Мандельштам, Замятин, Блок, Грин (из коробки с его книгами бросились врассыпную крысы), затем книги многих забытых писателей и философов, послевоенные журналы, теоретические труды Сталина, учебники товарищей Тимофеева и Жданова, столетние календари и сонники, а под всем этим гипсовые бюсты Горького, Бетховена, Вука Караджича и почему-то Евклида — головы с отбитыми носами и усами, с мудрым взглядом пустых глаз. Я перетряхнул все белградские книжные развалы, раскопал довоенные издания «Космоса», разрозненные серии «Кадок» и «Голубая птица»; нет, это не были какие-то особо ценные библиофильские издания, лишь старые, дешёвые, милые сердцу книги, которыми мы все когда-то зачитывались и которые потом забыли, — встреча с ними была своего рода возвращением в детство, отрочество, юность…
Мне наконец удалось убедить дирекцию «Балкан» взять на работу внештатно через студбюро по трудоустройству двух молодых людей. Не мог же я целыми днями сидеть в магазине! Я выбрал их сам. Они стояли перед Студенческим центром и продавали цветные плакаты. Чубчик, бородатый парень, стройный, как тростинка, и Весна, его почти бестелесная подруга, привнесли в «Балканы» что-то от богемного шарма лондонских книжных магазинов. Он носил в левом ухе серьгу, а она ходила босой. Её ступни безупречной формы были узки и изящны, ногти покрашены зеленым лаком. Они перетащили на улицу Королевы Анны свои плакаты с фотографиями рок-музыкантов, наклейки с вызывающими, провокационными надписями, значки-бляхи и кучу дурацких комиксов.
БОГ — ЖЕНЩИНА!
ЩАС ВЕРНУСЬ! ГОДО
МИККИ МАУС — ПEДЕРАСТ!
ВСЕ ЗВЕРИ РАВНЫ, HO НЕКОТОРЫЕ РАВНЕЕ ДРУГИХ. ОРУЭЛЛ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПРЕЩАТЬ!
Они принесли проигрыватель с пластинками, и магазин наполнился мелодиями «Времен года» Антонио Вивальди, блюзов в исполнении Кийта Джеррета, гермафродитскими голосами Лу Рида и Дэвида Боуие, гитарными пассажами Рави Шанкара, прекрасно отгоняющими комаров и гремучих змей… В первый же день они зажгли пахучие индусские палочки, и в воздухе повис мистический аромат Востока.
Так изо дня в день, подобно реставратору, снимал я плесень апатии, десятилетиями покрывавшую это злосчастное место, с одной-единственной мыслью: может быть, она когда-нибудь…
Сети на золотую рыбку были расставлены, оставалось только найти подходящую приманку.
9
Хорошо зная тайную писательскую склонность к самолюбованию, не столь бросающуюся в глаза, но еще более неуёмную, чем у артистов, я сел на телефон и стал зазывать сначала известных писателей. При этом воспользовался хитростью: просил прийти, чтобы надписывать свои книги. Даже самые преуспевающие литераторы комплексуют, что они никому не нужны. Каждый из них живет сам по себе в клетке из слов и образов и, хотя книжные магазины должны были бы стать их вторым домом, стесняются заходить туда, боятся, как бы продавцы не подумали, что они приходят полюбоваться на свои книги, боятся показаться смешными, боятся досужих пересудов. Чаще всего они лишь как бы мимоходом останавливаются у витрины и ищут среди разноцветных обложек своё детище. Как они страдают, если их книга не выставлена в витрине! Им кажется, что они всеми забыты, что никто их больше не читает и никто ими не интересуется. Те белградские книготорговцы, которые поняли, как мало нужно, чтобы привлечь литераторов (удобное кресло, стакан вина или чашка черного кофе), можно сказать, вошли в историю отечественной литературы. Кто не слышал о Геце Коне или Цвияновиче, в лавки которых регулярно наведывались наши сегодняшние классики? Я последовал их примеру, сделав при этом еще один решающий шаг, — не желая превращать свой магазин в некий клуб знаменитостей, я задался целью создать нейтральное пространство, где могла бы встречаться и общаться между собой самая разнообразная публика: именитые и никому неизвестные, старые и молодые, красивые и мудрые, бедные и не знающие, куда девать деньги, все поколения одновременно, все те, кто сами не могут найти путь друг к другу, разделенные предрассудками и своим окружением. Исходя из собственного опыта общения с недалекими и навязчивыми продавцами книжных магазинов, которые каждого входящего уже на пороге встречают убийственным вопросом: «Что вам угодно?», я запретил своим юным помощникам вообще обращать внимание на покупателей; пусть каждый делает что угодно, пусть перелистывает, ощупывает, обнюхивает приглянувшуюся книгу, пусть сидит сколько хочет, даже если в итоге ничего не купит; их дело — получать деньги или оказать помощь, если таковая потребуется. Если кому-то купленная книга не понравится после первого прочтения, он может ее спокойно вернуть — мы примем ее назад или заменим другой; если у кого-то вдруг не окажется с собой денег, пусть берёт, что желает, так, заплатит, когда сможет! Я купил ящик самого дешевого белого вина и таким образом одним махом превратил свой магазин в драгстор на Сен-Жермен-де-Пре в Париже, где читатели ночью бродят среди книг с бокалами в руках. Если у нас нет столько книг, сколько у французов, то по крайней мере вина нам Бог дал, сколько душе угодно! Так мы стали первым книжным магазином в стране, где помимо духовной пищи всегда найдётся и стаканчик вина, а когда моё вино было выпито, постоянные посетители стали приносить бутылки с собой; через некоторое время я приобрел старый, подержанный холодильник и поставил его в подсобку, сразу превратившуюся в своего рода литературно-питeйный клуб. Мне пришла в голову революционная по нашим понятиям идея: если даже самая паршивая кафешка в городе может работать после полуночи, то почему не может книжная лавка? Не существовало установления, которое бы это запрещало, и я воспользовался этим пробелом в законе, создав маленькое ночное царство для великого бессонного братства. Кто-то наверняка скажет, что я вовсе не открыл Америки — во всём просвещённом мире книжные магазины выглядят именно так, как этот, поднятый мною из руин; но тот, кто никогда не занимался книготорговым делом в наших городах, вряд ли поймёт, сколь непривычна для нас даже такая мелочь, как отказ от вопроса «Что вам угодно?», не говоря уже о босых ступнях моей помощницы Весны и серьге в ухе моего молодого компаньона Чубчика! Книги у нас продают в основном хмурые, неулыбчивые люди, обиженные на весь свет за то, что они всего лишь обыкновенные продавцы. Большинство из них хотело бы быть по крайней мере директором магазина, если не директором издательства, которому магазин принадлежит. Работу свою они выполняют со скукой, нисколько её не любя, получают мало и не имеют никаких стимулов что-либо улучшать. Вообще в стране все считают себя достойными лучшего места, чем то, которое им уготовано судьбой, к государству относится как к матери, которая что-то обещала, а потом не выполнила, работают с отвращением и затаённой злобой, давая на работе выход своей обиде на жизнь и судьбу. Не хочу, конечно, сказать, что я сам святой и энтузиаст, просто мне никогда не хотелось для себя ничего лучшего, чем вот такая книжная лавка, и то, чего я добивался, не было данью честолюбию — ведь я вил гнёздышко для райской птицы, и трудностей для меня не существовало. Приглашал телевизионщиков снимать свои передачи о книгах в моём магазине, поил вином корреспондентов радио, чтобы сделали о нас какой-нибудь репортаж, дарил журналистам книги ради одного лишь упоминания в газете о том, что нас посетила какая-то знаменитость, организовывал представления книг, угощал гостей вином, был со всеми любезен сверх всякой меры, пока наша лавка не приобрела славу интереснейшего местечка, где всегда происходит что-то захватывающее. Конечно, это было не так уж и трудно, хотя я частенько валился с ног от усталости; Белград в данном отношении еще совершенно девственный город, и всё, что вы здесь ни сделаете, будет впервые! Всё-таки я испытываю некоторую гордость оттого, что мне удалось из мрачной дыры создать прибежище для самых утончённых натур, уютную гавань, где они хотя 6ы на час-другой могут почувствовать себя не столь одинокими, найти родственные души.
Так проходили мои дни, как в каком-то горячечном сне, но вот вечера… Я не решался идти домой и, упав в два составленных кресла, лежал, погрузившись во тьму, которая была и вокруг меня, и во мне самом. Курил, пил и смотрел, как мимо освещённой витрины проходят нетвердым шагом возвращающиеся с ночной попойки. Они пели и целовались прямо перед моим носом, абсолютно не замечая меня; я ощущал нечто подобное тому, что, должно быть, испытывают мертвецы под бетонной плитой, на которой милуется какая-нибудь парочка. Я ждал, что придет Лена. Она, конечно же, не приходила. Видимо, три года со мной были для неё лишь мимолетным эпизодом, и сейчас она, наверное, жила в каком-то совершенно ином мире, среди совсем иных людей. А может, она сознательно обходила стороной эту часть города, эту улицу, этот магазин? Не думаю, чтобы из-за меня она прилагала даже столь незначительные усилия! Скорее, тут действует старый закон, согласно которому даже в самом небольшом городе мы постоянно встречаем лишь людей, нам безразличных, но не тех, кто нам дорог! Не знаю, что чувствует собака, оставшаяся без хозяина, но если она чувствует хоть что-нибудь, то я чувствовал то же самое. Куда бы я ни шел, за мной тянулся невидимый поводок, другой конец которого держала Лена. Днём, уходя с головой в работу, помогавшую выжить, мне ещё как-то удавалось заглушить тоску, но ночью!.. Ночью я начинал понимать, что никогда больше не полюблю, а одному Богу известно, как скучны для меня флирты без любви! Я лежал хмельной, разбитый, брошенный, сражённый, потерянный, жалкий (есть ли ещё какое-нибудь определение для этого состояния?), в аквариуме улицы плавали тени, только её все не было, той волшебной золотой рыбки, которая одна лишь могла исполнить все три мои заветные желания: быть со мной, быть со мной и еще хоть немного побыть со мной!
Я послал ей «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, чтобы разбудить в ней нежность, и «1984» Оруэлла, чтобы напугать временем, которое грядет…
10
Товарищ Елизавета вошла как раз в тот момент, когда в секретарском кроссворде хрестоматия скрестилась с ономатопеей, египетское божество (Ра) нацепило на себя часть конской сбруи (чересседельник) и при этом получило воспаление семенного канала (эпидидимит) после купания в реке (По), которая, как ни странно, текла по вертикали! Товарищ Елизавета вошла реши тельным, энергичным шагом, с гордо поднятой головой, похожая на командующего невидимыми войсками, которые как раз готовятся к торжественному смотру. На её плечи в строгом сером костюме с золотым значком в петлице словно бы давил неимоверный груз ответственности; всё то время, пока она там мужественно сражалась за интересы нашего издательства, мы, трое мужиков, это сразу видно, сидели и плевали в потолок. Плиссированная белая блузка облегала крупные вислые груди кормящей матери. Короткие, полные пальцы, похожие на сырные палочки, с аккуратно подстриженными ненакрашенными ногтями, украшало строгое обручальное кольцо, наподобие тех, какими метят голубей. Ободки слишком тесных туфель глубоко врезались в колоннообразные ноги; густые, коротко остриженные волосы и большая родника на правой щеке, из которой торчит несколько волосков, довершали образ классной дамы, которой по ошибке достался класс малолетних преступников. Я попытался представить её девушкой: её молодость — без эротики. Её жизнь — без пороков. Её туфли — без каблуков. Она гораздо моложе меня, но всё же: стал ли бы я спать с ней? Наверное, с тем же удовольствием я бы трахал какой-нибудь огромный пресный вареник с дряблой консервированной сливой внутри. После того как она в гробовом молчании извлекла из своей бездонной сумки и разложила на столе какие-то бумаги, выдержала длительную многозначительную паузу (предназначенную для того, чтобы мы сами припомнили все свои грехи, начиная от самых давних, еще детских, и до сегодняшних, идеологических), товарищ Елизавета весьма похвально отозвалась о проделанной мной работе, подчеркнув, что магазин уже давно перестал быть убыточным, приносит немалый доход и даже, можно смело сказать, выполняет положительную культурно-просветительную миссию в нашем городе… Она говорила негромко, не поднимая глаз от разложенных шапирографированных материалов, то и дело подчеркивая в них какую-нибудь строчку. Во время своей речи она делала долгие паузы между отдельными словами, точно ожидая, что каждое из них, торжественно произнесённое ненакрашенными губами, в ту же секунду превратится в гранитную статую с решительно поднятым кулаком. Её гнусавый, монотонный голос оказывал усыпляющее воздействие на будущие жертвы, лишая всякой способности к сопротивлению, предваряя смертельный укус богомола. Всё это долгое и утомительное предисловие было лишь обязательным прологом к торжественному ритуалу предания анафеме. Быть жертвой у нас гораздо тяжелее, чем где-либо в мире! Нигде больше от жертвы не требуют, чтобы она сама же аплодировала собственной казни.
— Знаешь что, — сказал я секретарю, — я бы всё-таки чего-нибудь выпил!
11
Когда я однажды на трезвую голову подсчитал, сколько обычно выпиваю за сутки, то пришел в ужас. И все же я не причисляю себя к пьяницам. Кстати, какая разница между пьяницей и алкоголиком? Не знаю. Однако пьяница по сравнению с алкоголиком мне как-то понятнее, симпатичнее, что ли… Я, правда, никогда всерьёз не пробовал, но думаю, вполне бы мог и не пить. Вот не курить, пожалуй, не мог бы! Тут, возможно, следовало бы вспомнить, как я вообще начал пить, но к чему? Все как-нибудь начинают. Чаще всего чтобы казаться взрослее. Входя в литературу, я входил в кафаны, полные пьяных литераторов. Как и остальные начинающие, завоевывал их благосклонность тем, что время от времени за них расплачивался. Почему они столько пили, словно задавшись целью поскорее свести счеты с жизнью? Когда я сегодня думаю о тех далёких временах, мне кажется, что по причине тонкого душевного склада они просто не могли вынести окружавшую их грубость и ложь. Надо полагать, им грозило классическое шизофреническое раздвоение личности, и, чувствуя это, они пытались с помощью алкоголя как-то склеить две половины своей души. Государство ждало от них здорового, конструктивного искусства, провозгласив их «инженерами человеческих душ», в то время как голая правда жизни врывалась в их поэзию, разбивая официальный оптимизм. Пока они молчали, публично выказывая свою благонадежность, они могли пользоваться определёнными привилегиями прогрессивных художников, но стоило им хоть на мгновение уступить внутреннему порыву, заставлявшему писать еретические сочинения, как их сразу же наказывали устранением из общественной жизни. И вот, зажатые между догмой, с одной стороны, и своим инстинктом художника с другой, между страхом отлучения и жаждой свободы, наиболее ранимые среди них обнаружили случайно забытую щель, единственную лазейку в чётко продуманной системе — вино!. Ведь ни один даже самый жестокий режим не рассматривает пьянство как диверсию, считая его скорее болезнью, простительным пороком слабых. Благодаря этому многие писатели получили своего рода индульгенцию. Изображал ли Гамлет сумасшествие или действительно был безумцем? Во всяком случае, веди он себя разумно, как остальные при дворе, ему бы ни за что не дожить до последнего действия. («Если это и безумие, то в своем роде последовательное…» В нашем народе пьяница спокон веку имел статус божьего человека. Недаром говорят: «Пьяного да малого Бог бережет!» Это все равно как голубь на площади: нельзя его тронуть, чтобы не навлечь на себя всеобщего осуждения. Отношение к пьяным всегда было самым снисходительным. Они, подобно придворным дурачкам, спокойно могли резать правду-матку в глаза сильным мира сего, за что любого трезвого в один миг отправили бы на каторгу. Отказавшись добровольно от участия во всеобщей гонке, пьяницы оказались так низко на общественной лестнице (вернее сказать, вообще вне её!), что для властей предержащих стали недочеловеками, на которых смотрят с благосклонным сочувствием. Мне приходилось несколько раз наблюдать, как бывшие именитые полицейские чины, суровые люди с неспокойной совестью, чуть ли не с мазохистским удовольствием позволяли в кафане пьяным поэтам оскорблять себя при всем честном народе. Они терпеливо сносили поношения, сами не давали официантам вышвырнуть нахалов вон, даже заказывали для своих хулителей вина, чтобы как-то их умилостивить. Обидеть пьяного в наших краях считается большим грехом, а если несчастный! к тому же ещё и поэт, редко кто решится тронуть его. Кто теперь помнит боевые победы генерала Ранко Алимпича, начальника Военной академии, члена Государственного совета, командующего добровольческими отрядами от Рашки до устья Дрины, кто помнит прославленного командующего Дринской армией, участника войн 1876–1878 годов, иначе как «душегуба», приказавшего своим молодцам избить Джуру Якшича? В истории сербского народа он остался как человек, не стерпевший оскорбления от пьяного поэта! У внуков начальника белградской полиции Божи Максимовича тоже нет оснований особенно гордиться своим дедом, выславшим в 1925 году из столицы за бродяжничество горемычного поэта Тина Уевича…
Возможно, именно в этом следует искать причины безудержного пьянства нескольких послевоенных писательских поколений, чье благословенное похмелье до сих пор ощущается в нашей литературе, которую я, кстати, застал под приличным градусом, войдя в свое время в её призрачный мир. Надо, однако, сказать, что Белград не стоит своих пьяниц! Во всём просвещённом мире пристрастие к рюмке является сугубо личным делом, неприкосновенным, как частная собственность. Нам же, живущим друг у друга на виду (за неимением больших городов, где вы можете спокойно напиваться, затерявшись в каком-нибудь чужом районе), никогда не удастся надраться так, чтобы уже назавтра об этом не болтали на каждом углу. И человек может быть настоящим мастером в своём ремесле, но его всегда будет преследовать злополучная репутация пьяницы: «Он отлично работает, но пьёт!» Эта фраза, которую мы так часто слышим, могла бы звучать и по-другому: «Он, правда, пьёт, но отлично работает!» Почему я пью? Прежде всего это для меня не привычка, а ежедневный праздник! Ищу ли я в вине забвения? Ерунда! Наоборот, оно помогает мне вспомнить вещи, о которых трезвым я забываю. Они возникают из винных паров, иногда я могу их даже пощупать, столь осязаемую форму они принимают! Пью ли я потому, что страдаю? Нет. Вино меня прежде всего радует. Я люблю его терпкий вкус, запотелость бутылки со слезой на холодном стекле; обожаю первый долгий глоток, скользящий по пищеводу, с удовольствием предвкушаю легкое головокружение, которое наступит через несколько секунд; люблю священный ритуал поцелуя двух наполненных бокалов, их хрустально-чистый звук (чин-чин!), предаюсь блаженному состоянию, когда всё становится возможным, все женщины — красавицы и все люди добры с умны… И наконец, чем кроме вина я могу порадовать себя в любое время дня и ночи? Любовью? Путешествиями? Успехом? Почему я пью?
Да потому.
Говорят, пить вредно? Да, вредно. Так же, как и жить. Один философ написал, что неприятности у человека начинаются, как только он выходит из своей комнаты. Я бы это сузил до постели. Хотя и в постели мы не гарантированы от неприятностей. Особенно если в ней кроме нас есть ещё кто-то! С другой стороны, я не принадлежу к людям, экономно потягивающим свою жизнь маленькими глоточками, чтобы надольше хватило. Я не транжирю её сознательно, но и не экономлю. И, кажется, растрачиваю быстрее других. Это потому, что про себя я всегда считал, что имею в распоряжении по крайней мере девять жизней. Одну я отдал литературе. Вторую — старым книгам. Третью, скажем, проспал. Четвертую посвятил картинам и художникам. Пятую жизнь у меня растащили по кусочкам. Шестую взяла Лена. Седьмую я утопил в вине. Восьмую теперь разбазариваю в своей лавке. Остаётся, стало быть, ещё одна. Как-то я проживу её без Лены?
12
…однако товарищи положа руку на сердце следует признать что в нашей работе допущены и определенные ошибки и давно пора откровенно и по-товарищески поговорить о них возможно вам товарищи мои замечания и наблюдения покажутся придирками однако в настоящий момент характеризующийся исключительно сложной политической обстановкой товарищи когда внутренние недруги смыкаясь с реакционными международными кругами используют товарищи каждую возможность чтобы вставлять палки в колеса нашего развития…
(Я напрягал все силы, чтобы не заснуть, пытаясь представить толпу недругов с оскаленными, как на картинах Домье, физиономиями, совместными усилиями заталкивающих длинную жердь между спиц в колеса громыхающей по камням телеги, но мне все никак не удавалось найти подходящее композиционное решение, тщетно призывал я на помощь желчного Георга Гроса, а после неудачи с его циничными уродцами даже самого Хиеронимуса Босха — фантасмагорические фигуры беспомощно кувыркались в пыли за повозкой, неудержимо летящей к светлому горизонту.)
…и любыми способами пытаются проникнуть в наши ряды в ходе организованной психологической войны такое место как наш книжный магазин на улице Королевы Анны думаю это всем ясно товарищи представляет собой идеальную почву для их деятельности возьмём к примеру подбор книг в витрине я вижу товарищ Лукач морщится но я бы порекомендовала ему не возражать а самому осознать свои ошибки товарищ Лукач конечно скажет что выставляет в витрине книги пользующиеся наибольшим спросом допустим с этим я согласна но давайте взглянем на проблему и с другой стороны зададимся вопросом товарищи должны ли мы идти на поводу у массового потребительского вкуса слепо следовать стихийным законам рынка или же нашей задачей является постоянная целенаправленная работа с широкими читательскими массами в направлении дальнейшего углубления идейно-политического воспитания уделяя особое внимание товарищи тем изданиям товарищи без которых хотя они и не пользуются чисто конъюнктурным спросом невозможно представить товарищи и т. д. и т. п. далее возникает вопрос о распитии спиртных напитков в книжном магазине товарищ Лукач утверждает что во Франции и Америке есть книжные магазины в которых пьют и даже едят мы не ставим это под сомнение товарищи мы верим товарищу Лукачу на слово но позвольте задать вопрос стоит ли подражать западным нравам в наших особых культурно-исторических условиях и прилично ли вообще некоторым товарищам выпивать с самого утра непонятно также почему товарищ Лукач разрешает своей помощнице разгуливать по магазину босиком к тому же товарищи с ногтями выкрашенными в зелёный цвет культурно ли это что скажут люди что касается того молодого человека с бородой и серьгой в ухе никто даже не знает как его настоящее имя так вот некоторые товарищи мне жаловались что он встречал их задрав ноги на стол и даже не спросил что их интересует я и сама имела возможность убедиться что покупатели там сидят на полу и на книгах а некоторые товарищи даже лежат как у себя дома так что через них приходится перепрыгивать что согласитесь неприлично если надо товарищи мы выделим дополнительные средства и купим необходимые стулья и кушетки чтобы можно было сидеть культурно но терпеть подобное безобразие больше не будем товарищи возвращаясь к вопросу о молодом человеке с серьгой и девушке с зелеными ногтями мы приобретем для них пристойную спецодежду с эмблемами нашего издательства а что касается музыки гремящей там с утра до вечера то никто товарищи не возражает против музыки но она не должна быть слишком громкой и кроме того надо внимательнее следить за тем что это за музыка я не удивлюсь товарищи если эти волосатые хиппи которые заполнили магазин превратив его в балаган употребляют там наркотики а то и занимаются кое-чем похуже а что касается разных дурацких значков товарищи я вот тут переписала с них некоторые надписи я их нам зачитаю а уж вы сами судите о пользе подобных возмутительных лозунгов вот например ЭДИП, ПОЗВОНИ МАМЕ! ЭРЦГЕРЦОГ ФЕРДИНАНД НАЙДЕН ЖИВЫМ И ЗДОРОВЫМ — ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА НАЧАЛАСЬ ПО ОШИБКЕ! ВОДИТЕЛЬ, OСТОРОЖНО: ЗДЕСЬ ДЕТИ, А НЕ УЧИTЕЛЯ! ПЛАНЕТА В КЛИМАКСЕ! АНАРХИСТЫ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! ЛЕГАЛИЗОВАТЬ НЕКРОФИЛИЮ! ЖЕНЩИНА БЕЗ МУЖЧИНЫ — ЧТО РЫБА БEЗ МОТОЦИКЛА! ХВАТИТ С НАС ПОРЯДКА — ДАЙТЕ НАМ ГАРМОНИЮ! и так далее и тому подобное не бучу перечислять остальные возмутительные надписи откуда взялись эти значки в нашем книжном магазине кто их там развесил кому их продают и где учитывается доход от них и еще товарищи мы в эти дни тоже включаемся в широкую кампанию по борьбе с курением в общественных местах и должны самым серьезным образом рассмотреть вопрос о том чтобы и в нашем книжном магазине…
13
Популярность нашей лавки объясняется помимо прочего тем печальным фактом, что во всей Европе, наверное, нет другой страны, столь бедной книжными магазинами, как наша. Я, конечно не стану утверждать что мне книжный магазин дороже кафаны, но, приезжая в чужой город, я прежде всего невольно ищу глазами витрину с книгами. Что до кабаков, то тут не нужны особые усилия — в незнакомом городе можно промочить горло уже за буфетной стойкой на любом вокзале. По витринам книжных магазинов я могу легко составить представление о духовном облике горожан. Вижу, к примеру, красивый, процветающий городок: многоэтажные здания, асфальтированные улицы, ухоженный парк, современный торговый центр — и ни единого книжного магазина! Витрины забиты всевозможной бытовой техникой, модной одеждой, мебелью, телевизорами, проигрывателями, телефонами, миксерами — настоящее изобилие, но несмотря на это вам становится как-то не по себе, появляется чувство, будто вы оказались среди современных дикарей, которым вполне достаточно быть сытыми, одетыми и иметь крышу над головой. В большинстве наших населенных пунктов нет ни одного книжного магазина! А если и есть что-нибудь похожее, то продаются там учебники, сборники инструкций, какие-то бланки, бумажные стаканчики, обои, игрушки и канцелярские товары. В центре витрины обычно гордо стоит пишущая машинка, вокруг которой почему-то выложены звездой носовые платки, гигиеническая вата и конфетти… Кто-то, конечно, подумает, что наш народ ни в грош не ставит литературу, однако это далеко не так. Мы просто ещё не вполне привыкли к печатному слову, потому что веками жили почти без единой книги. И при этом, кажется, дорожили тем немногим, что имели, куда больше, чем другие, более счастливые народы своими богатствами. Пожелтевшие песенники и Церковные календари передавали по наследству и берегли как реликвии. Редкие рукописные, монастырские книги, жития святых и царей, первые переводы западных романов путешествовали при переселениях в самые отдалённые уголки Европы, закапывались в землю во время нашествий завоевателей; многим в наших краях книга стоила головы. И вот, когда мы наконец-то вдоволь наелись после векового голода, первое, о чем позабыли, была книга, та самая книга, что нам непрестанно напоминала, кто мы и откуда, помогая сохранить свое духовное естество. Но зато у нас шире, чем где-либо, процветает то, что можно назвать устной литературой, она пустила в нас глубокие корни, превратив нас в народ говорунов-сказителей. Вечером за любым столом в любой нашей кафане наберется материала для трехтомного романа, а каждый второй знакомый, которого вы встретите на улице, исполнит настоящую монодраму! В том, что книга и сегодня кое-как, с грехом пополам, но все же доходит даже до самых отдаленных уголков, исключительная заслуга принадлежит бродячим книготорговцам. Я и сам в свое время несколько лет был одним из бесчисленных миссионеров книги, членом безымянного легиона коммивояжеров, путешествующих по городам и весям этой прекрасной полуграмотной страны. Я обходил провинциальные книжные лавки, навещал библиофилов в самой что ни на есть глубинке. Какие это были времена! Я по многу дней гостил у одиноких интеллектуалов, жаждущих столичных новостей, питался продуктами без пестицидов, пил лучшие вина с местных виноградников, без труда очаровывал провинциальных учительниц литературы… Меня снова потянуло в дорогу! Я бы выехал ночью. Дороги в это время пусты, а радио развлекает по ночам одинокого путешественника. Ещё лучше бывает в горах, когда утихнет болтовня столичных диск-жокеев, а из мерцающего зеленоватой шкалой настройки приемника польётся космический шум пустого эфира, тогда остаётся только движение и темнота, необозримое море времени, где мелькают разные лица, подобно ночным бабочкам и мошкам, ослеплённым пучками света автомобильных фар; виденные места, пережитые события, рой воспоминаний… Я люблю это ощущение одиночества в машине, доверху набитой книгами, ждущими своего часа, чтобы одухотворить серые жизни безвестных покупателей. Я колесил по сонной земле, как Чичиков в «Мёртвых душах». Правда, Чичиков скупал мертвые души. Я их продавал. В красивых переплётах. По отдельности и сериями. С получением сразу или после уплаты первого взноса при покупке в рассрочку. Провинция! Терра инкогнита. Ноздри мои наполнились ароматом прелых листьев и русских классиков. Мне вспомнился Гоголь:
«В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки…» И дальше: «…Въезд его не произвёл в городе совершенно никакого шума и не был сопровождён ничем особенным; только два русских мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нём. „Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?“ — „Доедет“, — ответил другой. „А в Казань-то, я думаю, не доедет?“ — „В Казань не доедет“, — отвечал другой. Этим разговор и кончился».
Меня всегда интересовали коммивояжеры, разъездные торговые агенты: всегда в пути, всегда на колесах… Что заставляет их странствовать по дорогам, обивать пороги, питаться в дрянных забегаловках, ночевать в третьеразрядных гостиницах и мотелях, в холоде и неудобстве, становясь постепенно чужими в собственных семьях? Я заметил, что некоторые из них — бродяги по натуре, которым никак не удастся привыкнуть к тихой домашней жизни, и они рады-радёхоньки, что подвернулась такая работа, оправдывающая многолетние скитания. Другие принадлежат к разряду неудачников; это пенсионеры, раньше времени отправленные «на заслуженный отдых», разжалованные офицеры, ветераны войны, опустившиеся интеллигенты, учителя или преподаватели, не сумевшие найти работу по специальности… Третью группу составляют прирождённые авантюристы, мошенники, плуты и проходимцы. Эти, конечно, наиболее интересны.
Один из них годами отирается у семейных склепов на кладбищах, подходит к безутешным вдовам, держа наготове подписной бланк. Выразив соболезнование, он тут же переходит к делу — ему, конечно, ужасно неловко, но что поделаешь, покойный как раз неделю назад заказал у него собрание сочинений Перл Бак в кожаном переплёте, и он счел своим священным долгом прийти на кладбище, чтобы исполнить последнюю волю усопшего. Если вдова не желает брать книги, он самолично опустит их в могилу и сам внесет плату, такой уж он человек! Ну кто, скажите, не подпишет бланк-заказ такому чувствительному? На его бланки упало куда больше горячих слез, чем на самые жалостливые любовные романы. Само собой, за день такой книжный стервятник раз десять слетает на разные похороны…
Вообще в этом деле главное — заполучить подпись покупателя на подписном купоне, обязывающую его аккуратно выплачивать кредит. Когда подпись поставлена, работа коммивояжера закончена: на основании подписанного документа он стребует с издателя свои комиссионные. Я знавал одного книготорговца, который специализировался на продаже собраний сочинений Кафки и Джойса неграмотным сезонным рабочим и цыганам-кочевникам, которых потом ни один суд во всём государстве не мог найти, чтобы взыскать деньги. Он отыскивал их на отдалённых стройках, поил пивом в столовках, только чтобы поставили на бланке крест или приложили палец, а затем сам вписывал их несуществующие адреса. Прохиндей вручал им комплекты книг и тут же выкупал назад за сотую часть цены, чтобы продолжать торговлю на других стройках у черта и бога на куличках…
(Кстати, эти ловкие, нахрапистые люди, на которых интеллектуалы смотрит презрительно и свысока, зарабатывают несравненно больше самых читаемых писателей, книги которых продают!)
Наиболее хитрые и образованные из них, как вороны, почувствовавшие добычу, устремляются в дома только что умерших профессоров университетов и библиофилов и скупают за бесценок их богатые, собиравшиеся всю жизнь библиотеки, с которыми наследники не знают что делать. Наследники — обычно сын или внук с молодой женой и ребенком, у которого якобы аллергия на книжную пыль; они чаще всего и не подозревают, какими библиографическими редкостями владеют, и с восторгом соглашаются на любую цену, какую им ни предложат. Потом книги перекочевывают к букинистам и в библиотеки знатоков, которые отваливают баснословные суммы пронырливым перекупщикам, не стесняющимся ежедневно интересоваться здоровьем старых, больных владельцев библиотек, будущих кандидатов на кладбище.
Впрочем, я не упомянул еще об одном типе книготорговцев. Это неудавшиеся писатели (обычно графоманы), вынужденные сами и издавать, и печатать, и продавать свои сочинения. Их нередко можно увидеть в кафанах и парках: они переходят от столика к столику, от скамейки к скамейке, предлагают свои книги, вызывая жалость и угрызения совести у преуспевающих коллег. Их легко узнать по печальному виду и большим кожаным сумкам, в которых они таскают собственные издания. Один из них, теперь уже старик, бывший до войны видным политическим деятелем, пошёл, насколько я могу судить, дальше всех. Издал за свой счет мемуары, которые продавал исключительно у себя дома! Он любезно встречал потенциального покупателя, угощал его кофе или чаем, заводил беседу. Мемуары, однако, продавал только в том случае, если посетитель внушал ему симпатию и доверие. Должен признаться, что меня столь трогательная коммерция приводит в восхищение, если б это было возможно, я бы с радостью завёл подобные порядки и в своем магазине. Ведь сердце кровью обливается, когда какой-нибудь явный болван покупает дорогую для меня книгу, взывающую из его лап о помощи!
Поэтому, что бы ни думали о торговцах книгами, какими бы мотивами они ни руководствовались, у меня всегда становится тепло на душе при виде их на площади какого-нибудь захолустного провинциального городка. Они могут остановить свой фургончик где угодно; разложат книги на капоте и крыше машины, и вот вам уже книжная лавка в зародыше, оазис печатного слова посреди всеобщей тупости и животного безмыслия.
Однако книжный магазин — это не только место, где можно купить книгу. Это нечто гораздо большее, выражаясь возвышенным языком, — маленький храм словесности среди векового мрака, что-то вроде святилища для тех, кого ещё не совсем поглотила страсть к приобретательству, обжорству и дешевым увеселениям. Поэтому книготорговец — не просто продавец; помимо того, что он нередко является другом писателей, он еще и посредник, дающий рекомендации растерявшемуся читателю или исподволь подводящий его к выбору именно той книги, которую он сам вряд ли разыскал бы в море печатной продукции. При встрече с будущим читателем настоящий книготорговец прежде всего стремится помочь ему преодолеть робость, которая охватывает так называемого простого человека, теряющегося среди бесчисленных имён и названий и пуще всего на свете боящегося показаться невеждой. Для этого, по-моему, лучше всего не обращать на покупателя никакого внимания, дать ему возможность расслабиться, чтобы в нём проснулась дремлющая любознательность, надо выставить самые интересные книги на видное место, разложить их на столах и на полу, открыть свободный доступ к полкам, убрав традиционные прилавки. Благодаря всему этому покупатель начинает всё чаще заглядывать в магазин даже тогда, когда не собирается ничего покупать, точно так же, как заходит на чашку кофе к приятелю-портному, даже когда не шьет у него костюм.
14
…а теперь что касается различных высказываний и интервью должна сказать и прошу понять меня правильно никто не ставит под сомнение компетентность товарища Лукача в вопросах которыми он занимается и мы рады что он является членом нашего коллектива но одно дело товарищи компетентность и совсем другое публичные высказывания я имею в виду различные заявления и интервью для газет и других средств массовой информации ведь в этом случае он товарищи не может выступать товарищи как так сказать частное лицо а лишь в рамках своих должностных обязанностей и штатного расписания здесь товарищи необходимо провести чёткую грань и со всей серьезностью подчеркнуть что совершенно недопустимы любые высказывания а тем более в негативном смысле без предварительного согласия дирекции исходя из необходимости выработки общего мнения всего коллектива тут есть немалая доля вины некоторых товарищей из средств массовой информации которым конечно же легче всего поболтать за бутылкой в магазине высказываясь при этом товарищи в пренебрежительном смысле о нашей общественной системе они якобы интересуются какие книги на сегодняшний день пользуются наибольшим спросом но ведь можно кажется приложить некоторые усилия и найти соответствующих ответственных товарищей которые представят полные и достоверные данные не только о состоянии дел на текущий момент в смысле маркетинга но и о перспективных издательских планах предстоящих задачах и если хотите определенных трудностях которые мы товарищи не скрываем а также познакомят их с другими проблемами с которыми мы сталкиваемся в своей работе но нет товарищи падкие до дешёвых сенсаций они вместо этого предпочитают делать из работника прилавка эстрадную звезду притом товарищи выступая с мелкобуржуазных технократических и я не боюсь этого слова анархо-либеральных позиций и мы товарищи не можем больше смотреть на это сквозь пальцы мы должны найти новые формы работы выработать новые подходы тем более товарищи что нельзя забывать сколь бы бойко ни торговал магазин на улице Королевы Анны доход от него составляет лишь три процента всех доходов нашей трудовой организации в целом другими словами весьма незначителен и мы спокойно можем товарищи если так будет продолжаться и далее просто-напросто прикрыть эту лавочку или превратить в складское помещение что никак не отразится на широком спектре нашей деятельности в целом мы вполне сможем обойтись и без неё в нашем дальнейшем поступательном развитии опираясь на передовой опыт и многолетнее расширяющееся и весьма плодотворное сотрудничество с книготорговыми службами других издательств думаю двух мнений тут быть не может поэтому предлагаю вам товарищи рассмотреть будущую концепцию профиль формы деятельности а также целесообразность сохранения книжного магазина «Балканы» в его теперешнем виде кроме того следует обсудить и морально-политический облик работающих в нем товарищей с тем чтобы сделать соответствующие выводы у меня вcё не выпить ли нам кофе?
15
После месяца работы в магазине я выставил в витрине черную школьную доску, на которой каждую неделю мелом писал названия десяти самых ходких книг. Хотите верьте, хотите нет, но это был в то время единственный список бестселлеров во всей Югославии! Конечно, в цивилизованных странах такой способ определения наиболее читаемых книг уже давно стал привычным, в Европе, наверное, нет ни одной газеты или журнала, которые не печатали бы регулярно подобные перечни. У нас же к публикации таких списков всегда относились с подозрением, как к сомнительному западному обычаю. Причина, видимо, в том, что достоинства книги у нас всегда измерялись не популярностью её у читателей, а репутацией, которой пользуется автор в обществе. Официальное общественное мнение не любит, когда народ охотно читает произведения какого-нибудь сомнительного типа, пусть даже большого художника, но личности неблагонадежной, упорно игнорируя широко разрекламированную книгу безупречного гражданина, которую усиленно рекомендуют и политики, и критики, осыпая её всевозможными премиями. Одно время и в наших газетах публиковались перечни самых читаемых книг, но вскоре стало ясно, что они совершенно обесценивают суждения критиков, поскольку произведения, которые они расхваливали, как правило, не вызывали ни малейшего интереса у читателей. Сердиться на подобный хит-парад (при условии достоверности данных) — это все равно, что злиться на неблагоприятную сводку погоды. Но в обществе, официально признающем лишь безоблачное небо и замалчивающем непогоду, всё возможно. Один за другим хит-парады постепенно заглохли, вернее сказать, были задавлены. Всё больше неблагонадёжных лиц писало хорошие романы, в то время как непроданные книги официальных лауреатов скапливались на складах, выстраиваясь в целые подземные улицы бледных и скучных сочинений. Между тем вновь возродился совершенно особый полузабытый вид рекламы, что передается из уст в уста, воскресший по необходимости в век электроники, подобно тому, как возникает из небытия утюг с раскаленным углем, когда отключают электричество. Лучшей рекомендацией для книги всё ещё остается совет того, кто её уже прочитал и сказал другим, что вещь стоящая. Крупнейшие пропагандистские машины бессильны перед этой необычайно живучей и всеохватной народной рекламой. Появление в витрине моей доски с выведенными мелом названиями бестселлеров произвело в литературном Белграде действие разорвавшейся бомбы! Читатели писатели и торговцы книгами уже давно забыли о самой возможности существования чего-либо подобного. Конечно, я не хочу сказать, что сознательно стремился к этому, когда выписывал первые десять названий; всего-навсего хотел привлечь как можно больше народу в заброшенный магазин, однако десять правдивых оценок в море лжи совершили настоящее чудо! Ведь тут рейтинг ни в коей мере не зависел от репутации и официального признания автора, мне было совершенно безразлично, кто он — впавший в немилость литератор или могущественный функционер, лауреат высших государственных премий. Я составлял свой список на основе простейшего всех возможных методов — в зависимости от количества проданных экземпляров книги. Так витрина небольшого магазинчика неожиданно превратилась в неподкупный барометр литературных вкусов. Всего лишь фиксируя реальное положение вещей, я и не подозревал, что восстановил против себя целый полк продажных критиков и редакторов, у которых появился на меня здоровенный зуб и которые стали с вожделением ждать первой зацепки, чтобы расправиться и со мной, и с ненавистной черной доской, и с магазином. С другой стороны, я приобрел расположение беззащитных, третируемых авторов; обыкновенная правдивая информация, не зависящая от чьих бы то ни было влияний и власти, оказалась драгоценной поддержкой в их тяжёлом, затворническом труде. Они стали всё чаще заглядывать в магазин и приводить друзей. Всё это создавало вокруг моей скромной лавки атмосферу скрытого напряжения, в которой рождалось нечто, что я ещё и сам не мог до конца понять.
Но этого было далеко не достаточно для того, чтобы паршивая дыра вдруг наполнилась жизнью и привлекла интересных людей. Не хвастаясь, но и без ложной скромности смею утверждать, что тут необходим особый талант; не талант писания, который у меня давно выдохся, как вино в незакрытой бутылке, и не талант обольщения, пропадающий в тот же самый миг, когда признанный сердцеед наконец страстно влюбляется и сдаётся на милость чьих-то ласковых глаз… В данном случае речь идет об особом таланте общения. Я долго не замечал его в себе, но вот неожиданно он стал помогать мне в моей новой paбoтe. Вообще я твердо убеждён, что нет на свете человека, у которого бы не было никакого таланта. Иногда это блестящий дар художника, будоражащий и освещающий целую эпоху, но чаще всего природа наделяет людей талантами помельче, даваемыми как бы в утешение, чтобы просто зарабатывать на жизнь: это таланты готовить, петь, играть, чинить моторы или делать деньги… Интересно, что мне мой талант до той поры не только не приносил никакой прибыли, но даже мешал. Сколько раз в компании я мечтал хоть немного побыть один, пообщаться в тишине с самим собой. Я всегда завидовал людям, страдающим бессонницей (мне не хватает дня для чтения, а заснуть я могу даже стоя), и тем, кто жалуется на одиночество. Они просто не сознают, как прекрасно оставаться одному, наедине с собой, своими мыслями, своей душой. Надо сказать, мне редко удавалось бегство в благодатное одиночество. Всегда кто-то вместо меня распоряжался моим временем, нахально предъявляя какие-то права на мою жизнь и поступки. Видимо, так получается потому, что я в основном стараюсь быть любезным, хотя мне от этого, как говорят в народе, такая пожива, что дай Бог быть живу! Я известен тем, что умею терпеливо слушать; те, кто обрушивает на меня свои монологи, конечно, не подозревают, что я в такие минуты полностью отключаюсь и думаю о чём-нибудь своём, рассеянно кивая головой. Возможно, мой талант состоит в умении, длительное время общаясь с человеком, никогда не переступать границы близости, а может быть, моего общества ищут и потому, что я не требую и не жду от дружбы слишком многого, того, что она не может дать. Самое большее, чего я требую от людей, — это вежливости. Всё остальное меня мало трогает. У нас ведь так мало хорошо воспитанных людей, что я готов расцеловать каждого, кто умеет улыбнуться и сказать «Здравствуйте!» или приподнимается со стула, чтобы приветствовать вошедшего, даже если он не является важной персоной, не говоря уже о тех, кто помнит, у кого когда день рождения или умеет в разговоре обойти неприятность, которая с вами только что приключилась и о которой говорит весь город! Такие меня просто приводят в восторг, что бы там они из себя на самом деле ни представляли. Так вот, когда я сажусь за свободный столик в кафане, можно быть уверенным, что через полчаса за ним соберется столько народу, что мне в конце концов придётся встать и уступить кому-нибудь свое место. Признаться, я не бог весть какой говорун, а уж тем более не тот, кого обычно называют «душой общества», анекдоты у меня вызывают отвращение, от сплетен и перемывания косточек всевозможным знаменитостям меня с души воротит, не выношу профессиональных кабацких краснобаев, язык у меня развязывается только когда напиваюсь, по большей же части я молчу, прислушиваясь к журчанию разговора… В чем же тогда дело? Может быть, я являюсь чем-то вроде медиума, связующего звена для самых разных характеров? Больше всего меня раздражает то, что между людьми, не знавшими друг друга, которых я сам же и познакомил, завязывается гораздо более близкая дружба, чем со мной! Потом они начисто забывают, сколько усилий мне пришлось приложить, чтобы преодолеть их взаимную антипатию и предубеждения. Вместо благодарности (которой я вовсе не требую) некоторые из них потом даже объединяются против меня! Тогда я начинаю чувствовать себя обманутым; в их близости, которой я сам споспешествовал, кроется что-то недостойное, что-то вроде маленького предательства. Обычно я переступаю через это, стремясь к тому, чтобы всем было хорошо. То, что мне придётся отойти в сторону, считаю естественным — такая уж, видать, судьба. Всё же где-то глубоко в душе у меня теплится надежда, что однажды я встречу настоящих людей, таких, которые никогда не сделают ничего подобного. Это, конечно, следствие веры в сказки и пристрастия к ковбойским фильмам, в которых хорошие парни всегда побеждают плохих. Иногда до меня случайно доходят чьи-нибудь высказывания о Педже Лукаче, ошибочные в основном отзывы. Кто-то считает, что я тщеславен и люблю быть в центре внимания. Другие утверждают, что я неисправимый сноб, претендующий на какую-то особую значительность, не соответствующую моему положению. Третьи говорят, что я жажду общества знаменитостей, чтобы погреться в лучах их славы, что я «везде суюсь», изображаю любезность, будучи на самом деле чёрствым и циничным; во всём, что я делаю, они усматривают определенный расчет, неизвестно, правда, на что… Должен признаться подобные оценки меня задевают, однако я ничего не предпринимаю, чтобы их опровергнуть: по-прежнему пускаю за свой стол тех, кто оттачивают на мне свои языки, стараюсь быть выше обид, надеясь, что в конце концов меня вcё же поймут. Хотя, повторяю, я бы солгал, если б сказал, что не страдаю от этого. Видеть себя глазами других — как это ужасно! Такая картина нисколько не похожа на тот автопортрет, который мы рисуем с детства в самом розовом цвете.
Но вот наконец всё то, что раздражало меня в этом вечном совместном сидении за одним столом, вдруг сослужило огромную службу в моем новом деле! После непрерывной полосы неудач мне вдруг улыбнулась удача! Общение оказалось чертовски выгодным делом! Те, кто годами отнимали у меня время и деньги (обыкновенно я плачу за всех), неожиданно, сами того не заметив, превратились в бесплатных статистов в моей лавке, которая без них бы наверняка пустовала. Есть все-таки Бог на небесах! Не будь я по своей глубокой сути неудачником, можно было бы смело сказать, что я нашел себя в новом деле.
Я обнаружил, что общение заразно. Вскоре у нас сложился круг «постоянных клиентов», которые стали регулярно заходить и днем, и по вечерам, подолгу сидели, назначали в лавке встречи… В свою очередь вокруг каждого из них тоже кучковались друзья и случайные знакомые, которые приводили уже своих приятелей, и вот так, сам собою сформировался довольно обширный контингент наших постоянных посетителей и покупателей. Этих людей не связывали ни политические взгляды, ни принадлежность к одному поколению, ни эстетические вкусы. Напротив! Секрет в том, что они так сильно отличались друг от друга, что каждый для каждого становился настоящим открытием! Выползши из своих нор, писатели, годами не здоровавшиеся на улице, стали неразлучными друзьями. Не бравшие в рот ни капли спиртного запили, а те, что всю жизнь избегали женщин, повлюблялись до безумия в девчонок, потребляющих любовь с той же жадностью, что и жевательную резинку. Это, разумеется, не означает, что в магазин не наведывались регулярно педерасты, вернее их интеллектуальная элита, но тут не было ничего странного, их присутствие придавало нашему заведению рафинированный аромат парижских салонов. Критики стали потихоньку сближаться с авторами, которых ещё вчера нещадно бранили; сделав над собой небольшое усилие, обе враждующие стороны обнаружили в бывших противниках кое-какие человеческие черты. Я сам себе казался то третейским судьей, то исповедником, то сводником, то барменом… Оторопелые покупатели могли сколько угодно беседовать с писателями, которых считали давно ушедшими в мир иной. Литераторы же с изумлением открывали для себя цвет глаз своих милых читательниц и обменивались с ними телефонами. Частая картина: двое седоватых и лысоватых интеллектуалов с бородами и в очках с большими диоптриями, пользующиеся славой неумолимых полемистов, ищут в книге «По направлению к Свану» известное место о бисквитном пирожном, чтобы прочитать его стройной красавице, соблазнительные розовые ляжки которой обнажены аж до красных кружевных трусиков. Сусанна и старцы! Частая картина: суровый критик известнейших поэтов терпеливо слушает не слишком складные вирши аппетитной провинциалки и предлагает пойти куда-нибудь, где они смогут спокойно побеседовать о них. Я гляжу им вслед и наверняка знаю, что беседа эта кончится любовной интрижкой… Частая картина: я даю из нашей кассы деньги взаймы отнюдь не бедствующему автору бестселлера, боящемуся признаться жене, что проигрался в карты. В слепящем свете телевизионных юпитеров лавка все больше превращается в специализированную студию, где снимают передачи о книгах и писателях. Газеты публикуют фотографии, с которых улыбается картинный Чубчик — бородатый лик молодого апостола новой религии книготорговли. Регулярно наведываться в магазин для многих стало привычкой, подобной привычке к какому-нибудь безобидному наркотику. Когда кто-то из постоянных не заходит дня два, все начинают спрашивать друг у друга, что с ним случилось. Но всё же в успехе, которому тайно завидуют многие белградские книготорговцы, мне чудится какая-то опасность, я нюхом чувствую неведомую угрозу, омрачающую счастливые картины ощущением недолговечности. Пытаюсь разогнать тревогу вином, но мне это уже плохо удаётся. Слишком долго меня преследовали неудачи, чтобы я поверил в то, что смогу спокойно дождаться здесь пенсии.
16
Однажды я тайком повынимал книги из отцовского книжного шкафа и построил из них крепость под обеденным столом. Этот стол на двенадцать персон, раздвигавшийся во время семейных торжеств, был покрыт широкой вышитой скатертью из толстого сукна с кистями, достававшей до самого ковра на полу; там, в пыльной духоте, где пахло ванильными пирожными и пастой, которой натирали старое ореховое дерево, между четырех ножек, выполненных в виде лап неведомого зверя, в таинственной полутьме, где кончалась (по крайней мере, мне так казалось в то время) власть взрослых, я играл часами, воображая себя преследуемым беглецом, в то время как наверху за столом сменялись гости и домочадцы. Я мог вблизи рассмотреть и даже обнюхать их гулливеровские ноги в неправдоподобно огромных ботинках — шнурки казались мне тогда толстыми, как корабельные канаты; пробираясь между этими неуклюжими колоннами, я делал вылазки на вражескую территорию, а потом тем же путем, но уже с добычей осторожно заползал в своё тайное убежище. Сперва я перетащил туда тяжелые тома энциклопедического словаря Брокгауза и сложил из них прочный фундамент, на котором стал возводить стену из серии «Кариатиды» в твердых рыжих переплетах. Впоследствии, став букинистом, я не раз держал в руках книги из этой библиотеки, которые помнил с детства по солидному, надежному переплету, превосходной атласной бумаге и крупному, четкому шрифту. Так, через много лет я узнал, из чего были воздвигнуты первые стены под нашим старым обеденным столом. Это были: «Творческая эволюция» Бергсона, «Введение в психоанализ» Фрейда, «Капитал» Карла Маркса, «Мир как воля и представление» Шопенгауэра, «Закат Европы» Шпенглера, «Золотая ветвь» Фрэзера, «Философия свободы» Николая Бердяева, «Путевой дневник философа» Кайзерлинга, «Прагматизм» Уильяма Джемса, «Индивидуальная психология» Адлера, «Восстание в пустыне» Лоуренса, «Вожди Европы» Людвига, «Деньги в политике» Левинсон-Моруса… Никто не станет отрицать, что я еще ребенком обладал хорошим вкусом! Хоть я в то время и не читал эти фундаментальные труды, интуитивно именно их выбрал для фундамента своей постройки, на которой затем стал укладывать красные бумажные кирпичи, обтянуты е кожей (сербские и русские классики), и издания Сербской книжной задруги в голубом переплете. Когда крепость была закончена, я притащил в нее два серебряных подсвечника, отцовский бинокль, мраморный чернильный прибор с бронзовой фигуркой обнаженной девушки, державшей в руке вместо копья перо, несколько дагерротипных портретов солдат первой мировой войны в рамках, формочки для печенья в виде сердца и червяка, деревянную мельницу для перца, а также кое-какие съестные припасы, которые должны были помочь мне выдержать даже самую длительную осаду: сардины, уже окаменелый маковый рулет и пасхальные яйца… Я бессознательно пытался построить для себя мир по собственным меркам, потому что мир взрослых вне крохотного безопасного пространства под столом был для меня слишком большим, пугал своей огромностью. Но несмотря на приятное ощущение защищенности, отгороженности от внешнего мира, удовольствие от игры никогда не было полным из-за боязни, что моя постройка будет недолговечной. Видно, я, будучи еще совсем маленьким мальчиком, чувствовал, что рано или поздно кто-нибудь обязательно заметит исчезновение второго ряда книг из шкафа и предметов из кухни и кладовой и в конце концов заглянет под стол. «А ну-ка верни все, что ты утащил, на свои места и снимай штаны!»
Сегодня, спустя столько лет, мой сказочный замок отличается той же недолговечностью. Его построил человек, который и на пятом десятке упрямо отказывается повзрослеть и принять освященный веками порядок вещей, согласно которому книги должны стоять в шкафу, а не лежать на полу. Эту игру может прервать любой взрослый, которому она придется не по нутру; ещё удивительно, как это мне удалось играть в неё целых три года и только теперь быть разоблаченным этой анемичной, тумбообразной женщиной, ответственной за примерное поведение людей и вещей. Вот опять, как и всегда, кто-то другой, обязательно кто-то другой, оказывается хозяином прекрасной игрушки, как две капли воды похожей на ту давнюю крепость из книг. Я, кажется, с раннего детства готовил себя к профессии наивного беглеца — в мою лавку приходят такие же испуганные люди, как и я сам, чтобы хоть на время найти прибежище в безнадежно угрюмом и неинтересном городе. Кто-то другой, всегда кто-то другой, обладает драгоценностями, истинной цены которых не знает. Ровным счётом ничего не сделав для того, чтобы этот маленький, наполненный теплым светом оазис среди всеобщей серости ожил, кто-то другой предъявляет на него неоспоримые права точно так же, как предъявляет свои права неизвестный мне Ленин муж, который, думаю, так никогда и не узнает до конца свою законную супругу, бывшую темноволосую беглянку, тоже упрямо отказывающуюся взрослеть. Мир, видимо, с давних пор разделён на два вида людей — тех, кто имеет, и тех, кого любовь заставляет красть. Я обречён на эту игру, в которой проигрываю в тот же миг, как только разбужу спящую красоту чьего-то лица, предмета, места… И снова вечное бегство в полутьму детской крепости, защищенной от врага одной только скатертью; гулливеровские ноги вторгаются в моё укрытие, разрушая последнюю надежду построить неприступное укрепление. Вот-вот меня вытянут за ухо на свет божий, и я опять, как когда-то, буду виновато стоять посреди комнаты перед гостями, щурясь от сильного света, под укоризненными взорами законных владельцев.
«Верни вcё на свои места!»
17
Чувство вины — моя вторая натура. Это моя профессия, моё призвание. Мне никогда не удавалось быть счастливым хотя бы полчаса, не чувствуя себя при этом виноватым. Я с малых лет усвоил, что человек создан для страдания, а не для счастья, которое мы всегда считаем неожиданным и незаслуженным подарком судьбы, доставшимся нам по чистому недоразумению. Это, вероятно, потому, что я всю жизнь непрестанно был перед кем-то виноват. Сначала перед родителями, учителями, соседями и родственниками, лотом перед преподавателями гимназии и института (который мне так и не удалось закончить), перед старшими по чину в армии, перед друзьями; я виноват в том, что из-за своего легкомыслия не оправдал возлагавшихся на меня надежд, виноват перед Леной в том, что… Сам не знаю, в чём! Кроме того, я вечно виноват перед государством и политиками, не пропускавшими ни одной возможности в очередной раз подчеркнуть, что мы тратили больше, чем зарабатывали, что мы плохо работали, что у нас ослабла бдительность, и при этом смотревшими с телевизионных экранов прямо мне в глаза, как будто я один во всем виноват. Теперь я само собой виноват в том, что в одиночку вернул к жизни этот магазин, который сейчас работает лучше, чем когда-либо!
Чего я всё это время хотел? Только одного — затаиться, чтобы меня все оставили в покое. Не отступал ли я с завоёванных позиций, лишь бы никому не мешать? Пожалуйста! Только после вас! Я уступаю дорогу! Это началось давно, ещё во времена моих литературных занятий. Почувствовав вокруг зависть и злобу, я уступил свое место тем, кто считал, что я занимаю его незаслуженно. Хорошо! Я не буду больше публиковать свои эссе! Дарю вам свои страницы в журналах, будущие ненаписанные книги, премии, всё… Я сохранил только зеленую папку с материалами о Шломовиче, продолжая по привычке вкладывать в неё новые газетные вырезки и свои, сделанные мимоходом заметки, потому что мне по-прежнему не давала покоя трагическая судьба человека, который тоже всю жизнь уступал дорогу, вечно оставаясь наедине со своими чувствами и переживаниями. Исследование об Эрихе Шломовиче, которое я уже сколько лет не решаюсь закончить… Что бы я после с ним делал?
Потом я отступил еще раз. Я отдал им Лену! Не думайте обо мне, спокойно женитесь на ней! Я отказываюсь от борьбы! Я выберу самую неблагодарную работу из всех возможных, в самом захудалом книжном магазине из всех существующих в городе. Довольны теперь? Хватит вам этого? Не это ли наконец то место, где вы меня оставите в покое, место, которое я заслуживаю как гражданин второго сорта, где никому не буду мешать, где мне никто не станет завидовать, где я наконец-то стану тем, кем вы хотите, чтобы я стал, то есть никем? Однако я переоценил окружающих, думая, что они примут моё добровольное отступление, надеясь втайне, что им будет по крайней мере неприятно видеть, как я унижаюсь без вины виноватый. Возможно, кто-то и заметил, что я делаю, но очень скоро забыл и обо мне, и о том, что со мной произошло. Действительно, почему я постоянно ощущаю себя гражданином второго сорта — заключённым, выпущенным под расписку за примерное поведение после того, как отсидел энное количество лет за преступления, не поддающиеся определению? Почему, к примеру, я должен работать по крайней мере в два, если не в пять раз лучше всех остальных, занимающихся тем же делом, если хочу удержаться на своём месте? Я продаю больше всех книг в этом городе, который по любви к печатному слову находится далеко не на первом месте в Европе, но даже и этого, оказывается, недостаточно, чтобы внушить к себе доверие! Кого интересует, что книги хорошо продаются, что магазин всегда полон покупателей, что в него захаживают известнейшие писатели города? Во всем этом видят лишь хитрый ход ловкача интеллигента, которому, однако, никого не удастся обмануть притворным смирением и якобы скромной ролью обыкновенного книготорговца. Нет никакого сомнения, что он при этом готовит какую-то диверсию, состоящую уже в том, что, соглашаясь на столь незначительную должность и коварно пользуясь своим положением, он явно хочет продемонстрировать невежество своих начальников, редакторов и таким образом чуть ли не возводит хулу на весь общественный порядок, при котором люди, по его мнению, занимают чужие места! Самое же подозрительное то, что я не проявляю ни малейшего желания подниматься по служебной лестнице, хотя мне не единожды любезнейшим образом делались соответствующие предложения. Я, разумеется, сам виноват, что всегда отказывался, в том числе и от места начальника торгового отдела, а потом и от должности завотделом пропаганды — от предложений, за которые бы многие ухватились и были благодарны по гроб жизни! Я не хочу быть никем другим, кроме как обыкновенным книготорговцем, но у них не укладывается в голове, что кто-то может всю жизнь довольствоваться столь незавидным положением, ведь они-то всю свою жизнь подчинили продвижению по службе, снизу вверх. Я их прекрасно понимаю. Выходцы из деревенских и провинциальных многодетных семей, испытывающие генетический страх перед голодом и нуждой, они, после того как наконец досыта наелись и приоделись, «обставили» свои квартиры в новых районах, смотрят на жизнь как на непрерывное восхождение по крутому косогору власти: от сельских школ, общежитий, снятых углов в чужих квартирах к ответственным постам, заслуженным преданностью и серьезностью. Однако эти посты для них отнюдь не предел мечтаний. Что им какое-то издательство! Это лишь трамплин, с которого, если повезёт, они взлетят куда выше, на первые должности и посты, где решаются судьбы людей, где привилегии, деньги, власть, а не какие-то книги, которые их, кстати сказать, не очень-то и занимают. Что такое вообще книги? И кто эти не внушающие доверия, подозрительные личности, которые их пишут, а что еще хуже, предлагают печатать; смотрят своими странными горящими глазищами, неизвестно что там думая про себя и создавая лишнюю работу редакторам, которые куда охотнее занялись бы чем-нибудь полезным, а не туманными грёзами, непроверенными теориями и сомнительными описаниями того, что уже давным-давно и не раз описано. К тому же от иных книг одни убытки. Другое дело — умершие писатели. Мёртвые не требуют гонораров. Или книги, которые хочешь не хочешь, а приходится покупать: учебники, финансовые справочники, новые сборники инструкций, изменения и дополнения, формуляры… А я к тому же вместо того, чтобы сидеть да помалкивать в тряпочку там, у себя в магазине, если уж избрал себе такую судьбу, ещё даю интервью для газет и радио! Они раз десять видели меня по телевизору в передаче «Поговорим о книгах», и я ни разу не упомянул не только их самих, но даже и название издательства, которому принадлежит магазин! Согласно их понятиям о субординации, за сведениями о том, какие книги пользуются наибольшим спросом, журналисты должны обращаться в дирекцию, если уж принято сомнительное прозападное нововведение каждую неделю печатать списки бестселлеров. Ведь не важно же в самом деле, что там пользуется спросом, важно, что должно им пользоваться! А тут я, конечно, некомпетентен. Совершенно случайно я нарушил их систему ценностей, и они почувствовали себя в опасности. Из-за меня у них появился «комплекс Золушки». К тому же, когда им случается заглянуть в свой магазин, никто не выказывает им должного почтения, на которое они как руководящие работники имеют полное право. Музыка не приглушается, Весна не надевает туфель, по-прежнему разгуливает босиком с зелеными ногтями, Чубчик не убирает ног со стола, я делано вид, что их не замечаю… Они себя ужасно глупо чувствуют в своих серых костюмах при галстуках среди покупателей и постоянных посетителей, словно нарочно одевающихся как можно экстравагантнее. Возможно, они испытывают что-то вроде зависти, оттого что не принадлежат к этому узкому и чертовски интересному кругу, где всегда встретишь красивых девушек и умных, знаменитых мужчин (некоторых они вчера видели по телевизору!), где бутылка вина гуляет вкруговую и где говорят на каком-то, им непонятном, полушифрованном языке о вещах, о которых они не имеют представления, о книгах, которых не читали, хотя и являются их законными хозяевами, так же, впрочем, как и самого возрождённого магазина, для которого арендуют помещение, платят не только налоги, но и за электричество, воду и даже за мытьё витрин! Сознавая, что жизнь магазина, находящегося в их ведении, течёт помимо них и их контроля, они наконец замечают, что и книги уже не стоят в застеклённых шкафах, а лежат под обеденным столом, где вдруг стало так уютно, что и взрослые гости начали забираться под скатерть, чтобы почитать при свете свечей в уворованных подсвечниках.
Эта зависть напоминает мне случай с одним человеком, которого я знал с малых лет. Расстались мы не по моей вине где-то на третьем курсе института… Когда бы мы ни встретились, я неизменно читал в его взгляде враждебность, чуть ли не ненависть, парализовывавшую меня своей необъяснимостью и постоянством. Надо ли говорить, что все те годы при каждой возможности он старался сделать мне пакость? Однажды через много лет давний недруг нетвёрдым шагом приблизился к моему столику в кафане «Под липой» и заглянул мне в глаза. От него шел сильный запах виски и табака, отечное лицо, заросшее двухнедельной щетиной, лоснилось от пота. Он вдруг почувствовал потребность подойти ко мне и наконец объяснить, почему ненавидел меня столько лет. «Из-за ботинок! — сказал он, пошатываясь. — У тебя всегда были до блеска начищены ботинки… Больше всего я тебя ненавидел за те черные мокасины в пятьдесят шестом, когда я носил солдатские башмаки!» Я остолбенел. В то время все мы были одинаково бедны, а у его глубоких, жёлтых ботинок из свиной кожи и подошва наверняка была толще, и качестве получше, однако я и тогда из-за своей страсти к сверкающей обуви обязательно наводил невообразимый блеск на единственные мокасины с до того стёршимися подметками, что я чувствовал под ступнями каждый камешек.
Он заглянул под стол, с трудом удержав равновесие, — хотел проверить в каком состоянии теперь моя обувь. А я, сидя в кафане, имею обыкновение время от времени потирать ботинки о штанины своих вельветовых брюк, так что на их коже никогда не бывает ни единой пылинки. Выставив ногу из-под стола, я гордо продемонстрировал ему маленький шедевр искусства чистильщика. Его коричневые полусапожки были по крайней мере в два раза дороже, но все исцарапанные и пыльные, кое-где со следами засохшей грязи. Он снова был сражён. Я обернул всё в шутку, но ещё долго после этой случайной встречи не мог отделаться от засевшего во мне страха перед беспричинной, ничем не заслуженной ненавистью, вроде той, которая окружает меня сейчас. А может, всё это лишь плод моего больного воображения? Мне вдруг вспомнились Ленины слова: «Твоё вечное стремление отойти в сторону — по сути обыкновенное кокетство избалованного ребенка, который на всех дуется и от всего отказывается, потому что ему, видите ли, чего-то не досталось, а чего, он и сам не знает! Твое вечное чувство вины? Да ты же просто упиваешься им! Без него ты бы не смог прожить…»
Как будто сейчас слышу нежную модуляцию её чуть хрипловатого голоса!
Расчувствовался и послал Лене по почте книгу Кафки «Письма (Ми)лене»…
18
Летом 1946-гo в районном распределителе бедным детям выдавали вещи, присланные ЮНРРА[5] в качестве помощи. Чтобы не было толчеи и ругани, дети должны были туда явиться одни, без взрослых и выбрать себе что-нибудь из одежды. Но только что-нибудь одно! Уже за несколько дней до этого долгожданного события на семейных советах, собиравшихся за кухонными столами, гадали до одурения, что там будет, в этом бараке, заваленном американским добром. Сонных малышей до глубокой ночи учили, что следует выбрать из всего сказочного изобилия, когда они наконец попадут в эту сокровищницу. За две холодные и голодные послевоенные зимы пришлось познать нищету даже состоятельным семьям. Уже дважды перелицовывались довоенные зимние пальто, до дыр сносились подметки последних ботинок… Мы жили, придавленные бедностью… Считая меня, девятилетнего, достаточно, чтобы не сказать — не по годам, взрослым и умным, домашние не давали мне никаких советов. Им не хотелось влиять на мой свободный выбор, ведь я мог взять только одну единственную вещь! Выберу ли я что-нибудь для себя, для дедушки, бабушки или мамы, и что это будет, они оставили на мое усмотрение. Все надеялись, что я слишком хорошо запомнил последнюю суровую зиму, чтобы повести себя, легкомысленно, и что, раз уж мне представилась такая редкая возможность, я выберу вещь полезную и прочную. Может быть, высокие солдатские сапоги или кожаное пальто до земли, из которого могли бы получиться два поменьше, а может, если очень повезет, и целый парашют, из шелка которого всем бы нашили рубашек.
Хорошо помню трогательную сцену проводов: всей семьей меня провожают до ворот дома № 13 по Дукиной улице, и при этом никто ни единым словом не упоминает о том, куда и зачем я иду. Из сегодняшнего далека читаю в их глазах надежду, что вернусь с чем-то поистине спасительным, Чем-то таким, что может предложить лишь фантастически богатая заокеанская страна. Я босиком, на мне короткие рваные штаны и майка, из которых давно вырос. Шлепая босыми ступнями по раскаленной пыли, я впервые в жизни чувствую на себе груз чужих ожиданий.
И вот там, в бараке, когда наконец подходит моя очередь выбирать в огромной развороченной груде кожи, металла, шерсти, пластмассы и полотна, резко пахнущей каким-то армейским дезинфицирующим средством, на глазах у изумленной комиссии, состоящей из делегатов районов и каких-то иностранных офицеров, я беру… кожаный авиашлем с очками и наушниками, похожий на водолазный. Само собой, тут же натягиваю его на голову и гордо выхожу на улицу. Раскинутые в стороны руки сразу превращаются в крылья, и я лечу, лечу! С пронзительным свистом пикирую и поливаю огнем вражеские цели. Моя улица кажется чужой сквозь очки неизвестного пилота «Спитфайера»…
Домочадцы заметили меня еще издали, потому что все это время простояли у ворот в ожидании моего возвращении. Увидели босоногого тощего мальчишку с рахитичными коленками и огромной диковинной головой инопланетянина, с упоением выписывающего виражи в полном восторге от своего выбора. Из всей массы сокровищ: гор шинелей, сапог, башмаков, галифе, парашютов, накидок, гимнастерок, плащей, пелерин, рюкзаков, свитеров и курток я безошибочно выбрал единственную совершенно бесполезную вещь — кожаный авиашлем.
Со мной не разговаривали целый месяц. Пустые стеклянные глазницы шлема укоризненно глядели со шкафа. И даже через десять лет после того события, когда нужда была уже давно забыта, мой дед, умерший в пятьдесят шестом, так и не смог простить мне этого первого свободного выбора в моей жизни. Более того: сомнения в моей нормальности, посеянные мною летом сорок шестого, всю жизнь мучили моих родственников и даже, кажется, просочились за пределы нашего дома — благодаря кожаному авиашлему на меня с подозрением смотрели все соседи, вся улица, весь Белград, все люди, меня знавшие… Тот давний выбор как будто предопределил и все мои последующие решения в жизни; из огромного разнообразия полезных вещей я всегда наверняка выберу самую никчемную, какую только можно себе представить! Вот и эта книжная лавка, где я случайно оказался, разве не подтверждает она мою органическую неспособность рассуждать здраво и думать о своей выгоде, как остальные?
19
Самое время для сакраментального «Мы должны»!
И, смотрите-ка, слово-призрак действительно произносится!
Мы должны принять меры!
Мы должны усилить бдительность!
Мы должны изменить концепцию!
Мы должны преодолеть недостатки!
Должны перехватить инициативу…
Должны приложить все силы!
Должны изменить…
Должны! Должны! Должны! Должны! Должны! Должны! Должны!
Это слово преследует меня с малых лет. Оно впивается мне в тело, подобно стрелам, пронзающим на картине Андреа Мантеньи святого Себастьяна, привязанного к столбу… (Черт бы побрал это никому не нужное образование, так и ждущее на кончике языка, чтобы опутать чувства в момент их оформления в слова сетью дурацких ассоциаций!) Почему не сказать просто: как иголки, которые рассерженная портниха яростно втыкает в игольницу, вымещая на ней свою злобу; или: «Я свихнусь от этого „мы должны“! Дай волю проклятому словечку, оно и облака в небе заставит ходить по струнке!» Но вот вместо старого Мантеньи на поле выбегает Рене Магритт и ловит ассоциации на лету: «мы должны!» — и поворачивают, и текут вспять реки и кровь в жилах, сталкиваются лбами разум и убеждения, сердце и любовь, послушные толпы смыкают бесконечные ряды: первый-второй, первый-второй, первый-второй, в колооооонну по двоооое, вперееееед маааарш! Это слово хочет командовать жизнью, насиловать, кастрировать, согнать в стадо и держать в повиновении, пощёлкивая кнутом; это вечное «должны» похоже на гудящий рой мошкары на бесконечно огромном и сильном теле, которое в начале прикидывается землёй, пашней, рекой, городом, деревьями или морем и миролюбиво поддаётся долженствованию, терпеливо выясняя, с кем имеет дело: с истинными затоками природы вещей или обыкновенными дилетантами, которые в случае ошибки лишь пожмут плечами и спокойно скажут, что, мол, сваляли дурака, что ж такого? — кажется, будто эта обманчиво-податливая и покорная жизнь, благосклонно позволяет людям месить себя, как им вздумается, и вот они, воодушевлённые кажущимися первыми победами, опьяненные легко достигнутыми успехами, начинают думать, что им сам чёрт не брат, что им всё по силам, и идут всё дальше, всегда дальше и дальше, до последних пределов терпения и разума, до того момента, пока жизнь, как большой и добродушный зверь, не стряхнёт их с себя, поднимаясь на ноги, фыркая и показывая зубы. Тогда начинаются катаклизмы, вздуваются спящие воды, приходят засушливые года. Четырьмя лютыми врагами земледелия становятся весна, лето, осень и зима! Народ косят эпидемии. Наступают экономические кризисы. Не выдерживают напора воды плотины водохранилищ, обрушиваются мосты, ещё вчера казавшиеся такими прочными и надежными. Взрываются космические ракеты, не успев вонзиться в пышные телеса облаков. От смога задыхаются дети тех, кто ещё недавно праздновал появление дымящих заводских труб как очередную трудовую победу… Ведь жизнь не подчиняется приказам, она ничего не должна, она или хочет, или не хочет, может или не может, любит или не любит, она отдается лишь тем, кто умеет найти к ней подход, тем, кто терпеливо разгадывает её тайны, и только сумевший приручить этого дикого, норовистого зверя будет с лихвой вознаграждён любовью и гармонией.
Мне же больше некуда бежать: «Мы должны!» набрасывает и на меня свою тонкую, неразрывную сеть, в которой я барахтаюсь, как пойманный дикий кролик. Слушая вполуха, что там они должны, отмечаю про себя: «Послать Лене „Кролик, беги!“ Джона Апдайка».
20
В лавку заходили:
некто, читающий Энциклопедию подряд, как роман. 3a два года он добрался до буквы Е. «Представляете, Педжа, — сообщает мне доверительно, — Йосиф Панчич обнаружил ель сербскую только в 1872 году в районе Заовины и Растиша в западной Сербии! Интересно, что её ближайшие сородичи растут в Японии, Корее и на острове Ситка в Северной Америке…»;
одна полнотелая мадам, каждое утро уводящая к себе домой по соседству какого-нибудь голодного студента. «Простите вы не знаете, что это за книга?» — всегда одинаково начинает она разговор. Выходя из лавки с очередной добычей, заговорщицки мне подмигивает. «Вы знаете, можете думать обо мне что хотите, но я обожаю таких мальчиков! — призналась она мне как-то, когда мы были одни. — Нет-нет, не думайте, в постели они ничем не лучше ваших ровесников, но что-то в них есть такое… Не знаю, как вам объяснить!»;
один известный критик, который приносит связки новых, непрочитанных книг, посылаемых ему авторами на рецензию. Я выплачиваю ему семьдесят процентов от их цены, и он доволен. Опуская в очередной раз свой груз на стол у кассы, он вздыхает и говорит: «Нация всё ещё пишет!»;
один отставной полковник, всегда покупающий одну и ту же книгу: сборник материалов о боевом пути части, в которой он служил, где на сто семидесятой странице напечатана его фотография;
один писатель, интересующийся, как покупают его роман;
одна пожилая дама, покупающая детские книжки для своих внуков, которые живут в шведском городе Лунце. Пока я их ей запаковываю, она о6язательно всплакнёт. В сентябре она подарила мне банку варенья из черешни с аккуратно выведенным латинским названием Prunus avium;
один спекулянт билетами в кино, который приносит кучу мелочи, чтобы поменять у меня на более крупные купюры;
одни тип, который спрашивает книги, ещё не вышедшие из печати;
ещё один, который приносит бутылку водки «Столичная», потому что не любит пить один;
одна девушка с льняными волосами, всегда покупающая только «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери;
мальчишки из ближайшей школы, сбегающие с уроков. Они забиваются в самый дальний и тёмный угол лавки, сидят на полу и читают комиксы в ожидании конца занятий;
постовой милиционер, пользующийся нашим туалетом;
некто, имеющий обыкновение сидеть и смотреть в пустоту;
два педераста, назначающие в нашей лавке свидания;
один поэт, который возмущается, что я не выставляю его сборника в витрине;
некто, каждый раз интересующийся, не спрашивал ли его кто-нибудь. Его никогда никто не спрашивает;
некто, ищущий писателя, который бы за него написал лучший роман всех времен о двух братьях. Один брат партизан, другой четник. Отец держит нейтралитет. В сорок третьем братья где-то в горах смотрят друг на друга сквозь прорезь прицела…
Дальнейший замысел он хранит в тайне, чтобы кто-нибудь не дай Бог не украл у него тему. Гонорар за книгу предлагает разделить поровну. Литераторы бегают от него, как чёрт от ладана;
некто, каждый день собирающий подписи под новой петицией. Того, кто отказывается поставить свою подпись, он тут же объявляет трусом, а то и полицейским агентом. Никто толком не знает, чем он занимается;
некто, заходящий в лавку, чтобы продолжить свой внутренний монолог, начатый еще утром: «…а вы посмотрите, что сделали с монастырями! Это же ужас! Но кого сегодня волнуют фрески?.. Да что там говорить!..» — и так далее. В другой раз он разглагольствует о политике: «…нет, нет, я больше в жизни не возьму в руки газету! Только нервы себе трепать! Добро бы, если б ещё можно было на что-то влиять, а то одно расстройство!»;
некто, собирающий пожертвования для бедных писателей, сидящих без работы. Этот всегда бывает навеселе;
одна особа, возвращающаяся то из Парижа, то из Рима, то из Лондона, то из Нью-Йорка. «Ну, что у нас нового?» — спрашивает она рассеянно и никогда не слушает ответа. Из её раскрытой сумочки пахнет заграничным благоденствием;
некто, всегда являющийся в тот момент, когда мы пьём кофе;
некто, появляющийся, только когда идёт дождь;
и другой, заглядывающий обычно накануне бурных политических событий; женщина, которая вечно спрашивает, не заняла ли она моё место. «Ну что вы, ради бога сидите, я люблю размять ноги!»;
некто, невозмутимо курящий гашиш и читающий книги о трансцендентальной медитации, которые, впрочем, не покупает;
и другой, часами разговаривающий с кем-то вполголоса по нашему телефону;
некто, всем рассказывающий о своих изобретениях. Сейчас он как раз разрабатывает надувное сиденье для унитаза: «Вы только подумайте, сколько часов человек проводит на унитазе! — объясняет он увлечённо. — Ведь это немалая часть жизни! Деревянные сиденья негигиеничны, они впитывают мочу и вечно влажные. Пластмассовые же часто ломаются в могут вас поранить. Единственное решение — надувное сиденье: оно удобно и отвечает всем требованиям гигиены. Вопрос лишь в способе накачки — ведь со временем оно будет сдуваться…» Мы предлагаем производить накачку непосредственно выхлопными газами. «Это интересно, очень интересно… — соглашается он. — Я подумаю!»;
одна манерная молодая особа в очках, со строгим выражением лица. Эта сидит и читает самые заумные сочинения, как то: истории религии и философии, эссе о герметизме и исследования по семиотике… Время от времени поднимает взгляд от книги и с укоризной смотрит на нас. Даже её молчание вызывает в нас смутное чувство какой-то вины. Уходит она, поджав губы, не прощаясь;
некто, обожающий обсуждать содержание телепередач. Заходит в лавку и с порога вопрошает: «Смотрели вчера эту срамоту?»;
некто, годами встречающийся здесь со своей любовницей. В лавке они никогда не разговаривают. Листают книги каждый в своём углу, делая вид, что незнакомы, а потом по отдельности выходят. Сперва он, затем она;
один книготорговец из провинции, желающий в своем городке создать нечто подобное. Он приходит по субботам, когда лавка только открывается, приглядывается и принюхивается, а потом обычно спрашивает меня: «А в чём же тут всё-таки фокус?»;
и ещё объявился один будущий книготорговец из Нью-Йорка, прослышавший обо мне и пожелавший пригласить меня к себе на работу. Как-то раздался телефонный звонок:
— Хелооо? Это bookshop «Балканы»?
— Что? — переспрашиваю я раздражённо.
— Oh, shit![6]— поправляется мой незнакомый собеседник. — Это книжный магазин «Балканы»?
— Да!
— Я бы хотел поговорить с этим типом, который там у вас работает. Куда-то запропастилась газета, которая о нём писала! Fuck it![7] Как его… Gуцrgу Lukacz?
— Он умер.
— Не валяй дурака, приятель! Я звоню из Нью-Йорка…
— Да ну? И как там у вас? Все в порядке?
Хотя голос моего невидимого собеседника звучал так, будто его разложили на составные части, пропустили через электронику, потом снова сложили и усилили, я всё же думал, что меня разыгрывают. Звонивший из-за океана почувствовал что ему не верят.
— Take it easy mас![8] — сказал он ласково, словно ребенку, видимо боясь, что я в любую минуту могу положить трубку. — Меня зовут George Ророviсh, — произнес он по буквам. — Мой телефон в Нью-Йорке: 645-87-96. Рlеаsе, позвони мне сам за мой счет! О'кей?
Я позвонил на станцию и продиктовал номер.
Через пять минут из трубки снова послышался тот же голос:
— Thank уоu![9] — вздохнул он с облегчением. — Я боялся, что ты не позвонишь… Могу я теперь поговорить с мистером, как его… Лукачем?
— Это я!
— Oh, mу God![10] — сказал он удовлетворённо. — Я так и знал, что это ты!
После того как он подробно расспросил меня о погоде, своих старых знакомых и кафанах, в которые когда-то захаживал, после того как мне пришлось найти в газете и прочитать положение в первой и второй нашей футбольной лиге, George Ророviсh наконец перешел к делу: предложил мне работу в Нью-Йорке, в первом югославском книжном магазине, который вскоре намеревался открыть. Признаться, я был взволнован и польщён. Из трубки до меня доносилось могучее дыхание океана, по другую сторону которого сквозь звездно-полосатую дымку зеленел обетованный континент — мечта всех мальчишек из провинции. Передо мной в одно мгновение пронеслись картины ожидавшей меня новой жизни, но я почувствовал, что у меня на это уже нет сил. Джордж решил, что я колеблюсь из-за денег.
— Послушай, вопрос, конечно, не в западном духе, но всё же, сколько ты там получаешь?
Я сказал.
— В неделю?
— Нет, в месяц.
— Bullshit![11]— воскликнул он. — Да здесь столько получают черномазые, когда ни черта не делают, в качестве пособия по безработице! Приезжай, будешь деньги лопатой грести! Я читал про тебя в газете. Мне нужен как раз такой человек, как ты…
Я отказался со всей вежливостью, на какую был способен.
— О'кей! — сказал он после получасового разговора, наверняка влетевшего ему в копеечку. — Если передумаешь, мой телефон у тебя есть! Тебе достаточно позвонить, и я сразу высылаю билет на самолет. Fuck it! Было бы здорово, если б мы стали компаньонами!
У меня готова пошла кругом. Вот, значит, как делают дела там у них, в Америке!
С тех пор Джордж звонил мне из Нью-Йорка чуть не каждую неделю, чтобы я рассказывал ему новости и зачитывал результаты футбольных матчей. Я диктовал ему списки книг, которые он должен заказать дли своего книжного магазина, и давал советы. Каждый наш разговор кончался тем же предложением выслать мне билет на самолет. Иногда, с пьяных глаз, оставшись в лавке один, я звонил ему сам за казенный счет. У меня в жизни было немало и друзей, и подруг, но никто никогда так не радовался моему звонку, как Джордж, который, едва услышав мой голос, испускал оглушительное ковбойское «Ого-го!», как будто ему звонит родной брат. От него я перенял привычку говорить «о'кей!».
О'кей. В лавку заходило много чудного народа.
Заходил некто, не дающий никому слова сказать;
и некто, угощающий всех витаминами;
и одна особа, убеждающая нас, что парижские книжные магазины гораздо лучше нашего, но в наших условиях и это сойдет;
некто, постоянно назначающий торжественные представления книг и пластинок, а затем отменяющий их в последний момент;
некто, кого вечно все разыскивают, чтобы стребовать долги, а он всем обещает оставить для них деньги в нашей лавке;
некто, обожающий играть на нашем старом пианино марки «Петрофф». Терзая какой-нибудь злосчастный шедевр, он время от времени бросает на нас негодующие взгляды, возмущённый тем, что мы и не думаем прерывать разговор;
некто, беспрерывно нас фотографирующий, уверяя при этом, что когда-нибудь этим фотографиям цены не будет;
один писатель, предпочитающий давать интервью исключительно в нашей лавке и всегда Уводящий куда-то молоденьких журналисток;
некто, остающийся иногда ночевать под столом в подсобке, потому Что далеко живет;
и еще разные другие…
21
Самый примечательный среди них без сомнения, Борис Полянский, один из последних живых сербских сюрреалистов, друг Арагона, Бретона, Тцары и Дали, живой укор своим белградским ровесникам-сюрреалистам, постоянно напоминающий им своим вызывающим поведением, что они, став добропорядочными гражданами, академиками, профессорами университетов и дипломатами, получая высокие пенсии, премии и удостаиваясь упоминания в учебниках, предали бунтарское движение, которому клялись в верности до гроба. Когда старый Полянский в кожаной куртке лётчика и белом свитере заходит в магазин и занимает своё излюбленное место у окна, наша скромная лавка вдруг как бы попадает в историю современной литературы; над тем местом, где он сидит, уже так и видится мраморная доска со словами: «ЗДЕСЬ БЫВАЛ БОРИС ПОЛЯНСКИЙ. ПАМЯТНАЯ ДОСКА УСТАНОВЛЕНА В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ». Экстравагантный в свои семьдесят с лишним лет, как и в пору расцвета сюрреализма, вечный белградский enfant terrible[12], бисексуальный, циничный, рождённый богатым, он умрет бедняком. Чудовищно образованный. Изысканный и сдержанный в какие-то моменты, сумасбродный временами, чаще всего непредсказуемый. Бывший гражданин мира, не имея теперь денег на путешествия, стоически переносит нищету. Художник до мозга костей, он так никогда и не сумел достичь синтеза своих разнообразных дарований. Он останется фрагментарным, если после него вообще что-либо останется при его неутолимой духовной любознательности и расточительном отношении к таланту. Элегантный. Хитрый. Распутный. Бывший до войны неплохим спортсменом, он до сих пор в январе поднимается вверх по Саве в своем стареньком скифе. Фехтует и ездит верхом. Лет двадцать тому назад он притащил из Чачака в Белград деревянный сельский памятник неизвестному сербскому солдату и установил его при входе в Сербскую академию наук и искусств. По этому поводу написал поэму «Знаки смерти» на французском языке и издал в трех экземплярах. Три года назад в знак протеста сжёг этот фаллосообразный объект перед выставочным павильоном после того, как его не приняли в экспозицию. Порочен. В белградских литературных салонах до сих пор помнят его дерзкое высказывание: «Я был всем, не был только лесбиянкой!» Существенно ли в самом деле то, что он не выпустил собрания своих сочинений? Он совершил гораздо большее, заразив нас своим сумасбродством, абсолютно невероятным образом мыслей и особым взглядом на жизнь и искусство. Кто только не прошел через его дом и его школу! Когда-то в Белграде это была одна из первых станций на пути к славе.
Летом 1957 года я получил через редакцию «Дела» его телеграмму: «Дорогой молодой друг тчк прочитал ваше эссе об Эрихе Шломовиче тчк хотел бы побеседовать с вами тчк жду вас в четверг в пять тчк адрес…»
Я шагал по раскаленным улочкам к его дому, волнуясь и робея перед предстоящим знакомством. Я боялся не оправдать того благоприятного впечатления, которое произвело на него маленькое эссе о картинах Ренуара, Дега и Редона из собрания Шломовича в белградском Народном музее. До сих пор тешу себя мыслью, что это была первая опубликованная у нас статья о странном коллекционере. Полянский, вероятно, хорошо знал Шломовича еще с парижских времён. От бы мог сообщить мне драгоценные сведения и указать путь, по которому должны пойти мои дальнейшие исследования. До этого мне удалось познакомиться с несколькими людьми, которые были откровенны со мной только до определённых границ, а потом замолкали или переводили разговор другую тему. Между мной и моим героем как бы опускался невидимый занавес времени. Когда я пытался вернуться к так и не прояснённой судьбе Шломовича, они отговаривались тем, что ничего не помнят и что вообще всё это было очень давно… Я чувствовал, что они что-то скрывают. Но что — я так и не сумел докопаться. Каждый отсылал меня к другому свидетелю, который якобы был гораздо более близок со Шломовичем. Мне советовали, например, разыскать художника В. Л., в парижской мастерской которого Эрих Шломович провел какое-то время. «Он прекрасный человек! Он вам обо всём расскажет!» Я договорился с художником о встрече за неделю. Он умер за три дня до назначенного свидания. Отличный повод, чтобы напиться вдребезги! Я пришёл на похороны и видел, как последнего человека, знавшего всё о Шломовиче, опускают во влажную рыжую глину. А может, он-то и был тем ключом, с помощью которого я смог бы сложить воедино рассыпанные кусочки волшебной мозаики и добраться до глубоко запрятанной истины? И второй свидетель, один старый искусствовед, умер прежде, чем мне удалось его отыскать. Третий ослеп и оглох и больше никого не принимал. Одной женщине, которая немало знала о семье Шломович, сын не разрешал ничего рассказывать. Некто, когда-то писавший о нём, отсидел несколько лет в тюрьме и тех пор молчит как рыба. Какой-то рок довлел над тайной коллекции Шломовича, к которой я так легкомысленно загорелся интересом, но именно поэтому меня всё больше привлекал этот давно ушедший из жизни человек, словно взывающий ко мне из тьмы, моля рассказать о его жизни и смерти…
Дом Полянских, последний, ещё не проданный хозяином, ничем не выделялся в ряду небольших коттеджей, скрытых в тени августовских садов. Я пришёл на полчаса раньше и, чтобы не получилось, будто придаю чересчур большое значение этому визиту, подождал за углом, дымя сигаретой и ещё раз перебирая в голове весь свой скромный сюрреалистический архив: фильмы Жана Виго, три сюрреалистических манифеста Бретона, картины-машины Франсиса Пикабии и Марселя Дюшана, сцены из «Андалузского пса» Бунюэля и Дали, списки сотрудников на обложке журнала «Невозможное» — точь-в-точь как плохой ученик, с тревогой ждущий вызова к доске.
Он открыл мне дверь совершенно голый, со сморщенным хоботком, меланхолично глядевшим на мои как всегда до блеска начищенные мокасины, и провёл меня в полутёмную гостиную. В широком потертом кресле сидела нагая молодая женщина, изящно скрестив ноги. Оба они были похожи на двух больших белых рыб, занесённых летним приливом в этот душный интерьер. По мере того, как мои глаза привыкали к полутьме, в ней всё яснее вырисовывалось тело молодой женщины — обнаженная натура, разлинованная полосками света, пробивавшегося сквозь жалюзи. Чай был уже на столе. Они ожидали, что я буду точен.
— Мими, моя последняя жена… Она, знаете, ревнует меня к моему прошлому, а я её — к будущему!
Я поклонился. Не позволил себя смутить. Вёл себя как ни в чём не бывало и начал, кажется, обычный разговор о невыносимой жаре и о том, что скоро должен пойти дождь. Женщина встала, разлила чай («Вам с молоком или без?») и мягким волнообразным движением передала мне чашку из хрупкого фарфора. В какое-то мгновение перед самым моим лицом качнулись её полные груди с чёрными сосками, как два беззвучных эротических колокола.
— Чем вас привлёк Шломович? — спросил Полянский.
Я попытался объяснить, что меня интересуют люди, родившиеся здесь, в наших краях, и отправившиеся в дальние странствия, чтобы чего-то добиться и вернуться обратно домой не с пустыми руками… Сказал, что восхищён коллекцией французских мастеров, собранной Шломовичем, что, на мой взгляд, дело даже не столько в ценности самой коллекции, сколько в том, что в Белграде, где-то на задворках Европы, оказались шедевры мировой живописи!
Полянский, спокойно выслушав меня, сказал, что Шломович был обыкновенным обывателем, который, боясь прогадать, собирал только проверенных мастеров.
— На искусство своего времени он плевать хотел. Развитие живописи для него заканчивалось постимпрессионизмом!
Я спросил, что его группа привезла из Города света.
— Безумие! — сказал он и начал объяснять потребность сюрреалистов в непрерывном изменении выразительных средств, стиля, манеры. — Нет более жалкого занятия, чем вечно вскапывать один и тот же огород! — заявил он. Я получил в подарок редчайшее издание его книги «Merde»[13] с надписью: «Педже Лукачу, чтобы вовремя остановиться! Борис Полянский». Он словно предвидел уготованную мне судьбой постоянную перемену круга интересов и занятий. Потом поинтересовался моим мнением о сюрреалистах. Я ответил, что с французами лично не знаком и поэтому мне о них судить трудно, но вот что касается сербских сюрреалистов, мне кажется вполне понятным, почему из всех возможных течений в Париже того времени они выбрали именно сюрреализм. По-моему, сказал я, всё дело в том, что это направление не требует от человека ни особых усилий, ни таланта; вполне достаточно быть нахальным и как можно меньше знать о писательском ремесле. Разве Тристан Тцара не писал стихи, вытаскивая наугад из шляпы бумажки с отдельными словами? Нашей врождённой лени и безалаберности отвечало как раз такое искусство, а вовсе не приближение к совершенству изнурительным многолетним трудом. Ведь согласитесь, сказал я тогда Полянскому, куда легче копаться в подсознании, чем писать рифмованные сонеты, к тому же на чужом языке, что бы там сегодня ни говорили об устарелости сонетной формы!
Он мне ничего не ответил. Встал и попросил извинить его, что оставит нас на некоторое время (он должен был кое-что перевести), предложив немного развлечь его супругу.
— Бедняжка здесь ужасно скучает… — сказал он. — Не правда ли, дорогая, тебе же скучно?
Она взглянула на него миндалевидными глазами преданной одалиски и ничего не ответила.
— Да, кстати, забыл вас спросить… — он остановился в дверях гостиной. — Вы онанизмом занимаетесь?
— Чем, простите?
— Да онанизмом, рукоблудием, если хотите!
— Только в своих писаниях! — еле нашелся я.
Он заметил, что это весьма полезно и что сам он занимается этим ежедневно, потому как ничто так не развивает воображение.
— Вы знаете, mon chйri, женщина, так же как и картина, ограничивает восприятие конкретностью форм. Разве мы не закрываем глаза в момент наивысшего наслаждения? Только звук и слепое прикосновение открывает простор фантазии…
Так я остался наедине с нагой хозяйкой, думая лишь о том, как бы, не дай Бог, не задрожали пальцы и не выдало меня нервное позвякивание фарфоровой чашки о блюдце. Какое-то время мы молчали, а потом стали говорить об африканских масках, щитах и копьях, развешанных по стенам, у которых были свалены в беспорядке связки книг и журналов. Потом женщина встала, по-кошачьи потянулась и, подойдя к окну, подняла жалюзи. Комнату залил поток горячего послеполуденного света, обнажив печальную картину запустения: бесчисленные черные точки на ковре и зачехлённой мебели — следы сигаретного пепла, темные пятна от пролитого вина, пыль и грязно-серую лепнину на потолке… Она стояла, повернувшись спиной к неприглядному интерьеру, как солнечный знак женственности. Её тело как бы таяло в размытой раме окна, становясь почти прозрачным; вокруг чуть полноватого силуэта дрожал ореол светлой пыли и августовское марево. Она словно отдавалась пустой улице, не боясь случайных взглядов.
— Хотите взглянуть на Большого Мона? — промурлыкала она.
— C удовольствием! — ответил я.
Она открыла бывшую когда-то белой дверь, и в комнату в тот же миг влетел неправдоподобно большой ангорский кролик, оставляя за собой облако вылинявшей шерсти.
— Посмотрите, какой хорошенький! Ну иди скорей к своей мамочке, иди…
Она взяла его на руки и поцеловала в розовый нос. Белая ободранная муфта, прижимаясь к ее голому телу, часто помаргивала красными глазками.
— Он, бедняжка, слепой, — пояснила она.
— Как, вы еще не разделись? — спросил Полянский, входя в гостиную якобы за каким-то словарём, который ему вдруг потребовался.
Теперь был в бедуинском балахоне, доходившем до пола. Наши глаза встретились. Он понял, что я угадал его затаенный страх и хочу помочь ему остаться в роли человека широких воззрений, который выше такой чепухи, как ревность, и при этом не потерять свою голую игрушку. С того мимолетного взгляда двадцать лет назад и зародилась наша взаимная симпатия.
— К сожалению, мне пора… — сказал я, целуя руку даме.
— Будем рады, если вы нас еще навестите… — сказал Полянский. — Mа douce, montre le сhеmin а mon cher аmi![14]
Я пропустил её вперед себя, силясь оторвать взгляд от двух восхитительных подвижных ямочек над круглым задиком.
Когда я вышел на слегка подгибающихся ногах на улицу, они стояли у окна и с серьезными минами смотрели мне вслед.
Должен признаться, что в ту ночь я послушался совета маэстро и призвал на помощь память и воображение, «не переносящее конкретности форм». Я солгал ему. Я занимался этим не только в своих писаниях.
22
Вначале его никто не замечал. Только когда он стал приходить каждый день и утром и вечером, на него обратили внимание. То ли из-за больших оттопыренных ушей, то ли из-за того, что он, делая вид, будто читает, с величайшим вниманием прислушивался ко всему, что говорилось в лавке, мы прозвали его Дежурное Ухо. Со временем эта тощая потасканная личность неопределённого возраста, с большими печальными глазами, похожая на хронического холостяка, стала для нас чем-то вроде козла отпущения. Всё, что нам хотелось высказать властям, мы, не имея возможности обратиться непосредственно по адресу, говорили ему, Дежурному Уху, в надежде, что он всё передаст кому следует. Он выслушивал нас понуро, словно мы взваливаем непосильное бремя на его и так отягощенные тяжким грузом плечи. Я так привык к нему, что мне начинало его недоставать, стоило ему несколько дней не появиться в лавке; наши разговоры тогда теряли ту прелесть, которую им придавало ощущение опасности, — нам казалось, что родное государство махнуло на нас рукой, что мы ему больше неинтересны.
Дежурное Ухо вёл себя очень скромно, можно даже сказать, застенчиво. Отказывался от предложенного кофе или сигареты и только после долгих уговоров соглашался выпить с нами. Сидел ссутулившись в одном из четырёх полупродавленных кресел, словно извиняясь, что занимает место кого-то более достойного, всегда с раскрытой книгой на коленях. Больше всего он любил слушать писателей и умел это делать как никто другой, с каким-то почти благоговейным вниманием. Никудышные собеседники, созданные для монолога, они наконец обрели в Дежурном Ухе благодарного слушателя, который им никогда не противоречил, а лишь с пониманием кивал головой и время от времени цокал языком, выражая свое изумление очередным открытием. В те часы, когда магазин пустел, Дежурное Ухо погружался в чтение, предпочитая спорные произведения, вокруг которых поднималось много шума и крика. Мне кажется, со временем он стал настоящим специалистом по так называемой диссидентской литературе и, хотя никогда ни о чём не высказывал своего мнения, иногда, не в силах удержать в себе накопленные знания, исправлял кого-нибудь, перевравшего цитату, имя или дату. И сразу вслед за этим, устыдившись своей дерзости перед умными, образованными людьми, Дежурное Ухо прикусывал язык, заметно покраснев. Он увязывался за нами, когда мы отправлялись перекусить или выпить в кафану или ресторанчик поблизости, но никогда ничего не ел (видимо, из-за стеснённости в средствах), а пил исключительно фруктовые соки. Через него постоянные посетители магазина передавали друг другу записки, он присматривал за их вещами, знал, кто с кем и кто против кого, что кто о ком думает, кто с кем назначает якобы случайные встречи в лавке, у кого любовь рождается, а у кого умирает, какие писатели настаивают, чтобы их книги выставляли в витрине, а каким это всё равно, был он тих, надёжен и молчалив, как памятник.
А может, мы ошибались в отношении его тайного ремесла? Может, брали грех на душу, подозревая этого милого, стеснительного человека, который просто любил наше общество, отдавая нам своё время и внимание и ничего не требуя взамен? Вдруг лавка заменяла ему несуществующий дом, а мы — утраченную семью? Сколько мы спорили об этом, в который раз решая спросить наконец прямо, как его зовут и чем он, собственно, занимается. Дело в том, что, представляясь, Дежурное Ухо всегда бурчал нечто неразборчивое, что-то вроде Ссс-ич, и всем, как правило, было неудобно переспрашивать — не дай Бог, покажешься навязчивым. Наконец как-то под пьяную руку я, обнаглев, отозвал его в подсобку. Он вошёл туда через некоторое время после меня с печально-смиренным видом человека, которого всегда, на каждом шагу ждут одни неприятности.
— Я хочу тебя кое о чём попросить… — сказал я. — У меня тут проблема с продлением загранпаспорта. Надо ехать, а срок истек. Ты не можешь это устроить?
Он страдальчески посмотрел на меня увлажнившимися глазами и спросил:
— Почему именно я?
— Ну… Я подумал, — пробормотал я, запинаясь, — может, у тебя там есть знакомые…
— Ладно, давай паспорт! — сказал он. — Один мой земляк там работает…
На следующий день меня ждал продлённый паспорт.
Вскоре это стало своего рода игрой. Дежурное Ухо нам выправлял новые удостоверения личности, свидетельства о гражданстве, освобождал нас от уплаты штрафов за стоянку в неположенном месте, улаживал дела с судебными исполнителями, доставал всевозможные удостоверения и справки, давал юридические советы.
Потом вдруг перестал приходить. Как сквозь землю провалился. Мы о нем уже почти забыли, когда он снова появился через полгода еще сильнее побледневший и осунувшийся, с отросшей шевелюрой и, к нашему изумлению, в потертых джинсах. Под мышкой у него была толстая голубая папка.
— Дай это кому-нибудь посмотреть! — застенчиво протянул мне рукопись, усаживаясь на свое прежнее место. — Не для того чтоб напечатали, просто хочу услышать чье-то мнение.
Так в который раз подтвердилось, что литература сильнее любого другого ремесла. Сколько генералов и полководцев оставили военное поприще, отдавшись писательской страсти, сколько великих мужей, правивших государствами и делавших историю, посвятило себя писанию мемуаров; есть ли хоть один бывший посол, который не хранит в своем письменном столе хотя бы начало объемистых «Воспоминаний и встреч», какой политзаключенный при первой же возможности не обратил годы своего заточения в страницы бестселлера? Я часто спрашиваю себя, почему они добровольно отказываются от своей полнокровной, деятельной жизни, от власти ради литературной химеры, почему ищут убежища в искусстве, этом единственном утешении для нас, слабых и мягкотелых, у которых никогда не было ничего иного, более реального? Если б я мог жить как хотел, я бы никогда не написал ни слова и, по всей вероятности, ничего бы не читал! Какой дурак станет утыкать нос в страницы, описывающие чужую жизнь, когда его собственная куда интересней и увлекательней? Однако же они, люди, властвующие над этим миром, уверенно распоряжающиеся и своими и чужими жизнями, не могут довольствоваться тем, что имеют; наверное, в какой-то момент на них вдруг пахнёт гнилью грядущего забвения, и они начинают осознавать бренность власти; тогда-то и возникает паническое стремление оставить после себя хоть какой-то след помимо мавзолеев и монументов (кому-кому, а им-то хорошо известна их недолговечность — сколько чужих памятников они сами повергли в прах!); и что же? — упираясь руками и ногами, они пытаются пролезть из бельэтажа в жалкую каморку под лестницей, отведённую литературе, проталкиваясь между фантазёрами, сумасшедшими, скептиками, фанатиками, авантюристами, пасынками судьбы, которых талант обрёк на это бесплодное ремесло. Мы смотрим на них, широко раскрыв глаза, не понимая, чего ищут они в литературе (в которой, как правило, чувствуют себя по-любительски неуверенно), когда им судьбой назначено быть благополучными министрами, дипломатами, судьями, торговцами или полицейскими, одним словом — почтенными гражданами, которым всяк уступает дорогу? И что самое удивительное, все те черты, которые им были присущи на государственной службе, вся та надменность, невероятная уверенность в себе и непогрешимости своих суждений, черно-белое видение мира без тени каких-либо сомнений, всё это перекочевывает в их книги.
Не был исключением в этом смысле и Дежурное Ухо. Разумеется, собиравшаяся в лавке братия, с которой он целых два года не спускал глаз, несёт наибольшую ответственность за его прискорбную метаморфозу. Общаясь с нами и с книгами, он просто не мог уберечься от литературной заразы; он сказал, что уволился оттуда, где работал, и решил всерьёз заняться писательством.
Кто знает, какое новое Дежурное Ухо сменило новоиспеченного литератора на его посту в нашей лавке? Одно или несколько ушей, а может, дело взял в свои руки любитель? Этого мы так никогда и не узнали, но с момента своего превращения в писателя наш старый приятель как бы упал в наших глазах — вот и ещё один сменил своё солидное, серьёзное ремесло на трепологию, на фантасмагорию, на пшик… Зачем ему это понадобилось? Так Дежурное Ухо, общество которого раньше приятно щекотало нам нервы, в одночасье превратился в одного из бесчисленных литературных дилетантов, от которых мы бегали, как от чумы. Поинтересовавшись, на что он теперь собирается жить, я услышал в ответ, что, познакомившись теперь близко с литературной и книжной публикой, он первое время поработает торговым агентом — будет продавать книги в городе, где знает многих, а там, даст Бог…
Я раскрыл голубую папку, которую он мне передал. На первой странице аккуратно отпечатанной на машинке рукописи прочитал:
«ПРОБУЖДЕНИЕ НA ЗАКАТЕ».
Имени автора, однако, не было. Профессиональный вывих. Даже как автор романа он предпочёл остаться анонимным!
23
«…состоится в книжном магазине „Балканы“. Автор подпишет экземпляры своей книги „Абсурд власти“ и ответит над вопросы читателей. Начало в 18 часов»
(«Политика», объявления).Я не люблю представлений новых книг. Всегда что-нибудь стащат с полок. Просто удивительно, до чего эта интеллектуальная элита нечиста на руку! Однако Чубчик и Весна назначили это рискованное мероприятие без моего ведома, так что мне не оставалось ничего другого как согласиться. Впрочем, раз автор на свободе, а книга его напечатана и поступила в продажу, я не вижу никаких причин, по которым он бы не мог её надписывать в магазине, где уже состоялись представления стольких изданий. Конечно, ни Весна, ни Чубчик не знали, кто такой Доктор, вернее, кем он был. Они родились и выросли уже после его падения, потрясшего страну, фотографии его с тех пор не публиковались, а имя не упоминалось. И его самого, и всё, что с ним было связано, начисто позабыли. И когда он через много лет стряхнул с себя наконец паутину официального забвения, напечатав свои мемуары под названием «Абсурд власти», то сразу же покорил этих двоих молодых людей, точно так же, как в своё время покорял широкие массы. Дело в том, что Весна и Чубчик впервые встретились с человеком подобного типа, который, едва перешагнув порог лавки, заполнил собой вcё ее пространство, подчинив его своей мегаломанской натуре прирождённого вождя. Несмотря на то, что его как политика уже давно сдали в архив, Доктор сохранил и горделивую осанку, и авторитетный вид человека, в чьих руках власть. Его хорошо продуманные свинцово-тяжёлые паузы в разговоре заставляли менее искушённых собеседников чем-то заполнять неприятную тишину, выскакивая со своими неуместными замечаниями, уверениями и глубокомысленными выводами, оставляя ему возможность вынести последнее и окончательное суждение о предмете беседы. Мощный бас и громоподобный смех, от которого со стеллажей валились книги, простецкое обращение ко всем на «ты», и дружеское похлопывание по плечу, от которого человек невольно приседал, сочные, со смаком рассказываемые анекдоты, в которых упоминались известнейшие люди эпохи, всё это в сочетании с авантюрным довоенным прошлым боксера-тяжеловеса и, естественно, пересыпание своей речи словечками из уличного жаргона, знание пяти-шести языков и открытое лицо гладиатора, испещрённое шрамами, притягивали всякого, оказавшегося в магнитном поле его неотразимого обаяния. Ореол поверженного памятника (о чём, казалось, напоминал даже сломанный нос) и затаённая неистребимая убеждённость в том, что он стал жертвой исторический несправедливости, которую сносит безропотно, оставаясь до конца верным своему жизненному предназначению, поза некоего антигероя заставляли всех в его присутствии чувствовать себя в чём-то виноватыми: то ли в том, что предали его своим молчанием, когда всё случилось, то ли в том, что даже не предприняли в знак протеста пoпытки самосожжения на площади Республики. По тому, как он без всяких усилий, в два счёта обработал моих молодых помощников, которые чуть ли не сами предложили ему устроить представление мемуаров, вне себя от счастья, что им доверено столь ответственное дело, можно заключить, что его всем известное обаяние не утратило силы. С другой стороны, как я уже сказал, Весна с Чубчиком принадлежат к поколению, выросшему в совершенно другое время, чем я; их восхищение Доктором — результат неосведомленности, простого недостатка сведений о людях и времени, когда новоиспеченный мемуарист был безжалостным вершителем судеб.
Современный доктор Джекил и давно ушедший в мир иной мистер Хайд могли бы написать действительно блестящие мемуары, работай они вместе. Но… мистер Хайд погрузился во мрак амнезии, а Доктор Джекил ни разу не вспомнил о нём на всех шестистах страницах — в книге он описывал исключительно солнечную сторону своей жизни, избрав смешанную форму мемуаров — социологического эссе-дневника-памфлета, чтобы поведать о том, что проделывали с ним, ни словом не обмолвившись о том, что творил сам. Доктор — разочаровавшееся дитя движения, фанатичный проводник определенной идеологии, некогда всеобщий любимец и активный деятель — обнажил во всех подробностях скрытый механизм власти, частью которого был сам, выставив себя жертвой.
Всё, собственно, началось довольно безобидно, когда товарищи послали перспективного Доктора в Соединенные Штаты на стажировку. До этого, Доктор несколько раз бывал за границей, в основном в восточноевропейских странах, и лишь однажды в Триесте, когда он ещё был разделён на зоны. Один его современник рассказывает, что в то время действительно верили, будто Запад заваливает Триест апельсинами, шоколадом, виски, бананами и кофе исключительно в пропагандистских целях, чтобы пустить пыль в глаза соседней Югославии, в то время как Рим, Венеция, Париж, Лондон, Нью-Йорк и остальные капиталистические города кладут зубы на полку. Как бы то ни было, через три года доктор возвратился из Гарварда бледный, но с горящим взором и стал публиковать свои странные статьи, которые вначале никто не принимал всерьёз, но лишь до той поры, пока из-за них не стали возникать крупные недоразумения. C ним несколько рас беседовали откровенно, по-товарищески, но Доктор, резкий и бескомпромиссный в тот период своей жизни, который успешно вычеркнул из памяти, остался таким же в отстаивании неприемлемых для его окружения взглядов. Он терял один пост за другим и наконец был насильно выпихнут на пенсию. Всё это описано в «Абсурде власти». Его бывшие товарищи направили к нему своих посланцев, чтобы те попробовали убедить Доктора не публиковать книгу (о чём по городу уже несколько недель ходят слухи), но он снова гордо отказался, твёрдо решив до конца нести свой крест, серп и молот.
Весна и Чубчик, разумеется, не знали, что ни один книжный магазин в городе не согласился организовать представление его книги, от которого он многого ждал, я же в то время, когда они договаривались об этом мероприятии, отсутствовал — разгребал пыльные залежи на книжных складах в поисках редких изданий.
Впрочем, их суетные проблемы были так далеки от меня! Надо сказать, что в то время все книги, в особенности политические, вызывали у меня глубокое отвращение. Имелись куда более серьезные темы для раздумий. «Кого-то она теперь целует?» — этот вопрос был лейтмотивом моих тогдашних пустейших дней, он возникал каждый вечер из опорожненной бутылки рислинга подобно джинну в «Тысяче и одной ночи».
24
В августе сорок седьмого я стоял в почётном карауле перед трибуной, на которой находился Доктор с товарищами. Один мальчик потерял сознание от солнечного удара. Он упал лицом вниз. Его место сразу занял другой мальчик с красным пионерским галстуком. Он был счастлив, что ему предоставилась возможность постоять в почетном карауле. На пыльном асфальте перед нами осталось маленькое пятно крови из носа. Кое-кто из ребят описался, стоя два с половиной часа по стойке «смирно», пика Доктор произносил речь, а усилители в разных концах площади отзывались вразброд запоздалым эхом, дробя его надтреснутый, жестяной голос. Никто не думал, что он будет говорить так долго, но, что бы ни случились, наставляли нас пионерские вожаки, мы должны стоять «смирно» всё время. На нас смотрит всё прогрессивное человечество! Мы должны помнить каково было нашим отцам и старшим братьям, стоявшим насмерть, до последней капли крови! Мальчик рядом со мной плакал от унижения и стыда, чувствуя, как моча стекает по его худым ляжкам. Эта давняя картина пахнет пылью, аммиаком и потом. Мне писать не хотелось. Я воображал себя стоящим насмерть, до последней, самой что ни есть последней капли крови. Только через мой труп враг сможет добраться до обожаемого Доктора! Я был готов погибнуть за него! Потом он надолго куда-то исчез. Я в то время не читал газет и поэтому не мог знать, что он навсегда сошел с трибун на улицу.
— Ты прочел? — спрашивает меня Доктор через тридцать четыре года в моей лавке.
Он говорит мне «ты», я ему — «вы». Я не формалист, однако чувствую себя при этом в несколько подчиненном положении, словно бы в роли прислуги. Интересно, как бы он воспринял, обратись я к нему тоже на «ты»? B этом «ты» кроется два психологических варианта: товарищеское, мужское ТЫ единомышленников, людей одного круга извлекается, когда нужно, из футляра взамен другого, пренебрежительного ТЫ, которым определенный сорт людей пользуется при обращении к крестьянам, носильщикам, лифтёрам, таксистам, словом, к тем, кто ниже их по званию, независимо от возраста. Для меня унизительно это словно извечно заданное соотношение двух наших карм, как будто ничего не изменилось за все эти годы, и я снова стою в почетном карауле перед трибуной, с которой вещает Доктор, и так будет во все времена. Я принимаю его «ты», оправдывая его перед самим собой тем, что он почти на тридцать лет меня старше.
Да, этот образ знаком мне с детства. Но прежняя воистину легендарная сила как будто растаяла, можно представить, как его одряхлевшие мышцы и кожа висят на гигантском скелете, подобно старому, ставшему слишком широким костюму на похудевшем толстяке, который слишком долго сидел на диете. Крупные, поблекшие глаза смотрят на меня откуда-то из сумрака истории. И хотя держится он по-прежнему властно, в этих глазах с темными, синеватыми обводами от долгих ночных бдений и бессонницы то и дело мелькает неуверенность человека, не решающегося перейти дорогу из боязни, что вот-вот зажжется красный свет.
— Прочёл…
— И как тебе кажется?
— Вы действительно хотите, чтоб я вам сказал?
— Не бойся, переживу!
— Да нет, не в этом дело. Книга — настоящая бомба, только…
— Только?..
— Всё дело в том, чего нет в книге.
— Что ты имеешь в виду?
— Ну, если вы настаиваете… вашу странную метаморфозу. Как получилось, что вы… вы…
— Не стесняйся: сатрап!
— Я не это хотел сказать!
— Подыскиваешь слово помягче?
Зачем он наседает? Ситуация мучительная и тягостная для меня, я в неловком положении, и он явно сознает свое преимущество. Кто, уважающий себя, станет бить лежащего? Между тем этот вроде бы поверженный победитель легко может ударить ногой в самое чувствительное место. Может вытащить из рукава велосипедную цепь и выбить глаз противнику. Может всё, потому что у него преимущество. Преимущество всегда на его стороне. И когда он на трибуне, и когда на улице.
— …вдруг до того переменились, что вам стало не по нутру то, что вы сами же и создали. Ведь не я, простите, строил это государство, тут исключительно ваша заслуга!
— Ты не допускаешь, что люди могут меняться?
— Допускаю… — сказал я. — Например, Пикассо, переходящий из голубого периода в розовый, а затем увлекающийся фовизмом и кубизмом… Только при этом никто не страдал, кроме него самого! Ваше же превращение многим дорого обошлось!
— Разве я не заплатил за это? Разве за это уже не заплачено?
Он словно постарел на моих глазах. Я заметил, что у него из ушей и ноздрей пучками белой травы растут седые волосы. Мы стояли совсем близко друг от друга, и мне была хорошо видна рябая кожа его воскового лица, как будто уже тяготеющего к земле-матушке, как прах к праху; большие кисти рук заметно дрожали; одежда его выдавала полное равнодушие к впечатлению, которое он производит; словом, был он помят и потаскан, и в руках держал последнее, что осталось у него от жизни, — свои мемуары. Так, больной, не зная, что делать с апельсином, который принесли в больницу родственники, вертит его в руках, поглаживает пальцами. Да простит его Бог! А я ему — не судья!
— Разве за это не заплачено?
Я выдержал его стопудовую паузу, дождавшись, когда он сам продолжил:
— Ладно! — сказал он полушепотом. — Я никому не давал спуску, а знаешь почему? Чтобы ты мог сегодня от этого воротить нос! Революция — не дискуссионный клуб. Она жестока… Представь себе, нам приходилось и сажать, и убивать! Это было ужасно!
Его прорвало, и я вдруг услышал тот прежний, уже забытый саркастический тон, о котором мне рассказывали очевидцы, слышавшие его в своё время, вернее сказать, на себе испытавшие припадки ораторской истерии Великого инквизитора (Голос его, говорят, тогда переходил из баса в фальцет), который теперь отлучённый, лишённый всех чинов и званий, сидит рядом со мной в лавке, как обычный беззащитный смертный, без ризы былого могущества. И именно это вызывало во мне сильнейшее раздражение, мешавшее быть терпимым и всепрощающим, милостивым к поверженному, — он как наказание воспринимал тот факт, что после всего оказался одним из нас с улицы, что больше не находился там, на трибуне, перед которой пионеры стоят, вытянувшись по стойке «смирно», всё то время, пока он выступает перед толпой, массами, народом столько, сколько считает нужным, не задумываясь над тем, интересно ли, умно ли и нужно ли кому-нибудь бесконечное патетическое пережёвывание одних и тех же общих мест… Он явно воспринимает это как наказание! Стало быть, и я, и все мне подобные несём такую кару всю жизнь, сами того не сознавая! Быть ровней нам — для него, ясное дело, самое несправедливое из всех возможных наказаний, в знак протеста против которого он даже написал книжищу в шестьсот страниц! O Господи!
— Должен вам заметить, — сказал я, — что из-за ваших частых метаморфоз кое-кто лишился и головы, без всякой, кстати, вины. Вы превысили пределы необходимой обороны — не все были врагами. Чем вы за это заплатили?
Выражение лица его изменилось, он посмотрел на меня, как отец иногда смотрит на сына, завидуя его наивности и в то же время боясь за него, ещё не узнавшего тёмных сторон жизни.
— Чем? — переспросил он как бы про себя. — Чем?
Он стал рыться в глубокой кожаной сумке, лежавшей у его ног, набитой папками, газетами и брошюрами. Извлёк из неё книгу в матерчатом переплете, раскрыл и ткнул пальцем в какую-то фотографию. На фотографии было человек десять мужчин и женщин за длинным столом, задрапированным какой то тканью (по всей видимости, зеленым сукном); они стояли и, улыбаясь, смотрели на что-то, явно радовавшее их взоры. Это была одна из тех первых послевоенных фотографий, которые при увеличении для печати словно подергиваются мелкой рябью; чувствовалось, что этих людей что-то крепко связывает, что это одна компания, которая только что выбралась из благополучно закончившейся передряги, — молодые, худощавые, с туго натянутой кожей на выступающих скулах; хотя они прошли войну (об этом говорили гимнастерки, из-под которых были дерзко выпущены воротники рубашек, остроугольные по тогдашней моде), лица их сохранили какую-то детскую невинность, особенно лица мужчин; женщины были очень молоды, ремни перетягивали их упругие, соблазнительные груди; несмотря на строгие прически — волосы коротко подстрижены или собраны в пучок на затылке— трудно было отделаться от впечатления какой-то скрытой эротики; их женственность выпирала из-под военной формы, это были вооружённые властительницы жизни и смерти, а может быть — кто знает? — и любви; амазонки, одержавшие победу над какими-то другими мужчинами (вспомнилась песенка времен войны: «Ай да Анка-партизанка, ей гордится весь отряд! Ай да Анка, ай да Анка — ей сам чёрт не брат!»). Так они стояли и улыбались истории, которую делали, которую переиграли и теперь крепко держали в своих молодых руках, опалённых порохом, как дети в книге «Тимпетил — город без родителей», запечатлённые объективом какой-то трофейной «лейки», снятой с убитого немецкого офицера…
— Угадай, где здесь я? — сказал Доктор, не выпуская раскрытой книги из рук.
Я стал внимательно вглядываться в лица; но найти его не смог, поэтому остановил выбор на наиболее похожем, третьем справа, сравнив его костистое лицо с изжелта-бурой физиономией Доктора в обвислых складках кожи, пропитанной дымом бесчисленных сигарет.
— Вот! — сказал я, показывая пальцем на молодого здоровяка на фотографии.
— Не угадал! — засмеялся он. — На этой фотографии меня нет! Нет вообще!
Я не существую! А ведь я стоял там! Вот здесь, на этом самом месте…
Разве это недостаточная плата?
В месте, которое он мне указал, на втором плане находилась невысокая бутафорская античная колонна, и хотя люди стояли тесно, чтобы все попали в квадрат фотографии («Поплотнее, товарищи, поплотнее», — командовал их приятель, молодой фотограф), между ними образовалась нелогичная, странная пустота, нарушавшая мизансцену близости; не уверен, правда, что я бы сам заметил её, но теперь, когда Доктор обратил мое внимание на зияющий промежуток между стоящими, его необъяснимое исчезновение казалось пугающе очевидным, несмотря на то, что колонна за головами компании была умело продлена до самой столешницы и оттенена удачно положенной ретушью.
— Они допустили маленькую оплошность! — сказал доктор радостно. — Забыли мою руку! Погляди, вот она…
В самом деле, одна рука без туловища судорожно сжимала пару кожаных перчаток, ухватившись за них, как за соломинку, в панической попытке уберечься от кисти ретушёра. (Сосед невидимого Доктора, таким образом, получил дополнительную третью руку.) Несколько раз я испытывал похожее ощущение при взгляде на любительские фотографии неба, самые обыкновенные снимки, сделанные случайно из окна или автомобиля на пустом шоссе. Меня охватывал безотчётный страх: хотя на первый взгляд на фотографии не было ничего, кроме неба, вглядевшись, можно было заметить, как в облаках, точно играя со зрителем в прятки, парит нечто вроде негатива тени, нечто белесое и воздушное, до жути напоминающее правильную форму латающей тарелки. Такое же ощущение неясной угрозы вызвала во мне эта никому больше не принадлежащая рука, хозяин которой таинственным образом исчез без следа…
— Откуда вы знаете, что это ваша рука? — пробормотал я.
— Часы! — ответил он спокойно и закрыл книгу. — У меня одного тогда были часы!
25
Я соврал Доктору, сказав, что прочитал его мемуары, я их лишь перелистал. Правда, попытку одолеть «Абсурд власти» сделал, но, к сожалению, это оказалось невозможным. Я спрашивал себя, куда девался весь его блеск и убедительность, сочный язык, весёлый нрав, всё то, что его делало тем, кем он был, куда всё это испарилось, стоило ему взяться за перо, которое оставило на бумаге одни бесцветные слова, сухие мысли, решения, заключения, циркуляры, жалобы и упрёки, петиции, высказывания «за» и «против», заявления, скучные цитаты, отрывки из дневников, кошмарные сны? Каким вздором все это покажется в один прекрасный день! Сколько напрасных усилий, чтобы не сказать ничего! От человека, прожившего такую бурную жизнь, несомненно, можно было бы ожидать чего-то куда более интересного, чем эти куцые, наполовину зашифрованные телеграфные записи, за которыми якобы кроется какой-то глубокий смысл. Просто удивительно, как революционер, человек, перестраивавший мир, может писать так дубово и пресно!
«Приехал в М. Беседовал с C. Ш-ом о М-е. Интересно. Прекрасный товарищ! Поужинал со Зденкой. Выехал в П. Комиссия СКЦТ. Острая дискуссия о левых, превращающихся в правых. Приехал К. и привез письмо от Славко. Ж. передаёт привет. Читал Ленина в дворцовом парке. Какая сила и актуальность! Троцкий? Да или нет? Поздняя осень. В парке повстречал С., который здесь проездом. Он сделал вид, что меня не видит. Вспомнился случай в Л-e тридцать лет назад. Как меняются люди! Где-то теперь П.? Надо перечитать Гегеля. Написал письмо Д-у. Вернулся в Р. Беспокойная ночь. Всё чаще снятся ленивые дравские волны… Задушенная длинным белым шарфом из тюля М. в лодке, где на вёслах в маске сидит Е. K., вплывает в з-ский затопленный кафедральный собор, перед которым стоит А. Г. М. Утром лёгкая инфлюэнца, Врач прописал отдых и покой…»
Интересно, читают ли когда-нибудь подобные индивиды в клозете, как все люди? Мне что-то не приходилось встречать упоминания об этом даже в самых интимных дневниках или мемуарах, которыми лавка в последнее время просто завалена. А как было бы здорово наткнуться на что-нибудь вроде:
«Читал, сидя в сортире, пятый том М. К. В том бесподобном месте, где говорится об отчуждении главного героя, наконец-то шмякнулось толстой колбаской долгожданное Г., от которого я не мог освободиться со времени поездки на симпозиум в Л. Какое облегчение! Превосходный стиль! Превосходное Г. средней консистенции. Какое-то время пребывал в блаженной расслабленности…»
А их сны! Они напоминают мне оформленные в сюрреалистическом духе витрины универмагов перед началом сезона. Всё, что не решаются сказать в состоянии бодрствования, суют в них. Никому никогда не снилось ничего похожего на поллюцию. Никто никогда не занимался во сне тем же онанизмом. Даже погружаясь в сон, авторы мемуаров всегда остаются безупречными гражданами, правда, с несколько более широким кругом ассоциаций.
Какой бы свежестью повеяло от любого искреннего пассажа! К примеру:
«Провел сеанс на тему B. и её подруги C. Они купали меня в ванне в „Эксельсиоре“, а потом я мылил им шерстку. Их очаровательное, совершенно естественное бесстыдство подействовало на меня возбуждающе. Я фонтанировал, как гейзер. Потом лежал между ними, и мы болтали о сперме, размазывая ее по нашим телам. Сколько неродившихся детей, в то время как стерильные и бесплодные воют безутешно над дохлыми сперматозоидами! Какая жалость! Одной этой порции хватило 6ы, чтобы заселить детьми какой-нибудь остров. Республика Утопия братьев и сестер по сперме! Утром легкая инфлюэнца. Через три дня начало легкого триппера. Доктор порекомендовал мне пока что не купаться в одной ванне с B. и C. Надо было бы провести ещё сеанс на эротические темы маркиза де Сада. Чем больше думаю о нём, все сильнее укрепляюсь в мысли, что он был настоящим садистом…»
Порой я и сам удивляюсь, откуда у меня, какого-то книготорговца, столько нахальства, чтобы считать большинство подобных книг самым натуральным дерьмом? И всё-таки мне это кажется позволительным, хотя, убей Бог, не могу сказать почему. Достаточно ли обладать тонким вкусом или каким-то особым шестым чувством, чтобы получить это вонючее право принимать не всё из того, что, по мнению остальных, достойно величайших похвал? Не знаю. Но я чувствую это своё право! Беда в том, что я не могу представить ни одного доказательства своей исключительности, кроме тех давних статеек, разбросанных по литературным журналам и газетам; ведь и то, что я написал, так никогда и не обрело никакой пристойной обложки (если не считать той коробки из-под ботинок на шкафу, в которой желтеют старые газетные вырезки); я не оставил после себя никакого следа, ничего не выдумал, ничего не открыл, не сказал никакого нового слова, которым было бы отмечено время и литературный процесс, ничего! Не смог даже набраться смелости и терпения, чтобы закончить исследование о Шломовиче и перепечатать свою жалкую тетрадку, как этот сумасшедший Доктор, который хоть задницей силён — высидел-таки аж шестьсот страниц сплошного текста. Всё же я слишком часто беру на себя смелость называть ту или иную книгу барахлом, а после ещё удивляюсь когда другие говорят, что я много о себе думаю, что на всех смотрю свысока, когда таят на меня обиду из-за того лишь, что я сказал им правду, ту самую правду, которую чувствуют и сами, только боятся признаться в этом даже себе. Впрочем, что есть правда? Сказать горбуну, что он горбат и что скоро умрёт, о чем красноречиво свидетельствует цвет его лица, или с ободряющей улыбкой заметить: «Вы сегодня великолепно выглядите!» Нет, дело, конечно, не в правде, моя беда, видимо, в том, что люди чувствуют, какое отвращение у меня вызывают многие вещи, которых я просто не принимаю, а ведь такую роскошь могут позволить себе лишь те, кто имеет доказательства своей исключительности. Я бы мог написать об этом книгу еще потолще, чем мемуары Доктора. Только зачем? Разве не сказал Лоренс Даррел в «Александрийском квартете» (NB: послать Лене!) прекрасные слова о том, что все великие книги — это погружение в жалость?
26
«Вы знаете, я никогда не пытался и не пытаюсь отрицать, что являюсь тем, кто я есть! Что поделаешь, кому нравится поп, кому попадья, а кому попова дочка! Но вы же знаете наш примитивный народ и можете представить, как оно было зимой сорок четвертого, когда и на нормальных-то любовников смотрели косо (время пуританства), а что уж говорить про нас, „извращенцев“… За это самое тогда запросто могли шлёпнуть. Да, да не смейтесь, вам это сегодня, может быть, смешно, потому что вы не помните тех лет, но всё же вам бы следовало знать, что первые переводы Пруста и Жида смогли увидеть свет лишь десять лет спустя, не говоря уж о бедняге Жане Жене и Кокто! Так вот, когда меня вышибли из театра, я остался без гроша за душой, даже продуктовые карточки отобрали! Вы знаете, это было ужасно, просто ужасно, можете мне поверить! Я голодал. Голодал в буквальном смысле слова. Потом один знакомый посоветовал обратиться к этому вашему… Доктору. Он вроде как был ответственным за нас — актеров, певцов, художников и остальную шатию; мы знали друг друга в лицо и здоровались на улице; Белград до войны был маленьким городишкой, почти все друг друга знали; я подумал: интеллигент, изучал право, пусть даже не закончил, должен понять, хоть он и их человек! И вот в один прекрасный день я отправился к нему, туда… туда, где он работал. Пошел… ну да, просить помочь, чтобы меня взяли назад в театр, я же никого не убивал, не доносил, не предавал, а у нас до войны столько коммунистов бывало, и обедали, и ужинали. И хотя люди искусства боязливо обходили тот дом стороной, я решил: будь что будет! Я был готов на всё. Абсолютно на всё. Он меня не принял. Перед дверью стоял молодой статный солдат с автоматом на груди, собой до того хорош — с ума можно сойти! Он доложил обо мне, но тот не принимает. Я приходил целую неделю каждое утро, и наконец на седьмой день он смилостивился. Я слышал, как он приказал этому пареньку: „Впусти его!“ И он меня впустил. „Здравствуйте!“ Думаете, он поздоровался? Сидел за огромным столом и читал газету, с головы до пят в черной коже: кепка, кожаное пальто до пола, ремень, сапоги — всё при нём! И ни слова! Мне стало так не по себе… На столе перед ним лежал пистолет без кобуры (его дуло, знаете, всё время смотрело на меня) и почему-то линейка! Я до сих пор не могу понять, зачем там была линейка? Не знаю, хоть убейте! Я стоял посреди комнаты, пока он, всё так же уткнувшись в газету, не процедил сквозь зубы: „Говори!“ И я стал рассказывать ему о своих бедах, постарался объяснить, что театр для меня всё, в нём вся моя жизнь, и, может быть, он в силах мне помочь, потому что как культурный человек понимает, что иначе меня лучше просто сразу убить, поскольку без сцены я и так мертв. Он всё это время молчал, уставясь мне в глаза, а потом вдруг неожиданно вытащил из стола средний, самый большой ящик и, не говоря ни слова, бросил его через всю комнату мне под ноги, да так, что он развалился на куски, можете мне поверить, и из него высыпалась куча газетных вырезок, фотографий, театральных афиш, программок, чего там только не было, и всё это, представьте, о моих спектаклях! Даю вам честное слово, я и не подозревал, что обо мне во время оккупации столько писали! Я, правда, играл одни заглавные роли: Зигфрида в „Нибелунгах“ (прекрасная была постановка!), потом в „Счастливых днях“ играл, в „Джидо“, в „Разбойниках“ Шиллера, всего уж и не упомню! Были вечера, когда занавес поднимался и опускался раз по пятнадцать, что-то невообразимое! Я встал на колени и начал было перебирать все эти фотографии, рецензии, а этот ваш Доктор, как рявкнет: „Положи!“ — я и положил, что мне еще оставалось, а он уставился на меня этими своими дьявольскими глазищами так, что у меня даже ноги подкосились, и спрашивает, кто был в зале, когда я играл все эти спектакли? А откуда мне знать кто? Я же не билетёр! Я артист! Актер! А дело актера — играть, и только! Публика как публика! „Немцы были твоей публикой, педераст вонючий! — заорал он внезапно, отчего у меня мороз по коже побежал. — Фашисты! Ты, сука, фашистам играл!“ Он выскочил из-за стола или через него перемахнул, я уж теперь и не помню, этакий верзила, и хвать меня вот так за грудки: поднял в воздух, как перышко, я и вздохнуть не мог, глядит в упор, а глаза у него, Боже мой, я до конца дней эти глаза не забуду, и вопит: „В то время как мы кровь проливали, ты для фашистов играл, гнида!“ Я на это что-то забормотал, дескать, и сам бы ушел в партизаны, да не мог, а он рычит: „Это почему же, почему ты не мог?“, на что я попытался объяснить, что меня не пустила мама. „Она меня, знаете, с детства ни на шаг от себя не отпускала!“ — говорю ему, по-прежнему вися в воздухе. И тогда он меня вышвырнул через стеклянные двери, вот так вот взял и швырнул; я вылетел сквозь них (причем, что удивительно, ни одно стекло не разбилось, представляете качество?) и прямо на того солдатика, эту конфетку, который меня холодно оттолкнул так, что я скатился с лестницы и хлопнулся в пыль. И перед кем! — представьте: как раз перед моим бывшим директором театра, который, видно, шёл к Самому с докладом! Думаете, он остановился? Какое там! Мимоходом только вот так поддал мне рукой. С тех пор я с ним не здороваюсь! А все же я, как говорится, в рубашке родился: при всём при том не получил ни единой царапины! Идиот! Потом читаю в газете: и ему указали на дверь, и он стал врагом! Как говорит моя мама: „Сегодня князь — завтра мразь!“ А меня, представьте, снова приняли в театр — у них там некому было играть гнилых аристократов — классовых врагов… Но это уже было не то. Что-то во мне надломилось, я ушел в себя… Мама моя, слава Богу, ещё жива и в здравом уме, хотя весной девяносто стукнет. Живем хорошо, несмотря на трудные времена, я понемногу занимаюсь аранжировкой цветов, есть у меня ёж и хомячок, развожу птиц и, вы знаете, я счастлив. Заходите как-нибудь на чай. Мама будет рада…»
27
Сегодня здесь все: и давно побеждённые, раз и навсегда сошедшие со сладостной карусели власти, и другие, столкнувшие первых, чтобы потом и их вышибли из игры, и третьи, полные оптимизма, которым только предстоит принять участие в старом, как мир, действии, сперва в качестве статистов, а затем и главных действующих лиц, которых ничему не научила судьба их предшественников. Тут же и те, кто ни во что никогда не лезут, но любят поглазеть на чужую беду; случайные покупатели и прохожие, привлеченные толпой у входа… Здесь же, само собой, и неопрятные молодые интеллектуалки, не заботящиеся о своей внешности и не пользующиеся косметикой, чтобы подчеркнуть своё презрение к благопристойному обществу, в котором, однако же, непрестанно отираются. Стоит их кому-нибудь прижать в укромном уголочке, и они вмиг забудут и политику, и литературу и замурлыкают кроткими домашними кисками, мечтающими о замужестве.
В лавку набилось человек сто. Ещё столько же осталось снаружи. С десяток возмущенных откликов в газетах, два обсуждения па телевидении с участием общественности, фрагменты политических выступлений на различных собраниях и заседаниях, посвященных «Абсурду власти» и его автору, создали книге невероятную рекламу. Воздух липкий от пота и каких-то на редкость вонючих духов. Дышим дымом.
Доктор стоит посреди лавки и надписывает экземпляры своей книги. Чубчик и Весна работают за кассой. Высокая стопа мемуаров Доктора тает с каждой минутой. Он спокойно закрывает ручку, снимает очки и прячет их в карман, потом медленно обводит присутствующих гордым взглядом человека, которому случалось иметь дело и с куда более серьёзными противниками.
В таких случаях кто-то обычно громко хлопает в ладоши, чтобы обратить внимание публики на оратора, чаще всего какого-нибудь критика или публициста, который представит автора в самых лестных выражениях, как будто он уже давно умер. Сам же автор при этом будет, скрестив на груди руки, скромно смотреть на носки своих ботинок, принимая похвалы со спокойной сдержанностью человека, которому, конечно, немного неудобно, что его так превозносят, но, с другой стороны, он это без сомнения заслужил. В конце писатель и критик сердечно жмут друг другу руки (иногда даже облобызаются трижды в обе щеки), а потом писатель отвечает на вопросы присутствующих. Сегодня, однако, никто не хлопнул в ладоши, потому что ни один из критиков не согласился представлять «Абсурд власти»; все стояли и смотрели на Доктора, не знавшего, как ему начать, и никто не решался ни о чём его спрашивать. Это была одна из тех долгих, неприятных пауз, которые могут выдержать лишь сильные, уверенные в себе люди или мазохисты.
Разбуженный тишиной, я очнулся от дремоты, оставил на время Лену (а может быть, она была тут, в толпе, и ждала, что я что-нибудь предприму?) и, вынырнув из хмельных паров прямо в гуще происходящего, увидел около сотни людей, которые неподвижно стояли, уставясь на Доктора, также, казалось, потерявшего дар речи. То ли он вдруг испугался долгожданного момента истины, оказавшись лицом к лицу с будущими читателями? Не знаю. Они стояли, не шелохнувшись, как в детской игре «замри — отомри», будто в ожидании принца, который освободит их от чар зловредной колдуньи и вытащит из задницы усыпляющие колючки. Тишину, долгую, как вечность (пользуюсь избитой метафорой за неимением лучшей), внезапно прервал звучный, внушительный голос:
— Что здесь происходит? Что за комедия? Где организаторы?
По толпе прошёл гул. Древним животным инстинктом она, похоже, почувствовала опасность! Из людской массы, зажатой между книг, послышался одинокий выкрик:
— А ты кто такой?
Остальные подхватили:
— А какое твоё дело, кто организатор?
— Кто тебя послал?
— Я из редакции «Журнала» и ещё раз спрашиваю: кто организатор?
Я наконец обнаружил, кому принадлежит этот строгий начальственный голос. Его обладатель стоял прямо против Доктора; обращаясь ко всем, он смотрел в упор на него. Крепкие, гладко выбритые скулы, крупное молодое тело на грани полноты, стянутое новым костюмом, жилетом и галстуком с широким нахальным узлом, жёсткие, коротко подстриженные волосы, чей аккуратный, ухоженный вид не допускал и мысли о декадентской взлохмаченности, — Он жутко походил на самого Доктора — и ростом, и твёрдой решимостью дать отпор толпе, какой бы многочисленной она ни была. Вся фигура молодого человека, державшего под мышкой свёрток газет, дышала каким-то конструктивным здоровьем: товарищ был явно доволен и собой, и миром, к которому принадлежал и который в данный момент представлял; к тому же выпала редкая возможность разоблачить змеиное вражеское гнездо: коварных «голубых» во время противоестественного акта, анархо-либералов, целующихся лесбиянок, анархистов, уже прилаживающих запалы к своим чёрным, круглым бомбам, третьеклассников, занимающихся онанизмом в сортире… Казалось, что и он, и Доктор сделаны из одного добротного материала, из которого делают людей, способных крепко держать в руках и свои и чужие жизни. Если бы волею судьбы этим вечером в лавке молодой человек не должен был выступать против него и его мемуаров, Доктор мог бы быть доволен, что его порода не исчезла, что есть у него наследники на этой земле — живёт агрессивное племя и множится, несмотря на все исторические перемены, потому что дело тут не в идеологии, а в особом складе ума, который, как известно, так медленно, так ужасно медленно меняется. Доктор, правда, уже давно попытался отречься от своего племени — одухотворенный самообразованием, размышлениями, сомнениями, путешествиями и опытом, он больше не желает участвовать в том, у истоков чего сам же стоял, не отказываясь, разумеется, от своей исключительности — той первой детали духовного одеяния, которую человек должен раз и навсегда отбросить, прежде чем вступить в храм благородной терпимости. Молодой же человек ещё даже не приблизился к этому священному порогу. Его налитое кровью лицо, напрягшееся, со вздувшимися мышцами, точно изготовившееся к прыжку тело произвели ужасающее впечатление на Весну и Чубчика, в один миг позабывших про свою небрежную позу подражателей французских букинистов: застигнутые врасплох, они буквально оцепенели от какого-то атавистического страха. Балканы ворвались в стеклянные двери книжной лавки того же названия, и мои помощники стояли, совершенно растерявшись, среди обломков своего детского садика.
— Не цепляйся, пусть Доктор говорит! Не твоя же книга! — крикнул кто-то, скрытый анонимностью толпы.
— Мы не тебя пришли слушать!
— Не нравится — вали отсюда…
Молодой человек побледнел от ярости:
— Ни одна редакция в городе не поставлена в известность…
— Объявления надо читать, как все люди делают.
— Я звонил в дирекцию «Балкан»! Там никто понятия не имеет о том, что происходит в их магазине!
— Ну и что?
— Как это «ну и что»? Я спрашиваю, кто организатор, потому что собираюсь писать об этом… Это мое право!
Я увидел цепочку возбужденных лиц, потом бледную физиономию Доктора; его пальцы судорожно сжимали переплёт «Абсурда власти». На губах его я прочитал немой приказ: «Убрать!» Случись такое лет тридцать назад, нахал очутился бы за решёткой ещё этой ночью. В спёртом воздухе гроздью повис унизительный страх. А мне это твёрдое, благонадёжное лицо без тени сомнения, слабости или порока вдруг показалось воплощением всего, что я ненавижу: может статься, Лена как раз с таким вот предала меня и мой мир, бросила одного здесь, в этом магазине игрушек для взрослых, которым нравится забавляться красивыми сказочками, перешла на какие-то другие орбиты, где вращаются сильные, предприимчивые мужчины-бойцы, а не слабаки и мечтатели. Нет, я не был на стороне Доктора, я вообще не был ни на чьей стороне; как уже сказано, эти двое принадлежали к одному типу людей, которых остальные живые существа не интересуют иначе, как в роли послушного им войска, у власти ли, в оппозиции ли, им всегда необходимо быть окружёнными свитой. Молодой человек был именно из этой когорты, он заскочил сюда мимоходом, чтобы всех нас унизить и показать, какие мы все в сущности ничтожества. И вот тогда я, всю жизнь искавший утешения в высокомерном цинизме или презрительном молчании, понял в одно мгновение (перед глазами мелькнула убегающая Лена с распущенной гривой каштановых волос), что есть куда более удачные способы выражения отчаяния, чем прыжки с двенадцатого этажа или участие в локальных войнах в Азии или Африке; вот она, эта возможность — сама плывёт в руки. Подгоняемый рислингом и бесшабашным «почему бы и нет, чёрт возьми?», я выбрался из своего мягкого, прогнившего капкана, который сам же себе поставил, и в полной тишине взял всю ответственность на себя.
(Лена, я иду! Ты видишь, как я падаю и, падая, ору твоё имя!)
— Я!
Он повернулся ко мне. Мое заявление его явно обескуражило. Остальные тоже повернули головы. Я прочитал в их глазах радость, оттого что они не на моём месте. Однажды очень давно я уже видел это выражение глаз, когда директор перед всем классом зачитал постановление о моем исключении из гимназии без права поступления в другую.
— Ну и что теперь? Ты доволен?
По лицу его скользнула едва заметная тень неуверенности. Он ждал, что вызов примет равный противник, кто-то из его же породы, а вместо этого оказался лицом к лицу с представителем плохо знакомого ему вида, чуть ли не пришельцем из космоса! Мы стояли, глядя друг другу в глаза, и я, не отрывая немигающего взгляда от его горящих ненавистью зрачков, тихо сказал:
— В гляделки не тебе со мной тягаться! Я был абсолютным чемпионом улицы… Еще вопросы есть?
Подобно благодатному весеннему дождю по лавке прокатился смех облегчения.
— Раз ты организатор, значит, ты и будешь представлять «Абсурд власти»? — спросил он злорадно, отступая в гущу толпы.
— Буду! — сказал я. — И чтобы ноги твоей здесь больше не было!
Нагнувшись, я вытащил из-за кресла припрятанную бутылку вина, налив полный бокал, осушил его за здоровье всех присутствующих и произнес первую в своей жизни речь о книге, которую лишь мельком пролистал, думая при этом только об одном: услышит ли обо всем этом Лена?
28
«В августе 1947 года я стоял в почетном карауле перед трибуной, на которой был Доктор с товарищами. Вы помните, Доктор, мы стояли в трех метрах от вас, вы произносили речь, и один мальчик потерял сознание. Впрочем, я не о том. Знакомы мы, стало быть, почти тридцать пять лет! Тридцать пять лет… Господи, неужели я уже могу сказать, что знаю кого-то тридцать пять лет? Это ж почти целая жизнь! Собственно, это только я знал Доктора, а он меня нет. Почему мы раньше не познакомились? Дело в том, что первые тридцать пять лет моей жизни доктор был занят более важными делами, а последние десять занят был я! (Смех.) Теперь встает вопрос, достаточный ли срок тридцать пять лет, чтобы узнать и дать оценку чьей-то деятельности? Думаю, да, тем более что я и сам в некотором роде продукт этой грандиозной деятельности, хотел этого Доктор или нет. Вы спросите, конечно, как такое возможно? Видите ли, в книге „Абсурд власти“ Доктор во многих местах утверждает, что хотел обеспечить моему поколению счастливое детство и юность, сделать из нас настоящих людей нового времени и что всё, что он тогда делал (хотя он признаёт отдельные мелкие ошибки, причина которых исключительно в горячем энтузиазме), делал из лучших побуждений. У нас нет оснований ему не верить. Но, возможно, выход мемуаров Доктора неплохой повод, чтобы задаться вопросом, удалось ли ему это. Может, Доктору было бы интересно услышать и другую сторону, ту, над которой проводился эксперимент, выслушать одного из свидетелей, духовно (обратите внимание, я говорю: духовно!) выжившего вопреки процессу перевоспитания с детских лет. Перевоспитание! Как давно мне не приходилось слышать это старое доброе слово! (Перевоспитать… Его перевоспитали… Он перевоспитан!) Так вот, когда после войны началась идеологическая муштра, когда из нас, маленьких анархистов-индивидуалистов, выросших на обломках вчерашнего мира, надо было по тогдашнему советскому образцу сделать маленьких старичков, организованных пионеров с красными галстуками в духе непревзойденной „Педагогической поэмы“ гениального товарища Макаренко, появилась масса идиотских книг, превращавших детей в кретинов. Мы, разумеется, по-своему сопротивлялись… Как? Лично мне помогли довоенные комиксы, которые я отыскивал на чердаках и в подвалах (в то время существовал настоящий чёрный рынок комиксов), я был просто без ума от Флэша Гордона! В те мрачные времена, когда идеальный ребёнок должен был быть чем-то вроде маленького общественно-политического деятеля, занимающегося критикой и самокритикой, перевоспитывающегося, фискалящего на своих близких и берущего пример со старших, какими бы подлецами они ни были, мы уносились на космическом корабле Флэша Гордона в иные далекие миры… Фьють — и нет маленького Педжи! Итак, с помощью Флэша Гордона я восстановил утраченную связь с довоенным временем, заглянул в чьё-то чужое детство, из которого не были изгнаны детские игры, фантазии, приключения, — да, да, так мы спасались от всеобщего откровенного оглупления! (Простите, один глоток, в горле пересохло.) На чем я остановился? Ах, да! На Флэше Гордоне. Какое отношение Флэш Гордон покойного Алекса Реймонда имеет к книге Доктора? Имеет, сейчас сами увидите! Мы ведь в то время должны были писать сочинения о добрых глазах Сталина, но при этом втайне от всех вели свою духовную партизанскую войну, детскую, но весьма эффективную. Я с полным основанием мог бы обвинить кое-кого в том, что нам явно была уготована участь шизофреников, которым приходилось с детства страдать от раздвоения личности. Одно лицо, общественное, было для школы и пионерской организации, а другое, тайное, только для себя в самых близких друзей. Впрочем, я не буду сейчас об этом распространяться, всё это было так давно, и мы все уже постарели… Как бы то ни было, хорошо уже то, что мы такие, какие есть, если вспомнить, через что нам пришлось пройти! Однако в книге „Абсурд власти“, которую я сегодня имею честь предложить вашему благосклонному вниманию, Доктор во многих местах пишет, что ещё накануне войны знал про сталинские концлагеря и массовые убийства невинных людей! Необычайно ярко и красочно он живописует свои послевоенные конфликты с советскими товарищами и даже встречи с самим Сталиным в Кремле! Описания поистине блестящие, посмотрите, как точно подмечены детали: „Рябое лицо с глубоко посаженными хитрыми глазками дикого зверя… Маленький рост и характерное телосложение человека, которому самой природой назначено быть преступником… Неподвижно висящая парализованная рука, простой френч… Азиатская малоподвижность, страх, который он распространяет вокруг себя, перегарный дух…“ Нет, нет, это бесподобные страницы, драгоценнейшее свидетельство, мимо которого наверняка не смогут пройти и будущие авторы подобных книг! Но меня волнует другое! Почему, какого черта Доктор, бывший тогда высшей властью, заставлял нас писать сочинения о добрых глазах Сталина и о том, что он лучший друг детей, в то время как сибирские ГУЛАГи были битком набиты советскими детьми, которые мерли, как мухи, почему, если обо всём этом, как он сам пишет, знал уже тогда? Зачем заставлял нас петь песни о самом обыкновенном убийце, рисовать его для стенгазеты, класть цветы перед его бюстами и портретами? Хорошо! Допустим, он не мог всего рассказать нам, детям, чтобы мы ненароком не проболтались, но почему же он заставлял и взрослых делать то же самое, вплоть до сорок восьмого? Зачем делал из нас дураков, хорошо зная мерзкую уголовную сущность „вождя народов“? Возникает еще один небольшой вопрос: что бы случилось с тем, кто бы все то, что Доктор пишет сегодня, сказал тогда, перед той трибуной, с которой Доктор произносил речь, когда я стоял в почётном карауле? Сказать вам? Этот несчастный, будь он трижды прав, мог бы считать, что ему сильно повезло, если б отделался только длительным сроком! А когда бы вышел на свободу, перед ним никто даже не извинился бы! (Смотри-ка, ни капли не осталось!) Что я предлагаю? Монастырь? Нет, это слишком старомодно, хотя, надо признать, по крайней мере честно! Может быть, Доктор должен принести извинения лично каждому югославу, который ему верил, в то время как он сам сомневался во всём том, во что заставлял верить других? Возможно, это было бы неплохо. Как это осуществить? Не знаю. Что-нибудь вроде странствия кающегося грешника по городам и весям нашего дорогого отечества: останавливаешь прохожих и просишь у них прощения… Шучу, конечно! Вполне достаточно было бы и правдивых мемуаров. Только мало их, правдивых-то. Всё же, может быть, „Абсурд власти“ будет первым шагом на этом пути, и я вам горячо рекомендую эту в высшей степени полезную книгу! А теперь, как принято, задавайте вопросы Доктору, он вам постарается ответить… Прошу вас»
29
В поплывшем у меня перед глазами тумане вдруг исчезли корешки книг, суперобложки, плакаты и люди, заполнявшие лавку; стены превратились в колыхающиеся занавеси, в мгновение ока все линии стёрлись, как на центрифуге в луна-парке, когда из-за огромной скорости кажется, будто движение вовсе прекратилось, и взгляд выхватывает лишь застывшие в немом вопле искажённые гримасами лица любителей острых ощущений, прижатых центробежной силой к овальному, гладкому металлу, который и сам растворяется в бешеной скорости собственного вращения, а чья-то невидимая рука выключает звук.
(так ли я представлял себе эту встречу?)
в ушах зазвенело, до боли сдавило виски, пересохшее горло и дрожь в коленях, впечатление, что я теряю равновесие, и над всем этим — ощущение беспомощности и тщетности — следствие неподготовленности к такому событию, случавшемуся со мной уже тысячу раз и всегда по-разному, а сейчас будничному, заурядному, неожиданно возможному, осязаемому и реальному посреди этой застывшей немой сцены, где какие-то интеллектуалы по-рыбьи открывают и закрывают рот, не производя никакого звука.
(в море света стояла Лена)
за ней медленно, очень медленно закрываются стеклянные двери, и она оказывается здесь, завлеченная своим любопытством в сети; в нерешительности останавливается среди книг и задержавшихся посетителей; её никто не заметил и никто не находит ничего особенного в появлении обыкновенной молодой женщины в белом плаще, которая может быть покупательницей или случайно заглянувшей сюда прохожей и которая сейчас стоит под сводами волшебного замка, созданного одной лишь силой страсти, во дворце, построенном для неё одной из книг вместо кирпичей, скрепленных музыкой вместо цемента; ей и в голову не приходит, что все это ждало только её, и было без неё мертвым, не оплодотворенным живым смыслом.
(душа, долго витавшая сама по себе, наконец соединилась с телом)
в тот момент, когда сумасшедший круг стал замедлять свое кружение, возвращая лицам лица и звуку звук, фортепьянное кружево Кейта Джеррета вновь прорвало тоненькую звуконепроницаемую пленку, и вслед за ним хлынули обрывки разговора, зашелестели перелистываемые страницы, стены снова встали на свои места, обретя чёткие очертания, а книги попрыгали обратно на полки — дыхание моё выровнялось, и я увидел её тёмный силуэт на освещённом фоне уличного аквариума; лицо её ещё какое-то время оставалось невидимым, в тени, но с каждой минутой всё яснее проступали хорошо знакомые черты в обрамлении тёмно-каштановых волос, из-под которых двумя светлыми озерками заблестели любопытные глаза девочки, оказавшейся за кулисами кукольного театра; однако мы всё ещё не могли двинуться с места, стояли и смотрели друг на друга, как в какой-нибудь дурацкой киномелодраме сороковых годов, просто так стояли и смотрели, пока босоногая Весна не прошла между нами в поисках какой-то книги, которую ждал покупатель, разорвав своим телом пучок невидимых нитей, связывавший нас и одновременно удерживавший на расстоянии.
Лена, конечно, как всегда опомнилась первой и подошла ко мне так близко,
что до неё можно было дотронуться рукой; я же стоял, по-прежнему парализованный её близостью, но уже сознавая свой паралич, длившийся лет двести, а может, лишь одну человеческую жизнь, а может, лишь столико, чтобы сосчитать до восьми, не знаю, во всяком случае до тех пор, пока мне не удалось
составить первую фразу — конечно же, не из тех, что я придумывал по ночам,
что роились, как винные мушки над бутылкой рислинга; я не узнал своего голоса, который, надо думать, был самым естественным, несмотря на то, что во
мне происходило; это была какая-то непредсказуемая, вполне глупая фраза, которую нельзя было бы вставить ни в один фильм и даже в рассказ, я сказал,
я вымолвил вот что:
Ух, какая духотища
а она сказала
Кошмар
а я сказал
Я все думал, как это будет
а она сказала
Ну и как
а я сказал
Уже не болит только
а она
Только
а я тогда сказал
Только к перемене погоды.
30
Потом, просто чтобы что-нибудь сделать, я провёл пальцем по клавиатуре пятидесяти сербских романов, изданных «Нолитом» от несчастного Атанасия Стойковича, автора «Аристида и Натальи», до Мирко Ковача. «Все романы, достойные внимания, составляют библиотеку, которая приобщит новые поколения к непреходящим ценностям нашей культуры. Купивший их никогда не пожалеет о потраченных деньгах» — значится в аннотации. Не было только моего романа, как раз приближавшегося к своей последней главе (или одной из последних), такого бессмысленного, как и фразы, которыми мы обменивались с Леной:
Здесь очень мило, — сказала она.
Я рад, что тебе нравится, — сказал я.
Вы давно открылись?
Давно.
Что с тобой? Ты не рад, что я пришла?
Очень рад.
Что-то не похоже, чтобы ты был рад.
Выпьешь что-нибудь?
Нет. Хотя, впрочем… Я бы выпила кока-колы. У тебя есть?
Думаю, что есть.
А это что такое?
Нечто вроде кабинета…
О твоём магазине говорит весь город…
Неужели? — я изобразил удивление и крикнул Чубчику, чтобы он подменил меня за кассой. Потом прикрыл дверь подсобки.
Достал холодильника кока-колу.
Налил. Пена пролилась на бумаги.
Ерунда, — сказал я.
Открыл бутылку водки и налил полный стакан.
Выпил залпом.
Зазвонил телефон. Я выдернул шнур из розетки.
Подождал, пока водка начнёт действовать.
Потом было хорошо.
Мы сели за стол друг против друга.
Спасибо за книги. Я их регулярно получаю.
Ерунда.
Это так мило с твоей стороны.
Ты хорошо выглядишь.
Ты тоже неплохо.
(Мы на качелях, с которых не можем слезть.)
Как глупо!
Что?
Всё это. Это вот все.
Разве?
Что с нами?
Не знаю.
Ты тоже не в своей тарелке?
Нет. Не то. Просто странно. Не могу расслабиться.
(Качели поскуливают. Почему их не смажут?)
Хочешь водки? Тебе полегчает.
Я больше не пью.
Вот как!
Правда не пью. Меня бы, наверное, первый же глоток свалил с ног. Отвыкла.
Почему?
Не чувствую потребности. Я изменилась.
Хорошо.
Что хорошо?
То, что ты изменилась.
Твой сарказм неуместен.
Какой там сарказм! Тебе показалось.
Нет, не показалось.
Скрип-скрип.
Как на качелях!
Каких качелях?
Как живёшь?
Счастливо. Чувствую полноту жизни. Даю и получаю. Мне очень хорошо.
Я страшно рад, что тебе хорошо. Я же говорил, что тебе ещё будет хорошо. Вот видишь, хорошо же.
А ты? Ты счастлив?
Быть счастливым — не моё ремесло.
Быть счастливым — ремесло каждого.
Только не моё.
Я выхожу замуж.
Чудесно! Это просто чудесно!
Я тебя задерживаю? Ты должен быть там?
Ерунда! Обойдутся и без меня.
Качели снова заскрипели. Теперь их услышала и Лена.
Что толку.
Лучше уж нам помолчать.
Молчим.
31
Мне кажется, я наконец вижу Лену! Вот она здесь, напротив меня. Я пытаюсь смотреть на неё, как будто вижу впервые в жизни. Её кожа, которая меня больше всего привлекала. Кожа и запах. Что за запах, я знаю. Запах американский — духи «Халстон». А вот что такое её кожа? Если поглядеть на срез, идя сверху вниз, то это прежде всего наружный слой омертвевших клеток. Потом волоски.
Капилляры. Сетка сосудов. Сальные железы. Волосяные мешочки. Слой жировых клеток. Потовые железы. Вены. В коже располагаются и нервные окончания. Поглубже те, что откликаются на сильное нажатие, а ближе к поверхности — рецепторы, реагирующие на прикосновение, тепло и боль. Вот, значит, что такое Ленина кожа. Я был влюблён в наружный слой омертвелых клеток и всё остальное. Смешно.
Гляжу в её глаза. Они смотрят на меня со смесью сочувственного любопытства и жалости. Почему, говоря о любви, всегда описывают глаза? Что такое глаза? Белки, роговица, хрусталик, радужная оболочка, зрачок, глазной нерв… Ну как, узнали вы что-нибудь о глазах Лены? Могу ещё только добавить, что они тёмные, как блестящий дикий каштан, и что на белках можно разглядеть сетку тончайших капилляров. Потому ли её глаза сводят меня с ума? Нет, не потому. Её мозг? С десяток миллиардов нервных клеток, образующих сложную систему. (Сколько, интересно, клеток занимаю я?) Её тело? Артерии. Мышцы. Внутренности. Непереваренный обед в желудке. Вонзаю свой рентгеновский взгляд и вижу разжёванный телячий бифштекс с грибами, зелёный салат, яблочный пирог, кофе, арахис…
— Почему ты на меня так смотришь?
Что ей сказать? Что думаю о её ногтях, зубах, пломбах, пупке, нежных волосках на ногах, с которыми она упорно борется?
— Да так, — говорю, — задумался…
А задумался я о том, как вылеплял её из прекраснейших кусков любимых стихов и книг, рассыпанных осколков вдребезги разлетевшегося сентиментального воспитания, самых ранних своих представлений об идеале женщины (Мои сердечные запасники просто забиты женскими профилями работы Пизанелло, чувственными лицами похищенных сабинянок Делакруа, портретами Ольги Хохловой кисти Пикассо; отблески дрожащего света пляшут на белой коже Сони Хени ещё до войны; есть у меня и с полдюжины выразительных взглядов Одри Хепберн — на каждый день и ещё для праздничного настроения; тут же и Жанна Моро: вот она сдержанно-своевольно встряхивает волосами, не подозревая, что оказалась в моей коллекции!); я создавал из всех них Лену много дней, ночей я лет, подобно доктору Калигари, чтобы, когда она наконец ожила, убедиться, что сотворил обыкновенного, хоть и очаровательного монстра. В конце концов, когда я остался ни с чем после стольких мучений и бесчисленных экспериментов, она, как и все подобные творения пигмалионов, восстала против меня же, своего создателя! И та безмерная чувственная энергия теперь возвращалась, чтобы задушить меня тоской, превратив из владельца в угнетённого и униженного раба. Что она, собственно, такое, Лена? Мифический образ, с которым я несчётное число раз ложился в постель, с надеждой ожидая следующего дня, когда, возможно, встречу её, рассмотрю и освобожусь наконец от гипноза. Увидев её в истинном свете, в том, в каком видели её остальные люди, я, вероятно, смог бы отделаться от напасти и вернуться к жизни. Глядя на Лену поверх второго стакана водки, я почувствовал себя обманутым. Меня обокрали. Вся любовь, которую я вкладывал в это нерукотворное создание, воздвигнув вокруг своей постройки литературные леса, не оставила, как видно, на Лене и следа. Моё чувство прошло мимо неё, материализовавшись в каком-то её двойнике, Бог знает, где теперь обитающем, не коснувшись Лены, которая осталась вполне обыкновенной молодой женщиной. Да, она обыкновенная, обыкновенная во всём, кроме своего привилегированного положения по отношению ко мне. Она, значит, выходит замуж! Отлично. Через полгода она надоест мужу. Надоест всем, кроме меня. Ей будут изменять. Врать. Возможно, даже станут поколачивать, её, единственного по-настоящему дорогого мне человека на всём белом свете… И никто из них не сможет оценить её по достоинству. Ведь Лена и не обладает никакими особыми достоинствами с обычной точки зрения — их дано видеть только мне. Сколько дураков имело и точку опоры, и рычаг, и лишь у того старого философа, который с их помощью мог перевернуть мир, не оказалось ни того, ни другого. Сколько крестьян имело конюшни, а королю, предлагавшему полцаpства за любую захудалую лошадёнку, не дали и самой последней клячи… Я хорошо знаю, о чём говорю, потому что Лена и раньше доставалась на некоторое время другим мужчинам. Они уже давным-давно её позабыли. («Кто эта девушка на фотографии? Да я уж и не помню, это где-то на курорте!») Они не находили в ней ничего особенного. Я вижу, как она заходит в их комнаты, вижу ждущие её постели, одеяла, простыни, подушки, лампу у изголовья, слышу мурлыканье проигрывателя, вижу сигаретный дым, скрадывающий растущее возбуждение; этот любовный натюрморт обязательно дополняют два недопитых бокала на паркете; вижу стул с нервно смятой одеждой: вывернутые рукава свитера, чулки, неслышный водопад юбки, переброшенный через спинку поясок (почему никто не отольет в бронзе этот ворох обнявшейся мужской и женской одежды на стуле, под которым друг на друга брошены ботинки и туфли?); я вижу, как она раздевается, повернувшись спиной к мужчинам, лица которых не имеют значения, стерты, Которые сливаются в одно тело и один запах пота и одеколона pour homme[15], слышу одни и те же фразы, повторяющиеся годами:
Чья это квартира? Сколько мы тут можем пробыть?
Иди ко мне!
Только приму душ…
Учти, там левый кран барахлит…
А если он вернется?
Не волнуйся.
Останься ещё немножко так!
Хочу сигарету…
Который час?
Девять.
Мне пора.
Разве мы не поужинаем вместе?
Сегодня я правда не могу. В другой раз. Ладно?
Ладно.
Позвони мне!
Обязательно. Как только выберу время.
Может, встретимся в среду?
Конечно. Только сперва созвонимся.
Нам было хорошо.
Да, было чудесно.
У тебя есть мелочь на такси?
Есть.
Тогда пока!
Пока!
Все те мужчины. Все они. Все те мужчины, обладавшие ею, берущие любовь так, как берут в буфете бутерброд с ветчиной и сыром, как пьют кока-колу, не находят в ней ничего особенного; они говорят приятелям, что она хороша в постели, всё делает, как полагается, и предлагают её телефон, потому что в ней действительно нет ничего необыкновенного ни для кого, кроме меня (так предопределено нашими кармами, предрешено задолго до нашего рождения), и она это знает, потому-то, что бы ни случилось, всегда ощущает какую-то болезненную потребность во мне, она знает, что создана только для меня и что я где-то в темноте курю и жду, жду, когда она, перебывав во всех постелях, переспав со всеми, придет и скажет то, что она как раз сейчас и говорит:
Признайся, ты думал обо мне!
Думал.
Часто?
Всё время.
Я знала.
Откуда?
Я всегда знаю, когда ты думаешь обо мне.
Я всегда думаю о тебе.
Больше не думай, прошу тебя!
Почему?
Мне от этого как-то не по себе. Обещай, что не будешь…
Это зависит не от меня.
А от кого?
Не знаю.
Ну и глупо! Ты мог удержать меня, если б хотел.
Мог.
Ты не смеешь меня ни в чём упрекать! Я тебя спрашивала…
Всё в порядке!
Качели раскачиваются все сильнее, я взлетаю под самую крону липы во дворе на Дукиной, 13 и возвращаюсь назад по траектории огромного маятника, не чувствуя собственных ног то ли от головокружительного полёта, то ли от того, что незаметно для себя выпил полбутылки водки. Не знаю как, но Ленина голова оказалась на моем плече. Я целую ее волосы, мочку уха, шею и думаю: «Это только волосы, это только мочка уха, это только шея, а где же то?»
Может, в какой-то иной жизни? Я ведь ужасно терпелив. Ты веришь в какую-то иную жизнь?
Не знаю. Мне пора…
Тебя проводить?
Не нужно. Я шла попросить тебя не думать обо мне больше. По крайней мере, не так часто. Пожалуйста!
Я попробую…
(Хоть и знаю, что не смогу выполнить обещание.)
Значит, договорились?
Договорились. Постой, а кто он?
Лена оборачивается в дверях и, прежде чем исчезнуть, говорит:
Тот из зоны грозы.
Скажи «фррррр» без p!
Ф-ф-ф-ф-ф! — фы(р)кнула она по-кошачьи и вышла.
Может быть, я задремал. Не знаю. А может, это просто один из тех тупых вечеров, незаметно переходящих в ночь, когда я, сам того не сознавая, прохожу сквозь невидимую стену, отделяющую действительность от фантазии, и оживляю Лену с помощью «Водки Выборовой» в Лесу Стриборовом? Я обнимаю телефон и прижимаюсь горящей щекой к его прохладной пластмассе. Слышу, как Чубчик говорит Весне:
— Шеф опять наклюкался!
Они гасят свет, закрывают двери, и я в полном изнеможении наконец засыпаю.
32
Однажды мы сбежали на море.
Я занял немного денег (будучи в то время на мели) и полетел с Леной в Дубровник, поражённый тем, что всего в каких-нибудь тридцати пяти минутах лёта от царства смога и прокуренной белградской кафаны, где мне часто приходится выслушивать чьи-то пьяные излияния, находится нечто вроде рая. Одурманенный густым, пьяняще-солёным воздухом, пахнущим сосной, я дымил сигаретой, как паровоз, только чтобы почувствовать в легких что-то привычное. Мы были унизительно белыми в начале лета среди уже загоревших отдыхающих. Лена ходила на нудистскую часть пляжа, подставляя солнцу всё своё ухоженное тело манекенщицы, а я оставался в затенённом баре у моря, напиваясь от скуки с раннего утра. Я испытываю неприятное чувство среди нудистов. Мне противно смотреть на эти груды вульгарного мяса, с эксгибиционистским наслаждением выставляющего себя напоказ, не имея, однако, достаточно смелости, чтобы отдаться до конца. Время от времени я относил Лене лимонад или фрукты. Оскорблённая тем, что не одна щеголяет здесь обнажённой натурой, она лежала на гладкой пологой скале подобно бесполой скульптуре. Мимоходом я поглядывал на голые пары, смазывавшие друг другу тела маслом для загара в приторно-сладком облаке кокосового запаха. Голые среди голых скал, они напоминали иллюстрации Гюстава Доре к «Чистилищу» Данте; все словно бы одинаковые, похожие друг на друга своей бронзовой наготой, загоравшие словно исполняли какой-то непристойный балет, хореография которого придумана самой неудовлетворённой похотью. Я бы мог поспорить на что угодно, что каждый из этих упитанных мужчин и каждая из этих дебелых женщин втайне желает чужую партнёршу или партнера и мысленно представляет их, обнимая друг друга ночью в номере своего спутника. Я, признаться, тоже не безгрешен, утверждать обратное может лишь патологически влюблённый или тот, кому просто недостаёт смелости посмотреть правде в глаза. Нет такой связи, которая со временем не наскучивает, становясь привычной. Лена для меня в то время, поправде сказать чаще всего служила универсальной моделью. С помощью её совершенного тела я, закрыв глаза, мог обладать всеми женщинами, которых мне удалось бы представить.
Сидя с утра до вечера в баре на пляже, я подружился с одним симпатичным пожилым итальянцем, который из-за своих отечных ног и тучного студенистого тела даже и не пытался раздеться и искупаться. Время от времени, когда он взглядывал на свой раздувшийся до угрожающих размеров живот, на лице его появлялось гадливое выражение, похожее на немой вопрос: «Откуда взялась эта безобразная плоть?» Потом он наливал себе полный бокал вина и осушал его залпом, возвращаясь к своей книге, которую не выпускал из рук, или заказывал порцию копчёного мяса и сыра, словно стремясь едой заглушить охватившее его отвращение. Вскоре у нас завязалась беседа. Он прилично говорил по-сербски, правда, с сильным итальянским акцентом. Мы заговорили о Дино Буццати (он как раз читал «Татарскую пустыню») и быстро обнаружили, что любим одних и тех же итальянских писателей. Вскоре наша беседа стала походить на перелистывание книжного каталога; мы перебрасывались именами-символами, прощупывая духовную конституцию друг друга: Пратолини, Звево, Витторини, Кальвино, Моравиа и, конечно же, кого никак нельзя было обойти — придёт смерть и у неё будут твои глаза — Чезаре Павезе, этот пробный камень для всякой души, склонной к самоуничтожению!
За нашим столом росла невидимая библиотека любимых книг и весьма внушительная коллекция бутылок белого дубровницкого. Сам я здорово поднабрался, но на моего нового друга вино вообще не действовало. В конце концов старый итальянец (звали его Маурицио Ангелини) предложил нам быть его гостями этой ночью. Я тогда ещё не знал, что это значит, но всё стало ясно уже в десять вечера, когда он встретил нас в баре, одетый в безукоризненный чёрный смокинг, и повёл в казино, арендатором которого, как выяснилось, являлся. После того как мы поужинали омарами и выпили две бутылки шампанского, синьор Ангелини пригласил нас немного развлечься за рулеткой. Мы перешли в игорную комнату, где служащие встретили нашего приятеля с заметным почтением. Мы оказались в своего рода экстерриториальном пространстве, куда входят исключительно с иностранными паспортами, поскольку югославам (чтобы деньги их не испортили) играть в азартные игры запрещается. Видя нас в обществе владельца заведения, охранник у дверей игорного рая не стал строжиться. Вскоре перед нами на зелёном сукне возникла кучка жетонов — подарок хозяина, любезно усадившего Лену на единственный свободный стул. Я стоял рядом с ней и наблюдал за игроками, несколько смущенный роскошью и благоговейной атмосферой этого святилища, в котором чувствовал себя жалким бедняком, чуть ли не деклассированным элементом: перед каждым из них лежала кучка квадратных бляшек — настоящее богатство для такого, как я, кому бы и одного из этих жетонов хватило, чтобы продлить пребывание на море по крайней мере ещё на неделю. Наш короткий весенний отдых подходил к концу, денег оставалось всего на два дня. Я чувствовал всю абсурдность нашего присутствия со своими несчастными грошами за одним столом с настоящими богачами, которые с невозмутимыми лицами проигрывали и выигрывали головокружительные суммы.
— Faites vos jеuх, mesdames et messieurs! Faites vos jеuх! [16]
Жужжание рулетки не вызывало во мне никакого волнения. Я начисто лишён азарта, что, разумеется, не означает отсутствия других пороков. Живу достаточно кипучей жизнью, чтобы нуждаться в каких-то дополнительных возбуждающих средствах. Кроме того, боюсь, что шальные деньги, подаренные случайным капризом бегающего шарика, совершенно обесценили бы мой постоянный заработок; могу себе представить, с каком видом я получал бы потом свою ничтожную зарплату в размере чаевых, которые здесь дают крупье. Вообще без ложной скромности могу сказать, что уже много лет я живу вне власти денег, которые появляются и исчезают без всякого моего участия. Они меня просто не волнуют! Я поглощён другими вещами. Это, вероятно, следствие моего образа жизни, не требующего никаких особых расходов: пью я самые дешёвые вина, курю «Драву», а ем очень редко и мало, забывая через две минуты, что было на обед или ужин.
— Rien ne vа plus! Rien nе va plus, mesdames et messieurs! [17]
Лена, осторожно положившая половину подаренных жетонов на красное поле, вскрикнула от радости — её ставка удвоилась! Она снова поставила на rouge и снова выиграла. Я наблюдал за ней со стороны, она была прекрасна, как никогда, смеялась, взвизгивала от восторга, сжав кулачки, неотрывно следила за шариком, взглядом умоляя его остановиться в нужном месте… Какой разительный контраст являла она собой с пресыщенными, не первой молодости игроками, пытавшимися с помощью рулетки разогнать скуку! Её красота и искренняя увлечённость игрой вызывали улыбку на их непроницаемых лицах. Я никак не предполагал, что затаённая страсть к игре, неожиданно проснувшаяся в тот вечер, может её так преобразить! Собственно, я не вполне уверен, что это была просто любовь к риску, столь милому сердцу тех, кто непрестанно пришпоривает свою ленивую жизнь; мне кажется, тут речь шла, скорее, о корыстолюбии, задрапированном азартом…
Рассказывая о Лене, я замечаю, что у меня получается портрет этакого монстра с прелестным лицом. И я часто спрашиваю себя, насколько он соответствует действительности. Не говорит ли это во мне оскорблённое самолюбие? Может, Лена совсем не такая, может, мне просто не удалось проникнуть в её настоящую суть? Да и как я сам выглядел бы, доведись мне взглянуть на себя её глазами? Льщу себя, однако, мыслью, что нет такой дурной черты, которую она могла бы во мне выискать и которой я сам не знал бы за собой. Кто знает Педжу Лукача лучше, чем он сам? Н кому известно больше постыдных подробностей его жизни? Конечно, ему самому!
— Почему ты не играешь? Посмотри, сколько мы выиграли!
Я был уверен, что тоже выиграл бы в рулетку, если б поставил на цифру сорок (столько мне тогда было лет), но моего числа не было, на последнем зелёном поле значилось 36, и я решил не испытывать судьбу. К тому же я не без гордости считаю своим призванием не выигрывать, а проигрывать (тут я действительно настоящий талант), а вскоре надо было вернуть и Лену из её золотого сна к действительности, как ни было бы мне её жаль, — она уже заработала на то, чтобы ещё по меньшей мере месяц прожить в самом дорогом дубровницком отеле и, возможно, на круиз по Средиземноморью, о котором так мечтала, но ведь начальный капитал, с которым мы за неполных два часа игры разбогатели, был подарком сеньора Ангелини. Мне казалось невозможным пройти к кассе и преспокойно получить деньги за жетоны, подаренные нам просто из дружеского расположения (как после этого ограбить человека на такую сумму?). Говоря высоким слогом, в известном смысле я предал бы этим Чезаре Павезе и всех остальных, благодаря кому наш знакомый поверил, что я лишён алчности и что для меня посещение его казино будет лишь небольшой экскурсией в другой мир, дававшиё ему возможность оплачивать свою тайную любовь к литературе, вкусной еде и праздности. Как объяснить это Лене, которая как раз зарабатывала на поездку в Нью-Йорк? Я устал, мне наскучило стоять у стола вне игры, правила которой я не до конца понимал. У меня было ощущение, что я надел грязную рубашку.
Уже сколько месяцев я не прикасался к заветной зелёной папке, не пополнил свои материалы ни единым новым фактом. Разве, живя подобным образом с этой молодой, избалованной особой, таскаясь с ней по каким-то совершенно мне чуждым местам, я смогу когда-нибудь завершить свою работу о Шломовиче? Да знает ли она вообще, кто он такой? Ей это до лампочки! Я несколько раз начинал рассказывать ей одиссею таинственной коллекции французских мастеров, но она всякий раз прерывала меня каким-нибудь дурацким замечанием, вроде: «Милый, ты мне не подашь вон тот розовый лак для ногтей? Ну, и что же дальше?..», после чего у меня пропадало всякое желание говорить об этой странной истории, владеющей моими мыслями вот уже более десяти лет. А однажды, когда я откопал великолепный след одного профессора-искусствоведа на пенсии, рассказавшего мне невероятные вещи о жизни Шломовича в Париже, она прервала меня вопросом: «Кто? Шломович? Это тот, что собирал картины? Да ты мне это уже сто раз рассказывал!» И вот теперь здесь, в казино у зеленого стола с жужжащей игрушкой, дарящей и отбирающей целые состояния, мне кажется, что я слышу откуда-то из тьмы времён отчаянный, зовущий голос Эриха Шломовича, за которого я несу ответственность, я словно вижу укоризненный, разочарованный взгляд его больших еврейских глаз: ведь я обещали себе, и ему, что спасу его от забвения и что однажды, неважно, когда, поведаю миру всю правду о нём и его жизни, о том, что уже давно поросло быльём. И что же я сделал? Ничего, потому что всё время откладывал на потом, наивно оправдываясь тем, что собрал ещё не весь материал, хотя даже подшофе, как сейчас, мог бы рассказать об Эрихе Шломовиче больше, чем кто-либо на этом свете.
Мне хотелось пить и спать. Могу себе представить, как я надоел Лене своим: «Ну хватит! Пошли!»
Перед ней между тем уже выросла горка красных квадратных жетонов.
— Faites vos jеuх, mesdames et messieurs! Faites vos jеuх…
— Попробуй, сыграй, — предложила Лена, надеясь, что и во мне проснется спящий игрок.
— Сколько тебе лет? — спросил я её.
Она посмотрела на меня удивленно:
— Двадцать пять…
Соврала: ей тогда было двадцать шесть.
— Поставь всё на двадцать пять! — велел я.
Никогда не забуду её взгляд, в котором была и ненависть, и бешенство, и мольба, и презрение, и боязнь проигрыша.
— Поставь! — повторил я и тут увидел синьора Ангелини, всё это время наблюдавшего за мной из-за спин игроков с другой стороны стола. Он понял мой жест. От человека, понимающего Павезе, такое не может ускользнуть. Всё же в его взгляде я прочитал и некоторое сомнение: c нами, нищими интеллектуалами из Восточной Европы, едва сводящими концы с концами, никогда и ни в чём нельзя быть уверенным: сколько их продалось за куда меньшие западные бабки! Я оказался между двух огней. С одной стороны, на меня смотрели всеведающие глазки старой, мудрой черепахи, а с другой — огромные, полные слез глаза самого дорогого для меня существа, встретясь с яростным взглядом которых я с ужасом понял, что, выбирая между мной и раскрашенными пластмассовыми бляшками, она бы скорее выбрала их.
Она поколебалась, а потом дрожащей рукой оттолкнула море, наряды и путешествие в Нью-Йорк, сделав знак крупье, что ставит всё на 25. Я облегченно вздохнул. Буквально оторвал её от зелёного стола и повёл к старому итальянцу, чтобы проститься и поблагодарить за гостеприимство. Она шла за мной вокруг стола, как сомнамбула, не сводя взгляда с рулетки.
— Rien ne vа plus! Rien nе va plus, mesdames et messieurs!
Рулетка снова зажужжала. Проигрывая, я чувствую себя как рыба в воде. Но в тот момент, когда я протянул руку одобрительно глядевшему на меня синьору Ангелини, Лена вздрогнула, точно пораженная неслышной шальной пулей: этот чёртов шарик остановился на двадцати пяти! Дьявольщина! Всё сначала! Что этот человек подумает обо мне?
Я раздвинул игроков и приказал крупье поставить все на 17. Почему на семнадцать, я до сих пор не знаю. Наверное, потому, что в семнадцать лет я был гораздо лучше, чем сегодня, когда бегаю за манекенщицами и таскаюсь по таким заведениям, куда простые люди не вхожи.
Само собой, мы проиграли всё. У меня гора с плеч свалилась. Денег по-прежнему оставалось только на два дня.
В лифте Лена плакала.
Я ласково погладил её по худой спине борзой, которой хозяин нарочно не дал выиграть какую-то вонючую гонку, но она со злостью оттолкнула мою руку.
— Я знаю одного типа в Дубровнике, который сегодня будет спать один! — заметил я, ухмыляясь про себя.
— Мне он тоже знаком! — прошипела она.
NB: Послать Лене «Игрока» Достоевского в память о днях, проведенных на голубой Адриатике!
33
Книги, книги, книги, книги, повсюду вокруг меня книги, в венах моих течёт не кровь, а расползается свинцовая типографская краска и струится, закручиваясь в водовороты, поток сознания в романах-реках, и шуршат, шуршат расходящиеся бумажные круги книжных ассоциаций, а перед каждым произнесённым словом точно стоят неизбежные кавычки. Я уже не в состоянии отличить жизнь от вымысла, отрывки из книг, как спирохеты, проникли мне в мозг, в нервы, в каждую клеточку отравленного организма, рот набит старой бумагой и многократно пережёванными оборотами, и я все чаще ловлю себя на том, что думаю о себе в третьем лице:
как только погасла красная надпись NO SMOKING, Педжа Лукач нетерпеливо зажёг смятую сигарету, которую во время взлета нервно крутил в пальцах.
Глядя на снежно-белые башни кучевых облаков через овальный иллюминатор «Боинга-727» (погода на трассе — местами облачность), он сказал своей прекрасной спутнице:
— Я не боюсь летать, я боюсь падать!
— Я люблю тебя! — сказала она, глядя ему в глаза.
Это «я люблю тебя», должно быть, всё ещё парит где-то в высокой голубизне — осколок уходящей любви, насквозь промёрзший при температуре в минус пятьдесят пять градусов.
— Меня? — он взглянул на неё приятно удивленный. — Что ты находишь во мне? Я же износился, как эти джинсы!
Молодая женщина коснулась кончиками ногтей с перламутровым маникюром его колена в потёртых джинсах «Левис». На ней был тонкий белый пуловер с высоким воротом, подчеркивавший нежный оттенок смуглой кожи и великолепие каштановых волос, ниспадавших на худые плечи. Безупречный профиль с изящными линиями носа, лба, подбородка, чувственных, немного припухлых губ и длинных ресниц, казавшихся искусственными, чётко рисовался на кобальтово-голубом фоне неба, по которому они плыли, пьянея от высоты, усыпляемые равномерным гудением трёх мощных двигателей этого электронно-керосинового комбайна для перемалывания ветра, так и распираемого самодовольством, оттого что человек наконец стал великаном, как верно предугадали товарищи Ильин и Сегал, до чего, впрочем, не было никакого дела пассажирам, каждый из которых был занят своим маленьким большим страхом.
Кто ты, Лена?
Дорогая куколка-манекенщица, в которую вложены деньги, в которую вложено всё лучшее, чем на данный момент располагает наша изнеженная европейская цивилизация, очаровательная девочка, представительница класса, который мы условно называем средним в обществе, поторопившемся объявить об отмене всех классов, с головы до пят являющая собой отчаянное стремление провинции во что бы то ни стало идти в ногу с большим миром, а что такое для неё большой мир? — роскошный каталог свободной торговой зоны в аэропорту с точно обозначенными ценами в долларах, покупки, покупки, покупки, бесконечные покупки, Куда ни повернись!
Ну-ка, поглядим: твой плащ и шарф к нему куплены в Лондоне («Барбери Хаус»). Посмотреть картины Уильяма Тёрнера в Национальной галерее ты там, разумеется, не успела. Туфли фирмы «Бруно Магли» приобретены на Виа Венето в Риме, где ты не удосужилась сходить на толкучку Порта Портезе, на которой Де Сика снимал «Похитителей велосипедов», фильм, в конце которого я обычно разнюниваюсь, как кретин. Очки ты купила в Цюрихе. Ты могла там зайти в известное кафе и разыскать стол, за которым сидели Ленин с Троцким. Впрочем, что тебе до них! На коленях сумочка от «Луис Виттон», по которой можно отличить даму из высшего общества от всякой швали — какая изысканность! Снаружи лакированная, но изнутри! — изнутри благороднейшая жёлтая кожа. Твое левое запястье с восхитительно выступающей косточкой украшают классические часы «Картье» с римскими цифрами на белом квадратном циферблате… Где ты их купила? В Париже? Или тебе их кто-то подарил? Кто? Что ещё? Духи? Ну-ка, ну-ка?.. «Халстон»! Хотя, возможно, тебе больше бы подошел «Примитифф»?.. Ну вот, кажется, и всё!
Люблю ли я тебя? Если хорошенько подумать, то, любя тебя, такую эффектную, такую авантажную и такую дорогостоящую, я, видимо, на самом деле люблю не тебя, а Педжу Лукича, которому удалось тебя подцепить. Ведь во времена его нищей молодости девушки твоего типа были настоящей редкостью, доступной лишь тем немногим, в число которых он-то уж никак не попадал. Что это за тип? Это тип ухоженной, самостоятельной, немного ветреной молодой женщины, при всём том в достаточной степени обывательницы, чтобы вы чувствовали себя с ней более или менее спокойно. И что же произошло с Педжей Лукачем? С Педжей Лукачем произошло следующее. Педжа Лукач имел редкое несчастье встретить Лену в то время, когда она была одним из первых образчиков описанного типа, прежде чем такие девушки стали чуть ли не массовым явлением. Педжа Лукач это полностью сознаёт, да что проку, если он одновременно и обожает и презирает объект своей любви. По этой причине он делает одну ошибку за другой: разыгрывает из себя утомлённого жизнью, пресыщенного субъекта (роль, вполне соответствующая его возрасту), изображает разочарование, а из-за всего этого выглядывает, растерянно моргая, самый обыкновенный мальчишеский страх перед состязанием с настоящими, нахрапистыми парнями, которые наверняка хотят отнять тебя, красавица; Педжа Лукач заранее отказывается от этой борьбы и прячется в свой улиточный домик, склеенный из печатных страниц, где безопасно и удобно, потому что все соперники давно мертвы. И поэтому он играет! Ему не остается ничего другого, кроме игры, а о том, что она может стать опасной, он и не подозревает, это ему предстоит узнать позднее, когда придёт время.
34
УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ, ГОВОРИТ КОМАНДИР ЭКИПАЖА, ПРОСЬБА ПРИСТЕГНУТЬ РЕМНИ И ПРИВЕСТИ КРЕСЛА В ВЕРТИKAЛЬНOE ПОЛОЖЕНИЕ. МЫ ВХОДИМ В ЗОНУ ГРОЗЫ…
— Тебе бы надо замуж… — ровным голосом сказал Педжа Лукач своей молодой спутнице, когда самолет, заметно подрагивая, входил в зону грозы.
— За кого?
— За кого-нибудь.
— Мне никто не нравится.
Сучка! Думаешь, я не заметил твоего скользкого, быстрого, по-женски испытующего взгляда, полного желания, брошенного на того молодого красавца-стюарда в аэропорту? Он, конечно, в своём форменном костюме выглядел привлекательно, ничего не скажешь (мне с ним не тягаться!), и ты тогда рассеянно, вдруг ни с того ни с сего сказала: «Да, да, в аэропорту вечно теряешь столько же времени, как если б ехал поездом!» А потом, тоже на первый взгляд без всякого повода, лихорадочно: «Люблю тебя, люблю, ох, до чего я тебя люблю!», что звучало как: спаси меня, спаси меня, спаси меня от соблазна, так бы и пошла за этим парнем!
— Почему ты меня любишь? — спросил Педжа Лукач, стоя в очереди сдавать багаж.
— Потому что я к тебе привязалась!
— А почему ты привязалась?
(Господи, что за идиотский разговор! Они с Леной уже годами собирали коллекцию глупейших и банальнейших фраз, которыми обмениваются любовники, и вот теперь в который раз исполняли свою камерную драму без зрителей.)
— Я привязалась к тебе потому, что я дочь разведенных родителей и нашла в тебе потерянного отца, привязалась потому, что желторотые мальчишки не умеют трахаться, привязалась потому, что ни с кем до тебя не испытала оргазма, потому что у тебя есть деньги, а я люблю комфортную жизнь, потому что ты красивый и умный и всё знаешь, вот почему я привязалась!
А потом, через полчаса они оказались в зоне грозы, и он сказал: — Тебе надо бы замуж! — а когда она спросила: — За кого? А он ответил: — За кого-нибудь! — и тогда они стали придумывать Лениного будущего мужа, потому что она спросила: Интересно, а как бы он выглядел?
Педжа Лукач предложил, чтобы её будущему мужу было двадцать шесть лет, на что она сказала: слишком молод, и тогда они договорились, что ему должен быть тридцать один год, потому что шесть лет, как утверждают специалисты, идеальная возрастная разница для супругов. Какой тип мужчины? Среднего роста. Худощавый. Шатен. Мускулистый. Глаза голубые. Кто по профессии? Юрист! — предложил Педжа Лукач, на что Лена сказала: — Ты меня недооцениваешь! По-твоему, я не заслуживаю ничего более интересного? Поэт. Вот еще! Не люблю поэтов. Мне нужен комфорт. Хочу, чтобы он прилично зарабатывал. Дипломат? Лена задумалась: — Это уже лучше! — сказала она. — Но в тридцать один год он бы не мог быть послом, а все, кто ниже посла… Как представлю, что мой муж стоит перед чьим-то столом навытяжку, а начальник ему устраивает разнос… Это так унизительно! Как уважать такого мужчину?
«Что такое вся моя жизнь, — думал про себя Педжа Лукач, — как не зона грозы?»
Лена отвергла предложение, чтобы ее будущий муж был артистом (они вечно заняты самолюбованием, как женщины); летчиков вечно нет дома (стюарда они не упоминали), гинекологов, наверное, с души воротит при одной мысли об этом самом. В итоге было решено, что он должен быть архитектором! У архитекторов есть как раз то, что нужно Лене: необычная профессия, искусство без самовлюблённости (ведь это и искусство, и ремесло!), самостоятельность и некоторая власть над другими, которая не является властью ради власти, потому что временна, даётся только на время строительства. Итак, он должен быть архитектором! Надёжный, спокойный, разумный, обстоятельный, но при этом безалаберный, как все художники (может быть, немного чудаковатый?) — одним словом, идеальный мужчина, который может обеспечивать семью, с которым спокойно, надёжно, ну и так далее.
Так они с помощью воображаемого фоторобота создавали мужа для Лены, складывая его из лучших черт всего мужского рода, слепленных в единое целое тайной ревностью Педжи Лукача.
— Чего-то ему всё же не хватает… — сказал он. — Он слишком безупречен, чтобы стать реальным. Потому никак и не оживает…
— Что же делать? — спросила Лена.
УВАЖАЕМЫЕ ПАCCАЖИPЫ, НАШ САМОЛЕТ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К БЕЛГРАДСКОМУ АЭPOПОРТУ…
— У него должны быть какие-нибудь недостатки, верно? Ничего особенного, так, по мелочи…
— Например?
— Может, он пьет?
— Разве это недостаток?
— Храпит?
— Меня из пушки не разбудишь!
— Обожает мать?.. Эдипов комплекс?
— Она стара. Умрёт и оставит нас одних.
— Есть ещё кое-что, чего ты о нём еще не знаешь.
— Что? Неужели?..
— Нет-нет, он не голубой. Это так, мелочь…
— Ну, говори же!
— Счастливо женат и имеет детей.
— Э, нет! Я не согласна. Хватит с меня женатых!
— Хорошо! Разведён и имеет детей.
— Это пожалуйста. Я не возражаю, чтобы они его время от времени навещали. А квартира у него есть? Или дом?
— Он занимает один этаж в небольшом домике.
— В каком районе?
— Скажем, Дединье[18].
— Претенциозно.
— Тогда на Kpyнской? Крунская, одиннадцать, высокий первый этаж.
— Это ещё не всё, — сказала Лена. — Как его зовут?
— Какое имя тебе больше всего нравится?
— Вук.
— Хорошо, Вук Радович. Крунская, одиннадцать, высокий первый этаж.
УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! НАШ САМОЛЕТ СОВЕРШИЛ ПОСАДКУ В БЕЛГРАДСКОМ АЭРОПОРТУ. УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА НЕ ОТСТЕГИВАТЬ РЕМНИ И ОСТАВАТЬСЯ НА СВОИХ МЕСТАХ ДО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЕЙ. ТЕМПЕРАТУРА В БЕЛГРАДЕ ПЛЮС ВОСЕМНАДЦАТЬ ГРАДУСОВ. НАДЕЕМСЯ, ЧТO ПОЛЕТ БЫЛ ДЛЯ ВАС ПРИЯТНЫМ!
Они вышли из «Боинга», взяли свой багаж, сели в такси и поехали на Крунскую. Педжа Лукач внёс Ленин «Самсонит» в подъезд дома номер одиннадцать. Позвонил в дверь морёного дуба с начищенной латунный ручкой. Открыл мужчина лет тридцати, голубоглазый шатен в купальном халате.
— Вы Вук Радович?
— Слушаю вас?
— Это Лена, ваша будущая супруга!
— Очень приятно, я очень рад! Проходите, пожалуйста!
— Нет-нет, спасибо, я только её проводил, меня ждёт такси…
— Вы даже ничего не выпьете?
— Я в самом деле не могу. Привет!
— Чао! Заходи как-нибудь, мы с Вуком будем рады…
35
Никогда прежде я их не видел.
Они не похожи на людей, которые интересуются книгами. Лица у них незапоминающиеся, одеты аккуратно, ни одной броской детали. Двое серых мужчин в таких же серых дождевиках. Один направляется в глубину лавки, проглядывая мимоходом названия. Второй остается у двери. Я не спрашиваю, что им нужно. Сижу и смотрю сквозь стекло витрины. Первый возвращается от стеллажей и подходит ко мне сзади:
— У вас случайно нет «Абсурда власти»?
Свихнуться можно — в последние дни ничего другого не спрашивают! Как будто я продаю не книги, а скандалы!
— Вот же, у вас под рукой, — говорю.
Подошел и второй дождевик.
— А еще экземпляры есть?
— На складе, наверное, найдутся, — ответил я.
— Сколько?
— Чего сколько?
— Сколько ещё есть экземпляров?
— Я посмотрю.
— Я пойду с вами! — заявил он и привычным движением извлёк из кармана маленькую книжечку — удостоверение.
Осталось ещё одиннадцать экземпляров.
— Сколько вы всего заказывали?
— Разве я помню! — ответил я. — Сейчас посмотрю в книге заказов. Он не отходит от меня ни на шаг.
— Дайте, я сам! — сказал он и стал листать бланки заказов. — Продали вы, значит, восемьдесят экземпляров?
— Выходит так…
— Кому?
— Я не записываю фамилий…
— Ты мне дурочку-то не валяй! — процедил он сквозь зубы. — Тебе отлично известно, кто покупал это дерьмо!
— Известно, — смиренно признался я.
— Так кто?
— Сам автор купил десять экземпляров. Мы ему продали с двадцатипроцентной скидкой.
— Кто еще?
— Я. Мне что, принести тебе из дома свой экземпляр?
Он не ответил.
— Какой-нибудь мешок есть? — спросил он неприязненно.
Я дал ему целлофановый мешок, и он побросал в него оставшиеся «Абсурде».
— А квитанция?
— Какая ещё квитанция?
— Я отвечаю за эти книги! Как мне, по-твоему, потом за них отчитываться?
Он нехотя нацарапал что-то на квитанции, поглядывая на меня исподлобья:
— Ты не больно-то умничай.
— Её что, запретили? — спросил я его помощника.
— Вроде бы…
— Но почему?
— Понятия не имею.
Они ушли, не сказав больше ни слова.
Я продолжал смотреть сквозь витрину, но уже без всякого удовольствия. Вскоре зазвонил телефон. Меня вызывали в дирекцию.
На этот раз мне не предложили ничего выпить, не предложили даже сесть. В секретариате сидели двое незнакомых мужчин и женщина средних лет за пишущей машинкой. Они замолчали при моем появлении. Секретарь почему-то обратился ко мне на «вы»:
— Вы можете нам ответить, кто организовал представление книги «Абсурд власти»?
— Я.
— Вы предварительно консультировались с кем-нибудь из дирекции?
— Нет.
Женщина отпечатала мои ответы, и я их подписал.
— Можете идти…
Я вернулся в лавку. Через пять минут зашел парень в куртке десантника.
— У вас случайно нет «Абсурда власти»? — спросил он еще с порога.
— Нет.
— Жаль! — сказал он. — Я слышал, его собираются запретить…
— Из-за чего?
— Понятия не имею! — ответил парень и вышел.
36
Я всё спрашиваю себя, что было бы, если бы в тот вечер корреспондент «Журнала» случайно (случайно ли?) не забрёл в наш магазинчик и через два дня не напечатал о происшедшем репортаж на два столбца? По всей вероятности, ничего. Всё бы прошло тихо, как обычное представление публике новой книги, какие чуть не каждый вечер организуются в белградских книжных магазинах и галереях. Но уже сама величина жирных букв заголовка служила зловещим предупреждением, что речь идет о событии, не могущем остаться без серьёзных последствий. Под заголовком располагался большой снимок лавки, напоминающий фотографию места, где совершено какое-то ужасное преступление. Не хватало только мелового контура на тротуаре.
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДИВЕРСИЯ В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ „БАЛКАНЫ“.
В последнее время даже книжные магазины, предназначение которых служить храмами просвещения и культуры, становятся местом политических диверсий всё более наглеющих врагов нашего общества всех мастей и оттенков. Об этом свидетельствует возмутительная выходка служащего книжного магазина „Балканы“ на улице Королевы Анны, который, воспользовавшись недавней презентацией книги, написанной в духе недостойного памфлета, пытался пропагандировать типично конформистские, обывательские, анархо-либеральные и антикоммунистические идеи и взгляды, ничем не отличающиеся от высказываний злейших врагов нашей страны.
После того, как он чуть ли не с кулаками набросился на нашего корреспондента, обзывая его провокатором только потому, что тот, исполняя свой профессиональный долг, осмелился поинтересоваться, кто является официальным организатором встречи читателей с автором книги весьма сомнительных идейно-художественных достоинств, и после того, как он запретил ему впредь появляться в своём магазине, полупьяный книготорговец (в дирекции мы узнали, что его имя Педжа Лукач), не обращая внимания на негодование присутствующих покупателей и гостей, влил в себя чуть не целую бутылку вина и обрушил поток желчи и грязи на наш общественный строй. Говоря о послевоенном периоде восстановления и строительства, когда наше общество напрягало все силы для того, чтобы поднять страну из руин, П. Лукач дал следующее свое „видение“ тех героических лет: „когда после войны началась идеологическая муштра, когда из нас, маленьких анархистов-индивидуалистов, выросших на обломках вчерашнего мира, надо было по тогдашнему советскому образцу сделать маленьких старичков, организованных пионеров с красными галстуками в духе непревзойденной „Педагогической поэмы“ гениального товарища Макаренко, появилась масса идиотских книг, превращавших детей в кретинов. Мы, разумеется, по-своему сопротивлялись… В те мрачные времена, когда идеальный ребенок должен был быть чем-то вроде маленького общественно-политического деятеля, занимающегося критикой и самокритикой, перевоспитывающегося, фискалящего на своих близких и берущего пример со старших, какими бы подлецами они ни были, мы уносились на космическом корабле Флэшa Гордона в иные, далекие миры… (Уместно спросить, в какие такие миры уносился юный П. Л.? Уж не в миры ли чуждого нам общественно-политического строя?) Так с помощью Флэша Гордона я восстановил утраченную связь с довоенным временем!“
Охарактеризовав в своём „выступлении“ всю политику нашей страны как сталинско-догматическую, П. Л. на этом не останавливается, он обвиняет старшие поколения борцов-революционеров в том, что они якобы „уготовили молодежи участь шизофреников, которым приходилось с детства страдать от раздвоения личности: одно лицо, общественное, было для школы и пионерской организации, а другое, тайное, только для себя и самых близких друзей!“
Согласитесь, это уже слишком! Такое непозволительно даже пьяному книготорговцу. Всё же мы благодарны П. Лукачу за то, что он раскрыл нам тайную стратегию враждебных элементов. В конце своей „речи“ П. Л. Обвинил поколение наших отцов и дедов в злоупотреблении доверием народа, заявив, будто „тот, кто в те годы посмел бы открыто говорить правду, и по сей день сидел бы в тюрьме, и никто бы перед ним даже не извинился!“
Книжный магазин „Балканы“ на улице Королевы Анны, где на днях были высказаны подобные „мысли“, уже давно избрали местом своих сборищ разного рода „литераторы“ и частные „издатели“, ловко ускользающие от общественного контроля. Кстати сказать, там регулярно распиваются спиртные напитки, якобы по примеру аналогичных заведений на Западе (!). Ничего удивительного, что его служащий осмелился произносить речи перед публикой в, мягко говоря, нетрезвом виде! Возникает вопрос, действительно ли это его частная лавочка, где он может вести себя подобным безответственным образом, или речь идет о государственном объекте культуры, на развитие которой наши рабочие выделяют из своей зарплаты немалые средства? Интересно было бы послушать, что думают обо всём этом ответственные товарищи в дирекции „Балкан“, а также издательский совет этого солидного издательства, книжный магазин которого явно без ведома ответственных лиц используется в своих грязных целях враждебно настроенными элементами?»
37
«Весь оставшийся тираж книги „Абсурд власти“ переработать во вторичное сырьё…»
(«Официальный вестник»)— Так в два счёта грыжу заработаешь! — жалуется рабочий, таскающий связки «Абсурда власти» к машине для резки бумаги.
— В обложке нельзя! — протестует человек за машиной. — У меня все ножи полетят!
— А как же раньше можно было? — спрашивает старший инспектор.
— Раньше книги были в мягких обложках. А тут поглядите, какой твёрдый переплет, да еще пластик! После этого ножи можно сразу выбрасывать…
— Что будем делать, товарищи? — спрашивает старший инспектор комиссию.
— Надо оторвать обложки! — предлагает второй член комиссии. — Позовите ещё двоих человек!
Подходят двое, в руках у них кефир в картонных пакетах и рогалики. Старший инспектор нетерпеливо смотрит на часы:
— Побыстрее, товарищи, мы спешим!
— Имеем мы право позавтракать? — возмущается первый рабочий.
— Да пошёл он… — негромко говорит второй. — Лично мне спешить некуда!
— Что ты сказал? — подходит к нему второй член.
— То, что слышал! — отвечает рабочий с набитым ртом. — Посмотри на время! У нас перерыв до десяти…
— Принесите комиссии кофе из столовой! — требует второй член комиссии.
— Кофе нет! — говорит бригадир рабочих. — Чай будете?
— Давай что есть! — машет рукой старший инспектор.
Не спеша позавтракав, рабочие закуривают и начинают лениво отрывать обложки. Обнажённые, книги отправляются в бумагорезательную машину, которая затем выплёвывает их в виде бумажной лапши. Обложки кидaют на тележку и вывозят во двор типографии. Двор окружён грязно-серыми стенами, у которых свалены рулоны старой бумаги и какие-то бочки.
— Кошава начинается… — говорит старший инспектор, глядя в небо.
— В этом году что-то рано, говорит третий член комиссии.
Бригадир обливает обложки бензином. Подходит пожарный:
— Что это вы делаете?
— А ты не видишь?..
Пожарник хватается за висящую на поясе кобуру:
— А ну брось! — кричит он грозно. — Здесь я хозяин!
— У нас постановление… — говорит второй член.
— Чьё постановление?
— Не суйся, не видишь — мы работаем! — отпихивает его бригадир.
— Насрать мне на ваше постановление! — кричит пожарник. — Здесь я хозяин!
— Так нельзя, товарищ, — пытается утихомирить его старший инспектор. — Выбирайте выражения!
— А я вам говорю: здесь не будет открытого огня, пока я на посту! Я из-за вас не собираюсь в тюрьму садиться!..
— Сходите в секретариат! — велит старший инспектор второму члену. — Товарищ прав. Пусть ему там дадут указание.
— Это другое дело, — соглашается пожарник, убирая руку с кобуры. — Пусть принесут разрешение от инженера по технике безопасности, и потом хоть всю типографию спалите — мне дела нет! А в тюрьму я ни из-за кого не желаю садиться!..
Второй член комиссии шипит:
— Я это тебе припомню, Милич! — и уходит за разрешением.
— Плевать я хотел на твои угрозы! — кричит ему вслед пожарник.
— Выбирайте выражения, товарищ! — укоряет его третий член.
— Тебе я ничего не говорил!
— Откуда вы, товарищ? — примирительно спрашивает старший инспектор.
— Из Чаетины — нехотя отвечает тот.
— Красивый край… — говорит инспектор.
Пожарник молчит, мрачно уставясь на носки своих сапог.
Третий член, представитель издательства, выпустившего книгу в серии «Книги и идеи», спрашивает старшего инспектора, читал ли он «Абсурд власти». Это его, впрочем, нисколько не интересует, просто ему тягостна наступившая тишина. Старший инспектор отвечает, что не читал. Некогда, много работы.
— Крупная издательская недоработка… — сокрушенно говорит третий член.
— Н-да, бывает…
Они молча стоят над грудой оторванных обложек. Через некоторое время возвращается второй член с заведующим типографией.
— В чем дело, Милич? — вопрошает тот пожарника. — Опять твои фокусы?
— Я не собираюсь из-за него в тюрьму садиться! — возмущается тот. — Вы же сами у меня в прошлом месяце вычли из зарплаты из-за какой-то паршивой зажженной сигареты! Если вы берёте на себя ответственность, я не возражаю!
— Поджигай! — велит заведующий бригадиру, который стоит в нерешительности с мятой газетой и зажигалкой в руке. — Я отвечаю.
— А докэмент?
— После зайдешь со мной в канцелярию. Эта корова ушла завтракать и заперла печать…
Пожарник берет под козырек. Со стороны кажется, будто он отдает честь очередной жертве Index librorum prohibitorum[19].
Бригадир подносит зажигалку к смятой газете, которую затем бросает на груду обложек. Они вспыхивают, сворачиваясь в трубочки и распространяя вокруг кисловатый запах. Люди молча смотрят на фиолетовое пламя.
Комиссия подписывает протокол о переработке «Абсурда власти» во вторсырье.
— Не зайдете ли к нам в столовую позавтракать? — предлагает второй член старшему инспектору. — У нас сегодня фасоль…
— По-солдатски?
— По-солдатски?
— Ну, если по-солдатски, то пойдем!
Первый рабочий пьёт в буфете пиво со вторым рабочим.
— Глянь-ка, что я стибрил! — он вытаскивает из-под спецовки «Абсурд власти».
— Смотри, чтобы кто не увидел. Мало ли что там может быть написано!
Ветер разносит по двору золу и пепел. Пожарник гоняется за тлеющими обрывками и затаптывает их сапогами.
— Кошава, мать ее так! — ругается он, поглядывая на небо.
38
Интересно, что бы произошло, если бы товарищ Уча через день не должен был выступать на каком-то митинге? Скорее всего ничего. Заметка корреспондента «Журнала» по поводу представления «Абсурда власти» была бы вытеснена из памяти читателей уже следующим номером этого фискального листка, как вполне заурядная глупость, к каким уже все давно более или менее привыкли, и наши три судьбы даже теоретически никогда бы не смогли соприкоснуться, а тем более переплестись.
Как принято в подобных случаях, товарищ Уча (читавший свою речь по бумажке) сперва поделился воспоминаниями о военном времени, а потом коснулся положения в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в энергетике, здравоохранении, науке, образовании и туризме, закончив обращением к моей скромной персоне, о которой он говорил уже не только по шпаргалке, но и экспромтом, причем с неподдельным пафосом. Хотя мне он в своей длиннющей речи посвятил не больше двадцати строчек, все газеты именно эту часть его выступления вытащили в заголовки и подзаголовки, выделили в тексте курсивом. Получилось, что мне придаётся гораздо большее значение и важность, чем славному прошлому и всем отраслям народного хозяйства и социальной сферы, о которых рассуждал оратор. Чаще всего встречался устрашающий заголовок «НИKAKИX КОМПРОМИССОВ С ВРАГАМИ!», кочевавший с лёгкой руки корреспондента ТАНЮГ из одной газеты в другую. Видимо, всем уже осточертели одни и те же навязшие в зубах фразы, которые без конца талдычит Уча, вот они и возгорелись охотничьей страстью, почуяв живую дичь.
«Говоря о нашей действительности, — отметил товарищ Уча, — мы вместо конкретного критического анализа зачастую ограничиваемся лишь абстрактными рассуждениями и намёками. Пора перестать ссылаться на „определенные негативные явления“, „отдельные ошибки“ и „несознательные элементы“, давайте, товарищи, назовём вещи своими именами! Надо полагать, у виновников этих негативных явлений есть имена и фамилии? Вот на днях читаю в средствах массовой информации, что посреди нашей столицы возникло неприкрытое вражеское логово и что это логово оппозиции, из которого классовые враги клевещут и изрыгают хулу на величайшие завоевания нашего движения, сформировалось в рамках социалистического издательства (под названием „Балканы“), а мы по-прежнему смотрим сквозь пальцы на то, что подобные вредные элементы портят и сбивают с пути нашу молодежь! Примером того может послужить омерзительная, контрреволюционная и националистическая выходка некоего Педжи Лукача, в бессильной обывательской ярости обрушившегося с гнусными нападками на нашу общественную систему, столь ненавистную вышеупомянутому Лукачу и ему подобным. Всё начинается с разглагольствований о том о сём, но очень быстро становится ясно, о чем на самом деле идёт речь — речь идёт о подлых нападках на Революцию. Неужели, товарищи, у нас настолько ослабла бдительность, что стало возможным говорить подобные вещи — я цитирую: „Когда после войны началась идеологическая муштра, когда из нас, маленьких анархистов-индивидуалистов, выросших на обломках вчерашнего мира, надо было по тогдашнему советскому образцу сделать маленьких старичков, организованных пионеров с красными галстуками в духе непревзойдённой „Педагогической поэмы“ гениального товарища Макаренко, появилась масса идиотских книг, превращавших детей в кретинов. Мы, разумеется, по-своему сопротивлялись… С помощью Флэша Гордона я восстановил утраченную связь с довоенным временем!“ Конец цитаты. Выходит, товарищи, этот самый Педжа Лукич еще ребёнком мечтал о возврате к старому, к старой, королевской, капиталистической Югославии. И он об этом говорит сегодня, когда на дворе год тысяча девятьсот восемьдесят второй, и ведь это ещё не всё! Он принародно утверждает, что тот, кто в те годы посмел бы открыто говорить правду, и по сей день бы сидел в тюрьме, и никто перед ним даже не извинился бы! Я думаю, товарищи, что его-то действительно следовало 6ы посадить в тюрьму!» (Аплодисменты)
39
НАГЛЫЕ ВЫПАДЫ
С ПОЗИЦИЙ АНАРХИЗМА
НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ!
ГРУБЫЕ НАПАДКИ НА РЕВОЛЮЦИЮ
БАЛКАНСКИЕ ВЫХОДКИ В «БАЛКАНАХ»
КОГДА ОСЛАБЕВАЕТ ПОЛИТИЧЕСКАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ
ФИГА В КАРМАНЕ
ОППОЗИЦИЯ ПОДНИМАЕТ ГОЛОВУ
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОИСКИ
КТО ОТВЕТИТ?
ОЧЕРНЕНИЕ СЛАВНОГО ПРОШЛОГО
ОППОРТУНИЗМ ПОД ВЫВЕСКОЙ КНИЖНОЙ ЛАВКИ
НОВОЯВЛЕННЫЕ ДИССИДЕНТЫ И БЕЛОЕ BИHO
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ИЛИ ТРАКТИР?
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ОДНОМУ КНИГОТОРГОВЦУ
ИДЕЙНЫЕ ГОРИЗОНТЫ ОБЫВАТЕЛЬЩИНЫ
КНИЖНАЯ ЛАВКА — ЛОГОВО «СВОБОДНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ»
НОЖ В СПИНУ
КАБАЦКАЯ ЛОГИКА ПСЕВДОИНТЕЛЛИГЕНТОВ
ДОРОГА В НИКУДА…
— это лишь небольшая часть заголовков в газетах, опубликовавших речь товарища Учи, который, кажется, наконец нашёл виновника всех бед в государстве. C газетных страниц на мою беззащитную голову внезапно обрушился свинцовый ливень проклятий. На безмятежном фоне тихого политического сезона я нежданно-негаданно стал главной темой. Леденея от ужаса, забился я в свою маленькую, запущенную квартирку, вся меблировка которой состоит из связок старых газет и пустых бутылок. Я выбирался из своей норы только для того, чтобы купить свежие вечерние газеты и вино. Но вместо того, чтобы утихнуть через день-другой, как я ожидал, травля продолжала шириться, принимая невероятные размеры. К счастью, я не слишком известная личность, и поэтому мог беспрепятственно передвигаться по городу, по крайней мере ночью или в сумерки, без боязни быть узнанным и линчованным прямо на улице. В голове у меня все время звучала фраза:
Я думаю, что его-то действительно следовало бы посадить в тюрьму!
Я думаю, что его-то действительно следовало бы посадить в тюрьму!
Я думаю, что его-то действительно следовало бы посадить в тюрьму!
следовало бы посадить в тюрьму!
следовало бы посадить в тюрьму!
следовало бы посадить в тюрьму!
следовало бы посадить в тюрьму!
посадить в тюрьму!
посадить в тюрьму!
посадить в тюрьму!
В тюрьму!
В тюрьму!
В тюрьму!
В ТЮРЬМУ!
Я чувствовал себя диким зверем, который сбежал из зоопарка, или бродячим котом, который крадучись пробирается по городу, зная, что если его обнаружат и схватят, то в тот же миг засадят за решётку как опасного для окружающих.
Забившись в угол комнаты, я сидел и думал: «Кто же этот человек, о котором я почти ничего не знаю, который так внезапно появился, вернее спустился откуда-то из заоблачных административных высот, подобно неумолимому карающему ангелу, чтобы в одну минуту всего лишь несколькими строчками в газете перевернуть всю мою жизнь? Кто он такой? Его лицо смутно знакомо мне в основном по газетам, хотя он, правда редко, появляется и на экране телевизора, это обычно один-два кадра типа: „На заседании также присутствовали…“, мимолетом выхваченное лицо, а то и крупный план: он всегда сидит над бумагами и делает какие-то пометки в окружении людей такого же вида; у него очки в толстой оправе с большими диоптриями, за ними невыразительные глаза, ничем не запоминающиеся, разве только несколько высокомерным, рассеянно-равнодушным выражением; серый, землистый цвет лица, характерный для человека, много времени проводящего в закрытом помещении, две строгие морщинки между густых бровей; он никогда не улыбается на фотографиях, всегда деловит, холоден и корректен. Как за этим фасадом — безликой физиономией в газете в оспинах растра (а ведь за ней скрывается кто-то живой!) — угадать настоящее человеческое лицо, проникнуть в мысли?» Озабоченный Чубчик приносит мне из лавки справочник «Кто есть кто в Югославии», я там нахожу его имя, фамилию, день, месяц, год и место рождения, длинный список его прежних и теперешних должностей, по которому совершенно невозможно определить его настоящую профессию, так как все эти учреждения, где он много лет «руководил, направлял и координировал», ничем между собой не связаны (что общего имеет, например, здравоохранение с футбольными клубами или строительными работами за границей?), как будто ему было абсолютно всё равно, чем заниматься, — работает там, куда назначат, а через некоторое время вдруг всплывает в совсем другом месте и в совершенно иной сфере. Он словно олицетворяет вечную равнодушную административную карусель. И вот из этой распространившейся надо всем и вся тёмной тучи вдруг — внезапный гром, взрыв необъяснимо сильной ненависти, которая наконец показывает, что и он — человек из плоти и крови, и поражает даже видавших виды репортёров (интересно, что они впервые посвящают ему так много места в газетах и времени на телевидении). Или это прорвалось долго копившееся скрытое раздражение, нашло выход озлобление на всё, что связано с людьми моей породы, дала себя знать усталость от долгой изматывающей игры на очки, в которой ни в коем случае не должна слишком выделяться личность игрока — надо присутствовать, оставаясь незаметным, так сказать, серым кардиналом, благодаря терпению и осторожности оставляющим далеко позади куда более одаренных и заслуженных игроков, которые, увы, — были слишком нетерпеливы, подгоняемые чрезмерными амбициями или желанием выделиться (правда, эта многолетняя сдержанность стоила ему нескольких инфарктов, из которых он едва выкарабкался)? А может быть, во всём этом определенную роль сыграла и его личная жизнь, о которой никто ничего не знает, словно она и не существует; как бы то ни было, его гнев громами и молниями какого-то мифического административного бога обрушился на мою голову, как deus ех machina[20]. Я не могу даже ненавидеть его, потому что он, кажется, и не существует иначе, как символ нашего серого времени. Как ненавидеть того, кого ты не знаешь, с кем ни разу не соприкасался, кому ни разу не взглянул в глаза? Как ненавидеть человека, который лишь по чистой случайности вырвал тебя из анонимной массы, как морковку из земли, и показал на твоём теле признаки какой-то опасной болезни, грозящей заразить весь огород? Как ненавидеть кирпич, случайно упавший на голову прохожего (почему всегда этот проклятый кирпич?), или цветочный горшок (почему всегда горшок?), или птичий помёт (почему, черт возьми, помёт?), как ненавидеть болезнь, которая внезапно наваливается на человека, приковывает к постели, высушивает, как щепку (почему обязательно как щепку?)?
Или, может быть, все это плод какой-то случайности, может, на него так повлиял бреющий полет спецсамолёта, доставившего его на то празднество, стремительный, красивый полет маленькой, но мощной машины над жёлтыми пашнями и лесами, над сельскими домиками и скромной крестьянской жизнью; не посещали ли его тогда, как это часто бывает в самолете, мысли о прожитой жизни и беззаветной борьбе за порядок, который беспрерывно нарушали какие-то сомнительные типы, недовольные Бог знает чем и Бог знает почему; в отличие от них на нём лежала ответственность за эту страну, проносящуюся внизу, и за будущее этой мокнущей толпы на митинге, где он держал речь, когда с неба моросил мелкий октябрьский дождь, а они стояли в чистом поле без зонтов, некоторые с непокрытыми головами, другие в мокрых кепках, меховых шапках, фуражках, шляпах, под намокшими провисшими транспарантами, на которых расплывалась красная краска горящих слов; они стояли невозмутимые, как земля, терпеливые, как само время. Он видел изрытые морщинами лица старых воинов, тускло поблескивающие медали и разноцветные орденские планки, палки в узловатых руках инвалидов войны, а ноздри его щекотал кисловатый дымок от костров, где на вертелах под растянутым брезентом поджаривались молодые барашки (потом всегда банкет). Да, он отвечал за них, они пришли на митинг пешком из своих затерянных в горах сел, и он читал уважение в их замутнённых глазах, а где-то там, далеко, в глубине большого грязного, замусоренного города ему виделось отвратительное книжное логово, откуда скалились интеллигентские рыла, для которых нет ничего святого, которые готовы самые серьёзные вещи обратить в анекдот, каламбур или ещё какой, ему непонятный словесный выверт. И сколько бы он ни брал их к ногтю, они всё равно продолжали зубоскалить, даже когда не смели этого делать в открытую, он слышал их внутренний смех и непроизнесённые слова, видел их невидимые непристойные картины и страницы ненаписанных книг, высмеивающих его, книг, пропитанных интеллектуальным гноем, и, возможно, под влиянием чувства, что защищает этот промокший народ от заразы, даже он, известный своей необыкновенной сдержанностью, на мгновение утратил контроль над собой и, дав волю благородному возмущению, неожиданно для самого себя выпалил в конце эту фразу: «Я думаю, что его-то как раз следовало бы посадить в тюрьму!», которую напечатали во всех утренних выпусках газет, но уже в вечерних и всех последующих — выбросили, спохватившись, что как бы товарищ Уча ни был прав, в данном случае он всё же хватил через край, выстрелив из главного калибра по политическому воробью.
40
На третий день моего добровольного домашнего ареста зазвонил телефон:
— Адвокатская контора Петровича! — представился энергичный мужской голос. — Надо бы поговорить…
— О чём?
— O вашем деле.
— Слушаю вас.
— Это не телефонный разговор…
— У меня нет тайн от своего телефона!
— Всё же, если вас интересуют некоторые данные в связи с… Лучше всего вам было бы зайти к нам!
Он продиктовал мне адрес. Что я, собственно, теряю? Через полчаса я был в приёмной, где томились будущие подзащитные, сумрачный, озабоченный народ, явно не в ладах с законом. Не успел я представиться, как секретарша провела меня в кабинет, выразив таким образом особое почтение к серьёзности моего дела. Я почувствовал себя польщённым. Петрович младший, элегантный мужчина лет тридцати, встретил меня в интерьере диккенсовских адвокатских контор. Даже теннисные ракетки висели на стене над настоящим маленьким музеем всевозможных допотопных пишущих машинок: «Ремингтон», «Адлер», «Континенталь», «Универсал»… Поблекший шёлк на стенах, фотографии разных знаменитостей с посвящениями и выражениями глубочайшей признательности и лёгкий запах трубочного табака дополняли атмосферу этого мужского святилища. Разумеется, прежде всего мы осмотрели пишущие машинки, про которые Петрович-младший сообщил мне, что они достались ему от деда, также бывшего адвокатом. Все три поколения их семьи специализировались на политических процессах.
Короче говоря, Петрович-младший случайно узнал в суде, что в столе какого-то очень важного судьи лежит требование прокурора о возбуждении против меня дела!
Я сел и выпил предложенную водку. Она была как нельзя кстати. Дело принимало всё более серьезный оборот. Это уже была не беллетристика, а жизнь, и не чья-нибудь, а моя, все это происходило со мной, страстным читателем книг о чужих несчастьях!
— С вашим делом получилось много шума… — продолжал Петрович-младший. — По чистой случайности вы оказались в эпицентре столкновения различных интересов, и за всем этим уже длительное время внимательно следит международная общественность…
— Какое она к этому имеет отношение?
— Сейчас знаете ли, очень деликатный в политическом смысле момент. Иностранных корреспондентов, которые о нас уже пишут, вы сами, собственно, не интересуете, им надо знать, каким будет дальнейший курс страны. И тут они всякое лыко готовы поставить в строку. Не обижайтесь, но вы — всего лишь случайно подвернувшаяся лакмусовая бумажка, которую погрузили в данный политический раствор и теперь ждут, покраснеет она или посинеет…
— Что это значит? — спросил я. — Меня что, действительно посадят?
— Не знаю, — ответил он, — но этот судья известен своей строгостью. Мне не нравится, что дело передали именно ему…
— Что он может мне пришить?
— Не могу сказать, что он решит, если вообще что-нибудь решит, — сказал Петрович-младший, раскрывая кодекс. — Но насколько я его знаю, он бы мог вам навесить 133 статью. Вражеская пропаганда…
— Вражеская пропаганда? — я налил себе ещё водки.
— «Выпуск и распространение печатных материалов, листовок, рисунков и других материалов, а также устные выступления, призывающие или подталкивающие к свержению власти рабочего класса и трудящихся, к антиконституционному изменению системы социалистического самоуправления…» — быстро читал он. — Ну и так далее, и так далее, «равно как и насаждение заведомо ложных представлений об общественно-политической ситуации карается лишением свободы сроком от одного до десяти лет».
Он озабоченно посмотрел на меня поверх страниц:
— В этом случае, — продолжал он, — мы попытались бы добиться того, чтобы ваши действия были переквалифицированы по статье 218.
— Сколько это?
— До трёх лет! — ответил он и стал быстро читать: — «Распространение лживых слухов с целью вызвать недовольство или волнения в народе, спровоцировать нарушение общественного порядка или помешать осуществлению решений и мер государственных органов и учреждений или же дискредитировать подобные решения и меры в глазах граждан карается лишением свободы сроком до трёх лет…»
— И… Что же делать?
— Ничего, — ответил он. — От вас абсолютно ничего не зависит.
— Это утешает…
— Что поделаешь! В такие ситуации попадают помимо своей воли. Хуже всего приходится тем, кто пытается что-то предпринять, начинает брыкаться, барахтаться… Знаете эту старую притчу о лисе, упавшей в Сану у Шабаца? Не знаете? Когда она попыталась выбраться на берег и ей это не удалось, она перестала бороться с течением, сказав: «Не беда, все равно у меня есть дела в Белграде!»
— Можете вы по крайней мере посоветовать мне, что делать, если он меня вызовет?
— Держаться следует спокойно и рассудительно. Было бы неплохо, если вас сопровождал ваш адвокат…
— Зачем?
— Бывают, знаете ли, разные юридические подвохи, особенно в формулировках при составлении протокола, которые потом могут осложнить ваше положение…
— Но у меня нет адвоката!
— Так наймите его!
— Может быть, вы возьмётесь?
— Если хотите.
— Хочу.
Мы пожали друг другу руки и перешли на «ты». У меня появился первый в моей жизни адвокат.
— Я слышал, они приходят под утро?
— Ерунда! Это всё выдумки, сказки судейские! — сказал он, улыбаясь. — Но на всякий случай тебе не мешало бы сложить в сумку самое необходимое: бельё, туалетные принадлежности, иголку с ниткой, какую-нибудь книгу потолще…
Он проводил меня до дверей кабинета.
— Ты знаешь, как ни странно, сейчас примерно равное число людей берёт тебя под защиту (причём вовсе не из-за твоего неотразимого обаяния!) и точит па тебя зубы. Впрочем, ты не занимаешься политикой, и лучше тебе поменьше знать об этом: излишняя информация могла бы тебе только повредить. Короче говоря, в этой игре каждый или теряет, или набирает очки. Поглядим, как пойдёт дело дальше…
— А как мы это увидим?
— По тебе! — сказал он, прощаясь. — По тому, сколько шишек на тебя свалится.
41
Следующие несколько ночей тюрьма стала моей навязчивой идеей. Как-то там будет? Смогу ли я там читать? Посадят меня в одиночку или в общую камеру? А что, если у меня вдруг заболит зуб? Можно ли там курить? А выпивка? Это для меня, может быть, последняя возможность отвыкнуть от алкоголя. Что, если я там начну голодовку? Что, если умру? Что останется после меня? Ничего. Я не закончил даже монографию о Шломовиче… Как скоро меня все забудут? Я перечитал «Процесс» Кафки и снова не смог принять воображаемой вины героя. Наверное, потому я и не люблю Кафку, хотя и восхищаюсь им. Читаю его ради самозащиты. Ведь мою судьбу решали какие-то люди, которых я и знать не знал. Что мне ещё оставалось, кроме как ждать их решения? К счастью, вино у меня всегда под рукой. Ложился я под утро, выучив наизусть и отрепетировав речи, которые вызывали бурные аплодисменты в зале воображаемого суда. Я не расставался с визитной карточкой Петровича-младшего, клал ее даже в карман пижамы.
Как-то ровно в полночь стали бешено трезвонить в дверь. Вот оно! Наконец-то пробил мой час! Не спрашиваю, ни кто там, ни что нужно. Знаю и так. Зажигаю свет в прихожей и настежь распахиваю дверь. Я готов! Наденут мне наручники сразу или потом?
В дверях пьяно раскачивается поэт Ангел, личность, известная в богемной среде Скадарли[21] живущий где-то в середине девятнадцатого века.
— Я тут проходил мимо, — он едва ворочает языком, — и решил сказать тебе, что ты настоящий мужик! Ей-богу! Снимаю шляпу! Только не вздумай теперь оправдываться и что-то им объяснять. Ты своё сказал! А если надо, я на суде заявлю, что тоже читал про Флэша Гордона. Да, и вот что, — добавил он, придерживаясь за косяк, — дай-ка мне на пиво!
На следующий день я позвонил Петровичу-младшему и спросил его, как мне себя вести.
— А как ты себя вёл раньше? — ответил он вопросом. — Что ты обычно делал?
— Ходил в лавку…
— Ну и ходи себе дальше, — сказал он. — Тебя же ещё не вытурили…
— Гулял, сидел в кафанах с друзьями… Мало ли что ещё.
— Продолжай по-прежнему гулять и сидеть в кафанах! — сказал он. — Конечно, если найдёшь кого-нибудь, кто осмелится сидеть с тобой за одном столом!
В то же утро я вышел из своего домашнего заключения, к которому сам себя приговорил, и с головой окунулся в волны, поднятые моим «делом».
Так я узнал, что весь номер «Журнала», в котором были приведены отрывки моей речи в лавке, распродан до последнего экземпляра. По слухам, на чёрном рынке он шел по пятьдесят тысяч динаров. В других городах цена, говорят, была еще выше. Один владелец ксерокопировальной машины выставил у себя в витрине неподалеку от Байлониева рынка ксерокопию страницы с моей речью. У него её можно приобрести всего за десять тысяч. Воистину, наш народ может торговать чем угодно, даже идеями! Я сам себе начинаю казаться народной песней, передающейся из уст в уста.
— Разве ты не в тюрьме? — чаще всего спрашивают меня знакомые на улице или в кафане.
— В тюрьме, — отведаю я, — но днем меня выпускают. Там я только ночую.
— Разве вы не в тюрьме? — спрашивает Ладислав Кирхнер, польский переводчик, который частенько заглядывает в лавку.
— Вы говорите с моим дублером! — объясняю ему. — Настоящий Педжа Лукач в тюрьме!
В известном смысле это правда. Куда бы я ни шёл, я ношу свою клетку с собой.
Сижу за её невидимыми решетками в одном клубе. Полдень.
— Какова ваша политическая концепция? — спрашивает госпожа Лерка Кон, руководитель корреспондентской сети одной из крупных американских газет в странах юго-восточной Европы.
Похожая на какую-то экзотическую птичку, госпожа Кон (фамилия ей досталась от одного из многочисленных мужей) явно наслаждается неприкосновенной экстерриториальностью иностранного корреспондента.
— Пожалуйста, заверните мне эти остатки для собаки! — приказывает окна официанту, уши которого превратились в некое подобие локаторов.
Я ответил, что не имею никакой концепции.
— Хорошо! Каковы в таком случае ваши намерения?
— У меня есть намерение забиться в какую-нибудь нору!
Остатки бифштекса ей завернули.
«КНИГОТОРГОВЕЦ ПРОТИВ СИСТЕМЫ!» — гласил заголовок её статьи.
«ФЛЭШ ГОРДОН — ПЕРСОНА НОН ГРАТА В ЮГОСЛАВИИ» — сообщала «Нью-Йорк таймс».
«КНИГОТОРГОВЦУ-ДИССИДЕНТУ ГРОЗИТ АPEСТ» — сообщение агентства Ассошиэйтед Пресс, которое перепечатали все газеты западного полушария, имела броский подзаголовок: «HE ИДЕТ ЛИ ЮГОСЛАВИЯ СНОВА НА ПОВОДУ У РУССКИХ?»
«ПОД ПРИЦЕЛОМ КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ! — писала парижская „Монд“. — СИМПТОМЫ БОЛЕЕ ЖЕСТКОГО КУРСА?»
«КУДА ИДЕТ ЮГОСЛАВИЯ? (лондонская „Таймс“) МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕН-КЛУБ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗЯТЬ КНИГОТОРГОВЦА ЛУКАЧА ПОД ЗАЩИТУ, ХОТЯ OH И НЕ СОСТОИТ EГO ЧЛЕНОМ…»
«НА ОЧЕРЕДИ ФЛЭШ ГОРДОH» — оповестил читателей корреспондент агентства Рейтер.
Би-би-си посвятила мне получасовую передачу.
«Голос Америки» охарактеризовал происшедшее как «внушающее озабоченность охлаждение во взаимоотношениях между двумя странами, продвигавшимися до сих пор в направлении более тесного сотрудничества. Кампанию нападок на старый комикс покойного Алекса Реймонда можно расценить как непродуманный шаг югославского руководства, направленный против американского культурного влияния в данном регионе…»
«КНИЖНАЯ ЛАВКА — ЦЕНТР АНТИСОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ» — под таким заголовком «Литературная газета» опубликовала статью своего белградского корреспондента.
«Зери и популлит» в своей передовице выступила гораздо резче: «Югославские ревизионисты и американские подстрекатели поливают грязью самые светлые странницы марксистско-ленинской культуры!»
В лавке меня поджидала небольшая съёмочная группа Си-би-эс. Не успел я войти, включили мощные юпитеры.
— Не могли бы вы сказать несколько слов? — обратился ко мне корреспондент по-сербски с сильным американским акцентом.
— О чём?
— О том, что с вами произошло.
— Ничего не знаю, — ответил я. — Я несколько дней не читал газет.
— Всё же было бы интересно услышать, что вы обо всём этом думаете?
— Прошу вас считать это небольшой семейной размолвкой, — сказал я.
— Но разве вы не знаете, что вас хотят посадить?
— Неужели? — изумился я. — А за что?
— Станете ли вы искать защиты у организации «Международная амнистия»?
— Нет! — ответил я. — Я буду ждать, когда товарищ Уча или его представители придут за мной. Думаю, они знают, где я работаю.
Я сбежал от них в подсобку и заперся на ключ.
Си-би-эс провела опрос в связи с моим делом.
— Слушай, мы вчера видели тебя по телеку! — донёсся до меня через три дня далёкий голос Джорджа Поповича из Нью-Йорка. — Что у вас там происходит?
— Ничего, — ответил я. — Дурака валяем… А как у вас погода?
— C книжным магазином всё о'кей! — орал он из-за океана. — Выслать тебе билет?
— Дай мне немного времени подумать…
— Forget it![22]
— Я позвоню тебе через пару дней!
— О'кей, приятель! — вибрировала трубка. — Приезжай, мы перевернем Нюцу[23] вверх тормашками!
В лавку пришло и письмо на моё имя, подписанное мистером Лео М. Клейном, директором Карпентерского центра по изучению искусства комикса в Лос-Анджелесе.
«Уважаемый господин Лукач, наш Центр уже много лет занимается изучением искусства комикса и сбором всевозможных материалов по этому чрезвычайно интересному вопросу. Нам стало известно, что Вы являетесь блестящим знатоком этого жанра и специализируетесь на комиксах о Флэше Гордоне. Не скроем, мы искрение рады тому, что этот комикс покойного Алекса Реймонда и сегодня пользуется популярностью в Вашей стране, в то время как даже в самих Соединенных Штатах, к сожалению, лишь единицам знакомо имя этого непревзойдённого художника. В связи с этим для нашего Центра, бережно хранящего и продолжающего традиции искусства комикса, просим Вас ответить на несколько вопросов:
1) Как и когда произошла ваша первая встреча с Флэшем Гордоном?
2) Какое влияние оказал на Вас этот комикс?
3) Что для Вас символизируют такие герои Реймонда, как Дале Арден, доктор Зарков, Король Минго на планете Монго и другие?
4) Каково Ваше отношение к остальным комиксам Алекса Peймoндa, таким как „Джим из джунглей“ или „Рип Кирби“?
5) Оказал ли Алекс Реймонд влияние на авторов комиксов в Вашей стране?
6) В чём конкретно образ Флэша Гордона противоречит политике правительства Вашей страны?
7) Наказуемо ли в Вашей стране хранение комиксов Алекса Реймoнда и почему?
Надеемся, что Вы не откажете нам в любезности ответить на эти несколько вопросов. Заранее благодарим от имени Центра. Искренне Ваш…»
— А вот и кофе! — кричит с порога На Здоровьичко, торопливо семеня с подносом в руках. — Ну что? Как она, жизнь-то?
— Помаленьку! — отвечаю.
— Ну и на здоровьичко!
Впервые за три года он не хочет брать с меня деньги за кофе. Оглянувшись по сторонам, кладёт мне руку на плечо:
— Живы будем — не помрём! — шепчет, но тут же снова натягивает на лицо прежнюю шутовскую маску и кричит: — На Здоровьичко! На Здоровьичко!
— Поостерегись там! — звонит мне старая тётка с курорта.
— Да что они могут мне сделать? — храбрюсь я, как когда-то в детстве.
Помолчав, она говорит:
— Они могут всё!
42
Я послал Весну купить пару бутылок вина. Вернулась она в слезах. Какой-то тип ударил её в глаз. Он сзади легонько хлопнул её по плечу, а когда она обернулась спросить, что нужно, его кулак въехал ей в глаз. Это произошло на углу нашей улицы. Я выбежал из лавки, таща за руку плачущую Весну. Видишь его где-нибудь? Не вижу. Раньше ты его когда-нибудь встречала? Нет. Он заходит в наш магазин? Не заходит. Может, он был пьян? Вроде бы нет. Как выглядел? Не знает. Обыкновенно выглядел… Среднего роста. Волосы каштановые. Нет, скорее белокурые. Её больше всего потрясло то, что прохожие всё видели, но никто не пришел ей на помощь.
— Мало ли в городе маньяков… — неуклюже попытался я утешить Весну, но тень невидимой опасности уже нависла над нашей лавкой. Или мы стали всему придавать чрезмерное значение?
— Wеlсоmе to the club![24] — известный белградский диссидент, уволенный с работы философ M. Б. махнул мне через застеклённую дверь, чтобы затем продолжить свою философскую прогулку.
— Да хранит тебя Бог! — патетично приветствовал меня Васа Живанчевич, автор книги «Албанская Голгофа».
— Вы мужественный человек! — остановил меня перед лавкой какой-то пожилой господин с галстуком-бабочкой. — Я хочу лишь пожать вашу руку! Моё имя не имеет значения…
(Когда-нибудь нам будет стыдно оттого, как мало было нужно, чтобы считаться героем!)
— Свинья, предатель! — верещал из телефонной трубки истеричный женский голос. — Всех вас надо перестрелять!
— С вами говорят из патриархии, — представился глубоким загробный баритон. — Мы молимся за вас…
— Очень мило с вашей стороны!
— Мы, священники, и вы, интеллигенция, — продолжала трубка, — должны до конца нести свой крест, как нёс его наш Господь. Крепитесь и не падайте духом!
Признаться, у меня в тот момент как-то не было настроения нести крест, к тому же меня страшно раздражала вся эта патетика.
— Его Святейшество патриарх приглашает вас погостить в одном из наших монастырей, пока всё не уляжется…
Я самым любезным образом поблагодарил за приглашение, решив, однако, остаться в городе. Город — мой лес, мои родные джунгли; без асфальтового панциря тротуаров, где-нибудь на природе я чувствую себя беззащитным.
«Предлагаю меняться комиксами о Флэше Гордоне, которые я тоже собираю. Мирослав Янчич, 12 лет. Школьник. Сараево, улица генерала Жданова, 4».
— Да, братец, ты хватил через край! — говорит мне один отставной офицер, живущий по соседству. — Оно, конечно, может и Уча малость переборщил, но ведь какое это великое время было!
— Все это подстроено! — бурчит один скептик. — Они между собой сговорились устроить весь этот шум, чтобы отвлечь внимание от экономических проблем, а ты как дурак попался на их удочку!
— Вот чего тебе ещё не хватало, чтобы оказаться в центре внимания, — ухмыляется мне в лицо известный завистник. — Мало тебе лучшей книжной лавки во всём городе, ты ещё и диссидентом хочешь заделаться!
Наконец появился и Доктор, явно очень довольный всей этой кутерьмой. Он добился, чего хотел: через столько лет о нём снова писали и говорили повсюду.
— Мой бедный друг! — трагически возопил он, стоя в дверях и воздевая руки. — Ну, что нового?
— Не знаю, — ответил я, — игру делают они.
Он посмотрел на меня с нескрываемым удивлением:
— Кто это они? — спросил холодно.
Я растерялся. В самом деле кто?
Навестил меня и известный психиатр, доктор Рашич. Я спросил его, может ли человек, которого на самом деле преследуют, заболеть манией преследования, и будет ли это тогда манией или нормальным ощущением реальности?
Чубчик показал мне петицию в мою защиту, подписанную семьюдесятью шестью постоянными посетителями нашей лавки. Возник только вопрос, кому её послать?
— Я приду, чтобы лично плюнуть тебе в морду! — пообещал мне незнакомый мужской голос по телефону.
Лавка, через которую днём и ночью течет река паломников, приходящих посмотреть на меня, превращается в нечто вроде непрерывно заседающего Совета обороны. Заходят самые разные люди: юристы, бесплатно предлагающие свои услуги, бывший заключенный с богатейшим тюремным опытом, стратеги из кафан, просчитывающие действия противника на три хода вперед и имеющие готовые системы защиты, литературоведы (они утверждают, что это первый случай за всё послевоенное время: ещё ни одному книгопродавцу не грозили тюрьмой на таком высоком уровне!), разные бунтари и смутьяны, дающие мне советы, что говорить на суде, студенты, жаждущие проинтервьюировать меня для своих газет, очаровательные балканские girls — полупотаскушки-полуманекенщицы-полуфотомодели, которым я советовал, что читать, чтобы было о чём болтать в изысканном обществе, две из них предлагают мне свои великолепные дорогие тела, желая помочь мне расслабиться и забыть неприятности; милая пожилая женщина принесла банку инжирного варенья, заглядывают разные диссиденты, не скрывая своей зависти оттого, что вокруг меня, обыкновенного торговца книгами, поднялась такая кутерьма, в то время как они из кожи вон лезут, пытаясь привлечь внимание властей, но неизменно наталкиваются на непробиваемое молчание; они считают, что я приобрел незаслуженную известность, однако же вынуждены держать мою сторону. Доктор Рашич предлагает мне убежище в своей психиатрической клинике: если я пожелаю, он объявит меня сумасшедшим. («Что, кстати, не так уж далеко от истины!» — добавляет он с улыбкой), какие-то писатели предлагают направить письма протеста властям предержащим, потому что думают так же, как я, и даже много раз писали об этом в своих книгах, но кто теперь читает книги? Заходят какие-то личности, в своё время близко знавшие товарища Учу, о, они могли бы столько порассказать про него! — предлагают мне убийственный компромат на Учу, да только что мне с ним делать?
Я замечаю, что лавка снова приобретает прежний запущенный вид. Мы не успеваем заказывать новые, только что вышедшие издания, пользующиеся спросом. Не успеваем — отчего? Времени у нас сколько хочешь, но книги вдруг отходят куда-то на второй план. Все наши мысли заняты опасностью, нависшей над лавкой. Снятые с полок книги никто теперь и не думает ставить назад, и они валяются где попало. Пепельницы переполнены, никто их не вытрясает. Везде стоят немытые стаканы с недопитым вином и грязные тарелки с остатками еды. Все значки давно распроданы — новые мы не удосужились заказать. Плакаты тоже. Никто больше не выставляет в лавке свои картины. Проигрыватель уже неделю как сломался, но никто этого не замечает. Магазин постепенно, изо дня в день теряет свой весёлый вид, которым мы так гордились. Вместо изящного, расчетливого беспорядка углы его погружаются в самую натуральную мерзость запустения. Какое-то зловещее предчувствие неумолимо приближающегося краха, развала всё яснее угадывается и в людях, и в книгах. Даже витрина как будто потемнела, а книги в ней покрылись первым тонким, почти незаметным слоем пыли. Да, от прежнего уюта не осталось и следа! Я чувствую себя виноватым в этой перемене. Всё, к чему я приближусь, всё, к чему прикоснусь, обречено… В который раз повторяется старая история. Пора уходить отсюда, чтобы окончательно не погубить лавку своим присутствием. Может быть, Весну с Чубчиком оставят в покое, если я уйду? Может, им тогда удастся сохранить магазин в приличном виде?
Звонит телефон. Снимаю трубку и вначале слышу звенящую тишину, мне приходит в голову, что это международная линия, но из трубки доносится учащённое дыхание. Я несколько раз спрашиваю, кто это, а затем связь прерывается. Когда я во второй раз беру трубку, то слышу далекую музыку, какие-то шумы и задыхающийся Ленин голос, от которого у меня колени становятся ватными. Если у кого-нибудь есть клитор в горле, так это у Лены!
— Зачем… зачем тебе это… было нужно? — спрашивает она хрипло.
Что мне ей сказать? Я бормочу какие-то объяснения, но она меня, кажется, вовсе не слушает. И только тут до меня доходит, что она в этот момент с кем-то в постели! Её дыхание все учащается, сопровождаемое ритмичным поскрипыванием пружин; густая, непроглядная тьма выползает из чёрной бакелитовой трубки, обволакивая всё вокруг; я слушаю, как моя любимая женщина стонет и скрипит зубами, я представляю её счастливое потное лицо, на которое падают влажные от пота пряди волос — она, наверное, сидит на коленях, жарко дыша в трубку; моё унижение ей необходимо, чтобы испытать оргазм. Мне знакомы эти звуки, эти вздохи: сколько раз она так разговаривала по телефону с другими, сидя на мне верхом, и я чувствовал своё превосходство над её наивными собеседниками, спрашивавшими: «Что с тобой? У тебя такой странный голос?», а она отвечала, что бежала по лестнице, услышав снизу звонок, и они ей, может, верили, а может, и нет. И вот теперь кто-то берёт реванш за те телефонные сеансы, только я не настолько глуп, чтобы спрашивать, почему она так странно дышит, — я знаю, твёрдо и бесповоротно знаю, и опускаю трубку, парализованный стыдом и отчаянием, но она всё равно, как магнитом, притягивает меня, эта гладкая шипящая головка змеи; она липнет к пальцам, и я снова её поднимаю — нет, связь не прервана, она забыла и обо мне, и о том, что звонила мне. Я слушаю музыку, босые шаги и перекликающиеся голоса, прижимая к уху эту дьявольскую чёрную раковину, в которой шумит море моей ревности.
— Чуть не забыла! — говорит Весна, входя в подсобку и протягивая мне голубой конверт с названием нашей фирмы. — Приходили из дирекции, оставили это для вас…
Дрожащими пальцами разрываю конверт. Внутри находится аккуратно отпечатанное постановление дисциплинарной комиссии о моём увольнении с работы.
— Вы… вы плачете? — растерянно бормочет Весна.
(Да, я плачу.)
— Да нет, это у меня от дыма слезятся глаза! Знаешь этот старый шлягер «Дым в твоих глазах»?
Я напеваю ей первые такты мелодии, но она не верит.
В каморку заходит На Здоровьичко, чтобы забрать свои чашки:
— Поёте? — дружески подмигивает он нам. — Ну и на здоровьичко!
43
Прежде всего надо было выяснить, где она живёт, на какой улице, в каком доме? Я это без труда узнал, хотя никогда не провожал её туда и ни у кого не спрашивал адреса. Я просто-напросто построил этот дом в своем воображении: мне хорошо знаком и сырой запах плесени в её подъезде, не закрывающемся на ночь, и гладкость перил на лестнице, дверь квартиры, расположение комнат, освещение, вид из окон на улицу, вдоль которой вместо деревьев выстроились в ряд счетчики на платной автостоянке, похожие на взвод пришельцев из космоса, охраняющих её покой… Затем надо было изучить её распорядок дня, установить время, когда она делает покупки (где?), дни, когда ходит к парикмахеру (какому?), часы, отведённые для приготовления завтрака, обеда, ужина, чтения газет (каких?), сна, узнать, на какой стороне кровати она спит (у стены?), во что одевается, какими духами пользуется, какие сигареты курит; а потом дни и ночи напролёт концентрировать мечту о ней, как бы полностью отделившуюся от своего объекта и живущую самостоятельной жизнью, в один гипнотический, узкий, как тончайшая иголка луч сокрушительной силы, которым я обшаривал район за районом, улицу за улицей, дом за домом, этаж за этажом, бакалейные лавки, кинотеатры и парикмахерские, газетные киоски, пиццерии, кафе, магазины, аптеки, по вечерам концертные залы, как последняя зенитная батарея разрушенного до основания города обшаривает тёмное, полное угрозы небо желтым лучом единственного прожектора, уцелевшего после длительной бомбёжки. И этот луч должен был быть настолько мощным, чтобы пробить каменные стены домов, молнией прошить стекло и сталь, победить расстояние, сгладить колдобины на асфальте, пройти сквозь подземные переходы, автомобильные пробки на перекрёстках, битком набитые трамваи и автобусы, настолько тонким, чтобы проникнуть в игольное ушко, в прорезь почтового ящика, в замочную скважину, в дверной глазок,
(я хочу тебя видеть, ты нужна мне)
он, наконец, должен со снайперской точностью попасть в тот крохотный центр её живого компьютера, где записан я, разбудить в ней уснувшее прошлое, расшевелить память… И смотрите-ка: Лена вдруг застывает с отсутствующим видом, оставляет недомытую миску из-под салата,
(«Куда ты? — Мне надо кое-что купить».)
развязывает передник, собирает в пучок рассыпавшиеся волосы (в них уже видны первые седые нити), перехватывает их красной резинкой, потому что нет времени заниматься причёской, на ходу надевает плащ, открывает дверь, сбегает по лестнице, переходит через дорогу, не обращая внимания на сигналящие ей машины, она идёт, идёт, бежит, запыхавшись влетает в лавку, проходит между книгами и покупателями, распахивает дверь моей каморки, и я, еще не поднимая глаз, знаю, что это она, потому что следил за ней с того момента, когда она отложила мыльную посудную губку. Разве не я останавливал для неё потоки машин, зажигал зелёный свет на перекрестках, убирал с её дороги пьяниц и очереди, расчищал путь сквозь толпы перед кинотеатрами, чтобы она застала меня неподвижно склонившимся над столом, на зелёной поверхности которого нацарапан маршрут, приведший её ко мне? Она останавливается в дверях и говорит нетерпеливыми властным тоном:
— Вставай, пошли! У нас мало времени…
И я встаю, натягиваю ветровку, рассовываю по карманам ключи, зажигалку, сигареты и записную книжку и как лунатик выхожу из лавки вслед за ней. Мы едем сперва в машине, причем у меня в памяти не остается ни её цвет, ни лицо таксиста, ни сколько я ему заплатил, а затем в лифте до моей берлоги, в которой я не узнаю ни одной вещи (как будто никогда в жизни не был в этой конуре, комнате, кажущейся сейчас ещё более жалкой и неприглядной), торопливо освобождаемся от одежды, которая никак не хочет расстёгиваться и шуршит в полной тишине, а потом, не соприкасаясь телами, сидим нагие лицом к лицу и смотрим друг на друга, сознавая, что оба находимся во власти какого-то колдовства. Пытаемся начать любовную игру, но у нас ничего не выходит, мы боремся, переплетаясь ногами, трёмся друг о друга кожей, сжимаем друг друга в объятиях с отчаянием двух утопающих: несчастной жертвы и неловкого спасителя, которые, сцепившись, идут ко дну, теряя сознание вместе с последним воздухом из лёгких. Тут мы понимаем, что секс — последнее из того, что нас связывает; вместо маленькой послеполуденной оргии двух бывших любовников, когда-то умевших превращать свои тела в совершеннейшие орудия для наслаждений, остаётся осадок бессилия, что лишь ещё больше усиливает бесплодное желание.
— Не важно, — говорит Лена, — почему всегда обязательно…
и я уже не знаю, что делать с этим нежданным, трудно доставшимся мне подарком: закуриваю, включаю радио, свет, потому что коварные сумерки уже пробрались в моё логово и скалятся из углов. И тогда вижу перед собой уже не очень молодую женщину (она немного пополнела, а кожа стала чуточку темнее), к которой не испытываю ничего кроме братской нежности без всяких задних мыслей, как к младшей сестре, которой сейчас плохо. А Белград мне представляется огромным дворцом злой волшебницы, которая всё это время нянчилась с нами только для того, чтобы потом сожрать.
Возможно ли, что я так страстно желал именно это тело, именно эту кожу, эту женщину, которая, расслабленная и неудовлетворённая, лежит на моей постели, этот взгляд из-под упавших на глаза волос и этот хрипловатый голос, который произносит:
— Я жду ребенка.
нервно и неприязненно, как будто это я виноват в новом повороте её жизни, грозящем испортить фигуру и цвет лица, а может, это оттого, что она ждёт не моего, а чьего-то чужого ребенка, и что это маленькое существо рождается из ничего, требуя для себя часть её крови, воды, солей, минералов, пищи — жизни, крохотная личинка требует права на жизнь и незаметно растёт, чтобы стать бабочкой. Лена в ярости оттого, что она, такая хитрюга, не смогла обмануть исконные законны деторождения и не может ничего поделать с этим унизительным (для неё) фактом, что надолго оказалась выброшенной из той кокетливой игры, в которой до сих пор заключалась вся её жизнь. Что-то безвозвратно уходит. Конец. Я подписываю добровольную капитуляцию. До сих пор я питал иллюзию, что дождусь, когда она состарится и станет некрасивой (женщины в наших семьях быстро отцветают), что буду тогда ещё относительно крепким и, таким образом, безболезненно выйду из-под её власти, но теперь она размножается, собирается производить на свет новых маленьких Лен-Ленок-Леночек, у которых будет её смуглая кожа, её волосы, зубы, глаза, её смех, они будут поджидать меня где-то в будущем времени… Знаю: я стану старым, очень старым и однажды, сидя где-нибудь в парке на лавочке или зайдя в книжную лавку, вдруг увижу одну из них, и она взглянет на меня, как Лена, или что-то скажет, не важно что; этот хрипловатый голос меня окончательно доконает, несмотря на то, что Лена-мать к тому времени уже давно постареет, превратится в располневшую и сварливую матрону, придавленную тусклой заурядностью своей жизни. К тому же должен признать, что я уже чувствую ревность к этому маленькому, незнакомому будущему существу, ведь как я ни старался, мне ни разу не удалось проникнуть в Лену так глубоко, чтобы стать тем, что называется часть её. Наверное, только убив её, я добился бы полного и единоличного обладания ею (мне становятся понятными мотивы убийства из страсти, это, видимо, последнее, отчаянное и самое убедительное выражение любви!). Мне приходит на память рассказ старого сюрреалиста Полянского об одном африканском студенте, который в 1922 году в Париже убил свою подружку-француженку, расчленил и съел до последнего кусочка. «Каннибализм? Ерунда! Возможно ли полнее обладать той, которую любите? — говорил мне старый Полянский двадцать лет назад. — Как вы не понимаете: она в буквальном смысле стала его плотью и кровью… Говорят, он умер счастливый на гильотине!»
и ещё: Лена очень скоро станет членом святой Троицы, в которой дня меня нет места, её теперь ожидает иная жизнь, которая будет всё больше отдаляться от меня и того, что нами вместе прожито.
Мой гипнотический луч наконец гаснет, рвётся на моих глазах, как светящаяся нить, падает и, поскуливая, извивается на асфальте, превращаясь в конце концов в змейку пепла, которую разносят на своих подошвах прохожие.
На следующее утро я послал Лене несколько книг о безболезненных родах и уходе за ребёнком. Предчувствуя, что теперь долго её не увяжу, добавил к ним «Сказки» братьев Гримм, несколько альбомов с картинками для раскрашивания и Диснеевскую «Белоснежку и семь гномов» — начало сентиментального воспитания маленькой Лены, завершения которого мне, по всей вероятности, не суждено дождаться. Это была моя последняя посылка.
44
Долгими ночами в ожидании развязки я сам расширял список своих преступлений. Безусловно верно, что с помощью Флэша Гордона я устанавливал связь со старой, гнилой, капиталистической, королевской Югославией… Но ведь не только с ней! Так же. верно и то, что с помощью Гомера я установил cвязь с рабовладельческой Грецией, с помощью Сервантеса — с испанской инквизицией, через графа Льва Толстого — с русским дворянством; с эмиграцией, разумеется, при посредстве Бунина, с предателями благодаря Кнуту Гамсуну и Эзре Паунду, с фашистами при помощи итальянских футуристов, с мошенниками и карманниками через Франсуа Вийона и позднее Жана Жене, с гомосексуалистами с помощью Пруста, Жида и Кокто, с диссидентами через Солженицына, Синявского, Шкворецкого, Кундеру, Кошинского, Войновича… Я понял, что на сколько бы меня ни осудили, вину мою не искупить никаким сроком — даже в два тысячелетия европейской цивилизации, с которой я связан пуповиной!
Жажда власти, как видно, безгранична, в своей ненасытности она доходит до абсурдных претензий властвовать над чужими душами. Не ограничивается контролем собственно поведения, но стремится подчинить себе и самые сокровенные человеческие переживания, предельно их упрощая и направляя в накатанную колею сиюминутной политики.
При всех неприятностях, свалившихся на меня, ничем не выдающегося книготорговца, этот случай не стоил бы упоминания (тем более что товарищ Уча принадлежит к тому типу людей, которых быстро забывают, как только они уходят с общественной сцены на пенсию), если бы он не иллюстрировал столь наглядно типичную нетерпимость к определенным видам искусства, которые ускользают от бдительного политического контроля. Считая себя полновластным хозяином и господином в идеологической вотчине, духовным опекуном всех поколений, рождавшихся и живших под его властью и попечительством, невосприимчивый к «чуждым влияниям, идущим как с Востока, так и с Запада» (в особенности с Запада), товарищ Уча говорил обо мне с праведным гневом: старая, затаённая враждебность периода строго контролируемого воспитания прорвала заслоны сдержанности, открывшись перед моим изумлённым взором вневременной чёрной бездной. Обо всём этом я говорю не для того, чтобы спасти от несправедливого забвения и таким образом сохранить для потомства человека, который хотел упечь мня за решётку, а для того, чтобы ярче высветить то время, когда было действительно небезопасно читать о Флэше Гордоне, слушать джаз, носить узкие брюки или длинные волосы (бдительные омладинцы[25], организуясь в специальные группы, обрезали своим сверстникам и то, и другое), не говоря уж о ношении галстука, считавшемся демонстративным переходом на позиции классового врага… Я знаю, что молодым людям, родившимся в более или менее нормальное время, всё это покажется невероятным, но факт остаётся фактом: спустя тридцать пять лет против читателя комикса о Флэше Гордоне, найденного когда-то на пыльном чердаке, была организована настоящая травля. Так проснулась долгие годы дремавшая ненависть к наглецу, который, пренебрегая рекомендованной литературой, посмел читать что-то по собственному выбору! Все на поимку беглеца, сбежавшего в 1946-м с урока морально-политического воспитания!
Я объявлен врагом и уже не дал бы за свою жизнь и ломаного гроша. Я теперь меченый и предназначен для отстрела. На мою бедную голову обрушилась страшная анафема, навсегда исключающая меня из числа правоверных. Что от меня теперь ждут? Чтобы я умер? Сам наложил на себя руки? Что я могу сделать? А ничего. Всё пойдет своим чередом, не я, а другие будут решать, когда призвать меня к ответу. Мне кажется, что я уже не хозяин собственного тела, которое превратилось в живую мишень, покорно ожидающую прямого попадания. Всё это напоминает мне рассказы о колдовских чарах, которыми африканские шаманы опутывают непослушных соплеменников. Им достаточно произнести короткое заклинание, чтобы эти несчастные сами привели в действие свои скрытые механизмы самоуничтожения. Принцип, видимо, везде один.
Но вот почувствовав под ступнями уже самое дно пропасти, мой бедный организм вдруг без моего ведома взбунтовался, просто-напросто отказался признавать власть шамана! Или это было обыкновенное отчаяние, придавшее мне силы и смелости? Может быть. Отчаяние превратилось в непробиваемую кольчугу. Я открыл простую закономерность: никто не может ничего сделать с человеком, находящимся так низко на общественной лестнице, как я, обыкновенный книгопродавец! Что я могу потерять, кроме места в книжной лавке, на которое и так никто не претендует? Откуда меня могут вышвырнуть? Что отнять? Будь я министром, директором, советником или хоть каким-нибудь начальником, мне могли бы пригрозить смещением или понижением. В этом случае я бы действительно потерял много. А в моем положении чем меня могут наказать, когда я и так наказан уже самим своим существованием? Кто я, собственно, такой? Обыкновенный образованный сумасшедший! Никчемный интеллигент! Пустое место! Удары моих недругов приходятся в пустоту, приводя их в ярость. Говорят, боксеру-тяжеловесу бывает больнее, когда он промахивается, чем когда его удар достигает цели. Он при этом может легко вывихнуть какой-нибудь важный сустав. Каждую ночь терпеливо ожидая решения своей участи, я начинаю понимать, что мои преследователи теряют след. Увлекшись, загонщики проскочили мимо зайца, притаившегося под кустом. Я вижу их спины. Слышу удаляющиеся голоса. Они, вероятно, и сами начинают сознавать, что придали мне чрезмерное значение, но продолжают совершать ошибку за ошибкой, не в силах остановить снежный ком ненависти, который несётся с горы, всё увеличиваясь в размерах, подгоняя их слепой инерцией глупости.
К тому же мне кажется, что за этой ненавистью не кроется ничего, кроме пробелов в образовании. Дело в том, что большинство людей, занятых борьбой за власть и её удержание, просто в своё время не успели прочитать определённые книги. Некоторые начинают читать их лишь после своего падения, когда уже поздно что-либо изменить. Большинство функционеров каждодневно утопают в настоящем бумажном море всевозможных материалов, законов, инструкций, решений, дополнений и изменений, газет, специальных изданий, выныривая из которого попадают прямехонько в объятия телевидения. И лишь когда подчинённые обратят их внимание на какую-нибудь крамольную книгу, они выкраивают немного времени, чтобы бросить взгляд на возмутительные страницы и приходят в неописуемое негодование — им, наверное, кажется, что наступил конец света! Как можно писать такое?! Как будто какой-нибудь бесстыдник подсунул пожилой незамужней учительнице «Черную весну» Миллера в обложке целомудренной «Книги для чтения». Ведь чтобы спокойно и с улыбкой принять какую-нибудь скабрезную страницу «Записок старого извращенца» Чарльза Буковского, надо сперва прочитать бесстыдные сатиры Лукиана, получить удовольствие от «Декамерона», подводящего нас к непристойным новеллам Пьетро Аретино, разнузданному Рабле, извращенцу маркизу де Саду, возбуждающему воображение «Тому Джонсу» Филдинга или пикантным историям Бальзака… Говоря о книге «Абсурд власти» и её авторе, о времени, свидетелем которого был, я не сказал ничего нового, ничего такого, что бы не было уже много раз сказано и написано. (Проклятие человека, занимающегося книгами!) Разумеется, я придал своему небольшому выступлению личную окраску, но ведь за каждой моей фразой стояли тома романов, мемуаров, исповедей, начиная от «Слепящей тьмы» Кёстлера, «1984» Оруэлла, «Заговора молчания» Вайсберга-Цыбульского, включая Солженицына, Надежду Мандельштам, Василия Гроссмана («Всё течет») и кончая «Признанием» Артура Лондона, книгами Натальи Гинзбург, Карла Штайнера, философскими и историческими сочинениями и рассказами очевидцев… Я поразился и даже, признаться, ужаснулся не самой возможности быть посаженным за решётку как обыкновенный уголовник, а внезапно обнаружившейся разнице в нашем воспитании, образе мыслей, ассоциациях и опыте; ведь человеку свойственно думать, что вcе знают то, что знает он, что все чувствуют похоже, что все читали те же книги и что поскольку, как ему кажется, все их читали при одинаковом освещении, сюрреалистическая фраза «Мать надо бить, пока она молода!» не может вызвать массовых линчеваний, так же как никто не станет верить до конца утверждению, будто «маркиза (действительно) вышла в пять часов!» Как глубоко мы заблуждаемся! Я проснулся после долгого сна, с ужасом осознав своё одиночество. Я понял, что существует множество параллельных логик: сентиментальная, литературная, историческая, политическая, судебная, сиюминутная… Как это возможно? Я уверен, что изумление другой стороны было не меньшим. Занятые созиданием мира в соответствии с идеей, которая им со временем начинает казаться отражением всеобщих стремлений, власть имущие, вероятно, так же столбенеют, когда в книгах или беседах с теми, кто думает не так, как они, натыкаются на сомнения, отчаяние, разочарование, разрушительные подводные течения, тайные страсти или туманные намёки, — всё это они воспринимают как прямое оскорбление, оскорбление достоинства людей, самоотверженным трудом строящих идеальный мир по собственному проекту, в котором, видите ли, сомневаются разные смутьяны, слабаки, извращенцы, мягкотелые и неблагонадёжные интеллигенты, одним словом, декадентские отбросы! Наконец-то они нашли столь необходимых врагов, да не где-то далеко, вне границ их досягаемости, а тут, поблизости, можно сказать, под рукой, это их же собственные подданные, чьи судьбы находятся в их полной власти.
(Я замечаю, что так же, как остальные, слишком часто употребляю местоимение «они»! Кто такие они? Они — это они! Следовало бы, наверное, написать трактат о себе и о них, может быть, этот труд раскрыл бы наконец и объяснил проклятие этих извечно несправедливых взаимоотношений? Но с какого края подступиться к этой загадке? Ведь не успеешь приблизиться к кому-нибудь из них, намереваясь проанализировать феномен «их», как тут же натыкаешься на «я», очень похожее на тебя самого! Они в ту же секунду рассеиваются, рассыпаются, как рассыпаются свинцовые литеры из матрицы какой-нибудь трескучей передовицы.)
Я решил забыть и про них, и про себя и заняться заброшенной монографией о Шломовиче. Раскрыв зелёную папку, я попытался привести в более или менее упорядоченный вид свои записки и газетные вырезки. Больше уже невозможно было оправдывать свою лень отсутствием свободного времени. Теперь у меня его была пропасть! С тех пор как меня уволили, оно тянется очень медленно, и хотя в моём положении мне не удаётся полностью сосредоточиться на несчастном коллекционере и его жизни, я тем не менее часами в какой-то полудремоте-полусне пялюсь в раскрытую папку. Без неё я бы часами глазел в потолок и в конце концов бы решил, что схожу с ума.
Вчера я зашёл в лавку взять одну книгу о постимпрессионистах. Там я заметил худого мальчика лет девяти, который как раз направлялся к кассе со сказками Андерсена. Он бережно положил выбранную книгу на прилавок и из кармана коротких штанов, из которых торчали голенастые ноги, покрытые великим множеством синяков, царапин и ссадин, стал вытаскивать слипшиеся, измятые купюры и мелочь. — Сколько она стоит? — спросил он у Чубчика, подняв на него по-взрослому озабоченный и одновременно просительный взгляд. Я подарил ему эту книгу, подумав: «Вот ещё один, отправляющийся в долгий путь от Андерсена до Оруэлла!» Он посмотрел на меня с недоверием, но подарок всё-таки принял и убежал не поблагодарив. И может быть кому-то это кажется смешным, но я с той минуты как бы уже больше не чувствовал себя таким одиноким, обречённым на вечно одинокое «я». Теперь я со спокойной душой мог сказать: «Приходят новые, всегда приходят какие-то новые мальчишки, будущее новые скептики, воспитанные на книгах… Мы!»
45
Дождь лил как из ведра.
Большинство наших романов и рассказов начинается обязательно описанием погоды и чаще всего именно фразой: «Дождь лил как из ведра». Видимо, писатели веками заимствовали её друг у друга за неимением лучшего начала для осеннего повествования и так истаскали долгим употреблением, что всякий смысл из неё давно улетучился, и выжать ещё хоть каплю нет никакой возможности. Эта фраза-фантом преследует меня на протяжении всей истории отечественной литературы, как умалишённый, сбежавший из психиатрической лечебницы: почему, собственно, как из ведра? Почему не как из испорченного крана, из гидранта, взбесившегося душа или брандспойта, направленного на демонстрантов? Однако дождь, под которым мы с Весной безуспешно пытались догнать такси, лил действительно как из ведра; это был один из тех знаменитых белградских дождей, которые собираются неделями, грозя всемирным потопом, в котором даже старому Ною не удастся спастись; уже много дней нарастало напряжение в пропитанной электричеством атмосфере, а над Земуном и Обреновацем выстраивались, смыкая ряды, тёмные дивизии туч, как две грозные армады, готовые яростно схлестнуться над столицей. Обрушившись наконец на город сплошным потоком без всяких звонких вступлений в манере Дебюсси, он всего за несколько минут превратил Кнез-Михайлову улицу в бурную реку, в которую, клокоча, вливались притоки боковых улочек и переулков. Потоп самым подлым образом застиг нас точно на полпути между лавкой, откуда мы вышли, и домом Весны, куда направлялись, так что мы не могли ни вернуться, ни добраться до цели, не промокнув при этом, как два цуцика. (Откуда вдруг взялись эти цуцики? Наверное, из того же ведра…) Всё началось с того, что я за полчаса до дождя, размышляя о своём абсурдном положении, вдруг ни с того ни с сего захохотал, перепугав Весну, решившую, что я на почве известных событий начинаю сходить с ума. Я успокоил её, объяснив, что смеюсь над собой, потому что среди всего огромного множества людей, которых знаю и с которыми ежедневно встречаюсь, среди тех, кто годами угощались у нас кофе (редко делая попытки заплатить) и нашим вином, которое мы покупаем для гостей, выделяя немалые суммы из своей мизерной зарплаты, среди всех тех, кто часами торчат в нашей лавке, берут почитать и не возвращают новые дорогие книги, звонят с нашего телефона и роются в нашем холодильнике, нет никого, к кому бы я сегодня вечером мог сходить посмотреть по телевизору новости! Представь: никого, ни единого человека! Этот факт настолько поразил меня своей очевидностью, что я впервые задался вопросом, какого чёрта я делал все эти годы, если за всё время не приобрел ни одного настоящего друга, к которому мог бы ввалиться без предупреждения, не произведя переполоха и не создав той хорошо мне знакомой натянутой и неловкой ситуации, которой любая уважающая себя супруга не преминет воспользоваться как оружием против и без того погрязшего в грехах мужа. Дело в том, что у меня никогда не было телевизора (он мне был не нужен), а как раз сегодня вечером, как мне сказали, в новостях речь пойдет обо мне, и я смог бы определить, насколько действительно тяжело и серьёзно мое положение. И вот тогда Весна, эта тихая, сдержанная девушка, последний человек, о котором я мог бы подумать в данных обстоятельствах, зарумянившись, предложила мне своё гостеприимство, от которого я, разумеется, сразу же отказался, посчитав это всего лишь жестом вежливости. Её, однако, мой отказ почему-то обидел, она чуть не заплакала, так что во избежание слёз я согласился в конце концов принять любезное приглашение, ругая себя за то, что вообще упомянул про тот злосчастный телевизор и возможную экранизацию вынесенного мне приговора. К чему втягивать во вcе это ещё и детей? Ведь сам я вляпался по собственной неосторожности и теперь уже просто не мог выбраться из стремительного водоворота, затягивавшего меня помимо моей воли все глубже и глубже. Я словно оказался во власти какого-то неумолимого механизма, устройства которого не знал и силе которого не мог противостоять. Итак, оставив бедного Чубчика дежурить в опустевшей лавке, мы с Весной пошли к ней домой, где, как она мне поклялась, никого не было. Весна сообщила мне по секрету, что живет одна в роскошной квартире, хозяева которой сейчас в отъезде — работают в Ираке. Она проветривает комнаты, кормит птиц, поливает фикусы и цветы, заводит на всю катушку пластинки, демонстрируя потенциальным грабителям, что квартира обитаема, и за всё это может там бесплатно проживать до самого их возвращения.
Если бы кому-нибудь удалось проникнуть взглядом за плотный занавес дождя, поднимавшийся и опускавшийся на «бис» по требованию мучимой жаждой земли, то он увидел бы, как сквозь дождь, льющий как из ведра, бредёт, втянув голову в плечи, будущий кандидат в диссиденты не первой молодости в потертых джинсах и юная девушка (на несколько сантиметров выше его), одетая в длинную индийскую рубашку. Мужчина всё ещё питал напрасную надежду, что сможет остаться хоть отчасти сухим с помощью старого приема: держась у самых стен домов, под узенькими карнизами. Какое-то время ему это даже удавалось, пока три хорошо направленных струи из водосточных труб — три точные копии водопадов на реке Крке, от которых он не смог увернуться, не вымочили его до нитки, в чём он, однако, судя по тому, что по-прежнему пытался прятаться под козырьками и карнизами, не хотел признаться даже самому себе. Девушка же спокойно шла босиком по середине тротуара, не обращая никакого внимания на дождь; насквозь промокшая одежда изящно облегала напряженные мышцы ног, плоский живот и худые лопатки, на плечи падали слипшиеся пряди длинных светлых волос, по лицу бежали струйки дождя, и «лил дождь, и шёл дождь, не переставая, над Брестом в тот день», а она шла улыбаясь, промокшая, светлая, зачарованная, невозмутимая, как молодая буддийская монахиня, считающая дождь совершенно естественным состоянием природы — неба и земли, по которой ступает. Спутник её, воспитанный на традициях европейского образа мышления, ненавидел дождь всей душой, для него он не был гармоническим проявлением круговорота живой воды между испаряющей её землей и небом, возвращающим благословенную влагу всем живым существам на земле, с которой состоит в тайном сговоре, нет, он считал дождь личным оскорблением, которое ему именно сейчас, когда он по уши в дерьме, наносит какой-то зловредный специалист по небесным эффектам (гром, молнии, вой ветра за кулисами для спектакля «Король Лир», где Лир вопит: «Дуй, ветер, дуй!», грохот, журчание воды и прочие театральные фокусы), с единственной целью еще более усугубить его и без того незавидное положение. В конце концов немолодой мужчина полностью отдается во власть дождя и своей злой судьбы и специально выбирает самые большие водосточные трубы, чтобы по-мазохистски пройти под ними, как под огромным душем (вызывая приступы веселья у людей, терпеливо пережидавших непогоду в подъездах), и этим доказать своему року, что уже не может быть мокрее, чем есть. И как раз в ту минуту, когда он окончательно убедился, что и само небо восстало против него, когда он прошествовал сквозь последние ворота слалома унижения, белградский дождь, этот непредсказуемый водяной волшебник, послал ему награду, как самому мокрому из своих подданных.
Вбежав в Веснин дом, я тут же отбросил всевидящее книжное третье лицо, которым хитро воспользовался на время этого мокрого похода (чтобы вместо меня вымокло третье лицо), а вместе с ним и стыд оттого, что раздеваюсь догола перед девчушкой, годящейся мне в дочери, которая, впрочем, ещё раньше меня сбросила с себя всё, что на ней было, оставшись в чем мать родила, голая и влажная посреди ванной, выложенной чёрным кафелем, жутковато блестящая поверхность которого отражала алебастровую белизну её гибкого тела. Необычайно ловко и быстро Весна развесила нашу одежду на верёвке над ванной. Прикрепила прищепками моё размокшее удостоверение личности и деньги, а потом мы полотенцами протёрли друг другу спины и волосы и включили фен — настоящий маленький ветродуй. Покончив с сушкой, Весна провела меня в большую комнату, где вся мебель (за исключением широкой французской кровати и большого телевизора) была в белых чехлах, и только тут, пока она, нагнувшись, искала среди смятых простыней куда-то запропастившийся пульт дистанционного управления телевизором, я с изумлением обнаружил, что мы принадлежим к разным полам! Я удивлённо взирал на её длинные ноги, на безупречные линии тела, на прозрачную кожу, под которой угадывалась тончайшая паутина вен. Поразила меня и пышность её груди, которую она обычно успешно прятала под широкими складками индийских платьев, жёваными блузками и несколькими археологическими слоями маек, свитеров и других тряпок, которые надевала одну на другую, словно стремясь небрежностью в одежде скрыть недостойную, по её мнению, женственность, грозящую поставить под вопрос её статус последовательного борца за феминистские права и бесполое мировоззрение.
— Смотри-ка… Да у тебя бюст! — вымолвил я и благоговейно дотронулся до него, дивясь необыкновенному открытию.
Целомудренно опустив глаза на розовые кончики — две припухшие соски для будущих младенцев — и глядя на них так, точно видит впервые в жизни, она сказала:
— Что поделаешь! Никто не совершенен…
46
«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ДОРОГИЕ ТЕЛЕЗРНТЕЛИ. СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ БЫЛ БОГАТ СОБЫТИЯМИ», КАК B НАШЕЙ СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ, ИЗ МНОЖЕСТВА НОВОСТЕЙ МЫ ОТОБРАЛИ ВАЖНЕЙШИЕ…
Выключи звук, Весна!
Мы оказались в постели так неожиданно, без всяких подготовительных манёвров и заранее обдуманных намерений, что я даже не сразу осознал происходящее. При всём возбуждении, охватившем меня от этого подарка судьбы (спасибо тебе, дождь!), я не мог не заметить, что Весна начисто лишена всякого кокетства и обычной женской хитрости, придающих любви загадочную прелесть чередованием жеманного сопротивления и покорности. С акробатической лёгкостью она прыгнула в постель и оседлала меня подобно чемпионке-юниорке, лихо вскакивающей на кожаного гимнастического коня (хотя я родился под знаком Тельца). В этой дисциплине, где положения тела заранее заданы и известны, моя прекрасная гимнастка искала и находила те удовольствия, к которым и стремилась — не больше того, но и не меньше, без всяких эмоциональных вывертов, а экстаз, то и дело туманивший взгляд, нисколько не мешал ей, придя в себя, уже через несколько мгновений оказаться на ногах, ловким соскоком по всем правилам закончив эффектно выполненное упражнение: алле-гоп! Девять и восемь десятых, похлопаем маленькой Весне! Мы не прерывали игры даже когда началась передача. Весна лишь предупредительно предложила переменить позу (до этого мы были обращены спиной к освещённому экрану и пижонам из рекламы) и, не дожидаясь моего согласия, предложила мне на десерт восхитительную попку, зрелый розоватый персик, покрытый нежнейшими волосками, который украшала едва заметная тонкая светлая полоска на тёмном фоне — след золотой цепочки, единственного её пляжного костюма прошлым летом. В то время пока я осторожно проникал в самые сокровенные её глубины (чёрт возьми, что за кич!), она всё усиливала звук телевизора, и наконец до нас донеслись обрывки фраз какого-то репортажа: «ЭТОТ ВИЗИТ, НЕСОМНЕННО, ВНЕСЕТ НОВЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ДВУМЯ СТРАНАМИ НА ОСНОВЕ ОТНОШЕНИЙ ДРУЖБЫ И ШИРОКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ПРОМЫШЛEННОЙ, КУЛЬТУРНОЙ И ДРУГИХ СФЕРАХ, — ПОДЧЕРКHУЛ..»
Я сжимал в объятиях Весну, и мне казалось, что я трахаю в голову весь этот сучий мир, этот суетный, неврастеничный паноптикум лиц, с невообразимой быстротой сменяющих друг друга на экране, какие-то люди с кожаными портфелями и озабоченными лицами выходили из одних и садились в другие черные автомобили, поднимались по лестницам, жали друг другу руки, скалили фарфоровые зубы, поправляли галстуки и прически перед камерами (убери звук, Весна!), бесшумно поднимались облака дыма и рушились дома, подобно замкам из песка, бежали по полю солдаты в пятнистой форме, торжествующе потрясали автоматами, стоя на башнях танков, а какие-то другие люди в штатском стояли с грустными лицами под дождём (значит, и там идёт дождь), держа в руках транспаранты, и смотрели… «…ПОСТОЯННЫЙ УЧЕТ ИНTEPECOВ РАЗЛИЧНЫХ СЛОЕВ ОБЩЕСТВА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ТРУДНОСТЕЙ И ПРОБЛЕМ, А ТАКЖЕ РЕАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ ЯВЛЯЮТЯ ГЛАВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, В КОТОРОМ, СОГЛАСНО ДОСТОВЕРНЫМ ИСТОЧНИKАM, ВИДНОЕ МЕСТО ЗАЙМЕТ ГЛАВА ЛИБЕРАЛОВ, А МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СТАНЕТ, ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЛИДЕРА ОППОЗИЦИИ…» Испитые лица с кругами под глазами и нескрываемой жаждой власти во взглядах, колышущиеся животы, обтянутые жилетками, лисьи физиономии молодых чиновников-подхалимов, окружающих шефов живым фризом белых воротничков, подающих им портфели, снимающих колпачки авторучек, угодливо переворачивающих для подписания страницы договоров, чтобы те, не дай Бог, не утомились от перелистывания, ждущих, подобно стае стервятников, когда придёт их черёд вкусить сладость власти, — не надо быть антропологом, чтобы, глядя на все эти лица, черепа, мощные челюсти, опущенные плечи и нездорового цвета кожу, сделать все выводы о характерах вожаков первобытных стад, уцелевших в борьбе за существование: телекамера беспощадно обнажала самую суть…
«ЧЕТВЕРТАЯ ПОДОБНАЯ ВСТРЕЧА ПЯТНАДЦАТИ МИНИСТРОВ ДВУХ СООБЩЕСТВ БУДЕТ ПОСВЯЩЕНА HE ТОЛЬКО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ДАННОГО PЕГИОНА, НО И ПРОЦЕССАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ, ВЫЗЫВАЮЩИМ ВСЕ БОЛЬШУЮ ТРЕВОГУ У ОБЕИХ СТОРОН…»
…представительный мужчина в окружении свиты осматривает свиней в каком-то загоне, крупный план свиной головы, щурящейся на высокого гостя… Кто-то объясняет, что нужно делать, чтобы вырастить такую замечательную свинью, которая…
«…ВНОBЬ ОСТАНОВИЛА ПРОИЗВОДСТВО ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ОСНОВНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ФОСФАТА НАТРИЯ…
…СТРЕМЛЕНИЕМ К ПОЛУЧЕНИЮ АКТУАЛЬНОЙ И КОНКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОНИКНУТА РЕЗОЛЮЦИЯ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИИ…
…НЕОБЫЧАЙНО ТЕПЛЫМ ДЛЯ ЭТОГО ВРЕМЕНИ ГОДА ДНЕМ ТЫСЯЧИ ГОРОЖАН СОБРАЛИСЬ В ПОРТУ HА ТРАУРНЫЙ МИТИНГ…»
…крики чаек и блеск солнца, как у Камю, на штыках почетного караула, хриплые команды и похоронный марш духового оркестра пожарников, вздувшиеся жилы на шее мужчины в чересчур узком чёрном костюме, листок бумаги, дрожащий у него в руке…
«…НА ОТКРЫТИИ ЭТОЙ ИНТЕРЕСНОЙ ВЫСТАВКИ ПРИСУТСТВОВАЛИ МНОГИЕ ВИДНЫE ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ, РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ, СОСТОЯЛСЯ ТАКЖЕ КОНЦЕРТ, УЧАСТНИКИ КОТОРОГО БЫЛИ ТЕПЛО ВСТРЕЧЕНЫ СОБРАВШИМИСЯ. ПЛАНИРУЕТСЯ СДЕЛАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДОБНОГО РОДА ТРАДИЦИОННЫМИ…»
Планировать традицию? А почему бы и нет? Bсё возможно. Ты устала? Ох, нет, нет… Хочу еще! Тогда выключи звук! Череда сумрачных людей, в гробовой тишине перекладывающих бумаги за длинными-предлинными столами. Немые губы одного из них шевелятся. Кто-то делает пометки. Один гасит окурок в хрустальной пепельнице, уже до верха наполненной изжёванными бычками. Другой пьет минеральную воду…
Когда я последний раз был в постели с женщиной? Давно. С каждым движением тела, которое Весна принимает с благодарностью, я как бы избавляюсь от долгого мучительного кошмара. Благодатный дождь смыл с меня пыль книжного червя, секс — очистил изнутри. Мои ладони лежат на Весниных горячих, податливых бедрах, узких, как у мальчишки; сейчас она — мой нежный живой щит, молодая кобылица, на которой я, подобно святому Георгию, сражаюсь с электронным чудищем — на меня бессмысленно таращится, испуская дрожащий зеленоватый свет, жуткий выпученный глаз Циклопа, в зрачке которого видны его несчастные пленники. Я всматриваюсь в их лица — да это же она, товарищ Елизавета, зачитывает какую-то бумагу, лежащую перед ней на столе! Камера отъезжает, показывая главного редактора и секретаря, а затем и весь издательский совет «Балкан», но прежде чем я успел сказать Весне, чтобы она прибавила звук, мы оба ощутили тот самый пик возбуждения, когда остановиться уже невозможно, как на крутой ледяной горе, с которой несешься вниз так, что захватывает дух. Между тем кадры заседания сменила дикторша, зрелая красавица с блудливыми глазами, обведёнными тёмными кругами. Она смотрела на меня вызывающе, и я тут же решил включить эту красотку в нашу игру (раздев её в мгновение ока), однако она продолжала что-то вещать с серьёзным видом, и в ту самую минуту, когда мы достигли последнего рубежа, оглушённые взрывом где-то в спинном мозгу и криками: Ну же! Ну! Ну! Сейчас! Нууууу! Весна случайно сдвинула регулятор звука, и нам в уши ударил громоподобный голос красавицы дикторши, заканчивавшей фразу:
«…ДАНА СООТВЕТСТВУЙОЩАЯ ОЦЕНКА ВОЗМУТИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯM СТАРШЕГО ПРОДАВЦА КНИЖНОГО МАГАЗИНА ПЕДЖИ ЛУКАЧА, НА KOTOPOГО НАЛАГАЕТСЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ». (Смена кадра.)
…в меня вперились глаза товарища Елизаветы, которая наконец подняла свой строгий взгляд от материала, секретарь тоже смотрел на меня с угрозой, и главный редактор, и все остальные, сидевшие в зале заседаний «Балкан», но они уже ничего не могли со мной поделать: освобождённый от вечного чувства вины и тяжести собственного тела, совершенно опустошённый, не чувствуя ни рук, ни ног, я падал вместе с Весной — Алисой в стране телевизионных чудес — в пухово-мягкий провал бездонного колодца, слыша шум своей крови в жилах и биение пульса, а дикторша, злясь оттого, что ей не удалось тоже испытать оргазм, нервно сказала:
«А СЕЙЧАС — ПОГОДА НА ЗАВТРА»,
на что Весна выдохнула:
— Сумасшедший!
«НА СЕГОДНЯ ВСЁ, УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!»
Потом мы лежали, а онемевший телевизор бесшумно демонстрировал нам счастливых молодых людей в новых моделях демисезонных плащей фирмы «БЕКО», потом возникли запотевшие бутылки кока-колы, полетели люди-птицы с пёстрыми крыльями, следом на бешеной скорости, грозя их настичь и протаранить, неслись банки печёночного паштета «КАРНЕКС», а куры под предводительством франтоватого петуха с бодрой песней шли в крематорий для пернатых (АRВЕIТ МАСНТ FRЕI [26]), чтобы радостно превратиться в концентрат куриного супа…
К счастью, Весне не требовались посткоитальные ласки, за что я ей был чрезвычайно признателен. После близости я больше всего мечтаю оказаться за много километров от арены любви, а как минимум — чтобы дама хоть ненадолго удалилась куда угодно, хотя бы в ванную или на кухню, и чтобы в зубах у меня оказалась зажжённая сигарета. Соприкосновение потных, остывающих от страсти тел вызывает у меня отвращение, а запускание пальцев в волосы я воспринимаю как прямое посягательство на личность. Весна была умницей: налив нам в два бокала вина, она смотрела на меня, подперев подбородок ладошкой:
— Вы её очень любили?
Я мгновение подумал, прежде чем ответить:
— Очень.
Лежа на спине, она задрала свои длинные ноги на стену. Неправдоподобно стройные, они терялись в облаках сигаретного дыма. Весна, казалось, с интересом их разглядывала.
— Подумаешь… барышня! — сказала она презрительно после долгого молчания. — Фифа! Что ей нужно от вас? Почему она не оставит вас в покое?
Она пружинисто выпрыгнула из постели и настежь распахнула обе створки окна, словно желая, чтобы вместе с дымом выветрилась и моя память о Лене. Дождь прекратился. Нарезвившись всласть, разрядив напряжение, много дней накапливавшееся в небе и в людях, он успокоился.
47
В какой-то книге, ни автора, ни названия которой я не помню, мальчик, которого бьёт отчим, всё время молится про себя Богу, чтобы он помог ему не возненавидеть своего мучителя. От этого ему вдвое тяжелее, ведь приходится одновременно превозмогать боль от ударов и желание отомстить. Оказавшись после всех свалившихся на меня неприятностей в похожем положении, я понял одно: что бы с ним ни случалось, человек ни в коем случае не должен допустить, чтобы ненависть возобладала у него над остальными чувствами. Если это произойдет, он станет таким же, как те, кто не дают ему житья, и тогда, даже если он одержит над ними победу, его триумф потеряет всякий смысл. До тех пор, пока он сохраняет в себе хотя бы крохотный сокровенный оазис человеческого тепла, пока в нём не погас трепетный огонек любви, никто не сможет ничего с ним сделать. Не потому ли я с таким отчаянным упорством держался за последнюю нить, связывавшую меня с Леной? Теряя Лену, я тем не менее не переставал её любить! Моя безответная любовь была чем-то вроде невидимого щита, заслонявшего меня от тех, кто могли с легкостью уничтожить и куда более сильных, чем я. Поэтому я смотрел на своих гонителей даже с некоторой жалостью, как на дефективных, с безнадёжным вывихом чувств. Разумеется, они считали, что на их стороне власть и большие преимущества надо мной, потому что не сознавали моего превосходства. Калеки, эмоциональные уродцы! Все их усилия показать мне где раки зимуют, выглядели бессмысленными, чуть ли не смешными. Существовала, однако, другая, действительно серьезная опасность: спирохета их образа мышления могла незаметно проникнуть ко мне в мозг и развиться там в маленького автоцензора, куда более опасного, чем те, кто его взрастили, потому что их семя упало бы на плодородную почву. Вот тогда бы они могли считать, что добились своего! Находясь под их повседневным надзором, живя в их окружении, человек, незаметно для самого себя, начинает говорить и думать, как они. Естественное желание избавиться от одиночества, стать частью одного целого толкает нас в объятия массовой логики. Быть отличным от других опасно. Но сколь бы многочисленны ни были те, кто хочет причесать нас под одну гребёнку, уподобить себе, их никогда не будет достаточно много, чтобы контролировать все чужие чувства и все мысли в чужих головах. Их усилия принесут успех лишь в том случае, если каждый вырастит и станет содержать за свой счет персонального тюремщика, который, куда бы ты ни шёл, что бы ни думал, как бы тихо ни шептал какую-нибудь еретическую мысль, будет с тобой всегда, даже во сне. Но до тех пор, пока я в состоянии разглядеть подобную ловушку, я неуязвим! Может быть, мне в этом помогает взгляд сквозь очки пилотского шлема, когда-то полученного от ЮНРРА? Или всё дело в книгах, которыми я занимаюсь? Может быть, как раз с помощью таких вот мелочей, как заштатная книжная лавка, человек неосознанно и сопротивляется духовному насилию, способствует совершенствованию мира скорее, чем любые манифесты, воззвания, школьные реформы, суровые законы или перевороты? Просто нужно упорно, ежедневно делать пусть хоть маленькие шажки в нужном направлении; терпеливо и настойчиво предлагать людям книги, картины, музыку, как странствующие монахи предлагают за несколько медяков молиться во время своих долгих скитаний за спасение чьей-то души; предлагать своё время, опыт, быть любезным и терпимым к невежеству, угощать сигаретами, вином, чашкой кофе и идеями, стараясь быть добрым в обезумевшее и осатанелое время, не обращающее внимания на подобные мелочи и полутона, ищущее спасения от неотвратимо надвигающейся гибели в великих исторических начинаниях и глобальных решениях. Нет, это никакое не христианство, это просто-напросто любовь, которая старше любой религии. Благодаря стечению обстоятельств или, лучше сказать, настоящему маленькому чуду, которое никто не планировал и не ожидал, в лоне самого скучного и серого издательства, какое только можно себе представить, вдруг возник сказочный замок — маленькая книжная лавка, одинокий маяк в море тьмы, о котором мы вместе заботились с единственным желанием иметь уголок, где бы можно было отдохнуть душой в обществе книг и нормальных людей. Должно было пройти целых три года, чтобы они обнаружили, что там происходит нечто необычное. Вначале, конечно, никто из них даже самому себе не смел признаться, что, собственно, ему там не нравится, но когда молчаливое возмущение каждого из них достигло пика, последовал настоящий изрыв ненависти, сила которой, кажется, ошеломила даже самих экзекуторов. Чувствуя, но не умея сформулировать глубинные мотивы своего негодования, они ополчились на детали: на босые ноги Весны, серьгу в ухе у Чубчика, сидение на полу, вино, музыку, «непотребные» плакаты и значки… Но все их потуги вернуть серость, обкорнать все, что торчит, собрать разбросанное, сосчитать несчётное, постоянное желание провести учёт неучитываемого, свести к цифрам статистики несводимое, разложить по полочкам, выдрессировать, вышколить согласно своему пониманию приличий, выкрасить все в милый их сердцу мышиный цвет (на котором меньше всего заметна грязь), закрасив им все остальные цвета, оскорбляющие их своей хаотической пестротой, для упорядочения которой нужен вкус, а в своём вкусе они не уверены, все эти усилия напрасны, страх, который они хотели внушить, посеять в чужих головах, испаряется, как нечистая сила перед крестным знамением, если человеку, несмотря ни на что, удалось сохранить в себе хоть малую толику любви. Вот почему я не очень испугался (хотя и не отношу себя к разряду смельчаков), увидев на экране хмурые лица членов издательского совета, решающих мою судьбу. Лаская Весну, я смотрел на них, как на пришельцев с другой планеты, до которых мне нет никакого дела. С одной стороны, были наши нагие тела, горячие губы, потная кожа, то, что можно потрогать, лизнуть, понюхать, а с другой — обладатели бумажной, для нас не существующей власти, набившиеся в деревянный ящик с выпуклым стеклом вместо одной из стенок. Снова, уже в который раз, жизнь побеждала фикцию! В их запуганных, сереньких головах, наверное, могла возникнуть лишь одна картина: скукожившись в каком-нибудь тёмном углу, я дрожу от страха в ожидании их решения. Видели бы они меня в эту минуту с персиковой Весниной попкой на фоне их серьезных физиономий!..
48
Кажется, за мной следят. Плешивый молодой человек с лисьей мордочкой работает попеременно с каким-то обтрёпанным и занюханным типом, который, когда наши взгляды случайно встречаются, смотрит на меня с невыразимой печалью. Этот второй, постарше, постоянно таскает с собой белый полиэтиленовый мешок, из которого торчит свёрнутая газета. Выглядит это довольно жалко, особенно вечный полиэтиленовый мешок из универсама, грозящий стать неприглядным символом нашей серой жизни, чуть ли не обязательным атрибутом современного мужчины, это одна из тех вещей, которые отличают нас от стран, где уважающие себя люди носят сумки из гладкой, дорогой кожи с медными застежками пли элегантные кейсы, как, впрочем, и от тех, граждане которых ходят вообще без ничего, засунув руки в карманы. Полиэтиленовый мешок, нищенский багаж времён экономического кризиса… Обоих я вожу по интереснейшим местам города. B Клубе литераторов мой молодой сопровождающий ужинает в гордом одиночестве, а потом часами читает спортивную страницу «Политики». Тот, что постарше, страдает или язвой, или чрезмерной бережливостью: положив свой мешок возле ног, тоскливо выпивает стакан минеральной воды, глядя с отсутствующим видом прямо перед собой. Освобожденный от ежедневной обязанности ходить в лавку, я наслаждаюсь ласковым солнцем бабьего лета на террасе ресторана «Шесть тополей». Ленивая Сава с медленно ползущими вверх по течению баржами напоминает отсюда Сену из «Прекрасной нивернезки» Додэ, и я снова ловлю себя на том, что никак не могу выбраться из заколдованного круга литературных ассоциаций. Вот и этот человек с полиэтиленовым мешком, сидящий на другом конце террасы над стаканом с минеральной водой, как будто бы вовсе не причастен к моей судьбе, а всего лишь является персонажем какого-то дешёвого детектива, названия которого я никак не могу вспомнить. Мы одни на террасе.
Почему бы нам не сесть и за один стол? Я мог бы рассказать ему, что на самом деле обо всём этом думаю. Его отчёты стали бы содержательнее. Может быть, ему бы даже повысили оклад? Как глупо! А мне как раз до смерти хочется с кем-нибудь поговорить! Мы вроде как ровесники. Живём в одном городе, говорим на одном языке. Мальчишками оба, наверное, играли среди развалин в полицейских и воров. Он, скорее всего, любил ловить, а я — убегать и прятаться. То давнее распределение ролей, видно, и предопределило нашу дальнейшую жизнь. Ну и что с того? Нас объединяет то, что мы оба пережили, а вскоре обоих ожидают схожие проблемы. Я встаю и направляюсь к его столу, но он в ту же секунду поспешно поднимается и исчезает в глубине ресторана. Через несколько минут я возвращаюсь из туалета, куда нырнул, чтобы скрыть неловкость из-за внезапного приступа сентиментальности, но моего знакомца уже и след простыл. Наверное, разгадал мои намерения и испугался, что будут нарушены правила старой игры в полицейских и воров.
Следующей ночью моя вечная тень стоит в подъезде напротив Весниного дома. Весна стелит постель. На улице снова хлещет дождь. Я вижу дрожащий огонек сигареты, то разгорающийся, то гаснущий в ритме его дыхания. Роли как бы переменились: теперь гораздо удобнее быть вором, чем полицейским. Но именно поэтому мне уже не до любви. Как могут люди преспокойно ужинать, когда их на улице перед рестораном ждет шофёр в машине? Каким надо быть бессовестным и как не ценить время чужой жизни, чтобы при этом получать удовольствие от еды! Впрочем, личных шофёров имеют именно такие.
Иначе как бы они их заполучили? Наскоро прощаюсь с разочарованной Весной и выхожу из дома. Я не могу расслабиться, когда кто-то из-за меня мокнет, пусть даже филер… Перебегаю через улицу и заглядываю курильщику в лицо, но их оказывается двое! — парень с девушкой, обнявшись, курят одну сигарету! Никого с полиэтиленовым мешком в подъезде нет. Уж не начинается ли у меня паранойя? Действительно ли за мной ходят люди товарища Учи или вся эта слежка существует лишь в моём перевозбужденном воображении? Если за мной следят, то что надеются узнать? Скорее всего они просто хотят меня запугать. A может, им надо выяснить, с кем я встречаюсь? Но я этого и не скрываю. Кто их подослал шпионить за мной? И сколько это будет продолжаться?
Помимо опасности заболеть манией преследования, существует ещё одна, о которой не следует забывать. Человек, на которого обрушивается слепой гнев власть имущих, помимо своей воли начинает сам верить в собственную важность и значимость. На него попеременно накатывают приступы ярости, страха и жалости к себе. Он забывает, кто он есть на самом деле. Забрасывает свою работу. Вырезает из газет статьи, где говорится о нем. Заводит досье на самого себя. Останавливает прохожих на улице и начинает им подробно рассказывать, что с ним произошло. Вскоре он уже не может думать ни о чём другом. A потом, когда гроза над ним пронесётся и жизнь потечёт дальше своим чередом, о нём потихоньку начинают забывать. Он же по-прежнему носится со своим «делом». Теребит знакомых и бывших друзей, сует им прошения, жалобы, опровержения и письма в разные инстанции, собирает подписи под петициями в свою защиту. Карманы его набиты многократно сложенными, замусоленными газетными вырезками. Подписи под письмами протеста расплылись от пота. Несчастный постепенно превращается в городского сумасшедшего. Утверждает, что за ним следят, прослушивают его телефон, вскрывают письма, травят водой из водопровода, отказывают в приёме, хотя он каждое утро упрямо дежурит перед дверьми чьего-то там кабинета. Если вы вдруг попытаетесь разуверить маньяка в существовании коварного заговора против него, то приобретёте в нём смертельного врага. Он тут же причислит вас к своим гонителям. Отнимая у него ореол преследуемого, вы лишаете смысла само его существование. Так мимолетная политическая заварушка, о которой все быстро забывают, способна навсегда погубить того, в ком разбудит чрезмерное самомнение.
Чтобы не стать жертвой подобного психоза (не хочу прослыть городским дураком!), я пытаюсь спокойно разобраться в сути происходящего. Прежде всего необходимо попробовать взглянуть на это дело со стороны. Вместе с окурками из переполненной пепельницы вытряхиваю в унитаз и чувство жалости к себе, и возможное самомнение, а также наброски будущего памятника себе-мученику. Спускаю воду.
В одном можно быть уверенным: у товарища Учи нет никаких особых причин ненавидеть меня, потому что мы даже не знакомы. Сильнейшая неприязнь, которую он испытывает ко всем гнилым интеллигентам, по всей вероятности, уходит корнями в его нищенскую молодость недоучившегося слушателя Учительской школы, откуда, кстати, и идет его знаменитое прозвище[27].
Может, какой-нибудь франтоватый гимназист увёл у него из-под носа девушку на провинциальном балу в 1938-м? Может, он завидовал счастливым городским детям, которые по утрам пили кофе с молоком? Разумеется, не следует забывать, что «он безмерно любит весь народ в целом, ненавидя каждого человека в отдельности»… Во всяком случае я для него значу не больше, чем жёлтый бильярдный шар, на который он нацелился кончиком своего кия. Если мы пойдем еще дальше, то обнаружим, что и самого доктора он ненавидит лишь как представителя старой революционной элиты, чьим наследником является. Конечно, он, в биографии которого за неимением исторического оправдания ловко обходятся кое-какие скользкие места, не может не завидовать их чистому революционному прошлому. Доктор для него, стало быть, второй шар. Красный. В этом хитром политическом карамболе товарищ Уча ударом желтого шара по красному одновременно разбивает скопление шаров в углу бильярдного стола. С помощью меня и Доктора, на которого он не решается нападать в открытую (даже если Уча и переживёт его, то ещё долго будет побаиваться его трупа), Уча обвиняет в отсутствии бдительности тех, кто разрешил печатание сомнительных мемуаров Доктора, клеймит тех, кто попустительствовал возникновению политического климата, в котором вообще стало возможным появление такого вражеского логова, как книжная лавка, где, в свою очередь, смог появиться такой зловредный элемент, как я! Старый хитрый лис, Уча стремится выиграть вчистую сто очков, демонстрируя свою всегдашнюю готовность встать на пути подобных вражеских вылазок и таким образом доказать, что достоин подняться на ещё более высокую ступень в иерархии, к которой принадлежит. Его возмущение наигранно, благородный гнев, которым было проникнуто его выступление, — скорее всего плод творчества секретаря, какого-нибудь неудавшегося поэта, занимающегося подобными экзерсисами под защитой Учиного авторитета. Я для них не важен, но они уже не могут остановить облаву, выгоняющую меня из теплой книжной берлоги. По желтому тару нанесли слитком сильный удар, он слетел со стола и стремительно покатился в темноту кафаны. Все бегут за ним, чтобы вернуть в игру, но он этого не хочет и катится, катится, катится…
Я прикончил вторую бутылку белого, вспоминая в полудрёме великолепное изречение одного венгерского писателя:
«Восточная Европа полна пьяных мыслителей!»
49
Я узнал, что сносится дом, где я родился. Мне прислали приглашение на приём, который по этому поводу устраивает Михайлович-младший, внук Анастаса Михайловича, построившего в начале века это чинное здание и установившего в овальной нише фасада свой бронзовый бюст работы скульптора Джордже Йовановича. Здание это стоит на Дукиной улице. Дукина, 13. Когда я попадаю в какую-нибудь передрягу или собираюсь в дальнюю дорогу, то прихожу сюда, чтобы снова вдохнуть сентиментальную атмосферу своего детства и юности. Если человек не имеет понятия, куда идёт и где в настоящий момент находится, ему необходимо знать по крайней мере исходную точку своего пути. Моя исходная точка — это мощеный булыжником двор, в середине которого растёт ветвистая липа. Это что-то вроде маленькой площади, окружённой с четырёх сторон обветшалыми стенами здания, построенного в дар городу на выручку от продажи пшеницы и свиней, которых на баржах возили вверх но Дунаю на скотные рынки в Австрию. Однажды я увидел этот дом с двадцать четвёртого этажа возвышающегося неподалеку небоскрёба, из окна мастерской одного графика. С высоты птичьего полета этот двор с липой, заросший сад и дом под черепичной крышей среди многоэтажек выглядели странным провинциальным оазисом — последним островком определённого жизненного уклада, обречённого на умирание. Казалось, какой-то чудаковатый этнограф, несмотря на дороговизну здешней земли, решил сохранить эту постройку вместе с её разношёрстным населением, садом, мощеным двором, сквозь булыжник которого пробивается нежно-зелёная травка, вместе с веревками, на которых, как флаги в знак капитуляции перед бедностью, вывешены рваные простыни, вместе с дымовыми трубами, увенчанными птичьими гнёздами, и колодцем в центре этого маленького феода — всё это словно должно служить наглядным пособием для поколений, произрастающих на бетонных паркингах: «Вот так, дети, жили здесь люди, пока Белград не вырос в современный безликий европейский город…» Глядя с высоты на этот маленький зеленый островок посреди высохшего асфальтового озера, я видел далеко внизу и себя самого: худенький мальчик с жидкими соломенными волосами и острыми коленками сидел на ступеньках и читал какую-то потрёпанную книжку. Левое стекло его круглых очков в металлической оправе было заклеено пластырем. Я почувствовал жалость к этому малышу. Судьба к нему и так была не слишком-то благосклонна! Мало ей было бедности, в которой он родился, надо было ещё закрыть ему один глаз пластырем! (Мальчишки меня тогда дразнили Косым.) Сегодня это, конечно, уже не важно, но мне кажется, что из-за того пластыря я никогда не смотрел на мир так, как остальные. Возможно, именно с него началось мое взаимное непонимание с внешним миром, которое со временем превратилось в сознательную тайную войну, наложившую отпечаток на весь мой образ жизни. Во всяком случае, без ложной скромности могу утверждать, что то едва заметное, так и не вылеченное косоглазие мальчика, глотавшего для своих лет слишком много книг, позднее сообщило моему взгляду необычную, скажем так, мягкость. Одна особа, к которой я был весьма неравнодушен, однажды сказала мне, что я всегда «смотрю на неё с какой-то жалостью, будто мне всё про неё известно!»
(«Боже мой, Педжа, когда вы на меня так смотрите, мне хочется плакать, сама не знаю отчего…»)
Вернёмся, однако, к моему родному дому тринадцать Дукиной улице, хранящему память о более чем двадцати годах тихого, уютного житья, детских болезней, мечтаний, весёлых похождений, тайных влюблённостей, наивных пороков. Если смотреть снаружи, это один из бесчисленных белградских домов, где квартиры сдавались внаём, фасад которого с неудержимо осыпающимися лепными украшениями, подобно крепостной стене, надёжно защищает от любопытных взглядов улицы так же, как и старые кованые ворота, для экипажей с чуть приоткрытой маленькой боковой калиткой. С тех пор, как из города изгнали лошадей, большими воротами пользуются редко, их открывают только когда привозят уголь и дрова или когда кто-нибудь переезжает. Но зато, стоит войти во двор, как перед тобой открывается некое подобие примитивного атриума — сцена многолетних дружб и ненавистей, стычек, ссор и примирений, рождений, свадеб и смертей; философская школа давно похороненных и забытых мудрецов, передававших свой богатый опыт, сидя под липой, — клубок человеческих судеб, которые, будучи отделёнными от внешнего мира толстыми стенами и зеленым сводом ветвистой кроны, навсегда остались здесь сгустком своего времени. Расселенный добром ли, силой ли по новым районам здешний достойный люд уже никогда не будет тем прежним, который, правда, мог подраться из-за какой-нибудь ерунды, но при этом был готов и поделиться с соседями всем, что имел, тот, что со страстью участвовал в жизни ближних, но и сам был для всех открыт как на ладони. И этот дом предназначался на слом! Запасясь достаточным количеством сигарет и белого вина, я уселся с пишущей машинкой на кухне и стал яростно выстукивать письмо протеста в «Политику».
50
«Уважаемый товарищ редактор, пишу вам в связи с решением о сносе жилого дома по адресу Дукина, тринадцать. Хочу напомнить, что данное здание построено в 1899 году по проекту зодчего-самоучки из Панчева Теодора Божидаровича. Строителю, конечно, и в голову не могло прийти, что его детище, один из редких у нас памятников в стиле позднего сецессиона, будет перегорожен и поделен на маленькие закутки, что его будут разрушать войны (в которых у нас не было недостатка), бедность, безвременье и случайные жильцы, селившиеся здесь последние полвека в порядке уплотнения. Я это всё знаю. Я в этом доме родился. Но прошу вас, товарищ редактор, понять меня правильно: я маленький человек и у меня нет никакой личной причины бороться за спасение этого здания как будущего памятника культуры, на котором когда-нибудь повесят доску с надписью: „Здесь родился такой-то…“ По правде сказать, в стенах этого дома не родился никто из великих и славных, а мне уже поздно таковым стать. В них рождалась лишь частичка неповторимого белградского духа, если вы понимаете, что я хочу этим сказать. Историки утверждают, что разные завоеватели сорок раз разрушали Белград до основания. Но никто не вспоминает, сколько раз мы его сами разрушали. А ведь, положа руку на сердце, следует признать, что именно потому он имеет такой малопривлекательный вид. Беру на себя смелость утверждать, что это едва ли не самая неприглядная столица в Европе. Но если что-то и выделяет его среди всех остальных городов, делает единственным и неповторимым, так это его дух. Очень хорошо сказал один из известных белградских архитекторов: „B Белграде нет значительных архитектурных памятников — он сам свой памятник!“ Верно. Его дух неуловим. Он материализуется только в редких случаях и в определённых местах. Одним из таких мест, несомненно, является дом номер тринадцать на Дукиной с огромной липой во дворе, где в известные периоды жили в любви и согласии более двадцати семей. Здесь рождались и умирали, здесь корпели над учебниками и оплакивали покойников, отсюда во время войны юные подпольщики, почти мальчишки, шли жечь немецкие грузовики на Автокоманде[28] — одним словом, дом этот делил со своими жильцами и радости, и невзгоды. Я слышал, что на его месте будет построено высотное здание с супермаркетом на первом этаже. Позволю себе заметить, что у нас становится все больше супермаркетов и всё меньше близости между людьми. Мы не птицы, чтобы жить где-то под облаками. Мы хотим почувствовать под ногами землю, которая вернёт нам утраченную силу. Многоэтажки отсекают наши корни. Мы охотно променяли бы супермаркеты на бакалейные лавки, а морозильники на овощные базары. Кто-то мудро заметил: „Лучше жить без квартиры, чем без хороших соседей!“ Что в итоге останется от Белграда и от нас, его жителей? Что останется от нашей духовности, от нашего образа жизни, который мужественно, до последнего вздоха защищался на Дукиной, тринадцать? Я взываю к вам о спасении Белграда от дальнейшего обезображивания, принимающего с каждым днём всё более угрожающие масштабы. Прошу спасти старый дом Михайловича…»
Но уже с середины второй страницы я, сам того не сознавая, стал писать себе ответ, бешено колотя по клавишам машинки:
«…У Белграда есть только один путь: путь включения в общий современный процесс развития сообщества европейских городов, и здесь нет места никакой идеализации прошлого, ностальгии и прочим сантиментам. Легко рассуждать о прелести старых двориков, булыжной мостовой и голубятен, живя в благоустроенной квартире с ванной, лифтом, центральным отоплением и телефоном, предоставляя своим не столь счастливым согражданам ютиться в постройке конца прошлого века, лишённой всех этих удобств. Легко горевать о „старых добрых временах“ и выступать за „приземление“ Белграда (ненавижу кавычки, обозначающие иронию!), не имея понятия об основных элементах экономических расчётов в строительстве, таких как стоимость инфраструктуры (ненавижу это слово!) и объектов соцкультбыта (и это!). У Белграда есть только один путь роста — в высоту, куда он всегда и стремился! С уважением, Зам. секретаря отдела строительства и реконструкции Белграда ИЗСРТБ (ненавижу сокращения!) C. Стоисавлевич».
Допечатав ответ на своё обращение, я вытащил лист из машинки и порвал в клочки. Снова, уже в который раз, получил подтверждение мой вывод о том, почему я так и не стал писателем. Об одном и том же вопросе у меня может быть несколько взаимоисключающих мнений, что не позволяет с уверенностью писать о чём-либо. Впрочем, кто бы теперь напечатал моё письмо, даже если бы я твёрдо верил в свою правоту? Я побрился и отправился на Дукину, тринадцать на встречу с детством.
51
Боже, неужели это в самом деле мой родной город? Эта тёмная дыра с неосвещенными витринами, погашенными рекламами и фонарями, эти пустые тротуары без людей, которые сейчас наверняка сидят, уставившись как загипнотизированные в свои телевизоры, и не оторвутся от них, пока не прозвучит прощальное «Белград, ты сияешь, как солнце!», после чего целые кварталы наполнятся водопадным грохотом спускаемой в унитазах воды, затем последует всеобщий широкий и усталый зевок и скрип пружин незастеленных кроватей, пропитанных застоявшимся запахом спален и фланелевых ночных рубашек. Боже, неужели это в самом деле мой родной город? Говорят: кризис. А листья в октябре горят всеми оттенками оранжевого, желтого, красного и рыжего, в точности как на полотнах г-жи Надежды Петрович, первой сербской импрессионистки, отпечатанных на рекламных календарях Белградского полиграфического комбината. Если б не разные времена года, не жалеющие красок на листву и газоны, чёрта с два мы когда-нибудь увидели бы какой-либо другой цвет, кроме серого, к которому у нас, кажется, даже большая склонность, чем у других восточноевропейских народов, достигших в многолетней серости несомненных высот. Боже, неужели это в самом деле мой родной город? Да, это он.
Но эта тихая улица — что такое с ней? Я её уже не узнаю! Откуда взялись эти молодые люди, что с шумом вываливаются из своих лимузинов, нахально поставленных прямо на тротуаре, вылезают из такси, хохоча и обмениваясь приветствиями; куда идут эти элегантные мальчики и эти красивые, счастливые девушки, возбуждённые и радостные, откуда тут эти сверкающие лаком мотоциклы, с которых спрыгивают юноши-кентавры, одетые с головы до пят в кожу, помогая своим спутницам слезть с высоких сидений и освободиться от защитных шлемов, возможно ли, чтобы сонная Дукина улица, где ещё вчера жили скромные ремесленники, мелкие чиновники, машинистки, кондуктора, учителя на пенсии и бакалейщики, вдруг, словно по мановению волшебной палочки, превратилась в центр города? И все они, судя по всему, шли к дому Михайловича, спрашивая друг у друга, как найти номер тринадцать. Я шагал вместе с ними, не узнавая родных, внезапно разбуженных мест, вошёл в ворота, перед которыми толпилась куча народа, и остановился ослеплённый светом прожекторов, оглушенный ревом рок-ансамбля, про который кто-то сказал, что он называется «Тёплые братья» и состоит из одних агрессивных молодых педерастов. Прожектора освещали обшарпанные стены, крышу с дымовыми трубами и даже внутренность комнат со множеством безобразных шрамов, оставленных съехавшими жильцами. Я знал каждый сантиметр этого убогого интерьера, каждую скрипучую дверную петлю, каждый камень во дворе и все же шёл как во сне, чувствуя в себе какую-то сосущую пустоту, будто из меня что-то вырвали с мясом, превратив эту мягкую октябрьскую ночь в жуткий кошмар. И только когда мои уши привыкли к тупому грохоту электронной музыки, а глаза — к слепящему свету, я понял, чего тут недостаёт — липы! Не было липы. Кто-то её срубил. В это время года её крона, зажатая в рамку крыш, походила на жёлто-зеленый зонтик, сквозь который едва можно было разглядеть небо. Теперь тут не было ничего. Я двинулся вперед, туда, где прежде стояло дерево моего детства, стал протискиваться сквозь толпу приглашённых, становившуюся ближе к центру двора всё гуще. Я расталкивал аристократического вида людей, разрывая нити бесед и знакомств, пока не нащупал это место: нагнувшись, кончиками пальцев коснулся совершенно гладкой поверхности пня полуметровой высоты, похожего на круглый деревянный столик, на который стоявшие поблизости гости кощунственно ставили свои картонные стаканчики и подносы с бутербродами, мешавшие им прикуривать и болтать.
Я огляделся вокруг. Мне вдруг захотелось кого-нибудь избить. Многих из этих гостей я знал по газетам и телепередачам (они носили свои общеизвестные имена с надменной скукой), некоторые, бывало, захаживали и в мою лавку, но большинство принадлежало к плохо поддающемуся определению разряду праздных обеспеченных людей, одетых по последней моде, с выражением кичливой пресыщенности на лицах. Были тут и мои ровесники, старательно скрывающие свои годы, пуще всего боящиеся отстать от жизни и времени и потому не пропускающие ни одного подобного мероприятия; были неправдоподобно высокие манекенщицы с мальчишескими бедрами, длинными ногами и плоской грудью, едва обозначенной бугорками сосков под тонким шёлком, они рассеянно смотрели через головы своих собеседников, оглядывая, как жирафы, собравшихся в надежде высмотреть кого-нибудь, кто в ещё большей моде; были и подвыпившие гуляки, панибратски хлопающие по плечу каждого встречного-поперечного; заметил я и молодых красавцев, любующихся собой и своим декадентским изяществом, стремящихся обратить на себя благосклонное внимание увядших дам и стареющих педерастов; каждый здесь чего-то хотел и на кого-то охотился или же сам был дичью, в том числе и только-только распустившиеся девочки-подростки, рано осознавшие свою привлекательность нимфеток, с нетерпением ждущие, кому бы себя подарить, а лучше продать, да подороже, — тому, у кого жизнь повеселее или карьера покруче и кого всегда можно шантажировать разницей в возрасте…
А сквозь эту пеструю публику, которая сама себя с гордостью называет tout Belgrade[29], которая одновременно испытывает взаимную ненависть и влечение, любовь и презрение, имеет одни интересы, общается, сплетничает, спаривается, обменивается партнёрами (вечно в одном и том же заколдованном круге), расходится и сходится, которая обязательно оказывается везде и всюду, где происходит что-нибудь исключительное — от гастролей мировых звезд, открытий выставок и торжественных закрытий сезона до скандальных политических выступлений и лошадиных бегов на ипподроме у Царевой чуприи[30] — сквозь всю эту толпу, которая уже самим своим присутствием даже похороны превращает в оживлённые коктейли, сквозь это жужжащее облако дорогих духов и дыма импортных сигарет виртуозно маневрирует на своем гоночном велосипеде Борис Полянский в костюме «сафари». Его древний, яйцеобразный, наголо обритый череп выкатывается из толпы сорвавшимся с ветки апельсином. На этот раз он избрал гоночный велосипед, чтобы ещё раз посмеяться над своими сверстниками, которые давно уже гниют под пледами в креслах, страдая подагрой и склерозом, терроризируемые своими сварливыми супругами. Время от времени он останавливается, чтобы сообщить стайке юных ночных бабочек, сейчас же слетающихся к нему, как к розовой лампе, что до сих пор регулярно самоудовлетворяется. Они хихикают, угадывая под клоунской маской старого жеребца редкие способности мастера блуда, который, возможно, мог бы их спасти от пресыщенности всем и вся.
Так вертится эта сумасшедшая карусель тщеславия и скуки, а в самом её центре, одетый в безукоризненно белый костюм и чёрную рубашку, стоит совершенно невосприимчивый ко всему происходящему вокруг молодой Михайлович, правнук Анастаса Михайловича, построившего это здание, чтобы увековечить свой купеческий род, конечно же не подозревавшего, что всё закончится этим кошмарным спектаклем в октябре 1982-го. Сколько вообще живут наши династии? Столетие? Сто пятьдесят лет? Двести? Их основатели были крестьянами или торговцами, в лучшем случае свиноторговцами. (На знамени Карагеоргия вышита кабанья голова, пронзённая стрелой.) И Милош Обренович торговал свиньями. Его потомок, исколотый саблями заговорщиков, выброшен вместе с королевой из окна дворца на зеленый луг… Наш крутой, горячий нрав заставляет нас жить быстрее других народов; история, завоёванная свобода, дедовские состояния, успех, любовь плывут у нас между пальцев. Здесь, кажется, никто ничего не наследует. Мой дед (царство ему небесное!) десятилетиями собирал книги, чтобы оставить отцу. Вся библиотека сгорела. Отец начал собирать книги сызнова, намереваясь передать их по наследству мне. Всё его собрание распродано в годы нужды. Кому посчастливилось сохранить крышу над головой от пожаров и разрушений, у того она отнята. Вот и этот дом, во дворе которого я стою, принадлежит законному наследнику только этой ночью. Здание лишь на бумаге зовется домом Михайловича. Завтра его станут ломать — наследник, стало быть, может владеть им только до утра, и он это, наверное, чувствует, если вообще в состоянии что-либо чувствовать после того как накачался героином. Он стоит, словно позируя автору нудной трёхтомной саги о гибели белградских семей для последней главы, где будет наглядно изображен абсурд накопительства, обогащения и наследования. Он воспользовался этой ночью, чтобы показать Белграду, кем он был или кем бы мог быть, если б всё осталось по-старому. Остаток дней своих он будет жить за счёт молчаливого признания того круга, мнением которого дорожит, былого аристократизма и этой ночи, напомнившей всем о его забытом происхождении.
Что нам оставить детям и внукам такое, что бы никто не смог у них отнять, сжечь, разрушить? Может, какое-нибудь полезное ремесло, которое пригодится при всех обстоятельствах и при любой системе? Или хорошее воспитание и знание языков, которое поможет им уехать подальше отсюда по следам древних переселенцев? А может быть, вернее всего вооружить их презрением к любой собственности, благодаря которому они будут покидать свои гнёзда с лёгким сердцем, посвистывая, засунув руки в карманы?..
52
Моя старая липа влипла. Вот и ещё один сон закончился!
А чего, собственно, я ожидал? Разве это не логическое завершение длительного процесса разрушения всего, при котором я присутствую? Всё рушится, и на обломках дорогого мне мира новое поколение топчет своими элегантными туфлями щепки легендарной славянской липы, пьёт коктейли и договаривается о случке в конце ночи, радуясь, что собралось вместе, в стадо, что что-то происходит, что хоть на один вечер решён вечный вопрос, куда деваться от одиночества и скуки. («Подожди меня потом… Я ещё не знаю, буду ли свободна. Там видно будет!») Может, с этим? Или с тем? Или ещё немножко поохотиться, попробовать подцепить того получше, кого не так просто взять, но тем ценнее каждое завоёванное очко? Что такое вообще история? Разве не стояли бы они так же с картонными стаканчиками в руках на бранном поле после какой-нибудь страшной битвы, болтая ни о чём над грудой тел? Разве не поставили бы преспокойно свой коктейль на гусеницу подбитого танка, не прикуривали бы от горящего трупа? («Куда потом ткнёшься, когда все закрыто?.. У вас не найдётся ещё немного льда?..»)
Внезапно толпа заволновалась.
Майя Салваро… Кутаясь в черный плащ, к пню пробиралась высокая молодая женщина с болезненно-бледным лицом, белизну которого ещё больше подчеркивали крупные тёмные глаза с золотистыми тенями на веках. Волна иссиня-чёрных волос падала ей на плечи, а длинные тонкие пальцы судорожно стягивали плащ под горлом. Она была босая. В её взгляде весталки я заметил болезненную сосредоточенность на какой-то ей одной видимой внутренней картине, которая, казалось, всё время держала её в состоянии немого ужаса; эти расширенные зрачки, правда, смотрели на присутствующих, расступавшихся перед их обладательницей, но, кажется, вовсе их не видели, обращённые внутрь себя, к себе, к своему надменному одиночеству, какой-то тайной цели, скорее всего недостижимой или же не стоящей борьбы и усилий, оставляющей в душе лишь брезгливое презрение и усталость — следствие неудовлетворённости. Она взобралась на пень и одним движением худых плеч освободилась от плаща, легко соскользнувшего с её нагого тела. Борис Полянский, сопровождавший её вместе с каким-то женоподобным юношей, ловко подхватил плащ, свернул и положил у подножья пня, превратившегося в круглый пьедестал для живой скульптуры. Это стройное, трепетно-белое тело, как ни странно лишенное всякой эротики, обнажённая натура, и только, словно выросло из самого пня, как молодой побег, укрывшийся невидимой кроной тишины, которая распростёрлась над зрителями, погасав музыку рок-группы, приглушенное хихиканье, обрывки разговора и чей-то восхищённый присвист. В фигуре молодой женщины, неподвижно стоявшей в чём мать родила среди толпы, не было и намека на эксгибиционизм или желание шокировать своей наготой; собственное тело как будто было для неё всего лишь инструментом, на который она обращала не больше внимания, чем скульптор на глину, которую мнёт в пальцах, поглощенный замыслом будущего творения. Старый Полянский и юноша подтащили к пню плетёные корзины и подносы с едой, стали раскладывать у ног девушки всевозможную снедь, словно принося ей жертву. Сперва они развернули упакованные в бумагу телятину, куриные ноги и головы, свежую печёнку, за ними последовали листья зелёного салата, цветная капуста, морковь, петрушка; они плотно обложили её кусками белого и ржаного хлеба, баночками с горчицей, кругами колбасы и сосисками, ломтиками шпика, сельдереем и головками чеснока, нарезанной савойской капустой и яйцами, а она, всё так же неподвижная, опустив руки вдоль тела, невозмутимо принимала приношения, глядя поверх голов зрителей куда-то в другой конец двора, где в ворота по-прежнему текла нескончаемая река гостей. Когда всё было готово для их тайного обряда, юноша стал обкладывать голени, икры и бедра девушки кусками мяса, овощами и хлебом, а Полянский, достав откуда-то клубок бечёвки, всё это ловко привязывал, делая множество узлов, превращая нагую фигуру в женщину-бутерброд и быстро поднимаясь к её лицу, не без гадливости смотрящему в пустоту. Юноша прикладывал кусок печёнки к груди Майи, придерживая одной рукой, другой добавлял морковку или капустный лист, а Полянский, не говори ни слова, как почтовый служащий, со скукой упаковывающий очередную посылку, обматывал девушку бечёвкой, один раз, второй, столько, сколько требовалось, чтобы новая порция не соскользнула, не забывая каждый раз завязать узел. Юноша выдавливал из тюбика всхлипывающую струйку майонеза или ложечкой размазывал горчицу по хлебу и колбасе, а время от времени подсаливал и перчил. Огромный живой бутерброд внушал неприятное чувство, но не потому, что драгоценная человеческая пища (к которой мы всё ещё относимся с благоговением) пришла в соприкосновение с женским телом, не потому, что девушка за каких-нибудь десять минут была превращена в груду съестного, и не потому, что по голой коже там, где она случайно осталась неприкрытой, стекали кетчуп, густая чёрная кровь из печени вперемешку с зеленовато-жёлтым майонезом и китайским соевым соусом цвета йодной настойки; это чувство стыда, неловкости и смущения вызывал скорее безмолвный профессионализм ассистентов живой скульптуры, упаковывавших необычный объект при полном отсутствии всякого личного отношения к своей работе, а отчасти и остекленевший взгляд девушки — её все это словно не касалось, она равнодушно позволяла издеваться над собой, хотя, несомненно, была для обоих мучителей обожаемой госпожой и предметом преклонения.
— Перформанс! — сказал один интеллектуал другому. — Давно мне не приходилось видеть такой великолепный перформанс!
— А знаете, что она вытворила в том году в Касселе? Не знаете? Так вот: обрезала перед камерой ногти на руках и ногах, сожгла и продала эту пленку Мюнхенскому музею! Но уж это действительно превосходит…
— Для чего всё это? — сухонький бородач объяснял происходящее своей породистой молодой подружке. — Для чего? Возьмём, например, обыкновенную домохозяйку, которая каждый день готовит для своей семьи. Что она делает? То же самое! Режет мясо, хлеб, солит, перчит, варит, ставит на стол тарелки, убирает их, моет… Для чего? Что останется от её трудов, когда всё будет съедено и вымыто? Ничего. Вся работа оканчивается ничем. Но ведь никто не задаётся вопросом, для чего это было нужно? А может быть, работа доставляет ей радость? А может, она испытывает от неё удовлетворение? Иначе бы она этого не делала, верно? Посмотри, как ей сейчас хорошо! Ей просто хорошо, потому что она существует! Это всё прикосновения… Если есть искусства для остальных чувств, то почему бы не быть искусству для осязания? Скажем, touch art[31]? А?
Девушка взглянула на него презрительно.
— На словах-то ты боек! — сказала она. — А когда доходит до… тогда…
Она не сказала, что тогда, но шепелявый бородач замолчал и опустил глаза.
Не досмотрев перформанс, я отправился бродить по пустым комнатам и общим кухням своих бывших соседей. Какие-то мальчишки писали на стенах шипящими цветными аэрозолями: БОГ — ПАНК! ЗОЛУШКА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ! СМЕРТЬ БPEХУНАМ! К ЧЕРТУ СТЕНЫ, НА КОТОРЬIХ НИЧЕГО НЕ НАПИСАНО! Я пил подряд всё, что попадалось под руку. Джин с запахом ацетона. Потом кислое вино. Коньяк, забытый кем-то на подоконнике. Пиво без пены. Виски из картонного стаканчика со следами губной помады. Кто-то плакал. Кто-то блевал в пустую бочку из-под квашеной капусты. Двое молодых людей влюблённо держались за руки. У меня кружилась голова от невообразимой смеси, которую я в себя влил, и поэтому я не видел, кто первым бросил кирпич в окно комнаты, где раньше жил бывший почтальон, занимавшийся па пенсии разведением голубей. Может, сам Михайлович? Кто бы это ни был, он подал остальным сигнал к началу разгрома дома. Они выламывали двери и срывали с петель окна, обдирали оставшиеся обои, швыряли недоеденные бутерброды в стены, поливали их фруктовыми соками, били бутылки, обрывали бельевые веревки, выбрасывали оставленную старую мебель, из которой соорудили посреди двора костер… Какой-то парень в кожаных штанах залез на крышу и с терпеливой методичностью сбрасывал оттуда черепицу за черепицей. Женщина-бутерброд куда-то исчезла вместе со своими ассистентами. O том, что она на самом деле здесь была, свидетельствовали лишь раздавленные овощи и мясо среди опилок вокруг пня, Две босоногие манекенщицы прыгали через верёвочку, которую крутили два господина средних лет в блейзерах. Я сидел на своей старой лестнице, пытаясь остановить кружение двора, который с каждым поворотом всё больше пустел.
В шесть пятнадцать в распахнутые ворота въехали, громыхая, два грузовика, и из них стали выпрыгивать рабочие. Какая-то нимфочка, ползая на коленях, искала потерянную серёжку. Пыльные голубые комбинезоны перемешались с тёмными костюмами и голыми спинами задержавшихся дам. Они молча мерили друг друга взглядами: с одной стороны — морщинистые, жёсткие, небритые лица, с другой — оскаленные, опухшие от пьянства физиономии, привидения и вампиры, которые, заигравшись, не услышали первых петухов и не успели вовремя вернуться в свои могилы; с ними женщины с расплывшимся макияжем, бледные красавицы, озирающиеся в испуге, застигнутые врасплох серым утром. Кто-то вопил из окна ближайшего дома:
— Наркоманы! Их всех надо пересажать! Почему вы не вызовете милицию?
Двое молодых людей выводили под руки шатающегося Михайловича, а прораб, смуглый мужчина с усами, расталкивал последних гостей, увещевая их скороговоркой:
— Давайте, товарищи, расходитесь, расходитесь…
Я сидел на ступеньках перед своим бывшим домом и слушал грохот заводимых и отъезжающих мотоциклов. Свет уже давно был погашен, и двор накрыла сиреневая тень исчезнувшей липы. Мне было зябко.
— Ты что тут делаешь? — зарычал чей-то грубый голос.
Мне удалось на мгновение остановить стремительную карусель двора. Прораб угрожающе стоял надо мной в окружении группы голубых комбинезонов.
— Разойдись! — приказал он.
Я разошёлся. Бредя на нетвердых ногах к воротам, я затылком чувствовал тяжелые взгляды, полные отвращения.
Вот и здесь всё кончено. Через два дня от моего старого гнезда не останется ничего. Потом долгие осенние дожди будут наполнять водой яму, похожую на рану от вырванного зуба. Она будет ждать весны, чтобы принять бетонный фундамент будущего здания. И вскоре уже никто не вспомнит ни это место, ни эту безумную ночь.
На следующий день я долго чистил пыльные ботинки, впервые не в силах добиться обычного блеска. Прах моей юности слишком глубоко въелся в их старую кожу.
Я снял с телефона трубку и вызвал Нью-Йорк, номер 645-87-96.
— О'кей, приятель! — сказал Джордж Попович. — Получай американскую визу, билет у тебя будет через два дня! И не высовывайся из окна, когда полетишь через океан!..
Всё остальное происходило как во сне. Я заполнял формуляры и анкеты, прощался с друзьями, получил билет (Джордж в Нью-Йорке оплатил его), вырвал коренной зуб, болевший не переставая много дней, побросал свои жалкие тряпки в новый кожаный чемодан и оказался в самолете, в салоне для страстных курильщиков, прижимая к груди единственную вещь, которая у меня осталась, — досье Шломовича.
А потом мы погрузились в море тумана, вина и облаков…
Перевод с сербскохорватского И. ЮФЕРЕВАПримечания
1
Улица в Белграде (Здесь и далее — прим. переводчика)
(обратно)2
Ежемесячный литературно-художественный журнал.
(обратно)3
Очень сильный северо-восточный ветер с низовьев Дуная.
(обратно)4
Я сказал и тем облегчил свою душу (лат.).
(обратно)5
ЮНРРА — Администрация помощи и восстановления Объединенных Наций.
(обратно)6
Здесь: Черт возьми! (англ.)
(обратно)7
Мать его! (англ.)
(обратно)8
Смотри на это проще! (англ.)
(обратно)9
Благодарю (англ.)
(обратно)10
О, мой бог! (англ.)
(обратно)11
Здесь: дьявольщина! (англ.)
(обратно)12
Ужасный ребенок (франц.).
(обратно)13
Дерьмо (франц.).
(обратно)14
Дорогая, проводи моего милого друга! (франц.)
(обратно)15
Для мужчин (франц.).
(обратно)16
Делайте вашу игру, дамы и господа! Делайте вашу игру! (франц.)
(обратно)17
Ставки сделаны! Ставки сделаны, дамы и господа! (франц.)
(обратно)18
Фешенебельный район в Белграде.
(обратно)19
Список запрещённых книг (лат.)
(обратно)20
Бог из машины (лат.)
(обратно)21
Улица и Белграде, где собирается белградская богема.
(обратно)22
Забудь об этом (англ.).
(обратно)23
Нюца, Нуйка и др. — жаргонные названия Нью-Йорка, бытующие среди югославских эмигрантов в Америке.
(обратно)24
Добро пожаловать в клуб! (англ.)
(обратно)25
Члены Союза социалистической молодёжи (омладины) Югославии.
(обратно)26
Труд делает свободным (нем.).
(обратно)27
Уча — ласкательное от «учитель» (сербскохорватск.).
(обратно)28
Район в Белграде, где находились авторемонтные мастерские.
(обратно)29
Весь Белград (франц.).
(обратно)30
Район в Белграде.
(обратно)31
От англ. «tоuсh» — «касаться» и «art» — «искусство».
(обратно)
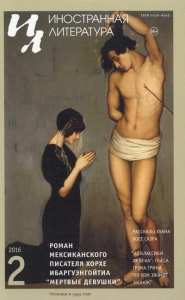






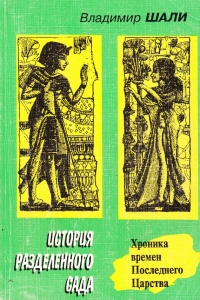

Комментарии к книге «Книга жалоб. Часть 1», Момо Капор
Всего 0 комментариев