Бре
Последние 10 дней в Белграде гостила моя давняя подруга принцесса Елизавета Караджорджевич[1]. Она приехала, чтобы посетить город, в которым родилась. Ей любезно показали Белый Двор. Она прогулялась парками, в которых играла, когда была девочкой. Она помолилась в церкви за тени своих предков.
На ее черной соломенной шляпе с широкими полями все время увядали желтые цветы, которые она сорвала на Косовом поле.
В отличие от выскочек, разбогатевших за одну ночь, которые, возвращаясь в Белград из белого света, имеют целую серию замечаний на всё и вся, Принцесса влюбилась в этот город. Полюбила, говорит, людей, улицы, аллеи, нашу еду и образ жизни…
Когда мы с ней познакомились, двенадцать лет назад в Нью-Йорке, я открыл ей тайну, что, будучи мальчиком, целовал каждую лягушку, которую мне удавалось поймать.
— Зачем ты целовал лягушек?
— На всякий случай! — ответил я. — Никогда не знаешь, когда какая-нибудь лягушка превратится в принцессу.
Между тем, Принцесса научилась совсем прилично говорить по-сербски и писать кириллицей.
Как и все высшее общество, она говорит размеренно и тихо. Мы же шумим и говорим во весь голос. Из-за этого принцесса научилась говорить: «Не ори!»
Мы сидели на корабле на реке Сава и смотрели на прохожих, гуляющих по набережной. Все белградские девушки выглядели как принцессы из неких зачарованных тайных новобелградских королевств.
Однажды я писал о них:
«Летом мы, действительно, самый красивый народ в мире! Зимой нас превосходят в элегантности многие страны и многие города, но когда, в конце концов, снимаются норковые шубы Лондона, когда под невыносимым солнцем начинает таять римский макияж, когда все выходят из домов и автомобилей, по которым распознается кто, есть кто, когда сбрасываются парижские фантазии шляп, — наступают наши пять минут.
На солнце, на этой нищей матери, достаточно всего лишь одних джинс и одной футболки, чтобы голыми телами затмить английскую декадентную бледность, римскую традицию и парижскую красоту, полную искусственности… Больше не важно, кто, чем обладает — все, что красиво, лето вытащило за волосы на улицу!»
Дочери Белграда! Посреди кризиса и бедности, они одеты в чистую фантазию…
«Не ори!» говорит Принцесса.
Но я не веду благородных аристократических рубрик (каких у нас более того и нет), поэтому не хочу описывать все, что Принцесса делала в Белграде и около него.
Я вспоминал как давно в ресторане «Ђино» на Лексингтон авеню, учил ее говорить «бре». Она тогда не знала, что значит это слово, если это вообще слово, а не частица.
Это настоящее чудо, как человек на чужбине мгновенно схватывает значения некоторых вещей и слов, на которые дома не обращал внимания. Первый раз в те давние годы я понял, насколько трехбуквенный турцизм свойственен нашей повседневной речи, насколько он многослоен, набит всеми возможными значениями и вариациями.… Сдается мне, что мы не можем составить предложения, чтобы не найти в нем по крайней мере одно «бре», прямо как у боснийца «болан», или у далматинца это значимое неоднозначное «еееее!» — которое имеет тысячу значений и интонаций.
Сказано с восхищением: Он, бре, человечище!
Недооценивающе: Эй, иди, бре!
С вызовом: Что, бре?
Нежно: Их, бре!
С любовью: Приходи, бре…
Высокомерно: Что ты, бре, хочешь мне сказать?
Философски: Море, бре!
Изумленно: Откуда это, бре?
Повелительно: «Играй, бре! — приказывает Гайдук Станко цыганам»[2]
Эпически: «Бре, не ври, черный Араб!»[3]
«Бре, я молчал, бре, я кричал, бре, угрожал — все напрасно, все назло!»
Как вообще перевести такое маленькое, а такое значительное «бре» на какой-либо мировой язык?
А в нем упрямство, нежность и легкость, что-то буддистское и разъяренное, хулиганское и каппадокийское. Оно служит, чтобы выражать одобрение и восхищение, в то же время, неодобрение и жалость, служит для удивления, для вызова и предупреждения, для изумления, для подстрекательства и для мольбы.
В том малом «бре» — мы, со всеми достоинствами и недостатками, мне кажется, оно — наша сущность. И если бы каким-нибудь чудом мы исчезли из этого мира, точно выросли бы заново из этих трех букв!
А затем пришло время принцессе Елизавете возвращаться в белый свет.
Я ей сказал, что она красива как никогда, и это действительно был не пустой комплимент.
— Не ори! — сказала она, спускаясь по Македонской.
— Иди уже, бре! — сказал я, но она меня не слышала.
Перевод Смирновой ЖениВ «?»[4]
Во времена, когда произошла эта история, восемнадцатилетние ребята еще влюблялись. Причем до смерти! В то время еще не бытовало массовое жевание жвачки, поэтому мы жевали, главным образом, нежные слова и прожевывали любовную лирику. Сегодня все намного проще: когда человек жует жвачку, он приобретает довольно равнодушный и исполненный собственного превосходства взгляд на мир. Кроме того, кто взаимно любит, тот и спит с тем, кого любит. Но во времена, когда произошла эта история, о том, чтобы спать вместе, не могло быть и речи. Если вы были влюблены в кого-то, вы часами стояли на углу, чтобы на мгновение увидеть, как ваша любовь проходит мимо с книгами под мышкой. И это все. Я не хочу сказать, что те времена были лучше. Или что эти хуже. Я ничего не хочу сказать. Я только хочу рассказать о том, как мне было восемнадцать лет и как я был до смерти влюблен в одну девушку, немного Антигону, немного разбойницу. Я только хочу сказать, что у меня подкосились ноги, когда она передала мне через какого-то общего знакомого, что согласна встречать со мной Новый год. Я так волновался, что мне приходилось держаться за живот, как будто меня ударили в солнечное сплетение. У меня дрожали колени от сладкого предвкушения, пока я брал взаймы серый пиджак и бордовый галстук. Я погладил свои серые брюки и старался сидеть так, чтобы не испортить стрелок. Об эти острые линии на моих брюках мухи спокойно могли бы совершить самоубийство на лету!
Новый год встречали в белградской кафане[5] «?». Торжество начиналось в девять часов. На всякий случай я пришел в шесть и начал носиться туда-сюда, как пес без хвоста. От избытка счастья я не знал, куда деваться. Мне не сиделось на месте. У печи в «?» сидел какой-то пьяница, настоящая коллекция совершенных в жизни промахов. Он никого не ждал и потому был спокоен. Видя, как я каждые пять минут спрашиваю, который час, а было только полвосьмого, он предложил мне чего-нибудь выпить. Сам он пил ром, и я к нему присоединился. До этого момента я не пил ничего крепче ликера из шоколадной конфеты, но я не признался бы в этом даже самой страшной полиции на свете. И действительно, стоило мне выпить первый стакан, как какое-то волшебное тепло разлилось по всему моему телу, а волнение, от которого я трясся, как камыш под ударами кошавы[6], в тот же миг уменьшилось наполовину. Видишь, сказал пьяница, тебе сразу стало лучше! И так мы выпили еще по одному рому, и эта вторая порция наполнила меня уверенностью сильного мужчины. С третьим стаканом я почувствовал свое превосходство над окружающими. Пятый подарил мне ощущение, что я капитан пьяного корабля, который борется со штормом. Седьмой я выпил без пяти девять. Моя девушка-мечта, подобно снежной королеве, окутанной инеем, вошла в дверь «?». Она была невероятно красива, если смотреть снизу. В это время меня как раз выносили на улицу, потому что меня тошнило.
Перевела Анна РостокинаГраф
За исключительно благородную внешность и манеры его называли Графом, хотя он всю жизнь служил официантом в ночную смену. С тех лет, когда он работал, у него сохранилась привычка днем спать, а ночью бодрствовать. Он приходил за наш стол после полуночи, свежевыбритый и выглаженный. По краям его борсалина[7] можно было изучать новейшую историю бедности. В большом портфеле, с которым он никогда не расставался, исчезали вчерашние газеты, наполовину выкуренные сигареты, увядшие гвоздики…
Он говорил, что забирает остатки мяса для своей кошки.
Он умер в тот год, когда на двери кафаны «Манеж» повесили табличку, на которой было написано, что ЗАКАЗ УЖИНА ОБЯЗАТЕЛЕН.
Говорят, в его холостяцкой комнате не нашли никакой кошки.
Перевод Анны РостокинойНатюрморт
Когда они возвращаются из-за океана, чтобы сложить усталые кости в родном краю, село женит их на девушках на полвека младше. Они сидят с палками между расставленными ногами, греясь на солнце, отражающемся от их золотых зубов. Дряхлые, до смерти уставшие шахтеры из Колорадо, рыбаки из Луизианы и ловцы устриц из Мэриленда, лесорубы из Орегона без пальцев на руках, строители Вашингтона с расширенными венами, вечно сгробленные сборщики урожая с калифорнийских плантаций, кривоногие скотоводы из Монтаны, чахоточные рабочие кессонных камер на реке Гудзон… Перед ними — поблескивающее море и их потраченные жизни, скрывающиеся за горизонтом цвета перламутра. Перед ними выскобленный деревянный стол под виноградной лозой, на столе бутылка красного вина, соленые сардины из рассола и горка козьего сыра — блюда, которых им так долго хотелось отведать и к которым они теперь не смеют притронуться, потому что эта еда слишком тяжела для их желудков. Они сидят и смотрят на своих беспокойных молодых жен, развешивающих простыни по террасе: смуглые икры и белые бедра, открывающиеся, когда они нагибаются над бельем, сильные мышцы полных женских рук, теплые подмышки и блеск глазных белков — они не были с ними ни прошлой ночью, ни когда-либо раньше или позже, потому что это фиктивные браки, на которые их вынудил обычай предков-возвращенцев — обычай, по которому после их скорой смерти американские пенсии остаются одиноким вдовам из села еще на один человеческий век.
Перевела Анна РостокинаСудьбы
Каждое утро две домохозяйки средних лет ходят друг к другу в гости, пока их мужья на работе, а дети в школе. В окно кухни, где они сидят, пока готовится обед, они видят мрачные лабиринты жилых зданий и пространство мерзлой земли, на которой валяются гнилые строительные леса и пустые пивные бутылки. Вдоволь нажаловавшись на возраст, дороговизну, усталость и людскую неблагодарность и выпив кофе, они переворачивают чашки, чтобы по их стенкам стекла судьба. Они курят и ждут чуда.
Их волосы в беспорядке, лица не накрашены, на руках вздувшиеся вены. Они одеты в поношенные домашние платья, на которых не хватает нескольких пуговиц, а когда-то они были очень красивыми. В карманах у них ключи от квартиры, кошелек, аспирин и платочки для утирания слез — на случай, если те потекут.
Они сидят и ждут, когда будущее станет достаточно зрелым, чтобы в него заглянуть.
Затем одна из них берет чашку в руки, переворачивает ее и рассматривает и так и этак.
— Такой хорошей чашки я в самом деле еще в жизни не видела!
— Что ты видишь, скажи?
Она видит голубя, который приносит письмо, и птицу, которая означает голос, видит ветвистое дерево, это успех — и дороги, ведущие во все стороны! Еще здесь как будто какой-то смуглый мужчина, зависть из-за неожиданного счастья, деньги, много денег и верность до гроба в виде лежащей собаки.
— Опусти палец на дно! — командует домохозяйка, и ее подруга с закрытыми глазами опускает указательный палец в мягкую темную гущу. — Нет, это и правда… правда же… — восклицает женщина с чашкой. — Все исполнится! Вот, смотри: полный круг!
Затем другая берет чашку в руки и видит в ней решение всех проблем: соседкина дочка наконец окончит университет и выйдет замуж, зарплату поднимут, а на змею как будто кто-то наступил ногой; в этой чашке нет ни слез, ни печали, ни болезни — ее подруга ну просто родилась под счастливой звездой!
Они сидят и смотрят друг на друга светящимися глазами, полные сладких ожиданий. В один миг все забыто и неважно: и годы, и нездоровый цвет кожи, и измены, и кухни с влажными от пара стенами, и этот глупый новый район с одинаковыми комнатами, одинаковыми люстрами, одинаковой мебелью и одинаковыми жильцами.
Они выкуривают еще по одной сигарете, улыбаются судьбе в лицо и прощаются до завтрашнего дня, каждая унося внутри прекрасную, сладкую тайну.
Перевела Анна РостокинаРебячливый ребенок
Не успел я толком и глазом моргнуть, как время пролетело, и на тебе — я отец!
Сын у меня — какой-то Саша.
Похож на меня или на мать, и наоборот.
И вот в овощной лавке мне все еще говорят «братишка», а тут уже зовут на родительское собрание. Я, само собой, забираюсь за последнюю парту. За последней партой хорошо сидеть. Когда-то мы за ней курили, спали и играли в покер.
— А теперь возьмите бумагу и ручку и записывайте расписание уроков!
Учительница — телка что надо! Ноги у нее растут прямо из плеч. Нет, из шеи! А родители — без слез не взглянешь: толстые и отечные. Настоящие ботаники. Прячусь в укрытие за одной родительницей в шубе и готовлюсь клевать носом. Шуршит бумага, скрипят ручки, красота, как когда-то…
— Эй, вы, за задней партой!
Делаю вид, что не слышал. Откуда мне знать, кому она кричит?
— Вы, в очках! Я к вам обращаюсь…
— Ко мне? — прикидываюсь дурачком.
— К вам!
— Да, учительница?
— Учитель… — поправляет меня она.
— Да, учитель?
— Товарищ учитель…
— Товарищ учитель.
— Почему вы не пишете, когда я диктую?
— Простите?
— Вам это не интересно, да?
— Интересно, — говорю я, — как же не интересно?
Ботаники навострили уши; уставились на меня во все глаза. Шуба подвинулась в сторону, и я весь как на ладони, негде больше укрыться.
— Хорошо, — говорит учительница, — и кому же я тогда диктую?
— Нам диктуете… — говорю я.
— Для кого я тут надрываюсь?
— Для нас надрываетесь.
— И в чем же тогда дело?
— У меня нет ручки.
— У вас нет ручки?
— Нет.
— Вы его слышали?
Они слышали.
— У него нет ручки!
— Нет.
— Чей вы отец?
— Сашин.
— Сашин? А кто вы по профессии?
— Юморист.
Вот ведь выдумал себе профессию, юморист, думаю я про себя, а эти продолжатели рода глядят себе и глядят на меня. Клюнули на юмориста!
— Юморист, а без ручки! — говорит учительница. — Какой же вы юморист, раз у вас даже ручки нет?
— Я все больше на машинке, уж простите… А машинка редакционная, не разрешают выносить!
— Ладно, может кто-нибудь одолжить ручку нашему юмористу?
Родители молчат, как воды в рот набрали, и только смотрят на меня. Как бы еще, интересно, они на меня смотрели, будь я каким-нибудь сатириком? Учительница дает мне ручку:
— Только верните мне ее потом!
— Я не краду ручки.
— Вам никто и не говорит, что крадете!
И вот снова скрипят ручки, шуршат бумажки, а я все за шубой…
— Ну что опять? А?
— Я спрашиваю, что с вами опять, почему вы не пишете?
— Мне не на чем.
— Нет, это уже в самом деле… — не сказала, что. — Есть у кого-нибудь лист бумаги?
Шуба мигом ныряет в свою сумку. Через какое-то время вытаскивает календарик в кожаной обложке. Даст или не даст — не даст. Пожалела сентября, поэтому прячет календарик обратно, а мне протягивает бумажный платок.
— На чем мы остановились? — спрашивает учительница.
— Пятница…
— Вы потом перепишите до пятницы!
Затем она начинает описывать нам детей. Какая-то Весна: уже знает и кириллицу, и латиницу*. Деян — чудо, а не ребенок. Лина великолепно рисует. Милена: я ее уже выбрала для хора, такой голос… Горан: просто удовольствие работать с такими детьми. Миша — аккуратный.
И стоит ей только назвать какого-нибудь ребенка, продолжатели рода просто тают от счастья.
— Саша…
Тут и я расплываюсь. Жду, что она скажет: озорник, но ум исключительный…
Учительница смотрит на меня и говорит:
— Слушайте, можно вас спросить…
— Да, учительница? Учитель…
— Товарищ учитель…
— Товарищ учитель!
— Почему ваш сын постоянно смеется?
— Простите?
— Он постоянно смеется.
— И что же?
— То есть он все время смотрит на меня и смеется.
— Озорник, но смышленый, правда?
— Позвольте спросить, вы его водили к врачу?
— К врачу?
— Может, это какое-то внутреннее нарушение, какая-то судорога! Какой-то тик? Откуда мне знать? Это страшно ребячливый ребенок…
— Что вы хотите сказать: нарушение?
— Он смеется, даже когда нет ничего смешного.
— Знаете, понятие смешного по Бергсону…
— Оставьте в покое Бергсона! Например, я его спрашиваю: что опять смешного, чтобы и мы посмеялись?
— А он?
— Ничего. Только смеется…
— Как смеется?
— Так, про себя… Что ему так смешно, скажите, пожалуйста?
— Понятия не имею, — говорю я, — я правда не могу сказать, что ему так смешно. Может, он просто улыбается?
— Я же сказала: смеется! Это не улыбка, а самый настоящий смех! Уж, наверное, я знаю, что такое смех? Не вам меня учить! Он смеется. Да, он смеется про себя, тихо, но все равно смеется!
— И что же делать?
— Скажите ему, чтобы он перестал. Вы же ему отец!
— Слушай, ты! — говорю я Саше. — Почему ты все время смеешься?
— Так.
— Как — так?
— Так, просто…
— Ну ладно, а что тебе так смешно?
— Мне все смешно… — говорит Саша и смеется, пускай про себя, но все равно — смеется!
Что мне делать? Дети парикмахеров всегда подстрижены, сапожников — обуты, у детей дантистов зубы запломбированы, у футболистов даже дочки пинают мяч, французские дети — французы! Что остается детям юмористов, кроме как хихикать? Что им еще могут дать родители?
— Слушай, ты, — говорю я Саше, — не смейся!
— Не буду, — говорит он, но и дальше смеется.
— Смотри, сынок, — советую я Саше, — каждый раз, как тебе смешно, представь себе что-нибудь грустное, и сразу перестанешь смеяться!
— А что грустное?
— Ну, например, представь, что у тебя папа юморист!
— Представил, — говорит Саша.
— И?
— Мне все равно смешно! — говорит ребенок и просто покатывается со смеху.
— Ты должен с ним работать, — сказала Сашина мама. — Ты совершенно запустил ребенка…
И я начал работать.
Я читал ему вслух газеты, водил по улицам, полным хмурых лиц, включал телевизор… Объяснял ему, где он живет. Что его ждет в жизни. Объяснял, как устроен мир и что люди делают друг другу.
— У малыша есть прогресс, — сказала на следующем родительском собрании учительница, — он меньше смеется. Но мы еще не совсем довольны! Продолжайте с ним работать! Прогресс налицо…
Мы считали мои доходы, читали сообщения о наводнениях, извещения о смертях, наносили скучные воскресные визиты родственникам. Фотографировались в автомате и потом рассматривали свои снимки — и наконец учительница была довольна.
— Да, — сказала она, — еще случается, что он засмеется, но в целом это как будто бы совсем другой ребенок! Он уже далеко не такой ребячливый. Мы его не узнаем! Он стал гордостью школы. Такой серьезный и дисциплинированный. Видите, чего можно добиться, если только немного поработать с ребенком…
— Ну давай, посмейся чуть-чуть! — смешу я Сашу. — Сегодня воскресенье, выходной, можешь смеяться, сколько хочешь! Сегодня можно…
— Не могу… — говорит он печально.
— Почему не можешь?
— Так, просто…
Перевод Анны РостокинойРадиосвязь
Жил да был один радиолюбитель, и была у него на мансарде радиостанция, и каждую ночь он разговаривал с другими радиолюбителями. Его жене это надоело, и решила она пойти в театр. Он-то её никуда не водил. Но что? Она забыла ключ от двери. Вернулась в одиннадцать часов и звонит, а он — ничего! Нацепил наушники и болтает с кем-то. Какое-то время жена звонила, звонила, звонила, стучала в дверь кулаками, а потом вспомнила, что в соседнем доме живет ещё один радиолюбитель со станцией, знакомый её домашнего сумасшедшего. Пришла она к нему и попросила передать по радио сообщение мужу, что не может попасть домой, так как у нее нет ключа. Тот попробовал, но не смог установить связь. Какое-то металлическое строение между ними не пропускало радиосигнал. «Щас всё будет, сразу», — утешил он женщину и начал слать свои позывные в эфир: YU 1 ANO, YU 1 ANO… Отозвался какой-то чех из Будеёвиц. «В чём проблема?» — «Прошу, скажи YU 16 ANO, что его жена стоит перед дверью и не может попасть внутрь потому, что у неё нет ключа». Чех OK-CRC-BOX 69 попытался, но не смог. Однако, он объяснил всю ситуацию какому-то французу из Лиона с позывным F-REF QSL-SERVICE-PO DOX 70, а тот поймал сигнал исландских рыбаков, которые сообщили про ключ американской подводной лодке, а её радиотелеграфист передал это сообщение токийскому радиолюбителю JA-JARL-PO-BOS 377, который переправил его в Сидней, и через Новую Зеландию, Бангкок и Сингапур пришло оно заново в Европу, где сигнал поймал один грек, который нашёл приятеля в Болгарии, а тот установил связь с мужем той несчастной и сказал ему так: «Что ты, блин, не откроешь жене дверь, на улице ждёт, без ключа!» Этот тогда снял наушники и открыл дверь:
— А, это ты… — сказал он жене и вернулся продолжить свои ночные разговоры.
Кофе, чай или сок
Она шагает по небу длинными ногами победительницы стометровок. Как же ей завидуют ровесницы, привязанные к готовке и кухне в городах, над которыми она пролетает!
Всё заворожено смотрят на неё, пока она исполняет пантомиму с маской.
— При разгерметизации салона из отверстия над вашими креслами выпадет кислородная маска. В этом случае перестаньте курить и поднесите маску к лицу…
После того как мужчины освободились от первого страха, вырвавшись из домашних оков, они глотают обжигающими взглядами отблеск её икр, которые плавно удаляются в сторону кабины пилотов. Когда мужчины были детьми, то хотели летать. Теперь же они счастливы, когда ползут по чему-нибудь надежному. Тяжёлая это работа, говорят одни другим, кивая головой.
— Кофе, чай или сок?
— Кофе. Без сахара, пожалуйста!
«Не хотите ли без воды? Кофе без сахара, без кофе и без чашки?» — думает она, но говорит с улыбкой:
— Конечно, сейчас будет!
Она часто встречает известные лица знаменитых пассажиров, которые ждут, чтобы их узнали. Она с первого взгляда определяет знатоков виски — вечных обитателей аэропортов и магазинов duty-free; она видит детей, убаюканных высотой; ошарашенных бизнесменов, скрывающих страх перед полётом чтением газет и записок; различает тех, кто боится таможенной пошлины, и тех, других, которые пристально ее осматривают, ища на лице след возможной паники.
Она шагает над облаками с картин Рене Магритта и читает в глазах пассажиров скуку, тупость, желание прикоснуться к ней.
— Что вы делаете сегодня вечером?
— Сплю.
— С кем?
— Не с вами, это уж точно! Кофе, чай или сок?
О чём она думает, когда гуляет высоко над замёрзшей землёй? О городах, в которых она побывала, но которых при этом никогда не видела? О вечно одном и том же отеле для экипажа самолёта? Об автобусе на рассвете, который везёт ей по неизвестным спящим кварталам? О жадности, которая липкими пальцами сгребает парфюмерию и блоки сигарет? О ком-то своём на земле?
— Кофе, чай или сок?
— Какая погода за бортом?
— Переменная облачность.
— Когда мы прилетим?
— Вовремя. Кофе, чай или сок?
Она шагает по небу среди людей, охваченных дремотой, и собирает шуршащие картонные стаканчики.
— Уважаемые пассажиры, через несколько минут мы начнём снижение. Просим вас не покидать свои места и оставить ремни пристегнутыми до полной остановки двигателей. Спасибо.
Она находит свободное кресло рядом с окном, со вздохом пристёгивается, и смотрит на крыши ещё одного города, который её не радует.
— Выход через переднюю дверь…
— Что с тобой сегодня? — спрашивает её старший проводник.
— Да ничего — говорит. — Развожусь.
Благословенное время скуки
Раскаленная улица.
Мертвые, ссохшиеся тельца мух лежат в августовской пыли выцветших витрин, Бель Ами и Пуфко убивают время. Над ними вялый тент кафе «Парк» — перед ними теплое пиво, получившее награду на последней выставке в Брюсселе.
Затянутый в темный костюм, похожий на тень, улицу переходит старик.
— И куда это он собрался? — спрашивает вслух Бель Ами.
— Какое мне дело! — говорит сквозь зубы Пуфко.
— Как думаешь, куда он идет?
— Заткнись!
Бель Ами с усилием разворачивает тело в плетеном кресле. Старик пересекает сноп света и зноя, исчезнув на секунду в блеске витрин.
— Ищет что-то в карманах…
— Как тебе не лень в такую жару?
— А с чего бы мне было лень?
Очертания старика снова складываются воедино, выплыв из света, и он останавливается на участке, где до недавних пор стоял дом, а теперь лишь бетонная пыль со следами шин грузовика. Его черный костюм покрыт пылинками толченого кирпича.
— Откуда вдруг столько птиц? — спрашивает Пуфко. — А ведь еще не осень!
Старик превращается в памятник с улыбкой, отлитой из бронзы. У Бель Ами неожиданно пробуждается интерес, потому что он замечает, что из глубины Главной улицы приближается облако птичьих крыльев.
— Кажется…
Пуфко хватается за голову:
— Господи, сколько птиц! Облако все больше и больше.
— Кажется, они прилетают из-за него… — бормочет перепуганный Бель Ами.
— То есть как?
— Думаю, дело в его доме!
Все больше птиц прилетает по улице, разделенной тенью на острие ножа и оставленный им разрез. Можно почувствовать ветер на лице и сухой, шумный трепет их крыльев. Подобно косяку рыб, подобно теням, оставляемым этим косяком на песчаном дне, маленькие серые пятна прилетают, неся с собой волну запахов старого рынка; запах сухого сена, запах подгоревших блюд, называемых бамия, называемых шиш-чевап, называемых соган-долма, называемых паче[8]… Птицы толкают перед собой эти запахи крыльями по опустевшей улице, толкают их совсем низко вдоль блестящих рельсов, тонущих в растопленном гудроне, через гранитные плитки трамвайных путей. Эти птицы.
Старик рассыпает зерна пшеницы, и они хватают их на лету.
С другой стороны города прилетают новые стаи.
Одна с запахом засаженных капустой садов, другая со вкусом новых районов, построенных из бетона. Это вкус раскрошенного стекла и разбитых зеркал.
И их старик кормит пшеницей.
С гор над городом прилетает третья стая. Она пахнет влажностью тенистых садов и водой, в которой есть железо.
Их старик кормит зернами кукурузы.
Воздух начинает бурлить от трепета птичьих крыльев.
— Дело в его доме… — шепчет Бель Ами, а затем, поскольку Пуфко не слышит его из-за шума стай, он выкрикивает: — Дело в нем! В доме!
Пуфко обводит взглядом пядь за пядью горячего асфальта, но не находит дома.
— Там нет никакого дома…
— Этот дом… — кричит Бель Ами.
— Я не слепой! — Пуфко снимает солнечные очки и жмурится на свету. — Ведь прекрасно видно, что нет никакого дома!
— Но он…
— Его нет!
— Этот его дом… то есть я хочу сказать…
— Что?
— Он там стоял, понимаешь? А потом его снесли, понимаешь?
— Какая разница?
— Его дом снесли, но птицы и дальше прилетают, понимаешь? Они и дальше прилетают, понимаешь?
Птицы падают на старика. Они уже сидят у него на голове, на плечах, на ушных раковинах, наполовину съеденных их клювами, на носках его высоких, аккуратно зашнурованных ботинок. Они цепляются за его улыбку, висящую в воздухе на уровне губ. Птицы стоят в воздухе на своих местах, точно на тех местах, где когда-то были их любимые подоконники, их печные трубы, их антенна радиоаппарата марки «Телефункен» производства 1929 года.
— Понимаешь?
— Что тут понимать? — спрашивает себя Пуфко.
— Они и дальше прилетают, хотя больше нет окон… То есть — ничего больше нет, понимаешь? Ничего, за что можно уцепиться!
— Думаешь, просто так?
— Ну да, без смысла!
— Совсем без смысла?
— Ну да, они привыкли прилетать, и теперь им странно…
Так же неожиданно, как прилетели, птицы одним движением крыльев, по какому-то молчаливому птичьему сговору устремляются обратно — каждая стая в свою сторону, каждая птица в свою стаю. Старик не смотрит им вслед. Проходя мимо кафе «Парк», он заметил двух бездельников под зонтиком, но они не произвели на него никакого впечатления.
Внезапно среди запахов, оставленных птицами, Бель Ами выхватывает откуда-то запах путешествия. Его ноздри расширяются, его ноги вдруг теряют покой:
— Надо бы уехать…
— Не годится… — говорит Пуфко сквозь зубы. — Да и откуда взять бабок?
— Нас разве что чудо могло бы спасти!
— Только чудо.
— Чудеса случаются… знаешь когда?
— Когда? — попадается наивный Бель Ами, восьмой раз за день.
— Никогда! — говорит Пуфко в приступе дикого смеха.
Но чудо случилось несколько минут назад у них на глазах. Чудо, которое выбрало время в пятницу, в полдень, время в августе 1959, время в Сараево. Непонятное чудо.
Два бездельника больше не думают об этом живом, трепещущем облаке, состоящем из маленьких птичьих тел. И все же это облако останется лежать похороненным где-то в кинотеке виденных ими картин, и однажды, когда они осознают его присутствие, это птичье облако унесет их в другой город, в котором они будут так заняты обычными вещами, что им будет недоставать благословенных дней скуки.
— А как бы было здорово… — напевает Бель Ами, потягиваясь в кресле.
— Ох, да заткнись ты, пожалуйста! — говорит Пуфко.
Перевод: wing_wing (-wing.livejournal.com/)Инкогнито
Жан Жик и не заметил, как в Париже пронеслось восемнадцать лет с тех пор, как он не был на родине. Его родители в заброшенном южном селе давно уже померли, а родной край выцвел, как метафора. Раскаленный камень под ногами, жужжание мух, скука и облако пыли, посреди которого топочет стадо овец — это все, что он смутно помнил. В Белграде, где он начал изучать моделирование театрального костюма (его выгнали из Академии после первого курса), у него все равно никого не было. Где же в действительности его дом? Кому он принадлежит? Он лишился даже и своей фамилии, потому что французы с трудом произносили Янич. Яницх! И так из Янича он превратился в Жан Жика. Бьен! Он вспоминал о своем происхождении время от времени, когда читал в «Л’Эспрессе» или «Пари-матче» статьи о себе. «Гениальный балканец одевает француженок!» Или: «Как скромный закройщик стал королем моды!».
Все началось таким образом, что в 1959 Жан Жику опять негде было жить. Если у человека нет квартиры в Белграде или Париже, думал он, то уж лучше не иметь ее в Париже.
Он уехал без багажа. Его чемодан со всем, что было у него в этом мире, остался в заложниках у хозяина квартиры на Генерала Жданова, 52. Конечно, рубашки давно уже поела плесень, а книги были, главным образом, чужие; кому какое дело до книг! Но все же! Было там несколько дорогих ему фотографий, которые никогда уже не снять заново. Его карточка с шестым-три классом[9], на которой все мальчишки смотрят на фотографа в школьном дворе — только он глядит в небо, стараясь казаться оригинальным. Фотография некой Ваны, некоторые ее письма. Неважно. Чемодан остался в плену из-за неуплаченной аренды.
Вообще, до отъезда в Париж Жан Жик многим был должен. Но более чем перед кем-либо он был в долгу перед Белградом, без которого не стал бы тем, что он есть: человеком, чьего имени уже побаиваются Карден и Кураж. В этом городе с ним произошло самое важное, именно то, из-за чего замкнутый на вид, тихий молодой человек и решил мстить и добиться чего-то в жизни. Именно в Белграде он сделал эскизы своих первых костюмов для «Сна в летнюю ночь», от которых в Национальном театре мягко отказались как от совершенно негодных. В этом городе он с завистью, смотрел на юношей и девушек, гулявших в воскресенье утром по Теразие желая и сам в один прекрасный день стать элегантным. Он сделал двадцать смелых набросков для какой-то фантазийной весенней коллекции, над которой от всей души смеялись на каждой фабрике одежды, где бы он ни предложил свои услуги. Эти самые люди десять лет спустя дорого платили французам за право их копировать или же просто крали модели, меняя только какую-нибудь незначительную деталь. В Белграде Вана раз и навсегда сказала ему необратимое нет и тут же вышла за первого, кто сделал ей предложение.
Одним словом, Белград дал ему все, что может послужить в качестве топлива, необходимого для полета за пределы орбиты сквозь открытое пространство в большой мир. Этот город откровенно дал ему знать, что он никому не нужен; он подарил ему энергию отчаявшегося человека, которому больше нечего терять. Людей искусства не убивает бедность; скорее, для них представляет смертельную опасность комфорт. Разве бы он достиг всего, чего сумел, если бы в Белграде дела у него шли как надо? Где теперь эти элегантные парни с Теразие? Наверняка давно уже растолстели и смирились с собственной посредственностью. А Жан Жик, все еще стройный — кости да кожа, пропитанные дымом вечного «голуаз» в зубах — владелец третьего по величине модного дома в Париже. Он создал его сам, без чьей-либо помощи, работая ночи и годы напролет, сначала в качестве скромного, никому не известного закройщика в ателье Диора, а позже ассистентом у Ив Сен-Лорана. Сегодня Жан Жик решает, что завтра будет носить Париж, а послезавтра и весь мир! Ты действительно заслужил свой отпуск, Жан Жик!
Пока Boeing 707 «Air France» кружил над Белградом, ожидая разрешения на посадку, Жан Жик смотрел сквозь иллюминатор на рыжие весенние просторы; на разлившиеся Саву и Дунай, на верхушки деревьев, торчавшие из воды над затопленными островками… Какой волнующий пейзаж! Сердце забилось чаще у него в груди, когда он увидел. Вот он, Белград! Здесь, над перекошенную Калемегданскую крепость местом, где сливаются реки, первый форпост славян, здесь собраны воедино разбросанные осколки римского укрепления. Сингидунум[10]. Син-ги-ду-нум. Синг. Ин. Дум. Дум. Дум. И когда только я перестал видеть сны на родном языке?
— Ну на кого ты похож? — спрашивает таможенник Жан Жика, сравнивая его с фотографией в паспорте, на которой он выглядел значительно моложе.
— В каком смысле? — после стольких лет это были его первые слова на сербском.
Он одет в свои легендарные, вытершиеся от времени вельветовые брюки и американскую военную ветровку из Вьетнама с левым рукавом, изорванным пулями. Он получил ее в подарок от коллеги, американского дизайнера, Джона Фиендаки из Бостона. Волосы с проседью волнами спадают ему на плечи. Хотя он сам и создавал ее, Жан Жик презирал моду и стремление красиво одеваться. Так он стал похож на старого хиппи — своеобразного модного пророка. В течение многих лет он старательно культивировал преднамеренную потертость и поношенность в одежде из декоративных соображений. Разве здесь, в Белграде, людей все еще оценивают по глупым костюмам темно-синего цвета и галстукам? Боже, об этом он совершенно забыл!
— Поди-ка сюда! — скомандовал ему таможенник, настоящий громила. — Подойди, я тебя обыщу как следует. Такие, как ты, непременно носят наркоту.
И зачем мне все это понадобилось, думает Жан Жик, пока таможенник ведет его в какую-то комнату с мутными стеклянными стенами. Нельзя было отдаваться на волю ностальгии! Попался в ловушку! И кто только написал этот рассказ «Отчизна, ты как здоровье!»[11]? Уж я бы ему сказал пару ласковых!
— Снимай куртку! — командует таможенник.
Он снял ветровку, и тут крупный человек неожиданно сгребает его в охапку стальными мышцами и притягивает на свою широкую грудь. Жан Жик почувствовал на лице его острую щетину.
— Что, не узнаешь Жику? — вскрикнул тот. — Офранцузился, что ли? А когда ты крал у меня из пакета копченое мясо в общежитии «14 декабря», это, по-твоему, ничего, а? А как тебя Жика лечил от воспаления легких, забыл? И теперь не помнишь старого Жиля?
Они пили виски в комнате таможенной инспекции.
— Вижу, братишка, несладко тебе там жилось… — рассматривал его старый товарищ с покровительственной нежностью. — Правильно делаешь, что возвращаешься! Уж Жика тебе найдет какую-нибудь работенку…
Хорошо. Конечно, он не ожидал, что последний таможенник в аэропорту знает о его французской славе, но неужели они не слышали, что он одевал первую леди Франции в Елисейском дворце и что Верушка[12] порезала вены, когда он ее бросил?
— Ладно, давай-ка расскажи Жике, чем же ты там занимаешься? — спрашивает его старый друг и снова наполняет стаканы.
— Мы с тобой, — говорит Жан Жик, — занимаемся одним и тем же делом. Разница только в том, что ты людей раздеваешь, а я их одеваю… У тебя случайно нет дочери?
— Студентка! — с гордостью говорит Жика и достает из кошелька фотографию. — Восемнадцатый год пошел…
Жан Жик открывает маленький чемодан и достает свою последнюю модель — нереально легкое платье из чистого фиолетового шелка, которое он взял, сам не зная для кого. Эта вещь совершенно бесценна!
— Отнеси ей это… — он дарит платье таможеннику, в чьих больших ладонях шелк заструился каскадом. — Она тебе скажет, чем я занимаюсь!
Он вернулся победителем в город, где потерпел свои величайшие поражения. Полные карманы шуршащих купюр защищали его от жестокости мира. Наконец, у него был и французский паспорт, который он не показал. Двойное гражданство, на всякий случай. Он был осторожен.
Он добрался на такси до города. Люди изменились, но равнина, по которой он ехал, осталась такой же, как была, неизменной. То же соотношение неба и распаханного, податливо рассыпавшегося, тучного чернозема, который дымится в ожидании, когда его накроет ночь. Его страна. Страна. Страна. Страна, где даже таможенники тебя целуют и угощают выпивкой.
Он решил остановиться в «Мажестике». Этот отель запомнился ему как храм роскоши, в который он в свое время даже не смел войти. И сегодня, в сорок два года и со всей своей славой за плечами, он почувствовал что-то вроде волнения, входя по вытертой ковровой дорожке на рецепцию. Швейцар лишь взглянул на него мимоходом и вернулся к разгадыванию кроссворда. Пробормотал, что нет ни апартаментов, ни номеров. Ему не повезло! Но свободных номеров не было ни в «Москве», ни в «Метрополе». Даже президентские апартаменты в гостинице «Югославия» были заняты! Ему объяснили, что в городе как раз проходит крупный Автосалон и что все отели уже несколько месяцев как забронированы вперед. Им очень жаль! Нигде ни одного свободного места!
Он ощутил потребность смеяться как сумасшедший, совсем как в конце фильма «Сокровища Сьерра Мадре», когда ветер разносит во все стороны кровью добытую золотую пыль из разорванных сумок, но вместо приступа смеха его охватило чувство неловкости — на самом деле сдерживаемая паника сделала его ноги нетвердыми и заставила их дрожать. Значит, то, что он вернулся в Белград победителем, с гармошкой кредитных карт, открывавших перед ним все двери, ничего не стоило — восемнадцать лет спустя (какой абсурд!) он снова оказался в самом начале — на улице! Совершенно невероятно! Он ожидал всей возможной хитрости, притворства, злобы своих бывших коллег, которые видят его успех; он ожидал зависти, такой естественной, когда человек возвращается с нажитым огромным трудом европейским именем, но Белград, по-видимому, всегда выбирает самый неожиданный способ нанести вам обиду. Кто бы только мог подумать, что ему негде будет спать в свою первую ночь? Это ему не пришло бы в голову и в страшном кошмаре, когда он метался без сна, в который раз переживая в памяти ту страшную январскую ночь 1956-го, когда друг, у которого он одно время жил, забыл оставить ему ключ от ворот, и он до рассвета подпрыгивал на снегу и, до смерти завидуя всем тем, что ходил по сонному Каленичеву рынку спали, укутавшись в теплые одеяла, и не знали о его мучениях.
Итак, Белград всегда надо завоевывать с самого начала.
Лишь одно он знал наверняка: ни в коем случае нельзя просить ночлега у оставшихся немногочисленных друзей! Таким образом он подписал бы необратимое признание своей неудачи! Об этом бы в скором времени услышал весь город, и восемнадцать лет оказались бы потрачены зря. Ни в коем случае!
Он спустился к вокзалу. У входа в здание его встретили несколько женщин. Завидев его, нерешительно стоящего с чемоданом в руке, они, треща как сороки, принялись предлагать ему ночлег. Несколько секунд он раздумывал, соглашаться или нет, но один взгляд на эти отекшие лица профессиональных сводниц, их бородавки, из которых торчали волоски, двусмысленность, с какой они обращались со словами, спрашивая его, хочет он полную или пустую кровать, как будто возвращал его во власть всех этих давно уже вытесненных из памяти бабенок-шантажисток, его бывших квартирных хозяек. Те же движения, та же нескрываемая грубость низов; те же домашние платья неопределенного цвета, утратившие силуэт, заляпанные жиром и пропитанные вечной кухонной вонью немытой посуды в раковине… Все это хватало его скользкими теплыми щупальцами и тащило куда-то глубоко, в темноту боковых переулков, вниз по лестницам для прислуги в осунувшихся господских зданиях, теперь ненавистью разделенных на коммунальные квартиры — туда, в плохо освещенные ямы и берлоги, из которых не сбежать и не вернуться. Он снова почувствовал вонь нищеты и гнилых зубов и понял, что до смерти устал от бегства; в сорок два у него больше не было сил еще раз пройти через все это и выдержать. Его бы с легкостью победили и задавили. Достаток, в котором он жил последние годы, сделал его мягким и неустойчивым к бедности.
Он оттолкнул женщин и сквозь толпу их дряблых тел, сопровождаемый ругательствами и бесстыдными усмешками, поспешно добежал до камеры хранения оставить чемодан. Служащие смотрели на него с подозрением, будто он оставляет им адскую машину с часовым механизмом. Ему предстояла бессонная ночь. И он отдался ей на волю.
Совсем как когда-то, когда он бродил по улицам без какой-нибудь определенной цели, просто чтобы убить время, ноги сами отвели Жан Жика к «Клубу» художников. Сердце его застучало как ненормальное, когда он увидел на темной улице его бледно-оранжевые огни; когда-то он каждую ночь заходил, чтобы встретиться здесь с друзьями. В то время у него был неограниченный кредит у администратора.
Ничего не изменилось. Его окутал тяжелый запах жаренной в масле муки, который волнами разносился из кухни всякий раз, как кто-то из официантов толкал ногой дверь. Все было на своем месте, даже администратор в поношенном черном костюме — он записывал, как когда-то, заказы за стойкой возле дребезжащей кассы. Наконец он был среди своих!
— Эй! — обрадовался Жан Жик и пошел ему навстречу. — Ты все молодеешь!
Он театрально протянул администратору руку, но тот глядел на него без выражения, будто видит его впервые в жизни. Протянутая рука Жан Жика осталась в воздухе, у всех на глазах…
— Ты что, меня не помнишь? — спросил он, слегка смутившись. — Это же… я…
— Знаю я тебя, — сказал администратор. — Это ты. Знаю. Жан Жик. Мы о тебе читали…
— Ты что, сердишься? — спросил Жан Жик, опуская руку, которую администратор так и не пожал.
«Клуб» стих. Здесь не каждый день происходит что-то интересное, и подобная встреча не могла остаться незамеченной. Жан Жик прокручивал в голове воспоминания.
— Ах, да! — вспомнил он. — Наверняка я тебе задолжал.
— Вот именно! — подтвердил администратор, по-прежнему без выражения. — Ты задолжал.
— Слушай, я же не знал, что так задержусь?! Восемнадцать лет… Шутка ли! Гляди, мы с тобой оба поседели!
Жан Жик вытащил охапку мятых купюр. Он вынул их дрожащими пальцами, наобум, сколько захватила рука в кармане парашютистской блузы. После стольких лет отсутствия он с трудом обращался с динарами, только что разменянными в аэропорту, и от этого ему вдруг сделалось странно. Он отсчитал четыре купюры по десять тысяч и протянул их администратору, который не поднял руки, чтобы взять их.
— Возьми… — сказал Жан Жик.
— Это уже не те деньги, что раньше!
— Сколько сейчас сорок тысяч? — спросил Жан Жик.
— Примерно восемьдесят!
Он протянул ему все деньги, какие держал в руке, около ста пятидесяти тысяч.
— Теперь хватит?
Одна десятитысячная бумажка упала на пол, и администратор нагнулся, чтобы поднять ее. Пока он нагибался, Жан Жик заметил, что тот постарел; он утратил прежнюю гибкость, и это движение стоило ему заметных усилий.
— Теперь все в порядке… — сказал он, поднимаясь, с лицом, покрасневшим от ударившей в голову крови. — Теперь все в порядке! Выпьешь чего-нибудь?
— Нет… — сказал Жан Жик. — Прости, ничего не буду… Я должен идти.
С опущенной головой он вышел из «Клуба», где больше никого не знал.
Шаг за шагом, он медленно добрел до Калемегдана. Ступая по темным дорожкам и теряясь в их лабиринте, он, и сам не зная, как, вдруг вышел на верх крепостной стены, что резко обрывалась в заросли кустарника и ночь. Неожиданно из-за туч вышла полная луна, и две реки заблестели неясным блеском, как лезвия скрещенных сабель, которые кто-то забросил во тьму.
Это бескрайнее пространство, залитое лунным светом, что простиралось по ту сторону слияния рек, охватило его своей шумной ширью. Летом, вспоминал он, это необозримое море травы и трясины в знойном мареве. Он слушал призрачные крики болотных птиц, подыскивая на французском подходящее слово для камыша. Вспомнил он и ночь на заснеженном Калемегдане, когда отчаянно прощался и целовался с Ваной, прислонившись спиной к стене Римского колодца[13]. Эта ночь в первые годы добровольного изгнания Жана Жика появлялась в сознании в обрамлении ледяных кристаллов ностальгии. Его ладони на теплых бедрах девушки, а вокруг белая пустошь… Когда ему было холодно, там, на левом берегу Сены, он в который раз распахивал серое шерстяное пальто Ваны, нежно поднимал ей юбку и глубоко забирался в нежно-шелковистое убежище, грея ладони на ее теплых бедрах, пока их дыхание застывало в воздухе, а где-то глубоко в подземных туннелях клокотали калемегданские воды, добела отмывая кости ратников. Где только она сейчас? Изъеденное гнилью воспоминание, совсем как его старый пустой чемодан, выброшенный под струи дождя во дворе Генерала Жданова, 52.
В эту ночь у него дважды проверяли документы.
Сжавшись в клубок у ворот Крепости, он дождался промозглого утра, взял такси, забрал на вокзале чемодан и добрался до аэропорта.
Пока Boeing выписывал вираж над Белградом, он искал над слиянием рек, где-то во времени, две крошечные точки, которые когда-то давно прощались навек и на которые теперь он взирал из перспективы Бога, облаков, птиц, как на чью-то совершенно чужую жизнь. Он спал, пристегнутый к креслу первого класса, даже и не заметив, как стюардессы «Air France» заботливо укрыли его пледом.
Перевод: wing_wing (-wing.livejournal.com/)Замок
— О Боже, он когда-нибудь заткнется?! — думала она, кутаясь глубже в поднятый воротник кожаного пиджака, в то время как таксист, не умолкая, хвалил ее за то, что она отправилась так далеко за город только ради того, чтобы поужинать в Замке.
— Поверьте, — он поворачивал к ней лицо, испещренное синими прожилками, — нигде больше нет такого обслуживания и такой кухни!
Хотя сумерки уже опустились на долину, будто крышка, построенный на возвышенности у самого склона горы, Замок все еще удерживал в стеклах своих овальных окон отблески солнца, тонувшего за горной грядой на западе.
— Прежде чем с ним случилось это несчастье, их шеф-повар десять лет проработал у французского консула, а тот уж, наверное, знал, что ест! Но никогда не угадаешь, что тебя ждет в жизни…
Благодаря какому-то оптическому обману Замок некогда живших здесь графов, владельцев зеленой долины по обе стороны реки, все больше удалялся, как будто заколдованный, чем дольше они ехали через влажные темные поля.
— Правда? — сказала она, только чтобы поддержать разговор.
— Второе, — продолжал разговорчивый таксист, ведя машину по кривой турецкой дороге, чья брусчатка была покрыта тонкой перепонкой асфальта, — простите за выражение, у нас в городе не самым лучшим образом смотрят на женщину, которая ужинает одна в ресторане. Простые люди, народ: случается, что пристают, а в Замке вам не о чем беспокоиться, никто вас и пальцем не тронет, упаси Боже, потому что там железная дисциплина… Это все-таки тюрьма, тут всякого-разного не может быть, пусть снаружи, как ресторан, понимаете, и, опять же, заключенные, то есть официанты, прекрасно знают, что их вернут обратно, стоит им только…
— Большое вам спасибо… — сказала она, только чтобы что-то сказать, еще глубже зарывшись подбородком в ветровку.
Она провела всю ночь в спальном вагоне, не сомкнув глаз, и весь день в скучном городе, где никого не знала. Она ждала вечера, переживая, что усталость от долгой дороги оставила следы на ее лице и что она плохо выглядит. Когда-то она могла танцевать всю ночь напролет, а утром не чувствовать ни усталости, ни озноба, что сейчас распространяется по всему ее телу, забираясь глубоко под кожу.
— Не скажи я вам, вы бы и не заметили, в чем дело! — смеялся таксист.
— В чем? — она очнулась от дремы, сковывавшей ей лицо.
— Многие и не замечают, что их обслуживают заключенные! Но вам нечего бояться: официантов выбирают только из тех, что примерно себя ведут. А, кроме того, в ресторане за ними постоянно следят надсмотрщики…
В тот момент, когда машина, кряхтя, поднялась по серпантину на парковку, и на последних этажах Замка погасли окна, в которых догорал день. С площадки перед пузатым зданием с толстыми стенами и массивными, неуклюжими сводами, была видна долина, залитая фиолетовыми сумерками, в которых светились огоньки разбросанных там и сям деревенских домов. Слева и справа от главного здания вытянулись трехэтажные, очевидно, пристроенные позже, павильоны с маленькими окнами, защищенными металлическими решетками.
— Если вы спросите меня, — сказал таксист, возвращая ей сдачу, — лучше всего заказать фазана…
— На сколько персон? — встретил ее у входа администратор, а, когда она объяснила ему, что будет одна, он повел ее между рядами столов, за которыми в благоговейной тишине жевали гости.
Она увидела его, склонившегося над столом у окна. Даже несмотря на возбуждение, полностью парализовавшее ее, она мгновенно оценила обстановку: все столики в той части зала, которая по логике вещей должна была быть его зоной, были уже заняты, а администратор уводил ее все дальше в противоположную сторону, к столику на двоих возле бутафорского камина, из которого рвался электрический свет из пластикового полена.
Ее сердце билось как сумасшедшее, в ушах у нее звенело; ей становилось дурно от одной мысли, что весь этот долгий путь, все часы, проведенные в ожидании встречи с ним, могут оказаться напрасными, если ей дадут столик там, где посетителей обслуживает абсолютно другой заключенный.
— Пожалуйста… — проскулила она, не узнавая собственного голоса, — я могу получить место у окна?
Темное лицо администратора глядело на нее спокойно, из какой-то невероятной дали, населенной лишь шумом приглушенного разговора и звоном столовых приборов.
— Там нет свободных столиков… — сказал он полным спокойствия и терпения голосом.
— Мне совсем не обязательно сидеть одной! — вскрикнула она почти отчаянно, а потом попыталась улыбнуться. — Веселее ужинать в компании!
Администратор какое-то время осматривал ряды столов, а затем оценивал ее и, наконец, направился к одной семье. Пока она ждала, а он стоял, наклонившись к их столу, полноватая женщина недоверчиво рассматривала ее из-под локтя администратора, а вместе с ней и ребенок, один из тех тупых замкнутых детей-старичков, что выглядывают из своей раковины в ожидании, когда станут точно такими же посредственными и злыми, как и их родители. Мгновенно узнав все о них, она все-таки старалась им понравиться, стоя посреди зала, чтобы они не отказали ей, не сказали, что у них интимный разговор и что они поэтому не могут никого принять за свой стол. Наконец, судя по всему, переговоры успешно завершились — они согласились! Надсмотрщик услужливо отодвинул ей стул и дал меню. Отец семейства сделал нерасторопное и неловкое полуучтивое движение, как будто встает, чтобы поприветствовать ее, и все-таки так, чтобы при этом не слишком напрячься, в то время как его жена краем глаза испытующе изучала ее как возможный источник опасности. Ребенок тупо уставился на нее, жуя кусок мяса.
Но теперь она была здесь! В его зоне. И могла смотреть на него сколько душе угодно. Он показался ей незнакомым в тесной рубашке официанта, с короткими волосами, прореженными сединой. Она зажмурилась от болезненного желания почувствовать прикосновение этих смуглых рук с длинными тонкими пальцами.
— Хлеба! — сказала мать. — Без хлеба нельзя!
Он выходил из кухни, неся в поднятой руке поднос, нагруженный дымящимся мясом. Она ничего не могла прочитать на его спокойном лице, кроме сосредоточенности на том, чтобы перенести еду с одного на другой конец зала. Стол, который он обслуживал, судя по всему, какое-то мещанское семейное торжество — шесть разряженных женщин и их лысеющих мужей — даже не обратили на него внимания. Как она ненавидела этот комфортный провинциальный ресторан и все места, «где можно хорошо поесть», это гнездо гастрономии, загородное место отдыха, полное множества ртов, серьезно пережевывавших пищу, будто занимаются каким-то важным делом, этих солидных отцов местечковых семейств, их почтенных супруг, пытающихся скрыть под складками широких платьев толстый слой жира — всех их, не подозревающих, откуда этот официант, что их обслуживает, и какую вину он искупает в этой переоборудованной конюшне местной сельской знати, с бутафорскими канделябрами и стилизованными зеркалами массового производства с итальянских фабрик… У них есть горы, чтобы таскать свои толстые задницы вверх по тропинкам, река, чтобы мыть машины по выходным, лес, чтобы собирать грибы, Замок, чтобы не потерять ощущения своего славного прошлого; теперь они отняли у нее и его и поставили прислуживать себе, не зная его ценности, совсем как деревенские дети, случайно получившие дорогую и слишком хрупкую игрушку, с которой не умеют играть.
— Хлеба! — повторила мать. — Ты опять не взяла хлеба…
Ребенок держал в сжатых губах хлебный мякиш, не моргая глядя на гостью за столом.
— Какая милая! — сказала она с отвращением. — Сколько ей лет?
— Девять, — ответила мать.
— Кого ты больше любишь? — спросила она нервно. — Маму или папу?
Ребенок недоверчиво молчал.
— Скажи: обоих, — подсказал отец.
— Обоих.
— В какой класс ты ходишь?
— В третий, — гордо сказала мать.
Она не решалась поднять глаз, но почувствовала, что он уже стоит, склонившись над ней, и ждет.
— Я не знаю… — пробормотала она, боясь, что вдруг завоет. — Правда не знаю…
Костяшки его пальцев, вытянутых на скатерти сделали бессмысленное движение. «Пусть только дотронется до меня!»
— Если вы спросите меня, — сказал отец, — здесь лучше всего дичь. У тебя есть еще фазаны?
— Я посмотрю, — глухо ответил официант.
Он поклонился и ушел.
Она глядела ему в спину, пока он шагал к кухне: у него острые лопатки, как у какого-нибудь тощего мальчишки. Ей хотелось уткнуться: глазами, носом, губами — всем лицом в эту худую спину, обхватить его руками и вместе с ним проснуться от страшного сна, у которого нет ни малейшего шанса закончиться скоро. А ребенок напротив нее, кажется, уже догадался, что она шпионка в этом проклятом Замке и что приехала сюда не ради еды, как все остальные, а по какому-то запретному делу. И все вокруг, казалось, знали, зачем она здесь: человек за стойкой аперитив-бара, гардеробщик, охранник на парковке, смотревший на нее всякий раз, когда заходил чего-нибудь выпить; гости с раздувшимися от еды и питья лицами и их жены, честно заслужившие свой субботний прием пищи — весь мир вдруг превратился в бутафорский ресторан, полный довольных и сытых гостей, жующих своими крепкими челюстями… И никто, кроме нее, не находил ничего странного в том, что официанты — заключенные, а администраторы — надсмотрщики, все это было совершенно естественно, все они уже были пойманы и приговорены к пожизненному перевариванию пищи.
— Зачем ты приехала? — прошептал он, нагнувшись к ее уху, пока умело перекладывал вилкой и ложкой кусок разделанного фазана с подноса на ее тарелку. — Горошка?
— Нет, спасибо…
Она чувствовала его дыхание на своих волосах; этот его знакомый запах все-таки пробивался сквозь резкую вонь какого-то дезинфицирующего средства, которым была пропитана его рубашка.
— А как еще мне тебя увидеть?
— Существуют дни посещений…
— Тогда к тебе приезжают жена и дети…
— Это глупо! — сказал он, наливая вино в бокал, а затем накрыл новой чистой пепельницей использованную и ловко вернул чистую на стол.
Мужчина жевал зубочистку.
— Такого обслуживания нет нигде! — сказал он, обращаясь, на всякий случай, больше к своей жене, чем к ней. — Надо отдать им должное!
Она хотела сказать: «То, что вы едите в бывшей графской конюшне, еще не повод вести себя как кони!» Но нет. Она молчала.
— Как фазан? — спросила женщина.
— Превосходный, — ответила она.
Теперь он стоял, прислонившись к колонне возле тележки с пирожными. Они обменивались взглядами в отражении в темном стекле, чтобы не привлекать к себе внимания. К нему подошел сзади администратор и теперь что-то говорил ему на ухо, холодно улыбаясь. Он выслушал, едва заметно вытянувшись по стойке «смирно», рассеянно кивнул головой и ушел к последнему столику в ряду поменять пепельницы. В полной тишине, неожиданно повисшей над обглоданными костями, она услышала, как жует семья за ее столом. Отец словно высасывал последние соки из влажной зубочистки, которая, подобно маятнику, перемещалась из одного в другой угол его рта. В руке женщины, точно на уровне сжатых зубов девочки, был лист зеленого салата, наколотый на вилку. По салату стекало масло.
— Этот самый лучший! — сказал тоном знатока, продолжая жевать зубочистку, pater familias. — Мы всегда просим, чтобы нас посадили там, где гостей обслуживает он…
— Он такой мягкий, бедняжка, — согласилась с ним жена.
— Я не хочу! — сказала дочка. — Зачем ты в меня пихаешь?
— Настоящий джентльмен! — сказала женщина, доверительно нагнувшись к ней. — И все-таки, знаете, как подумаешь, что кто-то из них, этими самыми руками…
— Нет, нет… — рассуждал ее супруг, все больше утопая в стуле. — Этот наш до заключения точно не был официантом! Хотел бы я узнать, кем он был!
— Так чего ты его не спросишь? — пробормотала девочка с полным ртом.
— Не говори во время еды! — перебила ее мать. Она заткнула ей рот новой порцией салата.
Я могла бы рассказать вам, кем он был раньше, думала она, а слезы сами застучали по столу вместе с зеленым горошком. Я могла бы…
— Вам нехорошо? — спросила женщина подозрительно.
— Нет же, нет! — улыбнулась она сквозь слезы. — Это от лука!
Она показала на салат, в котором, к счастью, был крупно нарезанный лук. «На этот раз я выкрутилась, но теперь в самом деле надо быть начеку. Они наблюдают».
— Тебе что-нибудь нужно? — прошептала она ему чуть позже, улучив момент, пока муж и жена были заняты хныканьем своей наследницы.
Она устыдилась страха, что он попросит у нее револьвер или маникюрные ножницы.
— Нет, — сказал он. — Желаете еще чего-нибудь?
Она подумала секунду:
— Может быть, блинчики?
— С джемом, орехами, фламбированные или в винном соусе?
— С джемом.
— С джемом… — записал он в своем блокноте официанта.
Она рассматривала его с нежностью: у него не хватает одного зуба с левой стороны, и он немного похудел. Ему идет короткая стрижка. У него красивая форма головы. Она улыбнулась: со своим редким талантом жить он и это место превратил в свое владение, в котором чувствует себя не так неприятно, как она. У него снова есть необходимая ему публика, чьим восхищением он кормится! Она устыдилась ревности, которую чувствовала к простому заключенному, но она почти ненавидела эту его неистребимую способность из любого места и из любого положения, какими бы плохими они ни были, извлечь для себя выгоду.
А, хуже всего, несмотря на все, она поймала себя на том, что с наслаждением ест! Бессонная ночь в поезде и слишком долгий день, в течение которого она выкурила бесчисленное множество сигарет и выпила чашек десять черного кофе, сделали свое дело: она — о Господи! — она ужасно проголодалась. Она, та, что полчаса назад была уверена, что будет скулить, как собака, потерявшая хозяина, она, что жила, питаясь одним лишь страданием; присиленная его хитростью и нежно ловкими пальцами, обслуживавшими ее с искусством знатока — она ела! Резала мясо, подхватывала ножом и вилкой зеленый горошек, картошку, мелко нарезанную морковь, жадно глотала блинчики, наслаждаясь ощущением того, как куски пищи скользили к желудку и против ее собственной воли доставляли ей удовольствие; она заставляли ее перестать думать о боли, успокоиться и погрузиться в дремоту и почти забыть о том, где она находится и из-за чего вообще приехала в Замок… Вот что такое жизнь: мы будем есть, что бы ни происходило вокруг нас! Если мы голодны — мы будем принимать пищу, железы будут выделять какие-то свои неизвестные соки, мы будем переваривать свой последний ужин и тогда, когда будем лежать мертвые. Как все это унизительно, думала она, не переставая глотать пищу. И еще она подумала: какое же человек животное — а сказала:
— Здесь действительно можно отлично поесть! — а потом сжалась от боли: восемь лет, о Боже, восемь лет! Он выйдет отсюда, когда ему будет пятьдесят два; как можно что-то начинать в пятьдесят два?
Она схватила его за руку и впилась ногтями в его ладонь под салфеткой, которой он счищал крошки со стола. В этот момент к ним направился администратор. Она зажмурилась от ужаса, что ее разоблачили, в то время как к ней приближалось его строгое, невозмутимое и полное достоинства лицо священника. Кто знает, на какую тяжелую работу его вернут из-за нее. Она всегда портила все, к чему прикасалась в его жизни. Надсмотрщик был уже у их стола и смотрел на них глазами, от которых ничего нельзя утаить.
— Вы довольны ужином? — спросил он.
— О, да, да… — пробормотала она. — Очень.
— У вас есть какие-то замечания?
— Нет, — сказала она. — В самом деле нет.
Она положила бумажную купюру под счет, лежавший в полураскрытой салфетке на тарелке.
— Тогда приходите к нам снова… — сказал надсмотрщик.
Она смотрела на своего официанта:
— Обязательно, — сказала она, — я обязательно приду еще.
Ей позволили встать и почти доковылять до дверей, чувствуя на себе их взгляды: на затылке, на спине, на боках и на бедрах, а потом, когда ее рука уже коснулась ручки, надсмотрщик окликнул ее:
— Эй! — крикнул он. — Вы забыли вот это…
— Что?
— Зажигалку.
— Спасибо, — сказала она и вышла в ночь.
Перевод: wing_wing (-wing.livejournal.com/)Примечания
1
По-русски традиционно: Карагеоргиевич. Династия правящих сербских князей (1803–1813, 1843–1858 гг.) и королей (1903–1941 гг.) (прим. верстальщика).
(обратно)2
Цитата из романа «Гайдук Станко» Янко Веселиновића, в котором рассказывается о первом восстании сербского народа против турецкого господства.
(обратно)3
Цитата из народной песни «Марко Краљевић и Арапин» («Марко Королевич и Арап»).
(обратно)4
«?» — старейшая белградская кафана (ресторан). Здание построено в 1823 году. Сменила несколько названий. По требованию церковных властей хозяин вынужден был изменить последнее название, «У Соборной церкви». Не зная, как назвать свое заведение, он в качестве временной меры повесил над дверью табличку с нарисованным на ней вопросительным знаком. Так кафана называется по сей день.
(обратно)5
Кафана — корчма, ресторан.
(обратно)6
Кошава — сильный северо-восточный ветер, который дует в Белграде в холодное время года.
(обратно)7
Борсалин — вид шляпы.
(обратно)8
Блюда балканской и в особенности боснийской кухни. Бамия — овощ, происходящий из Абиссинии и восточной Индии. Шиш-чевап — разновидность мясного блюда типа кебаб, приготовляемая из баранины. Соган-долма — разновидность долмы из риса и мяса. Паче — студень, холодец.
(обратно)9
Деление классов внутри параллели в югославских школах осуществлялось по числам. Класс 6–3 соответствует 6 «В» в нашей системе (Правда, то, что 6–3 класс соответствует нашему 6-му, еще надо проверить. Слышала, что когда Капор учился в школе, начальная школа в Югославии включала 4 класса, а средняя — 8, а не наоборот, как теперь. То есть Жан Жик в 6-м классе мог бы быть вполне себе юношей.)
(обратно)10
Сингидунум — римская крепость на месте современной Калемегданской крепости.
(обратно)11
«Отчизна, ты как здоровье!» — рассказ словенского писателя Ивана Цанкара (1876–1918).
(обратно)12
Верушка — псевдоним Веры фон Лендорф (род. 1939), всемирно известной немецкой модели и актрисы.
(обратно)13
Римский колодец, снабжавший Калмегданскую крепость питьевой водой, на самом деле, скорее всего, был сооружен австро-венгерскими властями между 1717 и 1739 годом.
(обратно)

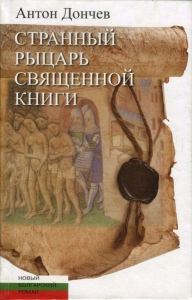

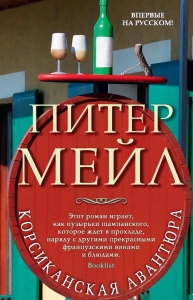
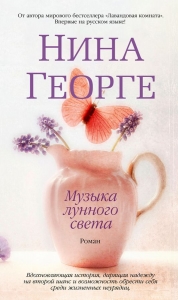


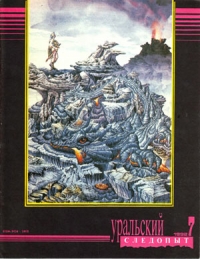



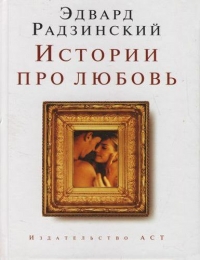
Комментарии к книге «Рассказы», Момо Капор
Всего 0 комментариев