Бекир Али, правитель города Н., еще издали заметил карету, едва та появилась на большой дороге: сначала это был маленький жучок, потом — стремительно приближающийся черный ящик.
— Спаси, Аллах! — пробормотал Бекир Али, разглядев на облучке официальную эмблему. Выходит, тоска, мучившая его весь этот нескончаемый октябрьский вечер, который он, хоть и был суеверен, уже не раз проклинал вроде бы безо всякой на то причины (мать, помнится, говорила ему, что никогда нельзя проклинать дни, даже если они мрачны, как ночи), напала на него неспроста.
Стоя у окна, он смотрел на подъехавшую к дому карету, на кучера, спрыгнувшего с козел и принявшегося стучать в ворота, на своего дворецкого, который, открыв створы, заторопился вверх по ступеням крыльца.
Запыхавшийся дворецкий говорил сбивчиво, но Бекир Али понял: высокий чиновник — прямо из Долма-Бахче, дворца султана.
"Великий Аллах, защити!" — повторил про себя Бекир Али и, как ни старался, спускаясь по лестнице, не держаться за перила, все-таки пару раз ухватился за них.
Прибывший чиновник ожидал его в большой гостиной. Бекир Али, несмотря на богатый опыт, не смог сразу определить подлинный ранг гостя. Запыленная одежда не соответствовала его важному, высокомерному виду, а тому в свою очередь — взгляд глубоко посаженных глаз, усталых, словно у человека, которому смертельно хочется спать. Бекир Али знал, что именно бессонница придает глазам такое выражение.
— Я прямо из столицы, с особой миссией, — проговорил гость, запустив руку в прорезь плаща и доставая свернутую в свиток бумагу.
Бекир Али взял свиток, развернул, но не смог ничего разобрать, кроме слов "Дворец Долма-Бахче, Общий отдел" и знакомой печати внизу. Он поцеловал бумагу в том месте, где стояла печать, почтительно склонился и, свернув документ, отдал его гостю.
— Добро пожаловать в мой дом, для меня это большая радость. Долгая дорога, наверно, утомила вас.
Гость развел руками:
— Дорога изнурительная. А постоялые дворы — так хуже некуда.
— Верно, верно, — поддакнул Бекир Али. — Когда мне самому нужно ехать в Стамбул, я заранее ужасаюсь, когда подумаю, что мне предстоит. Кроме Старой Корчмы, на выезде из Янины, и еще одной, возле Каваллы, все остальные — позор, да и только. От вшей и клопов никакого спасения нет.
Бекир Али почувствовал, что слишком много говорит, но остановиться не мог. Он давно заметил, что есть люди, одно присутствие которых создает гнетущую обстановку, а если еще и молчать, то станет просто невыносимо. Приезжий был именно из таких.
Стараясь почему-то не встречаться с ним взглядом, Бекир Али говорил о скверных дорогах, об усыпальнице Дервиша Улемы, до сих пор не отремонтированной несмотря на неоднократные предписания, о таможне в Ибрик-Тебе — из-за здания да и самих таможенников складывается дурное впечатление о стране, особенно у иностранцев…
Поняв, что перебарщивает, он внезапно прекратил свою болтовню — гость слушал его с таким равнодушием, словно ему никогда не доводилось, да и впредь не придется ездить по этим дорогам.
На мгновение Бекир Али даже растерялся. По счастью, в следующую секунду он вспомнил о хамаме.
— Я полагаю, что после такой дороги, баня была бы…
— О да, с удовольствием, — сказал приезжий.
На веранде, куда Бекир Али вышел подышать свежим воздухом, слышались привычные домашние звуки. В специально отведенной комнате устраивались двое сопровождающих высокого гостя. С кухни доносилось бренчание посуды. Бекир Али снова вздохнул. День тянулся бесконечно долго.
Он вспомнил усталые глаза гостя, его пропыленную одежду, во внутренних карманах которой могли лежать бог знает какие секретные бумаги, и снова пробормотал: "Спаси, Аллах!"
На миг он замер, словно охотник, выслеживающий дичь. Потом крадущимися шагами вернулся в гостиную. Все так же на цыпочках прошел по узкому коридору, открыл дверь и оказался в длинной глухой комнате, свет в которую проникал только через слуховое окошко. За стеной слышалось журчание воды.
Бекир Али осторожно снял со стены медное блюдо и припал глазом к маленькому отверстию. Из-за пара движения человека по ту сторону перегородки казались замедленными, словно давались ему с большим трудом. Бекир Али почувствовал слабость в коленях. В эту дырочку он подглядывал за чиновниками, приезжающими из столицы, всякий раз, когда сомневался в правдивости их слов или хотел угадать истинную цель их поездки. Он твердо знал: то, что скрывают глаза или слова, выдает голое тело. Там, в облаках пара, среди голых стен, как ни в каком другом месте, человек обнажает свои тайны. Там выходят наружу алчность и вожделение, сомнения и решимость, тайный страх, раскаяние и готовность идти по трупам.
Бекир Али едва сдержал вздох. Тело гостя не выдавало ничего, кроме пережитых страданий, словно не струйки горячей воды касались его, а невидимые розги.
"Этот человек или сумасшедший, или святой", — подумал Бекир Али. Его движения не сообщали ничего, они, казалось, лишь о чем-то вопрошали, чего-то требовали. По его телу невозможно было даже понять то, что Бекир Али всегда видел едва ли не с первого взгляда: нравились ли ему женщины или мальчики, или же он предпочитал, чтобы с ним занимались любовью мужчины. Сколько раз использовал это Бекир Али, особенно последнюю склонность, чтобы опорочить чиновников, казавшихся совершенно неуязвимыми.
Он оторвался от дырки в стене, только когда гость стал вытираться полотенцем.
Спустя некоторое время оба сидели на миндере[1] в гостиной, в широкое окно виднелась часть веранды. Бекир Али был удручен. Он с трудом подыскивал слова, чтобы не дать угаснуть беседе, которую он, как хозяин дома, обязан был поддерживать. Приезжий явно предпочитал отмалчиваться. "Это не гость, а ворон какой-то", — подумал Бекир Али. Приезжий рассеянно смотрел в окно, как день клонится к закату, после бани глаза его казались еще более усталыми.
— Так вот, значит, какая она, Албания, — тихо проговорил он, будто разговаривая с самим собой.
— Вы здесь впервые? — поинтересовался хозяин дома.
Гость утвердительно кивнул.
Он еще несколько раз кивнул, словно продолжая отвечать на вопросы, которые задавал ему кто-то невидимый. "Сам черт, может быть", — подумал Бекир Али. Покивав, гость вдруг произнес все так же тихо:
— Как жаль…
У Бекира Али ёкнуло сердце. Что значит это, будто случайно вырвавшееся "как жаль"? Кого ему жаль? И почему?
Напрасно он ждал, не добавит ли гость что-нибудь к сказанному, — тот замкнул уста. Равнодушно смотрел он сквозь оконное стекло потухшими, как у человека, потерявшего последнюю надежду, глазами, взгляд их так и обдавал холодом. Пару раз Бекир Али едва сдержался, чтобы не схватить приезжего за горло и не гаркнуть ему прямо в лицо: "Кого это тебе жаль? Уж не меня ли? Может, ты и принес мне черную весть? Говори, ворон проклятый!"
Бекир Али давно знал, что высокие столичные гости зачастую привозили местному правителю обвинительный приговор. Бывало, несчастный с почестями принимал посланца, тот ел и пил с ним, а потом вдруг, совершенно неожиданно, ближе к полночи извлекал из потайного кармана катиль-фирман, смертный приговор. "Султан требует твою голову". После этого осужденному ничего не оставалось, как подчиниться судьбе и добровольно подставить голову под шелковый шнурок — чтобы ему сломали шею, прежде чем отрежут голову.
"Сколько раз он выполнял такие задания? — думал Бекир Али, не сводя глаз с гостя. Но тот по-прежнему смотрел мимо него, словно его тут и не было. — Может, за ужином хоть что-нибудь прояснится?"
За трапезой приезжий и в самом деле заговорил, но сказанное им, вместо того чтобы успокоить, еще больше взволновало Бекира Али.
— Султана тревожит ситуация с Албанией…
Эту фразу столичного гостя Бекир Али, проглотив очередной кусок, вновь и вновь повторял про себя. Она не предвещала ничего хорошего. Наоборот, после такого заявления следовало ждать отставок и приговоров.
"Да мне-то что волноваться? — пытался подбодрить себя Бекир Али. — В конце концов не я же главный правитель Албании. Я всего лишь провинциальный начальник. Надо мной еще пятеро или шестеро, непосредственно отвечающих за положение дел. Пока очередь дойдет до меня…"
Он понимал, что утешение это слабое. Ему было хорошо известно, что любой большой правитель, падая сам, тащит за собой вниз десятки своих подчиненных, как булыжник, вызывающий камнепад.
Осторожно, исподволь попытался он узнать, чем же так обеспокоен великий султан. Восстаний последние два года, слава богу, не было. Налоги, насколько ему известно, Албания платит исправно. И нужное количество солдат в армию тоже поставляет.
— Э, Бекир Али, — прервал, наконец, его размышления гость. Переведя взгляд, непонятно почему, на цветочные горшки, которыми был уставлен подоконник, он покачал головой. — Осенние цветы предвещают зиму. У вас, кажется, тоже так говорят?
— Что?.. Ах, да… Конечно, говорят.
Бекир Али напрасно ждал продолжения разговора о том, что именно беспокоит султана, — у его собеседника, казалось, не было ни малейшего желания распространяться на эту тему. "Да из него слова клещами не вытянешь!" — подумал Бекир Али. Даже когда гость несколько раз открывал рот, он не сказал ничего, кроме каких-то туманных пугающих фраз. "Снов и ветхой одежды всегда в достатке", — проговорил он вдруг будто невпопад. Бекир Али голову сломал, пытаясь понять, что бы это значило.
В конце концов, забыв осторожность, он прямо спросил, отчего великий падишах обеспокоен ситуацией в Албании. И вновь упомянул о царящем мире, выплаченных налогах и набранных солдатах.
Гость как-то подозрительно на него посмотрел, но затем, похоже, вспомнил, что сам первый заговорил о беспокойстве монарха.
— Все не так просто, Бекир Али, — тихо сказал он. — Дело не в восстаниях, налогах и чем-то там еще. Все гораздо глубже… Глаза султана видят гораздо дальше наших.
Если бы речь шла не о монархе, Бекир Али вряд ли сдержал бы раздражение — он всегда выходил из себя, когда ему говорили, что тут, мол, все гораздо глубже, чем кажется. Этого выражения он терпеть не мог. "Что это за дела такие? О чем ты говоришь? — нередко перебивал он собеседника. — Нет в этом мире ничего такого глубокого. Глубокой будет только яма, в которую нас однажды опустят. А все остальное — чепуха".
— Так вот, Бекир Али, — продолжал гость, — уже много ночей подряд великому султану не дают спать мысли об Албании.
— О Аллах! — воскликнул хозяин дома, не зная, что на это ответить. Думая о том, что сотни высших чиновников, не говоря уже о тысячах чиновников среднего уровня и сотнях тысяч мелких, дрыхнут как свиньи, в то время как светоч мира глаз не смыкает, он невольно вспомнил глаза гостя, глаза, по которым сразу было видно, что их владелец страдает бессонницей. Может быть, именно благодаря ей, благодаря этим вот кругам под глазами он и заслужил расположение императора, тогда как другие, с их вечно заспанными лицами, вызывали зависть и, как следствие, скрытый гнев измученного бессонницей падишаха.
— Все балканские страны, одна за другой, отпали от империи, — медленно и устало продолжал гость. — Осталась одна Албания. И у великого султана болит о ней душа больше всего, как старику всех дороже его позднее дитя.
Бекир Али вздохнул с облегчением. Теперь понятно, отчего султану не спалось. Более или менее стала ясна и цель приезда столичного гостя. "По счастью, ко мне это не имеет отношения", — подумал Бекир Али и запустил ложку в халву. "Слава Всевышнему!" — мысленно проговорил он уже с полным ртом.
Ужин давно закончился, и они выпили еще по одному бокалу шербета. За окном зарядил мелкий шелестящий дождик. Бекира Али клонило в сон. Нехорошо, если гость это заметит, тем более после разговоров о бессоннице султана. Бекир Али с трудом сдерживал зевоту.
Некоторое время он следил за мельканием фонарей во дворе дома, где слуги сновали по своим обычным делам, но зрелище это, вместо того чтобы отогнать сон, сморило Бекира Али еще больше. В какой-то момент оно даже плавно перетекло в сновидение: слуги суетились возле больного коня, лежавшего на кровати под шелковым стеганым одеялом. Из конюшни в дальнем углу двора и в самом деле послышалось лошадиное ржание. Бекир Али дернул головой.
— Ты засыпаешь, а? — спросил гость.
— Нет, нет… Как это вы сказали… Снов и ветхой одежды? Ха-ха, никогда раньше не слышал этого выражения. — Бекир Али, сам не зная почему, стал извиняться.
— Ничего, ничего, — ответил гость. — Я, пожалуй, пойду. Спать мне не хочется, но отдохнуть с дороги не мешает.
Бекир Али в растерянности бормотал какие-то ненужные слова, слегка отодвигая от гостя софру,[2] чтобы тому было легче встать. Он пошел проводить его, освещая путь керосиновой лампой. Мысль о том, не предложить ли ему какое-нибудь развлечение, и если да, то какого рода, с женщиной или с мальчиком, — та самая мысль, которая после подглядывания в хамаме беспокоила его весь вечер, теперь, когда они приближались к двери спальни, поставила его в крайне затруднительное положение.
Он постарался сразу же вспомнить его тело, каким его смутно видел — изнуренным, словно в адском чаду, но так и не мог решить окончательно, чем его ублажить.
"Спать ему не хочется, он сам сказал. Чем же он будет заниматься всю долгую ночь?" Эта мысль перечеркнула последние сомнения Бекира Али.
Поднимая повыше лампу, чтобы лучше осветить дверь комнаты, но оставить в тени лица, он тихим голосом сказал:
— Аллах создал длинные ночи, тоскливые, когда их нечем занять… Если бы дорогой гость пожелал немного развлечься, тем более что ему не спится… Я был бы счастлив прислать ему девушку или мальчика…
Тот взялся за дверную ручку.
— Ты так думаешь, Бекир Али? — проговорил он бесстрастным голосом, не поворачивая головы, открыл дверь и вошел в спальню.
Хозяин застыл на месте с лампой в руках, ему показалось, что она вдруг стала раза в два тяжелее. "Ты так думаешь, Бекир Али?" — повторил он про себя слова гостя. Даже самаркандские гадальщики высказывались более определенно. И что он имел в виду, черт бы его побрал?
Бекир Али медленно вернулся в гостиную и некоторое время наблюдал, как слуги убирают остатки ужина. Сна у него теперь ни в одном глазу, и поди знай, доведется ли соснуть… "Какой дьявол принес тебя ко мне?" — мысленно выругался он. Потом решил больше не ломать голову. Не хочет говорить — и не надо. Почему он, Бекир Али, должен думать о том, как усладить его мужское достоинство? Другие, когда до этого доходило дело, были более откровенны. "Сказать по правде, Бекир Али, мне нравятся мальчики". Или: "Какие мальчики, дорогой мой, да меня до самой смерти от женщины не оттащишь". Ну и так далее, смотря какие у кого предпочтения, кому как положил Всевышний. А этот на тебе: "Ты так думаешь, Бекир Али?" Ишь ты, гордец какой, честное слово. Тьфу, чтоб у тебя глаза повылазили! Погоди, я тебе покажу гордость.
Главный прислужник, не сводивший с него глаз, подошел сразу же, едва хозяин подал знак.
— Мерьем готова?
— Готова, господин. И Лейла готова, если ему больше нравятся блондинки.
— Какие еще блондинки? Вообще непонятно, кого он хочет — мужчину или женщину. Так что на всякий случай приготовь и Мехмета.
— Как прикажете, господин.
Бекир Али на мгновение задумался.
— Насчет Лейлы ты прав. Может, ему действительно нравятся блондинки.
Чуть погодя, стараясь как можно тише ступать по дощатому полу, Бекир Али вошел в комнату по соседству с комнатой гостя. Он осторожно отодвинул коврик с цитатой из Корана, прикрывавший отверстие для подглядывания, и припал к отверстию глазом.
Гость в длинной ночной рубашке неподвижно лежал на кровати. Бекир Али знал по опыту, что тот, за кем подглядывают, всегда кажется неподвижным (волнение подглядывающего, возможно, и создает такое впечатление), но этот человек превосходил всех, за кем ему доводилось наблюдать. Если бы не четки, которые он машинально перебирал одной рукой, можно было бы подумать, что это восковая фигура.
Не пошевелился он, даже когда скрипнула дверь и вошла Лейла. Только глаза следили за игривой походкой девушки, направившейся к ложу. "Вот сучка, как уверена в себе", — подумал Бекир Али. Его словно что-то неприятно царапнуло. В какое-то мгновение ему показалось, что со столичным гостем она будет гораздо ласковее, чем с ним, провинциальным правителем. "Вот и попробуй узнай, что у этих женщин на уме", — мысленно проворчал он. Из столицы, кроме декретов, сплетен и моды, до них доходили и разные тонкости касательно любовных утех, наверняка позаимствованные у гяуров. Сколько раз он, сидя с друзьями в кофейне, ругал и проклинал эти новшества, презрительно кривя губы и плюясь с отвращением, а вот у их женщин, томящихся от скуки, небось только это в голове. Стоит им о чем-то таком прослышать, и они уже сгорают от нетерпения, как бы поскорее испробовать все самим. Вот и эта Лейла — вошла, так бесстыдно покачивая бедрами, наверняка ожидала чего-то особенного от заезжего гостя.
Уверенным движением девушка развязала узел, и тонкий халат соскользнул с ее тела. Оставшись обнаженной, она улеглась рядом с чужаком, вытянув одну ногу и согнув другую в колене, отчего в ее позе появилось что-то повелевающее. Мало того, она осмелилась заговорить с незнакомцем и даже улыбнулась своей загадочной улыбкой, лишь наполовину предназначенной для гостя.
— Ох и сучка, — выругался сквозь зубы Бекир Али. Непонятно почему, но он чувствовал, что из всего, что происходило и еще должно было произойти между ними, именно обращенные к гостю слова вызывали у него сильнейшую ревность. "Интересно, что же ты такое ему сказала, сучка?" — подумал он злобно.
Он не видел, ответил гость что-нибудь или нет. Только обратил внимание, что взгляд приезжего оставался бесстрастным, хоть и скользнул несколько раз с ее золотистых волос к черному пятну лобка (Бекир Али знал, что этот контраст будоражил всех мужчин, без исключения).
Гость довольно долго разглядывал девушку все тем же утомленным взором, потом рука его выпустила четки и потянулась к ее животу. Он погладил волосы на ее лобке, совершенно спокойно, как человек, который равнодушно ерошит волосы ребенку, чтобы поскорее отделаться от него, но так, чтобы его не заподозрили в том, что он не любит детей.
— Ха! Ну что, получила свое, чертова сучка? — победно выругался Бекир Али, увидев, что девушка, после того как гость открыто выказал свое равнодушие, поднялась с ложа и с оскорбленным видом вышла из комнаты, не удосужившись даже одеться.
"Ну, теперь поглядим, чего добьется наш маленький Мехмет", — подумал Бекир Али и даже потер руки. Ему было страшно любопытно, чем же закончится эта история. "Хм, ну и гость, — не раз повторил он про себя. — С кенгуру легче было бы найти общий язык, честное слово".
Мехмет, которому слегка нарумянили щеки, в отличие от Лейлы вошел с опущенной головой. Бекиру Али всегда нравился этот мальчик. Он был застенчивее девушки, и обожание любовников не вскружило ему голову и не приучило к кокетству.
Гость, когда мальчик появился в комнате, не выказал ни малейшего удивления — словно ничего другого и не ожидал. И точно так же не пошевелился, когда тот, робким движением сняв шелковые, вышитые по бокам шаровары, словно ягненок улегся на кровать.
Приезжий некоторое время разглядывал его все с тем же равнодушием, с каким смотрел и на Лейлу. Разве что в этот раз он даже не выпустил из руки четок, и их слоновой кости бусины скользили змеиными извивами по телу мальчика, когда он его гладил.
Но продолжалось это недолго. Он убрал руку, его глубоко посаженные глаза спрятались в глазницах, а бусины четок продолжили размеренное тоскливое движение между пальцами.
— Не хочет, — пробормотал Бекир Али. У него еще теплилась робкая надежда, пока мальчик оставался на ложе. Но она угасла окончательно, когда приезжий, слегка коснувшись бедра мальчика, что-то сказал ему. Тот поднялся — движения все такие же застенчивые, — сунул сначала правую ногу в шаровары, затем левую и вышел из комнаты, как и вошел — с низко опущенной головой.
"Наверное, он уже ни на что не способен, — размышлял Бекир Али. — Раз и навсегда подвел черту под этими делами, вот его и посылают то туда, то сюда с тайными заданиями. Ну и пусть теперь получает удовольствие от своей должности и возни со всякими там секретными бумагами".
Он уже устал подглядывать, но не хотел покидать своего наблюдательного поста. Пожалуй, не стоит судить о госте с таким презрением. Может, и ему самому скоро станут безразличны плотские утехи. Вот и лицо у него в последнее время стало каким-то желтушным.
Эх, совсем другими были прежде крупные чиновники. Душа радовалась, когда доводилось слышать обо всех их подвигах — хоть на поле брани, хоть в политике, хоть на ложе любви! Для Бекира Али незабываемой осталась неделя, которую он провел в столице во времена своей молодости. Позднее он часто приезжал туда, по служебным делам или для участия в праздничных торжествах, но восторг той незабываемой недели не повторился уже никогда. Он помнил все, точно это было вчера. Весь город готовился к празднованию Ночи Всевластия. Из всех государственных праздников этот больше других разжигал искры в душе Бекира Али. В эту ночь, по обычаю, великий султан должен был переспать с девственницей. Вся столица только об этом и говорила. И даже те, кто ничего не говорил, об этом думали. Всюду царило возбуждение. По примеру монарха и все высшие сановники тоже готовились. Хамамы были протоплены заблаговременно. Радостно мерцали свечи… В тот вечер Бекир Али долго бродил по улицам. И в простых домах, и во дворцах — везде светились огоньки. Каждый, сообразно личным пристрастиям, кто с женщинами, кто с мальчиками, готовился предаться любви.
"О благословенная страна! — с неподдельным восторгом думал тогда Бекир Али. Величественные и прекрасные обычаи". Впервые в жизни он ощутил особый привкус власти. То, что в обыденной жизни убого именовалось «карьерой», было не просто удовольствием от еды, езды в служебной карете и тому подобным. Это было нечто более глубокое, это воспламеняло, точно страсть, с каждым разом все сильнее.
Ни раньше, когда ему доводилось переспать с какой-нибудь гяуркой, ни позже, в пору своего медового месяца, не испытывал Бекир Али такого всепоглощающего желания, как той ночью. Такое же нетерпеливое желание, как ему казалось, видел он и в глазах прохожих. Создавалось впечатление, что связь, возникавшая между величественной страстью властителя и страстью каждого из его подданных, стократ усиливала эту последнюю. Возможно, для того и был придуман этот пышный праздник, чтобы всякий подданный, будь то мужчина или женщина (а у последних, по понятным причинам, воображение разгоралось еще больше: на месте мужа они представляли себе монарха), мог раз в год почувствовать общность — в чем-то очень интимном — с великим падишахом.
Бекир Али бродил, изнемогая от желания, по одной из площадей в центре города, когда раздался пушечный выстрел, возвестивший, согласно традиции, о том, что султан наконец лишил девственности свою избранницу.
Пешеходное движение мгновенно застопорилось. Люди вертели головой во все стороны, словно хотели определить, откуда донесся пушечный грохот и в какой стороне находится султанский дворец.
— Э-э… так он-таки в самом деле ее… — воскликнул подвыпивший прохожий, и поскольку никто не обратил на него внимания, он, совсем осмелев, повторил сказанное, приправив свои слова нецензурным словечком.
В воздухе были разлиты восторг, возбуждение и любопытство.
— Эй, парень, хочешь развлечься? — прошептала Бекиру Али женщина в парандже. По ее выговору было ясно, что она цыганка. Только они и могли болтаться на улице в такое время.
Не говоря ни слова, Бекир Али последовал за ней. В темном закоулке, перед тем как обнять его, она потребовала монету. Бекир Али, не задумываясь, заплатил.
— Ну и как тебе? — спросил Бекир Али, когда они поднялись с ложа любви.
— Э! — отмахнулась она. — Никак.
"Чертова цыганка!" — выругался про себя Бекир Али.
— Ну да, конечно, я ведь не падишах, — вслух сказал он.
— Что-что? — переспросила цыганка и вдруг захохотала как сумасшедшая.
— Что это ты так заливаешься? — спросил Бекир Али.
Она все хохотала, и он молча ушел. Издали, из темноты до него донесся последний отголосок ее смеха, и он прибавил шагу, словно чувствуя за собой вину.
Вместе с облегчением он почувствовал горечь. В роскошных дворцах, что высились прямо у него над головой, на шелковых простынях белокожие ханум, умащенные благовониями, занимались любовью со своими повелителями, а он, словно уличный пес, был в подворотне с цыганкой.
Чувство опустошенности вызывало нестерпимую боль, все его существо беззвучно выло. Позднее, вспоминая ту ночь, Бекир Али понял, что стремление к карьере, пронизавшее всю его дальнейшую жизнь, эта безумная жажда, ради утоления которой он готов был задушить даже собственную мать, возникло у него именно тогда.
И пока бродил он по улицам (а над головой у него вместе со страстью гасли один за другим огоньки во дворцах), ему приходили на ум слухи об огромном количестве женщин в гаремах высоких сановников — об этом толковали в грязных портовых забегаловках… До сих пор он не переставал изумляться этим сплетням.
"Боже, какими они были могучими прежде! — думал он, оторвавшись от дыры в стене. — А теперь совсем ослабели, и так во всем".
Какая-то тоска, которая обычно охватывает человека ни с того ни с сего и заставляет его спрашивать: "Да что же это со мной?..", овладела Бекиром Али.
То, что государственная машина великой Османской империи замедлила свой ход, что на всем — на декретах, чиновниках, важных государственных делах — лежала печать безмерной усталости и апатии — это замечали все, не говоря уже о Бекире Али, который двадцать с лишним лет занимал высокую государственную должность. Но он и представить себе не мог, как глубоко въелась эта усталость в каждого, проникла, что называется, до мозга костей.
По сведениям, полученным от осведомителей, подслушивавших разговоры в кофейнях, выходило, что дела в государстве идут неважно, и, по мнению обывателей, прежде всего из-за гяуров. Одни полагали, что империя, несмотря на то, что боролась с христианством — и правильно делала, — все же должна использовать опыт христианских стран. Другие, напротив, утверждали, что от гяуров все беды и потому нужно порвать с ними всякие отношения. Так считали преданные слуги государства и веры, вышедшие на пенсию. В письмах, как должным образом подписанных, так и анонимных, они сетовали, что влияние гяуров растет, государство же слишком неповоротливо, чтобы предотвратить свое разложение.
Бекир Али всей душой был на стороне последних, хотя мысли первых тоже привлекали его каким-то дьявольским образом. Он не спешил осуждать их, но еще меньше хотел осуждать пенсионеров за их бдительность. Он выжидал, и ни те ни другие не любили его и наверняка строчили доносы в столицу.
Уже давно Бекир Али обдумывал то, о чем болтали сплетники в кофейнях. Вот и сейчас, когда он, сидя на миндере в гостиной, размышлял об утрате мужской силы высшими чиновниками, у него мелькнула мысль, что причиной этого тоже могли быть гяуры. Поговаривали, что в столице завели новые обычаи, явно заимствованные в проклятой Европе. Что женщины теперь даже пишут любовные письма, и вот получает какой-нибудь чиновник такое письмо, и, если она пишет "люблю тебя", «жду» и прочую чепуху в том же духе, он сходит с ума от радости, а если она пишет что-нибудь другое, скажем, "больше тебя не люблю", то человек от отчаяния совсем теряет голову и даже смотреть не может на других женщин.
— Эх, — вздохнул Бекир Али. Легкий размеренный шум прервал его размышления. — Ну вот, снова дождь зарядил.
Какое-то время он прислушивался к ровному шуму за окном. Дождь был кратковременный, проливной. "Люблю тебя, жду", — мысленно повторил он слова из воображаемого письма и, хотя подсмеивался над всем этим, втайне мечтал получить такое письмо.
Бекир Али клюнул носом и понял, что задремал. За оконным стеклом слышался все тот же легкий шум. Он попытался вернуться к своим размышлениям — о всеобщей усталости, о медленном, но неуклонном разложении всего и вся — и вдруг похолодел от страшной догадки: а что, если дело совсем не в этом? Вдруг столичный гость отверг предложенные ему развлечения вовсе не потому, о чем он подумал, а потому, что у него был какой-то злой умысел?
Сомнения мучили Бекира Али. Каким же глупцом он был, когда, услышав, что у султана пропал сон из-за положения дел в Албании, сразу успокоился. Это, видите ли, не имеет к нему отношения, это касается Албании — вот что он, дурак, подумал. Забыл, что он хоть и не верховный правитель Албании, все же один из правителей. И сколько раз бывало, что великий султан, дабы усмирить какую-нибудь страну, рубил головы всем ее правителям без исключения, начиная с самого крупного и вплоть до самого мелкого?
Бекир Али почувствовал ком в горле. Что, если однажды бессонная ночь султана сменится утром, полным крови и трупов?
Бекир Али вдруг представил себя лежащим на боку с перерезанным горлом, но не так, как это бывает, когда рубят ятаганом или топором, а будто бы ему перерезали горло ножницами. (Позднее он вспомнил, что именно в таком виде неделю назад нашли мужа, убитого собственной женой.)
Конское ржание вывело его из задумчивости. Сам не зная зачем, словно откликаясь на ржание чужого, как он сразу понял, коня, стоявшего в его конюшне, Бекир Али спустился по ступенькам и вышел во двор.
Даже ничего на себя не накинув, он направился прямо к конюшне. Керосиновая лампа слабо освещала двор. Он толкнул дверь, и свет лампы помог ему различить силуэты лошадей. Запах соломы вперемешку с навозом, фырканье и глухое топтание животных, почуявших человека, — все это было так знакомо Бекиру Али. Непривычными были мысли, ворочавшиеся в его усталом мозгу.
"Зачем, Аллах, ты создал человека таким злым? — размышлял Бекир Али. — Все страшные приказы доставляются на лошадях, но сами они и не подозревают об этом. Резво скачут, неся добрые вести, и так же резво, неся смерть".
Рука Бекира Али погладила лошадиную морду. Ни один конь в этом мире не приговорил к смерти другого коня. А люди только об этом и думают…
Из конюшни он вышел совсем разбитым и медленно побрел в дом. Улегся на ложе, не прикрывая головы, чтобы слышать шелест дождя, который в другой ситуации давно бы усыпил его, и почувствовал, что ему хочется плакать. "Мы лишь однажды приходим в этот мир, о Всевышний, — пробормотал он, — отчего же Ты не даешь нам прожить эту жалкую горстку дней в радости?"
Полночь давно миновала, скоро должно было светать, но сон не шел. Два года назад, вдруг вспомнил Бекир Али, много ночей подряд он мучался такими же вот тревожными мыслями. Только что был низвергнут великий визирь Юсуф, и каждый день ждали новых отставок и приговоров. Как-то в субботу, чтобы хоть немного развлечься, он поехал на выходные к родственнику за город. Но тревога, вместо того чтобы рассеяться, только усилилась. Ему казалось, что вот именно сейчас, когда его нет в городе, беда его настигнет. Всю ночь он не мог сомкнуть глаз. На рассвете, едва задремав, он услышал отдаленный крик: "Бекир Али! Бекир Али!" О боже, это за мной, подумал он. Бледный как воск, он встал с постели и вот так, стоя у окна, дожидался жандармов. Только когда он услышал голос хозяина, спрашивавшего из своего окна: "Ты кто, братец?", и ответ: "Умер Мунир Али", сердце у него вернулось на место. Никогда еще он не встречал с таким облегчением известие о смерти родственника.
Аллах! Сколько уже времени прошло, а тот кошмар помнился так живо, словно это было вчера… Но что это? Ему почудилось или он в самом деле слышал, как его кто-то зовет: Бекир Али… Бекир Али…
Он привстал на кровати. Убедился, что не спит, прислушался. Снова раздался голос, теперь уже тише, чем ему показалось вначале, и совсем рядом, может, прямо за дверью: Бекир Али… Бекир Али…
Без сомнения, это голос приезжего. Бекир Али, к своему удивлению, не почувствовал страха. Но все же пробормотал:
— В руки Твои предаю себя, Аллах!
Он подошел к двери, открыл ее и действительно увидел на пороге фигуру гостя: его лицо показалось Бекиру Али совсем белым, возможно, из-за того, что тот был в ночной рубашке.
— Ты спал? — спросил гость. — Ну, конечно, спал. Извини, Бекир Али.
— Что случилось?
— Ничего. Прости меня еще раз, что я тебя разбудил…
— Да пустяки… Но все-таки, в чем дело?
— Ни в чем, Бекир Али. Я просто так тебя позвал… без особой причины… Просто чтобы немного поговорить… если ты не против…
Глаза Бекира Али смотрели не столько в лицо гостю, сколько на его ночную рубашку, чтобы убедиться, что на ней нет потайных карманов, в которых мог лежать зловещий фирман.
"Безумец, — подумал он о госте. — Нашел время для разговоров. Но спасибо Всевышнему, что послал мне безумца, а не…"
— Я сейчас, радость души моей, — живо пробормотал он. — Вот только накину что-нибудь, и я весь в вашем распоряжении, можем беседовать, сколько пожелаете.
— Прости меня, Бекир Али, — вновь сказал гость, когда они устроились на миндере, возле жаровни, в которую слуга насыпал горячих углей, неведомо где раздобытых.
— О чем вы, для меня беседа с вами — большая честь. Если бы я знал, что вы не спите, я бы сам к вам пришел.
— Я тебе уже говорил, что сплю плохо. Особенно на новом месте… Осеннюю ночь Аллах сотворил долгой. Хотел было написать несколько строк для моего доклада, но рука почему-то не слушалась.
— А что это за доклад, если мне дозволено спросить? — еле слышно выговорил Бекир Али.
— Я тебе разве не сказал? Это и есть цель моей поездки: подготовка донесения, или, как теперь говорят, доклада, о положении дел в Албании.
Взгляд Бекира Али выражал полное недоумение.
— Речь идет… о ее будущем?
Гость кивнул:
— Именно. Как ты догадываешься, дорогой Бекир Али, великому султану в последнее время представили множество докладов, касающихся Албании, но ни один его не удовлетворил.
Бекир Али покачал головой, а про себя подумал: "Понятно, что не удовлетворил, раз тебе пришлось отправиться в дальний путь".
— У вашего доклада, иншалла, будет более счастливая судьба, — вслух сказал он.
— Неизвестно. Мой доклад, или, лучше сказать, рапорт, будет совершенно особенным, а у особенных вещей, дорогой Бекир Али, судьба или невероятно счастливая, или безмерно печальная.
— Не дай бог! — воскликнул хозяин дома.
— Что бы ни случилось, душа у меня спокойна: я верно служу своей стране и исламу, и понравится мой рапорт или не понравится — так тому и быть. Для меня главное, чтобы перед Аллахом я был чист как родник.
Бекир Али хмыкнул про себя: ему было как-то не по себе от того, какое направление приняла их беседа. Сердце немного успокоилось, только когда гость снова заговорил о своем докладе. Речь шла о том времени, когда оттоманская армия и администрация будут вынуждены покинуть Албанию, как им пришлось оставить уже весь полуостров. В этом-то и заключалась суть вопроса: как сделать, чтобы Албания осталась близка нам, после того как отделится?
Бекир Али скривил губы. Он терпеть не мог рассуждать на эту тему. Нельзя, чтобы до этого дошло, думал он. И наоборот, если уж откололась страна от империи, тогда какое ему дело, близка она нам или далека? Это все равно что мужья-нытики, которые после развода с женой только о ней и думают: с кем она спит, вспоминает ли она его или нет, и прочую чепуху. Развелся с женой — выбрось ее из головы. Пошла она к черту. Пошла к черту и Албания, если она отколется.
Но столичный гость, похоже, думал иначе. Как бы прочно ни укоренился османский дух в Албании, объяснял он (попутно упомянув и исламскую веру, которую приняли половина албанцев, и местных пашей, связанных тысячами нитей с султаном, и целый слой образованных людей происламской ориентации, и мощное общество "Дум Бабен", готовое, в случае чего, поднять протурецкое восстание, и еще многое другое), — так вот, как бы глубоко он ни укоренился, для его сохранения этого недостаточно.
Гость почувствовал, что Бекир Али хочет возразить.
— Может быть, тебе все это кажется странным?
— Хм, как сказать… Конечно… Я впервые о таком слышу… о таких сложных вещах. Ты ведь знаешь, я всего лишь местный правитель… Но по правде сказать, вся эта затея с османским духом мне и в самом деле кажется немного странной. Если эта страна отделится от нас, тогда что нам за дело, какой там останется дух, османский или черт его знает какой еще?
Собеседник словно только и ждал этого момента, чтобы разразиться безудержным смехом.
— В этом и есть коренное различие между мной и тобой, Бекир Али, — сказал он, наконец отсмеявшись (этот смех был таким долгим, что Бекиру Али показалось, будто гостю понадобилось какое-то время, чтобы вернуть себе прежнее выражение лица, — так человек после обильной трапезы долго вытирает губы и лицо салфеткой). Именно в этом и состоит различие: ты чиновник, бюрократ, как говорят сейчас в столице, а я идеолог. Трудные слова, да?
— Э-э… — в замешательстве протянул Бекир Али.
— Я гораздо глубже вникаю в суть проблемы, Бекир Али. Государственное устройство — это то, что на поверхности. В любой стране его легко можно установить или изменить. А вот дух — это другое, и, если однажды он воцарился, его так легко не искоренить. Именно о духе я размышляю долгие годы, над этим работаю. И именно дух составляет основу моего доклада… Но погоди, я постараюсь тебе получше объяснить.
Он долго молчал, затем попросил воды и принялся пить маленькими глотками, не сводя глаз с черных оконных стекол. Прежде чем вернуться к начатому разговору, он поговорил о вещах, не имевших к нему никакого отношения: пожаловался на ломоту в костях, сказал, что правы были старики, когда говорили, что днем их клонит в сон, а ночью так и тянет в нужник. И только когда он, глубоко вздохнув, сказал: "А теперь слушай, Бекир Али", хозяин дома понял, что хочешь не хочешь, а сейчас он выложит все, что накопилось у него в душе.
— Как я тебе уже говорил, Бекир Али, я человек глубоко религиозный. — Он провел рукой по лицу, благочестиво огладил бороду и продолжал: — В моем случае слова «религиозный», может, и недостаточно. Я более чем религиозен. Я до мозга костей азиат, с ранней юности я смертельно ненавидел Европу и европейцев. Ненавидел их города и женщин, церкви, кафе, газеты, алчное стремление знать обо всем на свете, выборы, парламенты, их холодную рассудочность, ненавидел то, как они ходят, одеваются, думают, ненавидел их сомнение, их гордость, вечную суету, а еще то, что они называли "права человека", ведь на самом деле это просто демон не давал им покоя. Все это я ненавидел, а любил всей душой бесконечную голую степь, благословенное сонное спокойствие Анатолии, над которой властвовал только один человек, от него зависела твоя судьба, и из тысячи нитей сплеталась тайна, и ты сам не знал, чего тебе ждать — добра или зла, взлета или падения, и все уходило корнями наполовину в реальность, наполовину в сновидение, и это освобождало тебя от необходимости искать причины и следствия происходивших событий, и ты как рождался сонным, так и покидал этот мир, до конца не проснувшись… Так вот, Бекир Али, я рано возненавидел их мир, и с тех самых пор, с самой ранней молодости, я не мечтал ни о чем другом, как только о том, чтобы его разрушить. Сровнять с землей их замки, уничтожить их энтузиазм и их свободу и вместо них возвести наше умиротворяющее царство. Короче говоря, превратить страны, где властвовал крест, в мусульманское пространство. Скажешь, это невозможно? Да, так могло показаться, более того, эта мечта и не родилась бы никогда, если б не конкретный пример. И этим примером, дорогой Бекир Али, была именно Албания.
Он похлопал рукой по миндеру, где они сидели, словно указывая на ту почву, на которой все происходило, и в голове у Бекира Али родилась дурацкая мысль — одна из тех дурацких мыслей, которые настолько нелепы и не к месту, что никто даже не пытается высказать их вслух, — итак, в голове у Бекира Али вертелся вопрос: а была ли та земля, на которой стоит и его дом, Албанией, и можно ли назвать албанскими миндер, на котором они сидели, и ковры, которые он привез из Анатолии?
Гость, похлопывая рукой по возвышению, продолжал:
— Здесь мечта превратилась в реальность… Христианская Албания, крещеная полторы тысячи лет назад, расположенная всего в сотне миль от Ватикана, в окружении гяуров, стала нашей, то есть азиатской. Понимаешь, какое это великое событие, Бекир Али? Это был ясный знак, поданный Аллахом, что исламу открыта дорога для завоевания всего мира… Итак, четыреста лет назад сон стал явью… вот только… вот только… надо, чтоб он не прервался… Понимаешь, что я хочу сказать, Бекир Али? Все дело в том, чтобы это продолжалось, то есть… чтобы Албания оставалась частью Азии… Вот отчего не спится великому султану.
Бекир Али с большим трудом подавил зевок.
— Это трудно, нет сомнений, — продолжал гость. — Вот все мы и ломаем голову, что делать, и письма рекой текут в имперские канцелярии. Настал час испытаний, Бекир Али. Христианская Европа пытается вернуть себе Албанию. Она моя, говорит, отдайте мне ее. Но подлинная проверка начнется тогда, когда отпадет внешняя скорлупа, иначе говоря, когда наша армия и чиновники покинут эту страну. Ты представляешь себе орех, когда расколота скорлупа? Только тогда и видно, что там внутри: здоровое ядро или изъеденная червями сердцевина. Так же обстоит дело и в оккупированной стране после окончания оккупации. Когда скорлупа будет расколота (и не морщись, Бекир Али, наша армия и чиновники скоро покинут эту страну, это ясно как дважды два, но я не стану вдаваться в причины этого), так вот, когда панцирь расколется, мы увидим, чт́о там внутри: мягкая, ставшая азиатской, Албания или другая Албания, чужая и непонятная. Сказать по правде, раньше я верил, что после четырехсот лет нашего господства Албания в конце концов полюбит нас и станет такой, какой мы все хотим ее видеть. Это было бы настоящим чудом. Это ведь и в самом деле чудо, когда страна, на которую ты с таким трудом набросил узду, в конце концов привыкает к своему положению, и когда ты снимаешь узду, она не мчится прочь, а следует за тобой. Вот тогда ты можешь сказать, что победил эту страну. — Он удрученно покачал головой. — Я верил, что именно так и произойдет с Албанией, но, похоже, дела обстоят совсем иначе. После четырех веков совместной жизни албанцы по-прежнему нас не любят, и тебе это известно лучше, чем мне, Бекир Али.
Бекир Али кивнул в знак согласия.
— И все же я верю в осуществление давней мечты, — сказал гость, помешивая угли в жаровне. На его руке, в которой он держал щипцы, вспыхнули отраженным светом камни в перстнях. — Я все еще верю, что Албания станет азиатской, но только при одном условии: что такой ее сделают сами албанцы, без прямого давления с чьей-либо стороны, и уж тем более с нашей. Тебе это кажется странным? Невозможным? Иногда как раз странное и даже невозможное и случается в этом мире.
Он вновь помешал горящие угли, не сводя с них глаз, но их свет был слишком тусклым, чтобы осветить его лицо.
— Суть моего доклада именно в этом: самоазиатизация албанцев. Когда этот процесс начнется, Албания станет настоящей Азией, и первые четыре сотни лет албано-турецких отношений покажутся всего лишь кровавым предисловием к грядущему мирному союзу. Тебе странно это слышать? Ты прав, Бекир Али. Теперь я попробую объяснить все по порядку.
Он долго ворошил угли, и камни, то вспыхивающие, то гаснущие в его перстнях, вызвали у Бекира Али тревожное ощущение грядущего несчастья.
— Один человек может сделать то, что не под силу ни нашей армии, ни муллам, ни визирям, — сказал он после некоторой паузы. — Но при одном условии: этот человек должен быть албанцем, и албанцы должны признать его своим вождем.
Гость снова взял щипцы, но угли мешать не стал, и Бекир Али, сам не зная почему, подумал: "Вот и хорошо".
— Четыреста лет назад один человек нанес нашей империи незаживающую рану. Думаю, ты понимаешь, о ком идет речь, — о проклятом Георге Кастриоти.[3] Уже века прошли, как его нет на этой земле, и неизвестно даже, где его могила, но память о нем живет, а с нею живут и его идеи. Именно этот демон вырвал колесо истории этой страны из благословенной колеи, по которой оно только-только начало свой путь, и направил его в сторону проклятой Европы. Как ты, наверное, знаешь, он и сам превратился из Скандербега в Георгия и объявил себя первым рыцарем христианства.
Эх, вздохнул Бекир Али, у него возникло желание поворошить угли, что он непременно бы и сделал, если бы щипцы не находились в руках гостя.
— Что случилось, то случилось, и не время горевать по этому поводу, — сказал тот. — Пришла пора для другого: нужно, чтобы нашелся человек, вождь, который во всем был бы противоположен Георгу Кастриоти. Чтобы нашелся, так сказать, Антигеорг, или, как говорят гяуры, Антигеоргий.
"Своего рода Антихрист", — мелькнуло в голове у Бекира Али. Он вспомнил, что в каком-то доносе из личного дела поэта Н. Б. он случайно наткнулся на это слово. Глаза гостя были теперь совсем близко, но, к счастью, угли уже почти догорели и не могли их осветить.
— Ходжа вместо князя — вот что нужно этой стране, — продолжал тот. — Когда Азия свернется, сожмется до размеров ядра, так же, как, говорят, циклически сжимается Вселенная, — так вот, когда Азия сожмется, в этой стране она вся сконцентрируется в нем, в его существе. Пусть рухнут наши законы, власть и минареты, достаточно, чтобы они сохранились в мозгу этого человека. Потому что придет день, и, как вновь расширяется сжавшаяся Вселенная, так же развернется и расширится сжавшаяся Азия: цепи, страх, тирания. Не знаю, понял ли ты меня, Бекир Али. В голове одного человека, и нигде больше, мы должны сохранить нашу закваску.
Бекир Али не мог скрыть своего удивления. Он столько лет был правителем краины,[4] знал о многих тайнах и интригах, как и подобает крупному чиновнику на ответственном посту, но о таком и не слыхивал. "В голове одного человека, и нигде больше", — мысленно повторил он.
— Тебе, конечно, интересно, что же это будет за человек, как его узнать. В том-то вся суть, Бекир Али, поэтому я уже много ночей не сплю.
Он долго мешал угли в жаровне. В их слабом отсвете на лице его была видна усталость и какая-то странная усмешка.
— Разумеется, внешность его должна быть ужасной, отвратительной, это понятно, — сказал гость, — но достаточно ли этого?
Он опять надолго задумался, не выпуская из рук щипцов. Покачал головой, словно сам себе возражая, потом кивнул, словно соглашаясь с какими-то своими мыслями.
— Пятьдесят лет назад отшельник Хаджи Халиль Рухолаку, покинув свою пещеру, целых четыре месяца шел в столицу, чтобы нижайше высказать султану свои соображения касательно одной области империи, название которой я не хочу сейчас упоминать. Область эта в те времена стала главной проблемой в государстве. Она уже давно требовала отделения, и эти требования поддерживались некоторыми европейскими странами, расположенными по соседству. Большая имперская политика требовала сохранения мира с этими странами, но, с другой стороны, султану было жаль лишаться этой области, как сейчас ему жаль лишаться Албании. Что же делать? Сомнения мучили его уже давно, пока до столицы не добрался отшельник Хаджи Халиль Рухолаку. Он попросил аудиенции с владыкой и целую неделю ждал у ворот дворца Долма-Бахче, пока его наконец не приняли. То, что он предложил властителю, вначале показалось весьма странным.
Тут гость заговорил тише, потом — каким-то неестественным голосом, а потом опять стал говорить своим голосом и громко, словно такие модуляции помогали ему наилучшим образом передать совет отшельника. Речь шла о вожде, которого следовало поставить во главе движения за независимость упомянутой области. Пока Османское государство управляло этой страной, оно могло сделать так, чтобы во главе восстания оказался нужный человек.
— Тебе может показаться, что сделать это проще простого, и ты совершенно справедливо возразишь, что не было никакой необходимости отшельнику Рухолаку четыре месяца идти по бездорожью, чтобы донести до султана эту нехитрую, почти детскую мысль. И мне так показалось, когда я услышал об этом впервые. Но подожди, Бекир Али. Все не так просто.
И словно рассказывая сказку, гость поведал о совете отшельника, который, к удивлению Бекира Али, был совсем не таким, как он предполагал. Во главе движения за независимость нельзя было ставить человека, преданного Османскому государству, ни в коем случае; настаивал отшельник, потому что человек верный, как бы он ни маскировался, рано или поздно будет раскрыт. Вождем движения нужно было сделать… человека… совсем другого рода…
Бекир Али не верил своим ушам. Будущий вождь должен был быть человеком, которому есть что скрывать. Что-то такое дурное, что очень хочется вырвать из своего прошлого. Скажем, он задушил собственную мать, или у него есть постыдная болезнь, или порок, вроде склонности к противоестественной любви, которая в некоторых странах считается непростительной даже для обычного человека, не говоря уже о вожде.
— Тебе, конечно, сразу пришли на ум секретные досье, которые можно использовать для шантажа? Я уверен, что ты именно об этом подумал, Бекир Али.
Хозяин дома смущенно улыбнулся, словно его уличили в чем-то предосудительном. Он и в самом деле подумал о секретных досье. У него их было одиннадцать, и не только на своих противников, но и на помощников.
— Я ведь сказал, Бекир Али, не спеши. — Гость укоризненно погрозил ему пальцем. — Секретные досье? Ни в коем случае! Только в государствах, еще не вышедших из детского возраста, где у людей ветер гуляет в голове, могут этим заниматься. Заявляются с досье в руках к человеку и тычут ему прямо в физиономию: мы, мол, знаем, что ты брал взятки с кожевенника, или обрюхатил собственную тетку, или плевал в храме, поэтому делай, что мы тебе скажем, иначе горе тебе. — Гость покачал головой. — Нет, Бекир Али, так поступают только в государствах-недоростках. Наша древняя империя никогда не опустится столь низко. Мы даем возможность судьбе и времени действовать самим. Мы только выбираем подходящего человека, а затем отходим в сторону. Как говорится, умываем руки, оставляя человека наедине с собственным демоном… Но вернемся к области, о которой шла речь, и к совету отшельника.
Властитель выслушал совет и отдал приказ действовать точно в соответствии с ним. Нашли человека, у которого был один из упомянутых пороков, и потянули за все возможные ниточки, чтобы именно он стал правителем области. Сказать по правде, у него не было ни малейшего желания быть этим правителем. Может, он стыдился своего давнего порока, кто знает. Тем не менее было сделано все возможное и невозможное, чтобы именно его провозгласили вождем. Так и случилось, и вскоре область в самом деле откололась, но султан, хоть и посетовал, все же был спокоен.
— Дождь снова зарядил, — проговорил гость прежде чем продолжить свое повествование. Теперь он уже явно словно сказку рассказывал, пару раз даже прибегнул к фразам вроде: "И прошло лето, и наступила зима", — напомнившим Бекиру Али сказки его бабушки, когда та баюкала его в детстве.
— И вот вскоре совет мистика Рухолаку принес свои плоды. Отгремели первые празднества и торжества, и молодой вождь впал в черную тоску. Внутреннее беспокойство, связанное с давнишним его грехом, мучило его, не давало житья. Он-то думал, что стер с себя это пятно, но теперь, когда он стал вождем, у него вновь возникло подозрение, что об этом помнят. Червь сомнения грыз его днем и ночью. Сначала он ломал голову, кто мог знать об этом, а кто нет, кто мог бы рассказать другим, а кто промолчит. Ему было невыносимо думать, что по вечерам, собравшись в кругу друзей, люди смеются над ним: "Ах, что за вождь! Видели, как он надувается перед марширующими войсками и стучит кулаком по столу на заседаниях правительства? Знали бы вы, как несколько лет назад… в задней комнате… в таверне некоего…" Ну да ладно, не будем вдаваться в непристойные детали подобных бесед. Для вождя были нестерпимы эти сомнения и мучения. И однажды произошло то, что и должно было произойти: мрачный, бледный, измотанный бессонными ночами правитель решил, что необходимо что-то предпринять. Положить конец пересудам на свой счет. Покарать шептунов. Убить, если потребуется. Убить, — повторил гость. — Сначала тех, кто говорил. Потом тех, кто мог говорить. Потом… тех, кто знал… или мог знать.
Бекир Али с нетерпением ждал, когда же голос гостя снова вызовет в нем то приятное ощущение засыпающего мальчика, слушающего сказку.
— Подозрения все сильнее терзали правителя. И вот он начал наносить удары. Но трудно было выяснить, кто мог знать его тайну, а кто нет. Поэтому он начал уничтожать подозреваемых, не щадя никого, включая всех их родственников. Затем всех их друзей. Дальше — больше. Поначалу для этого нужно было какое-то оправдание. Выдумали то, что всегда выдумывают в таких случаях: антигосударственный заговор. Преступления раскрывались одно за другим. Ведь преступление, как собаку, привлекает запах другого преступления, а за ним — еще одного и еще. Но для того чтобы создать атмосферу преступности и страха, потребовалась соответствующая государственная машина.
Однако, как тебе, вероятно, известно, Бекир Али, Европа не так терпеливо, как мы, относится к подобного рода делам. Они там у себя выдумали всякие страшные слова: «тирания», "диктатура". И боятся их больше чумы. Так что мы знали, что однажды победоносная Европа сурово осудит своего любимчика. А у нас не было никакой необходимости настраивать его против Европы. Он и сам восстал бы против нее.
Гость коротко рассказал о том, как произошло сначала охлаждение, а затем и открытый конфликт вождя с Европой. Потом, как и ожидалось, вождь обратил свой взор в сторону Азии.
— Однажды он должен был к нам вернуться, Бекир Али, как и предвидел святой мистик, да пребудет его душа в мире там, где она сейчас. Должен был вернуться, потому что мы были для него единственной защитой. Наш принцип был простым и ясным: делай что хочешь, раз теперь ты хозяин, ты сам себе голова, но знай, что долго ты так не протянешь. А к нам — добро пожаловать. И он в самом деле вернулся к нам вместе со своей страной, которой правил до конца своих дней.
— Да благословенна будет его душа! — проговорил Бекир Али, вздохнув так осторожно, словно перед ним была свеча, которую он боялся загасить.
— А дождь, смотри-ка, перестал, — задумчиво произнес гость.
Бекир Али, словно человек, которому не терпится почесаться, все ждал момента, когда можно будет завладеть железными щипцами и как следует помешать угли в жаровне, а когда такая возможность представилась, почему-то не стал этого делать. Ему померещилось, что если он возьмет в руки железяку, то совершит что-нибудь непоправимое: вместо того чтобы помешать угли, ударит гостя по лицу — раз, другой, третий. Он мысленно пожаловался Богу, зачем Он посылает ему такие искушения, помолился и глубоко вздохнул.
— Ты, конечно, спросишь, а пристало ли нашему благословенному государству использовать столь низменные, грязные средства, чтобы обеспечить себе верных союзников.
Он посмотрел Бекиру Али прямо в глаза, словно беззвучно повторяя вопрос.
— Э-э, как сказать… по совести говоря… — пробормотал Бекир Али.
— Ты вправе задать такой вопрос. Тут нет ничего предосудительного. Все, кто впервые узнавал об этом, задавали. Ответ, Бекир Али, очень простой: любые средства хороши, если речь идет о нашей победе. Ты меня понимаешь?
Бекир Али кивнул в знак согласия. Щипцы все еще лежали на краю жаровни, но он не осмеливался их взять.
— О-хо-хо, — глубоко вздохнул гость. — Вернемся к разговору об Албании… Что-то подобное приходит мне на ум, когда я размышляю об этой стране. Понимаешь, Бекир Али, если найдется такой же человек, как тот, о котором я тебе рассказывал, Албания будет нашей навсегда. Она полюбит нас даже больше, чем мы сами себя любим. И если мы обеспечим себе несколько таких союзников, создадим что-то вроде оборонительного кольца вокруг ислама, тогда можно будет сказать, что мы выиграли битву с христианством. Вот это и будет основной идеей моего доклада. Надо, чтобы случай с мистиком Рухолаку не остался единичным, чтобы из него выстроилась целая система. Теперь это называют доктриной. Если она будет одобрена монархом, то на вас будет возложена задача — искать и найти такого человека. Может быть, тебе первому удастся его найти, Бекир Али.
Несколько мгновений они неотрывно смотрели друг на друга.
"Найти Антихриста!" — подумал Бекир Али. Он что-то смутно помнил из истории христиан — то, что узнавал из доносов и следственных дел.
Гость долго смотрел в окно, словно пытаясь разглядеть что-то, что должно было появиться, но почему-то не появлялось.
— Кажется, светает, — сказал он.
Бекир Али кивнул.
— Середина октября, а холодно, как зимой.
Гость продолжал вглядываться в еще темные оконные стекла.
— Знаешь, как гяуры называют время, в котором мы живем? — спросил он после долгого молчания. — Двадцатый век…
— Ах да, я слышал от этих местных бездельников, поэтов…
— Двадцатый век… — повторил тот. — Смешно звучит, правда? Вот уже несколько лет, как мы, по их мнению, живем в этом веке… Если не ошибаюсь, восемь лет…
Бекир Али ждал, что тот рассмеется, как раньше, но его лицо только еще больше помрачнело.
— Теперь, когда я излил весь тот яд, что накопился во мне, я чувствую, что смогу заснуть, — сказал он и, нашарив ногой шлепанцы, оперся рукой о спинку миндера, чтобы встать. — Спокойной ночи, Бекир Али.
— Спокойной ночи, радость души моей, — ответил хозяин дома.
Ему показалось, что половицы продолжали скрипеть даже после того, как гость ушел.
Бекир Али снова помолился и впал в оцепенение, стоя у окна — именно в него чуть раньше смотрел, не отрываясь, гость. От стекла веяло ночным холодом. Вдали мерцали бледные огоньки. Это светились окна домов, чьи обитатели отчего-то поднялись сегодня раньше обычного.
Он все припоминал сведения из истории христиан. Приказ царя Ирода найти младенца Иисуса. Появление царей-волхвов. Пилат умывает руки…
Бекир Али в изнеможении закрыл глаза. Если доклад столичного гостя будет одобрен… если слова его не были просто бредом сумасшедшего, как ему найти этого черного ходжу, этого маленького любимца Азии?..
Он плохо помнил, что именно сделал царь Ирод, чтобы отыскать младенца Иисуса. Но он сделает не меньше. Он будет прочесывать село за селом, не успокоится, пока не найдет. Снова откроет папки с делами, с признаниями, вырванными под пыткой. Возможно, ему придется спуститься в тюремную камеру, куда заточили этого поэта… От него он узнает подробности той старой истории, они помогут ему в его деле, и неважно, что Ирод искал Христа, чтобы убить, он-то будет искать Антихриста с прямо противоположной целью — чтобы обрести его…
— А разве это в сущности не одно и то же? — спросил он себя после некоторого замешательства. — Разве это не одно и то же, о Аллах! — повторил он и оперся рукой о подоконник: ему показалось, что он сходит с ума.
Тирана, 15 октября 1987 г.
В.В.Тюхин. От переводчика
Исмаиль Кадарэ всегда пишет о современности, даже если действие его романов происходит в Древнем Египте или Османской империи. Такова и новелла "Прощальный подарок Зла", где речь идет как бы об Османской империи, частью которой Албания была в течение более четырехсот лет.
В произведениях Кадарэ могут происходить самые невероятные вещи — специальные государственные служащие, к примеру, собирают сны обывателей и отсылают их в столицу, особым толкователям, формирующим государственную политику ("Дворец сновидений"), а султан может издать декрет — фирман о борьбе с "дурным глазом", и тотчас по всей стране открываются специальные комитеты по ослеплению заподозренных в «дурноглазии» подданных ("Ослепительный фирман"), причем гуманизм властителя простирается до того, что добровольно сдавшимся предлагается самим выбрать один из пяти способов ослепления. Откровенная сатирическая направленность этих произведений имеет отношение, конечно же, не к давно исчезнувшему государству, а к современной Кадарэ Албании.
Удивительно, но, кажется, никто из критиков не заметил зашифрованного в тексте новеллы "Прощальный подарок Зла" послания читателям. По крайней мере мне неизвестно, чтобы кто-то об этом упоминал.
Еще удивительнее, что этот ребус своевременно не расшифровал вездесущий и всеведущий «Сигурими» — албанский КГБ. Новелла была написана в 1987 году — Энвер Ходжа уже умер, но до крушения коммунистического режима оставалось еще несколько лет. В СССР уже началась горбачевская перестройка, но Берлинская стена еще стояла. В любом случае, Кадарэ сильно рисковал — в те времена за такие интеллектуальные игры можно было серьезно Поплатиться.
Из разбросанных в тексте намеков складывается занятная картина. В начале новеллы мимоходом упоминается, что действие происходит в середине октября. Ближе к концу новеллы открытым текстом говорится, что на дворе 1908 год, канун исторических событий, которые привели к выходу Албании из состава Турецкой империи и обретению независимости. Главный герой новеллы, правитель города, в котором угадывается родной город писателя, Гирокастра, осознает, что целью его жизни становятся поиски Антихриста, который должен вот-вот родиться, чтобы впоследствии стать правителем этой страны. Время переваливает за полночь, и вдали, в каком-то доме, загорается огонь в окне. Какое событие могло так переполошить обитателей этого дома? Что могло заставить их зажечь свет еще до рассвета? Только что-то очень серьезное. Например, смерть кого-то из домочадцев. Или, наоборот, рождение. Может быть, даже рождение ожидаемого Антихриста.
Итак, миновала середина октября, наступил следующий день, 16 октября 1908 года. В Албании, в городе Гирокастра родился Антихрист, который должен стать правителем страны. Албанцам не нужно ничего больше объяснять — любой, кто жил в коммунистической Албании, знал наизусть дату рождения Энвера Ходжи. Это все равно, что у нас в эпоху Андропова написать, что Антихрист родился 22 апреля 1870 года в Симбирске.
И тут сводятся воедино все намеки, разбросанные по тексту новеллы, и выпукло вырисовывается то, что произошло в истории реальной Албании, словно все действительно было заранее срежиссировано каким-то любителем парадоксов: человек с фамилией Ходжа, что по-албански означает "мусульманский священник", становится правителем Албании и провозглашает создание первого в мире атеистического государства, то есть не просто подвергает церковь гонениям, как это было, например, в Советском Союзе, а объявляет вне закона любую религиозную деятельность, запрещает даже обряды, исполняемые частным лицом у себя дома, при закрытых дверях, сажает в тюрьмы и расстреливает как христианских, так и мусульманских священников. Священник становится коммунистическим Антихристом. Вот он, прощальный подарок уходящего в небытие Зла.
За такой, как сейчас принято выражаться, «мессидж» вполне можно было и срок схлопотать. Автору, однако, повезло: текст не попал в руки госбезопасности, а через несколько лет тоталитарная система рухнула, и описанная Кадарэ фантастическая империя стала уплывать в прошлое — туда же, где осталась и реальная Османская империя.
Интервью для читателей "Иностранной Литературы[5]
Исмаиль Кадарэ (р. 1936) — албанский писатель, проживающий в Париже, один из классиков современной мировой литературы, член Французской академии, кавалер ордена Почетного легиона, первый лауреат Международной Букеровской премии (2005). Его романы опубликованы в сорока странах мира.
В конце 1950-х Исмаиль Кадарэ учился в Москве в Литературном институте им. Горького.
Кадарэ мог остаться никому не известным писателем, живущим в маленькой балканской стране, если бы не случай. В Албании его печатали мало, а за границей о нем практически не слышали, если не считать изданного в Советском Союзе сборника стихов в переводе Давида Самойлова. Помогло чудо — после Второй мировой войны в Албанию вернулся Юсуф Вриони, эмигрант, получивший образование во Франции. Он мечтал участвовать в восстановлении своей страны после войны. Коммунистические власти не оценили его патриотического порыва. Вриони сразу бросили в тюрьму как представителя враждебных классов. Там, просто чтобы не сойти с ума, он стал переводить на французский язык роман Кадарэ "Генерал мертвой армии". Очевидно, он попал в приличную тюрьму, где можно было заниматься литературной работой. Если бы он работал в каменоломнях с утра до вечера, возможно, судьба Кадарэ сложилась совсем по-другому. Вриони — уже после того, как вышел из тюрьмы, перевел все произведения Кадарэ, появившиеся на свет до 2001 года, а в 2001 году преданный переводчик скончался.
Перевод первого романа Кадарэ "Генерал мертвой армии" был тайно вывезен во Францию и издан там, затем его издали в Италии, и по его мотивам режиссером Лучано Товоли был снят фильм "Генерал погибшей армии" (1983) с Марчелло Мастроянни и Мишелем Пикколи в главных ролях… Исмаилю Кадарэ была обеспечена своего рода "охранная грамота" — он был практически единственным албанцем, о котором слышали за пределами его страны, если не считать Энвера Ходжу. Ему удалось сначала вывезти нелегально во Францию и другие свои романы, замаскированные под переводы с немецкого, а затем эмигрировать во Францию и самому.
На русском языке помимо сборника стихов в переводе Давида Самойлова (1960) были опубликованы роман "Генерал мертвой армии"[6] (журнал «ИЛ», 1989, № 6; книжное издание — СПб.: Издатель В. Тюхин, 2006), роман "Суровая зима" (М.: Худож. лит., 1992) и несколько рассказов в «ИЛ» (1992, № 8/9 и 1995, № 9). А одно стихотворение Исмаиля Кадарэ было опубликовано на страницах «ИЛ» в 1959 году, когда он был еще студентом Литературного института им. Горького.
В Албании, так же как и в Советском Союзе, книги издавались весьма выборочно. Каким образом вы знакомились с произведениями современных зарубежных писателей, на каких языках? На албанском, русском, французском? Какими еще иностранными языками вы владеете?
Я начал увлекаться литературой в одиннадцатилетнем возрасте. Одной из первых книг, попавших мне в руки, был «Макбет» Шекспира. Не потому, что я понимал: это — великое искусство, а потому, что на первой странице мое внимание привлекли слова «духи» и «колдуньи». Хотя «Макбет» был и трудноват для меня, он настолько мне понравился, что я переписал от руки большой кусок. Так что, практически, «Макбет» — это первая книга, которую я "написал".
Несмотря на существование коммунистической цензуры, книг в Албании было вполне достаточно. Это были издания времен королевства, а также книги, вышедшие позже, во время итальянской и немецкой оккупации. Многое в нашей истории было не совсем так, как это излагалось в коммунистической версии. Например, в период 1939–1943 годов Албания называлась не оккупированной, а объединившейся с Италией. Король Виктор-Эммануил именовался Королем Италии и Албании и Императором Эфиопии. Как видите, у нас было одно государство с Италией и чернокожими эфиопами. В одном из эссе я написал, что в то время первым поэтом Албании — совершенно официально — считался Данте Алигьери! И так оно и было на самом деле.
И немецкая оккупация была совсем не такая, как у вас. Албания официально именовалась союзницей Германии, у нас было свое коллаборационистское правительство и даже регентство — в ожидании возвращения короля.
Я привел эти примеры для того, чтобы показать, что культурная жизнь продолжалась и во время оккупации: выходили газеты, работал театр, издавались книги.
Я читаю по-албански, по-русски, по-французски и по-английски.
В СССР одним из главных источников сведений о состоянии дел в современной мировой литературе был журнал "Иностранная литература", где печатались произведения, которые нельзя было приобрести в книжных магазинах, и даже произведения писателей, именовавшихся «декадентами» и «модернистами». Доводилось ли вам читать этот журнал во время учебы в Москве? Удалось ли найти там что-то интересное для себя как писателя?
С этим журналом я был знаком очень хорошо во время учебы в Москве, да и впоследствии тоже. Как раз в то время, когда я был студентом в Институте Горького, в этом журнале были напечатаны мои стихи. В нем я прочел многие вещи, которые тогда назывались модернистскими. Вспоминаются, к примеру, американские писатели Сэлинджер и Апдайк. И многие другие. Некоторые номера этого журнала у меня и сегодня есть в моей библиотеке в Тиране.
Насколько неожиданной была для вас публикация вашего романа "Генерал мертвой армии" в "Иностранной литературе"? Известно ли вам, с какими трудностями была связана эта публикация, против которой категорически выступали рецензенты из ЦК КПСС, ведь до конца 1980-х публикация ваших книг была запрещена?
Поскольку я очень высоко ценил журнал "Иностранная литература", публикация моего романа "Генерал мертвой армии" доставила мне двойную радость. Во-первых, потому что это был мой первый роман, изданный на русском языке. И во-вторых, потому что это опубликовал журнал, рассчитанный на читателя высокого уровня и всегда славившийся своим либеральным духом.
Я не знал о том, что на роман была отрицательная рецензия из ЦК вашей партии. Если бы знал, то, могу сказать совершенно искренне, почувствовал бы еще большую радость. Если коммунистический ЦК выступает против какого-то писателя, этот писатель должен радоваться. Против меня выступали два Центральных Комитета. Один в моей собственной стране, самый опасный для меня, поскольку был албанским и сталинистским. Другой — ваш, не игравший в моей жизни никакой роли, поскольку был менее сталинистским и находился за границей.
Вы упомянули о том, что мои книги были запрещены у вас. В этой связи не могу не вспомнить, что мы, писатели бывшего Восточного блока, учились по запрещенным книгам. Сначала это были книги западных авторов, тех, кого называли "буржуазными декадентами". Потом книги наших старых отечественных писателей, считавшиеся вредными. Затем дошла очередь и до нас. У меня было четыре или пять таких запрещенных книг. И тем не менее я всегда помнил, что Россия — это страна, где издали мою первую переведенную книгу, еще в 1960 году. Честное слово, даже не верится, что меня издали в Москве раньше, чем в Париже, где первая моя книга вышла десятью годами позднее, в 1970-м.
Как вы отнеслись к тому, что журнальный перевод, опубликованный в "Иностранной литературе", был сделан с одной из ранних редакций романа? Не повлияло ли это на восприятие русскоязычных читателей?
Такое произошло со многими переводами. Думаю, это не драматично. Сам я по натуре перфекционист. Этим и объясняется то, что чуть ли не все вещи я много раз правил. До издания в 1970 году в Париже у романа "Генерал мертвой армии" было два-три опубликованных варианта. Громкий успех во Франции и во всей Европе не помешал мне однажды взять роман в руки, чтобы внести в него финальные улучшения. Когда моя жена увидела, чем я занят, она сказала мне: "Ты или неисправимый самонадеянный тип, или маньяк". Тем не менее внесенную правку одобрили все мои издатели. Окончательные редакции всех моих произведений опубликованы в 12-томном собрании, изданном в Париже французским издателем на двух языках — французском и албанском.
В России изданы два ваших романа — "Генерал мертвой армии" и "Суровая зима". Как вы считаете, насколько правильным был выбор издателей и переводчиков? Какие еще романы вы бы хотели увидеть изданными на русском языке?
Мне трудно ответить на этот вопрос. Возможно, другие книги могли бы понравиться больше, к примеру, "Кто привел Дорунтину", "Дворец сновидений" или «Преемник». Но — вам виднее.
Книга "Суровая зима", помимо того, что перевод сделан с подцензурного издания, то есть самого плохого, могла показаться «антисоветской» и создать проблемы. Она ни в коей мере такой не является, просто эта книга направлена против коммунистической империи, центром которой была Россия. Албания, моя собственная страна, тоже была частью этой империи, более того, можно сказать, что это был самый темный ее угол. Глобальная картина этой империи дана в мрачных тонах, описана преступная атмосфера, полная шекспировских страстей.
Ко мне вообще часто применяли определение «анти». Роман "Генерал мертвой армии" сочли «антиитальянским». Из-за "Концерта в конце зимы" я заработал эпитет «антикитайского» писателя. «Антитурецкими» считают многие мои книги, и, естественно, многие считаются «антиюгославскими», понятно почему. Но чаще всего мои противники называли меня «антиалбанским» писателем! Забавно, не правда ли?
Как известно, многие ваши романы переведены на английский язык не напрямую с албанского, а с французских переводов. Насколько такой двойной перевод соответствует оригиналу? Как бы вы отнеслись к тому, что ваши романы переводили бы на языки республик бывшего СССР (например, на украинский, казахский и т. д.) не с албанского языка, а с русского?
У меня было много переводчиков на английский язык, семь или восемь. Половина из них переводила с албанского, половина с французского. Естественно, перевод с языка-посредника приводит к потерям. Албанский язык, как вам прекрасно известно, сильно структурирован и очень сложен; со множеством латинских и других заимствований, вплоть до кельтских. Это его особенность. Пользоваться им непросто, но для литературы это хорошо. Я думаю, что сложный и богатый язык сам по себе поднимает уровень литературы.
Что касается перевода на языки бывших советских республик с русского, я считаю это вполне возможным. Русским языком традиционно широко пользовались в этих странах, и сам по себе он, благодаря своему богатству и силе, без сомнения может служить средством передачи всего, что связано с искусством слова.
А вы сами занимались когда-нибудь переводом? Если да, то доводилось ли вам переводить с русского языка?
Да, переводил, но редко, для собственного удовольствия. Я упомянул бы «Орестею» Эсхила (третий или четвертый перевод этой вещи на албанский язык). Мой перевод был экспериментальным, я как бы заключил с самим собой пари: сохранить максимальную верность оригиналу — это касается как содержания, так и формы, и даже сохранить ту дымку загадочности, которая часто встречается в греческой трагедии. Как раз ее-то переводчикам обычно не удается передать, а мне нравятся таинственные вещи. Из французской литературы я перевел "Пьяный корабль" Рембо, а из русской поэзии «Осень» и отрывки из "Евгения Онегина" Пушкина. Кроме того, когда я был студентом, перевел "Облако в штанах" Маяковского. Так же как и при переводе «Орестеи», при переводе этой поэмы я поставил перед собой цель — во что бы то ни стало сохранить ритм и музыку оригинала. Мне хотелось бы привести первые строчки моего перевода:
I merrni pêrçart fjalët е mia? Kjo ndodhi, Ndodhi n'Odesë. Do vij më katër, tha Maria…Вам нравится давать в своих произведениях новые трактовки мифов, как это, к примеру, сделано в вашей единственной драме "Скучное время года на Олимпе"? Не могли бы вы что-нибудь рассказать об этом?
Когда занимаешься литературой с подросткового возраста, у тебя возникают довольно странные идеи, из тех, что называют «сумасшедшими». Я уже рассказывал о «Макбете», теперь расскажу кое-что о "Гамлете".
Привлеченный все тем же словом «призрак», я взял его из библиотеки моего дяди, чтобы прочесть, но к концу первого акта я сильно рассердился на Шекспира, поскольку мне показалось, что принц Гамлет насмехается над тенью своего отца. И тут мне пришло в голову, что я должен исправить трагедию, переписав "все эти насмешки". Мой дядя, застав меня за этим занятием, надрал мне уши и сказал: мало того, что ты идиот, ты мне еще и книгу испортил. Это меня, однако, не остановило. Очень расстроенный коварным захватом Трои, я мечтал написать произведение, в котором Троя не пала бы, то есть чтобы троянцы не затаскивали внутрь этого деревянного коня. Я думаю, миллионы подростков испытывали похожее сожаление по поводу Трои. Но у меня это не осталось только подростковой мечтой. В 1965 году я написал роман «Чудовище», в котором речь идет именно об этом. Роман был запрещен, поскольку его объявили авангардистским и декадентским. Драма, которую вы упомянули, связана как раз с мечтой моей юности: воссоздать забытую греческую трагедию. Удалось мне это сделать только десять лет назад, то есть далеко уже не в юности. К «Прометею» Эсхила, который является средней частью утраченной трилогии, я дописал первую и третью части… Немного сумасшедшая затея, не правда ли? Тем не менее драму поставили во Франции, в Албании и, возможно, скоро поставят и в Греции.
В качестве последнего вопроса: что бы вы хотели сказать читателю "Иностранной литературы"?
Что касается российских читателей, то я считаю их одними из самых лучших в мире. Для меня как для писателя все люди — моей страны и других стран — не только люди, но одновременно и читатели. Среди своих читателей мы, писатели, словно в своем собственном королевстве.
Я надеюсь, что мои книги найдут понимание у российского читателя. И напоследок мне хотелось бы, чтобы вы сопроводили это интервью коротеньким рассказиком, написанным мной в 1985 году. Рассказ называется "Смерть русской женщины".[7] В нем есть многое из того, о чем я только что рассказал.
Смерть русской женщины
Нина Ф. Москвичка. Вышла замуж в 1959 году за албанского студента. После слов «люблю» были прогулки по парку Горького, звонки из засыпанных снегом телефонных будок, всхлипы "ты меня не забудешь" и т. д. и т. д., и так до: "Гражданка Нина Ф. берет в мужья А. Д.". Затем подписи, обмен кольцами, отъезд и медовый месяц в Албании.
Теперь она лежит в гробу посреди комнаты городской квартиры, за тысячи километров от своей родины. Уже многие годы она не получала писем от родных (письма доходили редко после разрыва отношений, а в последние годы — вообще как обрезало). Она не знала точно, кто умер, а кто жив из ее семьи, так же как и они наверняка не знали, жива ли она, и вряд ли когда-нибудь узнают год ее смерти.
Вокруг гроба толпятся женщины и плачут на чужом языке. Это сестры студента, уже старухи. Из-за повязанного ей на голову цветастого платка она еще больше похожа на русскую, и от этого еще печальнее кажутся причитания на чужом языке.
Редкую женщину оплакивают ее свояченицы с таким надрывом. Это то, о чем не говорят вслух, это и так понятно. Понятна и причина: в первую очередь они оплакивают ее одиночество. И, конечно, свое собственное тоже.
Справа от гроба, за спиной у женщин, книжная полка. Среди корешков выделяются книги о разрыве отношений с Советским Союзом, в основном политические труды вождя страны. Между ними и телом лежащей в гробу — всхлипы женщин.
Приближается время погребения. В квартире происходит оживленное движение, приносят крышку гроба, с грохотом забивают в нее гвозди. Чуть погодя автобусы с печальными людьми отъезжают в сторону западного городского кладбища.
День сырой, дождливый. Но никто не отходит раньше времени от ямы. Одна женщина, член руководства местного отделения Фронта,[8] произносит совсем короткую речь, в которой говорит, что Нина Ф. была хорошей матерью и женой и сознательной работницей и что в своей работе она всегда руководствовалась уроками Партии и ее вождя.
Ни слова о ее национальности, которая была причиной самого большого одиночества, какое только можно себе представить.
Прощай, Нина!
Это единственные нормальные слова, которые произносит активистка Фронта.
Более нормальным, чем эти слова, кажется стук комьев глины и камешков, падающих на гроб, это универсальный язык, более понятный, чем человеческий, несмотря на то, что могила эта вырыта не в бескрайней русской земле, а в скупой албанской почве, где и для своих-то могил едва хватает места.
Декабрь, 1985
Примечания
1
Небольшое возвышение вдоль стены, на котором сидят по-турецки. (Здесь и далее — прим. перев.)
(обратно)2
Низкий стол.
(обратно)3
Георг Кастриоти, более известный как Скандербег (1405–1468), — руководитель освободительной борьбы албанского народа против османских завоевателей, национальный герой.
(обратно)4
Административная единица Албании.
(обратно)5
Запись беседы, вступление и перевод с албанского В. Тюхина
(обратно)6
В журнале роман напечатан под названием "Генерал армии мертвых". (Здесь и далее — прим. перев.)
(обратно)7
Рассказ написан в 1985 году, когда Албания находилась еще под властью коммунистической диктатуры. Рассказ вместе с другими рукописями автора был нелегально вывезен во Францию. Он был опубликован через некоторое время после падения коммунизма в сборнике "Кража царского сна" в Албании и других странах. Рассказ посвящается памяти несчастных русских женщин, вышедших замуж за албанских студентов, судьба которых после разрыва отношений между двумя странами сложилась драматически. Некоторым удалось вернуться на родину, а из тех, кто остался в Албании, часть была брошена в тюрьмы как «агенты» России, а остальные одна за другой постепенно уходили из жизни, так и не увидев своих родственников.
Некоторое время назад в публичном интервью И. Кадарэ предложил, чтобы албанское государство принесло официальные извинения России за судьбу этих несчастных русских женщин и другим бывшим социалистическим странам, у женщин которых была такая же судьба.
(обратно)8
Имеется в виду Демократический фронт Албании, позднее Национально-освободительный фронт — массовая политическая организация. Осуществляла свою деятельность под руководством Албанской партии труда.
(обратно)
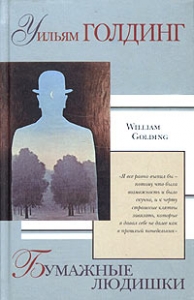
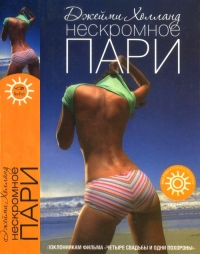


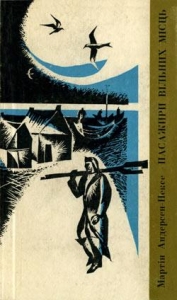



Комментарии к книге «Прощальный подарок зла», Исмаил Кадаре
Всего 0 комментариев