Записки Балабола
Предисловие
Подражать К. С. Льюису, а тем более продолжать его гениальные «Письма Баламута», наставления опытного беса молодому искусителю — крайне рискованное предприятие, а говоря попросту, дерзость. Можно ли что-то сказать в оправдание этого труда? Наверное, только одно. Читая и перечитывая книгу Льюиса, я то и дело говорил сам себе: «Как верно! Только если прилагать это к современной России, можно было бы добавить еще это, и это, и это…» В конце концов, у меня созрела решимость так и сделать, и после долгих сомнений, совещаний и попросту молитв я раскрыл свой ноутбук и набрал заголовок: «Записки Балабола».
И вместе с тем совершенно не обязательно читать Льюиса, чтобы понять эту книгу — в ней всё, как я надеюсь, понятно само по себе. Да и прямые ссылки на «Баламута» будут встречаться нечасто.
Книга писалась легко и трудно одновременно. С точки зрения формы легко было идти уже проторенным путем, а с точки зрения содержания — высмеивать чужие или даже свои собственные дурные стороны бывает приятно, хотя и довольно опасно. Попытаться увидеть человека глазами беса нетрудно; смотреть на него глазами ангела было бы куда важнее, но такая задача мне явно не по силам. И почему-то сопротивление материала здесь я чувствовал куда больше, чем с другими своими произведениями.
Читателя я хочу предупредить только об одном — это именно бесовский взгляд, лишенный не только любви, но и элементарной справедливости. Не принимайте его ни за истину, ни за точку зрения автора. Даже на своих коллег-бесов Балабол смотрит с безмерной вышины своего «я» — что же удивляться, что он почти не видит человеческих добродетелей? Люди в его изображении — карикатура. Но и карикатура может пойти нам впрок, если не путать ее с фотографией. Так что все совпадения с реально существующими людьми здесь случайны, все совпадения с нашими жизненными ситуациями — закономерны.
1
Хорошо вчера посидели. Старины Баламута хватило надолго. Еще бы, такой опыт! Такая длинная история! Аромат стольких душ, тонкое послевкусие стольких грехов впитались в него за долгие века его служения на земле… Да, Баламут, в тебе было, что посмаковать. Даже отрыжка после тебя какая-то особая, не то, что после мелкого искусителя, не справившегося со своим заданием.
Как его, кстати, звали? Кажется, Гнусик? Ну, Баламут, вышел ты простаком, почище своего племянника. Кстати, уж не от Гнусика ли был тот привкус, который так удивил нас, едва мы приступили к трапезе? Такой резкий, немного неприятный… но очень интересный… Нет, я долго теперь не забуду вчерашний пир. Редко достается полакомиться бесом такого ранга, как Баламут. И чувство голода притупляет надолго. Нет, все же вредно так объедаться, ведь это голод подгоняет нас в наших неустанных поисках нового, в нашем стремлении к конечной, низшей цели.
«Принеси пищу или сам стань ей!» Точное изложение адского принципа жизни. Не то, что это слюнявое, невнятное, бормотучее «возлюби ближнего», которым пичкает двуногих безволосых наш Враг вот уже две тысячи лет. Впрочем, и того больше, если считать от Моисея, который, как говорят, впервые произнес подобную глупость, навернувшись с какой-то горы в Синайской пустыне. Верно, голову ему напекло. Куда этому жалкому бреду до нашего вечного закона: пожирай слабого! Это как раз в природе вещей, в отличие от унылой невнятицы Врага.
Голод, вечный голод, здоровый, побуждающий к действию голод — на нем зиждется ад. Но иногда, конечно, можно и даже нужно немного расслабится. Как мы вчера с Балмутом… Жаль, что он так быстро ушел.
Да, Баламут-Баламут… Ты тоже, старина, не иначе как расслабился, когда твоя переписка с племянником стала известна там, на земле. Или это Гнусик подгадил тебе напоследок, прямо перед тем, как попасть в твои объятия? Ведь его-то письма там, на земле, никому так и не стали известны. Только твоя часть переписки. Здесь, в аду, доподлинно не известно, как попала она в руки того англичанина, чье имя даже не хочется произносить. И какое-то время, даже надо сказать, довольно долгое время, наши контролирующие органы относились к этому снисходительно.
Нет, нет, я никоим образом не выступаю против наших контролирующих органов! Они мудры, бдительны и мы горячо и единодушно поддерживаем и одобряем проводимый ими курс! И если эти записки попадут им в руки, я уверен, мне не придется перед ними краснеть. Я всецело придерживаюсь генеральной линии нашего нижайшего отца! Слава аду!
Так вот, наши хитрейшие и злобнейшие органы долгое время относились к утечке информации достаточно снисходительно. Ну что, казалось бы, такого? Частная переписка двух демонов. Наставления старшего товарища юному и неопытному искусителю. Пусть они и не увенчались успехом, но провал Гнусика списали на его собственную небрежность и неисполнительность, а сам Гнусик был немедленно съеден, о чем и был составлен соответствующий акт. Нет, в провале Гнусика Баламута нечего было винить.
Но переписка! Кто мог подумать, что она разойдется такими тиражами? Будет переведена на столько языков? С какой наглостью Враг ухватился за эту утечку, чтобы позволить безволосым двуногим, состоящим из плоти и крови, насмехаться над нами, сугубо духовными существами! Одних этих нестерпимых насмешек было достаточно для суровой расправы над Баламутом.
Однако дело ими не ограничилось. Все чаще и чаще провалившиеся искусители хватались на разборах, как за последнюю соломинку, именно за эту книгу. Перед тем, как отправиться на стол, они пытались оправдаться не писаниной древних воинов Врага (кто ее теперь читает, эту нудятину!) и не новейшими брошюрками их последователей (что они там понаплели, и сам наш отец не всегда разберет), а именно этой книгой, которая нагло и откровенно выдавала методику нашей работы. «Мой подопечный, — говорили они, — совсем уж было попался на мой крючок, но вспомнил о Баламуте, рассмеялся, и пошел себе дальше. Он понял суть наших приемов! Его предупредили! Так нечестно!»
Конечно, эти отговорки не спасали их от справедливого возмездия. Тут я еще раз должен возблагодарить наши контролирующие органы за их неумолимую справедливость. Слава нашему отцу, в аду каждый получает по своим заслугам! Нам чужда бесхребетность и мягкотелость Врага, который ищет любой повод, чтобы только оправдать Своих последователей, а иной раз сам создает такой повод. Но наша неуклонная справедливость выше жалости!
И когда наш методический отдел подсчитал глобальный ущерб от публикации той отвратительной книжонки под названием «Письма Баламута», стала очевидной неизбежность большого банкета. Баламут, разумеется, пытался привести в действие рычаги влияния, но дело зашло слишком далеко. К тому же, признаться, перспектива участия в банкете привлекала всех его коллег. И вот, наконец, тост был поднят над самим Баламутом… Эх, хорошо посидели!
А в конце банкета начальник методического отдела, ее непотребство госпожа Подзуда поздравила меня с новым назначением. Признаться, оно не было полной неожиданностью. Слишком разболтались наши сотрудники в одном из важнейших управлений, которое по старинке называется у нас «б. СССР». По-видимому, сотрудники так расстарались привить своим подопечным пристрастие к нелепым аббревиатурам и несуразным названиям, что в конце концов привили его и себе. Итак, я, выдающийся специалист в области методики искушений, звезда преисподней Балабол, отправлен в это управление в качестве методинструктора. Да, засиделся я на кабинетной должности! Чертовски хочется поработать, поруководить на местах, поучить подрастающее поколение искусителей. Главное, не брать на себя ответственности за конкретные души. Тогда все удачи могут быть приписаны изяществу моих методик, а все провалы — их неумелому применению.
Завтра отправляюсь на новое место работы. Полагаю, что эти записи помогут мне сохранить на будущее ценную информацию и позволят обкатать некоторые идеи, прежде, чем они будут предложены вниманию моих новых подчиненных. Заодно попрактикуюсь и в русском языке. Язык, именно язык — мой главный рабочий инструмент! Прошли те времена, когда можно было так многого добиться простыми действиями. Теперь эти действия нужно еще и назвать соответственным образом… Но об этом потом, на работе.
Ведь сегодня, слава аду, мне предоставлен отгул для переваривания нашего бывшего коллеги Баламута. А хорошо все-таки посидели, что ни говори.
2
Сегодня… Кстати, я долго думал, как помечать эти записки. Разумеется, земная хронология в аду не действует, да и не пристало нам отсчитывать года от того нелепого случая, когда Враг пожелал притвориться человеком (признаться, до сих пор не понимаю, как Он мог решиться на такую глупость). К тому же, как оказалось, верную дату Его человеческого рождения (фу, как некрасиво!) эти никчемные людишки так и не смогли установить. А может быть, и вовсе никогда Он не становился двуногим… Впрочем, нет, это версия для внешнего использования, самим нам приходится принимать этот нелепый факт как свершившийся.
Говорят, там, в стане Врага, над временем проводятся опасные опыты. Якобы, стирается граница между настоящим и вечностью, происшедшее однажды происходит всегда, а бывшее вдруг становится как будто и не бывшим. Чего еще ждать от Врага, Который то и дело нарушает законы природы — законы, которые Он сам, по Его хвастливому утверждению, и установил? Нечестная игра, да и только.
Но мы прочно укоренены во времени. Мы сами строим свою вечность, и я твердо уверен, что вечность в конце концов будет нашей. Непозволительно, чтобы вечность сама, без должного контроля, прорывалась в настоящее. Совершенно недопустимо разрывать причинно-следственные связи, нарушать главный для нас закон возмездия или объявлять бывшее небывшим. Хронология у нас своя, принципиально отличная от земной, и соблюдается она строго. Но эти записи я буду просто нумеровать — русский язык, на котором я решился вести их, пока что не всегда может адекватно передать реалии ада. Вот, кстати, еще одно поле для работы. Как раз по моему профилю.
Итак, сегодня я знакомился с новыми подопечными (впрочем, сам я называл их коллегами, пусть пока думают, что они мне ровня… Мне, величайшему специалисту в области фундаментального лжеведения и прикладного словоблудия!). Оказалось, что все-таки «б. СССР» переименовали в «СНГ». Прибалтийские искусители подняли вой под лозунгом «Мы маленький, но независимый отдел», их пришлось присоединить к европейскому управлению. Удивительно, как много иной раз бесы набираются повадок от своих подопечных!
Эсенгешное — или говорить по старинке, советское? — управление, конечно, весьма интересно и по-своему перспективно, но в последнее время персонал наш подразболтался. В свое время именно в этом регионе были совершены поистине революционные прорывы, здесь впервые было применено современное оружие массового совращения. Это здесь были созданы особые, я бы сказал тепличные условия: первая в мире страна победившего атеизма (французский опыт был слишком кратким, чтобы говорить о нем всерьез), невиданное со времен седой древности идолопоклонство и, главное, атмосфера липкого страха и подлости, по которой наш брат скользил как по маслу, ароматному, вкусному, пьянящему маслу человеческого ужаса. Это отсюда поставляли к адовым столам полные бочки отборнейшего предательства — особенно запомнился мне урожай тех лет, которые там, на земле, называли тридцатыми!
Но не обошлось и без головокружения от успехов. Наши сотрудники настолько привыкли к атмосфере всеобщего страха и доносительства, что моментально пасовали не только перед случаями явного мученичества, но и перед простым проявлением порядочности. И, что поразительно, какая-нибудь миска лагерной баланды, которой отъявленный стукач и мерзавец чуть ли не в последний день своей жизни поделился с другим доходягой, вдруг перевешивала годы его упорного продвижения к дому отца нашего и вырывала его из наших пылких объятий буквально на пороге преисподней! Чудовищная несправедливость, которую еще тогда надо было отметить и заклеймить, как нечестную игру Врага. Увлечение количественными показателями, не иначе, помешало нам это сделать.
А эти христиане? Да, девять из десяти, если не девяносто девять из ста легко и просто отказывались от своей веры, позволяли нам всласть глумиться над святынями или даже сами принимали в том активное участие. В те времена сводки, приходившие из этого управления, гремели победными фанфарами. Но через некоторое время тревогу подняли сотрудники религиозного отдела: они утверждали, что едва они вплотную подошли к превращению российской церкви в государственное ведомство, как вдруг поспешное и топорное введение атеизма сорвало их тщательно продуманную операцию. Да, в краткосрочной перспективе, соглашались они, атеизм играет нам на руку, и чем грубее и примитивнее этот атеизм, тем ароматнее наша награда — настойка кощунства и богохульства (как расточительно мы расходовали ее в те годы!). Но в дальней перспективе, отмечали они, государственный атеизм ставил под угрозу стратегический план нижайшего командования по окончательному обмирщению Церкви. И ссылались при этом на историю Древнего Рима.
И в самом деле, тщательный анализ показал, что большинство из отрекшихся от Врага на самом деле отреклись от глупой карикатуры, подсунутой им нашим религиозным отделом. И некоторые из них, страшно сказать, впоследствии… А уж те, кто не отреклись!
Вспоминается мне один эпизод. В те веселые годы советское управление пригласило нас, методистов, на показательное выступление младшего бесовского состава. Оно проходило на Колыме, в лагере особого режима… Да, давно нас так никто не принимал — угощений было хоть отбавляй! Чуть ли не каждый обитатель этого место прямо-таки сочился или страхом, или ненавистью, или коктейлем из одного и другого. Да, чуть ли не каждый… чуть ли… Голод, унижения, побои и атмосфера всеобщего ужаса сами приносили обильную жатву, и мне даже показалось, что искусителям, собственно говоря, нечего делать в этом лагере. Люди сами делали всю их работу.
Мы посетили карцер, насладились сценой неправедного суда, полюбовались убийствами беззащитных. Мы чувствовали себя в полном смысле слова как дома. Под конец нам решили продемонстрировать, так сказать, повседневную работу. Плюгавенький бесенок мановением хвостика спровоцировал драку в бараке — да такую, какой в нормальных условиях мог бы погордиться даже я! Два уголовника стали избивать молоденького паренька, который не хотел отдавать им какую-то жалкую фуфайку, наивно называя ее своей. Мы настолько расслабились, что даже не обратили внимания на всполохи света, возникавшие в густой, осязаемой тьме барака. Видимо, кто-то здесь еще не разучился молиться. Как вдруг…
Свет вспыхнул ярким, огненным столбом — и бесенок отлетел в сторону. Какой-то старик — или он только казался стариком? — неуклюже спрыгнул с нар и схватил за руку одного из уголовников. «Прекратите, сказал он, — прекратите ради…» Ну, не могу же я повторить, ради Кого он призывал их прекратить драку! Кажется, и в тот момент не все из наших осознали, с каким оружием им приходится иметь дело. Они ждали, что уголовники легко вернут ситуацию под их контроль.
Да, потом, кое-кого, конечно, немного порезали… но это уже не имело никакого значения. Точнее, имело, но не в нашу пользу. А тогда мы увидели еще одну вспышка света, и еще, и еще… Барак озарился этим страшным сиянием смелости и доброты, мне стало трудно дышать, и только сознание профессионального долга заставило меня остаться на посту. Не то, что эта мелкота, которая бежала при первых трудностях. Я постарался выправить ситуацию. Я привлек внимание надзирателей, я подсказал этим двоим, какой может быть их смерть… Но они, они, эти полумертвые комки исстрадавшейся плоти — преодолели страх! Они даже преодолели свою ненависть, здоровую, бодрую ненависть к врагу, и в карцере старик стал молиться за обид…
Да, не стоит увлекаться такими воспоминаниями. Особенно когда я еще не окончательно переварил моего нежнейшего и изысканнейшего друга Баламута. Одна только несвоевременная мысль заставила меня прервать записи. Потребовалось время, чтобы придти в себя, вернуть себе привычный облик и способность мыслить трезво. Все же в отношении некоторых приемов Врага мы пока еще не располагаем эффективными противолекарствиями, и это крайне досадно. Нет, не будем думать об этих… Не будем, я сказал!!!
Вернемся лучше к последнему отчетному периоду, начиная с девяностых годов двадцатого века. Тогда, конечно, крупного прорыва в этом регионе добился комитет лихоимства и корыстолюбия, именуемый на современный лад экономическим. Но и тут все оказалось не так просто. Местные деятели вновь понадеялись, что можно будет ограничиться макроуровнем: создать подходящие условия в масштабах всего региона, а потом тихонько пожинать свою жатву. Нет, они, конечно, многого добились, и урожай был отменный, но до масштаба тридцатых им было ой как далеко. Созданная ими система «мори голодного до смерти, корми сытого до тошноты» была хороша, что говорить, но и она начала потихоньку сбоить. Сытые, конечно, не отказывались от угощения, но и они все чаще стали испытывать некоторую неловкость, а то и вовсе кидать кусок голодным…
Так что без индивидуальной работы тут никак не обойтись, дорогие товарищи. Тут вам не российский автопром, тут не годятся устаревшие технологии и халтурная работа! Подход к людям нужно иметь, смотреть на вещи шире, быть гибче… Так я им и сказал. Все-то придется им объяснять, всему-то учить.
Что же, пора проводить методсовещания и выездные семинары по отраслевым секторам. Начну, пожалуй, с религиозного.
А все-таки не идет из головы тот старик. Проглядели мы великого воина Врага. Он не прожил тогда и полгода на земле, никто там теперь не знает его имени, но все-таки, как мы его проглядели…
3
Сегодня посетил это их эсенгешное болото. Ну, разумеется, накрытый стол, напыщенные речи… Винцо у них подавали, правда, так себе — нашу любимую настойку на фарисеях. Конечно, нет такого роскошного букета, как у европейских сортов, но зато крепка, ничего не скажешь… покрепче наших. В общем, голод утолить никогда не мешает. Но если это у них праздничные блюда, то да… Да, многому еще предстоит их научить! После доброго глотка этого их пойла, я прямо так им и сказал.
И тут же предложил совершить прогулку, так сказать, по территории. Зачем далеко ходить, сказал я, давайте заглянем хотя бы в вагон московского метро… Скажете, там нет ничего для нас интересного? О нет, из всего надо учиться извлекать пользу.
Мы перенеслись в вагон столичной подземки, и я начал инструктировать своих подопечных, как много могут нам дать повседневные бытовые ситуации. Даже не обязательно провоцировать ссоры, драки, карманные кражи… Вот стоит старушка, и никто ей не уступает место. Мелочь? Да, мелочь, но пусть она станет началом чего-то большего. Внушите бабушке, как распустилась современная молодежь, сплошные секс да наркотики, ничего святого. И виноват в этом кто угодно, только не она сама, всю жизнь предпочитавшая воспевать великие стройки коммунизма, а не воспитывать собственных детей.
А вот сидит напротив нее молодая дама и читает… ого! Как же вы говорите, что ничего святого? Как раз о божественном и читает. Да так читает, что ничего вокруг себя не замечает, разве что толкнет ее случайно эта старушка, прошипит негодующе «Госсссподи!» (приятно все же, когда с такой злобой упоминают имя Врага), и дамочка пусть с негодованием отвернется от богохульницы, пусть даже лучше промолчит, не уронит своего тщательно лелеемого достоинства, отпустит про себя пару анафем в адрес бабки, но место уступить и не подумает.
А кто это там, справа? А, бизнесмен средней руки, машина в ремонте… Замечательно! Вот-вот, бабушка, кто жирует на твои сбережения советской поры. Вот-вот, дамочка, кто распродает Русь Святую оптом и в розницу, кто готовит пришествие мирового правительства, как и предсказано. А ты, бизнесмен, тоже вокруг оглянись. На бабку эту стервозную, на девицу полоумную с книжкой дурацкой в руках. Видишь, среди какого дикого народа жить тебе приходится? Нет, никогда и ничего в этой стране не будет, так что рви отсюда когти, а не можешь — так по крайней мере наслаждайся сегодняшним днем…
А что это там за мамаша с маленьким шалуном? Замечательная мамаша. Сидит и трясется, не бомба ли вон у того дядьки кавказского вида в его большом бауле. И как это только кавказцев пускают в наш город? Куда милиция смотрит? Пересажать их всех! Все они террористы и убийцы, все торгуют наркотиками! Подвинься ко мне, мой маленький, мужчина, вы что, не видите, вы ребенку мешаете, и ничего он вас не пачкает своими ботинками, понаехали мне тут! Вот какая славная мамочка, она и не догадывается, что сама работает на террористов, и даже прямиком на нас, распространяя вокруг себя запах страха, подозрительности и злобы.
А ты, гордый гость с Кавказа, видишь, как к тебе тут относятся? Да разве может нормальная женщина говорить такое мужчине? Она вообще вставать должна при твоем появлении! Все они тут девицы легкого поведения, так что правильно ты позавчера с той обошелся, они только того и заслуживают… Тут ведь деньги на дороге валяются, только подбирай, не ценят они их, и себя не уважают. Так что давай, греби рубли, срывай цветы удовольствия, вера твоя далеко, она дома, здесь тебя никто не видит.
О, какая нищенка живописная по вагону пошла! «Извините граждане, что мы к вам обращаемся…» О-па, что это у нее из кармана выпало? Комок смятых купюр, тыщ этак на… Ну вот и отлично! Это же на операцию… Ага, знаем мы эти операции! Вот и объединим всех пассажиров в ненависти к этим шаромыжникам, все они за легкими деньгами гоняются, даже старики и инвалиды, все они одна мафия, гнать таких в шею!
А, дамочка наша с книжечкой божественной подала-таки… Ну ничего, зато как подала! Скривившись от презрения, бросила рублик в ладонь, так, чтобы не коснуться случайно, ведь заразная наверняка. Подала, потому что она праведница, не то, что эти грешники неприкаянные, она и явной пропойце подаст, чтобы на том свете зачлось. Копеечками от нас отделаться думает — вот и славненько, вот и пусть себе в это верит. А бабка пусть на нее пошипит немножко, у бабки-то пенсия кот наплакал, а она побираться не ходит, она гордая.
Видите, какой веселый вагон метро получается? А вы говорите. А что это за рекламка висит на стенках? Обои рекламируют? А почему девочка голенькая нарисована? Не просто так, дорогие мои, и не для подростковых фантазий только предназначено. Пусть народ привыкает: красивое женское тело — товар, как и обои, только раскупается лучше. А выводы правильные народ сам сделает.
И вот еще чудненькое объявленьице — новый блокбастер о борьбе сил света с силами тьмы. Правильно, правильно, лучший способ бороться с тьмой — на широком экране, долби сарраунд, попкорн в руках, добро всегда побеждает. Вы не видели этот блокбастер? Я тоже еще нет. Но, судя по всему, силы добра и силы зла там различаются, как черные и белые фигуры на шахматной доске — чисто условно. Цель одна, правила игры одни, так что разницы на самом деле никакой. Добро должно стать таким же, как и зло, чтобы его победить. А еще лучше — должно быть тщательно охраняемое равновесие добра и зла. Светлые смотрят, чтобы темные не пакостили сверх отведенных квот, темные — чтобы светлые не слишком благодетельствовали. Все при деле, все на своих местах, а главное — добро договаривается со злом. Публично, на экранах, чтобы все видели. Эх, нам бы и в самом деле такое не помешало… но ботве человеческой скормим и это. А потом, когда окажутся у нас, пусть попробуют с нами договориться.
Видите, как много может дать простая толпа в вагоне метро? А вы говорите… Только… Что это было? Опять эти вспышки света? Кто-то улыбнулся кому-то незнакомому? Кто-то сказал доброе слово? Кто-то начал тихо и просто повторять про себя молитву? Да, мы слишком отвлеклись на плакаты, в нашем деле нельзя расслабляться. И запах, что это за запах…
Ну что же, коллеги, я думаю, я показал вам достаточно. Не пора ли вернуться к нашему пиршеству? Да нет, как вы могли подумать, я не бегу с поля боя, да за такие слова я тебе ща!
Только потом я вспомнил, что это был за запах. Так пах тот старик, в бараке. Но он-то здесь причем? Он давно сгнил в общей могиле, его имени никто не знает на земле… Странно.
4
Ну а теперь, пожалуй, можно разобраться и с этим их хваленым новшеством — теологической комиссией. Не такое уж, впрочем, это и новшество, чтобы так с ним носиться — подобные комиссии были у нас в ходу первые несколько столетий (по земной хронологии) после того Происшествия с Крестом. Вечно это советское управление изобретает велосипед!
Признаться, это возмутительное Происшествие и в самом деле заставило наших разжиревших теоретиков побегать. Как водится, тут были нужны два объяснения — одна версия для руководства, а другая для внешнего мира, излагающая полуправду-полуложь в наиболее выгодном для нас свете. Младший бесовский состав, к которому я тогда принадлежал, должен был, как обычно, получить сплав одного и другого, а пропорции зависели от степени допуска. Ну, разумеется, внешняя версия постоянно модифицируется в соответствии с духом времени, чтобы человек, оттолкнув вчерашнюю ложь, немедленно оказался в объятиях лжи сегодняшней, а то бы и встал в ряды созидателей лжи завтрашней, еще более изощренной и действенной.
Так вот, в те времена я был всего лишь подающим надежды молодым искусителем. Моя несомненная гениальность еще не была распознана нашим прозорливейшим начальством (признаться, оно и до сих пор, хм…), так что на доступ к внутренней версии я рассчитывать никак не мог. Помню, сколько бессонных ночей (ну, впрочем, мы и так никогда не спим) провел я в темницах у изголовья приговоренных христиан или на загородных виллах, где между пятой и шестой переменами блюд решалась их судьба. Я пытался понять, что в поднятых снизу инструкциях отражало подлинную точку зрения низов, а что было частью пропагандистской кампании.
Разумеется, версия самих христиан с этим бредом про любовь, самопожертвование и искупление грехов отметалась сразу. Но что, что на самом деле?
Только несколько веков спустя я узнал, что внутренняя версия укладывается всего в одно слово: «неизвестно». Нашим теоретикам так и не удалось пока найти подходящее объяснение тому, что произошло на Кресте — объяснение разумное и не умаляющее достоинства духовных существ. Разумеется, они все ближе к разгадке, и когда она будет найдена, наша конечная победа будет уже не за горами.
А пока что двуногим надо было срочно что-то скармливать. Тут-то и пришлось создать особый теологический отдел при ставке нижайшего командования. И они поработали на славу, выпустив в свет множество версий для внешнего употребления! Нет ничего страшного, чтобы наши подопечные приучались говорить о Враге как можно чаще. Главное, чтобы при этом они с Ним не встретились. А так — пожалуйста. Ведь многие утонченные блюда, вроде злобных святош в собственном соку, и не приготовишь без подливы из пустой болтовни о Враге!
В одной версии Враг просто притворялся человеком, дурачил Своих апостолов, словно какая-нибудь Афина — Одиссея, а потом, претерпев мнимую смерть, удалялся в свои холодные заоблачные выси. В другой — ненавистное земное имя Врага объявлялось одним из тысяч и тысяч имен каких-то сущностей и личностей, в разветвленной иерархии которых мой дедушка ногу сломит. Все эти построения были настолько занимательны и интересны, они настолько соответствовали человеческим ожиданиям, что можно лишь удивляться, как недолго удавалось им продержаться. В конечном счете восторжествовал этот христианский бред про любовь и жертву. Даже мелкие ехидные вопросы (если Враг Сам принес Себя в жертву, то кому же, как не нашему нижайшему отцу?) едва ли могли вызвать что-то большее, чем кривые ухмылки. От дальнейших тонкостей нашей теологии двуногие просто отмахивались, тупые и неблагодарные существа!
Нет, конечно, определенных успехов теологической комиссии удалось добиться, особенно после того, как к ее работе был привлечен такой ценный кадр, как я. Спор вспыхивал за спором, и если нам редко удавалось вызвать такой настоящий, сочный раскол (в западноевропейском управлении нам пришлось ждать до самой Реформации), то, по крайней мере, споры годились в качестве дымовой завесы для ненависти и братоубийства. Например, мы тогда так и не смогли отучить христиан хранить у себя эти мерзкие изображения Врага и его великих воинов, но сколько энергии пришлось им потратить на истребление и оплевывание друг друга!
Впрочем, затем теологический отдел как-то расслабился. Наверное, потому, что я перешел на другую работу… Нечасто нашим врагословам удавалось выпустить в свет какую-нибудь изящную разработку. Зато, скажем прямо, удалось заставить работать на нас саму христианскую теологию, точнее — набор словесных формулировок, за которые двуногие готовы были мучить и истреблять друг друга. Приятно вдыхать запах человека, живьем зажаренного на костре, что ни говори. Но такой пикничок превращается в подлинное пиршество, если ревностного последователя Врага жгут такие же ревностные (по крайней мере, с виду) его почитатели, причем жгут, думая угодить Врагу! Любуясь таким шашлычком, невольно видишь Его вновь пригвожденным и осмеянным… Какое наслаждение! Главное, не вспоминать о том, что случилось потом. Не вспоминать!
Впрочем, я увлекся. Не стоит расписывать, как от теологического отдела отпочковался атеистический, и как впоследствии он был разделен на оккультный и пофигистский. Сначала людям внушали, что Врага изобрели жадные попы и злобные эксплуататоры, а когда вера в эту нелепицу стала уделом лишь самых примитивных двуногих, были задействованы две основных стратегии. Взыскующих духовности мы заводили в дикие джунгли шаманизма и новоизобретенных псевдовосточных учений (тут, кстати, пригодились и старые разработки теологического отдела). А тупой массе мы старательно внушали, что вопрос о существовании и природе Врага не идет ни в какое сравнение с вопросом, какое пиво пить и какой телесериал смотреть сегодня вечером.
Что, ну что нового могли они изобрести в этом своем управлении по СНГ? Не представляю. Думаю, обычное фанфаронство: мол, в области искушений они опять впереди планеты всей, и у них свой, особый путь… Нет, голубчики, куда же вам без мирового опыта, наработанного вашими западными коллегами!
Придется и это им объяснить. Завтра. Напомнить для начала статистику крещений и восстановленных храмов… Впрочем… Нет, такая цифирь хороша, когда нужно припугнуть младший бесовский состав. На серьезном собрании меня могут поднять на смех.
Ведь даже младшие бесенята отлично понимают, что сама по себе цифирь мертва. Очень и очень многие верные последователи нашего нижайшего отца находят особый шик в том, чтобы заглянуть иной раз в церковь и заручится благословением свыше. Да и у нас во все времена считалось высшим классом сопровождать клиента от колыбели до могилы под трезвон колоколов и напыщенные речи о высоком. Нередко добыча срывалась, но каковы на вкус святоши, хорошенько промариновавшиеся в собственной духовности без доступа свежего воздуха! Ммм… Инквизиторы, кстати, тоже бывали хороши, но все же несколько островаты, постоянно питаться такой пищей невозможно. Да и где их теперь возьмешь?
Надо будет им завтра об этом напомнить.
5
Итак, я, в соответствии с заранее принятым решением, почтил своим присутствием религиозный отдел эсенгешного управления. К моему приходу, разумеется, подготовились заранее. Что ж, к показухе нам не привыкать. Демонстрировали всякие сатанистские обряды — скукотища смертная. Детишки играются в чертиков. Приятная щекотка, не более. Им еще расти и расти до сознательного, деятельного и пламенного поклонения нашему нижайшему отцу, а пока пусть лепят куличики в своей песочнице. Я даже не стал досматривать.
Потом были показательные выступления духов, работающих в связке со всевозможными медиумами и колдунами. Это уже было посерьезнее, хотя, конечно, халтурно работают товарищи, без огонька. Вот и принимают их то и дело за банальные галлюцинации, и поделом. Да ведь и так бывало, что искуситель, слишком увлекшись всеми этими побрякушками, на мгновение приоткрывал свое истинное лицо и показывался подопечному… Так и начался путь нескольких великих воинов Врага. Нет, негоже этим двуногим слишком уж приближаться к нам до срока, не нужно им заглядывать в духовный мир. Будет время — мы им покажемся, а пока что пусть лучше довольствуются материей.
Ну, а потом они-таки представили мне свое любимое детище — теологическую комиссию. Сначала выступил ее секретарь, тщедушный бес по имени Буквогрыз. Подозреваю, что вся затея возникла только потому, что он увиливает от конкретной искусительной работы. Не всем по плечу быть руководящей и направляющей силой, между прочим! В занудной речи Буквогрыз обрисовал то, что у них тут называется концепцией.
— В России, — начал он, — стандартные западные методы не всегда работают. Сплав мистицизма и пофигизма, предложенный уважаемыми западными коллегами (тут он отвесил в мою сторону прямо-таки издевательский поклон) не охватывают всей российской аудитории, а главное, они мало подходят для работы среди наших главных подопечных — христиан. Мелочные грешники, нехотя бредущие в ад по трясине глупой лжи и никчемного воровства — ни Врагу свечка, ни нам кочерга, с ними и возиться не интересно. Они сами делают за нас нашу работу. Но вот ревностные христиане…
Да, тут он прав! Всякий, кто хоть раз лакомился фанатиком-кровопийцей, вовек не забудет манящего вкуса! Только в наши дни они в основном водятся на Ближнем Востоке, а тамошние бесы слишком неохотно делятся лакомствами с западными коллегами.
— Мы, — продолжил Буквогрыз, — хотим найти подходящую замену фанатикам былых времен. Я называю этот вид «виртуальными инквизиторами». Да, наши дни невозможны Варфоломеевские ночи, но зато мысли и слова распространяются со скоростью света, а для нас такая среда питательна, как бульон для бактерий. Тут даже не нужно изобретать новых религий (ну да, как же, подумал я, это вам просто не под силу), тут достаточно правильно подать старые. Как известно, знание — сила, а полузнание — страшная сила.
Мы заставим их отстаивать чистоту и правильность своей веры — так, чтобы было как можно больше чистоты и правильности, и как можно меньше самой веры, а главное — ни капли любви. Пусть они не ищут защиты у Врага, но защищают Самого Врага от конкурентов, яростно и слепо отстаивая свое собственное понимание Врага и Его Церкви. С каждой словесной баталией, неважно, выигранной или проигранной, их человеческое представление о Враге будет все площе и примитивнее, оно будет все надежнее вытеснять из их душ подлинный образ Врага.
Пусть они настаивают на безукоризненном исполнении избранных правил, путая средство с целью, чтобы все силы и время у них уходили на строительство стены, отгораживающей их от внешнего мира, чтобы некогда было им взглянуть на свой внутренний мир. Пусть они жадно впиваются в несколько строк библейского текста и забывают не только об остальных страницах Книги Врага, но и о Том, к Кому могла бы привести их эта Книга.
Пусть, например, они возьмут на вооружение слова Врага о том, что спасение (так они называют попытку ускользнуть от оплаты справедливого счета) человек приобретает только через веру. Тогда они легко смогут убедить себя, что вера в данном случае значит «наше собственное вероисповедание, как оно изложено в книгах и одобрено соответствующими инстанциями». Теперь вместо живой веры им нужна мертвая догматическая схема, и братоубийственная война за нее становится священным долгом. Кто сказал, что такое было возможно лишь в средневековье? Если они и не возьмут в руки меч, то только по своей хилости, да еще из уважения к уголовному кодексу. А в мыслях и чувствах, не скованных никакими внешними рамками, и мечи засверкают, и костры заполыхают. Собственно, чего нам еще тогда желать?
Или пусть они, наоборот, твердо запомнят, что «Враг есть любовь» и заставят себя и других забыть, что это лишь одно из имен Врага. Тогда они уговорят себя, а может быть, и других, что «Враг есть любовь и только любовь», и что Он никогда не называет себя Царем или Судией, а если и называл в прошлом, то очень давно и в переносном смысле. А раз так, то нет заповедей и не будет суда, а есть лишь переливчатое море собственных эмоций, которое так легко отождествить с любовью. И если кто-то им возразит, пусть они ответят со всей принципиальностью и прямотой, что только их прочтение Книги Врага истинно: «Бог есть любовь, а если вы с этим не согласны, то вы фарисеи, законники и просто сволочи! Я сказал!»
Главное что? Главное, пусть не позволяют ни себе, ни другим с детской открытостью выходить навстречу Врагу. Слишком велики шансы, что он примет их наивность за праведность, как уже случилось однажды с одним арамейским бродягой и с тех пор повторяется без конца. Возмутительная неразборчивость со стороны Врага! И пусть они непрестанно лелеют чувство собственного превосходства и исключительности, то самое здоровое чувство, которое побудило в свое время нашего нижайшего отца восстать против унизительного подчинения Врагу. Ничего, что при этом они будут поминутно поминать Врага, ведь Он будет для них только средством и объектом, а не целью.
У христиан заведена отвратительная мода говорить о себе: «я великий грешник». На самом деле сама человеческая природа восстает против таких слов, и мы легко можем помочь нашим подопечным избавиться от дискомфорта. Достаточно перевести разговор с «я» на «мы»: я-то сам, конечно, грешник, но зато мы — единственно правильная церковь, мы — народ-врагоносец, мы — жертвы всемирного заговора. И вот уже оправданы любые гадости и глупости по отношению к тем, кто «не мы», ведь это же не для себя, смиренного и грешного, а для святых и несчастных «нас».
— Здесь не нужно, — отметил Буквогрыз, — стремиться заполучить высокие кафедры или талантливых проповедников. Пресса, а в особенности интернет сделают так, что слышны будут самые громкие голоса, а вовсе не самые убедительные.
На этом Буквогрыз закончил свою напыщенную речь. Неплохо, неплохо, хотя несколько банально, надо признаться. Остается только возглавить процесс. Жаль, что такое не пришло в голову мне самому! А впрочем, если посудить трезво, так ничего нового. Больше дела, меньше болтовни!
В ответной речи я расставил некоторые акценты и подчеркнул важность определенных аспектов данной проблемы с точки зрения общей динамики процесса. Главное, сказал я, никогда не позволять называть вещи своими именами, пусть мелочная придирчивость и занудство станут принципиальностью, грубое невежество — апостольской простотой, а страстная привычка к командирской позе — заботой о чистоте Церкви. Тогда есть будущее у вашей комиссии, сказал я. Кроме того, отметил я, христиан в мире не так уж и много — пусть мы традиционно уделяем им особое внимание, но не скажется ли это на нашей работе с другими людьми?
Буквогрыз ответил, что не питает иллюзий, будто ему удастся втянуть эту компанию в новые религиозные войны. Но можно отравить христианскую проповедь, чтобы перед остальным миром они выглядели банкой с пауками, а их учение — набором схоластических формул и придирчивых правил, к которым разумный человек просто не может относиться всерьез. Да и христиане настолько втянутся во взаимную грызню, что им будет уже не до Врага.
Теория, конечно, дело хорошее, но все же я решил положить конец этой болтовне и попросил привести примеры конкретной работы по прочистке христианских мозгов. Наши подопечные могут позволить себе мыслить таким категориями, как нация, конфессия, государство, но мы-то не можем забывать, что нацией сыт не будешь — питаемся мы конкретными человеческими душами, и только они нас в конечном счете и интересуют. Без них — голод, реальный, беспощадный, неутолимый голод ада. Если мы приобретем в свое полное распоряжение весь мир, а ни одной души не получим — что нам в том пользы? Да, именно так я и сказал, показав им, что и изречения Врага можно присваивать и использовать в идеологической борьбе. Так что извольте подниматься из теоретических глубин на грешную землю, сказал я, и показать, с кем и как работаете.
О, как они тут забегали! Конечно, примеры были у них заготовлены. Как всегда, показуха — выбирают образцовые случаи и выдают их за массовое производство. Сначала мне представили молоденькую сатанистку, которая якобы рьяно поклонялась нашему нижайшему отцу и активно втягивала в этот культ своих подружек и ухажеров. Знаем мы этот неофитский пыл, слишком хорошо знаем по опыту работы с поклонниками Врага. Когда придет реальный выбор, еще неизвестно, решится ли увешанная побрякушками цаца бросить на наш алтарь самое дорогое, переступить через друга, пролить невинную кровь… Внешнее, все это внешнее. Легкая закуска, не более.
Вторым номером шла террористка, напичканная исламскими лозунгами в нашей интерпретации. Комиссия ставила себе в заслугу, что из всей исламской теологии она твердо усвоила лишь слово «джихад» и понимала его как убийство неверных в сочетании с самоубийством. Тезис очень хорош, что и говорить, но каково оно будет, когда дело дойдет до практики? Не струсит ли, не разжалобиться ли при виде сопливого младенчика? А если и не струсит… Что и говорить, к нашему столу она подаст себя сама, горяченькой и нашинкованной. Но жизни остальных людей, которых она унесет с собой, особого интереса для нас не представляют. Как говаривал старина Баламут, мы и так знали, что рано или поздно они умрут, для нас важно лишь — в каком состоянии застигнет их смерть. К тому же подобные взрывы слишком сильно встряхивают наших подопечных, слишком широко разносят губительные для нашего дела семена сострадания и памяти о собственном смертном часе. Нет, конечно, без урожая тут тоже не обходится — сгодится нам и липкий страх за свою ничтожную шкурку, и горячая ненависть к этим, которые «понаехали тут», и которых нужно всех до одного если не перестрелять, то по крайней мере депортировать в наручниках… Но даже и не знаешь, что тут перевесит. Так что в конечном счете такие дамочки нам — не помощники.
И, в конце концов, так ли уж велика тут заслуга теологической комиссии? Таких дамочек скорее надо записать на счет военного искусуправления, которое обучает своих подопечных бессмысленной жестокости как раз в родных краях террористок.
Третьим шел очередной чудак, изобретатель мировой религии, которая должна слить воедино (слить в канализацию, добавил бы я) все ныне существующие. Эти болваны надеялись, что пестуя его, смогут получить если не новую религию, то по крайней мере парочку хорошеньких сект, со всеми вытекающими отсюда прелестями. Конечно, не раз бывало такое в истории, но этот хлюпик… Самое большее, на что он способен — забивать головы манной кашей, которая образовалась в его собственной голове от недостатка вкуса, избытка фантазий и неразборчивого чтения «духовной литературы».
И только четвертый чего-то стоил. Это был талантливый проповедник, молодой священник. Буквально каждая его проповедь была посвящена по сути своей не Врагу, а нам, причем нам он приписывал такие подвиги, о которых можно только мечтать. Чуть ли не каждое событие в окружающем мире он, не задумываясь, представлял своим прихожанам как еще один шаг к нашей конечной победе, и довольно успешно вытеснял в их сердцах смутную симпатию ко Врагу явственным ужасом перед нами. Ну, такого учить — только портить. Тут комиссии делать нечего.
Так что я приказал им обратить внимание на рядовую христианскую душу в нехристианском окружении и как раз на ней продемонстрировать свои хваленые идеи. Тут, разумеется, я оказывался в выигрышном положении: кота в мешке не подсунут, я смогу продемонстрировать свое мастерство, а если нас ждет провал… Ну что же, значит, приставленный к ней искуситель не справился со своей задачей, только и всего.
И тут я как раз вспомнил про ту дамочку с книжкой из метро. А почему бы нам вот хотя бы с ней не поработать? В самом деле, отличная идея! Назавтра ее искусительнице велено представить комиссии положение дел. Кстати, такая молоденькая чертовка с изящной линией копыт… Посмотрим, посмотрим…
6
Ах, как волновалась наша чертовочка при виде столь низкого начальства! Ну конечно, прежде ей, вероятно, не доверяли ничего ниже бытового пьянства и усушки-утруски, а тут такое дело. Впрочем, обстановку она доложила четко.
— Моя подопечная молода, работает она в офисе торговой фирмы — начала чертовка, — замужем, но без детей. Пару лет назад она крестилась в православной Церкви (по гримасе чертовки я увидел, что положенное в таких случаях отрицательное стимулирование ее не миновало) и решила жить духовной жизнью. Понакупила разных брошюрок — ну, тут я помогла ей сделать выбор, — понавесила бумажных иконок, и пошло-поехало, — захихикала чертовка — Мне удалось добиться того, что христианство ее ограничивается церковными службами (ну, тут приходится немного потерпеть), углом с иконами да книжными полками.
С мужем у нее отношения портятся с каждым днем — он для нее становится досадной помехой в духовной жизни. Взаимопонимания у них нет уже давно. Она яростно попыталась обратить его в свою веру, а когда не удалось, то заняла позу мученицы. Соответственно, ему была отведена роль льва, который тиранит ее и хочет смотреть футбол, а то и вовсе берется пылесосить основательно загаженный пол, как раз когда ей пора читать акафист. Да и друзей и подруг она распугала почти всех. Правда, парочку ей удалось затащить в церковь, и уж не знаю, как там у них пошло, но остальные надежно убедились, что там, где из нормальной в общем-то девчонки сделали такую зануду и истеричку, им явно не место. Но она продолжает мучить их своими проповедями и духовными советами, которые они выслушивают разве что из вежливости.
Соответственно, она потихонечку умерщвляет плоть, тот есть прежде всего плоть мужа — своей отвратительной готовкой (но зато по всем правилам постных уставов), а равно и своим отношением к сексу как к чему-то крайне постыдному и извинительному только потому, что детей иначе не сделаешь. Детей у них, кстати, пока нет, а жаль — ух, как бы она их у меня повоспитывала! Клали бы они у меня поклончики за разбитые чашки, стояли бы на горохе за пропущенные молитвы! Но врачи говорят, что-то пока не в порядке. Подозреваю, что не обошлось без руки Врага.
Повезло ей и с духовником — это молоденький священник, который очень нравится ей как мужчина, только я ни в коем случае не позволяю ей самой себе в этом признаться. Он неустанно разжигает в ней огонь религиозной ревности, то есть ненависти ко всему, что не совпадает с его представлениями о религии. Своих же взглядов у нашей девушки давно уже нет, по крайней мере, она так считает. Их заменило учение Церкви, а точнее — те немногие и порой превратно понятые крохи, которые нашла она в своих брошюрах и наставлениях духовника, а еще точнее — ее собственное, довольно примитивное и слишком эмоциональное, понимание этих крох. Так что, — уверенно закончила чертовка, — я надеюсь, что не за горами тот день, когда я выращу из нее первоклассную ханжу.
Прямо идеальный материал для эксперимента! Я еще раз обратил внимание собравшихся на поразительную проницательность моего тычка рогом. Затем мы договорились о режиме работы. Чертовка (кстати, ее зовут Притворялой) будет периодически докладывать о ходе работ на комиссии, где ей будут предлагаться конкретные рекомендации. А за мной остается общее руководство процессом.
Впрочем, прежде всего нам надлежало познакомиться и с ее мужем. Оказалось, его бесенок-искуситель тоже болтался неподалеку, на всякий случай. Вызвали и его.
— Зато вот мой подопечный, ее муж, — самоуверенно начал бесенок, — совершенно не интересуется религией! Отличное сочетание, правда? Особенно после того, как жена ударилась в это мракобесие, как он, отчасти справедливо, называет ее состояние. И этот нам льстит, заметьте! Нет, конечно, он человек широких взглядов. Он интересуется многим, от агни-йоги до исихазма, но вся духовность человечества представляется ему громадным супермаркетом, в котором он выбирает себе приглянувшиеся коробочки с разных полок. Ни системы, ни последовательности в его увлечениях нет и быть не может. Главное, он боится ответить самому себе на вопрос, во что он верит и что на самом деле думает, потому что всякий честный ответ заставит его принять на себя ответственность, а это именно то, чего он не захочет ни за какие коврижки.
Ему гораздо приятнее смаковать свои тонкие переживания и ежедневно увлекаться новыми игрушками, которыми можно так изящно блеснуть в узком кругу ценителей, непринужденно потешаясь над ограниченностью ортодоксов, вроде его жены. Разумеется, и у него есть свои идеалы, которым он никогда не изменит — темное пиво, любимая компьютерная игра и любимый форум в интернете. Наконец, девицы с роскошными ногами и бюстом, по сравнению с которыми его собственная жена — уродина. И он, конечно, тешит себя мыслью, что это не пиво, игры и эротические фото владеют его мыслями и чувствами, а, наоборот, он с их помощью отрывается от серой и занудной действительности.
Словом, атеистом мы его не сделаем, да и не надо. Но пофигистом нам его сделать уже удалось. Разумеется, он начинает тихо ненавидеть все, что связано с религиозными убеждениями его супруги, а к духовнику ее потихоньку ревнует, хотя и не хочет себе в этом признаваться. На этом фоне, конечно, очень нетрудно подловить его на искушениях плоти, и хотя он за последние три года ни разу не изменил ей в постели с другой женщиной, если не считать того случая в командировке, которого он сам стыдится. Но в мыслях и чувствах он уже давно не ощущает себя ее супругом, и тут, я думаю, будет самое время подкинуть ему какую-нибудь смазливую мордашку с широкими взглядами и выскодуховными вопросами, чтобы агни-йогой им заниматься вместе.
— Это было бы слишком простым решением, — тут я уже не выдержал и вмешался, — к тому же факт измены может показаться ему слишком неприглядным, ведь эта досадная черта под названием «совесть» в нем вовсе не атрофирована, несмотря на все твои потуги. Гораздо интереснее заставить его хранить внешнюю верность, но так, чтобы он возненавидел и супругу, и цепи, которыми он как высокоморальный человек сковывает себя ради нее. К тому же половая неудовлетворенность служит отличным фоном для куда более тонких искушений.
Что же касается его пофигизма, тут ты прав, и об этом здесь уже говорилось. Это раньше мы доказывали превосходство материализма над религией, а потом — превосходство оккультизма над христианством. Но сейчас новая эта! Суть в том, чтобы человек сказал: сегодня утром я верю в то, во что мне хочется верить сегодня утром, а во что я верил вчера вечером, не имеет решительно никакого значения. Люди, впрочем, всегда так поступали, но сегодня нам удалось отучить — а точнее, отвлечь! — их от дискомфорта, который они при этом испытывали.
Кстати, ты, кажется, упомянул, что он приобрел зависимость от интернета и компьютерных игр? Это вообще ресурс, который мы слишком часто недооцениваем! Пусть он уходит в дебри виртуального мира и погружается в них по самые уши. Пусть он начинает тихо злиться, когда что-то вытаскивает его с мир реальный. Пусть он как можно дольше сидит на форумах и чатах, лучше всего ему подкинуть что-нибудь религиозное, чтобы там в компании таких же безразличных друг другу масок он оттачивал свое остроумие и пренебрежение к реальным людям, прежде всего к своей жене. Да-да, какой-нибудь круг, где обсуждаются теологические вопросы! Пусть он попроповедует там то, что никогда не осуществляет в реальной жизни, пусть всласть покрутится перед зеркалом! Ну, и добрая доля эротики на десерт, чтобы и эта сторона его жизни стала как можно более виртуальной.
— А что вы порекомендуете мне? — подобострастно пролепетала чертовка.
— В общем и целом, девочка, ты действуешь верно, — ответил я, — но ни в коем случае не стоит недооценивать опасность ее принадлежности к Церкви. Самых тупых и несносных своих адептов Враг все-таки подпитывает через эту Свою организацию способом, который нам пока не удалось досконально установить. Иногда диву даешься, глядя, как какая-то восторженная дурочка, посещая собрание напыщенных скряг и высокопарных истеричек, под мерное журчание примитивных песнопений потихоньку сползает к самой настоящей святости, и никакие наши ухищрения не могут этого остановить. Тебе придется играть на грани фола. Но тем выше может быть приз. Знаешь что… Давай-ка пригласим искусителя ее духовника. Да, вот именно, будем тянуть за эту ниточку!
Но этого искусителя на месте не оказалось. Придется подождать до завтра. На ковер его, на ковер, голубчика! Ох, чувствую я, там будет, где порезвиться.
7
Надо сказать, встреча с искусителем духовника той дамочки меня несколько разочаровала. Но это только сначала. Признаться, я уже рисовал себе приятные картины, хорошо знакомые по опыту многолетней работы со служителями культа. Перед глазами проплывали характерные типажи, прямо парами, так сказать — единство противоположностей. Может быть, он мрачный средневековый изувер, а может — элегантный светский господин, по недоразумению одетый в рясу. Может, диктатор, который с наслаждением ломает психику своих прихожан, а может — потатчик, который гладит по головке и утешает, утешает, утешает без меры, привязывая несчастненьких к своей ласке, как к наркотику. Может, хрупкий аутист, который запирается в своем алтаре как в последнем неприступном убежище, и лепечет слабым голосом дежурные проповеди, мечтая, чтобы народ от него поскорее разбежался. А может, кипучий общественный деятель, громогласный оратор, которому и помолиться-то некогда между крестным ходом, митингом и совещанием… С такими и работать особо не приходится, там все по накатанному идет.
Но случай оказался менее стандартным. Приставленный к нему бес выглядел куда более солидно, видно, что не новичок. И отчет стал давать толково:
— Мой клиент — существо довольно упрямое и непредсказуемое, но, к сожалению, верующее. Я, кстати, давно просил, чтобы мне выдавали дополнительную порцию энергетической подпитки, за вредность — знаете, все время около храма, сил никаких не хватает…
— Ну вот, — оборвал я его, — еще ничего не рассказал, а уже попрошайничать. В цыганский табор сослать тебя, что ли, если в церкви утомился?
— Виноват, — потупился бес, — я высоко ценю оказанное мне доверие, но вы все-таки возьмите на заметку, господин Балабол.
— Взял уже, — сухо отрезал я, — и спуску не дам.
— Ну значит вот что, — бес сник и перешел-таки к делу, — в служителях культа он уже около пяти лет, рукоположен сразу после семинарии. Разумеется, стандартная методика искушений была к нему применена в полном объеме. О выдающейся аскезе речь там не идет, но и втянуть его в болото примитивных плотских искушений тоже не удалось. Насчет гордости успехи тоже не очень большие, боюсь, что личная самооценка у него слишком трезвая. Кое-что удалось сделать в отношении гнева и самомнения. Но и тут было больше человеческой слабости, нежели осознанной злой воли.
— Сами по себе, — напомнил я, — эти человеческие слабости не особо ценны для нас, но они — отличная питательная среда для серьезных грехов. Но мне приятно видеть, что ты смотрел на вещи реалистично и не надеялся в полгода сделать его пьяницей или блудником, как многие начинающие искусители. Надеюсь, ты приберег его для более утонченных искушений?
— Разумеется, ваше непотребство, — бес явно знал этикет, — к тому же приходилось постоянно учитывать наличие таких досадных факторов, как искренняя молитва и регулярное участие в таинствах Врага. Знаете, бывают такие моменты, когда самый лучший искуситель ни на что не годен. Не все от нас зависит.
— Но это обстоятельство, — строго напомнил я, — не избавляет тебя от положенного отрицательного стимулирования за неудачи в искусительной работе, не так ли?
Бес скривился, но мужественно продолжил:
— Тогда я перешел, как вы изволили выразиться, к более уточненным искушениям, а именно, к фантазиям. Если уж не удалось увести его из храма, я решил до отказа заполнить храмовое пространство выдумками — его собственными, моими, чьими-то еще, да любыми, какие только найдутся. Главное, чтобы он и сам не жил в реальном мире, и прихожанам своим не давал. Я постарался погрузить его в XIX век. История России в XX веке представлялась ему сплошной ошибкой, и не оспаривая его оценок, я подкинул простенькую идейку: надо просто перемотать пленку назад и вернуться в золотое время, хотя бы в одном, отдельно взятом приходе! А что исторические события связаны друг с другом точно так же, как двадцатый номер следует за девятнадцатым — от этой мысли я его тщательно оберегал.
Его христианство стало потихоньку обретать вид костюмированного бала в этнографическом музее — стилизованные одежды, нарочитые интерьеры, обветшалые слова, и все это никак не связано с жизнью, текущей за стенами добровольной резервации. Словно он и его прихожане, а главное — прихожанки (кроме тех, кто разбежался) устремились не в царство Врага, а в некое тридевятое царство-государство из сказочного мира. Град Китеж, художественно выражаясь.
— Ты думаешь, — прервал я его, — что удастся удержать его в этом надолго? Что он не начнет со временем относиться к этому маскараду как к чему-то совершенно внешнему? И тогда что нам пользы — один обставляет квартиру в стиле хай-тек, другой в псевдорусском, и только-то.
— Разумеется, — подхватил бес, — он не настолько глуп, чтобы застрять во всей этой фольклористике. Тем более, что ему пришлось бы решить для себя, в какой именно век возвращаться — а тут уж на каждом повороте его что-нибудь, да отрезвило бы. Девятнадцатый век или шестнадцатый равно не похожи на царство Врага, хотя каждый из них не похож по-своему. Но в него прочно запало нечто куда более существенное: привычка выбирать из всего многообразия этого мира нечто созвучное его настроениям и объявлять это высшей ценностью. А все, что не похоже на это — от нас, родимых.
К тому же он очень увлечен своей властью «вязать и решить». Я, конечно, постарался, чтобы он понимал ее в основном как «связать да и порешить» всякого, кто ему не по нраву, и тут, признаюсь честно, его природные склонности сыграли мне на руку. Конечно, конечно, мне удалось спрятать эту властность за скромностью поведения, тихим голосом. Он не посылает отбивать поклоны, а вкрадчиво советует: «ну, тут бы десять поклончиков очень хорошо» — но таким голосом, с таким настроением, которые не подразумевают отказа. А если кто не хочет слушаться — ну что же, он даже не станет выталкивать такого человека из своего круга, он просто не снизойдет до его неправильностей, а продолжит гнуть свое. Не хочет, бедненький, поклончики, гордынька его задела, я о нем помолюсь… А когда он уйдет, останется только вздохнуть о пропащей душе: мол, изначала не от нас был, вот и ушел, и вся недолга.
Вокруг него собирается круг молодых людей и в особенности девушек, для которых «наш батюшка» медленно, но верно заслоняет собой Врага. Не так важно, кто там что наговорил две тысячи лет назад, как важно уловить тончайшую перемену в настроении своего пастыря, угадать, вовремя посокрушаться вместе с ним об страстной эмоциональности западных святых или повздыхать о том сладком будущем, когда вновь спустится с небес на землю самодержавная монархия… Прочь, прочь от этого неуютного мира в сладкие грезы, тонкие переживания, примитивную вкусовщину, которую мы и назовем духовностью!
— Отлично, — я не мог не признать определенных успехов за этим бесом, — Я справлюсь насчет энергетической подпитки в органах распределения. Но помни: ставки высоки! Тут тебе не пьянство или блуд, тут тонкая работа.
— Рад стараться, ваше непотребство! — обрадовался бес.
— Ну, а что же наша подопечная? — обратился я к чертовке, — млеет от него?
— Млеет, еще как млеет, — захихикала та, — особенно на фоне мужа-то! И чувство какое глубоко духовное, не то, что у некоторых! Какой он образованный, да тонкий, да понимающий, но в то же время ранимый! Вот если бы встать с ним рядом, пройти по жизни, ведь матушка его, она его все же не понимает, слишком груба, приземленна для нашего батюшки. И вокруг все какие-то кликуши да лицемерки, то ли дело я со своей духовностью, — затараторила чертовка.
— Не торопись, девочка, радоваться, — прервал я ее, — неужели она не заметит, насколько примитивны твои рассуждения?
— Ну, тогда подкинем что-нибудь поизящнее и поскромнее, — с готовностью согласилась она, — например, отправим их в паломничество по святым местам. Как думаешь, приятель? — она подмигнула бесу, — а вместо святых мест пусть они у нас поборются за места в автобусе поближе к любимому батюшке-то, да пусть переругаются как следует, да еще и с монастырскими надо будет договориться, чтобы их там веничком-то огладили пару раз, для смирения, ну и всякое такое…
— Выдумщица ты у нас, — почти ласково сказал я. Ах, какие ножки! Какие изящные копытца! Ну прямо просятся в холодец, — главное, ты внушай ей, что теперь ее чувства сугубо духовны. Мол, раз она христианка, то ничего такого просто человеческого, я бы даже сказал бабского, в ней не осталось, одно только ангельское — ну, или наше. Грешки, желательно мелкие, пусть будут наши, ладно, а вот все ее чуйствования и фантазии — не иначе как ангельские.
— Так что работайте, товарищи, — напутствовал я их в заключение, — а я как-нибудь на днях зайду, проведу еще разок мастер-класс. Надо будет в офис к нашей дамочке наведаться, там, небось, тоже непочатый край возможностей. Ничем нельзя пренебрегать в нашей работе! Мелочей не бывает, точнее — в них-то и кроется наш потенциал!
Да, пренебрегать мелочами — просто преступно! В который уж раз мне пришлось напомнить об этом своим подопечным. Этот их российский гигантизм, мечты о построении царства нашего нижайшего отца если не во всемирном масштабе, то по крайней мере в одной, отдельно взятой стране. Инфантильный бред! На Западе давно отказались от таких проектов. Мелочи, мелочи — вот что надежнее всего засасывает человека в болото, из которого ему не так-то просто выбраться. Жизнь его течет размерено и комфортно, он и грехов-то за собой особых не знает — а все же он наш.
Унылая на первый взгляд, но такая удобная карусель повседневных событий и обычных карьер — от школы к колледжу, от колледжа к конторе, а там и к женитьбе, и к детишкам движется человек, словно от утреннего кофе до вечернего пива — и прошла жизнь, как и не было. А нам и такой человечишка сгодится, на гарнир хотя бы.
8
Быстро течет время в аду… Нам есть, чем заняться, в этом бодрящем грохоте, пламени, дыме наших будней не остается места для меланхолии, сентиментального слюнтяйства и апатии. Стоит в них впасть — и ты сам становишься закуской на чужом столе. Нет, бодрость, натиск, сила — вот, чем живет ад! Это и роднит его с бизнесом в подведомственных мне странах СНГ.
Кстати, мы навестили-таки офис той самой фирмы в которой трудится наша подопечная дамочка. Забавная, а в чем-то и поучительная экскурсия. Выездная сессия, я бы даже сказал, семинар по обмену опытом. Сотрудники мои отнеслись к этой идее довольно кисло. Ну что там можно собрать, говорили они? Мелочи, мелочи, сладкие мои! На работе человек проводит как минимум 8 часов в день — и что же, будем бездействовать? Нет, я не о воровстве коробки дискет и не о мелком хамстве надоедливому клиенту. Точнее, и об этом тоже, но есть у нас дела и посерьезнее.
По себе ведь знаете, сказал я им, что желанней всего на свете — власть. Подавляющему большинству двуногих она дороже денег, слаще секса, прилипчивей пьянства. Возможность показать свое превосходство, навязать свою волю хоть одному человеческому существу. А тут — сколько возможностей!
Словом, отправились мы в тот офис. Обстановку я сразу оценил как благоприятную. Начальница у нее — бизнес-леди того самого возраста, когда женщина руками и ногами отпихивается от старости и начинает понимать, как мало все-таки она успела в жизни. Она одинока, и значит, на ее подопечных выплескивается весь запас эмоций, которые замужние расходуют на семью, а монахини прячут в молитве. Там, где наивный взгляд не увидит ничего, кроме сугубо деловых отношений, там на самом деле она ищет… Да чего же она ищет? Любви, наверное! Да, любви. И пусть молчат адепты Врага с их вечной шарманкой про заботу и понимание, мы-то знаем, что такое любовь! Отменный аппетит, вот что это такое.
О да, как она любит своих подчиненных! Как может у них быть своя, неподконтрольная ей жизнь? Ну ладно дома, а в конторе, в конторе уж — ни-ни! Не сметь видеть, чувствовать, думать иначе, чем она! Они должны быть продолжением ее рук, ее компьютера, а самое главное — ее страстей и страхов. Так что она будет вести с ними задушевные беседы о жизни, поучать и опекать, будет лепить из них то, что нужно лично ей, нужно немедленно и без остатка — и будет называть это словом «бизнес».
Уж конечно, интересы дела тут будут носить характер чисто декоративный. Она вцепиться в свою правоту как голодная собака в гнилую кость, и горе тому, кто встанет на пути принятого решения или даже только усомнится в его правоте! Холодный анализ ситуации заставил бы экспертов корректировать курс, шлифовать стратегии — но жажда власти и собственной правоты никогда не нуждаются в этом. Она будет держаться однажды принятого решения до последнего, ее «Титаник» не заметит айсберга, зато медные поручи на всем корабле будут надраены до блеска.
Она по-своему счастлива в своем кукольном царстве, и по-своему несчастна, когда садится вечером перед пустым телевизором и не может отойти от дневной борьбы за тень собственного достоинства.
Но как для нее другие люди — только средство, так и нас она сейчас интересует лишь в одном плане: как она может помочь нам в борьбе за нашу подопечную. А вот, кстати, начальница вызывает нашу лапочку к себе! Посмотрим, посмотрим… О, оказывается, она допустила некоторую вольность — договорилась о чем-то с клиентом, не посоветовавшись с начальством. И вот начальница ведет ее в кабинет, ласково приобняв за талию… нет, нет, это не эротика! Это слаще, это жажда власти. А у той мурашки бегут по спине, и не зря она чувствует себя бутербродом на тарелочке. Скушают тебя, милочка. А ты не будь дурой — кушай сама.
Да хоть вот этого тюфяка за соседним столом. Это же будет чистой воды вегетарианство! Такого — и не слопать? Тяжелое детство, властная мамаша — и не может человек без строгих женских рук, которые его, шалуна и недотепу, и поддержат, и на путь наставят, и накажут, конечно, иной раз, не без этого. Кушай, он сам просится в рот! Он же не может сделать ничего путного, если без тычков, скандалов, дерготни! Это он виноват в твоих бедах. Это за него начальница гнобит весь отдел.
Вот ты сейчас и расскажешь начальнице про него все-все-все, что было, и чего не было, и что только показалось. Вот сейчас вы начнете вдвоем составлять план по его спасению от его лени и разгильдяйства. Кто сказал, что это интрига и подсиживание? Это работа по спасению человека! Для начала лишить премии, перенести отпуск на ноябрь… то есть, разумеется, поручить ему тот проект, который закончится только в октябре, а до тех пор какой же отпуск? И командировку ему в Урюпинск! На месяц. Нет, на полтора. Да, пусть поработает над собой. Так ты и рекомендуешь начальнице, вкрадчивым голосом, словно бы советуясь с ней о наболевшем.
А вон та фифа молоденькая, на которую он заглядывается? Да какое он имеет право! Ну и что, что оба неженаты? Это же рабочее время. И значит, вы должны спасать человека, даже нет, двух людей. Ничего страшного, что местком отменен. Местком, он внутри нас. Мы вызовем ее, побеседуем о том, как она раскалывает коллектив, заводит групповщину. А вот проект вовремя не сдан, между прочим, и сколько, интересно, все это будет продолжаться?
Видишь, сладкая моя, уже не о твоей провинности речь. В ней ты покаялась, и очень правильно покаялась — изобрела других виноватых, обо всем доложила по инстанции. Молодец, иди, работай. И ничего ты не наябедничала, а позаботилась о коллегах и товарищах по работе. Пусть они даже косятся на тебя, эти ничтожные людишки, они же не понимают, что ты жертвуешь собой ради их же блага!
— Ну вот так примерно, в общих чертах, — резюмировал я для своих подчиненных, — продолжайте в том же духе. Пусть себе звереет потихонечку на работе, чтобы потом выплескивать это раздражение дома, пусть забивает себе голову всякой ерундой: кто как на кого посмотрел, кому ответил. Мелкая жатва, а и она пойдет в общую копилку. А там можно будет и наградить ее — дать кусочек власти, сладкой, пряной власти, с румяной такой, с хрустящей корочкой. Кусочек, после которого захочется еще и еще, и уже нельзя будет остановиться.
Ничего особенного, конечно, но днем я остался доволен. Только одна деталь меня удивила — какой-то странный, слабый, но очень неприятный свет от этих фотографий на шкафчике за ее спиной… Люди, просто тупые, наглые двуногие. Почему она их любит? Почему вешает здесь? Надо намекнуть ее начальству, что офис должен выглядеть строго. Никаких таких цацек в рабочее время. Да. Только так. Никак иначе.
9
Наша лапочка, как я уже говорил, ходит в церковь. Это, конечно, куда как неприятно. Можно только посочувствовать моей — как хотел бы я действительно сделать ее моей, поглотить без остатка, переварить, усвоить! — да, моей чертовке. Рядом с огнем ходит. Ну да ладно, надо и мне иногда показывать высокий класс.
В общем, устроил я им показательное выступление, отправился с ней на исповедь, собрав в зрители побольше молодых искусителей, которые могли бы мной должным образом восхититься, ну и кое-кого из местного начальства. Нечего-нечего, приговаривал я им, не отговаривайтесь своими отгулами и бюллетенями, у нас не бюджетная организация! Сказано на исповедь — значит на исповедь, ничего, потерпите. Думаете, от таких моментов позволительно увиливать? Ничего подобного! Это там происходит самая отвратительная несправедливость — аннулирование наших счетов к подопечным.
Мне самому, если честно, не до конца понятно, как работает у Врага этот механизм. Любой счет должен быть оплачен, таковы законы бытия. Как смеет Он записывать их на Себя и еще и утверждать, что после того Происшествия никто никому не должен? Наш нижайший отец, а это ему, вне всякого сомнения, пытался заплатить Враг на Кресте, не согласился с таким платежом, и вообще… Хрррр… уыыыы!
Я надеюсь, наши контролирующие органы обратили внимание, что моя реакция на эту невыносимую несправедливость состоит в точном соответствии с реакцией нашего нижайшего отца. На этом я прекращаю обсуждать теологический вопрос, который способен надолго вывести меня из равновесия и даже лишить привычного облика.
Итак, аннулирование счетов, которое называется мерзким словом «прощение». По счастью, аннулируются те счета, которые адепты Врага сами передают Ему. Говорят, бывает и иначе, но… хррр! В общем, задача наша состоит в том, чтобы человек уходил с исповеди с тем же грузом, с которым и пришел, а в идеале — взял бы на себе еще больше. Я как раз и собирался продемонстрировать моей аудитории, что это вполне выполнимая задача.
Нет, конечно, на какие-то уступки тут приходится идти. Но и их мы должны обращать в свою пользу! Пусть подопечная долго сокрушается о каком-то маленьком нарушении правил (например, о стакане кефира, выпитом в постный день), и вместе с тем незаметно для себя восторгается этим своим покаянным настроем и негодует на родных, которые этот стакан кефира ей налили, не оценив ее постнического подвига. Впрочем… впрочем, и это мелочи. Я же рассчитывал провести более крупную игру на духовных переживаниях нашей дамочки. Что я и сообщил своим зрителям в кратком, часа на полтора, вступительном обращении к аудитории. Все-то надо им разжевывать, как чертенята малые, честное слово…
Пусть, пусть живет она в мире своих эмоций и тонких фантазий. Пусть не видит реальных, живых людей (да по правде сказать, этих двуногих и в самом деле лучше не видеть). Пусть питается только собственным вымыслом по их поводу. А потом мы ей реального человечка и подсунем, да в самый подходящий момент, да нужным боком его и повернем: смотри, какой! Ты-то думала, он почти святой, да еще и с чувством юмора, да внимательный-заботливый, а на самом деле — тупой и ограниченный пошляк, который просто слюни пускает по твоему адресу. Вот так! И обиды, обиды погуще положить, и даже пусть помолится за него, ладно, потерпим, лишь бы вся эта молитва была сплошным криком: «если я тебя придумала, стань таким, как я хочу!» Очень полезная, кстати, песня, жаль, ее теперь редко по радио передают.
Но такие моменты надо создавать. Вот и сегодня всё было выбрано как нельзя удачно: долгий, нервный день на работе, мелкая размолвка с мужем, душный храм, толпа бестолковых исповедующихся, каждый из которых норовит вперед пролезть да банальностей побольше наговорить, да громким шепотом, чтобы весь храм слышал, какие там проблемы с пьющим зятем да с соседкой-сволочью. Очень настраивает на нужный нам лад.
А еще, конечно, хорошо заложить в нее фарисейской завкваски. Ммм, какое получается вино, методом глубинного брожения! А главное, правила игры предельно просты: «не то, что она». Совершенно не важно, по какому поводу произносятся эти слова, не важно, как при этом себя человек называет. Любое, практически любое движение человеческой души по направлению ко Врагу можно сбить с толку этим нехитрым приемчиком: «Я сознаю, что я великая грешница… не то, что она, она и грехов-то за собой не замечает. Я пришла сюда каяться в надежде получить исцеление… не то, что они, они зашли сюда по привычке. Я сознаю, что в своих бедах я полностью виновата сама… не то, что он, он вечно переваливает ответственность на других. Я, в конце концов, вижу в себе грехи мытаря и гордыню фарисея, а они все вообще ни о чем таком даже не думают». И даже если придет ей в голову такая опасная для нас мысль перестать сравнивать себя с окружающими, и тут у нас будет готов ответ: «Я не то, что эти эгоисты, я не сосредоточена на себе одной, я забочусь о спасении других». И отличненько! Будет, будет фарисейское винцо к нашему застолью.
Но дамочка наша держалась. Читала свои каноны по книжке — да, в такие минуты… хоть и по книжке… ну да ничего, не впервой, выдержим! Пропустила всех нервных бабусь и прыщавых юношей с их румяными от смущения секретами. И подошла к священнику…
Есть моменты, когда бесу нужно собирать свою волю в кулак. И сколько бы ты ни готовился, какой бы опыт ни стоял у тебя за плечами, это все равно каждый раз, как прыгать с разбега в чистый прозрачный поток. Бррр, какая мерзость! Я видел, как ежились поодаль искусители этого священника и этой дамочки. Снова основную роль пришлось брать на себя.
Она начала перечислять свои мелкие промахи. Обычный в таких случаях блок стыда не сработал — достаточно часто он заставлял человека молчать здесь о том, о чем с усмешечкой рассказывал он в кругу близких знакомых: вот, мол, все мы люди несовершенные, все с причудами, вы же понимаете…
Что же, хорошо бы ей и остановиться на этих мелочах. Пусть, пусть исповедуется в них, и тем еще больше укрепляет себя в вере в свою чистоту, набожность, правильность. Пусть все строже и строже соблюдает правила поста, пусть все меньше и меньше говорит грубых слов… ласково, елейненько так надо, смиренненько, а уж содержание нужное мы сами вложим. Ложку яда в бочку елея — это мы запросто.
Но тут я, похоже, зря расслабился. Моя дамочка сбилась с правильного перечисления правильных грехов и как-то неожиданно для себя выдохнула: «ну ничего толком не получается, батюшка! с мужем вот… и на работе… а уж как я Алку отшила, она ко мне со всей душой, а я-то…»
Да, здесь требовалось немалое мужество, и я его проявил. Я бы даже сказал, что немногие искусители нашли бы в себе силы присутствовать при такой честной и доверительной исповеди. Немногие. Но я, я смог! И не просто устоял, но даже вложил, да, именно, вложил ей в сердце червячка: а поймет ли батюшка, оценит ли? Его же, наверное, список прегрешений интересует, не живая душа человеческая? Что ему до тебя…
А и в самом деле! Сработало, ай как хорошо сработало! Обязательно добьюсь для его искусителя энергетической подпитки. Стоит того чертяка! Уставший, равнодушный священник сказал пару дежурных слов, а я давай, давай давить на это вот чувство: ему бы все только каноны да епитимьи, не понимает, не ценит, не любит, что с таким и толковать…
Что это было, я так и не понял. Но это была нечестная игра… При чем здесь он? Ну при чем? Его здесь не было! Он сгнил в яме, на Колыме, тот старик, я сам это видел, его просто не могло быть в храме. Но он появился… Зачем, зачем этот нелепый маскарад, ослепительный, невыносимый, сияющий лагерный бушлат… Почему ему дали меч? Почему-ууууу! Это больноооо! Ооооочень больно…
Наше выездное занятие пришлось прервать в связи с форсмажнорными обстоятельствами. Я спешу донести до сведения нижестоящего начальства, что я не бежал с поля боя, в отличие от этой мелкой бесовской шушеры, я отступил с чувством собственного достоинства перед лицом превосходящих сил Противника. Всемерно ходатайствую о выделении мне энергетических резервов из запасов Нижайшего Командования. Ничего не давать этому ослу-искусителю, всё мне, мне, мне! Как же болит до сих пор…
10
Это, наконец, стало невыносимым. Я не могу принять это иначе, как личное оскорбление. Этот старик… Эта дамочка… Я даже не знаю, чем окончилась исповедь. Меня вышибло, как из дайл-апа. Запрос, срочный запрос в архивы про старика… Ну что они там копаются! Пока я не владею информацией, я не могу ничего предпринять. И между прочим, ой как было больно! До сих пор еще не прошло. А резервов выделили мало, и даже сожрать некого, вроде как никто не виноват.
В общем, после того происшествия в храме мне пришлось на некоторое время оставить нашу дамочку в покое. Конечно, рядовых искусителей я отправил на работу, поставив им задачу углубить и расширить ту трещинку, которая возникла в отношениях священника и нашей подопечной. Но если снова появится тот старик… Нет уж, на сей раз пусть это будет кто-то из них. А я так не играю. Я старый, почтенный искуситель, как же можно…
Да-да, я как раз имел в виду, что надо дать шанс молодежи. Чтобы не боялись трудностей, были ко всему готовы. Нет-нет, я заверяю нижестоящие инстанции, что ни в коей мере не пасую перед трудностями. Мне бы только вот еще подпиточки…
В конце концов, у меня есть обширное поле теоретической деятельности. Методологической. Нельзя же заниматься одной текучкой, это не мой масштаб! Вообще, завозился я с этой их теологической комиссией. Тоже мне, навоображали себе невесть чего, а на самом деле просто мелкие пакостники!
Я ведь на самом деле вижу настоятельную потребность в организации другой комиссии — лингвистической. Вот где собака не рылась! Вот где кладезь! Что это мы, по старинке называем вранье враньем? Не вранье это, а пи-ар. Пи-ар, запомнили? Сумасшедшее бабло, между прочим, крутится. Зло творить, тут немного ума надо, а вот пропиарить его как следует…
Конечно, и в стародавние времена обращали мы внимание на такие штучки. Хороша была та версия про Иуду Искариота, к которой я и сам, скажу с чувством законной гордости, приложил копыто. Ну, про то, что это он и есть главный трагический герой Евангелия, мол, без него не было бы того Происшествия на Кресте. Раз уж оно так им далось, Происшествие, то по крайней мере надо интерпретировать в выгодном для нас свете. Как мучался бедненький Иуда, решаясь своевременно проинформировать о своем Учителе. Ну, конечно же, именно он и был критическим звеном в цепочке — не пусти он информацию по своим каналам, так и остался бы Враг, хи-хи, без Креста, без Креста! Да-да, именно так всем и рассказывать, что Враг — тщедушный дурачок, который даже помереть не мог без посторонней помощи. Ляпнул какое-то пророчество, а Иуде за него пришлось отдуваться, исполнять. Самому удивительно, как долго живет эта версия…
А впрочем, чему удивляться? Это же так созвучно человеческому самоощущению! Если я предаю, ворую, убиваю, то это вынуждено, на самом деле я и есть жертва, я и есть главный герой! Если Враг там чего-то когда-то кому-то напророчествовал, то теперь я, именно я решаю, как это пророчество будет исполнено, кого казнить, а кого миловать, я, а не этот бессильный и глупый Враг, который так нуждается во мнееее!
Ух, как здорово! Говорят, Иуда особенно громко скрежетал зубами, когда ему представили весь этот спектакль. Надо же иной раз поразвлекать клиентов, не все же их кушать!
Но этого, конечно, недостаточно в век информационных технологий. Новояз, вот наша сила! «Сегодня в так называемом Эдемском саду Адам и Ева приступили к выполнению программы по преодолению продовольственного кризиса. Заготовка плодов информационного древа идет полным ходом. Слухи о существовании древа жизни, тем не менее, не подтвердились. В стороне от плодозаготовителей встречаются пикеты так называемых херувимов, выступающих за поддержания экологического баланса в саду. По словам главного эксперта Змея, экологии сада ничто не угрожает, в то время как экстремистски настроенные херувимы могут обладать незарегистрированными огненными мечами. Силовые структуры уже предпринимают необходимые действия. Оставайтесь с нами, и мы расскажем вам, как будут развиваться события».
Расскажем-расскажем, всенепременно, обязательно! Вы, дорогие мои, сладенькие, румяненькие мои людишки, будете обо всем информированы. Вы потом даже не сможете оправдаться, что ничего не знали. Так что оставайтесь с нами, оставайтесь подольше — и останетесь навсегда!
Просто нужно правильно подобрать имена… Вот, например, история о вооруженном конфликте между религиозным экстремистом Авелем и героически вставшем на его пути Каине. Вот оперативное и кардинальное решение демографической ситуации в Вифлееме. Вот фестиваль искусств, приуроченный ко дню рождения царя Ирода, и мракобесная критика юных дарований со стороны нетерпимого Иоанна Крестителя. Вот ликующий народ приветствует видного деятеля освободительного движения, борца за светлое будущее всего человечества товарища Варравву и требует решительно покарать наймита мировой… нет, это впрочем, устаревшая версия. Лучше вот так: Искариот и партнеры, информационная поддержка правительственных структур. Рукомойники системы Пилата: отправь невиновного на крест и спи спокойно. Это как раз в духе времени. В нашем духе.
В общем, как раз пока я писал эти наброски, пришли две новости. Начали, конечно, с плохой… Это оказался родной прадед нашей подопечной. Тот, в бушлате. Отвратительная семейственность! Очень характерно для Врага: «кто не возненавидит отца и мать», и всякое тра-ля-ля, а как доходит до дела, так родственников своих выгораживаем. И вообще, между прочим, он без вести пропал, и даже не канонизирован, кто дал ему право вмешиваться? Да, серьезная каша заваривается… и отступить уже не получится. Будем долбить до последнего.
Зато она перестала ходить в ту свою церковь. Вот уже две недели ни ногой! Значит, сработало. Значит, я героически принял удар на себя и посеял все-таки в ее душе, что полагалось посеять. Ну что же, не бывает бо́льших ненавистников церкви, чем те, кто в свое время обкушался церковностью. Пожалуй, я снова возьму на себя руководство действиями на местах. Жаль только, что я так и не знаю толком, чем закончился тот их разговор.
Вот только надо подумать, в каком направлении ее вести. Во-первых, конечно же, надо заставить ее жить исключительно своими переживаниями. Вся ее религиозность была построена в основном на эмоциях, мимолетных, незрелых, капризных — так пусть она назовет эти эмоции настоящей духовностью и переваривает, переваривает, переваривает произошедшее, пока не начнет тошнить — а там и от бледной своей и немощной духовности нетрудно будет отказаться в пользу здорового, бодрящего адского реализма.
Пусть она почаще думает, как ее обидели, не поняли, оттолкнули. Пусть прозреет, увидит все ханжество и лицемерие своего былого духовника, всю его человеческую непривлекательность и ограниченность, которую она так старательно не замечала прежде. Было очарование влюбленности, так настало время разочаровываться, настало время обвинять его самого в собственной слепоте и близорукости: как же это я могла в нем так ошибаться! Это же возомнившее о себе ничтожество! Главное, отводить ее от мысли, что это она сама о нем невесть что возомнила, когда подогревала на огоньке его проповедей свою мечтательность.
Пусть ее молитва, если уж не удалось вовсе отучить ее от молитвы, будет сплошным расчесыванием ран, даже мнимых ран: не оценили, не поняли, не приняли. О себе, любимой. Притворяле надо постараться, чтобы ее хилая молитва как-то обходила других людей. Порой даже просто воспоминание о тех, кто любит и ждет, действует на наших подопечных как душ, смывающий с души заскорузлую грязь. А то еще, чего доброго, начнет переговариваться с тем, в бушлате, и с другими, которые уже у Врага, к которым у нас доступа нет… Так что если уж она и помянет другого человека, то пусть думает о нем исключительно как об объекте: сделайте его таким-то и таким-то, он мне так больше понравится! Это ничего, это нам не опасно.
А еще надо проследить за кругом ее чтения. Подкинуть ей… нет, советская атеистическая литература тут не пройдет, от нее уже и младший бесовский состав давно тошнит. Что-то утонченное, возвышенное, высокодуховное… Традиционная церковь, которая так небрежно относится к людям — Галилею, Копернику, и, конечно же, к ней самой, — такая церковь не имеет права на настоящую духовность. Вот какое-нибудь тайное учение, да позаковыристей… ага, одно из тех, где в лабиринте зеркал теряется четкое различие между нашим нижайшим отцом и Врагом. Духовность, чистая духовность, разреженный горный воздух Тибета… без кислородной маски, разумеется, зачем, она же и сама по себе достаточно сильна.
Ну, а если не удастся отвратить ее вовсе от христианства, заставим ее побегать в поисках «церкви, которая ей подходит». Эта оказалась недостаточно внимательной к ее запросам, в другой не хватает вкуса, третья вообще какая-то подозрительная… Пусть прыгает себе из храма в храм, из конфессии в конфессию, и нигде не находит покоя. Пусть лепит в своем воображении идеальную церковь, состоящую из одних святых, единственная цель которых — ублажать ее ненасытную душеньку. А уж к какому собранию это ее приведет, в конце концов, это ей до поры до времени знать не обязательно. Это уж по нашей части.
Была бы она мужчиной, можно было бы попробовать сделать из нее великого религиозного реформатора, создателя еще одного учения, спасительного и окончательного. Но с женщинами это редко проходит, амбиции у них лежат в другой плоскости. А уж наша клуша на такой полет точно неспособна. Ну, неважно, был бы результат, пусть ведет религиозные войны в собственной душе и собственной квартире, выйдет тоже ничего.
А если начнет догадываться, что речь тут идет не о духовности, о простых человеческих страстишках и переменчивых настроениях — закидаем ее популярной психологией. Очень увлекательное чтение! Читатели медицинских справочников находят у себя симптомы всех телесных болезней, а вот душевные болезни — это уж на счет ближнего, извольте. Пусть она проводит дни и ночи в размышлениях о психическом здоровье своего бывшего духовника и его паствы: у кого пограничное состояние, у кого маниакально-депрессивный психоз, у кого психопатический склад личности. Вот-вот, бедненькие они! Мы за них даже и помолимся, пожалеем их, они же все такие больные-пребольные, одна я здоровая, нормальная, но я же устала в этом дурдоме, я не могу постоянно их на себе вытягивать… Ага! Очень продуктивная линия. Надо обязательно побеседовать с искусителями. Кто сказал, что фарисейство обязательно должно рядиться в религиозные рясы? Отстали вы от жизни, господа искусители!
Наконец-то мне снова чертовски хочется работать!
11
Мелочи, мелочи… говорил же я им, что не бывает мелочей! Нет, все надо самому, до последнего штришка. Там, на земле, идут неделя за неделей, и ничего, казалось бы, не происходит, но медленно-медленно вызревает наша жатва. Не всегда удается решить проблемы наскоком, иногда нужна долгая, планомерная, в чем-то скучная, но совершенно необходимая работа.
В общем, я снова нанес визит нашей подопечной. В естественную среду обитания, которую нам надо сделать противоестественной и для обитания невыносимой. Люди обычно называют это «домом». Тихий семейный вечер. А кто сказал, что нужны обязательно скандалы, мордобой, вызовы милиции? Мы же не домовая общественность, в конце концов (хотя… что-то общее, безусловно, есть). Так что прихватил я своих подопечных и двинулся к дамочке домой. Как раз к моменту ее прихода со службы.
Заодно, конечно, вызвали на ковер искусителя ее муженька, стребовали отчет по форме, как положено. Как, бишь, его звали? Ну да, Виртуал. Выпендрежное имечко, подстать мерзкой его роже. Прямо название косметического салона, а не прозвище беса.
— Как я вам уже говорил, мой подопечный, — мерзко захихикал он, — человек философический. Работать по специальности не получается (если точнее, то не дают лень и необязательность), случайными приработками много не заработаешь, так что… лежит на диване, сидит в интернете, общается. Исключительно интересное общение! Я бы даже сказал, пир духа!
— Что же, он совсем не работает? — удивленно переспросил я.
— Работает, но в основном дома, — уточнил бес, — пишет статейки, в основном, что-то там переводит, не скрывая явного отвращения к источнику своего, с позволения сказать, заработка. А больше всё треплется на форумах, да вот еще в же-же…
— В чем-чем? — не понял я.
— Живой журнал! По секрету всему свету, умная физиономия, гадости про общих знакомых, любование своим пупком и всякое такое. Не верные друзья, а крутые френды, которых то включают в список, то исключают, ругаются… ну, в этом надо жить, чтобы это понять. А еще, помните, я докладывал, он на врагословском одном форуме очень полюбил бывать!
— Ты же говорил, он питает легкое отвращение к религии? — снова удивился я.
— Ну да, если бы он был действительно безразличен, тогда бы туда не ходил, — согласился бесенок, — а так он там оттягивается, сублимирует, мелко мстит мерзким церковникам, которые так испакостили ему жизнь — в лице собственной жены. Все выясняет, задает вопросы, язвительно высмеивает торопливые и самоуверенные их ответы — в общем, разводит лохов.
— Ты бы поостерегся насчет жаргона, начальству докладываешь! — одернул его я.
— Виноват, ваше низкопотребство, исправлюсь!
Бесенок вытянулся во фрунт, но я был уверен, что хвостик его за спиной совершает самые непристойные движения. Чего только не наберется в интернете эта молодежь!
— Засиделся, я смотрю, в сети, живо тебя в скит отправлю — монахов теребить!
Так я и представил себе эту картину: глухой таежный скит, монашек такой молоденький (ну, аскета-то ему не дадут, не по зубам будет), и как он будет ему внушать всякое такое… а что, пусть послужит! Ишь, пригрелся. В самом деле, уволю.
— А чего ж, можно и монахов… их на том форуме мы тоже встречали.
— На форуме? Виртуальных? — я решительно не мог ничего понять, видно, я отстал от жизни. Но нельзя, нельзя этого показывать перед подчиненными.
— А что же, и виртуальные есть, вон Прохвост одного опекает — сам удачливый бизнесмен, а в сети притворяется отцом-пустынником, игуменский сан себе придумал, народ поучает от мира отрекаться, — захихикал бесенок, — но я про настоящих, такие тоже есть. Они ж за веру воюют! Опоздали родиться, еретиков ноне на кострах не жгут, так будем жечь глаголом, да модерировать по полной программе, это так теперь называется. У них и же-же свои водятся, и паства сетевая. Они ж по сети и епитимьи налагают, и со своими епископами ругаются… Слышал я тут об одном проекте, ряд самых-самых-истинно-верующих отделился от просто самых-истинно-верующих, так вот надумали их искусители соорудить им наскоро какую-нибудь юрисдикцию прямо в он-лайне, из сети не выходя…
— Хватит жаргона, — обрубил его я.
— Это, с позволения вашего низкопотребства, технические термины, — уточнил мерзавец.
— И терминов хватит. Я тебя не о монахах спрашиваю, подопечный твой что?
— Ну вот, виртуалит, одно слово. Правда, по хозяйству много делает — на рынок вот сегодня сходил, ужин приготовил.
— Это, конечно, досадно… — поморщился я, — а впрочем… И это будет в нашу пользу! Смотри, какая она неряха, как ей плевать на уют в доме, и карандаши его любимые она вечно таскает, а потом бросает, где попало. А он-то у нас аккуратист, все вовремя, и какой заботливый — ужин жене приготовил! Ну, а ей, ясное дело — другая сторона: пока она там в офисе гробится, деньги зарабатывает, муженек болтается в сети, непонятно чем занимается, порнуху, наверное смотрит.
— И порнуху тоже, — радостно поддакнул бесенок.
— Да если бы только порнуху, я бы тебя точно в монастырь сослал, — уточнил я, — духовное направление надо поддерживать и развивать, пусть всё будет заболтано и осмеяно, так надежнее всего запрячем подлинные слова Врага для этих двуногих. То есть, — тут же поправился я, — так мы надежнее всего осуществим контр-пропагандистское воздействие. Что же, похоже, все готов к приходу нашей лапушки, так? Вот и звонок в дверь! А теперь показываю мастер-класс, смотрите все…
Ну что за тупица, не может ключи, что ли, из сумочки достать? Надо идти ей открывать — лично? Я же занят… Ладно, ладно, открываю. Привет.
Он совсем не рад меня видеть. Горбатишься на этой работе весь день, а домой бы лучше и не приходить. Как хочется просто закрыться в комнате, полежать, успокоиться. Так нет же, этот сидит в своем компьютере. Как я вымоталась, что же мне так плохо-то… и знобит как будто… Сказать ему? Да он только разозлиться. Пойти, что ли, на кухню, чаю попить…
Ага, сумку, конечно, посреди коридора бросила. И на кухню — не разуваясь. Дождь же на улице! Полы помыть ей некогда, так даже разуться не может. Сказать? Да что говорить, бесполезно, тысячу раз говорено. Просто «есть ужин», и точка. Как же неважно она, кстати, выглядит! А вот я тут недавно видел одну…
Ага, он меня информирует. Ужин есть. Но есть он его со мной, конечно же, не захочет. И вообще показывает, какая я отвратительная хозяйка, что я его, видите ли, после работы ужином не кормлю. Ну уж мог за целый день что-нибудь состряпать, в самом деле! «Спасибо, я не голодная». Сыта по горло, это уж точно.
Ну да, моя стряпня для нее — яд. Наверное, каких-то мерзких чебуреков по дороге наелась, и дорого, и желудок себе портит. Сходить, что ли, за пивом… «Пойду прогуляюсь».
Ну да, он не может со мной находится в одной квартире. Опять пошел пьянствовать. Все деньги улетают на это его пиво. Как же я ненавижу эту проклятущую жизнь! Где только были мои глаза, когда я выходила замуж! Развестись, непременно развестись! Я хочу быть свободной. Но… я христианка. Грех мне будет разводиться. Значит, это на всю жизнь. Я должна быть с ним. Да, я буду с ним. Это мой крест. Я буду мучаться и терпеть его, какой он есть. Наказание за грехи, да.
Не могу я с ней, просто не могу. Бросить ее и уйти, куда глаза глядят. Молодая еще, найдет себе кого-нибудь. Но ведь пропадет без меня… Квартиру, имущество, все, конечно, надо будет оставить ей. Ведь однокомнатную не разменяешь. Копили, копили вдвоем, а теперь бац… вот так все взять да и бросить… Ладно. Пивка попью, оно и отпустит, полегчает. А потом еще в чат выйду, там должны были ребята подойти после работы.
Ну вот, молодежь, учитесь! Ничего, никакого повода — а оба ненавидят друг друга, и каждый чувствует себя жертвой. Пятиминутная разминка. Устраивайте им такое каждый вечер, даже без скандалов, без громких поводов для развода — и через десять лет будет у каждого безупречная причина сказать, что жизнь испорчена, что не жили, а так, существовали.
Что говорите, как насчет ребенка? Ну, чтобы был ребенок, этим двуногим надо бы лечь в постель, иначе они не могут. Что поделать, плотские существа. Да и вообще они зависят от своих гормонов куда сильнее, чем привыкли думать. Так что многое у них бы изменилось, если бы они просто, без затей, вспомнили, что они желанные друг другу мужчина и женщина, или хотя бы были ими совсем недавно… Не допустим!
Да и вообще — ничто настоящее не должно сейчас врываться в их жизнь. Пусть мучаются своими надуманными проблемами, высосанными из пальца конфликтами. Раньше? Да, раньше я желал для нее ребенка, чтобы она его хорошенько повоспитывала, посмиряла так славненько. Теперь… нет, теперь нам это ни к чему. Мы же к чему стремимся? Не к решению демографических проблем, а к поиску пищи. Вкусной и здоровой пищи…
Ну вот, муж ушел, сидит наш полуфабрикат у кухонного окна и горюет. Вот и подруга позвонила. Ну, телефонная работа — это для начинающих искусителей, тут мне негде развернуться. Так что понаблюдаем, как эта чертовочка с аппетитными копытцами, Притворяла, все расставит по своим местам. Поныть о тяжкой своей судьбе, чтобы пожалели несчастненькую, поругали гадкого мужа (это уж как наркотик, без этого не можем), да заодно перемыть косточки всему свету (этого уж и сами не замечаем), и все так нарочито, а про себя: «какая же она все-таки дура, эта Алка…» Мелочь, а все-таки приятно.
Серенький осенний дождик за ее окном, такая же серая, унылая реальность. Мир, в котором как будто и нет Врага. Но это только так кажется. Лишь бы не ворвалась в нее сейчас настоящая радость или боль, только бы не развеяла морок!
12
Молодым искусителям надо говорить откровенно: не все события из жизни наших подопечных бывают приятными, но все события мы при известной увертливости можем обратить в нашу пользу. Прошел еще месяц земного времени, когда я вдруг узнал, что наша подопечная нашла для себя новую христианскую общину. В той же деноминации, но совсем, совсем другого толка — прогрессивную, современную! Ну вот, замечательный для меня шанс, просто отличный. Собираем нашу комиссию, шлем вызов Притворяле.
— Ну что же, искусители, прохлопали? — так открыл я заседание. Надо, надо их иногда приструнить. В этом управлении так принято, у них это называется, кажется, «крепкий хозяйственник». Только вот лексику крепко-хозяйственную еще не всю изучил, главное, плохо помню, как эти слова по-русски пишутся — все больше в устном варианте их встречать приходится.
— Снова в церковь стала наша дамочка захаживать? Что, Притворяла, нравится? так-то вот! Всему-то вас учи, все для вас делай. Ладно, объясню, как быть.
— Если позволите… — заныла Притворяла.
— Не позволю, — оборвал ее я, еще не хватало, чтобы она сама высказала мой гениальный план, — напозволялся я с вами тут! Так вот, даю указания. Слышали анекдот про двух евреев на необитаемом острове, которые построили три синагоги? Ну вот русские, оказывается, тоже про себя его рассказывают. На этом и будет строиться наша политика. Будем формировать из нашей дамочки яростного борца с предрассудками и мракобесием — то есть с собственным прошлым. Пусть она ведет церковь к сияющим высотам либерализма, плюрализма и толерантности, а мы уж позаботимся, чтобы потолерантнее эта церковь относилась к нам лично, а вовсе не к своим собратьям-мракобесам. Особенно хорошо будет, если удастся ее раскачать на мемуары, как ту даму, что написала не так давно целый сатирический роман о своем было духовнике, и о прочих разных деятелях… Да-да-да, тот самый, у нас в аду он был хитом, если помните.
Впрочем, для этого нужно литературное дарование, которого у нашей лапочки, кажется, не наблюдается. Ну ничего, пусть займется активной общественной деятельностью. Это тоже очень полезно. Вы говорите, она снова стала уделять время молитве? Это, конечно, хуже. Но ведь и молитва бывает разной! Пусть это будет маленькая производственная летучка с Врагом: поблагодарить его за помощь в истекшем периоде, наметить задачи на будущее, напомнить Ему, что Он должен сделать лично для нее и для всех окружающих. Такая молитва практически безопасна для нас: Враг низводится на должность личного секретаря.
Впрочем, не могу скрыть: Притворяла меня приятно удивила. Есть, оказывается, в этом их эсенгешном управлении свои наработки…
— Я решила использовать, — самоуверенно заявила она, — старинную привычку российской интеллигенции не доверять любой власти.
— Ну, это не ты, — тут же влез какой-то замшелый и нервный бес, как оказалось, куратор руководителя их кружка, — это я до тебя выдумал!
— И вовсе не ты! — парировала Притворяла, — ноу-хау уже давно существует, и никто не мешает мне его еще раз выдумать!
— Цыц, — угомонил их я, — мы такими штучками еще в эпоху Реформации баловались, как минимум. Ну и что?
— А то, — радостно залопотала Притворяла, — что моя лапушка теперь ни за что не будет доверять начальству церковному. Нет, ну конечно, там по нашему ведомству много чего водится, — гадостно захихикала она, — но в том-то и трюк, чтобы научить ее отвергать не грех, а грешника. И какого грешника! Корпоративного! Епископат называется. Совсем нетрудно, между прочим. Просто подсказать ей, что епископат в этой ее церкви поголовно завербован КГБ, запятнал себя сотрудничеством с атеистами. Кто слишком молод, чтобы лично оказаться коллаборационистом, тот, соответственно, объявляется их прямым и непосредственным наследником. Они, дескать, его посадили, чтобы он их старость покойную охранял. Ну, или на худой конец объявим молодых епископов порождением нынешних темных сил, прислужниками нынешнего режима. Тем более, они и сами дают к тому кучу поводов.
— Все-то вы в политику норовите, — недовольно пробурчал я, но на самом деле выдумкой остался доволен. Надо не забыть приписать ее себе. Впрочем… она же говорила, что это давно изобрели, так что ладно, пусть балуется.
— Конечно же, при таком раскладе, — продолжила Притворяла, — все, что исходит сверху, вызывает недоверие и отторжение. Нет, ну конечно, из повиновения никто из них явно не выходит, но так даже лучше, чем открытый раскол. «Внутренняя эмиграция», называется это у них. А любое повеление сверху — просто происки темных сил, ну вроде как нас с вами, — снова захихикала она, — и объясняются они даже не глупостью человеческой, а прямо-таки нашей волей. Вот так и приучаем мы их бороться с нами в лице собственных епископов, — подвела она итог.
— Симпатичная комбинация, — похвалил ее я, — но не слишком ли глобально? Епископы далеко, надо работать с ближним, между прочим.
— О, конечно! — с готовностью отозвалась она, — ближние, это которые в другие храмы той же конфессии ходят, это в массе своей темные, неграмотные люди, не получившие в свое время должного образования! Умолчим о том, что такое на самом деле это ее образование — десяток прочитанных и слабо усвоенных книжек, но книжек совсем, совсем другого направления, чем раньше! Раньше она читала, кому молиться от тараканов, а кому от зубной боли, а теперь, извольте, о синагогально-синаксарной экклесиологии! Еще б она понимала, что это такое. Но чуть что не по ней — так «это синагогально-синаксарная экклесиология», и ведем с ней решительную борьбу! Ненасытная, неутолимая борьба — ведь это так по-нашему.
— Не забывай, — уточнил я, — что перед нами все же женщина. Она не так склонна к рациональным схемам, как мужчины, к тому же тебе попалась особа довольно чувствительная. Так что пусть она даже немного путается в этих терминах, не страшно. Главное — «обличать этих, которые…» Это тебе не мелкие собственные грешки, которые всегда легко извинить и объяснить, тут борьба за спасение церкви, тут уж никаких компромиссов! И пусть она всем заявляет о своей непримиримой позиции, пусть даже статейки публикует. Вот, например, недавно умер (тут я невольно поморщился) один великий воин Врага. Да уж, представляю, как хрустел на зубах коллег его персональный искуситель… Впрочем, я не об этом. Пусть напишет некролог! Да о чем! Не о нем, конечно. О тех, кто не оценил его при жизни. О тех, кто не молился о нем после его смерти, и почему не молился. Пусть будет понятно, что сама она с ним на короткой ноге (неважно, что никогда его не видела), что ей точно ведомо, кто, кому, как, когда и о ком может и должен молиться. Пусть и этот переход в другую жизнь (я снова скривился), пренеприятнейшее для нас известие, станет только поводом для раздувания взаимной вражды. И так буквально во всем!
— А что с личными грехами посоветуете, ваше низкопробство? — подольстилась Притворяла. Знаю-знаю, хочет на меня ответственность перевалить…
— Тут есть два пути, деточка, — ответил я, — ровно противоположных, так что выбирай сама. Ты же знаешь, свободный выбор — основа нашей работы. Ну, первый вариант — традиционный: строгий аскетизм, приправленный злобой ко всему, что живет сытно и спокойно. Ты не представляешь себе, до какой степени раздражения может довести человека элементарный голод и недосып (назовем это постом). Как раз на плохое самочувствие она что-то у нас стала часто жаловаться… А они-то, они-то за обе щеки наворачивают, да на перинах нежатся! В общем, это все в начальных классах ты наверняка проходила.
Но у них ведь на дворе просвещенный, либеральный век, так что есть и альтернатива — отбросить все эти средневековые строгости, устаревшие понятия. Прежде она изнуряла себя строгими постами, теперь пусть на глазах изумленной церковной общественности скушает котлетку-другую прямо на Страстной неделе, мол, не пища нас оскверняет. И в остальном точно так же. Да, конечно, Враг там чего-то говорил насчет прелюбодеяния, но если люди любят друг друга — тут ты можешь ей подыскать какого-нибудь симпатичного товарища по борьбе за светлое будущее одной, отдельно взятой конфессии — что же им теперь, быть врозь? Нельзя же все понимать так буквально! Не в том же суть, главное — чистота рядов, а этот грешок так мелок и извинителен…
В общем, смотри, к чему она больше склонна — к строгости или к мягкости. Можно чередовать, так еще лучше. Главное, чтобы она была строга к другим и снисходительна к себе, и все, все списывала на противостояние «наших» и «ненаших». Чем яростнее борьба с «ненашими», тем вольготнее будет тебе самой — тебе сопротивляться уже и руки не дойдут, в них флаг полощется, а на шее барабан висит. Синаксарный там или уж какой — не вижу разницы.
И пусть она подходит ко всякому человеку, особенно к ближнему, к товарищу по вере, со своим готовым шаблоном. Мужчины пусть общаются на уровне формул, словесной эквилибристики, твоя роль куда пикантнее и соблазнительней. Пусть она ожидает от каждого встречного каких-то особых, тонких ощущений. Если вдруг они у нее возникнут — всё, наш человек, друг, брат и учитель. Если нет — то берегись… А лучше всего, если сначала возникнут, а потом пропадут. Такое вообще не прощается. За такое убить мало. И пусть ни в коем случае не догадывается, что ощущения эти возникали в ее собственной голове, не в реальности, что всякий человек намного сложнее и глубже всего, что пришло ей в голову по его поводу.
И все-таки, девочка, не обольщайся. По краю ходишь, по краю. Все-таки это в церкви. Будь она политиканом, деятелем феминистического движения или борцом за права животных, все эти милые шалости были бы куда невиннее. Но ты играешь с огнем. Помни. Все, иди, работай.
13
Итак, всего-то за пару земных месяцев жизнь нашей дамочки круто изменилась — она стала самой активной христианской. Нет-нет, как это ни мерзко, это еще не самое страшное. Напротив, это же шанс, мой шанс… Я покажу им, что такое высший класс — как провести свою жертву через церковь, и не опалить копыт!
Активная прихожанка, редактор какой-то там газеты… Ну да, таинства, службы, это все есть, как же это, как же это жжется… ну, неважно, это проблема рядовых искусителей. Но мой гениальный план уже начал сбываться! Активнейшая общественница — тут у них, в эсенгешном управлении, опыт богатый, партийно-комсомольская работа это раньше называлось. Что вся эта деятельность была направлена не за, а против, это и так понятно. Ну не лыком же мы шиты, в конце концов! Против косности (так мы назовем здоровый консерватизм), против буквализма (стало быть, против ясно выраженной воли Врага), против чинопочитания (а это, конечно, вожди Его воинства). Нет, нам еще не до конца удалось переубедить ее, придать словам нужное значение, но мы определенно работаем в этом направлении. «Я знаю, как надо!» — это замечательное выражение уже, по сути, становится ее девизом.
Человек, любой человек, который оказывается перед ней — это теперь уже не таинство, это объект научения, исправления, воспитания. Дырка от бублика. Вот оно, наше начало! Это Враг пусть возится со своими подопечными, пусть повторяет об уникальности и неповторимости каждого. Мы-то знаем, что всех, всех надо будет привести рано или поздно к общему знаменателю, пучок укропа в зубы и на праздничное блюдо. И всякий, кто начал приводить к общему знаменателю своих ближних — наш первейший помощник. Кого не приведет, тех по меньшей мере напугает, тех заставить отвергнуть суровую строгость Врага, перепутать свободу со вседозволенностью.
Ненавидь грех и люби грешника, учит своих последователей Враг. Ну-ну. Посмотрел бы он, как это у них получается, и где на самом деле исполняется этот принцип! В аду, где ж еще. О, как ненавидят грех те, кто маринуются в наших бочках — до дрожи, до омерзения, до зубовного скрежета. Ненавидят — и не могут расстаться с тем, что стало уже стержнем их натуры. И где же любят грешничка, как не у нас — сладенького, свеженького, такого аппетитненького!
А у них что? Вялая, серая безразличность. «Я никого не осуждаю» переводится с их языка как «мне на всех наплевать». «Мы одна семья и любим друг друга» значит «ну да, мы прочли в книжках, что так должно быть, и теперь назвали свой вялый и мимолетный интерес любовью, и делаем вид, что уже достигли вершин». Но самое-то главное — те, кто знает, как надо! У них давно готовы ответы, написаны программы, заведен распорядок службы, жизни и мысли, и теперь Враг для них — ссылка, авторитет, инструмент. Вот оно, главное. Вот оно, наше.
И еще, маленькая такая деталька… Раньше она все «святой Русью» любовалась, лубочной, глазуновской — там быть русским и означало быть святым. А теперь уж, извольте, разворот на сто восемьдесят градусов: несчастная «эта страна» с неправильным народом, искаженной религией и уродской историей, страна, в которой «никогда-ничего-хорошего». А то и в эмиграцию ее отправим, чтобы она там и прежнюю родину грязью поливала, и новую, еще пуще.
Но даже не общественная деятельность здесь главное! Дома — вот где стало у нее устраиваться совсем по-нашему. То есть по-моему, по-моему, да, а то что эти болваны понимают! Тут у них тихая взаимная ненависть и презрение. Он, утонченный и образованный человек, и она, напористая, напыщенная, самоуверенная.
А еще эта властная мама, которая все звонит и проверяет, куда кто пошел, кто чем обедал, и совершенно не интересуется существенным — так ей в лоб проповеди нашей милой христианочки, проповеди со властью, с силой, с убеждением. Стань такой, какой я хочу тебя видеть. Не Враг, а я, я, я! Какой упоительный гимн… Она не помощник Врага на этой земле, она Его заместитель. Не окно, пропускающее Его свет, а подробная инструкция с описанием этого света. Одно удовольствие с такими работать.
А дальше… Вот появился на горизонте и тот самый понимающий человек. Из той же общины, из той же газеты. Тактичный, умный, такой, такой привлекательный… Нет-нет, ничего особенного, только братские отношения! Она, конечно, даже не думает, что мимолетная постельная измена мужу была бы в чем-то проще и легче, чем вот такая — интеллектуальная и эмоциональная, но зато глубокая, со смыслом, с интересом, со страстью… Платоническая, вот как они это называют. Придумали тоже, при чем тут Платон?
А дальше — дальше все уж расписано наперед. Романтические встречи, свидания под маской борьбы за что-то духовное… Ну, про плотские искушения и так все понятно. Пусть тешатся они своей высокой духовностью, а гормончики-то тем временем поигрывают, ласки-то хочется, как ни крути. Но и это здесь — только инструмент. А дальше — непонимание и грубость нового духовника (так мы назовем его принципиальность). Горячо любимые братья и сестры обернутся отвратительнейшими ханжами и фарисеями: опознавательная система «свой — чужой» сработает пару раз наоборот, и откроют по ней огонь из всех стволов, правду-матку в глаза, принципиальная братская критика — ну, это в эсенгешном управлении хорошо умеют.
И всё… и поплыла наша христианочка в свободный дрейф. Та, первая община, оказалась не того идеологического направления, у нее раскрылись глаза на всё их мракобесие. Эта, новая, окажется лицемерной и нетерпимой, и снова раскроются глаза. И пойдет она по белу свету пробовать на зубок разные конфессии, искать ту, которая точно по ее мерке будет, где примут ее с распростертыми объятиями, ничего не захотят в ней переделывать, а поймут и оценят ее такой, какая она есть. Есть такая община, и вы ее знаете! Это у нас. Слава аду, не заведено у нас жаловаться, что новоприбывшие слишком худосочны, да грешки у них слишком заурядны, да душонки мелки и невонючи. Что ни есть в печи, всё на стол мечи, велит нам наш вечный, здоровый голод. Так что должен окончиться у нас этот дрейф не где-нибудь, а у нас.
Ну, а по дороге можно неплохо поразвлечься, проталкивая ее сквозь кучу самых разных общин и конфессий. Та слишком авторитарна, эта, напротив, охотно венчает гомосексуалистов. Эта не спешит модернизироваться, а та уж в конец обмирщилась, превратилась в клуб по интересам. Эта молится на непонятном языке, а та под видом гимнов поёт пошлейшие попсовые песенки. И главное, людишки, людишки-то всё какие-то неприятные, мелочные, глупые, злобные, исправлению совершенно не поддаются… Куда ей таких! Ей ангелов подавай в братья-сестры. А еще лучше — буратин длинноносых, она сама их обстругивать будет на свой вкус, или на дрова рубить, уж как заблагорассудится.
Хороший план, ничего не скажешь! Одна только какая-то неувязка, мелочь, а все-таки беспокоит — не случилось бы чего…
В тот день у них как раз было заседание редколлегии, верстали новый номер. Самое оно, после длинного и утомительного рабочего дня в конторе такой же длинный рабочий вечер на частной квартире, и семью побоку, ибо долг зовет, ибо не все еще просветились и не все признали нашу правоту…
Ну, рассмотрели одну статейку, другую. Ту вон отвергли — хоть и толковая, и интересная, и автор пишет замечательно, да вот, к сожалению, недостаточно в ней обличаются уклонизм-мракобесие… а вот эта вот политическая агитка вполне выдержана, ее на первую полосу. Тут уж всем вмазали! Всем прописали ижицу! Особенно, тем, которые… ну которые вроде как наши, но на самом деле не наши, потому что борются за нас недостаточно последовательно, обличают наших врагов недостаточно бескомпромиссно, и вообще невесть о чем думают. Пора бы им уже определиться, в самом-то деле!
Странно, почему мне почудилась у них на головах такая шапка островерхая, с красной звездой, и еще большой пистолет на боку… Ах да, это из той редакции, которую мне довелось посещать году этак… да, да, году этак в 1920 по их исчислению. Мы тогда так помогали им раздувать мировой пожар на горе всем-всем-всем, и не только буржуям. Что-то определенно мне об этом славном времени напомнило. Та же деловитость, боевитость, те же беспринципность и компромиссность… то есть наоборот, принципиальность и бескомпромиссность. Или все-таки так? Ну да, это смотря к кому как. Одним боком к чужим, другим — к своим.
А еще есть там одна замечательная мина замедленного действия. Ну, отрицательная-то программа у них у всех совпадает, может, только в деталях отличалась — кто самый большой враг. А вот положительная… ну да, говорят они примерно одни и те же слова, восхищались своим замечательным братством. На деле-то у каждого свои планы, в Наполеоны каждый сам метит — на худой конец, если не себя, так любимца своего протолкнуть. И уже заранее ясно: как только кончится обличение, как только надо будет что-нибудь полезное, наконец, сделать, тут и пойдут ссоры-раздоры, да какие! Это уже предательство общего дела, если твой друг и собрат глядит на какую-то проблему совсем не так, как ты, разве нет? Вы же все с самого начала именно вот это и вот это имели в виду, а теперь оказывается, что он не в ту сторону смотрел? Так он от врагов засланный, наверное, или сам на их сторону переметнулся! И она вот тоже, раз ему сочувствует. И вообще все они предали общее дело!
Я уже заранее предвкушаю это пиршество духа — духа скандалов и самолюбования, я имею в виду. Оно должно наступить с неизбежностью заката, и пусть они пока наслаждаются своим мнимым рассветом, тешат себя иллюзиями, что это навсегда… Но что все-таки надо было там этому старику? Я вдруг опять учуял его запах. Легкий такой, но слишком хорошо узнаваемый. Слишком. Такой я не спутаю ни с чем!
А когда я снова смог… ну в общем, сосредоточился на происходящем… наша дамочка валялась в обмороке. А вокруг нее суетились эти отвратительные двуногие. Как все-таки мерзко, что нам приходится питаться душами существ из плоти и крови! Их телесность бывает иногда сущим наказанием. Ты решаешь с ними чисто духовные вопросы, а они бац — и в обмороке! Ты собираешься спасать все человечество, а они начинают бегать вокруг этого мешка с костями и кишками, брызгать водой, вызывать скорую… Зачем? Бросьте ее, там человечество погибает, там церковь нуждается в ваших решительных и неуклонных действиях по ее спасению! Ау!
Ну, в конце концов, обморок и обморок… Я и значения сначала не придал. Ну нервы по пустякам, недосып, скверное питание — все это искусители, конечно, постарались организовать, это хороший фон для настоящих духовных искушений. Она в последнее время постоянно и на слабость жаловалась, и температурка скакала… Ну, кое-как привели ее в порядок, с трудом, правда, и скорая приезжала, и отвезли ее потом на машине домой, зелененькую. Муж даже переполошился, вышел в реал, в аптеку сбегал.
Но… потом еще один такой случай на работе, и еще… Это стало повторяться. Я даже посоветовал немедленно заняться поисками хорошего врача — пусть пожалеет себя как следует, пусть пораздувает липовые болячки, заставит всех покрутиться около них… В общем, под моим чутким руководством Притворяла погнала ее к врачу. И к хорошему! И с анализами. Будет, над чем поработать.
14
Как же мы это с ней упустили? Как могли? Куда смотрели искусители, да и весь их религиозный сектор? Ну и что, что не по их профилю! Такое — и проворонить… Все, вроде, шло по порядку. По моему плану. Не иначе старик тот подгадил, который в бушлате. Кому ж еще? Как я был слеп! Впрочем, что это я. Разумеется, я был прозорлив, и решил сразу проверить состояние ее здоровья. Как жаль, что нам, бесам, не полностью бывает доступны сведения о подопечных, нужно потребовать решительных прорывов от отдела новых информационных технологий.
Ну, проверили. Удар был страшен. Этот комок плоти, это несчастное двуногое, этот инкубатор для нашего праздничного блюда… я даже не хочу повторять диагноз… Какая несправедливая игра! Какой испорченный праздник! Все планы прахом, и надо срочно, срочно что-то решать… Врачи забегали, и анализы перепроверили, и в больнице подержали, но все сошлось. Так и определили — уже последняя стадия, прогрессирует семимильными шагами. В общем, остается ей максимум полгода земного существования, да и то навряд ли.
Притворяла, конечно, не упустила своего шанса насладиться ужасом, растерянностью… человеческое, все это слишком человеческое. Приятное, не скрою, но естественное. А то, что естественно, еще не может служить нам пищей. Нужно, чтобы из природных склонностей человека возникло волевое усилие, чтобы он осознанно или неосознанно сделал выбор, и чтобы выбор этот был нашим. От крика боли, от случайного испуга немного проку. Я, разумеется, обратил на это ее внимание.
Да, нашим планам относительно нее не суждено сбыться. Но суждено ли сбыться планам Врага? Тоже, нет, похоже — не успеет Он сделать из нее великую воительницу. В наших поединках не существует такого понятия, как «ничья», победить может только одна из сторон. Но если что-то пошло не так, оно и для Врага будет не так. Его ли воля в том, что происходит с ней? Закон ли природы? Не знаю, не знаю… Трудно это объяснить, даже нам, почему тот или иной человек совершает свой переход в тот или иной момент. Главное для нас — как он его совершит.
Так что, сказал я, хватит паниковать. Работать надо. Из состояния равновесия выведены не только мы, то есть они, младшие искусители, но и сама наша подопечная. Да, теперь уж не получится устроить все так, как я задумывал. Но и ее планы летят к кошачьим ангелам. Не будет, ничего не будет уже здесь, кроме боли, страдания, крика и самого, самого страшного для этих двуногих — врат, через которые проходят все они и о которых так старательно пытаются не думать. Не без нашей помощи, конечно.
Вот с этого и начнем. Это не она, это ошибка в диагнозе, нелепость. Реальности нет, потому что она слишком страшна. Вместо реальности — рамка от раздавленной картинки собственной жизни, которую она так старательно рисовала. Пусть как можно дольше она сопротивляется, не верит… Пусть помогают ей в этом родные, пусть говорят сладкую, желанную ложь, что все будет хорошо, что никто и никогда не уходит из их земной жизни, и уж во всяком случае не она, не сейчас, не от этого…
Гони, гони до последнего мысль о смерти, иначе, сама понимаешь, трудно тебе будет выздороветь. Не время сейчас для исповеди, никак не время, да и место какое неподходящее. Да и кого звать? С прежним духовником давно уж нет общего языка, новый священник слишком занят, первого попавшегося тоже не позовешь, как ему расскажешь.
Надолго этого не хватит, разумеется, но это для нас — только авангардные бои, только способ заранее измотать силы Противника. Придет момент, когда она сама откажется от спасительной лжи, и не помогут самые убедительные слова родных. И что тогда?
А вот тогда — главное, решительное сражение. Одно. Последнее. Но если мы выигрываем его, мы выигрываем войну. И позиции наши хороши, как никогда. Посмотри на свою жизнь, девочка. Что успела ты сделать? Ничего. Ты не раскрыла своих возможностей, ты едва начала жить, ты только-только пришла к Врагу, едва-едва начала работать на Него — и где награда? Ну, допустим, награду ты не заслужила, как вы там привыкли повторять (хотя кто из них на самом деле такое про себя думает?), но где элементарная жалость, сочувствие? Кто Он такой, этот твой Враг? Коварный, капризный деспот, который не дает тебе пожить в свое удовольствие (и в наше, заметим, тоже), который требует от тебя немыслимого, а потом просто ломает тебя, как ребенок — игрушку.
Нет зла страшнее, чем уход из вашей земной жизни, ведь так? Тебе нельзя убивать — а Ему можно? Ты даже не о себе будешь плакать беспросветными больничными ночами, корчась под липкой простыней от невыносимой боли. Ты будешь плакать о детях Освенцима и стариках Гулага (нет, это я зря упомянул…), о сожженных катарах и старообрядцах, о всех, кого замучили ради этого Врага, кого замучил, по сути, Он Сам.
Не нужен тебе Он такой, девочка. Даже если Он есть. Вернее так, Он есть, но Он жесток, капризен и несправедлив, чудовищно несправедлив. Почему ты? Почему не та зажившаяся твоя троюродная тетка, без мужа, детей, с несносным характером, от которой осталась бы такая лакомая квартирка? Почему не тот инвалид из соседнего подъезда, который не встает с постели восьмой год, за ним выносят судно, а он сам наверняка давно молит Врага об уходе? Почему ты — сильная, молодая, здоровая, преданная Ему всей душой? Задумайся об этом.
Сотри разницу между врачом и шаманом. Пусть муж едет к ламам и экстрасенсам, поит тебя заговоренными травами и бьет в бубен. Пусть, в конце концов, продает квартиру, потому что денег на эту братию у него не хватит. Никакая цена не будет слишком высокой за спасение твоей жизни. Нет, ты не требуй, ты даже откажись от его жертвы, но просто расскажи, чтобы он знал и все знали: есть там за семью горами чудо-целитель, мертвых поднимает, только вот дорого берет, а на однокомнатную, кстати, покупателя найти легче легкого… Продаст ли квартиру за колдовской пшик, или оставит на себе эту вину, что жене на лечение денег пожалел — не так даже и важно.
Да, ведь будет жить он, твой муж, это ничтожество. Он вздохнет с облегчением, заведет себе новую девицу, или даже не одну, он будет просто счастлив избавиться от тебя. Да и на работе обрадуются. Конечно же, они сразу уволят тебя, кто же будет оплачивать такой бюллетень, и возьмут кого помоложе-поперспективнее-посимпатичнее… Всем, всем ты мешаешь. «Отряд не заметит потери бойца». Уйди от них с обидой, с чувством собственного достоинства. Прокляни их на пороге.
А с Ним… ну, попробуй с Ним договориться. Последний раз. Пообещай Ему что-нибудь пафосное такое, несусветное, на Джомолунгму босиком, если только Он оставит тебя в живых. Не для себя ведь просишь, для дела, для Его дела, для этих ничтожных людишек. Стребуй с Него гарантий, Он же должен, слышишь, Он должен тебя спасти! Да нет, не в этом смысле… от страшной болезни. Он же обещал, чудеса там всякие, всё такое. Требуй! Себе, про себя, для себя!
А когда ничего не выйдет по-твоему — прокляни и Его тоже. Вот оно, наше решение, наш ответ.
Я проникаю в эту серую палату, где лежит на каждой койке лучшее, несомненнейшее доказательство превосходства нашей бестелесности — страдающее смертное тело. Этот дежурный мертвенный свет, и такая же дежурная тоска, и обида…
Почему здесь он? Ее муж? Он же должен сидеть в интернете? Разобраться с его искусителем, и немедленно. О чем он вообще говорит? «А помнишь, как тогда…» не было, не было этого, а если и было, то теперь уже нет, теперь боль, мрак, страх. Больше ничего. Твое тело само пожирает себя, это Он так устроил. Откажись. Плюнь.
Как трудно здесь дышать… как невыносимо… сколько молитв самых разных людей сплетаются в полог над ее кроватью… какой отвратительный запах от этих дорогих лекарств, их купил едва знакомый человек… а еще от этой крови, которую сдавали для нее коллеги по работе, школьные друзья — зачем? Сколько, сколько недежурного света, отовсюду… Режет глаза. Я не могу так работать. Это нечестно. Что же, мы получим ее и потеряем десятки других людей? Я не согласен! Но вот эту, ее я отпустить уже просто не могу. Она моя, моя, моя!
Зачем она улыбается, что она сейчас говорит? Почему считает, что кому-то здесь хуже, чем ей? Как она смеет помогать другим? Старик, старик в бушлате — зачем он здесь?!
15
Прошел ведь уже год земного времени с тех пор, как мы выбрали ее в качестве объекта воздействия. Целый год. Кто, интересно, так меня подставил? Не может быть, чтобы я сам. Найти, найти виновного, и покарать! Это интриги, я доподлинно знаю.
Я даже не хочу описывать, что там творилось, в ее палате. Земной мир вставал перед ней во всей беспощадной наготе и открывал окно в мир духовный. Она задыхалась, она рвалась, она пыталась укрыться одеялом былых представлений, тешиться погремушками прежних дел, грезить давно уже неосуществимыми планами. Мы так хотели ей в этом помочь… Почему умирающим можно опиум, а это — нет?
Несправедливо! Если Он убивает — пусть убьет ее сразу, одним ударом. Почему Он дал ей столько времени на переход? Почему дал ей примириться с ближним и дальним? Почему я и близко не смог подойти к последней исповеди, вырывавшейся из хрипящего горла за несколько дней до того, как…
…как он взял ее за руку, все в том же ненавистном бушлате, и для нее не стало боли, не стало мрака, и даже те длинные, подробные счета, которые ползавшая под ногами старика Притворяла все пыталась предъявить, почему-то совершенно не брались в расчет, и в море ослепительного света даже не разглядеть было ее каракулей.
Ладно. Хватит об этом. Просто невыносимо, в конце концов.
А главное, главное! Меня, звезду искусителей, Балабола Великолепного, переводят на, как они это назвали, «творческую работу». В главное управление глюкографии и бредоведения, подумать только! Писать сценарии для наркоманов, шизофреников и особо продвинутых эзотериков. Ссылка, настоящая ссылка. Ничего, я еще поднимусь, я покажу себя! Буду тщательно изучать материальную часть. Вот, кстати, хороший справочник по фармакологии… сравнительный анализ конопли из Чуйской долины и степей Северного Казахстана… Собрание сочинений Блаватской… Теоретическая подготовка всегда была моей сильной стороной.
Обязательно засяду за эту литературу. А пока хотя бы поем холодца…
Письма спящему брату
Предисловие
Как родилась идея этой книги? Сначала я написал «Записки Балабола» — продолжение гениальных «Писем Баламута» К. С. Льюиса. Это был дневник беса-искусителя, занимающегося своим делом в современной России, во многом шутливый, но отчасти серьезный. Говорить об аде совершенно всерьез было бы просто жутко, да и нет у меня такого опыта, но зато вполне можно было расставить некоторые вешки на наших повседневных тропках: осторожно, если идти в этом направлении, рано или поздно тебя обступит тьма.
«Записки Балабола» вышли, вызвали некоторое количество отзывов — и просьб о продолжении. Но продолжать писать от имени беса мне не хотелось совершенно: да, форма эта почти беспроигрышна, так можно обличать пороки ближних и несовершенство общественного устройства почти бесконечно, но где-то надо остановиться. Вот если бы можно было взглянуть на человеческую жизнь глазами ангела… Нет, такого я написать просто не мог, это я понимал совершенно четко. Если на страницы выходит невсамделишный бес (а такой, конечно, только и может выйти, иначе бы каждый из нас содрогнулся от отвращения на первой же странице), это всего лишь ослабленный штамм бактерии, прививка от болезни. Но ослабленный ангел?!
А потом… В какой-то момент, размышляя о собственной судьбе, я вдруг четко осознал, какого посмертия я желал бы сам для себя. И тогда я его постарался представить и выразить в словах, я начал описывать человеческую жизнь глазами человека, как от века и пишутся книги. Единственная особенность в том, что человек, от имени которого ведется рассказ, уже перешел ту грань, которую всем нам только предстоит перейти.
Впрочем, эта книга вполне самостоятельна. Не обязательно читать перед ней «Записки Балабола», а тем, кто их прочитал, не стоит ожидать прямого продолжения уже знакомого текста. Это действительно совсем другой взгляд.
Я понятия не имею, соответствует ли мой вымысел хоть каким-нибудь посмертным реалиям. О них мы знаем крайне мало — только самое-самое главное, поэтому остальное приходится домысливать и воображать. Наверное, стоит сказать еще одну банальнейшую очевидность: эта книга не претендует на статус пророчества — в уста своих героев я вкладывал собственные мысли (а еще чаще подсказанные или услышанные у других), которыми мне хочется поделиться с читателем. Многие из этих догадок наверняка выйдут неверными, и уверен я только в одном: всё прекрасное будет там неизмеримо прекрасней, чем мы себе представляем, а многие наши нынешние оценки изменятся.
Эту книгу я посвящаю своей маме. Вскоре после того, как книга была написана, начался мамин уход, и это были очень трудные, но и удивительно светлые месяцы, когда мы снова стали так близки, как бывали прежде только в раннем моем детстве. Ее уход стал началом нашей встречи, и теперь остается верить, надеяться и ждать Встречи окончательной и бесконечной. И тех, кто к такому привычен, я прошу помянуть среди ушедших и ее — Светлану Степановну Десницкую.
Живите в доме — и не рухнет дом. Я вызову любое из столетий, Войду в него и дом построю в нем. Вот почему со мною ваши дети И жены ваши за одним столом, — А стол один и прадеду и внуку: Грядущее свершается сейчас, И если я приподымаю руку, Все пять лучей останутся у вас. Арсений Тарковский
1
Мишенька, здравствуй!
Как хотелось бы мне сказать тебе эти слова лично, и крепко обнять тебя, как это бывало у нас тогда, и как потом, мы, кажется, разучились — но пока мне остается только ждать, когда это может произойти. Я знаю, что ты не уснул — ты просто дремлешь, тебе грезится прошлое, ты перебираешь мысли и чувства, ты тоже готовишься. Просто у всех свои скорости и свои характеры — вот кто бы мог подумать, что здесь я окажусь шустрее тебя? Ты ведь всегда звал меня недотепой.
Я и есть недотепа, Мишка. Все та же, как в пять лет, когда уронила кувшин с молоком, и смотрела, как разливается белое пятно по пахучим сосновым доскам пола, перемешиваясь с солнечным светом — помнишь, на даче, у Сокольничей рощи? — так стояла и смотрела, замерев от красоты мира и собственной неловкости. Я все такая же, правда. Ты же не станешь думать, будто я хочу похвастаться: мол, пока ты спишь, я тут…
Просто хочу тебе рассказать о себе. Я верю, что ты очнешься от своей дремы, и мы будем говорить столько, сколько потребуется, ведь впереди у нас будет вечность, но сейчас ты не бодрствуешь, и я ничего не могу с этим поделать. А когда ты проснешься, я буду уже другой, мы ведь постоянно меняемся, и наш переход сюда, наша смерть — далеко не самая последняя перемена. Может быть, тебе будет радостно узнать, что происходило со мной, пока ты спал.
Мы и здесь не можем полностью отвлечься от этого земного времени, хотя оно уже утрачивает свою власть над нами — может быть, и могли бы, если бы не любили никого и ничто на земле, а так у нас не получается. Вот и летаем мы над собственным прошлым, как птицы над землей, высматривая и милые сердцу минуты, и страшные, черные провалы… Если увлечься полетом, можно задремать, как случилось с тобой. Что тебе грезится сейчас? Наверное, наш предрождественский Столешников, огни витрин, скрип снега и звонки трамвая, и как вносят с мороза елку, а Груня сердится, что хвои натрясут, но ничего не говорит, а мама беспокоится, чтобы не застудили детей. А дети, то есть мы, стоим, раскрыв рот, и гадаем, что будет нам на праздник — помнишь? Или это я только стояла, раскрыв рот, а ты и тогда уже был выдержанным, разумным мальчиком, к тому же старше меня на два года. Как теперь это смешно: старше на два года, — а тогда так важно казалось.
Знаешь, я была недавно в Столешниковом. Он изменился так, что и не узнать, но дом наш не снесли (там почти всё сейчас посносили), только витрины совсем другие, и трамваев нет, и Рождество у них теперь не всегда со снегом, вот странно, да и никак я не привыкну, что Рождество снова празднуют, но только после нового года, а не до… И так странно быть в этом и не этом городе — присутствовать там, где ничего уже почти не осталось нашего, присутствовать незримо, бестелесно. Не скрипнет снег под твоей ногой, и не купишь ты ничего в этом магазине, да и нечего тебе в нем покупать.
Это ведь одно из мучений, которое выбирают себе некоторые души, по слепоте считая это лучшей долей — скитаться в тех местах, где бывали при жизни, словно можно найти там потерянное время, получить недоданное тепло. Ты не из таких, ты дремлешь. Я не знаю, когда и как ты выбрал это для себя, ты же оказался здесь раньше меня, но знаю, что в этом выборе ты не один.
Странный вы все-таки народ — спящие. Так привыкли мы рассуждать на земле о рае и аде, даже те, кто ни капли не верил в них, вот и думалось нам, что сразу после перехода ты отправляешься либо туда, либо сюда — а оказалось, что еще идти и идти. Либо выращивать это семечко собственной подлинности, чтобы оно могло вытянуться вверх, либо задавливать его, чтобы не мешало опускаться вниз. И только спящие — но я лучше буду говорить «дремлющие» — замыкаются в самих себе, и не видно снаружи, что происходит в этом коконе воспоминаний и образов. Знаешь, я видела недавно одного пробудившегося — он был как младенец, не узнавал родных, радостно удивлялся всему и хныкал, если не получалось что-то с первого раза (а тут почти ничего не дается сразу). Потом я узнала, что на земле он был убийцей-изувером, несколько веков назад он унес с собой множество жизней. Ты же слышал про «гари», когда наши предки сжигали себя целыми деревнями, вместе с малыми детьми, чтобы только не оскверниться прикосновением к тому, что считали нечистым? И вот, представляешь, он заснул. Я не знаю, что ему снилось, но проснулся он через три земных века свежим и наивным, сбросил с себя груз прошлого, и может быть, пройдет еще десять веков, прежде чем он сумеет заново с ним познакомиться, ужаснуться себе, былому, и принять себя нового.
К прошлому всем здесь приходится привыкать заново — и тебе, наверное, тоже это предстоит, а мне так точно дается это не сразу. Так странно здесь погружаться в свои воспоминания: они расступаются и охватывают, как вода в пруду, светлеют, проясняются, и вот я уже незримо присутствую при том, что лишь смутно и неверно помнила… Так вот как оно было на самом деле! Я же знала, но забыла. Заставила себя забыть, закрылась, придумала себе всё другое.
Знаешь, я пересмотрела столько всего из детства — нашего с тобой детства! — и это было удивительно прекрасно, но порой и грустно. Прошлое уже прошло, оно никогда не вернется, и ничего уже невозможно ни изменить, ни вычеркнуть. Сначала умиляешься и удивляешься, а потом приходится и покраснеть, и даже ужаснуться и себе, а иной раз и другим: вот это было. Особенно когда я стала возвращаться в то, что было после детства.
И все же многое остается для меня закрытым. Я путешествую по земной жизни осторожно, точнее, меня ведут по ней осторожно — не всегда расступается вода воспоминаний и не всё возвращается с прозрачностью тех дней. Пока что не всё. Может быть, я просто пока не готова, так сказал мне мой Максимыч.
Ты, наверное, поразишься, когда увидишь моего мужа, Мишенька. Ты не думай, он такой же добрый ворчун, каким был и на земле. Представляешь, первое, что я услышала от него, было «Ну и заждался же я тут тебя, Антиповна!» — и та самая детская, внешне строгая, но такая светлая улыбка… Знаешь, когда я увидела эту его улыбку, я сразу поняла, что всё будет очень хорошо, что я возвращаюсь домой, и Максимыч снова со мной.
Это ведь благодаря тебе, Мишенька, мы встретились. Даже странно об этом думать, но если бы тогда не напросилась одна дерзкая гимназистка со своим братом-студентом на гулянье в Татьянин день, так и не увидели бы мы друг друга. Или все равно бы встретились, просто позднее и по-другому? Кто знает, мне иногда кажется, что если близкие люди там, на земле, разъедутся даже по разным континентам, они обязательно притянут друг друга через океаны и времена. Но ты не дал нам разъехаться, Мишка! Помнишь, ты ужасно гордился своей студенческой формой, а я так еще больше гордилась, что мой старший брат — уже студент Университета, и вот вопреки всем традициям я-таки потащилась за тобой в «Эрмитаж» на гулянье, одевшись как взрослая барышня-курсистка.
Он так посмотрел тогда на меня — ну надо же, целый приват-доцент, такой ужасно взрослый, лет 27-ми, смотрит на соплюшку-гимназистку такими глазами! — и вот видишь, что получилось. Правда, не сразу.
Может быть, ты уснул, потому что некому было тебя встретить? Родители… с ними всё сложно. Я расскажу тебе потом. И вообще, первая встреча получается только с самыми-самыми, и даже не угадаешь с какими. Я бы тоже хотела встречать людей, говорить им что-то светлое и простое, чтобы они не боялись — или, точнее, чтобы они боялись не того, чего привыкли бояться, и совсем не так, как привыкли. Что всё обязательно будет хорошо, только не надо засыпать, не надо отчаиваться, не надо…
Я бы рассказала о Нем. Но не все хотят слушать, я знаю, и знаю, что ты вряд ли захочешь так сразу, поэтому молчу. Многие ведь хотят оставаться без Него и после перехода. Я лучше буду пока говорить тебе о нас с Максимычем.
Только знаешь, я пока не могу никого встречать. Это было так странно — перейти из хлопот и очередей, из неустроенного нашего коммунального быта, из всего, что окружало меня, в мир, где не надо беспокоиться ни о чем из прежнего. Такими странными и смешными показались все эти собесы, пенсии, магазины, поликлиники…
Это такое счастье — увидеть любимых! Жаль, что пока не всех удалось повидать, кого хотелось, да и нужно было повидать — это ведь тоже труд, и он дается не всем и не сразу. А Максимыч… Знаешь, я всегда знала, что он особенный, но когда я увидела это… Ты не думай, он не зазнался, тут вообще не зазнаются. Великий — он самый внимательный к мелкому, иначе не получается. Я боялась, что его тут на части разорвут, а оказалось, что искусство быть великим — это искусство быть сразу со многими, и прежде всего с Ним, и никогда не терять никого. Это трудно, я только-только немножечко начала этому учиться.
Ладно, я не буду о своем. Я лучше вспомню что-нибудь очень светлое и яркое из нашего с тобой детства. Это было, наверное, первое лето, когда мы снимали дачу, и еще даже не лето, поздняя весна, холодная в том году. Мне было четыре, тебе шесть, мир был таким огромным, и ты показывал мне шмеля. Он ползал по старому, корявому пню: вялый, сонный, наверное, только что появился на свет. Солнце едва проглядывало в тот день из-за облаков, было еще прохладно, и он, наверное, не мог согреться, чтобы улететь. Я так боялась, что он меня укусит, а ты важно рассуждал о шмелях, о том, что они ни за что не кусаются, если их не обижать, такие они добрые. И питаются цветочным соком, так ты тогда сказал.
А потом нянька позвала нас к чаю, и шмель вдруг сорвался с пня и полетел, тяжело так, медленно, и я вдруг так остро ощутила, что больше никогда-никогда не увижу этого шмеля. Я заплакала, и ты решил, что я испугалась, а я просто впервые в жизни узнала потерю живого: вот встретилось оно, и исчезло, и его больше не будет. Потом мы пили чай с медовыми пряниками, ты наворачивал за обе щеки, а я беспокоилась за шмеля: где же он возьмет цветочный сок, если цветов еще нет? А добрая нянька тут же стала мне рассказывать, что он полетит на юг, в теплые страны, где цветет много-много цветов, и будет жить там долго и счастливо. И вообще, у нас только что настал двадцатый век, сказал ты, а это должен быть очень-очень счастливый век, так что и со шмелем будет всё хорошо. А я поверила.
Помнишь ли, Миша? Я и сейчас невольно оглянулась — может быть, здесь этот шмель, может быть, он согреет своим жужжанием твой долгий сон. А пока я просто буду писать тебе письма — как жаль, что это не пришло мне в голову прежде!
Обнимаю тебя,
Твоя Маша.
2
Здравствуй, Мишенька!
У меня такие удивительные новости! Но прежде, чем расскажу их тебе, я вот еще о чем подумала… Наверное, зря я не сказала тебе тогда, каким трудным был для меня этот переход. Он ни для кого не бывает легким, разве что для удивительного нашего Максимыча. Но, сам посуди, когда умираешь от истощения и побоев в промерзлом бараке, среди ненависти, безразличия и грязи, всё дальнейшее будет уже облегчением. Я немного даже завидую ему: я умирала в больнице, на чистой простыне (ну, бывали и грязнее), за мной все-таки ухаживали… Видишь, мне не дано было такого перехода, как ему, значит, мне это было не по силам. Или не нужно — но мне-то кажется, что так было бы легче.
Зато он встретил меня, и провел, чуть ли не за руку, долго и терпеливо, через всё, что было по пути. Некоторые его тут называют «могучим воином», а меня смущают эти слова. Это вы, мужчины, привыкли говорить о войнах. Помнишь (а может быть, тебе сейчас это снится?) как мы провожали тебя на фронт? Сколько народу было тогда в родительской нашей квартире, и все пили, и пели, и о чем-то рассуждали, и видно было, как не терпелось мужчинам прикоснуться к этому великому для них слову: «фронт». А ты был в новенькой, с иголочки, офицерской форме, только после выпуска, и то и дело оглядывался в зеркала на свои погоны. Если совсем честно, форма тогда не очень ловко на тебе сидела.
А помнишь, как я, глупая девчонка, вздумала дразниться: как это ты, человек таких прогрессивных взглядов, будешь теперь «ваше благородие»? И ты долго, с таким жаром, стал говорить мне о судьбах славянства, о пангерманской угрозе, о том, как должны отойти на второй план все наши политические пристрастия, и о том, как в огне войны родится новая, счастливая, демократическая Россия… Помнишь? А я ведь только шутила и дразнилась, мне просто было досадно, что я так долго не увижу своего родного брата, что его теперь поглотила какая-то огромная и чужая всем нам зверюга, которую почему-то звали словом «фронт», и о которой писал наш Поэт: «с галицийских кровавых полей». Вот с тех пор мне не хочется говорить о войне.
Мне проще говорить не о войне, а о саде, где растет столько всего (не случайно и Он постоянно показывал ученикам то смоковницу, то виноград, то еще что-нибудь). Рост отнимает много сил, ему еще нужно состояться — вот на то и есть садовники. Можно, конечно, сказать, что они воюют с сорняками и вредителями, но мне проще назвать это по-другому: они помогают нам расти. Вот и Максимыч такой, и даже странно называть его моим земным мужем.
И я тоже была зернышком в этом саду, в черной, неуютной почве. Он помогал мне прорасти, это было трудно, действительно трудно — ты словно раздвигаешь эти глыбы, наваленные на тебя твоим собственным прошлым. Да что прошлым: твоим собственным «я»; и вот оно мучается, кричит, требует своего и не хочет ни с чем расставаться, начиная с этого больного, старого тела — так зерну надо перестать быть зерном, скинуть собственную твердую оболочку, чтобы нежный и хрупкий росток смог пробиться к свету.
Ты видел столько смертей, Миша, на двух мировых войнах. Скажи, это правда, что молодые умирают легко? А в старости цепляешься за это никчемное, уставшее тело, и точно так же — за привычки своей души, заскорузлой, закопченной. Трудно, я знаю, поэтому некоторые уходят от этого труда — кто в сон, как ты, а кто…
Знаешь, Миша, а ведь мамы нет с нами. До последнего Дня ничей выбор еще не окончателен, но мамы сейчас с нами нет. Для меня пока что совершенно закрыт ее выбор: она его сделала, и я не знаю, почему он был именно таким: не быть с нами. Ты помнишь, какой потерянной она была тогда, вечером, когда мы провожали тебя в армию? Мне трудно и больно вспоминать ее, и как может быть иначе… Может быть, когда настанет День, всё станет ясным и простым, боль растает или сменится радостью, но пока мы только готовимся к этому Дню и ничего не знаем наверняка. Что-то сломалось в ней, что-то умерло еще тогда, на земле, задолго до тела, и вот — ее нет с нами. Может быть, она вернется. Может быть.
А ты вот спишь. Ты с нами, тебе только надо очнуться, только захотеть расти. Пусть тебе сниться что-нибудь светлое и трудное, потому что именно таким и будет твой рост.
Отец зато с нами. Он так изменился, его и не узнаешь… Но что я говорю, ты сам увидишь, когда проснешься! Мы нечасто встречаемся с ним, но столько, столько пришлось нам переговорить и перемолчать вместе, ты даже не представляешь. И вообще, здесь встречается столько людей, которых никак не ожидаешь увидеть. Например, здесь Никонов — и знаешь, мне было легко встретиться с ним. Мы знали, что стояло между нами в прошлой жизни, и потому мы смогли найти те слова, которые примирили нас. Ты, наверное, не захочешь сначала видеться с ним, но… Знаешь, мне кажется, что мама именно потому не с нами, что она опасалась встретить здесь людей, с которыми не хотела бы встречаться. Это нередко бывает, что люди замирают на пороге и поворачивают назад только потому, что компания кажется им неправильной. Мне не хотелось бы так думать про нашу маму, может быть, у нее было что-то другое, я просто не знаю.
Но я потом доскажу, а то письмо выходит очень путанным, мне так много хочется сразу всё тебе сказать!
Новости у меня вот какие: мне позволили стать наблюдателем. Это первая, совсем еще ученическая ступень. После наблюдателя можно будет стать помощником, а затем, может быть, даже хранителем. Наш Максимыч — хранитель. Избранные хранители становятся стражами, а дальше я точно не помню, дальше уже в основном те, кто были ангелами от начала — людям не дается этот труд, у них другие способности, другие умения. Зато и ангелы нам в чем-то уступают, так уж оно тут устроено.
Но это, ты сам понимаешь… мне еще и наблюдателем только-только предстоит стать! В общем, как в том забавном фильме про Золушку: я не святая, я только учусь. Ты же помнишь, какой я иногда бывала занудой и зубрилкой. У тебя вообще ужасно бестолковая сестра! Можно сказать, не слишком-то повезло той, которой я досталась, но об этом в другой раз.
Вот разбередила воспоминания, и теперь снова вижу тебя в армейском мундире, с золотыми погонами. Ты тоже хотел стать хранителем нашей страны. И никто тогда и подумать не мог, какой груз ложится на мальчишеские плечи с этим блеском: прапорщики, подпоручики… Славные, смелые мальчики. Отец так гордился тогда, что будет в нашем роду крестьянского корня настоящий офицер, дворянин, а я даже не знаю, собирались ли вам давать дворянство, как давали офицерам мирного времени, но не в том ведь дело! А мне было все-таки жаль, что юристом ты так и не успел стать. Мишка, вы тоже были хранителями, просто вы не родились ангелами.
Может быть, ты потому и заснул, что очень-очень устал там, на земле? Добрых тебе снов, Мишка!
Твоя Маша.
3
Мишенька, ты, наверное, ждешь от меня рассказа о родителях — да и о ком же еще я могу тебе рассказать? — а я все болтаю про себя, да еще в таком беспорядке. Попробую теперь наверстать.
Я действительно почти ничего не знаю о маме. Конечно, я ждала встречи с ней, но мама ведь ушла сама. Ты же знаешь, хотя мы и не говорили об этом много на земле, что тот пузырек на ее прикроватном столике не был случайностью — она выпила все таблетки сама, целиком. Замучил ли ее ужасный коммунальный быт, или размолвки с отцом, или сгущавшаяся душная атмосфера на пороге тридцатых, или все это вместе — но она ушла сама.
Она сделала выбор, а Он — Он ведь никого не заставляет. Это мы в детстве смеялись над религией, мол, она навязывает нам жуткое количество мелочных, никчемных правил. Может быть, и так, но Он не принуждает никого, и если человек хочет тихо уйти прочь, никто ему не помешает это сделать. Для меня совершенно закрыта судьба таких людей, даже Максимычу нет хода туда, где живут — или вернее, умирают после смерти — такие души. Максимыч только говорил мне, что сошествие во ад действительно было, и каждый, кто оказывается у его ворот, видит протянутую руку со следами от Креста. Ведь та суббота, когда после Креста Он спустился за душами людей, она всегда остается с нами, как и то воскресение, когда Он победил смерть. И та крестная пятница тоже, так что каждый делает свой выбор сам.
Ой, извини, я знаю, что ты всегда не любил этих «поповских сказочек», как ты их называл, но я просто должна постараться тебе объяснить хоть что-то про маму. Но сама я, как видишь, знаю очень и очень мало: она ушла от нас летом земного 1930-го года, отец пережил ее на шесть лет и скончался от инфаркта, да пожалуй, в этом была огромная милость к нему. Не пожелала бы я ему пробыть на земле еще два или три года… Впрочем, это знаешь и ты сам.
Больно и странно, что мамы нет. Мне остается только просить за нее и надеяться — но я бы не стала писать ей письма, как пишу тебе. Я не знаю, как и о чем с ней говорить, и если когда-нибудь она придет к нам, сюда, это будет огромный труд — научиться заново разговаривать с ней. Я знаю, что не поскуплюсь ни на что, главное, времени нам тут не приходится считать, но я не могу пройти ее часть пути — только свою собственную. И пока я продвинулась не очень далеко — я просто подвела черту подо всем, что было в нашей земной жизни, и сказала себе и, может быть, ей: «Да, это было, и этого больше нет и не будет никогда, мама. Мы больше никогда не будем обижать и мучить друг друга». Я знаю, что этого мало, ужасно мало… но ведь и без этого нельзя.
Отца я повстречала здесь очень скоро — да и могло ли быть иначе, если наши с ним и с мамой отношения и были самыми большими моими глыбами, каменными такими, придавившими нас с самого-самого детства. Ну не выходило у нас толком ничего, ты же помнишь! Иной раз и слова в простоте сказать друг другу не могли. И вот он вышел ко мне, стройный, спокойный и очень грустный: «ты пойми, доченька…» Я так ждала от него этих слов, с самого, наверное, детства, и когда дерзила, и когда обижалась. И тогда в ответ на эти слова я бы нафырчала и нахамила, а потом сама бы ревела в подушку и терзалась невозможностью поговорить, но теперь я смогла их услышать — ведь как бы иначе пробраться мне к свету? Я ведь и его не отпускала, пока не развязала этот узелок. И теперь… Я ведь и сама мать, Мишенька. Но о встрече с сыном я расскажу тебе в другой раз.
«Да не зайдет солнце во гневе вашем», когда еще писано, я не сразу поняла смысл этих слов, когда их прочитала. А теперь вижу, как внезапно заходит наше солнце, и остается один гнев, и тащим его на себе годы и десятилетия, потому что не с кем уже бывает примириться.
Но теперь у нас с папой это получилось — и так стало легко! А папа, представляешь ли, увлекся своими предками. Помнишь, как мучался он на земле, что мало осталось в нем от исконного быта, от заволжской суровой жизни дедов и прадедов. Ведь еще дед наш Михей писался «государственным крестьянином», помнишь, и в купцы-то определился, лишь когда пароход стал гонять из Нижнего в Рыбинск, крестьянам пароходами владеть не положено. Но древлего благочестия держался твердо: моленная в доме, все посты да праздники блюдутся строго, против обычаев ничего не творил. Разве что сына, нашего отца, выучил по коммерческой части — а значит, и одежду пришлось ему переменить, и нравы.
Так и перебрался папа в Москву, а торговая жизнь в белокаменной с благочестием-то не очень совместима. Главное, не сумел он своих детей — нас с тобой — воспитать в древней вере. Благо, дед Михей того уже не увидел. Мы-то и вовсе всё отринули сразу, едва выйдя из младенчества, не крестились ни двуперстно, ни триперстно, а папа сколько раз, бывало, отсылал денег на Рогожское, да в тайные скиты старообрядческие — мы и слыхом не слыхали о том. У самого до лестовки руки редко доходили, так наказывал молиться за грешного Антипа «со сродники» — и ведь вымолили его, выходит. А может, и нас тоже.
И вот теперь встречается он с теми молитвенниками, с дедами и прадедами, расспрашивает их про старозаветную жизнь, да рассматривает книги, сличает, уточняет… Какое, оказывается, поле деятельности! Мы-то думали в слепоте своей, что они тупые, узколобые ретрограды, не способные воспринять новых идей — а оказалось, они положили свои жизни на то, чтобы сберечь старину, не растерять ее в погоне за модой, как мы с тобой, сохранить свою свободу и от государства, и от мирской молвы, по нашему — общественного мнения.
Умные люди там, на земле, изобретают сложные слова: «никонианство», «сергианство». Я не сильна в них. Я просто вижу, что перед Церковью вечно стоит тот же выбор: или идти на компромисс, подчиняться требованиям власти, наглым и порой безумным, и так сохранять свое присутствие среди людей за счет чистоты, или уходить в леса и на кухни, чтобы хранить чистоту и независимость, но только втайне от людей, для самих себя. Что лучше, не знаю, может быть, нужно и то, и другое, а может быть — что-то среднее, такое трудное и непонятное. Но не буду много тебе говорить о церковном, ты не любишь, я ведь на самом деле о папе.
Так бывает забавно смотреть, как разбирают наши прадеды особенности своего былого устава (здесь-то всё иное), сами ищут ошибки в том, что отказывались изменять при жизни. И папа с ними заодно, вот бы кто подумал!
Знаешь, родство ведь наполняется тут новым содержанием: ты не привязан к этому человеку узами привычки или закона, ты не просто делишь с ним комнату согласно прописке, куда же вам было друг от друга деваться? Теперь ты свободно выбираешь общение с ним — и в нем вдруг расцветает для тебя такое, о чем ни ты, ни он прежде и не подозревали. Вот ведь какое бывает пиршество!
А Максимыч, кстати, подыскал мне правнучку в подопечные. Знаешь, как хотела я тогда опекать и наставлять Антошеньку, своего сына, когда только попала сюда, как рвалась и металась, как пыталась каждую ночь пройти в его сны — и ничегошеньки у меня не получалось. Разве что приснюсь ему иногда. А теперь вижу сама: правильно меня не пустили. Я бы лепила из него то, что хотелось бы мне, я бы отнимала его свободу. Кто ж тут позволит такое! И когда пришло время нашей встречи, по земному времени не так уж и давно, мне снова пришлось очень и очень нелегко. Мишка, тебе бы проснуться поскорее — ведь и на тебе завязано немало узелков, распутывать-то их сколько!
Но я о правнучке. Она родилась уже после моего перехода, я ведь и внучку Сашеньку застала совсем малышкой. Правнучку нашу с Максимычем зовут Надежда — какое прекрасное имя! Это дочка Саши, единственная — ну вот что ж мы наделали, рожая все по одному ребенку! Поток ведь, когда сужается, бурлит, выходит из берегов, так оно и в нашем роду пошло. Хорошо, хотя бы Антон родил двоих, а ты, Мишка, хоть и нахулиганил в свое время, а в этом отношении молодец: у тебя, оказывается, пятеро, только ты не всех пока знаешь.
Наденька славная девочка, уже замужем, но пока без детей. Максимыч доверил мне быть при ней наблюдателем — я сама ничего тут не решаю, только буду смотреть, что происходит с ней, что-то подскажу Максимычу, о чем-то попрошу. Он тоже не железный, знаешь, сколько народу помнит и просит его! Вот бы никогда не подумала — о нем же никто не написал, ни в какие святцы его не внесли. А вот оказывается, след он оставил на земле изрядный.
Даже странным может показаться, что мне поручили именно ее. Да, она моя правнучка, она немного похожа на ту взбалмошную девчонку, которой была когда-то я сама. Ты же помнишь, Мишка! Наверное, именно поэтому. Может быть, если бы выбирала я сама, то выбрала бы ее маму — мою внучку Сашу, которую я еще застала на земле. Но Саша уже взрослая, ей нужен, наверное, кто-то поопытнее и посильнее меня. А совсем юной девочке и я, наверное, смогу пригодиться.
И еще, Максимыч заметил вокруг нее какое-то странное шевеление, говорит, надо бы повнимательней присмотреться. На самом деле, конечно, он просто хочет меня научить — ведь после наблюдателя можно стать помощником, а некоторых из помощников даже берут в хранители. Это Максимыч махнул через три ступени разом, ну, так он и на земле потрудился для этого немало, а обычно это занимает долгие века земного времени.
Видишь, я просто не привыкла сидеть без дела. Трудно женщине, когда не надо ни о ком заботиться. Помнишь ли ты — конечно, помнишь! — весну семнадцатого? Ты приехал тогда с фронта, с заломленной фуражкой, с красной розеткой в петлице, молодой революционный офицер, и все было так неопределенно-прекрасно, и открывались такие перспективы — а я смотрела на тебя, присевшего на диван на пять минут, да так и свалившегося в беспокойный сон, и ревела от счастья, что любимый брат со мной, пусть и пахнет чужой враждой, и теперь можно приготовить тебе чистое белье, непременно мне самой, а не Груне, и постараться купить хорошего кофе, и напечь булочек. Такими тогда неважными и далекими казались мне все эти «до победного конца» и «учредительное собрание», и о чем там еще говорил ты с таким жаром, в сравнении с этим бельем и булочками. И знаешь, я, кажется, была немного права.
Обнимаю тебя,
твоя Маша.
4
Ну вот, Миша, я начну тебе рассказывать о Наде. Всё равно получится не о ней, а больше о нас с тобой, и прежде всего обо мне: так уж оно выходит, что, всматриваясь в ближнего, мы ищем в нем свое, а не его лицо, решаем свои собственные задачи. Это не страшно, лишь бы не за его счет, но чтобы стать хранителем (как мне до этого далеко!) надо научиться иному. Трудно, правда? Но все равно лучше всматриваться в ближнего, не закрывать глаза, а то можно и уснуть, как ты. Я знаю, что спящие часто перебирают былые обиды и ошибки, и кажется им, что ничего уже не исправишь. А ведь в этом-то и есть самая главная их ошибка. Прошлое не изменишь — но оно уже исправлено за нас и ради нас, нам остается только это принять и признать. Не у всех получается, многие хотят сами: моё, дескать, прошлое.
Я как-то не особенно приглядывалась к Надюше прежде, а теперь уж точно придется. И ты знаешь, смотреть приходится не только на нее — на весь наш род. Ну да, все мы слышали, что «сын за отца не отвечает», даже те, кто думает, что Усатый сам это изобрел. Не отвечает, это понятно. Но чьи в нем гены, чьё воспитание? Кто передал сыну его собственное тело, его дом, его страну? Вот и выходит, что все мы всегда остаемся детьми, внуками, правнуками — даже когда пытаемся перестать ими быть, и в особенности именно тогда.
А мы-то уж как пытались! Ты смотри: отец наш продолжил, что делал его отец, и мать наша точно так же. Да, у них получалось совсем по-другому, а после революции и вовсе купеческому сословию настал конец, и работал отец счетоводом в каких-то конторах, а мама то продавщицей, то еще кем придется, но это внешнее. Так уж у них сложилось. Мы с тобой, Мишенька, с самого начала решили: у нас будет иначе. Мы выучимся, получим прекрасные, нужные стране профессии, будем работать на благо своего народа и всего человечества. У нас тоже не слишком-то вышло, ты знаешь, но мы первые в роду начали эту цепочку: жить совсем не так, как родители. Словно бы доказывать им, какими низкими были все их привычки, неверными, неверными все их идеалы. Скажешь, нет?
Сама я, как ты знаешь, мало чего добилась в жизни: как тогда, на первой войне, пошла сразу после гимназии на медицинские курсы, и казалось, что это только временное, только сейчас облегчить немножко страдания наших раненных солдатиков — а вышло это занятием на всю жизнь. Я ведь учительницей пробовала работать, и библиотекарем, а не очень-то получалось. Зато вот это: «сестра, скальпель! зажим!» — оно так и пристало ко мне, тут я была на месте. В медицинский поступить не получилось, с моим-то происхождением, но оно и проще: кому-то надо и скальпель подавать.
А что Антон? Как стремился он выбиться в люди, каким тяжким казалось ему это клеймо «сына врага народа» (а ведь все-таки не посадили меня, и его не отправили в детдом — значит, нам это было бы не по силам), как карабкался он вверх, ты, наверное, и сам помнишь. Учился старательно, спортом занимался, как мог, с парашютом прыгал. Оттого и на фронт уходил он, хоть и мальчиком совсем, а охотно, бестрепетно (ты к тому времени погиб, это было уже в 43-м). Его и пули пощадили: вернулся орлом, гвардии сержантом, орден да три медали, две нашивки за ранения. Такого попробуй в институт не прими. Тем более, тогда с кадрами плохо было, а страну восстанавливать надо. Так он и стал у меня инженером, и неплохим. Меня, глупой старухи, стыдился немного, хотя всегда помогал. Но больше строил страну Советов, после XX съезда и в партию вступил, когда Максимыча нашего посмертно реабилитировали.
Где он только не перебывал — Сибирь, Заполярье, даже в Африку его один раз отправили налаживать там что-то для братского социалистического режима, в Эфиопию, кажется. Это уже после моей смерти было, так что я точно не знаю. Так и остался с пламенной своей верой в настоящий, несталинский коммунизм, да не дожил до распада Советского Союза всего-то несколько месяцев.
Ой, Мишка, да ты же не знаешь этого ничего… Прости, я иногда забываю, что ты дремлешь. Ты ведь не слышал даже, что вторая война закончена. Для тебя в твоих снах, наверное, всё остановилось на том жарком июльском полдне 42-го года, в степи, среди звона цикад. Я ведь видела твой переход, Миша. Чужое прошлое тоже приоткрывается нам иногда, если человек нам действительно дорог, если мы можем это вместить.
Так что я видела это: пыльная степная дорога, по ней бредет десятка три бойцов и командиров, тащат винтовки, кто-то даже и пулемет. Главное, полковое знамя с вами. Твой стрелковый полк был разбит, и немецкие танки порвались дальше (ты извини, я в военной вашей терминологии не понимаю ничего), им было совсем не до того, чтобы вылавливать в безводной степи вас, одиночек. Значит, у вас был шанс дойти до своих.
А потом белесое небо загудело. Это звено «мессеров», возвращаясь с задания, вспомнило, что не весь боезапас еще расстрелян — не лететь же с ним на аэродром! Я видела веселое, молодое лицо того немца, который прошелся очередями раз, и два, и три, не надеясь даже попасть в ваши фигурки, раскиданные в ковыле. Он был совсем зеленым, Мишка, ты не сердись на него — для него это было что-то вроде стрельбы в тире по спичкам, попадет — не попадет.
Тебе раздробило ногу. Лекарств уже не было, и носилки было делать не из чего, и воды оставалось мало. Они бы просто не дошли, если бы ты согласился, чтобы они тащили тебя. Ты принял правильное решение, командир. Ты передал командование старшему лейтенанту, отдал ему документы и ордена, ты даже спорол петлицы, чтобы не знали они, кого найдут. Ты не оставил себе воды — только наган.
Ты выстрелил, когда они отошли версты на три, и не могли расслышать выстрела. Ты был прав, Мишка, я тебе как медсестра говорю: не было у тебя шансов с таким ранением в степи. Потеря крови, обезвоживание… Два дня мучений, самое большее. А если бы тебя прежде того нашли немцы — ты уже знал, что тебя ждет. Пусть все военные тайны, которые ты знал, перестали быть тайнами еще позавчера, когда ваш полк перемололи в крошево, но ты понимал, что можешь не выдержать допроса. А потом бы у тебя все равно не было шансов — ты уже знал, что бывает с раненными пленными. Твой выстрел был мужеством, Миша, а не трусостью. Тебя не осудят за него, я знаю это точно.
Я только не совсем поняла, о чем ты шептал тогда сам себе, перед тем, как нажать курок: «Вот если бы еще тогда… Машка, прости!» Мне не открыта та твоя страница, я же говорила, что нам дано знать лишь то, что мы можем принять как свет. Может быть, ты сам расскажешь мне об этом, а если нет, то, значит, и не надо.
Мишка, но зачем же ты уснул? Ты бы увидел, «как русская пехота штурмует Бранденбургские ворота», это один замечательный поэт написал, Тарковский, тоже фронтовик, и твой племянник Антон был среди них. Ты бы увидел мир и ликование на улицах Москвы. Ты бы увидел, как еще через десяток лет стали валить по всей стране памятники Усатому, как возвращались домой те, кто сумел там выжить, как поминали тех, кто не смог. Ты бы увидел так много… А теперь тебе будет труднее знакомиться с собственной страной, она так изменилась! Я ведь наверняка не сумею тебе всего рассказать так, как увидел бы ты сам. Меня всегда поражало твое умение в немногих словах назвать главное.
А я пока что просто немного расскажу тебе о нашей семье. У Антона и Оли родилась дочка Саша, моя внучка. Чуточку успела я побаловать ее на земле — ей было всего восемь, когда умерла я. Сашка… Она вышла совсем, совсем иная, чем Антон. Пошла она по гуманитарной части, в историки, занималась древними шумерами (был, оказывается такой народ) — только бы подальше от всей этой коммунистической трескотни. И я ее понять могу: представляешь, когда она в своем академическом институте однажды понесла прорисовку какой-то своей древней таблички на шумерском языке на копировальный аппарат, ей нужно было получить визу в первом отделе (ну, ты понимаешь, что у них там за отдел). Вот повертел в отделе товарищ табличку в руках, еще нерасшифрованную, да и говорит: «А составьте-ка краткое резюме текста, чтобы мы убедились: никакой антисоветчины!»
Не мудрено, что она и на самом деле антисоветчину (так у них это называлось) стала перепечатывать да передавать. Антон мой, как узнал, чуть не проклял ее — хорошо хоть, в те времена за это уже и не сажали. Дочку Наденьку она родила как раз незадолго до конца всего этого безумия, с мужем они быстро разошлись, потом она снова вышла замуж, но и в тот раз неудачно. В общем, росла Надюша без отца.
И выросла спокойной, практичной девочкой, пошла по коммерческой части (в основном под давлением мамы, тут уже становилось видно, что купечество в стране снова появится). Вот так и замкнулся круг: праправнучка купца Антипа Раменьева торгует в столице каким-то диковинным товаром, я в этом совсем не разбираюсь. Что-то электротехническое, ты бы куда лучше моего это понял. Но, конечно, не за прилавком стоит, а называется это у них теперь «фирма», «офис», «проекты» — они что-то такое поставляют, монтируют по всей стране и потом обслуживают. Папа, надо сказать, сам никакого интереса не проявил — ну не по душе ему эта коммерция, и только. Да и мне не особенно интересно.
Но я ведь вот о чем: выходит, что в нашем роду (да и не только в нашем) каждое следующее поколение как будто говорило своим отцам: нет, вы жили неправильно, вы самого главного не поняли, вот я на своем опыте докажу вам это. Такой вот он вышел, наш круговорот — через пробы и ошибки всё вдруг вернулось к прежнему. И остановится ли на этом — не знаю. Не думаю, что остановится.
Ладно, Мишенька, о жизни Нади доскажу я тебе в другой раз, а пока что просто крепко тебя обниму. Жаль, что нельзя посылать друг другу сны — а то я бы столько всего тебе показала из нашей жизни после твоего перехода… Спасибо тебе, наш хранитель — вы погибали тогда не зря, и мы помним это. Спасибо.
Твоя Маша.
5
В прошлый раз, Миша, я начала с истории нашей семьи, доведя ее как раз до моей подопечной Надюши. Я писала тебе о том, как каждое новое поколение в нашей семье устраивало свою судьбу по контрасту с родительской: только бы не так, как у них, и тогда всё обязательно выйдет хорошо! Может быть, и действительно получалось на свой лад лучше? Не знаю. Всё равно, конечно, обошлось без молочных рек в кисельных берегах, да и сами мы понимаем, «земную жизнь пройдя до половины», что нет их и быть не может. В земном мире, я имею в виду.
И чего же мы все ищем? Мне кажется, что основе поисков у всех у нас что-то общее. Может быть, я вижу это совсем по-женски, а только сдается мне, что всем нам хочется быть хорошими и любимыми детьми. Пока мы маленькие, мы пытаемся точно следовать родительским требованиям и советам, это они учат нас, что есть добро и что есть зло. А потом приходит время подросткового бунта, и мы отталкиваем все эти глупости и начинаем тянуться изо всех силенок к нашему, правильному добру. Определяем его для себя, его насаждаем для других, за него боремся, прививаем его своим детям. А оно ведь им тоже выходит боком, как в возраст войдут. Так, по моему слабому разумению, и пошло оно от Адама и Евы с их сорванным плодом. Мишка, ничего, если я иногда порассуждаю? Я вот философией и богословием всяким не занималась никогда, и в высокие материи лезть не буду, но как вижу, так тебе и напишу. Мы ведь друг друга всегда с полуслова понимали.
Нам все-таки очень повезло с детством, Мишка. Помнишь нашу замечательную няню Пашу? Как ласкала она нас, как принимала любыми — хоть и отругать могла за шалости, иногда и пошлепать, с матушкиного разрешения. Вот этого мы все на свой лад и ищем всю оставшуюся жизнь: чтобы любили, принимали, но и помогали расти, становиться лучше. Мне вот и с Максимычем так повезло, но не всем же попадаются такие люди. Уж ты, Мишка, куда лучше моего знаешь, какими разными бывают они, супружества, у меня-то оно было всего одно, а у тебя три официальных. Ты не подумай, я не в упрек — попадись мне кто-нибудь вместо Максимыча, еще неизвестно, сколько бы у меня их было, с моим-то характером привередливым.
Вот и Надюша моя замужем. Вышла за Антона (надо же, как совпали имена!) четыре года назад, еще студенткой. Тоже, наверное, скорее поиски любви, чем сама любовь. Мама у нее, я тебе писала, кандидат исторических наук, занималась всю жизнь изучением древней Месопотамии и борьбой за светлое будущее, причем и то, и другое — за пишущей машинкой. Теперь у них, знаешь ли, такие странные стали эти машинки, их называют словами «компьютеры» и «принтеры», они очень ловко всё делают, но наша Саша больше просиживала за старенькой, германской фирмы «Эрика». Когда пришли эти компьютеры, оказалось, что светлое демократическое будущее уже как будто и наступило, зато вот наука ее вдруг оказалась никому не нужна. Надюшка тогда была еще совсем маленькой.
Так и росла наша Надя — мама по ночам доделывает какую-то очень нужную и важную книгу, днем на толкучке торгует дамским бельем, представляешь, турецкого производства! Очень оказалось у них популярно, кто бы мог подумать. Дед наш Михей, наверное, только головой качал, на эту торговлю глядючи (я с ним, впрочем, мало общалась, очень уж он особенный). Маме Саше уже не до дочки было, вертелась она, как белка в колесе, лишь бы ребенок был сыт да одет — так и запомнила Надя, что это такое, честная ученая бедность.
Как понимаю я ее! Помнишь ли январь восемнадцатого года? Ты тогда был еще с нами, мы все жили в родительской квартире — и теплее, и от бандитов да комиссаров надежнее защита. Помнишь, как рубил дворницким топором на дрова дедов буфет, дубовый, резной — рубил молча, сосредоточено, как будто сучья со ствола в лесу срубал (мне Максимыч рассказывал, как это делается). Отец не мог на эту красоту топора поднять — а ты рассудил просто: надо греться, — и взялся. А я тогда бродила по бесконечному, снежному пространству московских толкучек то со старыми книгами, то с серебряными подстаканниками, то с кружевом фламандской работы — и все удивлялась, как мало значат эти произведения человеческого знания и мастерства в сравнении с основным, извечным, чем брюхо можно набить: мука, крупа, сало.
Им все же легче пришлось, моим девочкам. Они не голодали — я имею в виду, по-настоящему. Хлеб или картошка у них всегда были, нам бы так в восемнадцатом! Их не уплотняли, как нас — помнишь? Когда вторглись эти, с ордером, они, в общем-то, незлые были люди, просто совсем не воспитанные и немного несчастные. Этот их беглый воровато-наглый говорок, эти портянки поперек коридора, и самогон, который как-то удавалось им доставать — дядька, что ли, был у них в комиссарах. Помнишь, как выходил этот наш жилец из уборной, застегивая ватные брюки на ходу, и тебе так бросал с гадкой ухмылочкой: «Пжалте облегчиться, ваш-бродь!» Мне он еще и не такое говорил, Миша, просто ты не слышал, а я не пересказывала — к чему?
Я понимаю, это ты тогда из-за всего такого, в конечном счете, ушел и пропал на два года. Ты просто не мог больше, я видела это. Не знаю, поняла ли Лиза — первая твоя жена. Но это твоя история, о ней я ничего не могу сказать.
У наших девочек такого все-таки не было, они ели досыта и спали в тепле, всегда. Главное, их миновала война. Да, у них там опять что-то было, сначала в Азии, потом где-то на Кавказе, я точно не помню, но от них это было очень, очень далеко. А так у них вообще было похоже: и своя революция, и свой Керенский, и большевики, и многое, многое, иное — только как будто невсамделишное, в четверть силы, как на масленичном гулянии парни деревенские снежную крепость брали. Вроде и драка, и не без крови, а не настоящее всё. Но разве запал не тот же самый, и боль не та же, и жизнь, она разве другая? Иной раз снежные крепости берут яростнее, чем каменные.
И вот Надюшка, промаявшись в детстве, решила, что пробьется, станет успешной, состоятельной. Оттанцевала свой выпускной в платье, сшитом у маминой подруги на старинной машинке из доставшегося по случаю материала, поступила на экономический факультет какого-то третьеразрядного института — ведь без высшего образования никуда, и экономистам принадлежит будущее. Так ей тогда казалось. До чего правильная была студентка, зануда и зубрилка — даже мне, гимназистке, до нее было далеко. Все хотелось закончить не курс, а саму жизнь на отлично, и получить все соответствующие медали. Мама только головой качала: куда катится русская интеллигенция! Куда-куда… от родителей подальше, известное дело.
А на четвертом курсе не выдержала Надька, выскочила замуж за Антошу. Нельзя ведь жить только будущей своей карьерой, так хочется тепла в настоящем, ясного, чистого тепла. Вот и увидела источник в светлом, разумном мальчике чуть постарше себя. Он и вправду хороший, только слишком уж мальчик, и слишком балованный. Да и она, пожалуй, не очень-то взрослая, несмотря на все свои исключительно взрослые планы и серьезность взгляда — к тому, что семейные отношения надо выстраивать, она просто не привыкла, да и откуда было ей этому научиться? Вот и возникло у нее смешное девчачье представление, что если два человека влюбились друг в друга, то для полного счастья им нужна свадьба, дворец или на худой конец шалаш и немного денег. Ну что же, все это у них появилось: у Антона была даже своя однокомнатная квартира, от бабушки осталась, и какие-то деньги нашлись на первое время, а потом уже Надюша закончила учебу и сразу впряглась в работу в неплохом торговом доме (или как у них это называется?) и с большими перспективами.
Но тут… Ты же знаешь: проходит год или два, а иной раз и того меньше, и ты вдруг видишь, что вместо волшебного идеала с тобой живет земной человек со всеми своими слабостями и дурными привычками. И вот Антон уже не талантливый молодой журналист, до беспамятства влюбленный в нее, а влюбленный в самого себя лентяй, который ничего не хочет делать по дому, да и на работу устроиться не торопится, потому что подходящую ему никак не предложат.
И что начинается тут? Правильно, поиски любви. Только у вас, мужчин, это часто означает поиски новой влюбленности. Женщина в этом смысле часто оказывается мудрее, она понимает не умом, так сердцем, что новый союз принесет свои разочарования, да и прикипает она к супругу больше, каким бы «неправильным» он ей ни казался. Так что частенько в этой ситуации заводит женщина ребенка — вот и Надя попыталась, хотя для карьеры это совсем ей было не полезно, да только не вышло у нее. Максимыч мне на это с улыбкой сказал: «да пусть сначала сама немного повзрослеет!»
И ты знаешь, он ведь полностью прав. Сколько их, этих девочек и мальчиков, у которых давно уже есть взрослые игрушки и взрослые развлечения, и по паспорту они вполне совершеннолетние, а не умеют они жить по-взрослому, совсем не умеют и учиться не хотят. И если рождаются дети у таких детей… Ну, у некоторых получается быстро повзрослеть, но не у всех. Знаешь, теперь там, на земле, очень много придумали всяких медицинских штучек, и младенцев разводят, как цыплят, в инкубаторах и пробирках — страшно бывает смотреть на такое. И стараются супруги, у которых нет детей, завести своих, стараются, им создают и пересаживают зародышей, словно зубные протезы вставляют, но выходит далеко не у всех. Зато бывает вот что: стоит бездетной паре усыновить брошенного ребеночка из детдома — и сразу наступает долгожданная беременность, безо всяких врачей. Представляешь? Все-таки дети не детальки на фабрике, чтобы их по своему желанию на станке вытачивать. Не получилась деталька — в брак, лишней оказалась — туда же.
А здесь души таких лишних зародышей сразу становятся ангелами, как и души младенцев, убитых во чреве. Ведь у них нет совсем никакого опыта человечества — они еще не жили в теле. И вот когда встречают такую маму сразу несколько ангелов… Хорошо, что ангелам совсем не трудно прощать.
Но наша Надя о таком пока не думала — не выходит и не выходит, много есть в жизни всего остального. А любви и понимания стала она искать в другом… но об этом я напишу тебе в следующий раз, Миша.
Знаешь, я все вспоминаю, как ушел ты тогда, в марте восемнадцатого, как говорил о том, что после разгона Учредительного собрания вся сущность большевиков стала видна как на ладони, и что позор Брестского мира не оставляет выбора… Трудно было тебе сидеть дома, трудно — я знаю. И ты открыл нашу дверь, и ушел в потертой солдатской шинели в никуда, но все так поняли — на Дон, долгой, сложной дорогой. Насколько сложной оказалась она на самом деле, я и по сю пору не знаю — мне ведь очень многое пока не открыто.
А пока что я крепко обнимаю тебя, мой бесконечно дорогой брат,
Твоя Маша.
6
Я все пишу тебе о Наденьке, Миша, и ты, когда прочтешь, можешь подумать, будто у нас здесь и дел других нет, кроме как подглядывать за родными и близкими, оставшимися там, на земле. Это, конечно, совсем не так, хотя в древние времена люди, остро чувствуя эту связь, почитали своих предков и прибегали к их защите — ну что же поделать, если они утратили живую связь с Ним Самим, остались им и вправду только предки. Но у нас здесь, конечно, много есть занятий — да ты и сам всё это узнаешь, когда очнешься (а я верю, что ты обязательно очнешься от этой дремы).
То, что открывается здесь, трудно было бы описать земными словами человеку, у которого нет пока никакого опыта, кроме земного. Сколько возможностей для творчества, для общения — вопрос только в том, насколько ты сам готов к этому… Да ну, это всё блеклые, невыразительные фразы!
Я скажу лучше о чем-то конкретном. Вот, к примеру, время: оно не исчезает здесь (да мы и не можем существовать совсем вне времени, как не могли на земле вне атмосферы и земного притяжения), но становится гибким, податливым, отчасти даже подвластным человеку. Ты не просто плывешь в этом потоке, как косяк селедки в океанском течении, ты можешь подняться над ним, как чайка: поток останется прежним, ты можешь качаться на его волнах, но ты можешь и ясно увидеть прошлое, и заглянуть в будущее. Говорят, на земле этой способностью обладали подлинные пророки, но и то лишь недолго и смутно видели они всё это — так, наверное, летучая рыба видит небо, солнце и облака, выпрыгивая из воды.
Вообще, ты остаешься человеком своей эпохи, своей культуры, своего языка — но ты больше не ограничен ими, стоит только захотеть и потрудиться, и, как писал один поэт, Тарковский, «я выберу любое из столетий, в него войду и дом построю в нем». Конечно, если столетие совсем далекое, ко многому придется заново привыкать, но все они тут, ни одно не потеряно.
Кстати, о языке. Ты помнишь, мне еще в гимназии тяжело давались французский и немецкий, а эти древние вообще наводили на меня тоску смертную. Я не перестала быть русской — ты видишь, я пишу тебе по-русски! — но оказалось, что понимать других можно без парадигм и вокабуляров. Ты даже не представляешь, как интересно разговаривать с каким-нибудь средневековым французом, я уж не говорю о совсем древних. Они действительно говорят, ты слышишь звук их слов (ну, или то, что в нашем мире можно назвать звуком), но ты понимаешь их мысль и чувство, а не значение отдельных слов. Ведь как оно бывало на земле: человек говорит тебе что-то, а ты чувствуешь смысл, и складывается он не из значения отдельных слов. Ну, например, когда тот самый Никонов, главврач больницы, молол мне какую-то чушь про обострение классовой борьбы и напряженное международное положение, я же знала смысл его слов: «Люби, люби меня! Я одинок, несчастен, я не умею просить, я боюсь напрямую заставить тебя, поэтому я буду подводить тебя исподволь, когда убеждением, когда и принуждением, к тому, чтобы ты любила меня, меня, только меня!» Глупо, правда?
«Послушайте! — Еще меня любите за то, что я умру» — так сказала об этом совсем просто и точно одна девушка, когда ей было лет двадцать, а мне немного меньше. Ее имя — Марина Цветаева, ты, наверное, и не слышал, но она большой поэт, то есть человек, который может назвать то, что ты только смутно чувствуешь, но сам еще не осознаешь. Она сумела — и умерла страшно, темно, покончив с собой в самом начале второй войны. Назвать и прожить — разные вещи…. Я тоже только здесь по-настоящему узнала ее стихи, надо же, жили в одном городе, чувствовали так похоже, и не встретились ни там, ни здесь. Встретимся ли? Где она? Не знаю.
Но я говорила о языках. Да разве сложнее, чем Никонова, будет мне понять какой-нибудь шумерский, если здесь орган речи — не язык и гортань, а душа? Ты знаешь, я недавно беседовала с одним человеком из Южной Америки, наверное, в наши времена его бы назвали колдуном. Он жил за семь веков до Колумба, служил всяким своим божествам и духам — а ты думал, у нас тут только христиане? Нет, конечно. Истина есть и она одна (прости мне мой пафос), и она в христианстве, но если человек искренне и всерьез ищет Его, он всегда Его находит, даже если во время земной жизни он так и не услышал правильных имен и названий, если многое делал такого, что Ему на самом деле отвратительно. Да ведь и все мы, если посудить, это делали без числа. Ты представляешь, они там приносили в жертву детей, чтобы отправить их послами в мир духов — в наш мир, где мы сейчас. Они думали, что так совершают великое дело, угодное духам и благотворное для самих этих детей. Он был искренне поражен, когда узнал, что духам это совершенно не нужно… но все-таки был рад, что детей этих, добровольно (обязательно добровольно, хотя и под жестким порой давлением!) шедших на смерть ради процветания родного племени, и вправду ждало благое посмертие. Куда лучше, чем жуткая по нашим меркам земная жизнь, которую они якобы продлевали своим сородичам.
Разве не похож этот колдун на большевиков? Да отчасти и на тебя самого, когда летом 20-го года вдруг распахнулась дверь нашей столешниковской квартиры, и вошел красный командир, уже без погон, а с какой-то невообразимой геометрией на рукавах, и гимнастерка сидела на тебе так ладно на этот раз, и снова ждал тебя фронт — на сей раз польский. Ты же верил, действительно верил, что это возрождается Россия, что снова у нее есть твердая власть и армия, и значит, надо ее защищать, отстаивать ее исторические рубежи от вековечного западного врага. «Кому, как не белым, за Белую Русь» — так назвала это Марина.
Думаешь, начну тебе сейчас доказывать, как был ты неправ? А вот ни за что. В чем каждый из нас был неправ, мы узнаем сами про себя. А вот у других здесь всё больше различаешь правоту — пусть даже неполную, пусть болезненную и обиженную правоту. Но ведь и она — права.
А помнишь нашего папу? Требовательный, но какой-то робкий, он так терялся, когда жизнь шла не в соответствии с его представлениями о ней, а с детьми она ведь почти всегда не так идет. Наши шалости, наше нежелание расставлять игрушки по местам или соблюдать правила поведения за столом не просто огорчали его — они его выбивали из колеи, он замыкался в своем кабинете, называя это «делами» (да и дел у него было очень много, это правда). Он всё время был где-то рядом, но почти никогда с нами. Знаешь, я запомнила на всю жизнь тот зимний день, когда он сам прокатил меня на санках до Петровских ворот, и потом по бульвару, а вернулись мы по Дмитровке — и что это на него нашло, удивлялась я тогда?
Я так и запомнила: скрип снега, маленькие блестки на нем, словно упавшие осколки звездочек, и нос покусывает не то шарф, не то мороз, и широкая, веселая папина спина. Нас обгоняли извозчики, и один даже остановился: «Барин, извольте!», — а папа рассмеялся: «Свою Марусю сам домчу!» Я была совершенно счастлива, я думала, так теперь будет всегда. Уже здесь я узнала, что на самом деле у них был трудный разговор с мамой, это был почти разрыв, и она рыдала в спальне, а папа в каком-то горячечном бреду велел одеть младшенькую и повез меня на санках. Может быть, это катание и в самом деле сохранило их союз — ему просто необходимо было физически оказаться в роли главы семейства, который везет всех на себе. Да и проветриться тоже.
А мама? Она тоже любила всех нас, и ей так было важно всё держать в своих руках, под контролем, вплоть до последней мелочи, ты же помнишь. Хорошо, что у нас была няня. Может быть, почти у каждого человека бывает много таких моментов полной, безусловной любви именно с мамой, или хотя бы с няней, но гораздо реже с отцом — поэтому Его и привыкли называть Отцом, а не Матерью?
Да, Мишка, видишь, я согласна, что на Бога мы обычно переносим наши представления об идеальном отце. Только для тебя это почему-то доказывало Его отсутствие, а ведь на самом деле это говорит лишь о том, что и этот мир, и норма человеческих отношений, и наше собственное естество ведут нас к Нему и заранее подсказывают конечную цель этого пути. Разве не так?
Ты вот всегда говорил, что в церковь ходят люди, которым не удалось найти свое место в настоящей жизни, слабые люди. Я не стану возражать; в церковь приходят очень разными путями, но таким — особенно часто. Идут туда в поисках безусловной и требовательной любви, в поисках настоящего Отца. Сильным людям, вроде тебя, это просто бывает не нужно, а если порой и нужно, вы находите какой-то свой выход или учитесь обходиться без этого.
А мы не смогли: наша Надюша или вот я сама. Ну вот я опять о Наде, я же обещала тебе рассказать, что было потом у нашей Надюши, когда замужество приелось и первая влюбленность прошла. У Нади ведь вовсе не было почти никакого опыта настоящих взаимоотношений с собственным отцом, не говоря уж об отчиме. В муже она во многом и искала такого заботливого папу, но он, я тебе писала, и сам еще по сути маленький мальчик. Так что следующий ее шаг был туда, под каменный свод, где на виду у всеведущих икон добрый, но требовательный батюшка прижимает к своей широкой груди и говорит что-то очень нужное и важное…
Человеческое, скажешь? Слишком даже человеческое? Ну да, и тут не поспорю. Мы-то кто, даже в нынешнем нашем состоянии? Не ангелы. Мы начинаем с очень разных своих самостей, кому нравится пение, кому — благообразный батюшка, кто увлечен историей, кто иконописью. Да, люди приходят в храм и говорят, иногда буквально: «хочу стать святым». Но при этом они очень мало понимают в настоящей святости, видишь, я сама только-только начала ей учиться, в основном пока что разбираю накопленные завалы, меня и к Наде для того в основном и представили — не столько ей в защитники, сколько мне самой в назидание. Ну вот, а тут приходит такая девчонка, и говорит: «стану святой», как в былые годы нам «пятилетку за три года» обещали. Ты человеком сначала стань, настоящим, совестливым, внимательным — вот и будет твой первый шаг к святости. Ведь и Он стал человеком, с этого всё началось.
В общем, в церкви тоже не всё просто у Нади. Прошла ее первая пора, та же влюбленность, когда и правда летаешь на крыльях, что твой ангел — это у многих так. И начинается пора труда, тяжелого, но радостного — если всерьез. А у многих всё на долгое время на том и заканчивается. Думают, что успеют — да успеть-то нетрудно, если вечность впереди. Но ведь и в воду когда прыгают, так стараются войти под правильным углом, а тут — в вечность! Упадешь плашмя — не вынырнешь. Такое бывает.
Миша, а ты ведь не знаешь, когда я-то начала в церковь сама ходить. Мы хоть с тобой и спорили о Боге, но я больше слова Максимыча пересказывала, я сама тогда почти и не ходила. Мой путь всерьез, он начался в 40-м, даже в 41-м в особенности, когда не только за упокой раба Божия Георгия, но и о здравии воина Михаила, и многих, многих иных… Знаешь, как звучало это под сводами храма, как ловили мы тогда эти имена в батюшкиной скороговорке: «воинов Ивана, Василия, Михаила, Степана, Аркадия…» И сердце так замирало, будто было то весточкой: «мой, мой жив пока». Часто — обманной весточкой.
О Максимыче знала только одно, что нет его на земле. Официально ведь ему «без права переписки» присудили, и не сообщали ничего до самой реабилитации. А только видела я сон. Это было самое начала 40-го года, через полгода после его перехода. Снилось мне, что я иду по тоннелю метро, и под ногами рельсы, шпалы, и грязь ужасная, и крысы кишат. И думаю: а что, как поедет поезд? Я же не смогу никуда спрятаться, разве что упасть, чтобы вагоны поверху прошли, только в грязь ложиться никакого желания нет, к крысам-то этим. И вот бегу, задыхаюсь, ноги еле-еле двигаются, только впереди что-то светлое, думаю, может, станция, там меня подберут, наружу выведут. А сзади уже слышен поезд, и не просто шум колес, а пение такое, бравурное, мощное: «мы рождены, чтоб сказку сделать былью»… Задавят!
Я в ужасе, в холодном поту — и вдруг нет уже никакого туннеля. Я на поляне, светлой, чистой такой, ветерок веет, и трава щекочет ноги босые. А навстречу мне идет Максимыч — в бушлате с номером, весь седой, а лицо молодое, радостное. И вижу я, что не седина это, а сияние.
— Ты что, Маша? — окликает он меня, — ты не бойся. Главное, не бойся.
— Да где же ты? Как же я без тебя?! — кричу я ему в ответ, и бежать пытаюсь, а ноги снова не идут.
— Я дома, Маша, — отвечает он так грустно немного, — я с тобой.
Тут я проснулась — и комната была залита светом. Лунным, наверное, только казался он мне солнечным, и ничего я не могла понять. Мне казалось, что мы на прежней нашей квартире, и Максимыч рядом со мной, как бывало, и ревела я сама не знаю, от чего, но точно, что от счастья. Не сразу даже поняла, что это — комната общежития, что квартиру нашу давно отобрали, а мужа рядом, нет, и что вставать на работу к половине восьмого… Но ощущение надежного счастья осталось надолго, хотя, казалось бы, чему радоваться? И только потом я стала уже понимать, что это значило: «дома» и «с тобой».
Мишка, заждалась я тут тебя, соня. Вот умела бы я тебе сниться, как Максимыч мне тогда приснился… Может быть, попробую — вдруг получится? А ты уж постарайся меня увидеть!
Твоя Маша.
7
Миша, ты все дремлешь, и я даже не знаю, когда доведется тебе прочесть мои письма. Но я верю, что обязательно придется, и потому стараюсь и новостями своими делиться, и продолжать разговоры, начатые нами когда-то на земле. Тебе наверняка бы захотелось продолжить их здесь, где нам открыто больше, и многое становится яснее.
Я вдруг вспомнила один наш разговор в Москве, еще в самом конце 17-го… Ты опять вернулся тогда с фронта, но на сей раз уже без погон и без красных бантов на своей офицерской шинели, и на все расспросы отвечал только одно: армии больше нет. И вот однажды вечером, когда уже снова ходили трамваи и публика спешила по своим делам, равнодушно огибая крикливые декреты Совнаркома на выщербленных пулями стенах, словно их это всё и не касалось, мы куда-то зашли — это, кажется, был Петровский театр миниатюр. Пел Вертинский: «Я не знаю, зачем и кому это нужно», — и сразу после этой песни ты вдруг выскочил из зала, и я, расчувствовавшаяся от этих пронзительных слов и берущей за сердце музыки, от его глубокого, влажного голоса, я едва поспела нагнать тебя на улице. Ты шел молча, быстро, решительно, а я только приставала: «Миша, ну что? Зачем мы ушли? Ведь он так пел, так пел! Это про юнкеров, как их хоронили у Большого Вознесения».
«Да знаю я, — вдруг прорвало тебя, — а он, видишь ли, не знает, кому это нужно! Да ему ведь и нужно первому, всем нам это нужно, чтобы нашлось в Москве хоть сотня, хоть две сотни людей, способных противостоять этим бандитам. Всё рушится, всё в распаде, и только мальчики, будущие офицеры, верные Родине мальчики исполнили свой долг и погибли на глазах равнодушной публики, а публика пожала плечами: да кому это нужно? Забросали их грязью, это точно. Так дождется он, ваш Вертинский. Кончилось время манерничанья, а он и не заметил, так будет теперь скоро публика петь хором Интернационал, и ни о чем уже не спрашивать».
А я не понимала тебя тогда — но как же ты был прав! Я страдала от бессмысленности кровопролития, я так устала от всех этих выстрелов и лозунгов, так хотелось мне увидеть конец безобразиям — и не понимала я, что именно они, погибшие мальчики, и пытались это остановить ценой своей жизни. А ты был прав. Как жалел ты тогда, что в самый решающий момент оказался ты там, где ничего не решалось — на исчезающем фронте. Тебя не оказалось с ними — а если бы ты был там, может быть, и вся жизнь твоя пошла бы иначе.
Да, многое проясняется здесь, но пока не всё. Я не святая, а только учусь, я тебе уже писала, и потому вижу только то, что могу вместить, пока немного. О чем-то приходится просто догадываться, и наверняка догадки мои неточно и неполны, а какие-то и вовсе неправильны, но это нестрашно. Ответ всегда надо искать, и мне хочется делать это вместе с тобой. Как тогда, помнишь, мне совсем не давалась в гимназии математика, и вот я прибегала с задачками и теоремами к тебе, а ты, такой большой и умный, легко и просто щелкал примеры, и объяснять у тебя здорово получалось, я сразу всё понимала. А здесь, соня, ты хоть и оказался первым, а все-таки выходишь младшим из-за своего сна. Так что иногда и я тебе могу что-нибудь подсказать. А точнее, попробовать вместе с тобой разобраться в этом — многие вопросы и мне самой не дают покоя.
Я так много писала тебе в прежних письмах о свете, что у тебя могло сложиться впечатление, будто нет никакой тьмы. В каком-то смысле ее действительно нет. Там, на земле, ведь тоже нет никакой самостоятельной тьмы — есть только свет, а «тьмой» мы привыкли называть отсутствие света. У нее нет своего вида и своих характеристик: это всякий источник света отличается от другого, его можно долго и подробно описывать, а вот какой может быть источник у тьмы? Только отсутствие света. Тьму не «затемнишь», как зажигают светильник, ей не поделишься, как огоньком, ее не поставишь на высокое место, чтобы было видно издалека. В этом смысле тьмы нет.
Но разве кто-то на земле из-за этого станет думать, что тьмы вообще не существует, или что она не таит в себе никаких опасностей? Как раз наоборот: всякий раз, когда мы зажигаем свет, мы подтверждаем, как опасна и неуютна тьма, как важно нам от нее избавиться. Это свет надо зажечь, а тьма сама тут как тут, и вот, собираясь ночью выйти из дома, мы заранее позаботимся об источнике света, если не хотим переломать себе ноги. Не так-то просто бывает зажечь огонь холодной, темной ночью… А вот «сделать себе темно» — это проще простого. Закрой глаза, зажми их ладонями — и тьма обнимет тебя среди ясного дня. Тьма для нас на земле бывала привычнее и первичнее света.
Примерно так оно и со злом, Мишка. Мы здесь — в Стране Восхода. Там, на земле, были предрассветные сумерки, а здесь наше Солнце уже поднимается над горизонтом, оно открывает и проясняет нам всё, что окружало и пугало нас в темноте. Нам уже не нужно постоянно говорить о Нем — мы просто живем Им.
Но Солнце еще не поднялось высоко — когда это произойдет, настанет День, и тогда не останется ничего, кроме этого света. Пока что есть сумрак (вы, дремлющие, и скрываетесь в нём), и пока что где-то есть тьма. Я не знаю, как видят это другие, кого нет с нами — например, наша мама. Возможно, для нее это как раз наоборот, закатное время, когда Солнце уже скрылось за горизонтом, и начинает сгущаться тьма, но пока еще можно что-то различить, пока еще остаются огоньки слабых свечек — наших молитв за ушедших. Они не заменят им Солнца, они не разгонят тьму, но они хотя бы дадут им крохотную частицу света, а значит, еще один шанс выбраться из этой темноты.
Я часто думаю о том, что будет с ними — с теми, кто не выберется. Нам сказали, что когда настанет День, зла уже не будет. Значит, те, кто выбрал зло, просто исчезнут? Растают, как выброшенные на берег моря медузы — помнишь, мы видели в детстве в Крыму? Даже такую медузу было жалко, а что уж говорить про любимого и родного человека! Только человек не медуза, он решает сам, его не возьмешь в руки, чтобы выпустить в море. А как бы хотелось!
Мне хочется верить, что мама каким-то образом снова окажется с нами. Он наверняка что-то для нее придумает, или уже придумал. Только она всегда ведь может отказаться, оттолкнуть его руку — вот какая штука.
Там, на земле, мы много слышали о «вечных адских муках». Мне трудно это понять: разве вечен ад? Вечно зло и страдание? То есть будет какая-то такая поделенная надвое вечность, в одной части которой будет радость и ликование, а в другой — скрежет зубовный, и там будет наша мама? Трудно в такое поверить. Может быть, слово «вечный» означает здесь конечность, безысходность этого выбора? Говорят, в материальном космосе существуют такие черные дыры: время и пространство в них схлопываются, и миллионы лет могут пройти вовне черной дыры, а в ней будет длиться всё та же доля секунды. Может быть, окончательные «нет», сказанные Ему, и есть такие черные дыры-души: они уходят навсегда, безвозвратно, светлая вечность уже недостижима для них?
Страшно об этом думать. Хотя для них самих это может казаться раем, правда. Ты представь: если пьяница захочет проводить вечность в океане водки, скупец — среди золотых гор, скандалист — среди склок и раздоров с такими же скандалистами, а развратник — в непрестанном блуде, то им, пожалуй, будет даровано это желание. Погружаясь в свою страсть, они будут постепенно утрачивать память обо всём остальном. В космосе, говорят, есть такие черные дыры — попадешь туда, и уже не будет для тебя ничего другого, остановится нынешнее мгновение. Время и пространство схлопываются, их больше нет.
Мишка, ты же не о таком грезишь? Я знаю, ты и выпить любил, и по дамской части бывал невоздержан, да и вообще мы с тобой не образцового поведения люди, но ты же всегда стремился к чему-то большому и высокому. У тебя были идеалы, ты боролся за них, многим жертвовал, и это не так важно, что идеалы не все оказались правильными. Когда ты уже вышел в поход, можно сменить направление — а ведь многие в поход так и не вышли, в отличие от тебя.
Еще я слышала, что засыпают часто те, кто слишком устал на земле, например, самоубийцы (но твой случай совершенно особенный, это было мужественное решение воина, а не трусливое бегство). Таким не хочется никуда идти, они грезят о растворении в небытии, безмыслии, нечувствии — еще, говорят, некоторые восточные религии считают это самым благим посмертием. Если так, то вершина мироздания не человек, а одноклеточная водоросль в теплой водичке. Просыпайся ты поскорей, соня! Здесь так прекрасно!
Мишка, ты, может быть, будешь смеяться над моими высокими словами, но если бы ты увидел хотя бы одного ангела… Да увидишь, когда проснешься, как же может быть иначе!
А вот бесов я никогда не видела, и не собираюсь на них смотреть. Говорят, они питаются такими «схлопнувшимимся» душами — не в прямом, конечно, смысле, у них же нет желудка и обмена веществ. Но они суть тьма, они несамостоятельны, им нужно что-то для роста и даже для самого существования. Типичные паразиты, вроде глистов. Бабкины сказки, отмахивался ты когда-то от этих слов… Но раз распространятся на свете зло, значит, существуют и те, кто его разносит, и такое не под силу людям, сами они бы не справились.
Так вот, я могу ощущать присутствие бесов в жизни земных людей, но я не вижу их лиц (если у них вообще есть лица), не понимаю их языка или логики (если они у них есть). Это тьма, безликая, бессмысленная тьма. Была такая детская книжка, может быть, ты читал своим: «Приключения Карика и Вали». Это про двух детей, которые вдруг сделались крохотными и очутились в мире насекомых. Самое, пожалуй, жуткое, когда представишь себя на их месте — это невозможность хоть как-то объясниться с этими насекомыми. На злобную собаку может подействовать твой окрик, и с голодным медведем в тайге, говорят, можно мирно разойтись, и даже волк будет признавать в человеке сильное существо со своей волей — но здесь перед ними возникало хитиновое иное, которое стремилось запихать их мерзкими жвалами внутрь своего пищеварительного тракта с тем же равнодушием, с каким оно запихивало туда тлю или кусочек травинки. Вот таковы, наверное, и бесы. Да нет, что я говорю! Человека с медведкой или пауком роднит хотя бы телесность, а здесь пропасть куда больше.
Поэтому я рада, что не вижу бесов, не различаю их, не понимаю. Великие стражи, говорят, могут их видеть и даже разговаривать с ними, но нет ничего такого, что делали бы они с меньшей охотой. Максимыч знает о них гораздо больше моего (еще бы, с его-то опытом), но и он не различает их по отдельности (да есть ли у них эта отдельность?) — просто знает их опасные черты и умеет пробираться сквозь эту тьму, как умелый охотник ходит по ночному лесу с маленьким фонариком. Он заранее чувствует, где надо подстраховаться, куда лучше не ходить — но лесной охотник же не вступает в препирательство с валуном, через который надо перелезть, или тем паче с топью, которую надо обойти. Просто ищет свою дорогу. Вот так и Максимыч, только он идет не сам — ведет других, еще не совершивших перехода.
Знаешь, когда я стала читать Библию, меня удивило одно обстоятельство: как мало там сказано о бесах! В Ветхом Завете вообще почти ничего, да и в Новом они упоминаются как бы вскользь: вот изгоняет Христос из человека бесов, и он становится нормальным, и уже, в общем-то, неважно, кто эти бесы, откуда они пришли и куда ушли. Один раз только про стадо свиней рассказали, я так думаю, для иллюстрации, сколько же их в человека влезает и какая это разрушительная сила! Всё внимание — самому человеку.
А ведь послушать иных наших благочестивых бабок, так можно подумать, будто всякая вера и всякая церковная жизнь сосредоточены именно что вокруг них: и столько они пакостей творят, и так на жизнь нашу влияют, и вот зато крестное знамение их отгоняет, и святая вода… Смешно будет идти по ночному лесу, полному незримых опасностей, со всякими «отгонялками тьмы», правда? Нужны только источник света, верная тропа, осторожность, внимание, опыт. А лучше всего, хороший проводник, ну вроде нашего Максимыча.
Ничего, если я немного порассуждаю о высоком, ну, совсем чуточку? Очень уж образ удачный попался, с этой тропой. Как ты узнаешь, что она верная? По судьбе других путников: и тех, кто дошел успешно, и тех, кто пошел иначе и завяз в болоте. Совсем не нужен химический анализ его воды, главное, знать: там болото, туда не ходи. Зато тропу надо знать назубок, в опасных местах — каждый шаг до автоматизма.
Что-то у меня так получается, будто я всю ее давно прошла. Ты же понимаешь: на самом деле я наощупь, еле-еле пробивалась по ней на земле, спотыкалась и падала — и вот сейчас лишь начала видеть немного дальше и немного яснее, но до завершения пути мне еще очень далеко. Да и есть ли оно, завершение? Есть ли та остановка, на которой мы скажем: ну всё, дальше нам идти некуда, мы всего достигли, впадаем в спячку? Ой, извини, я не про тебя насчет спячки. Я же знаю, что тебе тоже предстоит идти по своей дороге, в чем-то очень похожей на мою, в чем-то особенной. Вот потому я говорю о ней так много и так серьезно.
Скольких я потеряла на земле! Нет, я не о переходе — он ждет каждого из нас, и благой переход — не потеря, а приобретение, хотя трудно это бывает понять оставшимся. Я о тех, с кем я не могу встретиться здесь, на пороге вечности. Нет мамы, я не могу обнять тебя, и еще много, так много самых разных людей не встретила я здесь, и не знаю, смогу ли встретить…
Хорошо, что мы, по крайней мере, можем просить о них — и значит, пока нам это дано, для каждого из них не всё еще потеряно. Но все-таки очень важно суметь не потеряться еще на земле, и я так переживаю за Надюшу! Я пока что почти ничего не могу — только к Максимычу обращаюсь, когда необходимо, и учусь сама, чтобы однажды, очень-очень нескоро, может быть, стать таким же бережным и мудрым хранителем, как он. Говорить с ним у меня как-то проще получается, а с теми, кто был рожден ангелами, я пока не часто решаюсь разговаривать — очень уж это непросто.
Я уверена, что ты бы куда быстрее моего смог бы этому научиться. Да и научишься, что это я? Научишься и снова обгонишь меня, как бывало прежде, Мишенька.
Обнимаю тебя,
Твоя Маша.
8
Знаешь, сегодня я побывала в церкви, куда ходит Надюша — она была на исповеди. Нет, я не слушала, о чем они говорили со священником — в конце концов, это же их тайна, и мне в нее лезть нельзя. Но кое-что я, кажется, поняла…
Вот ты всегда спрашивал меня, зачем нужна церковь — и сегодня о том же самом спрашивают там, на земле, Надюшу. В самом деле, сплошь и рядом приходится слышать ей, как и мне: «Бог у меня в душе», «я могу говорить с Ним в любой момент», «мне не нужны посредники»… Нет, ты так не говорил, и я очень это ценю. Ты говорил просто: «не верю». А то знаешь, в этих разговорах на первом месте всегда «я, мне, у меня», а Он всегда на втором, даже на тридцать втором месте, на уютной такой полочке вместе с курортными сувенирами: захотелось — взял, повертел в руках, потом назад поставил.
Так зачем же нам церковь? Нам — это нам с Надюшей, я не могу говорить за всех. Ну, на самом деле ты прав: чтобы пожалели, чтобы было, куда придти со своими ошибками, чтобы жить стало хоть немного полегче. Еще — снять сосущее чувство неисправимой, неотвязной вины, для того и исповедь. Мы обе с этого начинали, надо же было куда-то спрятать боль, и неважно, велика или мала причина этой боли, мужа у тебя убили, страны лишили, или просто кажется, что никто не ценит и не понимает — болит-то одинаково сильно. И вот пытаешься спастись, сначала только от своих трагедий или от болота повседневной серости. Кто водкой заливает всё это, кто святой водой — да, в самом начале именно так.
И только потом я начинала понимать, куда действительно попала и зачем мне было это нужно. Даже нет, не понимала еще, а просто чувствовала, что без этого никуда, что здесь для меня что-то очень и очень важное, и вот оно начинает понемногу прорастать там, внутри, исподволь, незаметно… Я постепенно выходила на свою дорогу, сама не замечая этого, начинала медленно идти к Невечернему Свету, который не зайдет, не покинет меня, не даст тьме меня поглотить.
А церковь — это сообщество людей, идущих по этой дороге. Я иду по ней сама и только сама. Но некоторые вышли в путь задолго до нас и успели продвинуться очень далеко, они могут подсказать и научить, только вот пройти за меня не могут. Можно ли идти совсем в одиночку? Можно, конечно. Срываться во все пропасти, тонуть во всех болотах и потом все-таки выбираться, можно карабкаться по каменистой обочине, можно упускать все прохладные родники и натыкаться на все завалы, и в конце концов все-таки выбраться к своей цели — но вместе проще.
Хотя… нет, не всегда проще, ты прав. Люди там разные, и те, кто рядом — они часто очень, очень неприятные. Да, там, далеко впереди, они прекрасные и светлые, а здесь, рядом с тобой — ворчливые, тупые, злобные и требовательные к другим, а не к себе. Словом, такие же как мы, и им с нами по пути. Стало дикобразов на водопое.
И главное… Ты же помнишь, как мы решили с тобой на заре юности: нет — лицемерию! К чему все эти формальные требования, мелкие придирки: того не ешь, этого не делай, столько перстов и столько поклонов — разве нужно это Богу («если Он есть», добавляли мы тогда со смехом). Оказалось, что и вправду не нужно. Так и малышей приучают самих одеваться, есть за общим столом, соблюдать правила вежливости. Они ведь порой такие же критиканы, как мы с тобой в свое время: нельзя, а я хочу и буду! От няни, помнишь, иной раз и шлепка за такое можно было словить.
Осознание внутреннего смысла приходит потом, постепенно. И уже никакому воспитанному взрослому не покажется тяжкой обузой, что вилку надо держать в левой, а нож в правой руке, и что надо постоянно говорить «спасибо» и «пожалуйста». Сами по себе эти вещи не важны, но что-то очень важное мы выражаем с их помощью: уважение к другим и к себе.
Примерно таковы, как я поняла потом, и церковные правила: они сродни этикету по отношению к Нему и к тем, кто с нами рядом. Форма может меняться, но совсем без формы не будет и никакого содержания: воду можно налить в бутылку или в кувшин, пить из чашки или из стакана, но голыми руками много воды не зачерпнешь, далеко ее не унесешь.
А ведь на самом деле подлинное христианство — это пространство огромной свободы. Каким удивительным было для меня это открытие: оказалось, что нет никаких форм, которые были бы обязательны для всех и всегда, есть только общая цель и множество дорог, ведущих к ней. Я только уже в церкви увидела по-настоящему, что христианство — вовсе не отгороженный от мира закуток, где сидишь и трясешься, как бы не оскверниться (хотя, если честно, у меня самой оно бывало и таким). Нет, это полнота жизни, где отказываешься от каких-то дурных и опасных, от внешних и второстепенных вещей, чтобы хватило времени и сил на главное. Помнишь ли это? «Всё мне позволено, но не всё полезно, всё мне позволено, но ничто не должно обладать мной». Так оно и есть на самом деле, ты уж извини за громкие слова.
Ну, а кто застревает на внешних формах, не задумываясь о сути… Как назвал это наш поэт: «Грешить бесстыдно, непробудно…» — ну не буду я тебе всё стихотворение переписывать, сам наверняка его помнишь хорошо. И ведь это всё правда, и даже не так хуже всего, как в этом стихотворении, а скорее вот как: остерегаться молочка выпить в среду, все иконки с лампадками содержать в строгом порядке — и просто плевать на ближнего, и даже на самого себя, не чувствуя в том никакого греха. Лучше уж «бесстыдно, непробудно» — тогда хотя бы ощущение какой-то неправильности есть, а тут лопается человек от сознания собственной набожности… Мы такого вдосыть насмотрелись, верно?
Мы хотели быть сильными, самостоятельными. У тебя вышло, у меня нет — и я очень рада, что не вышло. Ты прав, Мишка, церковь вообще-то для слабых, зажатых, неуверенных в себе. Сильные и уверенные в ней не нуждаются — может быть, потому иногда и ломает их жизнь, и не знают они, куда деваться от всех напастей, да и от себя самих?
А помнишь, как заканчивается то стихотворение? «Да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне». Наш Поэт сказал «Россия», может быть, потому, что для него не так уж и много значила церковь. Пусть в церкви, или в России, есть очень много грязи. Но есть в ней и такое, чего больше нигде не найдешь.
Мы едва тянемся к идеалу, а от нас часто ждут святости, безоговорочной и немедленной. А точнее так: ждут, что мы будем полностью соответствовать их представлениям об идеальной святости, уютной такой, необременительной для окружающих. Вот наивные! Во-первых, настоящая святость обжигает, рядом с ней невозможно оставаться тем, кем ты был. Были бы мы и вправду святыми, они бы нас просто поубивали… или сами бы стали святыми, чего на самом деле мало кто хочет.
И еще, ты подумай про того купчину из стихотворения. Да, мерзко: сначала «бесстыдно-беспробудно», а потом сразу к «зацелованному окладу». Это и верой не назовешь, так, какая-то бледная память о вере… Но может, эта память его и удерживала от настоящей бездны? Ну что он: пьянствовал, блудил, обсчитывал и обманывал ближних. Тоже мерзость, тоже губит людей, но… Вот когда отменили комиссары «зацелованные оклады», когда не осталось совсем никаких нижних планок — ты вспомни, куда мы рухнули. По сравнению с Колымой лавка этого рыгающего купчины вполне сносным местом покажется. Может, и вправду там иконка с лампадкой не зря висели?
Знаешь, что я еще вижу на примере Надюши? Я ведь за собой этого и не замечала, да и время было другое, сложное, не до капризов было. У нее, я смотрю, отношения с мужем и друзьями-подругами здорово за последние пару лет испортились… Хотелось бы, конечно, свалить все это на бесов, да было бы несправедливо: сама постаралась. Ну что поделать, вот ты представь: рождается у женщины ребенок, так ей уже не до мужа, не до подруг, тем более, все силы малышу. И пеленки грязные всюду, и сама усталая, подурневшая, даже как будто отупевшая, но это ведь только на время, сам знаешь.
А тут человек начинает работать над собственной душой, вынашивать ее и вскармливать — это ведь тоже очень важно. Постепенно придет умение сочетать всю свою духовную жизнь с жизнью обыденной, повседневной, а пока ей этому еще только предстоит научиться. Ну ничего, понемногу…
Я тебе начала отвечать на вопрос «Для чего церковь» — уж не знаю, ответила или нет. Но еще ведь спрашивают: «Почему именно эта церковь, их ведь много?» Знаешь, я не очень хорошо во всем этом разбираюсь, я только знаю, что Истина одна, а заблуждений много. Я знаю, что никакой человек не вмещает эту Истину до конца, и никакой до конца не понимает другого человека — вот отсюда и множество этих разных группировок, которые говорят о Боге и о человеке по-разному. Очень часто люди просто не хотят или не умеют понять друг друга, и порой одни из них не просто ошибаются, а всячески настаивают на своих ошибках. Ну как в семье бывает, сам знаешь, а в результате распад и вражда.
Я пришла в ту церковь, которая была ближе всего там, на земле. Даже не на Рогожское, как наши предки — в обычный храм, новообрядческий, просто ближайший к дому. Он был не идеален, но и там я находила куда больше, чем я могла вместить. Зачем было мне искать другую? Когда положат перед голодным каравай свежего, ароматного хлеба с румяной корочкой, станет ли он спрашивать, почему именно такой хлеб ему дали, и куда бы ему сходить, чтобы сравнить каравай с другими буханками и лепешками, так же ли они вкусны и сытны? Я знаю, что ничего не потеряла, отказавшись от поисков.
Но если кто-то увидел в своём ближайшем храме (богословы еще говорят: «юрисдикция») серьезную неправду, да такую, какая может заслонить свет Истины, то я понимаю, что этот человек должен отправиться на поиски. Я просто не была сама в его шкуре, поэтому не стану ничего говорить наверняка.
А здесь я встречала всяких людей, ты знаешь. Я же писала тебе даже про индейского колдуна — он вообще ничего не слышал ни о какой церкви, но он здесь. Здесь есть и те, кто искренне заблуждался на земле, кто учил других своих и чужим заблуждениям. Да, они сбились с пути, но многие дошли, сумели как-то выбраться к цели — очень большой ценой. А про остальных мне ничего не открыто.
Ладно, хватит, пожалуй, умных рассуждений. Я просто только что была при Надюшиной исповеди. Это трудно почти всем и почти всегда: в душе как на стройплощадке, разворочено всё, всюду грязь, ямы, груды кирпича. Так хочется всё приукрасить, или спрятать хотя бы, ну зачем чужим на это смотреть? Вот и говорят: «мне не надо на исповедь, я могу покаяться напрямую, в любой момент». Только ведь замыливается глаз у человека, строительства на самом деле никакого уже нет, только забор высокий отгораживает разоренный участок. А внутреннее покаяние превращается в присказку: «ну, извини», да иной раз и с вызовом. Поверь, мне это знакомо. Хотя… вот написала и задумалась, что и перед аналоем бывает так: скинула груз грехов и сразу побежала его заново набирать. Но все же не так это ловко, как наедине с самим собой.
С батюшкой тоже, конечно, не всем везет, ну да не в нем дело, он — только свидетель. Бывает, что и советчик хороший, и даже проводник, но если и нет, не страшно.
А вообще это большое и серьезное искусство, расставаться со своими грехами. Надюша еще совсем юная, не по паспорту, а по опыту христианской жизни — у многих эта юность не проходит и до самой старости. Поэтому она пока что видит первый ряд — свои дурные поступки, и только немного — второй, то есть мысли и чувства. Ну вот поругалась, обидела мужа — это она понимает хорошо. Что относится к нему «не как должно» — тоже. Скажет в крайнем случае: «ничего-то у меня не получается!» — как мне это знакомо!
Но глубже ей пока трудно копнуть, ей еще не заметно, да что я говорю — она еще не готова принять, что всё это лишь следствия, верхушка айсберга, а внутри сидит и грызет что-то очень серьезное и злое, и оно только иногда прорывается наружу. Вот это увидеть в себе — не просто вычитать в умных книжках список греховных свойств человеческой натуры! — увидеть, признать, ужаснуться и порадоваться одновременно. Да, я такая, во мне всё это есть, но меня любят и такую, и это — не часть меня. С меня спадет эта самовлюбленность, черствость, властность и множество, множество прочих пакостей — сними их с меня, Господи, даже если завтра я сама буду цепляться за всё это руками и ногами. Сними, только Ты это можешь, а я постараюсь не очень Тебе в этом мешать.
Вот к такому она только-только подбирается, и пусть, не будем ее торопить.
А сегодня вышло у нее на исповеди что-то необычное. Я как-то и не задумывалась, что бесы могут так активно присутствовать и в нашей церковной жизни — а с другой стороны, чего ж странного? Фашисты вон тоже столицы летали бомбить, а не маленькие деревни: где вреда будет больше, туда и направляют они главный удар, пусть даже и оборона там намного мощнее. Помнишь эти аэростаты? Ты же заскочил к нам в Москву в октябре 41-го, мы виделись с тобой на перроне Белорусского вокзала, как раз перед отправкой эшелона…
Ну вот и я была вроде того аэростата, или прожектора — сама стервятников сбить не могла, а все же немного помешала. Ох и неприятное это ощущение — мрак, сгущающийся неподалеку от дорогого человека, безликий, бессмысленный мрак, сквозь который светят два живых сердца… Я всерьез тогда испугалась за нее и за того батюшку, что принимал у нее исповедь — я как-нибудь потом тебе о нем расскажу, если еще не утомила тебя своими церковными историями, тебе ведь это не очень, наверное, интересно.
Зато меч Максимыча ты бы оценил, товарищ командир. Тебе бы такой в полк, да? Мальчики-мальчишки, всё-то бы вам в войну играть, всё бы говорить о мечах и доспехах… Ладно, не буду дразниться. В общем, пришлось позвать его на помощь. Он сам удивился, как много было этой пакости вокруг, что это они так заинтересовались Наденькой? Вроде, ничем она не выделяется из прочих.
Удар был нанесен, и, кажется, обоюдный. Исповедь состоялась — даже не слыша слов, я видела, что это была честная, глубокая исповедь, которая меняет человека, пусть не с одного разу, но меняет. Но какие-то ошметки тьмы там тоже остались… Если уж Максимыч не разогнал их одним ударом, то что же это было? Кажется, Миша, у Нади всё будет всерьез.
Твоя Маша.
9
Знаешь, Мишенька, а я смогла теперь увидеть твою дорогу восемнадцатого года. Ты сам никогда о ней не рассказывал — мол, «болтался меж небом и землей», да и я не особенно расспрашивала. Было как-то не до того: едва вернувшись с Польской компании, ты отправился в Туркестан, потом на Дальний Восток, мы общались только письмами, а в письмах такого не расскажешь. А позднее и говорить об этом становилось уже небезопасно — не то, чтобы мы не доверяли друг другу, но это как сожженные фотографии из семейных альбомов: если этого лица не будет в твоем альбоме, этого эпизода в твоей памяти, то ты уже никогда и никому даже случайно не дашь его испачкать.
Как жаль, что тогда тебя не поняла и не приняла Лиза. Знаешь, она ведь тоже здесь, мы много говорим о тебе. Кажется, никто так не любил тебя на земле, как мы, две глупые девочки, хотя и была наша с ней любовь к тебе такой разной. Помнишь, я даже ревновала? А теперь… Идущие к Истоку Любви сближаются и забывают, что это такое — ревность, обиды, непонимание. Точнее, так: на смену «ну как же он меня не понял!» приходит «я только теперь начинаю его понимать».
Мы видели с ней, как ты среди прочих серых спин и холщовых мешков штурмовал вагон, как выменял добротную шинель на какую-то рваную тужурку, как прятал свою непролетарскую физиономию от патрулей. И все равно ведь не помогло… Ты не обидишься, если я скажу, что мы видели всю ту воронежскую сцену? Знаешь, ты смотрелся вполне достойно, и тебе действительно очень повезло с тем комиссаром. Запомнил ли ты его имя? Петер Озолин, латышский стрелок.
Все, вроде, ты придумал — рассказал красному патрулю не собственную историю, а историю унтера из своей роты, с которым почти год провоевал. Будто бы ты столяр из Замоскворечья, человек рабочий, и едешь в Харьков к приятелю на заработки, потому что в Москве работы нет. Даже выговор у тебя был, как у простого московского рабочего, и руки после двух лет фронта и одной московской зимы вовсе не офицерские. Да вот красногвардеец тот сам оказался столяром, задал пару вопросов «по специальности» — и всё сразу стало ясно, и повели тебя на ближайший пустырь. Они ведь только для порядка решили тебя сначала комиссару показать.
А с комиссаром у вас был очень красивый разговор — даже трудно было такого ожидать. Вы и на германской воевали-то, как оказалось, не так уж и далеко друг от друга, и в чинах ходили одинаковых, и ты теперь уже не пытался от него свое прошлое скрыть. А разница теперь меж вами была в том, что Озолин точно знал, где оно, народное благо, а ты уже не был уверен ни в чем, и только хотел найти такое место, где тебе не будет стыдно за себя самого и за все происходящее. Он ведь даже не пытался тебя склонить на сторону мировой революции, просто говорил о собственном выборе.
И в завершение разговора он выразил всё так просто и ясно. Я уверена, что и ты помнишь эти слова, сказанные с легким акцентом: «Подпоручик, я понимаю, вы мало сочувствуете народной власти. Наши враги развязывают гражданскую войну, и каждый фронтовик может стать ее участником. Расстрелять вас было бы самое простое, но я не вижу в этом необходимости. Вы не враг трудового народа, я уверен, что вы рано или поздно примкнете к его рядам. Ваш фронтовой опыт был бы нам очень полезен в обучении красногвардейцев, но я сейчас даже не буду вербовать вас в красную гвардию. На сей день я прошу вас дать мне честное слово, что никогда вы не будете участвовать в вооруженной борьбе с республикой Советов. Под этим условием я смогу отпустить вас, и здесь, в Воронеже, наверное, найдется место школьного учителя, или другая работа, которую вы бы могли исполнять».
Ты тогда помолчал. А потом попросил папиросу, и он протянул тебе папиросу, и спокойно, не торопя, ждал, пока ты ее докуришь. И тогда ты сказал: «Да, подпоручик, я даю вам слово, что никогда не подниму оружия против вашей власти, если она не поднимет его непосредственно против меня и членов моей семьи. Вас удовлетворит мое обещание?» А Озолин рассмеялся: «Вот и отлично, у нас нейтралитет!»
Может быть, именно этого своего решения ты стыдился в минуту смерти? Но я не вижу здесь ничего дурного, и знаешь, даже Лиза не увидела. Какой был другой вариант? Ответить ему «нет» и получить пулю? Кажется, ничего третьего тебе не предлагали. Или ты думаешь, что лучше было бы дать такое обещание, а потом все равно пробираться на юг, вступать в ряды добровольцев? Может быть, не стану спорить. Но ведь красные, белые — это названия цветов, условности, и если на деле не отличать подлость от чести, то уже нет разницы, по какую сторону фронта находиться. Мне кажется, тебе не в чем упрекать себя за тот выбор.
И вот ведь еще какая штука… Тогда всё только начиналось, ты еще не знал, что из этого выйдет. Но мы с тобой чуть ли не с рождения чувствовали эту великую вину, вековую неправоту богатых перед бедными, перед простыми людьми. Помнишь, как давали у нас на Пасху серебряную монету дворнику Ахмету за поздравление, как дарили какой-нибудь цветастый платок Груне — а на столах у нас стояло заиндевелое французское шампанское, каждая бутылка ценой в пару дюжин, если не в сотню таких монеток и платков? Как за вечер съедалось и выпивалось больше, чем Груня и Ахмет зарабатывали за год? И никакими благотворительными подачками не унять было этого потаенного стыда.
Как радовался ты, уходя на фронт, что теперь, в окопах, ты будешь делить хлеб и опасность с этими самыми простыми мужиками, к единению с которыми призывала нас вся прогрессивная — да что прогрессивная, вообще вся русская литература. И ты верил, что в огне войны родится новое, демократическое единство, что отдашь ты своему народу не одну только монетку, а все силы свои и дарования. Оплаченное трудом этого народа воспитание, наконец… Станешь частью этого народа, растворишься в нем. Помнишь?
И вот тебе предложили это сделать. Разве мог ты отказаться? Что было там, на Дону — еще никто точно не знал, а здесь тебя звали учительствовать, рассказывать детям Грунь и Ахметов о вещах, которые до сих пор были им недоступны. И если и были хамство, вражда, угрозы — то разве не было это заслуженным, хотя бы отчасти, наказанием нам, сытым, благополучным, самодовольным? Пришло время платить по счетам. Я не знаю, точно ли так думал ты тогда, куря папиросу, но, Мишка, мы же росли вместе, мы же столько говорили об этом. Я на твоем месте точно думала бы именно так. И Лиза тоже это поняла.
Я только не знаю, отчего ты не попробовал тогда вернуться в Москву, отчего не попытался вызвать ее в Воронеж. Впрочем, в той круговерти какие могли быть переезды… И вообще это не моя история. Это вам с Лизой решать. Знаешь, она очень изменилась — тебе обязательно предстоит заново познакомиться с твоей первой женой. Честное слово, она понравится тебе не меньше, чем тогда, на елке 1915-го года, но совсем, совсем по-другому. Она такая же глубокая, тонкая, воздушная — только нет уже былой наивности и вздорности, или почти совсем нет. Да и ты уже не тот восторженный мальчишка, и я не совсем та… Но ты знаешь, самое прекрасное в нас не просто сохранилось — оно расцвело, освободившись от нашей неумелости и зажатости, от глыб, наваленных темными сторонами нашей натуры. Да не просто расцвело — расцветает. Мы же растем здесь, Миша, и растем быстро, как тогда, в раннем детстве, когда чуть не каждый день был открытием, а летние штанишки и юбочки как-то вдруг стремительно усыхали за зиму. Знаешь, как это здорово, вот так расти — а ты спишь да спишь!
Что тебе снится? Может быть, всё, что пришло в Воронеж потом? Уроки в нетопленной трудовой школе, когда тебе запрещали преподавать Пушкина как классово чуждого поэта? Карточки продовольственных пайков из серого, рыхлого картона? Нахальные декреты на фонарных столбах и списки расстрелянных заложников? Ты держал свое слово, Миша, я не могу тебя ни в чем упрекать. Или военный комиссариат, поставивший тебя, «военспеца», в строй Красной армии? Тут ведь тоже не обошлось без рекомендации Озолина — он вспомнил о тебе, когда пошел этот призыв. И как хорошо оказалось, что ты не выписал к себе Лизу — ее могли бы взять в заложники, ты же знаешь, так делали с «семьями царских офицеров», чтобы муж не ленился драться с белыми. В тебе, правда, признали хорошего учителя — отправили не на фронт, а в школу командиров.
Или снится тебе озверение Гражданской — расстрелы, виселицы и шомпола, когда красной была кровь и белой была плоть тех и других, и уже одних от других было порой не отличить? Бегство из Воронежа перед наступающей Добровольческой армией, когда ты точно знал: белые тебя расстреляют как изменника, хотя им ты присяги не давал, а тех, кому ты ее давал, уже больше нет? Возвращение в этот город всего-то через две недели, когда ты жалел, ох как жалел, что не дошел-таки Деникин до Москвы, хоть бы и расстреляли… Нет, пусть лучше тебе приснится, как мы встретились в Столешниковом вновь, в 20-м, и я ревела, уткнувшись в сукно твоей шинели, а тебя снова ждал фронт… Почему вы все-таки так любите драться, мальчишки? Ладно, прости, не буду дразниться. Но ведь любите же, правда?
Слушай, я совсем заболталась, я же еще о Наде хотела рассказать. Вот, кстати… Я говорила тебе про это чувство неизбывной вины перед народом, какое было у нас. А ведь они от него свободны. Свободны до такой степени, что это меня немного пугает. Знаешь, у них даже наоборот теперь модно: ценно именно то, что отделяет тебя от простого народа. Это называется «эксклюзив», «вип» и как-то еще. Собственно, их коммерция во многом на том и основана, чтобы богачу показать всю его разность с бедняком. Не просто продают им нечто полезное и приятное, а такое, чтобы сразу был виден «статус». До революции у нас это тоже встречалось, конечно, в основном среди нуворишей, но так вести себя считалось совершеннейшим невежеством.
Я тут пыталась понаблюдать за работой моей девочки — ну ничегошеньки я не понимаю в этих делах! Наши предки-купцы торговали товаром, который можно было пощупать, или оказывали ясные и простые услуги: например, дед Михей товар возил на своем пароходе и пассажиров. А теперь не очень даже понятно, что у них там происходит. Кажется, что хотят одного: создать вокруг денежного человека мраморный забор, отделяющий его от бедняков. Пусть у него всё будет даже хуже, безвкусней, неудобней — но зато без меры дорогой «эксклюзив». Может быть, потому, что сам он вырос как в такой же бедноте? Так, наверное, и дед наш Михей, рожденный в крестьянской избе, в городском своем доме вешал бархатные портьеры, которыми пользоваться так и не научился до конца своих дней. А тут они ему и вовсе ни к чему.
Наверное, это естественно для земного человека, хотя мне очень уж непривычно. А вообще на фоне всего, о чем мы говорим, такими мелкими все эти бури кажутся… Только для Нади это же все равно очень серьезно. Ну вот поручили ей недавно делать один проект, как у них называется то эфемерное, что они продают. И сделать его можно по-разному… Можно в открытую использовать наработки людей из того же отдела и так показать себя недостаточно ценным сотрудником — дескать, всё это скорее их заслуга, чем ее собственная. Можно использовать, но при этом старательно замолчать их роль (и то еще не известно, выйдет ли, ведь Надя, по счастью, не очень сильна в интригах). А можно пойти таким путем: начать всю работу практически с нуля, как будто ничего не было. Тогда и обмана не будет, и весь успех можно будет приписать себе. Но с точки зрения дела это будет глупо и неэффективно: зачем два раза делать одно и то же? Вот она и мучается, решает, словно ты, когда папиросу курил — а вопрос-то ничтожный, и ответ давно ясен. Надо только набраться решимости и ответить.
Ох, Мишка, каким никчемным наблюдателем кажусь я сама себе, когда вглядываюсь во все эти их тонкости! Во-первых, половины, даже больше, я просто не понимаю. А во-вторых, если честно, ну зачем я ей тут! Знает она сама, что такое хорошо и что такое плохо, не маленькая же, в самом деле. Знает прекрасно. Можно подумать, хранители стоят рядом с человеком и твердят как таблицу умножения: «лгать нехорошо, воровать грешно, нужно быть честным человеком». Нет, на таких зануд они мало похожи. Хороший хранитель (а плохих в хранители и не берут), он делает очень-очень мало: только то, что нужно. Подбросить человеку подсказку, показать ему ту сторону проблемы, которую он до сих пор не видел, иногда чуточку самую подстраховать и очень редко — поправить… Это как в хирургии: нетрудно быть мясником, отпиливать гангренозные ноги (я на такое в военных госпиталях насмотрелась), а вот тончайшие, микроскопические сосуды сшивают только великие мастера. Так и хранители. Да и то сказать: хранитель подскажет и покажет, а вот захочет ли сам человек увидеть…
Ты, может быть, не поверишь, но ведь ни хранителям, ни бесам нельзя вторгаться в пространство человеческой свободы. Любой выбор человек делает сам, и задача хранителя всего лишь помочь ему при выборе. Уговаривать никого нельзя. Да что хранители, даже вестники, когда являются к людям, чтобы передать прямую волю Творца (а такое бывает очень-очень редко), и то всегда оставляют им возможность сказать «нет», и никогда не спорят, никогда не наказывают за такое. Быть святым не всякому по плечу.
Говорят, богословы много рассуждают там, на земле, о соотношении свободы человеческой воли и Божественного всемогущества. Я не умею формулировать на их языке, я могу только сказать, как сама это понимаю: конечно, ничего доброго мы сами по себе не творим. Какой такой «мы наш, мы новый мир» без Него построили, ты и сам видел. Всё, без единого исключения всё доброе в мире творится Его силой, по Его воле и замыслу. Но у человека Он никогда не отнимает выбора: принять или отвергнуть, встать рядом или пойти прочь.
Ну, а эти мелкие-мелкие повседневные выборы? Что я могу тут сделать? Особенно если и не тянет меня в это влезать, если кажется, что всё это полная ерунда… Так что я, наверное, пока очень плохой наблюдатель. Но я буду учиться. И Максимыча обязательно попрошу меня хорошенько пропесочить, то есть объяснить, что тут от меня требуется. Жалко, тебя нет, Мишка, так, как ты, никто не умел объяснять мне простые вещи! Даже Максимыч.
Твоя Маша.
10
А ведь я заметила, что перестала здороваться с тобой в этих письмах, Миша. И в самом деле — это как дневник, ты же не читаешь их сейчас, и не выходит у меня повторять «здравствуй» тому, кто не ответил в самый первый раз. Впрочем, не в словах же дело…
Зачем я вообще начала писать тебе? Просто потому, что по тебе истосковалась, что так жду нашей встречи? Нет, наверное, не только это. Мне надо вернуться в то золотое время, когда мир был простым и прекрасным, когда мы понимали друг друга с полуслова — в наше общее детство, точнее, в мое отрочество, в твою юность. Мне нужна была точка отсчета, нужно было зеркало, чтобы разглядеть саму себя, свою жизнь и тех, кто мне дорог. Такая же эгоистка-гимназистка, как тогда, помнишь, когда я часами могла рассказывать тебе про всякую ерунду (ну ладно, не только ерунду, согласна), а ты с важным видом слушал и кивал, и поправлял, и задавал такие верные вопросы, ведь тебе очень нравилось быть моим старшим братом.
Вот я и писала тебе — двадцатилетнему. И вдруг, сама не ожидая такого, начала открывать тебя совсем другого, каким, пожалуй, я прежде и не очень-то хотела тебя знать — взрослым, отдельным от меня, проживающим такую жизнь, какую не я, а ты сам для себя избрал. Надо же как, Миша… Но оно всегда получается так, если начинаешь вглядываться в лицо напротив.
Самые мудрые говорят о самом важном с Ним. Но, знаешь, это действительно… ну, это как из самолета прыгнуть, наверное, и даже без парашюта, чтобы тебя подхватил Кто-то Другой, кто может и хочет подхватить. У меня пока не очень получается так. Вот и выбрала почему-то именно тебя, а вовсе не Максимыча, и сама не очень пока понимаю, почему. Но это неважно, право, я верю, что с каждым таким письмом приближается день, когда я скажу тебе «Мишенька, здравствуй!» — и получу ответ.
А Максимыч зато провел со мной сеанс ликвидации безграмотности, это насчет Надюши и моей роли наблюдателя. Да конечно же, не в том моя задача, чтобы занудно галочки ставить, когда она хорошее сделала или подумала, а когда плохое. То есть следить за этим тоже нужно, очень даже внимательно — но это всего лишь внешние проявления. Борются-то не с симптомами болезни (ознобом, температурой), а с ее причиной, иначе можно температуру сбить, а человека потерять. И главная задача у Хранителя прямо как у врача — помогать больному сражаться с болезнью. Ну, а я снова инструменты подаю, как бывало там, на земле. Даже нет, здешний скальпель мне и в руки-то не взять, я уж скорее ночная сиделка: проследить, отметить, вовремя позвать дежурного врача.
А Надюшин недуг всем нам хорошо знаком: ей хочется, чтобы ее любили. Да я давно писала тебе об этом, про то, как ринулась она в семейную жизнь, и не нашла там того, чего искала (на самом деле искала Синюю птицу, вот и не нашла ничего), как потом пришла в церковь. Но на работе-то, казалось бы, к чему об этом вести речь? Человек, прямо по Марксу, отдает свои силы и время в обмен на денежную компенсацию. Ещё интересной бывает работа, полезной, но не обязательно. Всё просто…
Да какая уж тут простота! Деньги, конечно, нужны, особенно теперь, когда у них там снова свобода торговли, как при царе, да и интерес и польза играют не последнюю роль. Но немного таких людей, которым нужны только они. Не менее важна, как теперь принято там говорить, «возможность самореализации» — то есть не просто ты будешь в деревне землю пахать или в конторе чужие бумажки перепечатывать, а раскроешь все данные тебе таланты в полной мере. Прекрасно, правда? Не все только понимают, что и землю пахать — тоже такое дарование бывает. Тут обычно имеется в виду конкурс, как в провинциальном театре: Гамлет один, и Офелия одна, так что должен каждый себе и другим доказать, что эта роль его, что статистом ему быть не полагается.
Но даже не это главное для нашей Нади. Нет, конечно, ей важно добиться успеха на работе, да и всем почти это важно. Но ей, пусть она даже и сама не отдает себе в этом отчет, важнее другое. Она докажет своим родителям, что она большая, самостоятельная, успешная. Даже отцу, с которым они почти не встречаются и очень редко созваниваются, и уж тем более маме, которая всегда предъявляла к ней свои требования, всегда ждала чего-то очень конкретного — и вот теперь, кажется Наде, если она действительно добьется успеха, мама не просто похвалит ее, но признает ее правоту.
Дико тебе такое слышать? И мне было дико, когда Максимыч начал мне всё это объяснять. А потом… Потом я просто вспомнила нашу встречу с Антошей, племянником твоим. Сколько пришлось нам проговорить и понять друг про друга! Знаешь, я никогда не думала, пока не повстречала его здесь, сколько же я всего в нем напортила. Я даже про Надю сейчас ничего особенного не скажу, в ее-то шкуру мне не влезть — я могу тебе рассказать про саму себя.
Ты же помнишь, что с нами произошло после ареста Максимыча. Квартира была опечатана, с работы в Первой градской меня уволили (а ведь хирургические сестры с таким опытом тоже на дороге не валяются!). Мне пришлось искать места по каким-то заводским амбулаториям, профилакториям, по окраинам Москвы и области, и выслушивать там после полугода работы: «Да, Марья Антиповна, к вам претензий нет, но вы же понимаете… зайдите в кадры, будьте добры». Ютились мы по общежитиям, а то и просто по знакомым. Может быть, всё это нас и спасло — мы сразу упали на самое дно, и чекистские сети проходили поверх, нас не задевая. Многие ведь отправились туда вслед за мужьями. А может, была и другая причина — трудно мне сказать.
Знаешь, в глубины Лубянки мне тоже пока хода нет. Потому ли, что она все же чем-то сродни аду, потому ли, что я сама не готова — но я ничего не знаю об аресте и следствии Максимыча, кроме того, что он сам мне рассказал. Я не знаю, почему не тронули меня, почему остался на свободе ты, «царский офицер» — всяко ведь бывало в те годы, иногда просто бумажка терялась, или сегодня вдруг арестовывали того, кто завтра собирался арестовать тебя. Или просто — и такое бывало — приходили за тобой, а ты в командировке, вот и брали соседа для статистики.
Но я, впрочем, об Антошке. Хороший, умный мальчик на пороге отрочества, когда так необходим бывает мальчишкам отец… Знаешь, я ведь была еще нестарой, я могла еще выйти замуж — особенно во время войны сколько красивых и смелых проходило через мои руки, когда снова стала я хирургической сестрой, и не один, бывало, заговаривал на эти темы… Но мне казалось, что теперь все силы — только сыну, даже когда он и сам уже воевал, и когда вернулся. Мне казалось, что семейная жизнь вся осталась в прошлом, теперь вот только сына на ноги поднять да память о муже сохранить. Наверное, было бы лучше, если бы я нашла себе пару — так и Максимыч мне говорил. В том числе и для Антона.
Помнишь, я тебе писала, как старался он быть образцовым мальчиком? Так ведь это с моей подачи. Я понимала, что кому-кому, а сыну врага народа есть только один путь в люди — быть идеальным, образцовым. Нет, я не принуждала его силком ни к чему, я не наказывала его за двойки и тройки, просто он так ясно читал в моих глазах: ты должен быть лучшим. Он не мог принести домой тройку, как и с войны не мог вернуться без ордена, потому что этим он причинил бы мне боль — а если перевести на детский язык, то выходило, будто такого его мама не очень-то и любит. Каково это парню, который уже потерял отца, а с ним и всю свою благополучную жизнь профессорского сынка, который с мамой вдвоем сражается против целого света? Нет, такого он вытерпеть не мог, это было бы для него хуже самого сурового ремня.
Ты представляешь, в девятом классе он пришел домой и рассказал: у них одна девочка как-то не очень уважительно высказалась о Сталине. Мы-то сами тогда и слов никаких не говорили про Усатого (да и какие тогда могли быть слова!), но по одному взгляду всё понимали. А мой Антон накинулся на нее, да еще при всех: «Как ты можешь, про вождя и учителя, какая же ты комсомолка после этого!» Он, бедняга, и не понимал, чем грозили эти его обличения девочке, да и родителям. А я промолчала, я подумала: ну ничего, вырастет, сам разберется, не буду сеять у него в душе сомнения. В конце концов, это тоже такая честность: нельзя быть комсомольцем и не уважать Сталина, тут он по-своему прав.
Понимаешь, я хотела вырастить из него человека, который сможет жить в нашей стране, не пряча глаз. Не честного, не правдивого — а именно такого, и чтобы я ни говорила сама себе про честность, я на самом деле именно это имела в виду. И в результате готова была согласиться чуть ли не со стукачеством, лишь бы мой мальчик был образцовым, лишь бы ни пятнышка на его светлом облике.
И ведь это осталось на всю жизнь! А как я убивалась тогда, уже на склоне своей земной жизни, когда он, пламенный коммунист, дитя оттепели (это время такое настало после Усатого, вроде послабления), стал вдруг вести решительную борьбу с религиозными предрассудками на всех этих собраниях, и статьи в газетах писал, заседал даже в совете каком-то, решал, какие церкви закрыть! Нет, меня, свою мать, он жалел, никогда ничего при мне такого не говорил — но ведь мне он на самом деле мстил, а не попам. Мне, за это образцовое свое детство, за то, что так и остался он до конца своих дней мальчиком-паинькой, боявшимся тройку из школы принести, потому что мама любить не будет. И вот таким требовательным без снисхождения родителем он представлял себе и Его — а кто, кроме меня, в том виноват? Никто. Настоящих попов он видал разве что во время своих турпоходов, на фоне памятников русского зодчества (они же по совместительству церкви), да и то издалека.
Знаешь, у меня это занудство и в самых мелочах тогда проявлялось. Наш быт рухнул в одночасье, с арестом Максимыча. Но я старалась — как же я старалась! — и в этом нищенском, обрывочном быту сохранить достоинство. Нож и ложка только справа от тарелки, вилка только слева, даже если это алюминиевая миска с мерзкой кашей и стакан жиденького краснодарского чая к ней в придачу. Все равно сервировала, как положено, не было скатерти — так на чистой тряпочке. Можно сказать, я цеплялась за память о наших обедах в Столешниковом, и потом на Лесной, в профессорской квартире. И Антошку к тому же приучала: нас могут бросить в грязь, но нас не могут заставить есть эту грязь или быть грязью. В конце концов, хирургия приучила меня к опрятности и порядку.
Пожалуй, это действительно спасало меня тогда, в тридцатые. Только остановиться бы мне вовремя… Вспоминаю свою старость, когда жила я в двухкомнатной коммуналке на Варшавском шоссе, с милой соседкой Никитичной (вот уж повезло так повезло мне с ней!). Приходили ко мне Антон с Олей, потом и Сашку маленькую приводили, а у меня скатерть накрахмалена, приборы расставлены в строгом порядке, и к рыбе не те, что к мясу. Смешно сказать, какие то были приборы, и какая рыба — шпроты рижские — а порядок обязательно соблюдался. Понимаешь? Деньги я ему до копеечки отсчитывала, если он по дороге батон мне покупал или что другое. И за столом всё то же самое: чинные разговоры, кто что делает, у кого какие успехи, когда Антон собирается диссертацию защищать (ну и мучила я его этой диссертацией), да как Сашенька читать учится, и что уже ей прочитали.
Мне бы запросто с ними, а вот не могла уже — привыкла. И казалось моему Антошке, что он так и таскает мне всю свою жизнь табель с оценками, и свой, и Ольгин, и Сашкин, и так важно ему, чтобы ни троек, ни четверок, ни даже пятерок с минусами не было в нем, лишь бы маму не расстроить. А я еще недоумевала, отчего Ольга ко мне так нерасположена, вроде я ей ничего дурного не делала…
Я говорила тебе, я и после перехода рвалась к нему. Действительно, снилась. Хорошо, что мне ничего не давали ему сказать, только видел он меня другой, совсем другой — помолодевшей, задумчивой, сидящей на берегу быстрого лесного ручья. Я опускала в него руки, играла водой и солнцем, пила эту воду — а потом вдруг как начинала брызгаться, словно девчонка, и он тоже в ответ, и оба мы хохотали, как бывало в далеком-далеком его детстве, на даче… И никакого крахмала.
Его никак не отпускало все то, что я в него заложила в детстве. Хотя, конечно, вырос он кристально порядочным человеком — но вот от порядка так и бегал до конца своих дней. Галстуки не носил принципиально, в отпуск — только в поход, желательно на байдарках, и ночевать в палатках в лесу. Но на самом деле нарушения любого запрета, хоть самого малейшего, внутренне всегда боялся куда больше, чем любых речных перекатов и таежных медведей. Он и в церковь-то пришел (да, сбылись мои просьбы), знаешь, когда им там уже разрешили — перед самым распадом Советского Союза. Встретил тогда одного настоящего попа в купе поезда, разговорился с ним, а тот — с высшим образованием, начитаннейший человек, интереснейший собеседник. Ну, Антон раз к нему зашел в храм, другой… Крестился за полтора года до своего перехода, представляешь! Я его встретила здесь таким чистым, тихим, спокойным. Наконец-то принес он табель, который был действительно важен! Ох и винилась я тогда перед ним… А он передо мной. Ревели оба.
А про наших родителей, Мишка, я тебе ничего не буду говорить. Что-то ты и сам знаешь, а что-то тебе предстоит обсудить с отцом. И с мамой, если мы ее увидим. И понять про себя каждый может только сам.
Но вот Надя… До какой степени, интересно, я переношу на нее свой опыт? Может быть, это мне только кажется — ведь у нее совсем, совсем другая история? Но другая она только в том смысле, что ее отношения с мамой, и с почти полностью исчезнувшим из ее жизни отцом совсем не похожи на мои отношения с Антоном. А вот результат-то, кажется, близкий, он вообще у нас у многих одинаковый: недолюбленные в детстве, не знающие безусловной и жертвенной любви, мы всё ищем её. Кто пытается всю жизнь выполнять поставленные родителями условия любви, кто яростно бунтует против них, кто ищет чего-то иного, нового, на замену — а чаще всего всё это подряд, вперемежку.
Причем же здесь ее работа? Да вот как раз при этом. Может быть, для нее успешная карьера — и условие любви, и бунт против условий, потому что совсем не такую карьеру хотела для нее мама. Может быть, даже паллиатив, средство для временного облегчения: начальство ценит, коллеги уважают, да и вообще много всего происходит в этом рабочем кругу, вот и пустота как-то наполняется.
Ну, а что же нам с Максимычем тут делать? Призывать ее к особенно добросовестному и аккуратному исполнению обязанностей? Ну да, как я Антошку. Нет уж, хватит — не маленькая, знает. Попробовать заполнить пустоту — вот что мне предложил Максимыч. Тут, конечно, на первом месте стоит церковь, я же тебе говорила, что такие, как мы, и приходят туда обычно в поисках этой самой безусловной любви. Но и вышло у нее так, как у многих выходит — Бога она чувствует не очень хорошо (а кто из нас хорошо Его чувствует?), зато вот с батюшкой эмоциональный контакт возник глубокий и… очень непрочный. Она же видит его только с одной стороны, именно с той, с которой хочет его видеть. Когда он набрасывает величественную епитрахиль ей на голову, когда говорит простые и правильные слова, когда просто ласково улыбается ей, она плакать готова, видя в нем идеального Отца. Но он все же не тот Отец, которого она ищет, так что неизбежны разочарования.
Знаешь, я ведь тоже такой была в юности: воображала о людях невесть что, сладко замирала, когда мои ожидания сбывались пусть в самом мелком, а потом горько страдала, что на самом деле человек оказался не тем, за кого я его принимала. Что меня излечило, не знаю — точно не работа в московском госпитале времен германской, и даже вряд ли гражданская… Эти внешние ужасы, пожалуй, только оттеняли воображаемые воздушные замки, над земной грязью они смотрелись особенно эффективно. Может, просто повзрослела. Но когда мы остались без Максимыча, я уже смотрела на мир достаточно трезво, была благодарна за всякий черствый кусок — хлеб или сочувствие — и не обижалась на его отсутствие, только сосредоточеннее становились мои поиски.
Наверно, и Надя всё перерастет. А пока я думаю, чем смягчить явно наметившийся разрыв в ее отношениях с духовником. Нет, она еще ходит к нему, но скорее по старой памяти, и явно ей не хватает того, что было раньше. Это после первых нескольких исповедей и причастий летаешь на крыльях, знаю по себе, особенно если много за предшествующую жизнь накопилось, в чем исповедоваться. Потом наступает привычка, чавкает под ногами болотце, а хочется чего-то воздушного и легкого…
С мужем у нее тоже сейчас всё сложно. Об этом отдельно напишу.
Максимыч предложил поискать ей круг общения — из старого она во многом уже выпала, причем по своей вине, больно круто начала «воцерковляться», всех поучать и строить. Остались, конечно, несколько подруг и друзей, прежде всего Алла, но это в основном такая ни к чему не обязывающая болтовня, не более. Может быть, удастся помочь ей увидеть около себя такого человека, или даже несколько людей, с которыми она действительно сможет почувствовать, что нужна и любима… Максимыч, правда, меня предупредил, что в случае с мужчиной это чревато банальной влюбленностью. Само по себе не всегда плохо, на Надюша все же еще слишком молода, так что для нее это будет настоящая ловушка.
В этом деле, впрочем, ты сам куда лучше меня разбираешься. Ну ладно, ладно, не буду! Миша, как же хорошо, что можно тебе все это рассказывать, пусть даже и в письмах…
Обнимаю тебя!
Маша.
11
«Я изучил науку расставаний» — так писал один замечательный поэт, он тоже окончил свои земные дни в лагере, примерно когда и Максимыч. Трудная, в самом деле, это наука — но, может быть, больше всех прочих необходима она людям. Мы учимся куда охотнее встречам и знакомствам, учимся дружить и вместе вести дела. А потом приходит срок… Мишка, ты же сам обращал внимание, как беспомощны в наши времена люди перед смертью: ее не признают до последнего, обманывают и больного, и его родных, а потом, когда она уже случится, прячут ее с глаз подальше. И на похоронах не умеют ничего сказать, кроме: «да будет земля тебе пухом» и «спи спокойно, дорогой товарищ», — словно не только тело, а душа, сама его личность безысходно лежит в земле. Да уж какой тогда пух!
Невыразимо трудно, знаю по себе, не только живым расставаться с перешедшими, но и перешедшим с живыми. Те еще не знают, что там, за чертой, а эти уже видят, какой долгий и непростой путь ждет их и по эту сторону. Может быть, оттого некоторые и засыпают, не в силах, как кажется им, идти по нему?
Но есть и еще одна наука расставания. Бывает ведь так: жили люди душа в душу, кем бы ни были они: супругами, влюбленными, друзьями — и вдруг оказывается, что они не вместе. Смутило ли их что-то, или просто выросли оба, и каждый в свою сторону, знаешь, как из одного корня порой растут сразу два ствола — в общем, люди разошлись. Как непросто бывает тогда не озлобиться, не мстить и не желать зла даже в глубинах своей души. Так ведь и у нас получилось в какой-то момент, Миша, я даже не знаю когда именно, но на похоронах мамы я вдруг поняла, что стоящий рядом со мной человек, мой брат, некогда самый-самый для меня родной и дорогой, уже совершенно иной, и я его не понимаю и не принимаю.
Это было страшной моей обидой, Мишка, и теперь я хочу попросить у тебя за это прощения. Мне это виделось как твое предательство, особенно горькое и обидное теперь, когда на свете уже не было мамы (ведь я с тех пор так и не встретила ее). Я рыдала ночами в подушку, я пыталась понять: где, как, когда вырос из этого стройного, сильного и нежного юноши, моего старшего брата, разбитной, циничный, прожженный большевистский командир? Да, именно таким я и видела тебя тогда. Просто мне очень хотелось тебя другого, из нашего общего прошлого, а ты уже не был таким. И я не могла задуматься, не могла поверить, что под оболочкой цинизма, а точнее, под его защитной броней может скрываться всё то же золотое сердце, только чуточку более мудрое и оттого менее ранимое, чуточку более привычное к злу.
Я как-то смирилась с этим тогда, у меня были муж и сын — они не могли заменить тебя, как вообще никто никогда и никого не заменяет, но мне с ними было хорошо, жизнь была полна, и не стоило убиваться, что в чем-то она оказалась не такой, как мечталось. Так я сама уговаривала себя, всё себе объясняла, и продолжала слать тебе открытки на дни рождения, изредка встречала тебя в Москве, ты же вечно мотался по нашей огромной стране. Я уже привыкла, что мы просто родственники, которые иногда напоминают друг другу о своем существовании, но живут вполне раздельно.
А потом грянул гром, жизнь рухнула — но зато я снова встретила тебя. Нет, ты не мог принять открытого участия в наших с Антошкой делах, это я прекрасно понимаю, но твои пусть краткие, ни к чему не обязывающие письма и открытки, да что там открытки — денежные переводы, посылки, они значили для нас очень много. Они позволили нам выжить, и не просто физически продлить свое земное существование — они были маячками в ночи, и немного было у нас тогда других таких маячков. Теперь я снова знала, что у меня есть старший брат, и пусть в это страшное время он почти ничего не может сделать для меня, но делает он всё до конца, что только может. Спасибо тебе за это, мой хороший.
Как знать, сколько таких моих разорванных отношений на самом деле были всего лишь перерывом, временным недоразумением — затянувшимся на всю жизнь, а когда и на вечность? Я ведь не только о тебе думала плохо, Миша, просто другие истории не стану тебе рассказывать. Много с кем я рассталась, хлопнув дверью, а уж что я ответила Никонову на все его приставания, мне уже здесь пришлось подробно и со стыдом вспоминать. Правда, и ему было за что краснеть, даже и побольше моего, но во взаимном прощении не бывает должников и кредиторов, тут выигрывают все. Не скрою, что с Никоновым никакой особой дружбы не возникло, да и не нужно пытаться дружить всем со всеми, бывают же просто разные судьбы и несхожие характеры. Только вот крыситься на другого здесь совершенно точно уже не получится. Отвыкать, кстати, бывает непросто.
Ох и хорошо же я тогда сделала, что ни слова не обмолвилась ни тебе, ни даже Максимычу обо всех художествах Никонова! Пожалуй, вы бы его пристрелили. А тогда я просто перешла в другую больницу, в Первую градскую, и там всё было гораздо лучше, ты же знаешь. Так что на самом деле все его приставания просто стали для меня толчком к переменам, мне же самой на пользу, по большому-то счету.
Вот о чем я задумалась сейчас, глядя на Надю. Она ведь тоже сейчас рассталась со многими людьми, которые были ей дороги. Помнишь, я писала тебе, что она просто распугала ближний свой круг, когда стала ходить в церковь? Она вся была такая нарочито правильно-праведная, что… ну да, я тоже такой была. Только я со стороны себя не видела тогда, замечать стала только сейчас — и потому смогла горячо посочувствовать и самой Наденьке, и всем, кто вокруг нее. Знаешь, когда в семье один человек становится христианином, другие нередко сразу производятся в чин страстотерпцев. Как раз наш с ней случай; у меня, правда, весь эффект несколько смазался на фоне общих наших с Антошкой неурядиц, а у Наденьки он весь налицо в чистом виде. И друзьям-подругам досталось не меньше, чем мужу.
Вот тут ты со своим здравым и практическим умом увидел бы и понял куда больше, чем я. Так что не буду вдаваться в подробности, а в целом выходит так: очень уж ей важно «не оскоромиться», подчеркивать свою инаковость на уровне внешних признаков (а мозги-то остались прежние, мирские, страстные, самолюбивые, и сердечко еще совсем маленькое и неумелое, не привыкшее ни прощать, ни просить прощения). Ну вот, например, отмечают они в своей фирме новый год (как раз на Рождество по новому стилю, как в Европе). А у Нади в это время Рождественский пост. Так что на вечеринку она пошла, не пойти нельзя было, но вот пила она весь вечер сок и минеральную воду, ела одни огурчики и маслинки. Ведь пост! И ладно бы делала это тихо, неприметно — так нет, все заметили, все «оценили». По правде сказать, насвинячили они изрядно на той вечеринке, но тут уж надо или не приходить, или, придя, тихонько сидеть в уголке и не выделяться. Сам понимаешь, это как наши прадеды по необходимости, бывало, входили в дома никониан и даже с духовенством их могли общаться, но ни в коем случае не ели с ними вместе, не пили из одного стакана. Ну, наш-то дед таких строгостей не придерживался, ему по купечеству было бы так несподручно, а вообще таких было немало.
И еще это постоянное наше стремление поучать, проповедовать… Сама-то Надя уже подзабыла, как в церковь пришла: не от того, что ей какая-то подруга все уши прожужжала, крестись мол, да крестись, ведь ты русская — как она подругам говорит. Можно подумать, что Иоанн Креститель лапти носил, или что Христос учил русскости! Нет, Надя пришла к вере после многих и осторожных разговоров с разными людьми, а главное, после чтения Евангелия, когда в одну ночь она поняла: эта книга слишком высоко замахивается, слишком много на себя берет, так что вся она либо наглый и бессовестный обман, либо чистая правда. Но если это обман, как многие другие книги, претендующие на раскрытие тайн мироздания — рассудила она, — то не продержалось бы оно и ста лет, сгинуло бы бесследно, не смогло бы оно породить то, что породило. Тут и русскость ей пришла на ум, но в ином ключе: вся русская культура, выходит, на Евангелии строилась, и не только русская, из нее вышел мир, в котором живем — значит, есть в этой книге великая правда. Вот с этим и пришла она в церковь креститься.
Ну, а то, что она теперь делает со своими подругами, больше похоже на советскую агитацию и пропаганду: до того всех извести лозунгами, что уже и самым бесспорным из них, вроде «мойте руки перед едой», хочется последовать с точностью до наоборот. Ох, Надя-Наденька! Говорят, у древних греков на одном храме было написано всего два слова: «ничего слишком». Здравая житейская мудрость. А у нашей девочки, кажется, жизненный принцип обратный: «ничего в меру».
А в результате, знаешь, она ведь рассталась и с первым своим приходом. Разочаровалась в батюшке — ну, разумеется, потому, что прежде без меры в нем очаровалась. И вот тут бы ей «изучить науку расставаний…» Но, видимо, еще долго ей этому учиться. Пока что всё больше обиды: не такими они оказались, какими она их видела в своем воображении. Батюшка устал, ему не до нее… Ей трудно принять, в юном ее возрасте, что любовь и забота бывают молчаливыми, что ни один человек не в состоянии постоянно подпитывать и гладить другого. Да, впрочем, что я говорю, ты сам всё это знаешь.
И еще одно: в этом их приходе люди практически не общаются меж собой. Стоят рядом на церковной службе, знают даже имена друг друга (ведь их называют, к примеру, у Чаши), знают друг друга в лицо. А вот кто чем живет — это им не известно, да и не интересно по большей части, а если интересно, то спросить неудобно. Вот и получаются они как пассажиры в метро: вроде и вместе, и в одну сторону едут, а каждый сам по себе. Объединяет их только храм да батюшка; вот с ним у каждого богатые, сложные отношения — так что если рвутся или хотя бы надрываются эти отношения, то разом рушится всё, человек выпадает из прихода.
Я перепугалась, когда это произошло, а Максимыч сказал: ничего. Это подростковое: уйти на время из дома, потому что в этом доме что-то категорически не устраивает, и даже сам подросток едва ли в состоянии сказать, что именно. Просто небольшой перерыв, сказал он, но на самом деле она уже поняла, что́ есть для нее в церкви, и память эта навсегда останется с ней. Так что этот перерыв, скорее всего, ненадолго.
Важно теперь одно: чтобы она сохранила в душе хотя бы благодарность за прошлое. Так легко бывает переходить от любви почти что к ненависти из-за какого-то пустяка, забывая ради него обо всем остальном. Так вот и наши прадеды спорили, двумя или тремя перстами креститься, разрывали из-за этого и церковь и страну, а про «Христос посреди нас» как-то и не вспомнили. И не стало Его посреди них в тех спорах. В человеческой жизни очень часто и легко так происходит.
Только бы Наденька не порвала сейчас с мужем, у них всё действительно плохо, хотя к тому нет никаких особых причин. Просто у двух детей, не привыкших к взрослой, самостоятельной жизни, есть в головах по картинке, как оно всё должно быть. И самое смешное, что картинки-то эти на девять десятых совпадают, но вот на одну десятую разнятся. Или даже так: со стороны никто себя не видит, вот и не замечает каждый из них, что сам не соответствует этому образу «идеального брака» не меньше другого. И обижается ужасно: я идеален, а она нет! Я даже не знаю, что со всем этим делать, Максимыч тоже пока не уверен, что сможет им помочь.
Но, кажется, мы нащупали нить, по которой можно вывести Надю из этого болотца, пока еще мелкого, бытового, но потенциально очень опасного. Она познакомилась с новыми людьми, буквально случайно («хи-хи», — сказал ее хранитель), и как-то всё крепче завязывается у них общение. Это две женщины, они тоже христианки, хотя из другого прихода, и даже приходом его не назовешь. В общем, они из тех, кто старается жить общинно.
Как ведь у нас повелось при Советской власти, когда я в церковь пришла? Никакой общинности и в заводе быть не могло. Сама ходи в церковь, ладно, если не партийная, если карьеру не делаешь, никто мешать особо не будет, пока слишком не надоешь. Но кроме домашней и церковной молитвы чтобы ни-ни! Ни собраний вне службы, ни благотворительности, ни книжного или журнального дела, кроме официоза и календарей, да ведь и тех было не достать… В общем, очень старалась родная наша власть, чтобы церковь и вправду превратилась в заповедник неграмотных старух и жадных попов, какой ее и рисовали.
Поэтому для нас путь в церковь всегда был путем одиночек. Помнишь, я тебе об этом и писала недавно, говорила о спасении как о дороге, и всё такое прочее? Вот это я из своего опыта исходила, из опыта одиночки. А эти люди — да такие, впрочем, бывали и в наше время, просто мне, неготовой и неумелой, не было дано попасть в их круг! — постарались понять и применить к себе именно эти слова: «Христос посреди нас». И жить по ним. Это много сложнее, и тут ловушек понаставлено много, ой как много… Но с этим еще не очень всё понятно: будет ли Надюша среди них, или нет. В любом случае, общение с ними явно вырывает ее хотя бы ненадолго из круга привычных мелких обидок и крупного самоедства, а это уже очень хорошо.
Да, Мишка, и вот еще что! Угадай, кого я тут повстречала? Да вот того самого твоего комиссара, латышского стрелка Петера Озолина! Ни за что ведь не поверишь, что пламенный большевик оказался тут с нами. А я бы теперь уже поверила, скольких я тут перевидала людей! Понимаешь, он же не был ни слепым функционером, ни садистом, ни подлецом. Он честно и открыто боролся «за народное счастье», как он его понимал. И много, ой как много передумал он в Лубянке, когда таскали его с допроса на допрос в проклятом том году, когда места живого на нем не оставили — Максимыча так не терзали, как его. И особенно за те долгие минуты, когда потащили его неведомо куда, сам он уже и ходить не мог, и он уже всё предчувствовал, всё осознавал, и кричал на весь коридор: «Товарищи, не верьте кровавым сталинским палачам! Ничего не подписывайте!» — и снова его били, за три минуты до пули в затылок хотели заставить следовать их собственной воле. Не смогли.
А потом, рассказывал он, была еще одна дверь, и толчок в спину, и грязный пол в бурых пятнах от крови, и выстрел, которого он не почувствовал… И вдруг тот самый пастор, к которому он, бывало, бегал мальчишкой по уличкам своего городка, когда нечем было заняться и хотелось полистать старые книги, ласково и строго спросил его: «Так что скажешь, Петер?» И он, уткнувшись горящим лбом в его холодные руки (это тогда ему так казалось — никакого лба после подлого выстрела в затылок не остается), уже без долгих раздумий ответил с той же решимостью, с какой уходил добровольцем на германскую, с какой вступал в большевистский кружок, с какой посылал на расстрел других: «Похоже, вы были правы. А я — заблуждался. Уже слишком поздно… отец Ян?» А пастор только печально улыбнулся, и… Нет, Мишка, я не буду, я просто не смогу рассказать тебе это. У каждого это бывает своим, и у каждого — радостным и трудным. Очень радостным и очень, очень трудным.
Но ты знай, что Петер Озолин с нами, и он тоже будет рад встрече с тобой. Вы же ведь и потом встречались, как он мне рассказывал — служили, кажется, в одной дивизии. Впрочем, это неважно, здесь мы все оказываемся в одном воинстве, хотя я, как всегда, предпочитаю называть это другими словами, например — семья.
До встречи, дорогой мой брат,
Твоя Маша.
12
Мишка, я снова о Наде. Я подумала, что в прошлом письме зря не объяснила тебе, почему так важно, как кажется мне, сохранить их добрые отношения с Антоном, их семью. Да, уже давно прошли те времена, когда венчание считали нерасторжимым. Да взять хоть тебя самого — три официальные жены, а сколько подружек, я и не знаю. Ну что, вроде бы, такого — все люди взрослые, сознательные. Вот, на этом этапе своей жизни сошлись, потом разошлись, встретили кого-то другого. Всё цивилизовано, без претензий.
Я не буду тебе говорить библейскими или другими цитатами, ведь для тебя они не убедительны, я скажу, как сама вижу это. Понимаешь, семья — это школа Царства, на пороге которого мы все здесь стоим, или же школа ада. В ней собраны самые близкие друг другу люди, и пусть дети с родителями не выбирают друг друга (а то многие бы точно выбрали себе не таких, какие достались), то супруги, за редкими в наши дни исключениями, все же сами когда-то решили, что они самые родные на земле. А дальше выясняется: да, родные, да, любимые, но все-таки не такие, как хотелось бы. Идут разочарования, слезы, страдания. Если сумеют хоть немного справиться с этим, куда проще будет войти и в Царство, где собраны очень-очень разные люди, и некоторые совсем не такие, как хотелось бы. Если не получилось в семье, с этим одним-единственным человеком, которого ты сам себе выбрал, то в Царстве будет совсем уж сложно.
Бывает, конечно, всяко — иной раз первый брак как черновик, а то и второй, зато вот последний — настоящий, на всю жизнь. Только стоит ли тратить свои годы на перечеркнутые черновики? Да и дети от них бывают, от черновиков, а их не перечеркнешь.
Вот вас с Лизой разлучила, по сути, Гражданская — если бы не она, я уверена, вы бы жили долго и счастливо. Хотя какой-то выбор все равно вы сделали, каждый из вас, в особенности тогда, в 20-м, когда вы встретились снова после долгой разлуки. Вы оба изменились, может быть, не так сильно, как вам тогда казалось, но в 25 лет всё кажется таким значительным и окончательным… В общем, вы расстались. Лиза снова вышла замуж, ты и сам всё это знаешь, прожила долгую и достойную жизнь, родила двоих детей. А все-таки не от тебя. И никуда ведь не деться вам обоим уже от этого прошлого, от тех венцов, которые над вами держали, от той чаши вина, которую вместе вы пили во время церковного обряда. Не получилось, надорвалось и не склеилось — что же, бывает, и можно даже порой исправить настоящее и изменить будущее. Только вот отменить прошлое — такое прошлое, я имею в виду — невозможно. Навсегда вы друг другу не чужие, как бы ни распорядились своей дальнейшей жизнью.
Твою вторую жену, Катю, я ведь совсем не знала, да и не хотела знать, если честно. Очень мне было обидно за Лизу. Но она наверняка тоже достойный человек — впрочем, это тебе с ней разбираться, не мне. А вот кто мне действительно нравился, так это Чинара. Ну вот кто мог угадать, что третью жену ты привезешь из Туркестана — юную, смуглую, молчаливую? Она и по-русски тогда говорила плохо, а главное, всё ей казалось, что не подобает молодой женщине влезать в разговоры родни своего мужа. Какая она была славная и приветливая! Жалко, что мы с ней так и не познакомились как следует. Если она здесь, может быть, познакомишь заново?
А ведь тебе, Мишка, признайся честно, просто захотелось, наконец, самого старозаветного такого брака — чтобы жена во всем слушалась мужа, чтобы все внешние дела оставляла на его полное усмотрение, зато в доме всё делала для него. Разве не так? Ну вот к тому ты и вернулся, от чего пытался уйти, по большому-то счету, к распорядку наших прадедов. Не самые глупые, оказывается, распорядки. Только теперь за ними пришлось ехать аж в Туркестан.
Ну, а у нас с Максимычем всё же было по-современному, не по «Домострою». Знаешь, в моей памяти двадцать без малого лет совместной нашей жизни остались таким огромным солнечным пятном, что не хочу и даже не могу вспоминать скандалы, размолвки, непонимания — а бывали и они, как же без этого. Я ведь других мужчин потом уже, после 37-го, всерьез и не воспринимала в основном из-за того, что понимала: такого впредь не будет, первый брак и был единственным, неповторимым. И хоть Максимыч и говорил, что стоило мне все же замуж снова выйти, в сорок лет это еще возможно, хоть и сама я порой с ним соглашалась, что для Антошки так было бы лучше — а на самом деле, сдается мне, это было бы просто нереально.
Так что в отношении Надюши я тут сущий младенец, нет такого, как у тебя, опыта. Я вижу, и прекрасно вижу, что́ она делает неправильно, и понимаю хорошо, к чему это может привести — а придумать, как ей помочь, не могу никак. Ну что ей, книжки какие-то, что ли, подсунуть, о любви и уважении в семье? Да не станет она их читать. Или познакомить с какой-нибудь красивой, замечательной парой, которая прожила много лет в согласии, чтобы они у них немного поучились? Тоже вряд ли.
Тут ведь вот еще какая штука… Мы жили в эпоху революций и войн. Смотри сам, было мне восемь, тебе десять лет, когда на улицах Пресни строили баррикады первой революции, уже сознательный возраст — и было нам обоим за сорок, когда началась вторая германская, тоже еще не старость. Как хорошо понимали мы непрочность семейного счастья, оттого и ценили его, видели, как легко могут его раздавать социальные катаклизмы. А сегодня они живут в спокойном, сытом мире, и кажется, что так будет всегда — ну как нам самим в детстве казалось, между первой революцией и первой германской. На самом деле, сколько им отпущено покоя и свободы, не знает никто на земле, да и у нас вряд ли кому это точно известно. Вот и кажутся им собственные неурядицы глобальными катастрофами, и не думают они, что когда грянут катастрофы, самый обычный такой день, наполненный суетой и мелкими обидками, будет вспоминаться как великое счастье. Да, в конце концов, состарятся же и они, оглянутся на свою молодость и подумают: да ведь сколько было всего, какие возможности, как могли бы мы радоваться жизни и друг другу — а вместо этого какой ерундой занимались? Теперь бы туда вернуться, скажут, ни минутки бы не теряли зря — да нет туда уже возврата. Только к нам, а к нам сюда попасть тоже надо суметь, и земной брак — отличная к тому подготовка. Ну, я не говорю, конечно, о монахах и прочих, сознательно принявших безбрачие, они — особая статья, это не про нас с тобой и не про Надюшу.
Может быть, если бы прежде той старости почувствовала она хотя бы на краткий миг, как непрочно это земное счастье, как много есть на свете вещей, способных его в одночасье разрушить — она бы начала его ценить по-настоящему. Есть, наверное, на земле такие острова блаженных, где круглый год 25 градусов тепла, и море такой же температуры, и дождь бывает только иногда и ненадолго, и бананы-кокосы сами растут в изобилии. Люди живут там и не ведают, что такое зима и ненастье, и не ценят своего острова, считают его вполне обычным — а попади туда любой сибиряк, да хотя бы житель наших северных деревень, солнцем не обласканных, он сочтет, что попал в рай, и ничего ему больше не нужно. А задуматься, так до чего же узок на самом деле там, на земле, вот этот «коридорчик счастья»: стань чуть холоднее или чуть жарче, градусов на пять-десять, или пойди дождь, поднимись ветер — всё, нет уже того комфорта, люди жалуются на погоду. И в семейной жизни оно так. Нужно усилие, чтобы в холодный день зажечь огонь, в дождливый найти укрытие, а в жаркий — прохладное озеро. А наша пара к усилиям непривычна, ей нужен остров с идеальным климатом, сразу и навсегда. Причем с доставкой на дом. Вот ведь ребятня неразумная!
Так что не знаю я, что с ней, такой, делать. Будь я на земле, пожалуй, поговорила бы с Надей по душам, да не знаю, помогло бы или нет. Может, и к лучшему, что меня там нет — запилила бы я ее. Ты же знаешь, какой я иногда бываю занудой!
Конечно, очень бы помог им ребенок. Я знаю не одну семью на земле, где именно рождение ребенка заставляло родителей смотреть не друг на друга, да еще и с претензией, а на того, кто похож одновременно на них обоих. И, глядя в одном направлении, они заново учились понимать и принимать друг друга. Но, с другой стороны, ни один человек, тем более беспомощный ребенок, никогда не должен быть средством. Если он поможет родителям разобраться с ворохом их собственных проблем, но зато примет на себя груз не меньший, а то и гораздо больший — что же в том хорошего? Так что ребенок им не был пока что дан, и это очень правильно.
А в последние время эти чудики как будто и забыли, как они его хотели. Они живут в одной квартире, словно в коммуналке, и уже не глядят друг на друга такими глазами, как в дни былой влюбленности. Казалось бы это нормально, иначе и не бывает. Да вот только они вообразили, будто эта самая лихорадочная влюбленность и есть любовь, и твердят себе всякую такую ерунду про «исчерпанные отношения» и тому подобные вещи. Да у вас едва всё началось, когда успели исчерпать-то? Они, по счастью, еще не пустились во все тяжкие, искать в посторонних того ослепления влюбленности, которое прошло меж ними, и которое по ошибке они назвали любовью, но они уже всерьез решили, что без этого чувства не может быть и совместного будущего, и тем более ребенка. Глупые! Влюбленность — это только щедрый кредит на строительство дома, а вот подлинная любовь и есть тот самый дом, и строится он годами и десятилетиями, зато и стоит вечность. «Живите в доме и не рухнет дом», — писал о таких и не только о таких вещах Тарковский, ты еще его почитаешь.
Зато церковная жизнь Надюши меня приятно удивляет. Я и не ждала, что она так быстро вернется в церковь, Максимыч был прав! Только теперь это уже совсем не тот приход. Помнишь, я писала тебе про общинный уклад этого нового круга ее знакомых? Она всё больше входит в него, ее церковность понемногу взрослеет, закаляется, обрастает плотью и входит в привычку. Хотя, признаться честно, это и отдаляет ее от мужа — все-таки совершенно новая область жизни, которую он совершенно не собирается с ней делить, да и она его к тому не приглашает — но, возможно, если она найдет там себя, ей будет проще найти и к нему дорогу. Люди, вроде бы, ничего особенного там не делают, просто вместе молятся, по возможности вместе трудятся, вместе решают какие-то насущные вопросы. Так, чтобы христианство их не ограничивалось пределами храма и собственной комнаты, как по необходимости было оно у нас и как во многом повелось с тех пор там, в России, но чтобы оно действительно стало полнотой жизни. Оно ведь и задумано таким.
Только тут тоже всё не так просто. Самая первая ловушка — противопоставить себя, избранных, всем остальным. На том ведь на земле и основывались многие, если не все ереси. Что там приводилось в качестве богословских оснований, в этом я мало разбираюсь, а вывод всегда оказывался до удивления похожим на тот, что еще на заре веков сделал правитель тьмы: «мы — особенные, мы не чета этим, которые…» Уж почему «особенные», и кто именно «эти, которые» не так и важно. Для Надюши это, похоже, «формалисты» — прежний круг ее единомышленников, во главе с тем самым батюшкой. С какой охотой, с каким упоением теперь высмеивает и обличает она их, а точнее даже — свое собственное прошлое. Но говорит при этом не про себя — про других. И всячески подчеркивает, каждым своим жестом, каждым словом — она сама не такая. Забыла, видимо, как совсем недавно изо всех сил старалась быть именно такой, копировала другие слова, интонации, выражения — не те, что сейчас, но зато так же старательно. Вот от чего ее бы надо отучить, да поскорее!
Да ведь и в новом кругу что-нибудь обязательно пойдет не так, как она ожидает, и что тогда? Не бывает, чтобы всегда всё было так, сам ведь знаешь. Так и я, как теперь вижу, отвергала многих зря. Помнишь, как еще из гимназии заявилась я как-то домой, погожим весенним днем, и заявила, что с Тарасовой нет и не может быть у меня ничего общего, что она пошлая и вульгарная девица, и всё такое прочее — а ты тогда только посмеивался? Мне, видишь ли, не понравились разговоры о мальчиках и о плотской стороне любви, которые она было завела, и которые мне самой слышать было занимательно чуть не до дрожи… Именно потому я так тогда на нее и ополчилась. Если бы она оказалась виновата в чем-то мне совершенно чуждом и не интересном, то я бы и в голову не брала ее вину, продолжила бы общаться с ней, как ни в чем не бывало. Ну, может быть, чуточку была бы поосторожнее. Но вот за свои собственные пороки и ошибки других люди прощать не склонны — ведь так они оправдывают себя! Мол, это не я виновата, это не мне интересно про мальчиков, а дрянная девица Тарасова совращает меня, такую умницу и скромницу. В четырнадцать лет забавно и простительно, а я ведь так иной раз и до конца земной жизни людей отшивала.
Вот и в Надюшином категорическом неприятии своего былого круга общения вижу я то же самое, и с этим надо срочно что-то делать. Может быть, дать ей очень мягко, необидно так сесть немножечко в ту самую лужу, с которой она борется, чтобы могла она чуточку посмеяться над собой? Она ведь девочка с хорошим чувством юмора, это часто помогает людям избавиться от лишнего напряжения и напускной серьезности. Только не знаю, не выйдет ли хуже, она ли над собой посмеется, или кто-то над ней, и если кто-то, то сможет ли она понять… Да и вообще, как всё это организовать? Будут советоваться с Максимычем.
Ты бы мне очень помог в этом деле, Мишка, ты всегда был шалопаем — но добрым таким шалопаем. Ну, по большей части. По крайней мере, таким я тебя и запомнила.
Обнимаю тебя,
Маша.
13
Мишенька, я всё вспоминаю, пересматриваю, переживаю наши общие годы на земле. Почему, почему мы так мало общались потом, после детства, после войн? Ну да, ты жил далеко, и в Москве бывал нечасто, но ведь бывал же! А главное, никуда не девалась почта, хотя не всегда доставало времени на письмо. Ну и что? Почему я не писала тебе, сама сейчас не могу понять. Нужно, что ли, было ждать вечности, чтобы это сделать? Так теперь ты не сразу написанное мной сможешь прочесть… Как глупо тратила я на земле время — вот опять и опять приходится делать этот вывод. И как бы объяснить это тем, кто пока еще там, на земле…
Есть у меня новости про Надюшку, и сразу две. Большие и серьезные новости. Первая, которую она сама прекрасно осознает и которую считает главным событием ее жизни — она опять влюбилась. «Опять», говорю я, потому что, не считая всяких там актеров, мальчиков из параллельного класса и прочих девичьих грез, это не первая ее влюбленность. Первая серьезная, с последствиями — это Антон, ее нынешний муж. О нем я тебе писала немного, а подробнее не хочу, у него есть свой хранитель, и о чем они говорят с Максимычем, а порой и со мной, того мне разбалтывать никак не годится. Вторая, ты уже и сам это наверняка понял из прежних писем — прежний ее духовник. Только в этой влюбленности она и сама себе не признавалась, считая ее чувством глубоко духовным. Об этом можно судить хотя бы по силе ее разочарования — это наше, женское. Так не думают и не говорят ни о ком, кроме тех, в кого были влюблены и кто, как потом нам показалось, оказался недостойным влюбленности.
Что я, сама не знаю, что ли? Ты думаешь, если я у меня был только один муж, то и не влюблялась я? Ну, про гимназическое и говорить не будем, там действительно были грезы, а все реальные мужчины — лишь повод к потоку фантазий и смутных предчувствий. Очень полезный поток, на самом деле, вроде очередной детской игры — вроде и не всерьез, а подготовка к серьезному. Печально только, что теперь у многих из них там, на земле, принято принимать эти детские игры за самое что ни на есть серьезное дело, со всеми вытекающими. А потом, когда вырастают детки, или по крайней мере кажутся они себе выросшими, оказывается, что никакого другого вида любви они не освоили, о нем даже не подозревают, и вот до старости остаются они всё такими же шалопаями-подростками, которым кружит головы, ведет из стороны в сторону собственное либидо, словно первая бутылка пива, выпитая в подворотне, тайком от родителей.
Это всё, конечно, не про Надюшу, но она ведь тоже живет в этой среде, которая на высшую ступень возносит подростковую влюбленность: болезненную, сиюминутную, неумелую… Да, она очаровательна, как очаровательны первые шаги малыша, такие еще неуклюжие, неуверенные — но ведь нелепо выйдет взрослым людям всю жизнь подражать этой походке! А стараются.
В общем, понравился ей коллега по работе. Он тоже женат, и там тоже в семье не всё ладно, вот и ищут они друг в друге, чего не смогли найти в своих собственных семьях. Конечно, каждый ведь человек несовершенен, и каждый имеет на то право — каждый, за исключением моего супруга. Я его сама подбирала, он должен быть идеальным. А если нет, то берегись! Вот примерно так они и рассуждают, не отдавая себе отчета.
Начиналось всё вполне невинно и даже очень хорошо: они вместе работали над одним проектом. Надюша увидела, какой это ответственный, внимательный человек, способный чутко реагировать на всё происходящее, брать на себя главную тяжесть, уводить из-под удара начальственного самодурства тех, кто помладше и тех, кто просто рядом. Разительный контраст с талантливым обалдуем Антоном, правда? А что Антон зато у нее всю работу по дому делает, и делает хорошо, и не попрекает ее ни словечком, об этом она даже не задумывается. Это само собой, а ведь сколько женщин о таком просто мечтают! Готовит он отлично, между прочим. Может быть, и отцом бы вышел хорошим — из таких непутевых и получаются иногда прекрасные отцы, заботливые выдумщики. Но этого она в нем не видит и видеть не хочет, равно как и своих недостатков.
Нет, она теперь с головой ушла в работу и общественно-церковную деятельность. Наконец-то она востребована, ее понимают, ценят, даже любят! Помнишь, я писала тебе, что именно этого она на самом деле и жаждет больше всяческих зарплат и карьерного роста, и она в этом вовсе не одинока. Я ведь тоже через это прошла. Знаешь, до чего мне было хорошо в операционной, особенно на второй германской, в эвакогоспиталях — некогда было думать о плохом, о гибели мужа, о том, что в любой день может придти новая похоронка… Мы с ног мы валились от усталости, но мы спасали, вытаскивали этих людей. Правда, не всех; и порой я замирала от ощущения полного абсурда: вот сейчас мы тратим второй час на то, чтобы вытащить молоденького лейтенанта, чтобы он жил, чтобы были у него жена и дети, но что все наши миниатюрные скальпели, зажимы, иголки по сравнению с грудами металла, которые там, на фронте, ежесекундно калечат и убивают десятки, сотни таких же мальчишек? Разве не пытаемся мы наперстком вычерпать море? К чему всё это? Но у меня было дело, которое я умела делать хорошо, и не было важнее этого дела в целом свете. И я делала его. Сколько их лежало передо мной на столе — и, по счастью, я была всего лишь сестрой. Не мне доставалось делать страшный выбор: кому колоть последнюю ампулу, кому что ампутировать, кого уже просто не трогать.
Знаешь, я не раз влюблялась в них — больших, настоящих мужчин, делавших самое мужское на свете дело. И это, кажется, мне, было правильно и хорошо, хотя однажды… Ой, ну я об этом, может быть, при встрече тебе расскажу. Не в письме. В общем, не была я железной, совсем не была.
Да, так я про Надюшу. У них пока недалеко всё зашло, если мерить современными мерками — гуляют, разговаривают, за ручку держатся. Даже еще не целовались, но это, кажется, совсем не за горами. Понимаешь, Надюша уже дала себе разрешение на всё, хотя сама еще этого не поняла. Дело только за временем и привычкой, а катится оно всё само собой, как будто без ее воли и участия. Да и не в телесном дело, оно, в конце-то концов, лишь проявление того, что в душе, а там она давно уже изменила мужу, сочтя свой брак с ним трагической ошибкой, а нового знакомого — тем самым идеальным мужчиной, которого… Ну да, проживи она с ним полгода, а то даже и месяц, под одной крышей, сразу вспомнит, сколько замечательных черт было в Антоше. Только всё равно в таких случаях себя всегда очень старательно убеждают в собственной правоте.
Да, это пока она старательно думает, что «понесет свой крест» (то есть на самом деле, брыкаясь и ругаясь, будет ежедневно упираться лбом в последствия собственного выбора под названием «замужество»), что будет верна Антону, что… А потом иссякнет эта решимость, зато аргументы с другой стороны будут казаться всё сильнее и убедительнее: брак их не венчан, и вообще они современные люди, и, главное, «любовь всегда права». Любовь — да. Искренняя, жертвенная, мудрая любовь всегда и во всём права, и нельзя ограничивать ее никакими правилами и условностями. Но принимать за нее незрелую детскую влюбленность — все равно, что объявить желудь столетним дубом, и пытаться напилить из него ценной древесины.
Когда такая влюбленность говорит «я тебя люблю», громче всего звучит только одно слово: «я». Именно мои чувства и переживания имеют значение: «я хочу быть с тобой», но никогда: «Хорошо ли тебе будет со мной? Тот ли я, кто тебе нужен?». Чтобы задать их, нужно вырасти до любви. Или вступить в брак; там уже заранее задано: мы — вместе, и остается только подумать, как бы сделать это «вместе» счастливым для обоих. Для одного-то ни за что не получится.
Такие вот серьезные дела. Конечно, ты скажешь, что одна-другая измена ничего не значат, и что люди могут снова найти друг друга после продолжительного опыта жизни врозь, и что вообще свет на этом Антоне клином не сошелся, и… Да много чего тут можно сказать, и, в общем-то, это тоже будет правда.
Тут ведь вот еще какая штука: у нее же всё это отлично получается сочетать со всей своей церковно-общественной работой. Жизнь как бы разделилась на несколько непересекающихся секторов: в одном правильные слова и поступки (ах, как стремится она быть правильной!), в другом постылый надоедливый быт, в третьем романтика без руля и ветрил. Как-то у нее получается делать так, чтобы все они не пересекались, жили по разным законам, и все мысли, слова и поступки аккуратно раскладывались по разным полочкам, в кажущемся порядке. А ведь больно бывает, когда оказывается, что не разные полочки — одна-единственная жизнь. И прожить ее надо так, тут совершенно прав пролетарский писатель, «чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы». В особенности — здесь.
Ты скажешь, наверное, что я слишком строга к ней, не снисхожу до ошибок молодости, вполне естественных и извинительных? Да, наверное, в какой-то степени это так. Но я просто вижу, насколько все это может быть опасным и липким, как трудно из этого бывает выбираться…
Я тут, кстати, начала понемногу разбираться в этих ее церковных активистах. Знаешь, в наши дни всё было задавлено Советской властью, если что и высовывалось наружу, то уже казалось чем-то совершенно необычным и достойным всяческого уважения. До сих пор помню, как в одном деревенском храме (я там оказалась буквально случайно), как раз во время хрущовских гонений (это я тебе потом расскажу), вышел на амвон старик-священник говорить проповедь. Говорил он о борьбе за мир — тогда о ней во все трубы трубили, писали даже в церковных журналах, такая была функция у церкви, за мир во всём мире бороться, заодно с родной Советской властью. И вот стал этот священник говорить, что за мир можно бороться только в глубине собственного сердца, и что пока не будет достигнут мир в нем, всякая другая, внешняя борьба, будет только множить раздоры и войны. А если сумеешь жить в мире сам, то и бороться тебе уже будет не за что, мир сам настанет. Знаешь, как это было удивительно слышать — против официальной линии, зато прямо по Евангелию! Вот такими вот крохотками и жили.
А когда сняли этот внешний груз, то все, кто сидел в подполье и полуподполье, получили свободу. И тут сразу стало явным, что объединяли их догматы веры и общее неприятие советчины, а вот всё остальное скорее разделяло. Бывшие близкие друзья стали непримиримыми идеологическими противниками (это в церкви-то!), обличали друг друга, спорили. Фактически уже и общения никакого не стало между самыми крайними лагерями: «я в тот храм не хожу, там эти, которые…»
Я мало понимаю в сути их споров. Одни, к примеру, говорят, что надо причащаться почаще, а другие — что каждый раз надо достойно готовится. Одни настаивают на вселенскости христианства при всем его национальном многообразии, другие призывают бережно хранить русские традиции. Вроде как на словах и не противоречат они друг другу, но получается, что на деле они чуть ли не враги. И вот наша Надя, условно говоря, перешла от тех, которые за русскость и долгую подготовку, к тем, кто за частое причащение и вселенскость. Ну, там всё куда сложнее, ты бы понял это намного лучше меня.
В суть споров я не очень вникаю. Я вот, к примеру, согласна, что Наденьке точно надо причащаться почаще, как и мне бы в мои дни следовало, это все-таки очень хорошо держит нас в форме. Ни одно упражнение, ни одно лекарство не даст заметного эффекта, если вспоминать о нем раз в несколько месяцев. Но, с другой стороны, может быть, есть такие люди, которым не так важно часто, как важно после тщательной подготовки — я же не могу говорить сразу за всех. Так и во многих других отношениях.
Опасность тут, сам понимаешь, какая. Как только внутри единой церкви, а точнее, в отдельных головах возникают «единственно правильные мы» и «эти, которые», рукой подать до сектантства, а то и до серьезной ереси. Нет, конечно, бывают такие вопросы, по которым только одна точка зрения может быть правильной, альтернативной таблице умножения на свете нет, а христианство с альтернативной догматикой (таких, кстати, немало) — ложное, извращенное учение, не достойное и имени христианства. Но когда разделение проходит в мелких частностях, ну вроде как у наших прадедов насчет того, в какую сторону ходить крестным ходом и сколькими пальцами креститься, и сколько букв писать в имени Иисус, то любое, самое формально правильное решение может стать совершенно сектантским, как только оно объявит себя единственно возможным и спасительным.
Так оно получается и тут, и побаиваюсь я всерьез, не затянуло бы нашу Надю в эти словопрения сверх меры. Она, как и я, невеликий богослов, зато, как и всякая женщина (особенно учившийся в женской гимназии, это я про себя), отлично умеет дразниться и обзываться, отстаивая «своих» перед «чужими». Тут еще надо учесть, что у Нади вдруг открылся новый талант: оказалось, она довольно прилично умеет писать. Разумеется, она нашла для него хорошее применение — пишет статьи в пару разных христианских изданий (да вот, дожили мы и до такого), хорошие, правильные статьи. Но ведь бывает, сам знаешь, лучше говорить этих правильных слов поменьше, а не то есть опасность слишком к ним привыкнуть, разменивать жизнь на слова.
Впрочем, скоро перед ней встанут совершенно другие проблемы, не до того ей, наверное, будет. Теперь скажу и про вторую Надину новость, ей самой пока не известную: в ее теле поселилась серьезная, грозная болезнь. Для меня это такая неожиданность, что я даже не знаю, что об этом думать. И я совершенно не понимаю, зачем это сейчас Надюше. Мне кажется, можно было бы без таких крайних мер обойтись, но мне тут надо всё хорошенько обсудить с Максимычем. А до тех пор, пожалуй, не буду тебя этим беспокоить, мой хороший.
Наши узнали, кстати, что я пишу тебе письма — Лиза, Максимыч, наш папа, даже тот самый комиссар Петер заинтересовался. Передают тебе приветы — хотя, надеюсь, их ты увидишь намного раньше, чем дойдут у тебя, пробудившегося, руки до этой писанины. Когда же, когда это будет… Знаю, что вечность впереди, а все-таки не могу утерпеть.
Обнимаю тебя,
Твоя Маша.
14
Мишенька, помнишь ли, как мы болели в детстве? Когда вдруг забываются игры и отменяются занятия, ничего не хочется делать, ты лежишь в белой, прохладной постели… но нет, прохладная она только когда выздоравливаешь, а так она жаркая, душная, немного страшная. Тебе видится и слышится что-то такое, чему нет и не может быть места в обыденной жизни, и какие-то странные существа копошатся в углах комнаты, им нет названия, у них нет речи, и ты пытаешься овладеть их языком или защититься от них, но не знаешь, как это сделать. А потом на лоб ложится холодный, влажный компресс, и мама, волнуясь, говорит о чем-то с доктором, как будто о тебе, но ты словно бы сам воспринимаешь себя со стороны, тебя здесь уже почти нет. Всё, чем ты жил еще вчера, далеко-далеко…
А потом приходит тяжелый, душный сон, ты уже сам не помнишь себя, тело живет какой-то своей жизнью, вне твоего сознания, ты проваливаешься в черноту — и вдруг, следующим утром, мир возвращается к тебе. Он снова привычен и светел, и мама, а не горничная, сама приносит тебе завтрак в постель и обещает купить долгожданную игрушку, и глядя на нее, ты вдруг понимаешь, до чего же она любит тебя — а все ваши размолвки, все неуместные окрики и несправедливые, как казалось тебе, наказания остались в далеком, далеком прошлом. Ты словно совершил путешествие в эту ночь, и доктор говорит: «Кризис миновал»… Так вот как это называется: кризис? Говорят, на греческом языке это слово означает «суд».
А помнишь, каково было одному из нас жить, когда заболевал другой? Весь мир начинал вращаться вокруг него, и было неприятно и немного обидно, но я, даже совсем еще кроха, понимала: так и должно быть, с братом сейчас происходит что-то очень важное. Я старалась потише играть и поменьше радоваться, я ничего не понимала в болезни, но и я по-своему уходила в тень, чтобы центром домашней вселенной стал на время больной, то есть ты. И даже немного завидовала: вот в следующий раз это я заболею, это мне купят большой-пребольшой кукольный домик, и строгий и красивый дядя доктор будет прикладывать мне к спинке эти симпатичные трубочки. Потому, наверное, и болели мы почти всегда вместе — а не только из-за заразности.
Интересно, а ты тоже такими запомнил наши детские болезни?
К чему это я… Помнишь, я упомянула тебе в прошлом письме о болезни Нади. Она сама еще не знает о ней, вернее, только начинает узнавать — сдает анализы, посещает врачей. Но ей еще предстоит узнать, насколько всё это серьезно, осознать принять смысл этой болезни. Мне самой непросто это сделать, да может быть, мне этого делать и не надо — каждый человек только сам может по-настоящему понять подлинный смысл событий своей жизни. Ну, может быть, еще настоящим хранителям такое открывается, но мне же, сам знаешь, до них еще очень далеко! Еще не одну и не две земных жизни, может быть, и не один десяток предстоит мне наблюдать, чтобы стать помощником, и потом сколько же еще пробыть им… Но я никуда не тороплюсь, да и куда мне тут можно было бы торопиться?
Так что о Надиной болезни я могу только догадываться и размышлять, советуясь с бесценным моим Максимычем. Нельзя уравнивать болезнь с грехом, что так любят делать люди. Конечно, нередко бывает так, что человек сам доводит себя до болезни — цирроз печени у сильно пьющих, например. Могут быть и более тонкие связи между поведением человека и последствиями для его здоровья, но тут связь примерна та же, что и между неосторожностью и несчастным случаем: неосторожность часто, но далеко не всегда приводит к происшествиям, да и в аварии нередко попадают те, кто был предельно осторожен. Так что формула «болен — значит грешен» категорически неверна. Иначе был бы какой-то нелепый, неуместный автоматизм: пожелал другому зла — простудился; украл что-нибудь — гриппом заболел, если в особо крупных размерах, то с осложнениями, а уж как совершил серьезное предательство — тут тебе и инфаркт с инсультом. Нелепость!
Скольких людей на земле Христос обличил в их грехах — но ни одного не покарал болезнью. А скольких исцелил?! Да, он говорил иной раз о прощении грехов, ясно указывая на связь греха и болезни, но связь это скорее всеобщая: люди грешат, вот и болеют. Когда Ему предложили вынести приговор над человеком, слепым от рождения, он ясно ответил: это не за его грехи (да и какие грехи у нерожденного младенца?), и не за грехи его родителей (справедливо ли было бы карать за них малыша?). А за чьи же грехи, хочется здесь спросить — но вопроса не получается, любой ответ ложен, просто бессмыслен. Он сказал тогда: «чтобы явилась на нем слава Божья». И смотри, сколько, в самом деле, было тогда телесно здоровых, зрячих людей — но мало кто из них увидел Христа так отчетливо, как этот человек, проживший полжизни в слепоте и нищете. Половину своей земной жизни — в сравнении с вечностью. А сколькие прозрели вокруг него и благодаря ему? Вот и выходит, что смысл в его телесной слепоте был, и немалый.
Ты только не думай, что я оправдываю болезни — я, в конце концов, была на земле медсестрой и боролась с ними всю свою взрослую жизнь. Болезни — враг, но это такой враг, в борьбе с которым ты можешь стать сильнее и лучше. Это враг природный, вроде голода, холода, смерти, с которой у болезней так много общего. Не будь этих природных врагов, человечество превратилось бы в стадо благодушных идиотов, двуногих растений.
А есть у человечества враг сверхприродный, духовный, вечный, от которого нет и не может быть ничего хорошего. И болезнь может стать полем решительной битвы с этим врагом. Нет для врачей ничего важнее исхода болезни — а для нас ничего важнее исхода этой битвы в вечности.
Другой уровень, понимаешь? Вот у нас в эвакогоспитале был немолодой солдат, по профессии часовщик. У него была гангрена кисти правой руки, он умолял сохранить ему руку, в этом вся его жизнь, без руки он нищий неумеха. Но для спасения жизни не оставалось ничего, кроме ампутации, и чем позднее бы лег он на стол, тем выше пришлось бы резать. Он предпочел бы тогда умереть, чем лишиться руки. Хирург ампутировал кисть, я потом долго сидела у его кровати, беседовала с ним. Всем сестрам было велено следить за ним — не давать ничего острого, никаких опасных лекарств. Человек всерьез хотел покончить с собой.
Я встретила его случайно лет десять спустя, на рынке. Жизнь продолжалась, у него была новая семья (прежняя частью погибла, частью рассеялась по свету), он и с левой рукой освоил какое-то нехитрое ремесло, уже не помню какое, и был без меры благодарен за ту ампутацию, за годы новой, наполненной событиями жизни.
А что будет с Надюшиной болезнью? Ампутация тела ради спасения души, назовем это по-хирургически прямо? Не знаю и не могу знать. Но момент истины — совершенно точно. И вот тут надо ее поддержать, и хорошо поддержать, а я совсем мало умею и могу для нее сделать…
Видела она недавно сон (вот тут не без меня обошлось, ну что поделаешь, сны — это самое легкое). Идет она над пропастью по канату, балансирует, держит изо всех сил равновесие. Под ней толпа народу, все смотрят, кричат, все недовольны ей: одной платье не нравится, другому ее осанка, третьей выражение лица. Да как же, думает Надюша, мне всем им угодить? Она старается держать спину ровней, старается улыбаться, и даже платье вроде бы есть у нее запасное, в маленьком рюкзачке за спиной, вот сейчас, она может быть, переоденется, но только ведь переодевание на канате тоже им не понравится, это совершенно неприлично… И вот она балансирует, и не знает уже, за что хвататься, а шест, даже шест вдруг сам начинает рваться из рук, становится упругим, тугим, и по обоим его концам вырастают две птичьих головы, каждая хочет лететь в свою сторону…
Шест, наконец, вырывается из рук, и забывает она про осанку, улыбку и платье, про недовольство толпы, и уже не может стоять на канате — летит вниз, сейчас разобьется. Но нет уже толпы, в воздухе полно какого-то мелкого белого пуха, и он сгущается, становится облаком, и ее падение вязнет в этом облаке, словно она прыгает в подушку. И вот уже на ней какое-то простенькое детское платьице, и сама она маленькая девочка, а пух — это просто облако, по которому легко и приятно идти. Она старается оглядеть его целиком, и замечает, что это огромное, уходящее чуть ли не за горизонт белое крыло, и это крыло куда-то ее несет.
Тут она проснулась с тем удивительным ощущением беспричинного и настоящего счастья, которое и дают вещие сны. Может быть, это ощущение даже важнее тех смыслов, которые нам в этих снах стараются передать.
А потом закрутился, завертелся обыденный ее день — работа, общение по всем этим ее электрическим каналам (не помню точно, как они у них называются) то с предметом своих воздыханий, сидящим в соседней комнате, то с активистами церковного кружка, совсем в другом тоне, на другие темы, под другими видами, то просто с подружкой. Всё в разных окнах этой ее электрической почты, и всё как будто от лица разных людей с одним и тем же именем и обликом. Обыденный день. Вечером — постылый, надоевший домашний уют, нелюбимый, как ей кажется, муж, и бегство, новое бегство в пространство электрических сигналов другим людям и маскам, или дамских романов о пылкой и страстной любви, какой не водится в наших широтах.
А что же ее роман, тебе, наверное, интересно? Да ничего, так и топчется на месте. Ни броситься в него с головой она не решается, ни оттолкнуть. Даже не знаю, хороша ли такая нерешительность: так ведь десятилетия можно провести в раздумьях, а потом, на закате, взглянуть на прошлое с недоумением: и на что время потратила? Отчего не жила?
Эх, Надя-Надюшка, посидеть бы нам с тобой за чашкой чаю, поболтать бы о жизни девичьей, о нашем, родном, наболевшем. Глядишь, мне и удалось бы тебе что-то прояснить. А пока что как мало умею я тебе помочь!
Ясно вижу теперь, почему мне досталась именно Надя. Она ведь моя, родная, но я совсем пока не знаю ее, поэтому готова принять ее любой. Я бы в Саше постоянно стремилась поправить что-нибудь по-своему, как же, помню ведь эту девочку с белыми бантиками. А с Надей я просто знакомлюсь с чистого листа, не ожидая и не требуя ничего, и радуясь своим открытиям. Так, наверное, сходили измученные дальней дорогой моряки на берег только что открытого острова, радуясь родникам, птичьему гомону, сочной траве, всё принимая с благодарным удивлением — ведь на их карте тут было просто белое пятно, никаких несбывшихся ожиданий.
Теперь я вижу, что и с тобой мне предстоит такое же знакомство, Миша. Чтобы понять это, уже стоило писать эти письма. Нужны ли они тебе, дают ли что-то сейчас, или дадут потом? Я даже не знаю. Просто не могу их не писать, как не могу не просить за тебя, бесценный мой брат. Это нужно мне самой, это как пить прохладную воду в жару.
Твоя Маша.
15
Видишь, Мишенька, как редко я стала писать тебе… Даже трудно сказать, что тут главной причиной. Может быть, Надина болезнь — мне сейчас все чаще и всё больше приходится бывать с ней. А может быть, отсутствие ответа. Я верю, что ты обязательно прочитаешь всё это и подробно ответишь мне, и вот тогда наговоримся всласть. А может, это я наконец-то взрослею и меньше нуждаюсь в болтовне? Пусть ты и молчишь, мой дорогой брат, но я начинаю понимать тебя, правда.
Кстати, я, кажется, знаю, о чем ты говорил тогда, нажимая курок приставленного к виску пистолета: «…если бы еще тогда!» Я ничего, конечно, не знаю наверняка, Миша, мне очень трудно судить — да что судить, это вообще невозможно! — мне трудно догадываться о чужой, даже твоей, судьбе. Но мне приоткрыл кое-что Петер Озолин, тот самый твой комиссар. Ты не думай, тут не бывает сплетен, и если кто-то открывает другому такое, что касается не только их двоих, это значит, что третий может это принять как свет, и что ему действительно важно об этом знать. И еще, Петер совершенно не в обиде на тебя. Он сам мне говорил: «Ну какие обиды! Я послал на смерть столько достойных людей, много лучше меня самого, ради призрака, ради лжи и обмана — как я могу обижаться на тех, кто сделал нечто подобное со мной? И главное, их заставляли, им грозили — а я всё делал только по доброй воле. Нет, мне лишь отплатили, и очень даже милостиво отплатили, показали оборотную сторону. А Михаил, он и вовсе не при чем, это так уже была, формальность…» Да, именно так он и сказал.
Помнишь ведь, конечно же помнишь тот сумрачный вечер, когда вызывали тебя к тому черному человеку с бледно-голубыми петлицами, и ты шел, сам не зная, вернешься назад, к Чинаре, или уже нет. Вы были люди военные, с боевым опытом, и у каждого было оружие — а ведь шли как бараны на убой! «Это такие, как я, постарались», — мрачно сказал об этом Петер, хотя, думаю, он слишком суров к себе самому. Он тоже не такого хотел. А вы исчезали один за одним, такие как ты и он — кого вызывали за каким-то пустячным делом в штаб или на склад, кого брали ночью на квартире, а кому в открытую предлагали явиться в известный кабинет. И шли все с одинаковым внешним спокойствием и внутренним трепетом: сначала надеялись, что это еще не арест, а потом даже вздыхали с наивным облегчением: ну всё, это уже арест, теперь уже нечего ждать и бояться.
Но для тебя это был не арест. Тебя усадили на стул, достали бланк протокола допроса свидетеля (ты, наверное, и не видел, но это очень важно: свидетеля, не обвиняемого!) и сразу, в лоб: «Товарищ майор (это тоже важно, что ты был еще „товарищем“, это ты понял сразу), вчера нами был разоблачен польский шпион, контрреволюционер-троцкист, бывший дивизионный комиссар Озолин. Что вы имеете сообщить по этому поводу?»
«Не польский, — ответил ты, — он ведь из Латвии». Звучало почти как согласие, но ты же не имел ничего такого в виду. Ты просто хотел уточнить, что Петер не поляк, а латыш, и если уж принимать нелепую версию о шпионаже, то логичнее ему служить не Польше, а Латвии. Впрочем, какая уж тут логика, если одновременно он объявлялся еще и троцкистом! Миша, я знаю: этим ответом ты еще ни с чем не соглашался, просто вырвалось рефлекторно, ты просто уточнял детали, убирал из обвинения самый нелепый пункт — но с этого ответа разговор и пошел не в ту сторону, сразу и безнадежно.
«Латвийский, значит? — переспросил черный человек и сверился с бумагами, — да, действительно. Итак, вы встречались с ним еще на Гражданской?» И ты поспешно начал рассказывать. Ты старался говорить о нем только хорошее, но уже тогда ты старательно вымарывал из рассказов себя: он не то, чтобы спас тебя от расстрела, а просто проверил документы и отпустил, и не то, чтобы призвал тебя в Красную Армию, а просто ты слышал, что в том году он действительно комиссарил в Воронежской губернии, но личных дел у вас не было и быть не могло. Случайная встреча.
«Что ты мне сказки рассказываешь, майор?! — человек взревел и стукнул кулаком по столу, — мы шпиона разоблачили, троцкиста, а ты: не знаю, не видел, не понимаю?! Или, может, тогда еще, в восемнадцатом, завербовал он тебя в свою троцкистско-шпионскую банду? А ну, карты на стол!»
Ты хотел, я же вижу, как хотел ты ответить, что в восемнадцатом троцкистской бандой можно было назвать разве что саму Красную Армию, и что не было тогда еще государства, в пользу которого он теперь якобы шпионил, но… Ты промолчал. Ты понимал, что ему ты уже ничем не поможешь, а себя потопить можешь одним вот этим разговором. И вот ты медленно, неохотно, осторожно, по капелькам стал припоминать какие-то мелочи, детали, по которым можно, конечно, было сделать вывод, что не всё в дивизии благополучно, и что дивизионный комиссар (высоко залетел твой былой знакомец!) Озолин тоже человек не без недостатков, ну так ведь это и так всем ясно. Ты, наверное, рассчитывал на здравый смысл следователей и судей: ну, почитают они такие показания, посмеются, отпустят его, разве что выговор в личное дело занесут. Многие тогда думали, что все эти особые совещания и трибуналы действительно ищут истины и следуют логике. Но тем они и были похожи на ад, что логика там была одна: нужны были жертвы, и более-менее безразлично, какие. Важно, чтобы они были.
«Так и записываем, — едва оторвавшись от бумаги, с упоением заговорил черный человек, — восхвалял царский режим, отрицал заслуги большевистского ЦК нашей партии и лично товарища Сталина (тут его голос перешел на фальцет), готовился к реставрации помещичье-буржуазной власти в СССР! Так ли, майор?» И ты промолчал. Ты ничего не ответил. Ты мог бы сказать, что всё не так, что речь идет о неловких шутках и никчемных мелочах, о невинных рассказах про дореволюционную жизнь, и что не встречал ты более преданного делу революции человека, чем товарищ Озолин, но ты промолчал. И ты потом подписал этот протокол.
Мишка, нам не дано прощать за других, поэтому я скажу только одно: Озолин тебя за это простил. Простишь ли ты сам себя? Простит ли тебя Он? Здесь мне остается только надежда, так что пока промолчу. Одно еще добавлю: самые страшные поступки там, на земле, сами по себе еще ничего не предрешают здесь. А твой всё-таки не был самым страшным, многое можно найти смягчающих обстоятельств. Ты помни: нет здесь никаких других пределов, кроме тех, которые человек сам поставил себе.
Что ж, сменю-ка я тему… Вот на земле пределов человеку ставится много — и моя Надюша, я столько писала тебе о своей подопечной, как раз столкнулась с одним из них, самым ясным, всеобщим: с нашей человеческой телесностью. Мне жалко иногда бывает ангелов, которым неведома телесность. Они не знают, что это такое: бродить босиком по прохладному речному песку, выбегать из жарко натопленной бани и с разбегу окунаться в сугроб, запивать сочный и пряный шашлык терпким рубиновым вином, проводить лунную теплую ночь вдвоем с бесконечно любимым человеком… Не знают, хотя наслышаны, как и нам лишь понаслышке известны некоторые свойства их ангельской природы — а может быть, и мы до них когда-нибудь доберемся. Но не сразу, ведь здесь еще не день, здесь только раннее утро, и мы, осиротевшие души, ждем того часа, когда нам будут даны новые тела, и всё то, что было дорого и мило на земле, вновь вернется к нам, став еще прекраснее и осязаемее. Мы пока не в Царстве — в его преддверии. Мы не пьем еще нового вина.
Только безумцы (а таких было немало) утверждали, будто плоть греховна сама по себе, будто сотворена нашим врагом. Да что они, в самом деле? Вообразили себя теми самыми ангелами, что ни разу не купались в чистом озере и не пили хорошего вина? Как бы мог сотворить такое чудо наш вечный враг, интересно… Я просто удивляюсь наивности тех, кто в это верил.
Но вот болезнь — причем не просто мимолетное недомогание, а такая, как сейчас у Нади: настоящая, страшная, предельная, с совершенно неясным пока что исходом… Это же не просто телесное страдание, это такая штука, которая пожирает всё, что только еще остается у тебя в жизни, когда ты уже не можешь ни вздохнуть, ни выдохнуть без этой боли, без постоянной мысли о почти несбыточном выздоровлении и нависающем конце. Ты, кажется, совсем не знаешь этого, разве что детская наша корь была к тому близка, но в детстве всё воспринимается иначе. Умер ты сразу, от пули. А я через такое проходила дважды, уже взрослой: крупозное воспаление легких сразу после войны, и тот букет болезней, с которым я долго и трудно шла к своему переходу. От чего только не лечили, а вот умерла, смешно сказать, от тромба! Ладно, это я отвлеклась.
Ведь это тоже урок, и очень важный: так облетает в человеке всё лишнее, наносное. Я и сама удивлялась себе: как мало я знала и ценила жизнь! Выздоравливающий, которому впервые дали выйти на улицу, вдыхает этот воздух с привкусом гари, слушает крики грачей или гудение автомобилей, любуется замызганным больничным садиком так, будто нет и не бывает в мире ничего прекраснее — потому что это и есть жизнь. Он всё, было, куда-то бежал, торопился, не замечал этих листьев, птиц, трещин на асфальте, а теперь нет для него ничего дороже и ближе.
Умирающий точно так же смотрит вглубь себя и вглубь окруживших его людей, и вдруг находит он такую же невыразимую красоту во всех мелочах, которые он, казалось бы, забросил, во всей обыденности и серости — и разом забрасывает многое из того, что казалось важным. Ты видел смерть больше моего, хотя на войне всё иначе — там она длится минуты, редко когда часы, и нет времени на подготовку. Для кого-то такая спешка — блаженство, ему не надо трудиться; а для кого-то, может быть, упущенная возможность разобраться с самим собой. Хотя… раз не было ему это дано, значит, не вышло бы из такого разбирательства ничего путного, вот что я думаю.
Но это всё общие слова. Общие — а как еще рассказать о Наде? Сказать ли, что ей стало больно, и хуже того — страшно? Блёклые, невыразительные слова. Когда она узнала диагноз (а всё зашло уже очень далеко, у нее эта гадость развивается довольно быстро, да и припозднилась она с врачами), мир рухнул. Были планы, надежды, расчеты — осталось только гадать, сколько еще ей отпущено болезнью. Если всерьез, то несколько месяцев, говорили врачи, хотя всё бывает на свете… Всё. Вот и надеется Надя.
Чудеса происходят с нами постоянно, только мы их не замечаем. Помнишь, как я совсем маленькой горячо молилась перед трудными французскими диктовками и математическими контрольными, а ты уже тогда посмеивался надо мной? Нет, чтобы попросить о чем-то действительно важном и нужном, не размениваться по мелочам. Неважно мне было, воскресали ли мертвые, выходили ли люди невредимыми из пламени, а важно, чтобы назавтра достались те немногие вопросы, которые я хотя бы немного знала. Вот это бы вышло чудо так чудо! Нелепость? А если так просит человек о собственном исцелении — это как? Это ведь уже не мелочь, но суть та же: пусть у меня всё будет хорошо! Вот такие мы, и Надя не исключение.
Так что это еще и огромное испытание для Надюшиной веры. Мы все так привыкли произносить на земле «да будет воля Твоя», а вот тут ей задан самый трудный, невыносимый вариант этой молитвы: может быть, воля Его как раз в том, чего ты страшишься больше всего на свете. Сможешь ли ты повторить тогда эти слова? Сможешь ли хотя бы заметить этот жгучее, нестерпимое несовпадение двух воль, принять его и преодолеть? Или скажешь: «да будет вот в этом — моя, а в остальном, как знаешь»? Вот это и будет концом. Я, наверное, и сама бы так сказала в ее возрасте — старухе-то умирать было проще, естественней, долго я к этому шла. Да я в ее возрасте и не верила ни во что.
Но ей очень важно теперь верить, и зато, знаешь, не так уже ей важно, к какому именно церковному кружку принадлежать. На общественную деятельность времени с этим лечением всё меньше остается, да это и к лучшему, а вот ценность простого общения с самыми разными людьми начинает она чувствовать в полной мере. Лишнее облетает, как листья с дерева в октябре — не до них дереву, готовящемуся к трудной и долгой зиме.
«Христос посреди нас» — это ведь действительно формула Церкви. Не «нас, которые такие, в отличие от тех, которые эдакие», а нас, разных, грешных и неприятных, но собравшихся вместе здесь и сейчас. Знаешь, когда на собрании своей молитвенной группы она рассказала о своем диагнозе, это был такой прорыв, такая яркая, честная, сильная общая молитва за нее, какая остается с человеком на всю жизнь, и не только земную. Да, посреди нас — и как жаль, Мишенька, что на земле этого никогда не пережил ты, да и множество других людей этого не знает… Если бы знали — пошли бы за Ним почти все, я уверена.
Услышав диагноз, Наденька, конечно, заметалась. Сначала не верила, потом подняла на ноги всех родных и знакомых — искать светил медицины, устраивать госпитализации, осмотры, всё, что только можно. И знаешь, сколько вокруг оказалось верных, хороших людей! Трудно было о таком и подумать, пожалуй. Перед ними ведь тоже вставала во весь рост эта наша немощная, всеобщая телесность: могло бы статься с каждым, вот хоть со мной или моими любимыми, а выпало ей. «Послушайте! — Еще меня любите за то, что я умру», — я приводила тебе эту гениальную строчку юной девушки откуда-то с Бронной, но ведь если это не когда-то, не через полвека, а скоро, вот здесь и сейчас, тогда действительно за такое любят. То есть забывают обо всем, чего не дождались от этого человека, и вспоминают, что ему не додали.
Ты не представляешь, как перевернула Надина болезнь их отношения с Антоном. Сначала, может быть, это была просто естественная реакция двоих людей, перед которыми встала общая опасность (но важно, что они сразу и осознали ее общей!) — немедленно начать что-то делать, спасаться, уходить! И тут уже не раздражала Надю его привычная медлительность, она оказалась основательностью и осмотрительностью, а его — ее легковесность, то есть быстрота и живость. Оказалось, они прекрасно дополняют друг друга! А если вопрос, который оба задают себе ежечасно, не «кто как кого сегодня обидел», а «долго ли еще мы сможем видеть друг друга», то просто диву даешься, с какой радостью и легкостью люди готовы прощать и уступать. Куда улетели все эти обидки и непонятки? Ну, осталось немного, по-прежнему его раздражает ее безалаберность, ее — его лень, но как нетрудно это всё потерпеть, когда…
А тот предмет ее воздыханий? Оказалось, он действительно любит ее, и вовсе не той любовью, о которой поет вся нынешняя эстрада, когда «люблю» переводится как «хочу, очень хочу, аж терпеть не могу!». Его «люблю» означало «я сумею, я ничего не пожалею, я помогу». И если он собирал деньги на лечение, то стеснялся, что сам дает мало, а если давал много, то грустил, что и эта сумма ничего не гарантирует, и что вообще не в деньгах тут дело… Он дал ей, кажется, гораздо больше, чем мог бы дать в простом и непритязательном романчике, вроде тех, какие ты заводил по гарнизонам. Он теперь действительно хотел подарить ей целый мир, а она готова была принять его из рук любимого. И оба при этом с удивлением и грустью осознают, что не им принадлежит этот мир, и что так мало могут сделать руки по сравнению с желанием сердца. И ни капельки ревности между ним Антоном — о чем тут ревновать, как не о благе любимой? Они начали всерьез дружить.
А сколько нашлось у Нади настоящих друзей — и тех, кто когда-то отошел в сторону, и тех, кто казался ей просто коллегой по работе, знакомым по клубу… Бывший ее духовник принял самое горячее участие, хотя, казалось бы, что ему теперь — а всем приходом там деньги собирали. Ох и дорогое же это выходит лечение — а другого нет, и не предвидится. Но если деньги позволяют раскрыть сердца, их точно не жалко.
Стоит ли так тяжело заболеть, чтобы вспомнить настоящий смысл слова «любовь»? Я не знаю, я всего лишь наблюдатель. Не я решаю, и очень этому рада. Но Тот, Кто так решил с Надюшиной судьбой, знает не меньше моего и любит ее не слабее, чем я. Разве это Он, спросишь ты? Разве Ему нужны болезнь и смерть, разве насылает он их на свои любимые творения? Нет, он сотворил нас, а не нашу смерть. Но мы уже не в Эдеме. Ты только не спрашивай меня, каким был мир до падения Адама и Евы, была ли это та же земля, и как там звери ели друг друга и умирали от болезней задолго до появления человека — я ничего об этом точно не знаю, меня там не было. Сдается мне, что это был какой-то совсем другой мир, и всё, что мы теперь видели на земле, приобрело свой нынешний вид уже после первого греха. Слишком много там грязи и страданий, а до того, я верю, их не было, и однажды снова не будет — когда наше утро сменится днем.
И если сейчас грязь, страдания и смерть есть в земном мире, то не Он посылает их. Они, порождения человеческого грехопадения, существуют и действуют сами — но не поперек Его воле, а только там, где Он позволит им действовать. И значит, каждое черное пятнышко, каждая наша боль не проходят мимо Него, и у каждой может быть смысл и цель, если мы сумеем их понять и принять. О чем и прошу для Надюши — и для тебя тоже, мой родной и бесконечно дорогой брат. Много черного в каждом из нас, но многим былая чернота и помогла подняться к свету.
Ты прости, если долго теперь не буду писать — очень сложное теперь время для нее, а значит, и для меня. А пока что крепко обнимаю тебя,
Твоя Маша.
16
Мишенька, моя Надюша умирает. Наверняка никто не знает, даже здесь, сколько осталось до последнего вздоха дней, или недель, а то и месяцев. Когда будет готова, точнее, когда подготовится настолько, насколько это вообще возможно сейчас для нее. Мне вот понадобилось полгода в больнице, отвратительное, я тебе скажу, место. Хорошо, что ей дают побыть дома, хотя и не подолгу.
Но сама она знает, что от этой болезни ей уже не встать, если, разумеется, не будет чуда — а про чудо она запретила себе думать. Чудеса бывают тогда, когда нам это действительно нужно, а не когда хочется. Поэтому сейчас ее молитва — это не столько просьба, сколько доверительный разговор в стремлении открыть Ему свое сердце, передать всю свою жизнь, и прошлую, и будущую (отчего-то это бывает намного легче, когда будущей остается совсем немного, знаю по себе). Наверное, это самый высокий и чистый вид молитвы, по крайней мере, мне самой не далось пережить ничего выше.
На земле есть столько разных книг, которые учат жить: как варить варенье и как выходить замуж, как достичь успеха в делах и как молиться-поститься. Особенно много стали их издавать теперь. Но я не видела ни одной книги, которая бы учила умирать — а ведь это самое важное для человека умение. Впрочем, наверное, и не надо таких книг в обычных магазинах, большими тиражами, с яркими картинками, совсем не те там будут советы. Это умение каждый обретает в сам, не по подсказке, и каждый, пожалуй, слишком поздно.
А ведь самый лучший урок умирания, который я знала на земле, это была исповедь: становишься перед Ним и подводишь итог своей прежней жизни. Люди иногда говорят: вот, поживу пока в свое удовольствие, а перед смертью покаюсь. С тем же успехом можно было говорить: не стану никогда кататься на коньках, а потом, за день до смерти, сразу встану на них и поеду. Да ведь если и поймаешь этот самый момент, за полчаса до смерти, уже поздно будет учиться тому, чего никогда не умел, и чему вообще не так быстро учатся.
Знаешь, она ведь уже года три как в церкви — и все равно именно теперь произошла у нее удивительно новая, близкая встреча с Ним. Только теперь она поняла, что и Он проходил через умирание, страшное, болезненное, но, в отличие от нее, еще и позорное, одинокое, не согретое почти ни одним лучиком сочувствия (говорю «почти», потому что совсем без сочувствия и Он бы, наверное, не смог). Значит, Он может ее в этом понять, значит, и в смерти она не будет одинока.
Но не только с Ним произошла свежая встреча. Какие любящие и красивые оказались вокруг нее люди! Ни я, ни она не думали и не знали об этом. Неужели нужно было случиться такому, чтобы люди раскрылись с этой своей стороны, забыв о незначительных своих разногласиях? Я гляжу на Надю, на ее родных и друзей, и думаю: вот все, все мы знаем, что умрем и сами, и все наши родные — и старательно забываем об этом ради каких-то не стоящих внимания мелочей. Умеем же мы вспоминать о главном, когда один из нас уходит — как жаль, что забываем во всё остальное время. И как глупо. Через месяц будет ее переход или через пятьдесят лет, он всё равно будет, и жалко будет каждой секунды, каждого недопрожитого дня, недоговоренного слова, недопрощенного человека.
А больше всего, наверное, преобразились ее родители. Отец взял да и вернулся в ее жизнь, вернулся неловко, неуклюже, некстати — но всё же принял участие хоть в чем-то, хотя бы всплакнул с ней вместе. Уже не так мало, если сравнивать с тем, что было. А вообще плакать вместе с собственным отцом, прижавшись к его плечу — это такая, скажу тебе, роскошь… Но сыновьям, наверное, этой роскоши совсем не достается, вся она уходит дочкам. Мне вот тоже досталось пережить это уже только после перехода, а при земной жизни — никогда.
С Надиной мамой, внучкой моей Сашенькой, всё конечно, гораздо, гораздо сложнее. Досталась Надюше одна из тех мам, которые совершенно точно знают, как их ребенку следует прожить каждую секунду, и вот донимают они своих детей: когда подробнейшими, никчемными наставлениями, когда просто молчаливым неодобрением. А тут вдруг сквозь все эти мелочные и ненужные вопросы: «А какие у тебя анализы? А что сказал врач? А как среагировал Антон? А не вредно ли тебе то и это?» (вопросы, от которых Наденька просто зверела, уходя в глухую оборону) — сквозь них прорвалось-таки сознание, что секунд этих мало, и что уже бессмысленно учить жить свое дитя. Сама доживет, как сумеет, ты просто поживи вместе с ней, пока не поздно, ты ей хотя бы немного помоги, ничего не спрашивая и не ожидая — просто помоги, как в далеком детстве, справиться с черным, липким ужасом, с кошмаром боли, с наплывами отчаяния. Так, как может это сделать мама, не сможет никто. Кажется, Саша совсем уже этому разучилась — но теперь она всё-таки попыталась это сделать, и еще раз, и еще. Начало получаться.
Может быть, меня после Нади пустят к Саше? Я ведь уже неплохо начала ее понимать, хотя… Ох, ладно, не будем заглядывать вперед. Мне бы Надю суметь проводить, точнее — встретить.
И как сама Надя стала ценить каждый час своей жизни! Успеть договорить недоговоренное, прочесть непрочитанное, додумать непродуманное. Знаешь, она по-прежнему пишет, и даже больше и чаще, чем прежде, но теперь это не рассуждения, «как правильно» (я немного опасалась такого, помнишь), а скорее попытка очень просто и честно поделиться собственным небольшим опытом и опытом других людей, которые ей доверились. И сдается мне, что это самый верный вид творчества — а на другие времени уже не осталось. Сдается мне, что порой такие люди, даже если они прикованы к постели, живут куда ярче и полноценнее тех, кто собирается провести в привычных хлопотах и долгие развлечениях десятилетия. Нет, они не умирают — они действительно живут, они совершают главное.
Ведь все знаем, что на земле нам быть не вечно, что этот нынешний час не повторится — а всё равно, особенно в молодости, тратим время на что угодно, и бессмысленные часы складываются в пустые дни и годы. Всё нужное и интересное «успеется», и только потом, кто годам к тридцати, кто к сорока, кто и того позже оглядываемся и думаем: да ведь почти ничего не успела. На что время тратила, на что силы и деньги? Добро бы на удовольствия, так и тех ведь не получила, так, время убивала. Как точно говорят: «убить время». То есть, на самом деле, убить себя в этом времени, приблизить собственную смерть еще на час или два и ничегошеньки не получить взамен. Роскошь, доступная только тем, кто верит, что часов осталось бесконечно много. Вот кого точно можно назвать «умирающими»…
Ну что еще сказать тебе о ней? Я так много говорю о хорошем, что тебе всё это может показаться чуть ли не радостью. Конечно же, Надины дни переполнены настоящей болью, и есть в них место для тупого, сосущего отчаяния, и панического, черного страха: а что, если и вправду чернота, небытие или вечная погибель? Что, если это действительно конец? Боль настоящая — но и радость, какой бы скупой она теперь не была, тоже настоящая. Лжи не осталось.
Я по-прежнему не знаю, почему это произошло именно с Надюшей — нет в ней ничего такого, чего не было бы в сотнях и тысячах других людей. А случайностей, мы знаем, не бывает. Остается просто принимать всё это, как есть. Чем же я могу ей помочь? Да практически ничем. Маленькие подсказки уже не так ей и нужны, а встречи происходят сейчас сами по себе. Она большой молодец, я после куда более долгой земной жизни уходила не так уверенно и не так умело, как она.
Я вообще неожиданно для себя пришла к такому выводу: мое наблюдательство нужно не столько Надюше, сколько мне самой. Я очень мало чем помогла ей, но, кажется, я во многом разобралась в себе. Для того, наверное, и доверили мне быть при ней наблюдателем.
А перед тобой я должна извиниться, Мишка. Помнишь, я удивлялась в прошлых письмах, что мы так мало общались с тобой в двадцатые и даже тридцатые годы, что не писали друг другу? Так ведь нечему удивляться на самом деле. Мне помог разговор с Максимычем, даже странно, что прежде мы этого никогда не обсуждали — может быть, потому, что ты дремлешь, мы не видим тебя рядом с нами.
Так вот… Мы же оба (но я буду извиняться только за себя, конечно) восприняли твой уход из дома и возвращение в красноармейском мундире почти как предательство. Знаешь, если бы не наши долгие разговоры с Лизой, не моя пылкая уверенность, что ты уже давно воюешь в рядах добровольцев, и что в Москву ты вернешься на белом коне, белым героем под трехцветным знаменем — может быть, иначе сложилась бы ваша встреча, не распался бы ваш союз. Я столько всего навоображала о тебе… Конечно, сама я была безумно рада видеть тебя любым, но эти мои неуемные фантазии слишком многим крепко запали в душу и заставили в тебе разочароваться. А кто очаровывал, спрашивается? Ты уж меня прости, брат.
Максимыч тоже остро чувствует свою вину перед тобой. Он никогда прежде не рассказывал мне, только теперь сообщил: ведь ты после Польской кампании не собирался оставаться в Красной армии, ты хотел вернуться на студенческую скамью. Он, бывший твой преподаватель, вынужден был переквалифицироваться из юриста в историка (ну что поделать, если римское право не интересовало победившую диктатуру пролетариата — пришлось преподавать историю того самого Рима). И ты хотел было снова пойти к нему в студенты — но его ответ был резким, как ему казалось, «принципиальным». Это было такое «нет», которое заставило тебя забыть обо всем. И об этом «нет» он рассказал остальным, и это «нет» закрыло для тебя много других дверей.
«Я просто произвел его в предатели, — сказал мне Максимыч, — настоящее свинство с моей стороны. Миша был человеком с идеалами и убеждениями, и я был таким же, просто наши идеалы по-разному пережили столкновение с реальностью, да и изначально были они не совсем одинаковыми. В общем, взял я тогда на себя роль судьи — хотел встать в красивую позу, а оказалось, что определил этой позой Мишино будущее». Так что он тоже хочет искренне извиниться перед тобой.
А потом, Мишка, и в самом деле, это же я сама не торопилась отвечать на редкие твои письма, я вообще очень мало думала о тебе настоящем — всё больше об идеальном золотом мальчике, который запомнился мне из гимназических лет, словно не было у тебя права быть самим собой и строить собственную жизнь. И только потом, когда пришлось мне очень-очень трудно, как теперь Наденьке, и ты меня не бросил, и так мне помог, я снова приняла тебя — и не столько тебя, настоящего, сколько мостик от того воображаемого золотого мальчишки.
А ведь и правда, Мишка, мне придется заново знакомиться с тобой, настоящим, учиться понимать и принимать тебя. Ну, здесь этим никого не удивишь, и я уверена, что всё у нас получится. Ты только просыпайся поскорей!
Твоя Маша.
17
Мишенька, здравствуй!
Надюша с нами. Я была на ее отпевании, где видела и ее трепещущую, обнаженную, растерянную душу, невидимую ни для кого из них, земных. Помню это по себе: родные лица, и совсем-совсем не можешь дотянуться до них, сказать им, что ты здесь. Трудно это. А само отпевание — трагичное, строгое, печальное, и вдруг оно светлеет, вдруг рвется ввысь и вглубь, а из надгробного рыдания возникает торжествующая песнь: «аллилуйя». Сначала надеждой, а потом и уверенностью звучит это в отпевании: ушедшие — там, где свет и святые, они приходят домой. Всякому человеку это поют, и часто авансом, и порой очень-очень щедрым авансом, но теперь не было ни у кого никаких сомнений: это так и есть. Наденька и переходом своим приотворила дверь в вечность для всех, кто ее провожал.
Я не удивлюсь, если теперь увижу в храме Сашу, ее маму — сначала с робкой заупокойной свечкой, потом и с путанным вопросом, потом и с неумелой горячей молитвой. Но это ее жизнь, и я ничего не могу пока о ней сказать.
Переход не зря зовут рождением в новую жизнь. Это ты, соня, спишь, а Надюше предстоит теперь всему заново учиться, как училась она на земле дышать, и есть, и ходить, и узнавать родных, и улыбаться, и вообще жить в том мире. Здесь учиться приходится точно так же, только уроки куда труднее и прекраснее. Вот в этом я действительно смогу ей помочь, сама же недавно через все проходила.
А встречал Надюшу Максимыч, это он ведь ее хранитель. Я не знаю, кто был, а может быть, и остается хранителем у тебя — это ты сам узнаешь, когда очнешься от своей дремы. Но рождение для вечной жизни я только что наблюдала — и судороги тела, и взлет удивленной новой души, и ласковую улыбку Максимыча, и то странное шевеление тьмы где-то у них под ногами, в котором с трудом можно было опознать проигравших на сей раз бесов. Жаль, что не всегда бывает их поражение таким полным, как с Надюшей, что есть еще у них в этом мире победы — пока не настал День. Но Надя наша с нами.
Ждем тебя. Ты знаешь, я узнала о тебе еще одну вещь, значит, и ее я смогла теперь принять. Я видела теперь, что та история с Петером не была единичной, ни даже первой. Труден был тебе этот выбор, я знаю, но ты был царский офицер совсем не пролетарского происхождения, тебе надо было как-то выживать… Тебе предложили, от тебя потребовали, тебе пригрозили — ты согласился сотрудничать. Я слышала этот механический леденящий голос: «Если вы советский человек, майор Раменьев, если сами не вредитель, а честный командир, то должны помочь нам в разоблачении врагов народа», — и видела этот серый, бессмысленный и безнадежный кабинет, и такой же взгляд, сверливший тебя. Не смог ты уйти от него, Миша, и не мне осуждать тебя.
Ты же ничего, по сути, не выслужил себе регулярными визитами к черному человеку — ты просто сохранил себе жизнь. Тебе даже не предлагали занять вакантные должности, которых становилось всё больше и больше — они были для людей с хорошими анкетными данными, и ты со всем своим огромным боевым опытом так и встретил вторую войну пехотным подполковником.
И вообще, всё начиналось с каких-то очень мелких вещей, с рассказов о настоящих упущениях по службе действительно нерадивых командиров, за которые следовало бы надавать им по шапке, это даже еще нельзя было назвать доносами. Потом с тебя стали требовать больше, и чаще, и подробнее, и ты нехотя, но давал, понимая, что именно последует за отказом для тебя — и что будет с остальными после твоих показаний. Ты был слаб, Миша, но кто из нас не бывал слаб?
Максимыч, оказывается, давно уже знал, чьи именно показания стали первыми в картонной папке с его делом — а я узнала об этом только теперь. Это тяжело, Миша, очень тяжело. Но ты не думай плохого — Максимыч давно простил и принял, он же сам говорил: «это я назначил его предателем». Я и не могла тогда подозревать, как страшно сработало то назначение. «Да ведь в любом случае, — говорит Максимыч, — вряд ли бы оставили меня на свободе, так что Миша меня не посадил, он просто позволил посадить меня от своего имени, просто подписал заготовленный текст. И то не сразу».
Я видела, что в тот вечер, когда тебя спросили про мужа твоей сестры, ты сделал неслыханное: попросил сутки отсрочки. Ты сказал, что хочешь всё детально вспомнить и оценить, и долго, долго шатался без цели по улочкам гарнизонного городка, не замечая ни промозглого дождя, ни бравурных плакатов, ни бойцов, отдававших тебе честь. Потом ты пришел домой, по привычке снял шинель, отказался от ужина, не взглянув на встревоженную Чинару и спящих малышей, прошел в другую комнату, сел за стол, попросил ее туда не входить. Достал пистолет и положил его на стол перед собой. Ты долго сидел и смотрел, и уже ни о чем, совсем ни о чем не думал. Оставалось совсем простое, и ты не боялся этого.
А потом… Ведь на свете были еще Чинара, двое твоих малышей, были мы с Антоном. Ты убрал пистолет и достал лист бумаги. Я же знаю, Мишенька, что во всех своих «показаниях» ты очень тщательно обходил стороной меня, сберегая нас с Антошкой. И мы помним это. Мы остались на свободе, может быть, именно потому, что первые показания давал ты, а не кто-то другой, кому было бы всё равно.
Я снова вижу ту пропыленную степь сорок второго года, того раненного с пистолетом у седого виска — моего брата. Я слышу его слова: «Вот если бы еще тогда… Машка, прости!» — и теперь их смысл полностью открыт мне. Мишенька, тогда не получилось. В жизни мало что получается, как мы хотим. Сложная штука эта жизнь — и смерть ни капли не делает ее проще.
«Тогда» ушло, и в нашей власти сделать так, чтобы впредь оно ничего для нас не значило. Остается «сейчас» — как дверь в наше общее «всегда».
У постели человека, рождающегося в новую жизнь — это я видела по Надюшиным родным — вечно торопящиеся, вечно привередливые люди невольно учатся ждать и принимать. Не в их власти времена и сроки. Сначала они вопят: «только не это, только не сейчас!» Потом, вымотанные и опустошенные, они тихонечно стонут: «тогда уж поскорей», и сами стыдятся этих слов. Нет, цветок распускается в свой срок, и в свой срок рождается человек в земной мир, и в свой срок — в мир иной. Принятие, прикосновение, соучастие — вот как нам много дано! И в самом, самом конце они молча сидят у постели, гладят обескровленные руки, ничего не торопят, ничего не отвергают, а просто принимают родного человека — и так отпускают его.
Так и я заклинала тебя: «Просыпайся, мой брат, просыпайся!» — ведь без тебя, как без мамы, наша радость никогда не будет полной. Но я не знаю пределов твоего сна, не вижу пока его смысла — я могу только угадывать. Учиться ожиданию и терпению, и готовиться к встрече. Не по моему хотению шла твоя жизнь на земле, и не по нему пойдет она здесь, я знаю. И когда ты проснешься в свой час, то знай, что я жду тебя, я прошу за тебя, я люблю тебя — мой старший, мой единственный брат!
Машка.
Русский Амстердам
1. Рейс — нерусское слово
А он все равно не верил.
Больше с интересом, чем с аппетитом выуживал из хрустящих прозрачных упаковок и пережевывал аэрофлотовский ужин — и радовался ужину. Наклонялся к иллюминатору, стараясь не разбудить дремавшего соседа (ну почему так несправедливо — спит всю дорогу, а кресло у иллюминатора досталось именно ему!) и пытался разглядеть в мутной темноте признаки ожившей географической карты — и радовался карте, оживавшей скорее в воображении, чем в иллюминаторе. Пытался угадать, когда именно они пересекут воздушную границу Советского Союза и объявят ли об этом по бортовому радио — и не угадал, а объявили только «пролетаем над Копенгагеном». Надо же — Копенгаген! А про границу, пожалуй, правильно не сказали — а то исторглось бы почти шутливое «ура» из десятка актерских глоток…
Да, он не верил. Сбоку слева все дремал этот несоветский сосед со своим диковинным аппаратом на коленях. Около часа назад он выудил из глубин замшевой сумки черный футлярчик, достал хитрый прибор, затем еще раз нырнул в сумку за плоской квадратной коробочкой с изысканно голой бабой и названием какой-то маловразумительной группы на обложке, вынул из нее маленький зеркальный диск всех цветов радуги и вставил в устройство. А потом надел наушники, откинулся и то ли уснул, то ли затащился.
— Компакт! — жарким шепотом справа отозвался Венька Савицкий, — ух, сила! Европа, мать!
Справа был Венька, но он-то не в счет.
А позади — очередь, несуразные поручения и прощания, как будто незамеченные два килограмма перевеса — всё консервы мамины, будь они неладны; молодое, тупое и внимательное лицо в будке на паспортном контроле, да тюбики с зубной пастой и кремом для и после бритья — из-за них он зазвенел на контроле, и совсем про них забыл, и пришлось под бесстрастные взоры иностранной публики и подначки собратьев по театру разоблачаться перед сержантом, выкладывая из карманов на обозрение мыло, разговорник и всякую дребедень — и откуда только все это набралось? И солдаты с автоматами у входа в железный коридор (точно подкоп под железный занавес!), и вежливые стюардессы, и взлетные огни Шереметьева…
А он — не мог поверить.
Почему, почему так круто? Ну как это так — их, да на гастроли? Театр-студию, непонятный гибрид, о котором неясно, как и говорить — он или она? Нечто, немного известное в узких кругах Садового кольца в Москве да Обводного канала в Питере? Конечно, конечно, гениальный, пробивной Сам, богатые да охочие до экзотики иностранцы…
И как так все это подвернулось — в Европу, да на горяченькое, к Рождеству западному, героями. Ведь обязательно будут объявлять перед спектаклем, что всем составом, да по первому зову, да на защиту демократии… Уж не по этому ли поводу и визу дали с запасом, на целый месяц?
Позади был тоскливый августовский дождик, горящие у неумелых баррикад костры, чахлая из-за садящихся батареек «Свобода», сцепившиеся за руки в нелепой противотанковой обороне люди.
— Ну чё, пацан, руки-то дрожат? Да не стесняйся, чё там.
— Уж скорее бы начинали, вот чего.
— Да начнут скоро, вон, объявляли только что.
А что, и начнут. И сомнут тогда баррикаду, и театр вот так же сомнут, только бы успеть увернуться из-под гусениц и Нинку вытолкнуть первой, а Самого, если придется — то и грудью закрыть, для искусства. Впрочем, в такой-то толчее — как увернешься, куда побежишь? Нет, вряд ли успеем. Ну, теперь уж как карта ляжет.
И вдруг — победители. Мы тусовались, тусовались, и победили.
А за иллюминатором! Разредились облака, и земля проглянула четкими линиями огней и правильными фигурами освещенных пространств — геометрия прямо, а не география! А среди островков света — черный глухой проблеск воды, пятнами, полосками и тонкими линиями. Всюду, насколько было видно, вода пробиралась в сплетение огней и срасталась с ним странным узором, а где-то там, совсем с краю, огни пропадали и начиналась темная громада Северного моря.
И все это медленно поворачивалось, проплывало и уходило за крыло самолета, и вот уже быстрее — да и ближе, кстати — и пробудился от встряски сосед, и заерзал Венька. Вот оно, и толчок снизу, еще один — и в иллюминатор вбежали огоньки аэродрома, замедлились и отдалились, а на их место торжественно въехал прямоугольник освещенного здания с главной, немыслимой и тарабарской надписью: Amsterdam .
Ночной аэропорт был чист, тих и светел. Заблудиться было невозможно даже неискушенному колхознику, и театр рассыпавшейся вереницей побрел в направлении неоновых стрелок. Перед стойкой паспортного контроля пришлось затормозить. В один проход устремлялись, слегка помахивая перед носом у пограничника европейскими паспортами, вальяжные дамы и господа, а у другого прохода выстроилась разноцветная очередь, держащая в потных ладонях корочки всех немыслимых государств и расцветок. Туда же и с нашими краснокожими. В маленьком загончике перед самой линией пересечения границы обреченно переминались три негра, а еще один стоял перед таможенником, и тот безразлично листал его паспорт, такой же черный и потрепанный, как и его владелец. Взмахом руки он отправил негра в загончик и что-то сказал напарнику за соседней стойкой.
А что, если и их так? Но на полированную стойку лег первый серпасто-молоткастый, сверкнул и оставил свой отпечаток на визе пограничный штемпель — «… декабря 1991 года» — и ласково кивнув, таможенник вновь сообщил что-то напарнику, но уже с явной теплотой в голосе: «Рюсланд».
Выполз на длинной извилистой гусенице и был расхватан багаж. Тут же — гостеприимные тележки, и совсем бесплатно, ставьте, граждане приезжие, так удобнее. И — на выход, к таможне… По мере приближения — новые страхи: а ну как нельзя пять поллитровок, счастливо пронесенных в обман таможни советской? А запрятанные в глубины запасных трусов и лифчиков серебряные полтинники; а дедушкина коллекция марок между страницами детектива? Родину-то как иначе распродавать за свободно конвертируемую? Но у Саши — ничего такого, потому что нечего.
А на контроле — миловидная барышня в форме. Прямо перед Сашей с трудом толкала свои картонные коробки немолодая советская тетка. Барышня улыбнулась:
— Good evening, madam, what is this?[1]
— А, это шмотки, шмотки, — не смутилась тетка.
— OK! — новая улыбка и жест: проходите.
Шмотки так шмотки! Как не понять молодую демократию.
Сашу девица одарила улыбкой просто так, и вот вывалился он с потрепанной своей сумкой наружу, в суету встречающих.
А тут — куда же? Над толпой, над поцелуями и рукопожатиями вознесены несколько самодельных плакатиков: какой-то университет… ассоциация… А вот это прикол: «Petrovich A. I., Semyonovna S. G., Alfredovna D. L.» Наверно, европейцы, непривычные к нашей анкетной форме «фамилия-имя-отчество» приняли последнее в этой обойме начертание за фамилию, и будут теперь именоваться совграждане (уж не та ли тетка с коробками среди них?) не иначе, как мистер Петрович и миссис Семеновна. Да и поделом, пожалуй.
А вот и название театра! Собирается кучка вокруг богемного бородача, который тусовался у них этим летом два месяца, жмут руки, обнимаются, глядишь, и первая поллитра на свет вот-вот вылезет. Но нет: в машину!
Вежливо разлетаются стеклянные двери, бредут актеры с тяжелым своим скарбом по огромной бетонной стоянке… Вот и блестящий микроавтобус, распихали багаж, расселись — теперь-то уж место у окна досталось — и понеслась за окнами, не меньше сотни км в час, Голландия, провалы глухой темноты в разрывах фонарей и неоновой японской экспансии: SONY, TOSHIBA…
Что же это, правда — я за границей?
2. Европа, здравствуй!
Поселили, конечно, так себе. Но по нашим меркам — вполне сносная общага, к тому же в самом центре! Им досталась комната на четверых — конечно, вместе с Венькой, да еще двое ребят, но без чужих, это уже хорошо.
А Венька исчез прямо в ночь, как приехали. Пока Саня непривычно обминал чужой матрас под прохладной простыней и дисциплинированно боролся за сон на чужой земле, его друг — счастливый — бродил по неизвестному городу в центре Европы… А рядом безмятежно спали двое, словно им — что Амстердам, что Конотоп.
Утром Сане досталось его будить. Сбор труппы был назначен прямо в их общаге, в 1200, что, конечно, в облом, и Венька натягивал на голову одеяло и вяло шевелил левой пяткой, оказавшейся на свободе в компенсацию за голову. Саня глотал баночную кильку в томате и время от времени теребил эту самую пятку, получая в ответ в лучшем случае — «убью, гад!» Без четверти настала пора решительных действий, и Савицкий с содранным после краткой борьбы одеялом капитулировал. Первые десять минут расспрашивать было явно бесполезно, но Веньку вдруг прорвало:
— Слу-шай… Нет, ты прикинь — вот так вот идешь, да — витрины, витрины, витрины, а в них… — вся фигура Веньки изогнулась: пластичная рука, кокетливое подрагивание бедер и дебильная на заспанной физиономии улыбка не оставляли сомнений насчет того, что было в витринах.
— Девки! — выдохнул Венька.
— Серьезно, что ли? Прямо так?
— Ну, пошли, покажу, тут рядом совсем… А, сбор… Ну да, потом. И вообще, конечно, посмотрел. Дворец королевский, корабли там, каналы, все такое… Это тебе не Речь Посполита, панове!
Венька уже бывал за границей — но только челноком, в Варшаве. Собственно, с того и жил, играя вечерами по подвалам у Самого. Один из немногих оставшихся первых мальчиков, не очень талантливый, но слишком преданный ученик — он так и просуществовал все недолгие годы их студии, а потом театра-студии, на второстепенных ролях по ту сторону кулис и в качестве неизменного участника всех главных событий — по эту, актерскую сторону.
На сбор они, конечно, опоздали, но не настолько, чтобы это было замечено. Сам произнес краткое поздравление господам актерам в связи с началом первых настоящих гастролей и пространное напутствие о личной ответственности за судьбу российского театра на международной арене, затем перешел к уточненной программе. Играть им предстояло не так уж и много, но довольно хлопотно — на разных сценах и в разных городках, причем на подготовку иногда оставался только кусочек дня между утренним приездом и вечерним спектаклем. Словом, концертные условия для настоящих спектаклей, и это при сверхзадаче заставить старушку-Европу заговорить о них. Довольно странный был расклад аудитории — студенты, дом престарелых, еще какие-то малопонятные сборища. Словом, халтурка по провинциальным домам культуры, вот только за границей.
Зато предстояло поездить по стране. Ради этого Саня был готов терпеть и все неудобства, тем более, что в географическом списке неожиданно вырисовалась Бельгия. Благо, визы для всего Бенилюкса единые.
Бородатый голландец молча и одобрительно кивал головой, кое-как понимая по-русски, а больше делая вид, и создавал эффект присутствия принимающей стороны. Но, ничего, кроме протокольного приветствия, на его долю так и не выпало.
Для заключительной части Сам мудро передал слово Татьяне Акоповне, и та грудным сладострастным голосом обрисовала общую картину предстоящего шоппинга — где, что, почем. Выходило, что можно найти не так уж и мало и не так уж и дорого. Учитывая суровый режим оплаты и практически полное отсутствие суточных, это было очень здорово. Венька заранее приготовился купить подержанные жигули, с тем и привез сколоченную в Польше пачечку зеленых. Сане, конечно, до такого роскошества было далеко, но вот доступность кожаных курток его немало порадовала.
Сбор кончился достаточно быстро. Первый спектакль был только завтра, в университетском театре, на репетицию им отвели одно завтрашнее утро, и сегодня запарка предстояла осветителю, звукотехнику и, разумеется, Самому.
А день принадлежал актерам.
Веня пошел в комнату завтракать консервами, а Саня прихватил Лешу и Нину — и они спустились по крутой лесенке, толкнули тяжелую темную дверь и вышли в город.
До конца своих дней он будет вспоминать этот выход в столицу Королевства Нидерландов. Как рассказать о нем человеку, никогда не попадавшему из промозглой декабрьской Москвы в серую и ветреную голландскую зиму — точнее говоря, в голландскую осень, которая просто сделалась в декабре не такой ненастной и ждет февраля, чтобы смениться голландской весной? Этот мир полутонов серого цвета, ветра и моросящего дождя, сиротливых голых деревьев и влажной мостовой, легких курток с капюшонами и высоких длинноногих девушек…
Как передать тому, кто не попадал из нашего привычного совкового и постсоветского пространства, из наших хрущоб и черемушек в этот мир узких каналов и горбатых мостиков, ровных острых крыш с завитушками по бокам и прозрачных буржуазных окон под ними? В первой же лавочке Саня купил карту города. Съев немножко валюты, она дала им свободу передвижений. Амстердам лежал на ней мозаикой разлинованных клочков земли между причудливых линий каналов. Северной частью он прилегал к неведомому заливу — то ли морю, то ли реке с причудливым названием IJ. Едва они развернули этот пестрый ковер, к ним подошел пожилой господин с палочкой, и сходу по-английски слепил пару простеньких фраз, а потом, не мудрствуя, ткнул пальцем: You are here[2], — хотя его вроде и не просили, и побрел себе дальше. Оказалось, они были почти в самом центре, немного к западу. Расстояния выходили крошечными: сантиметр на карте — квартал на местности, и они все ходили и ходили по центру… С загадочного залива дул пробирающий ветер, но словно и не было холодно.
И еще — как описать тому, кто не покидал впопыхах Москву, матерящуюся по очередям конца 1991-го года, ради города, где еда в магазине — не пожарный набат, а симфония Моцарта?
Нинка торчала у каждой, буквально у каждой витрины. В сырную лавку они все-таки вошли внутрь, и горько пожалели. На полках красовалось то, что в Союзе давно утратило множественное число — там лежали сыры. Невозможно было даже обозреть все сорта, не то что выбрать. Продавец о чем-то спросил их, тут же сам перешел на английский, и Нинке не оставалось ничего другого, как схватить первый попавшийся кусок и обреченно протянуть продавцу — этот!
— Anders noch iets? Something else?[3] — осведомился продавец. Ну, ясно: «чего еще изволите».
— Ой, не надо, — с ужасом ответила Нинка по-русски и выскочила из магазина.
Как объяснить, что такое Европа?
Не так уж много их и было в этом городе, но со своими довелось встретиться дважды. Первой была Татьяна Акоповна, уже приступившая к шоппингу — она выходила с разноцветным пакетом из какого-то универмага. Они, пожалуй, не прочь были бы зайти туда тоже, но на первый день это было бы слишком. Да и купленный сыр болтался крохотным пакетиком на руке у Нинки как безмолвный упрек в растрате пяти гульденов сорока пяти центов.
Вторым был, конечно, Венька. Леша увлек их на тихий поэтичный канал с невероятно длинным названием, и они шли по узкой полоске булыжника между водой и домами, как вдруг перед ними вдали возникла необычная картинка. Напротив невидимой им витрины стоял и счастливо распускал слюни всклокоченный человек, и этим человеком был Венька. У чугунного столбика метрах в трех от него примостились двое голландских мальчишек лет по десять, бесстыдно хихикали и показывали на него пальцем, но сами к витрине не подходили. Венька так и не заметил своих, пока не столкнулись вплотную — а из витрин глазело кокетливо прикрытое, толстенькое и нагловатое тело. Больше всех смутился почему-то именно Саша, а Венька рассмеялся счастьем первооткрывателя:
— Ну где еще русским в Европе встретиться, как не у борделя? Саня, я ж тебе рассказывал, вот же они. А вот там еще дворец королевский, видели? А на заливе были уже?
Нинка обронила с видом принцессы:
— Ну что, мальчики, ко дворцу пойдем или тут посмотрите?
— Да ла-адно, — отпарировал Венька, — смотреть-то не на что, страшенные они. Да и дворец тоже не Эрмитаж, так себе. А на залив сходите, там корабль клевый, старинный.
И они пошли на залив. Ветер усилился, пробирал насквозь, но и они не сдавались. Леша обнял продрогшую Нинку, и стало ясно, что в калейдоскопе актерских романов возникает новое сочетание.
Скученность домов распахнулась навстречу воде и небу, и перед ними встали тонкие вертикальные линии мачт, а чуть позже, за оживленной магистралью, на пространстве серой незамерзшей воды — легкие контуры яхт, и в отдалении — огромный парусный корабль, пиратский фрегат из мальчишеских снов.
И тут Саша — поверил.
А потом они все-таки замерзли и в маленьком угловом кафе пили горячий и прекрасный капуччино, не решаясь на что-нибудь съестное, а за окном все ярче и призывней разгорался неон, и они поняли, что там уже стемнело.
И пешком обратно, извиваясь пальцем по карте и путаясь в сумасбродных названиях улиц, шарахаясь в проулках от шальных велосипедистов и вновь застревая у больших витрин. Ноги гудели, озноб во всем теле все явственнее грозил отозваться простудой, но глаза снова и снова требовали Европы, и невозможно было им отказать.
Они шли и глазели, голодные, замерзшие и счастливые.
3. Неплохо для начала
На следующий день утром был прогон, а вечером — первый спектакль. Они привезли с собой две вещи, очень разные и призванные представить собой два полюса современного русского театра — чеховского «Дядю Ваню» и «Орфея и Евридику», инсценировку поэмы некоего латыша, имя которого одни не могли правильно выговорить, а другие — вспомнить. Но поэма была славна именем переводчика — Даниэль, как гласило предание, сидел с автором в одном лагере и там от тоски взялся ее перевести. Поэтому пьеса получилась как бы произведением Даниэля и о Даниэле, стало быть — о диссидентстве вообще.
Первым шел «Дядя Ваня». Не имея мхатовского блеска и традиций, их театр неизбежно должен был стать противоположностью — отталкиваясь от Смоктуновского, подкупать «совершенно новым», как это называлось в критических эссе, «прочтением», хотя не вполне понятно, что же это такое — прочитать классическую пьесу так, как никто до тебя. Саше-то казалось, что прочитали они ее просто так, как случилось прочитать вдвоем за бутылкой Самому с Первым.
Сам он всегда был — Сам С Усам. В меру талантлив и в меру удачлив, в меру осторожен и в меру диссидент, он с задорных шестидесятых сумел сохранить и пыл, и активность, и убеждения, и умел все это прекрасно вписывать в «нашу прозу с ее безобразием», как говорил Пастернак. Будь у него дворянский герб, он начертал бы на нем один лозунг: самодостаточность. Ни слава, ни карьера, ни деньги не имели для него никакого значения в сравнении с возможностью делать то, что он считает нужным, причем именно тогда и так, когда и как он считает нужным. Не худшее качество для режиссера, хотя и утомительное порой для актеров. Театр-студия принципиально не могла принести ни широкой известности, ни денег, да собственно, ничего, кроме огромных возможностей для самореализации. Но они любили его, а он любил их — а это уже немалая редкость в театральном мире. Пусть порой и странною любовью…
А Первый, неразрывный спутник и заклятый друг Самого, был, если честно, не первым — единственным. Прослужив два десятка лет в академическом театре на вечных вторых ролях, он в момент крутых разборок между тамошними первыми не выдержал и ушел в подвалы к Самому. Только он в этих подвалах обладал школой и опытом, только он выпивал со всеми звездами экрана и, судя по его рассказам, добрую половину из них подменял на сцене во дни киносъемок и запоев. Только он сумел вспомнить и примерить знаменитое цезаревское «лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме» и ушел с головой в эту их деревню, распушив в полном блеске свой собственный талант — разумеется, так и не оцененный за годы верного служения академическому театру.
«Дяде Ване» не требовалось столь сложной сценографии, как музыкальным «Орфею и Евридике», поэтому неутомимый Сам лихо махнул на «Дядю» рукой и взялся за обкатку «Орфея». Сцена была удобная и прогон шел легко. Саша сам пел довольно плохо и поэтому в «Орфее» только проплывал несколько раз на заднем плане какой-то аллегорией. Пели другие, в первую очередь Леша и Нинка, у которых это действительно здорово получалось — Орфей и Евридика.
Диссидентство латыша простиралось даже на классическую мифологию, с которой он был явно несогласен, поэтому у него Евридика спускалась в Аид (читай — лагерь), чтобы вывести оттуда Орфея (читай — Даниэля). Поэма была так себе, но Сам вдвоем с подвальным рок-композитором и певцом Сережей сочинили музыку, и, что самое главное, сумели подобрать эту музыку к конкретным людям, заставить ее зазвучать в них, нашли скромный реквизит и яркую одежду. Словом, сделали за полгода конфетку, а потом еще и около года домучивали спектакль уже на сцене, приводя филигранность постановки в соответствие с грубостью наличного материала — то одна отправлялась в декрет, то у другого садился голос, а то и просто «не шло». Но в Европу повезли спектакль уже в том состоянии, когда улучшать нельзя — потенциальные возможности труппы исчерпаны, люди разыгрались, но еще не устали, публика еще не исчерпалась и не успела безнадежно помолодеть и измениться.
Быстренько отстрелявшись на прогоне, Саша хотел было улизнуть бродить по городу до вечера, но Сам вовремя отловил его:
— Слушай, ты ведь с английским?
— Ну так, со школы…
— Ну ты можешь, я помню. В общем, после спектакля намечена встреча, так что давай подумаем, как и что.
— Вы же хорошо по-английски, Юлий Ива…
— Да я-то да, а вот вы — как? Кроме меня и Первого, только ты более-менее сечешь. Так что давай, — и с ходу была составлена краткая программа импровизации, рассказа о театре и московской околобогемной молодежи, чтоб не стыдно было.
И только потом Саше были дарованы еще три-четыре часа — снова погрузиться в Амстердам. На сей раз в одиночестве: нашел на карте Самый Большой Музей — Rijksmusem — и потратил целую десятку… А в общем-то, Венька прав, с Эрмитажем не сравнить. Лучше бы еще по улицам побродил…
Спектакль пошел хорошо, по накатанному. Узость сцены заставила чуть-чуть упростить сценографию, приходилось немножко меньше двигаться, но в целом рисунок сохранился. Саша играл Астрова — роль явно не по возрасту, но на эту проблему в их театре смотрели широко. Саша лепил из Астрова энергичного, несколько потрепанного и самовлюбленного специалиста, каким ему и самому, пожалуй, хотелось бы стать, не будь он актером.
Войницкий в исполнении Первого был неожиданно комедиен — в этом и состояла главная новизна прочтения, принесшая их постановке некоторую славу. Серебрякова играл довольно талантливый актер несчастливой судьбы, еще не старый и еврей, что придавало спектаклю странный националистический привкус, который явно не был задуман ни Самим, ни тем более Чеховым.
Аплодировали мощно. Как ни трудно разгадать смысл реакции иноязычного и инокультурного зала, но на этот раз было видно, что их приняли.
А после спектакля их всех пригласили задержаться в небольшом зале в том же помещении студенческого театра Амстердамского университета. Туда прошла и немалая часть зрителей, как-то моментально образовался фуршет, и едва актеры с удовольствием принялись выпивать и закусывать, как над собранием возвысилась некая невзрачная фигура и на неплохом русском языке начала речь: «Дами и господа! Ми ради приветствовать в стенах нашего униферситейта исфйестный москофский театр»… — и дальше много такого, что даже Сам о них бы не сказал, не то что они о себе. Впрочем, к застолью перешли довольно быстро.
Оказалось, что все Сашины приготовления к пытке английским были напрасны — большинство присутствующих неожиданно заговорили по-русски. В основном это были студенты-русисты, их преподаватели и бывшие жители Союза. Впрочем, эти категории, как оказалось, часто пересекались. Рядом с Сашей пристроился статный парень, поднес ему к водке кусочек соленого огурца, выразил свою благодарность за спектакль. Через несколько фраз Саша спросил:
— А ты сам здесь давно?
— В университете?
— Нет, в Голландии?
— С пяти лет. До этого мы с родителями жили в Суринаме.
— Ну?! А зовут тебя —?
— Ян ван дер Велд. Можно — Ваня.
— Ян ван…
— ван дер Велд. Просто Ваня, больше ничего не надо. А тебя как?
— Да меня-то Саша… Я думал, ты русский…
Этот высокий парень с нордически-вытянутым овалом лица и явно неславянскими чертами говорил по-русски не то что без акцента — а именно что с московским выговором, как на нашей кухне. Нет, ну надо же! Он, правда, учился пару лет в России, но чтоб так…
Впрочем, пока что разговор с ним особенно не состоялся, и Сашино внимание привлекли женщины справа. Тут же одна из них, русская дама лет 30-ти в роскошном платье принялась объяснять, что все они ничего не понимают в Чехове, и что вообще все они совки (и спорить было бесполезно), но от нее удалось скрыться в укромный угол.
И тут к Саше подошла высокая миловидная девушка со светлыми волосами и приятно улыбнулась:
— Hoi! English, Français, Deutsch?
— English is better. I do not speak French, only know some words. Nein Deutsch![4]
(И все-таки придется напрячься, подумал Саша, — а говорю-то совсем неуклюже, не по-английски как-то!)
— OK. I want to thank you for the performance — I really enjoyed it.
— Thank you.
— Your Astrov was magnificent — a real Russian, as you call it, intelligent.
— Do you think so? I thought that Voinitsky is more typical.
— Why, I didn’t like the way his part was played tonight.
— You didn’t like what? — не понял Саша.
— The actor, the way he did it.
— Oh, he is a star…
— Really?
— Certainly.
— Honestly, I liked your acting better.[5]
Такая лесть была Саше уже не по зубам. Что хорошо — ладно, но чтобы лучше Первого…
— Oh, thank you very much… I don’t know…
— Are you playing a role tomorrow too?
— Yes, but very small.
By the way, my name is Ingrid[6] — и изящно протянутая ладонь. Эта девчонка и сама неплохая актриса!
— And my name is Alexander, Sasha.[7]
Знакомство состоялось. А потом было еще много суетливых разговоров и бурных знакомств, по большей части не оставлявших в памяти ничего, кроме имени, да и то смутно. Саша перемещался от выпивки к выпивке и от закуски к закуске. И то, и другое не могло задерживаться на актерском фуршете, стол скоро оскудел, и общество начало расходится. И когда уже и Саша направился в сторону выхода, его перехватила Ингрид:
— We’re having a party next evening not far from here. Would you like to join us after the performance?
— Yes, gladly. Thank you. Isn’t it too late?
— Not at all. You’ll be just in time. Shall I ask Jan to accompany you after the performance?
— Jan?..
— Jan van der Weld. He’s going to be there too.
— Yes, Thank you.
— OK. See you tomorrow!
— Good bye.
— Bye-bye![8]
Вечер как нельзя более удачно завершился приглашением на новую вечеринку. И девчонка очень даже симпатичная! И, как ни стыдно в этом признаваться, можно будет пожрать и выпить на халяву… Не все же мамиными консервами питаться. А о том, чтобы драгоценную валюту тратить на еду, страшно и подумать. Вот, проходили тут мимо кафешки: меню «всего» за 25 гульденов! Это же… да… долларов 15… а в рублях это будет… в общем, целое состояние за какой-то комплексный обед! Словом, спасибо тебе, Ингрид.
Правда, на обратном пути Савицкий, который приглашения не получил, прожужжал все уши, что свинством было с его стороны не добиться приглашения на вечер с вином и девочками для лучшего друга. Саня отшучивался про незваного-гостя-хуже-татарина (у Веньки дед был из Казани) и насчет того, что с Венькиной-то рожей да в Европы… Не упустил и козырнуть похвалой: выше Первого оценили! А насчет лучшего друга, усмехнулся он при этом про себя, — ведь и правда, пожалуй.
4. Наедине с собой и с заграницей
Утро третьего голландского дня было чистым и солнечным, впервые за все это время. Саша уже твердо помнил не только дорогу от общаги до театра, но и все ответвления — канальчики, лавочки, подворотни. Вышел на узкую торговую Калверстрат, сотканную из маленьких лавочек и супермаркетов. Здесь у домов как будто не было стен, а только распахнутые двери и витрины, и они засасывали, как омут — выйдя из магазина, он не всегда помнил, откуда в него зашел и часто направлялся в обратную сторону, пока вдруг не замечал, что здесь он уже проходил. К концу пути Саша был обременен поношенной кожаной курткой всего за полсотни гульденов, несколькими парами носков, деталями дамского туалета для мамы, да и еще какой-то дрянью, которую он потом не без удивления рассматривал у себя в номере.
Куртка была кофейно-коричневой и казалась почти новой. Ближайшие несколько дней они с Венькой занимались поиском скрытых дефектов, а с Нинкой — поиском путей к их устранению. Выходило, что все прорехи в подкладке можно залатать, а главное, куртка прекрасно сидела и хорошо защищала от ветра, воды и холода одновременно.
Параллельно Калверстрат шел величественный проспект с двойным именем — Дамрак-Рокин, исполненный неторопливого достоинства, туристических агентств и сувенирных магазинов. Зашел Саша и туда. В первом же сувенирном стал набирать ерунды для родни и приятелей — и оказалось, что при всем внешнем разнообразии выбор крайне невелик. Несколько видовых открыток, пара фарфоровых домиков — все это как-то еще годилось, а основная масса сувениров была явно рассчитана на всеядных американцев: что-то в стиле родных слоников на комод, только на тему мельниц, каналов, деревянных башмаков и, для разнообразия, мужских половых органов.
Впрочем, хватит на сегодня шоппинга. Захотелось вжиться в текущую мимо толпу, словно он сам себе задал такой вот этюд на актерское мастерство. Вот выходят из шикарного кафе две богатые старушки, блистательные и ухоженные леди с неизгладимой печатью банковского счета на лицах. Несется и хохочет стайка нагловатых, но незлых мальчишек-подростков, кажется, среди них и одна девчонка — а впрочем, у них и не разберешь. Деловая дама выпархивает из неверно припаркованной машины и бросается в чрево какого-то туристического заведения, а машина остается ждать, лживо мигая поворотниками прямо посреди мостовой… Что, что в них особенного? Почему они не такие, как мы?
Выдернулась из толпы рука в шевиотовом пальто, махнула Саше — пожилой господин чем-то интересовался. Оставалось только спросить:
— Do you speak English, sir?
— Yes. I asked you where’s a bus stop.
— Sorry, I don’t know. I’m a stranger here.
— Are you from England?[9] (о, какая незаслуженная лесть для Сашиного английского!)
— No, I’m from Russia.
— Ru-sha? where’s it?
— Moscow, Soviet Union.
— Oh, Rusland! Mikhail Gorbatchev! To-va-rish Yeltzin! Gorbatchev is a good man. He is better than Stalin. Stalin was a killer, I know. Do you agree?
— Of course. Sorry, I’ve no time[10] — Саша выматерился по-русски и быстро зашагал прочь.
Так какие они, какие? И какой — я сам?
Если честно — Саня и сам не знал, почему стал актером. Благополучный московский мальчик, единственный сын в средней семье того круга, что звался (и поделом!) советской интеллигенцией, он довольно рано начал ощущать свою «инаковость», и эту инаковость в нем, в отличие от большинства детей, так и не заглушили. Его не обошел стороной положенный набор занятий — языки, музыка и теннис, — но ничего из этого так и не закрепилось всерьез. Уже в старших классах стало понятно, к чему лежала душа и мозги: математика. Пошли районные и городские олимпиады, на горизонте бесспорно маячил мехмат МГУ и уже нащупывался некоторый блат.
Когда Саше было пятнадцать, от внезапного инфаркта умер отец, заместитель главного редактора одной из московских газет. Оказалось, что налаженность этой жизни зависела почти исключительно от его высокого положения, и все прежние двери не то чтобы резко захлопнулись, но как-то вяло открывались, давая четко понять: по старой памяти, из уважения к покойному пока что можете обращаться, молодой человек. И Саша решил по-американски стать self-made man,[11] не рассчитывая на милостивую протекцию «друзей отца».
В 16 лет он пришел к Самому впервые, еще в государственный театр — приятель пригласил. Потом уже за кулисами, как-то в шутку попробовал повторить один эпизод из его роли — и эта шутка не осталась просто шуткой ни для Саши, ни для Самого, который случайно стал свидетелем. А дальше был уход Самого и всей его компании в многообещающую неизвестность, романтика перестроечных подвалов и болезненная влюбленность Саши в несуразную их студию и, наконец, всего через неделю после окончания школы — первый выход на сцену со словами — кажется, всего четырьмя.
А по другую сторону занавеса… он не прошел в первый раз на мехмат по недобору баллов и во второй раз — прошел с тремя пятерками и одной четверкой. Отучился два курса и ушел в какой-то странный академ по липовой справке об экзотической болезни в преддверии блистательного провала сессии. Вгрызался зубами в программирование и вылавливал по знакомым конторам свободные компьютерные часы, как правило, ночные и нелегальные. Подрабатывал всеми пристойными способами и добился материального самообеспечения.
Его академ завершился, он даже что-то успел сдать из угрожавшей отчислением сессии — но на все не хватало ни времени, ни желания, и он решился просить второй академ. Это оформили уже как отчисление с правом восстановления, и так было честнее и приятнее: захочу — вернусь, захочу — нет. Тем более, что знакомые девчонки в деканате устроили так, что районный военкомат по-прежнему числил Сашу среди студентов. Долго так продолжаться не могло, но передышка была дана. И с течением времени Саша все яснее сознавал, что возвращаться он уже вряд ли захочет. Только пока не надо говорить об этом маме.
А по эту, главную сторону… Он явно не вписывался в то, что должно было считаться образцом актерства. Впрочем, как и весь их театр. Еще на заре сценической карьеры он однажды беседовал с дальней маминой родственницей, бывшей актрисой доброй дюжины областных драмтеатров.
— Ты — актер? — говорила она тогда, — ну что ты. Возможно, ты смог бы стать неплохим режиссером.
— Почему так? — удивлялся Саша.
— Понимаешь, актер… Это когда тебе на репетиции говорят: стань кверху жопой! — и ты сразу: вот так, да? Или так лучше? И стал. А ведь ты тут же задумаешься: зачем это кверху жопой? Может, как-то иначе? А вот это уж дело режиссера.
Приговор оказался не только доходчивым по форме, но и справедливым по содержанию. Саша играл неплохо, но до краев был налит какой-то вымученной серьезностью — а этого Сам не любил. Да и школы никакой у него не было — а что такое талант без шлифовки? Можно было, конечно, промаяться, поступить в театральное, конечно, при поддержке Самого… Но ведь — не было у Щукина щукинского диплома, не было и мхатовского у первых мхатовцев. К чему — скучные, обрыдлые еще по мехмату лекции, если можно — просто играть?
И он играл, и пару раз был отмечен рецензиями, многократно — Самим и захожими околотеатральными друзьями. И все-таки пока не было ни одного главного, безусловного признания, чтобы Саша понял — он актер. Он сознавал, что талантлив, иногда, как и всякий актер, не отказывал себе в удовольствии помечтать о своей гениальности — но состоится ли все это на подмостках? Что он был не математик — уже ясно, его обычное юношеское стихотворство тоже не сулило ему стать в один ряд с Пушкиным, а вот на сцене — как?
И эта невыясненность подстегивала, гнала на репетиции по чердакам и квартирам и на премьеры по убогим клубам и дворцам культуры, заставляла улавливать во вздорных иной раз требованиях Самого («встань кверху жопой») то неуловимое и существенное, что делало Самого — Самим, а его исполнителей — актерами. Но тот главный актерский стержень, который Саша должен был в себе обнаружить — или уйти со сцены — пока никак не удавалось нащупать. Многообещающий мальчик… А дальше-то что?
Ну а пока — бегом на репетицию, не опоздать бы! Потом еще погулять можно будет, до спектакля. И вообще, репетиции на первых заграничных гастролях — изощренная китайская пытка. «Есть такое слово „надо“», а не будь его — все они в полном составе разбежались бы в разные стороны, включая Самого…
5. Белорусская чаща
Спектакль в тот вечер казался неожиданно долгим, но ускорить его Саша был не в силах. Во-первых, в «Евридике» он был почти статистом, а во-вторых, время окончания спектакля, как известно, зависит не от скорости подачи реплик, а от неких мистических причин, которые актерам не дано разгадать.
У выхода его уже ждал Ян, и Саша бросил Веньке в ответ на недоуменно-обиженный взгляд:
— Ну, давай. До вечера.
— Да уж небось до утра, — парировал Венька.
Оказалось, что помимо Саши приглашены были Нинка, Леша и рок-певец Сережа, который и заведовал музыкальной частью «Евридики». Хотели позвать и Первого, но тот собрался посидеть втроем с Самим и голландским бородачом — по хорошо усвоенной гастрольной традиции они отдыхали за русской водкой от многохлопотных семей, которые у всех троих были к тому же не первыми по счету.
Вечеринка проходила совсем неподалеку, в однокомнатной квартире, совсем небогатой и вполне во вкусе московских студенческих берлог, даже и с горкой пустых бутылок на балконе. Саша так и не понял до конца, чья была квартира и в честь чего торжество. Народу было помимо них человек пятнадцать или даже больше — довольно тесно, и вечеринка была в самом разгаре.
Сережа — единственный из всех наших — оказался достаточно догадлив и богат, чтобы принести бутылку вина. Ее и подарили как бы от всех русских. Добропорядочный Ян тоже запасся бутылкой, и обе они влились в пеструю толпу напитков на низеньком столике.
Компания, к огорчению советских гостей, не ела, а лишь закусывала. Впрочем, соленые орешки, маслины и прочая мелочь не шла ни в какое сравнение с российской закусью. Им вручили бокалы, велели наливать себе самим (приказ исполнялся неукоснительно) и постепенно представили обществу.
Саша, как и полагается, начал с пива, но и вино решил не упускать из поля зрения. Впрочем, не успел он перейти от «де Конинк» к «Божоле Нуво», как некий господин средних лет вовлек русских в разговор на их родном языке:
— Господа, а как вы относитесь к распаду Советского Союза?
— Да пусть распадается, — махнул рукой уже душевно принявший Леша, — ну его, надоел.
— То есть вы одобряете создание се-не-ге?
— Одобрямс, как водится, — кивнул Леша, — а чё это?
— Как, вы не знаете?
— Да и в самом деле — что же это такое?
— Я в Таиланде был, вернулся совсем недавно, — мягкой и как бы извиняющейся улыбкой отозвался Сережа.
А, это Ельцин с Кравчуком и с этим белорусом что-то придумали вместо горбачевского Союза суверенных республик, — кивнула Нина.
— Да, да, — ухватился господин, — белобрыс… белорус был Шушкевич. Они собрались в… Белорусской Чаще, так, кажется… и объявили, что СССР больше нет.
— Нет, кроме шуток?! — до Саши наконец-то дошло.
— Это так. Теперь они сделали — это называется… Содружество независимых государств. Три славянские республики.
— Без чурбанов?
— Как-как? — не понял господин.
— Ну, Средняя Азия, братские народы, хрен им в редьку, — пояснил Леша.
— Нет, — лицо господина еще больше вытянулось от непонятного, но очевидного расизма этих милых русских, — только Россия, Украина и Белоруссия. Столица в Минске.
— Во-во, туда их, министров обделанных, — обрадовался Леша.
— Мальчики, в Молдавии такие фрукты… и вино такое домашнее бывает… Изабелла… — размечталась Нинка, — это что, уже заграница?
— Ну. Считай, Румыния.
Господин сидел молча и несколько подавлено, не понимая реакции русских на развал последней в мире империи.
— Господа, но вам… не жаль?
— Горбатого? — угадала Нинка, — знаете, такой анекдот: Шарапов с Жегловым разоблачают «Черную кошку»…
— Нин, да откуда ему, тут ведь не показывали.
— Да, а жаль. Не худшая роль Высоцкого. И такая неожиданная.
Господин подобрал спасательный круг и стал говорить о бардах и загадочной русской душе. Но ему не дали. Саша неожиданно резко встал, даже в нарушение этикета:
— Ребята, надо выпить. За конец прекрасной эпохи.
— Стоя, не чокаясь, — поддержал Леша.
— Да, конечно! (Сережа)
— Мальчики, там бордо… (Нинка)
— Who’s commemoration?[12] — донеслось из англоязычного угла.
— Sowjetunie,[13] — ответили из голландского.
И люди начали — почти всерьез — подниматься. Огромный негр-американец безукоризненно точно и красиво запел без слов мелодию советского гимна.
Все стояли. Они вчетвером подняли бордовые бокалы под мелодию, поднадоевшую за всю предшествующую жизнь и тихо скончавшуюся несколько дней назад, пока они паковали чемоданы и не обращали внимания на телевизор… У кого было налито — присоединились, а остальным уже было бы неудобно булькать под траурный тост.
Хохма перестала быть хохмой. Смущенные, они сели.
— Да что вы, ребята, — озираясь, пробормотал Леша, — это ж так. It’s a joke…
— Сергей, а вы споете нам? — неожиданно вступила из другой половины комнаты девушка с тонкими чертами лица, каштановыми волосами и резким голландским акцентом, делавшим из слова «вы» что-то похожее на «фю».
И Сережа взял как бы случайно принесенную гитару, подобрал ослабевшую струну, чуть-чуть разыгрался и запел:
Над твердью голубой
есть город золотой…
Он пел не очень долго и принят был с большим энтузиазмом, особенно голландской частью компании, которой тут же стал объяснять, что на самом деле песня-то не Гребенщикова, а Леши Хвостенко, да Леша уже и сам об этом слабо помнит, а Гребенщиков поет ее не вполне правильно. Голландцы слушали и делали вид, будто знают, кто такие Гребенщиков и Хвостенко.
Вечеринка снова распалась на маленькие группы; опустошались бутылки и темы разговоров, но тут же предлагались новые, и Саша, отяжелев после долгого дня и изрядного количества бордо, вяло переключался с бокала на бокал и с человека на человека, не принимая участия в броуновском движении гостей по тесной квартирке.
Пришлось немного порассуждать о проблемах русского театра, похвастать баррикадной романтикой августа, живописать пустынность московских магазинов и тут же заверить, что возврата к старому «нормальные люди не хотят». Впрочем, это все было скорее на иностранную публику, а Сашу занимала проба вин и закусок, да еще хотелось понаблюдать общую атмосферу вечера и окружавших его людей. С кем-то он уже обменялся телефонами, с кем-то познакомился и кому-то наговорил вдосталь теплых слов на русско-английской смеси, но в целом вечеринка смотрелась безликой массой, вроде опустошенных бутылок на балконе.
Наконец, по всем признакам настал момент уходить. Голландская часть компании уже подрассосалась. Сережа и Нинка с Лешей собрались идти вместе, и надо было к ним присоединяться, но прежде — попрощаться с Яном и Ингрид, которые и привели его сюда. Ингрид была совсем неподалеку, и он привстал по направлению к ней:
— I think it’s time to go.
— Yes. Shall we leave together?[14]
Надо же, подумал Саша, вроде я сам зову ее с собой. Надо было сказать иначе, «I shall go»[15], что ли. Но… почему бы и нет?
— OK.
— We can use my bike if you ride and I’m… achterop.
— Ахтероп?[16]
Ингрид молча похлопала рукой позади себя и покрутила воображаемые педали. Ага, на багажнике. Ладно.
— Let’s go.[17]
Ингрид тоже попрощалась с кем-то, вдвоем они оказались рядом с Яном. Саша кивнул ему:
— Ну, мы пошли.
— Приятно было познакомиться — ответил Ян по-положенному, не удивляясь новому «мы».
— Ну, еще увидимся, — а сам подумал, что навряд ли.
— Конечно. Пока!
И они вышли. Везти на багажнике рослую девушку, сохраняя равновесие, оказалось делом довольно трудным, велосипед все время вилял, а Ингрид смеялась и показывала дорогу. Потом пошло лучше, но Ингрид все равно смеялась, и он уже чувствовал ностальгическую нежность к ней, словно возвращалось что-то из отроческих дачных каникул, когда он тоже катал одну девчонку на багажнике… Только эта была совсем другой, взрослой, яркой, уверенной в себе, и с ней было хорошо.
Так они добрались до ее дома. Что же теперь, неужели тащиться отсюда до общаги, ночью? Да нет, вряд ли затем она его позвала.
— I’m afraid there’re no trams now, — словно угадала Ингрид, — what time does your day begin tomorrow?
— At 10 o’clock we meet in the hotel.
— Why don’t you stay at my place tonight?[18]
А действительно, почему бы и нет?
Ингрид засмеялась и наклонилась к велосипеду, словно это он был ее героем в эту ночь. Оказалось, она приковывала своего скакуна толстой цепью к металлической решетке. А потом она взяла Сашу за руку и повела наверх.
6. Почему бы и нет?
Утром он еле успел в общагу, подхватить свои вещи. Венька злорадно усмехнулся:
— Ну?
— Порядок.
А больше поговорить не успели, срочно погрузились в тот же автобус, теперь уже со значительным количеством багажа. Саша пристроился у окошка, рядом, конечно, плюхнулся Венька, горячо задышал и стал требовать подробностей. Саша сразу дал понять, что их не будет, и стал нарочито громко рассказывать о соленых орешках к пиву, что были так хороши на вечеринке. Венька отстал, и Саша предался созерцанию пейзажа за окном. Каналы чередовались с коровами и коровы — с каналами, мелькали разнообразные постройки, а вдалеке четкая линия горизонта пересекалась только редкими деревьями и подчеркнуто вертикальными шпилями церквей. Скоро это надоело, и Саша провалился в сон — вдогон бурной этой ночи.
Но поспать не удалось — автобус уже через полчаса встал на маленькой площади около маленького отеля и им пришлось спешно выгружаться. Ящики, ругань, вздохи Самого как вогнать спектакли в прокрустово ложе крохотной сцены? И сразу, с колес, репетиция… А Саша все плавал в какой-то мутной тяжести — состояние человека, несколько раз за последние сутки уснувшего, но так толком и не поспавшего. Но кончилась и эта колготня — теперь бегом досыпать в гостиницу. Саша, собственно, до сих пор не знал ни названия гостиницы, ни имени города.
Уснул не сразу, но проспал-таки пару часов. С черного дна его не без усилий вытащил голос звукотехника и рабочего сцены Васи Стреглова, с которым они делили номер на двоих.
— Саня, вставай, посетители.
— Мма… ну…
— Вставай, чудила, клевая телка подвалила.
Что? Э?
Тёлка. Тел-ка. Кле-ва-я.
А… А?!
И он открыл глаза. Над ним склонилась Васина голова, от нее пахло сырокопченой колбасой.
— Подвалила, говорю, тёлка.
Саша приподнялся на локте и оглядел комнату. На прикроватной тумбочке красовался натюрморт: свежезаваренный, еще дымящийся стакан чаю рядом с кружочками той самой колбасы и увядшей полбуханкой бородинского. На Васиной кровати лежали свитер, джинсы и рубашка. Вася, замотанный по бедрам полотенцем, стоял рядом. В дверях была Ингрид.
— Hoi![19]
— Привет… То есть Hallo.
— Have had a nice sleep?
— Yes… very nice.[20]
Саша сел, сбросил одеяло, вспомнил, что сидит в одних трусах, бросился за брюками –
— Sorry…
— Not at all. I saw it already. What about having a walk through the city?
— How did you find me?
— T’was easy. I knew the concert hall you were going to play in, cause someone had told me yesterday, so I came there and they told me about the hotel. T’was easy.
— Oh! What’s the name of the city?
— Don’t you even know? It’s Utrecht. What about a walk, I asked you? We’ve got three hours before the performance starts.[21]
Вася, уже одетый, вышел из ванной:
— Спроси, может, чаю ей?
— Would you like some tea?
— Actually, I’d like some coffee.[22]
— Кофе просит, Вась.
— Нету кофе. Ноу кофе, мадам… то бишь мадмуазель.
— Well, — Ингрид взяла инициативу в свои руки, — we can go down for a nice cup of coffee and then have a walk. OK?
— OK.[23] Вась, мы пойдем, пройдемся.
Саше даже стало стыдно, что он не знал названия города. Утрехт! Слово, знакомое по «Тилю Уленшпигелю» и засевшим в голове обрывкам европейской истории (Утрехтский мир), веяло чем-то таинственным, средневековым и прекрасным.
Уже начинало темнеть, на улицах и мостах зажигались огни и над самой водой — маленькие квадратики окон, чьи искаженные копии колебались на воде. С парапета можно было войти в кафе, но Ингрид предложила сперва подняться на колокольню утрехтского собора, пока совсем не стемнело. В самом соборе оказался музей уличных органов, но он был закрыт. Надо же, оказывается, не только большевики из соборов музеи делали.
Они взбирались по бесконечной каменной лестнице, миновали зал, где некогда была подписана Утрехтская уния и положено начало государственности Нидерландов, и еще выше, и еще круче — к колоколам. Они бродили по узкому пространству камня, опоясывающему колокола, а под ними открывался весь город, окруженный полями и озерами… Город погружался в серую ветреную ночь, где терялись отдельные фигурки людей и автомобилей, зажигал все новые огоньки, цепочки огней, и целые островки света. А они подождали, пока пелена сумрака и дождя не скрыла наполовину их самих, и стали целоваться.
Потом спустились на землю, к каналу, нырнули под мост, в уютную дверь, чтобы отогреться кофе и пирожными. В этом маленьком полупустом и полутемном зале со свечами на столиках, казалось, с минуты на минуту мог появиться сам Тиль со своими гёзами и проститутками, заказать на всех ром и капуччино, немножко побуянить, а потом расплатиться кредитной карточкой и нырнуть через тяжелую дверь обратно, в наружный блеск празднично-рекламных огней, отраженных чернотой канала.
Ингрид пресекла его рыцарскую попытку расплатиться и сказала, что она сегодня — хозяйка, и поэтому платит за все. Тонкая рука нырнула в изящную сумочку, достала бумажник, а из него — пластиковую карточку. Официант унес ее в дебри кафе, вернул вместе с чеком, Ингрид вынула серебристую ручку и наложила на чек незамысловатую роспись. А потом, поколебавшись, бросила на столик пару монет — на чай.
— The service was OK, I think we can tip him[24].
А потом они еще бродили по улицам, нехотя приближаясь к зданию театра. Их обтекали предрождественские потоки обывателей-покупателей, нагруженных цветными пакетами и приятными заботами. С ними заигрывал рекламный Синта-Клаас в бутафорском епископском облачении и с негритенком. Они вклинивались в бесцеремонную стайку американских провинциалов в ковбойских шляпах и японских фотографов-любителей в безупречных костюмах.
Целовались и были счастливы. Хотя едва ли — влюблены. Им просто было очень хорошо друг с другом, хорошо и просто, и вряд ли стоило разрушать это праздничное, нестойкое счастье попыткой заглянуть дальше сегодняшнего вечера.
Договорились встретиться после спектакля в гостинице, и Саша, полуголодный и невыспавшийся, помчался играть Астрова.
— Слушай, после спектакля погуляешь часок, а? — бросил он на ходу Васе, и Вася понял.
Играл он в этот вечер спешно, как самому казалось — плохо, а как сказала ему Лариса Солодова (Соня) — с неожиданным зарядом эротизма по отношению к ней, который от Астрова вроде бы исходить не должен.
И после поклонов, не задерживаясь на очередной маленький выпивон с местными ценителями, бежал в гостиницу по гулким утрехтским проулкам. Даже с пути сбился один раз.
Так началась их полуторанедельная поездка по стране. Театр переезжал из города в город, задерживаясь в каждом не более двух суток, а чаще всего — сутки. Играли, иногда дважды за день, на маленьких сценах, приводивших Самого в священный ужас, но все как-то устраивалось. Принимали очень тепло, и знакомый бородач почти каждый день притаскивал Самому очередную местную газету, а то и две-три, со статейкой о них, где, как правило, умеренные похвалы прикрывали путаницу в фактах — не то чтобы злостное вранье, а так, журналистская приблизительность, когда Самого называли Антоном Павловичем, Чехова — латышским диссидентом, а «Дядю Ваню» путали с солженицынским «Иваном Денисовичем».
А для Саши началась какая-то сумасбродная жизнь: ко всем переездам добавилась Ингрид. Она приезжала, когда сама хотела — забросив на день-два свой университет, отправлялась в Леуварден или Роттердам (а это им как из Москвы в Клин съездить), вытаскивала Сашу побродить по городу, поила за свой счет бесконечным кофе и пивом, а после спектакля они выставляли из гостиничного номера очередного Сашиного соседа. Последним поездом она возвращалась в Амстердам отсыпаться, и никто не мог сказать, захочет ли она приехать завтра в новый город.
Саша вовсе не был сексуальным революционером (как и никто из их актерского круга, несмотря на внешнюю браваду) и не уважал трах ради траха, но с Ингрид… Оба они хорошо друг к другу относились, и вечерний секс в гостиничном номере становился еще одним невинным удовольствием после прогулки, кофе и пива — так почему бы и нет?
Этот тон — «почему бы и нет?» — задан был Ингрид с самого начала их европейского романа, и Саша не находил ни причины, ни желания этот тон переменить. Он понимал, что здесь, на Западе, бои сексуальной революции уже отгремели и отбирать ее завоевания уже никто не собирается. Они с Ингрид падали на очередную гостиничную койку не так, как революционер встает на баррикаде в рост со знаменем и кричит в нацеленные стволы что-то о конституции и избирательном праве, а как буржуа в погожий выходной отправляется к избирательной урне за своим всеобщим, прямым, тайным и равным.
Во всем этом была какая-то несуразность, но… Так было просто и хорошо, и они так дружили с Ингрид. Она знакомила его со страной, уводя его в уголки, до которых он бы сам ни за что бы не добрался, и рассказывала вещи, которых он никогда бы сам не узнал. Не любовь, не интрижка, а еще одно маленькое чудо в чужой стране, чудо с длинными светлыми волосами и длинным носиком — в дополнение к башням и каналам… Такая яркая, теплая, сексуальная, в конце концов. Ну зачем, в самом деле, отказываться от такого? Никому же не мешает.
Но все спуталось, и не оставалось ни отдельных часов и суток, ни разрозненных точек на карте: некое сказочное пространство и время, тридевятое царство, тридесятое государство. Заполненное до отказа всем, чем только можно, до воспаления обостряющее все органы чувств… Он пил, вдыхал и впитывал его кожей, и чувствовал, что оно подходит к концу, по мере того, как приближается западное Рождество.
Последний пункт их гонки находился уже на территории Бельгии, в городе Брюгге. Они должны были сыграть «Дядю Ваню», погрузиться в автобусы, вернуться в Амстердам, переночевать все в той же общаге и утром отправиться в аэропорт. Не оставалось времени на прощание со столицей, да и на прощание с Ингрид тоже — в Брюгге она ехать не собиралась. Весь конец их романа должен был уложиться в краткие ночные часы сочельника, когда все благонравные семьи, сходив в церковь, садятся за праздничный стол… Это было щемяще грустно — уезжать в праздник, не увидев того самого торжества, к которому так обстоятельно и радостно готовилась вся страна, к которому и были подгаданы их гастроли.
Они сидели на узкой кровати гостиничного номера — впервые ему деликатно предоставили одиночный, без соседа — и Ингрид неспешно собирала в охапку свои роскошные волосы, а потом снова распускала их, чтобы начать новую прическу. Она уже сказала ему, что не поедет в Брюгге, и как-то легко отнеслась к надвигавшемуся концу их романа. Сейчас она спокойно оденется и пойдет на вокзал — как всегда, к последнему поезду. Проведет сочельник в Амстердаме, наверно, сходит в кирху, потом переночует с ним, проводит, может быть, до аэропорта, и поедет к своим родителям в маленький городок на севере Голландии порадоваться семейному торжеству.
А пока эти упрямые волосы, ее игрушка, словно важнее всех встреч и расставаний на свете — а может быть, она просто хочет, чтобы он запомнил ее такой, полуодетой, растрепанной, чтобы потом в морозной и вьюжной России каждый извив этих светлых локонов возвращался все отчетливей и мучительней?
Но все было проще — и более по-европейски.
— Sunny,[25] — так переделала она русское «Саня», — you know what I mean… Why don’t you stay for a week more? You can sleep at my place. You know, I’m single.
— Yes, but…[26] — Саше это даже и не приходило в голову.
— But what?
— The ticket has a fixed date.
— Can’t you change it?
— I don’t know… It may cost some money.
— If you need it, you can earn it.
— How?
— Don’t you know, silly boy? There are some ways. You can wash dishes in a restaurant without any residence permit, or something. It’s not like getting a meal ticket, but still a chance. May be you even find a place in a theatre, in due course.[27]
И, оставив в покое так и не убранные волосы, стала одеваться. Они попрощались на этой полусказанной мысли, и она ушла в ночь, а Саша лег, и чувствовал только прохладу постельного белья и приятную тяжесть во всем теле, после которой засыпаешь мгновенно, и спишь глубоким и освежающим сном.
7. Доктор Астров из города Брюгге
Напоследок Европа решила показать ему лучшее из того, что имела. Времени между прибытием и спектаклем было совсем немного, и Саша выскочил в город, чтобы успеть хоть что-нибудь увидеть. Но его бегущий московский шаг гас на булыжной мостовой.
Этот город — средневековье с ситроенами. Стены домов застыли в XVII веке, если не ранее, а жизнь за этими стенами потихоньку шла вперед. Фламандскому кружеву всех фасонов и видов было тесно в магазинчиках, и оно нетерпеливо выплескивалось на узенькие улочки, от которых отличалось лишь относительной недолговечностью материала и строго симметричным строением. А люди здоровались друг с другом на улице, и целовались, сидя на парапете узенького мостика, и пили пиво за столиками на тротуаре.
В одном из маленьких переулков он увидел девочку-подростка; она шла, уткнувшись в пеструю книжку, и что-то внимательно вычерчивала там пальчиком. Наверно, ищет дорогу по путеводителю — и Саша как-то невольно подошел поближе, взглянул на обложку: атлас Европы. Ищет дорогу домой по атласу Европы — или просто купила для школы, а теперь рассматривает? И он неожиданно для себя поздоровался с ней по-голландски:
— Хой!
— Hoi…[28] — несколько растерянно протянула девочка.
— Мах ик?[29] — и протянул руку к атласу. Девочка выпустила книжку из рук, Саша перелистнул несколько страниц и добрался до той, где желтел в необычной косой проекции краешек знакомого громадного пятна, нависавшего над пестрой Европой то ли угрожающим монстром, то ли первобытным океаном, который всегда окружал обжитой мир на картах древности.
— Ик — хир,[30] — и ткнул пальцем в точку уже у обреза карты, словно на краю света, с надписью Moskau.
— Ben je van Mos-kau? — по слогам прочитала девчонка, — Wat leuk![31]
Протянула руку за атласом, тряхнула рыжеватыми хвостиками волос, и пошла себе дальше, бросив ему какое-то непонятное прощание. Атлас теперь беспомощно трепыхал страницами в ее руке — маленькая пестрая книжка, которая ни ей, ни ему не нужна, чтобы добраться до дома.
Дома… В Шереметьево будет, наверно, метель, такси слишком дорого, и автобусов нет… Дома — консервные банки и пачки макарон под маминой кроватью, розовые червонцы с Ильичом, которых слишком мало и в то же время слишком много, потому что в магазине на них все равно ничего не купишь… Дома — бегать от военкомата, делать перед мамой вид, что и в самом деле собрался учиться этой проклятущей математике, а перед Самим — что нет для него ничего святее их подвального театра. А на самом деле что? А ничего. Сугробы и вьюга. Бредешь, бредешь по зимней улице, дошел до теплого угла — вот тебе и хорошо. Остограмился — вообще никаких вопросов не осталось.
А куда дошел, зачем… Зачем весь этот наш русский быт, бессмысленный и беспощадный, а вернее — безбытность. Зачем? Раньше — ради коммунизма, или за свержение советской власти, ну вот свергли мы ее — а дальше? Почему вот они могут тут жить среди кружев и каналов, вот эта вот девчонка, которая ничуть не лучше тысячи таких девчонок в Москве, Сарапуле или деревне Гадюкино. И почему, почему, когда у меня будет свой ребенок — он никогда не будет жить так, как она? Как это несправедливо, если задуматься…
Может быть и правда, остаться на время? Вот и виза еще не закончилась. Вряд ли за просроченный билет возьмут дорого, да может, и вовсе ничего не возьмут. Денег уже, правда, не осталось, но можно будет подработать, Ингрид сказала. Ингрид, Ингрид, как ее бросить, такую… такую яркую и сочную, и она ведь сама предложила ему остаться. А вдруг это всерьез? Вдруг он упустит свое счастье?
Нет, надо, конечно, ехать. Дома мама, приятели, возможный роман с чудной девочкой Дашей из химико-технологического, все свое и родное. Брось дурить, ты, в конце концов, должен — зазвенел в голове чужой металлический голос. Среди актеров незаменимые — это как раз актеры молодые и неизвестные. Заболел Смоктуновский, на гастролях Доронина, запой у Евстигнеева — так для кого же из вечных актеров второго состава не честь, что на сцену выпустят их, дадут проявить и оценить себя по высшей шкале зрительского признания, на фоне звезды? Но Сашу-то никто не будет заменять. Значит, скандал с Самим. Возможно, вплоть до ухода из театра. А если сказать про безумную любовь с местной девушкой? Ну не наркота же, дело понятное и простительное. И придет на Сашино место другой мальчик, не лучше и не хуже, просто еще один из тех, кто бредит сценой, и, наверное, зря. Мальчиков много. Актеров мало.
Должен? А почему? Почему с октябрятских лет и по сей день он должен жить не так, как хочется, а так, как велят — партия, Родина, тусовка, круг приличных людей, этот их несуразный театр, наконец?! Может быть, на самом деле это нас так ловят на эти красивые слова, ловят те, кто беззастенчиво пользуется нами? Мало кому он на самом деле в этой жизни что-то должен, мало кто пострадает от его отсутствия — да что там пострадает, мало кто заметит. Мама поволнуется и успокоится, Даша слишком девочка с обложки, чтобы это было всерьез. Приятели обойдутся. Вот только театр… Если бы знать, что я актер, что это — мое и навсегда, тогда никаких сомнений. Но какой он, в конце концов, актер… Так, клубная самодеятельность, сойдет для сельской местности.
Ведь не в том же дело, что здесь слаще есть и мягче спать. Да, от этого сыра, от этого кофе пьянеешь еще хлеще, чем от водки, не стыдно голодному в том признаться, но другое гнетет и не пускает. Не может он так, по отмеренному. Две недели вольного ветра — и снова пожалуйте головой в парашу. Он вышел тогда на баррикады для того, чтобы быть свободным и решать за себя самого. И сейчас он не может, просто не может подчиниться очередному свистку под названием «Родина зовет» и «есть такое слово „надо“». Ему с детства всегда хотелось ответить «есть такое слово „на хер“», и может быть, сейчас — последний шанс сказать это, хотя бы один раз в жизни.
Саша стоял на горбатом каменном мостике и долго смотрел в мутную воду канала. Под ним проплывали лодки с туристами, так близко, что он мог бы нагнуться и потрогать их головы. Он все смотрел и смотрел в эту воду, словно и не жадился полчаса назад увидеть до спектакля как можно больше, словно и не было в этом городе ничего примечательнее свинцовой водной глади — и вдруг понял, что никуда он отсюда не поедет.
И очнулся, побежал, расталкивая локтями публику, но повезло не заблудиться, успел ко времени явки на спектакль.
Первый, обстоятельно гримируясь в Войницкого, по обыкновению рассказывал непрофессиональному своему окружению профессиональные актерские байки. На сей раз это была история первых оттепельных гастролей московского цирка в Германии. Эту Саша уже слышал. Да и кто ж ее не слышал — раз по десять?
— … и тогда Никулин постучался в номер к сопровождающему, вошел и вежливо спросил: «Скажите, пожалуйста, как будет по-немецки „Я прошу у вас политического убежища?“» И этой гебешной сволочи пришлось всю последнюю ночь караулить в коридоре, пока Никулин сладко спал в своем номере…
— Да, теперь-то хоть всем театром оставайся, — сказал кто-то.
— Ну да, только железный занавес теперь с другой стороны строится. Без парткомов и берлинских стен, но ничуть не менее прочный. Очень тут все нас ждут, аж рыдают.
— Ну, как сказать. Видел, как нас принимают? «Рюсланд — дрюжба навэки!»
— Дык, в зоопарке тоже на слона приятно посмотреть. А к себе в квартиру — слона пустишь?
— Не-ет, все ж таки можно остаться. Только к чему? — резюмировала Нинка, безуспешно пытавшаяся перевоплотиться в «сырую, малоподвижную» (по Чехову) старушку-няню Марину.
— Да ведь в этой стране… — начал было эпизодический Вася-«работник».
— То есть в той.
— Ну да, ведь в той стране никогда ничего…
— А чё ж ты не остаешься?
— А в этих странах — кому мы нужны? Посмотри лучше, парик — нормально?
— Вот тут чуть-чуть. Все, давай. А все-таки — чё не остаешься-то? Не остаёсси-та чё, паря? — начала входить в старушечью роль Нинка.
— А я вот остаюсь, — сказал Саша.
— А от он остаётси… Слушай, Саш, что, правда? — опомнилась она.
— Навсегда? — равнодушно спросил Вася.
— Не думаю, — честно сказал Саша, — останусь, посмотрю.
— Значит, навсегда, — резюмировал Вася и подошел к окну. Он уже был готов и хотел покурить, а по джентльменскому соглашению с некурящими дым следовало пускать в окно. Повозившись с фрамугой, он впустил в тесную гримуборную порцию сырого холодного воздуха, и разговор как-то стих.
— Саня, да ты что, — вступила серьезная и восторженная Лара Солодова (Соня), — ведь у нас, в России, все еще только начинается. Вот сейчас, когда уже без коммуняк, когда свобода…
— Саша, а театр? — не отставала Лариса. — Кто будет играть?
— Незаменимых, как учил товарищ Сталин… — Саша попробовал отшутиться.
Лариса только махнула рукой. Вася смотрел в сумеречную пустоту и счастливо затягивался дорогой иностранной дрянью. Первый, уже в полном гриме, держал в руках свой шелковый галстук и смотрел то ли на Сашу, то ли на некую пространственную точку рядом с ним.
— Саша… Если это серьезно, то подожди. До завтра время еще есть. Посидим вечером, выпьем. Понимаешь… ты ведь актер. Ты правда — актер.
И горячая волна сомнения, благодарности и теплоты поднялась в Саше к самому горлу, почти до слез — и отступила.
— Спасибо, Дмитрий Федорович. Я же так с вами не расстанусь.
Но свет уже начал зажигаться, они с Нинкой вышли на сцену, и вот она уже налила стакан остывшего чаю, подала, неумело играя старческую немощь:
— Кушай, батюшка.
— Что-то не хочется, — ответил он и по роли, и от себя, на их «останься».
Спектакль покатился по гладко наезженной колее, реплики и движения возникали как бы сами собой, и Сашино сознание, как это обычно и бывало, могло отключиться в достаточной мере, чтобы думать о вещах совершенно посторонних — и при этом без риска спутать текст. Эту способность Саша в себе не любил и считал ее признаком дурного актера — он не знал, что такое перевоплощение, он жил на сцене собственными повседневными заботами. Но не удавалось переломить это в себе, начать думать за своего героя, а не за себя. Верно говорила многоюродная тетка.
— Я стал чудаком, нянька… Поглупеть-то я еще не поглупел, Бог милостив, мозги на своем месте, но чувства как-то притупились. (Казалось, за всю эту поездку в нем только и осталось, что обнаженные, переполненные чувства — и лучше бы они и вправду притупились…)
— Ничего я хочу, ничего мне не нужно, никого я не люблю… Вот разве тебя только люблю, — склонился Саша в заботливом поцелуе над Нинкиным затылком. Вот она, вот она, интеллигентщина наша проклятая, вот та литературщина, в которой тонет Россия! А если — хочу, нужно, и даже люблю?! Что, неинтересно тогда?
— Может, ты кушать хочешь? — ответила «старушка» заботой на заботу.
— Нет. В великом посту на третьей неделе…
Ах, как стыдно нам хотеть кушать! Великий пост идет в стране не третью, а тридцать третью неделю, и разговён не предвидится — а мы все делаем вид, что не в том проблема, что нам бы искусство спасти, культуру от разрушения, шестая симфония в блокадном Ленинграде. А кто же кушать не хочет — на самом деле? Только тот, у кого есть что покушать… Вышел из дома выспавшийся Первый-Войницкий, пожаловался, что ест на обед разные кабули и пьет вина (а на самом деле Первый ест консервы и пьет то водку, то пиво, то смешивает) и как это все нездорово (водку с пивом — точно, а вот кабули эти загадочные — ой ли?), и как это плохо, что он спит, ест, пьет и не работает…
А потом Первый с Сашей стали обсуждать достоинства жены профессора, и проблему ее верности — фальшиво это или нет. Господи, когда, где и почему были все эти проблемы? Кто в России, кто в Голландии мучается проблемой супружеской измены, кто придает ей псевдофилософскую глубину? Хочешь — изменяй, не хочешь — нет, ноу проблем.
А потом пришли мужики, все насчет пустоши — и вот только тут ничего не изменилось. Как не давали им пустошь при Чехове, так не дали и при большевиках, не дадут и при демократах, и все они будут ходить за ней к разномастным барам, а пустошь так и будет пустошью, и ничего на ней никогда не вырастет. В России, разумеется, не здесь. Здесь земля отвоевана у моря ценой человеческих жизней, здесь и слов тех нет, которыми так богат наш великий и могучий: пустошь, распутица, хлябь, бездорожье… Здесь не будут ломать голову над мировыми проблемами, не будут, как профессор, писать о реализме и натурализме, а будут жить — реально и натурально. Да, приземленно, да, без Чехова и Мейерхольда, но разве это хуже?
Но спектакль шел своим чередом, вне зависимости от внутренних, неслышных монологов его участников, и доктору Астрову подошло время произносить свою ударную речь о красоте и гибели русских лесов, до которых Саше, в общем-то, дела было не больше, чем гипотетическому доктору Астрову до красот города Брюгге, где ликовал и мучился Саша.
А когда Саша ушел со сцены, в маленькой комнатке, служившей им всем гримуборной, пело радио — кто-то опробовал новокупленный дорогой и сложный магнитофон. Это был мягкий рок не очень высокого пошиба, на окне бурлил кипятильник в стакане, и Саша успел с комфортом выпить чая с московскими сушками, прежде чем пойти изображать голодного и пьяного Астрова.
Словно нарочно все сошлось наоборот — он играл не то, что чувствовал, и говорил прямо противоположное тому, что думал. Наверное, так было не в первый раз, но впервые все это резало так остро — может быть потому, что играли они в этом чудном средневековом городе, где страдания российских мелкопоместных интеллигентов выглядели не менее экзотическими, чем повесть о вожде с острова Мумбу-Юмбу и его кокосовой пальме.
В антракте Сашу перехватил Сам.
— Да ты что, Смирнов, гребанулся?
— Что вы имеете в виду? — задал Саша неизбежный риторический вопрос, а сердце упало куда-то в желудок: ну вот, началось. Теперь не скоро кончится.
— А ты не понимаешь? Да ты думаешь, раз не Янаи — то раздолбаи, все уже можно, уже никто и ничего? Ты остаешься, а нас всех — вот, и вот, и вот (энергичные жесты Самого однозначно пояснили, в какой именно позиции ему предстоит подвергнуться принудительному половому акту).
— Да ну что вы, Юлий Иванович. Время не то.
— Ага, а ты у нас Ростропович! Только кто за тебя играть будет?
— Вы говорили, у Андрюши неплохо получается.
— Молод еще Андрюша. Ладно, ты мне лапшу-то не вешай, давай так — иди играй, не буду тебя дергать, но после спектакля подойдешь и скажешь: ты с нами или как.
— У меня тут, Юлий Иванович, девушка. И не пацан я, в конце концов! Могу хоть что-то решить за себя?
— Можешь? Ну… — но Сам только махнул рукой и добавил: — Всё, на сцену.
Второй акт прошел уже на каком-то автопилоте, Саша внутренне проигрывал разные линии поведения с Самим, но ничего не получалось. Но отступить он уже тоже после всего этого не мог: мол, сдуру брякнул, простите мальчишку. Хотя, пожалуй, и впрямь сдуру…
А после спектакля они действительно сидели и выпивали — прямо в автобусе, по дороге в Амстердам, на заднем сиденье, чтобы побольше народу уместилось. С одного боку Саше жарко сопел в ухо Венька, то ли жалея о решении друга, то ли завидуя его смелости; с другого — дружески обнимал нехмелеющий Первый, подливая новые и новые порции «Московской». Он все говорил и говорил хорошие слова и вроде бы отговаривал — но не сказал ничего главного, решающего, ради чего стоило бы забыть обо всей ерунде и спокойно вернуться в Москву, тянуть лямку несуразного и любимого театра. Не то, чтобы Саша ждал этих слов — но после неожиданной похвалы, полученной им сегодня от Первого, что-то такое могло прозвучать.
Может, Первый только слегка поуговаривал, а вот уговорить, заставить сделать выбор — не считал себя вправе? А может, Саша просто играл сегодня бездарно, и все сказанное до начала спектакля относилось лишь к неожиданному и спонтанному блеску его первых амстердамских спектаклей? Блик, который неожиданно вспыхнул и пропал, мимолетный и несамостоятельный, как отсвет фонарных огней на черной воде каналов? Говорят, нет такого графомана, что не написал бы одного гениального стихотворения… Вот и Саша, наверно — бездарный актер двух-трех гениальных спектаклей.
Но уже Саша опьянел — и то ли плакал, то ли дремал на плече трезвого Первого, все больше убеждая себя в собственной никчемности, а разговор замирал, скатываясь в дружелюбные междометия, пока автобус отмахивал километры автострады на пути к Амстердаму.
Уже в номере гостиницы к нему пришел Сам. Лично. Саше стало просто страшно, что он, вдребезги пьяный, сейчас скажет или сделает что-то такое, после чего Сам на него и посмотреть не захочет.
— Что решил, Смирнов?
— Я… Юлий… эээ… Ива…
— Что решил, я спрашиваю? Ваньку-то не валяй, не на сцене!
Саша не валял ваньку. К горлу внезапно подступила мучительная и неодолимая тошнота, и он боялся, что сейчас вместе со словами его вырвет, и позор будет гораздо страшнее дилеммы «оставаться или ехать».
— Эээ… щас… прос-тите.
Саша шагнул в сторону туалета. Один его знакомый хиппарь про такое говорил: помолиться фарфоровому богу. Точно, ничего нет сейчас важнее, чем склониться в поклоне над унитазом.
— Я щас.
Когда Саша вышел, Самого уже в номере не было. Он не вынес того простого факта, что сперва собирались ответить унитазу, а потом уже ему. Что ж, может, так оно и лучше.
Саша проснулся рано, сам, к собственному удивлению, раздетый и в кровати, хотя конца вечера не помнил совершенно. Он успел покидать свои вещи в сумку, чтобы вовремя выйти к подъезду общаги. Стоял серенький ветреный денек, солнце уже поднялось, а актеры рассыпались по узкому тротуару в ожидании автобуса. У Саши неожиданно ломило голову с похмелья, все актерские лица слились в какую-то серую кашу, которая то с безразличной симпатией, то с радушными напутствиями хлопала его по плечу и чмокала в щечку. Сам его в упор не замечал.
Откуда-то взялось «на посошок — счастливо оставаться», и от водки на голодный желудок прояснела похмельная голова, расхотелось спать. Он помогал распихивать пополневшую поклажу в тесное багажное подполье автобуса, чувствуя себя все еще нужным человеком, и пожал холодно протянутую руку Самого, на лбу которого огнем горело: «предатель!», — и еще раз обнялся и поцеловался с кем-то, и просил кому-то что-то в Москве передать, ведь написать он не успел даже маме — ну, короче, увидимся, бывай…
А вот и Венька, и он тоже почему-то не едет с ними — ах ну да, он же вчера уже рассказывал, только с пьяных глаз Саша ничего не запомнил — сторговал-таки машину, и даже не жигуль, а настоящую ауди, хоть и сильно подержанную, и теперь своим ходом домой, через Германию и Польшу. Транзитную немецкую визу заранее раздобыл, жучила.
— Ну все… бывай, автовладелец. Поаккуратней там, бандюки на дорогах.
— И ты бывай, первый любовник.
И вот автобус плавно затворил дверь и тронулся, а Саша поволок по тротуару сумку, не особенно сознавая, куда идет…
Потом он сидел в каком-то парке на скамейке, кутаясь в воротник кожаной куртки и разглядывая толстых самоуверенных уток на берегу канала. Одна из них поднялась и неуклюже полетела, вызвав легкую рябь на свинцовой незамерзшей воде — и словно огненной вспышкой промелькнул в похмельном мозгу полубред-полувидение: огромный белый самолет с нарисованным на хвосте красным флагом разворачивается и замирает перед взлеткой, наращивает вой турбин и медленно начинает разгон, постепенно пропадая в мутной дали — и все-таки успевает оторваться от бетонной тверди и подобрать из-под крыльев шасси, прежде, чем окончательно растаять в сером мареве низких дождевых облаков.
Саша посмотрел на часы: точно. Минута в минуту. Он встал и, рывком стряхнув с плеча маленькую веточку, вдруг понял, в какой части города находится и как пройти отсюда к Ингрид.
8. Королевство, в котором Рождество
И на полпути к Ингрид он понял, что здесь сегодня Рождество. Значит, торопиться некуда. Ингрид уехала к родителям и вернется только поздним вечером. Впервые за суматошные эти дни ему было некуда спешить и нечего делать.
Улицы были пустее и тише обычного. Утро еще не кончилось, и из серокаменной массы протестантского собора доносилось пение под орган. Саша толкнул тяжелую незапертую дверь и вступил в пространство чужого праздника.
Служба была по-французски, но храм явно не походил на католический — не было ни икон, ни статуй. Теплый золотисто-серый оттенок голых стен отсвечивал, но не согревал огромное воздушное пространство. На полупустых скамейках сидели нарядные люди, в основном дамы лет под 50, но были и семьи. Посредине церкви сидел маленький симфонический оркестр, человек семь музыкантов, а над ними возвышался на кафедре галантный проповедник. Он что-то вдохновенно говорил, но Саша знал по-французски только отдельные слова, и понять смысла не мог. Он тихонечко пристроился с краю последней скамейки, и едва он сел, как проповедник пригласил всех помолиться. Люди встали, раскрыли красные книжечки и запели под изысканное органное сопровождение.
Саша чувствовал себя дураком — надо же, не сообразил взять такую книжечку при входе, где лежала целая стопка, и теперь не только не знает, что они поют, но и выглядит глупо с полураскрытым ртом и недоуменным взором. Но молитва скоро закончилась, люди сели, и необременительная служба плавно потекла к естественному концу. Немного поиграл оркестр, еще немного помолились, а потом проповедник спустился с кафедры, поднялись со своих мест прихожане, все стали посреди церкви в круг. Проповедник настойчиво, но ненавязчиво обращался и к тем немногим, кто остался сидеть на местах, и Саша спешно поднялся и встал в этот же круг — было как-то даже невежливо отказать этим людям, так тепло приглашавшим его к себе.
Он наконец-то понял, к чему призывает проповедник. Начиналось причастие. На большом серебряном блюде были разложены куски хлеба вроде лаваша. Появилась на свет чаша, тоже большая и серебряная, а потом еще отдельный поднос с маленькими чарками. Проповедник отведал хлеба и отпил из чаши, а потом пустил их по кругу. На полшага позади чаши шла, словно официантка на приеме, женщина с подносом, и каждый мог по желанию причаститься из общей чаши или воспользоваться (несомненно, в гигиенических целях) маленькой отдельной чарочкой. Саша отпил из большой — было бы опять как-то невежливо показывать им, что он брезгует.
И почти сразу после причастия, прочитав еще пару коротеньких молитв, публика начала расходиться — так же молча и самостоятельно, как и сидели в церкви. Сашу — все так же за компанию — вынесло на улицу, но, в отличие от остальных, его не ждало тихое семейное торжество. И его Рождество должно было наступить еще только через две недели, парадоксальным образом после Нового года.
Пожалуй, Саша считал себя верующим. Он был с детства крещен, несколько раз причащался на Пасху — сперва заодно с другом, потом и сам — по какому-то смутному, но острому внутреннему толчку. Это было действительно хорошо и важно, особенно когда что-то не так, когда мерзко и одиноко. Настораживала только требовательность и навязчивость всех, кто стоял на божественной лестнице хоть на одну ступеньку выше него самого: без исповеди к причастию нельзя, три дня поститься и каноны вычитать, с полуночи ничего не есть, не пить, не курить, а вот еще правило, и еще, и еще… Он как-то удачно избегал всех этих строгостей, а когда в последнюю Пасху на общей исповеди его чуть было не завернули и пустили причащаться только «ради праздника», он несколько обиделся и решил больше к тому священнику ни за какой мелочью не подходить, не то что на исповедь. Впрочем, с тех пор и у других бывать не доводилось.
И тут эта странная служба… Их открытость и вместе с тем безразличие: прочитал он каноны или нет, постился ли он (а он не то что не постился, а уже и опохмелился с утра), да и вообще кто он такой, крещеный ли. И все же не было того радостного успокоения: ну вот, теперь причастился, вроде как долг какой-то вернул Богу, до следующей Пасхи в расчете. Как на чужую вечеринку заглянул. И как турист, Саша на выходе посмотрел название церкви: Waalse kerk[32]. Церковь вальсов, что ли? Вальсы тут танцуют? Может, и танцуют, если вспомнить, что в утрехтском соборе устроили музей уличных органов. А что, и оркестрик тот, может быть, по вечерам играет, люди танцевать приходят.
Ехидно усмехнувшись собственной, скорее всего неправильной, догадке, Саша пошел бродить по праздничным и неприветливым улицам. Московское Рождество бывало совсем иным. Пьяным, морозным и веселым, с неизменными тусовками и стихами Бродского про кораблик, и тоже зачастую с заходом в церковь, где тесно от шуб и старушечьих серых платков, где все по-другому.
Весь этот город, который Саша прежде торопился проглотить, не разжевывая, лежал теперь перед ним — без спешки, но и без смысла. Редкие прохожие торопились по праздничным делам, моросил мелкий холодный дождь и не было даже привычного голландского ветра. Картинки не задерживались в сознании — как на школьной экскурсии по ленинским местам. Надо же — здесь, в этом королевстве сегодня Рождество.
Он пошел к дому Ингрид и долго ждал ее у подъезда. Она появилась, когда начало темнеть, а Саша уже проголодался и продрог до такой степени, что все казалось безразличным. Ингрид бросила дежурное приветствие — ничего необычного, день как день. И открыла дверь.
Взобрались на третий ее этаж по лестнице, где мебель крупнее табуретки не пройдет (и человеку с сумкой сложно), про себя отметил: так вот на что у них крюки под самой крышей! Мебель на веревке через окна втаскивают.
Теперь было время осмотреть ее квартиру — не то, что в первый раз. Одна комната метров на 16 и совсем тесная кухонька. В одном из углов комнаты стояла низкая широкая кровать, покрытая уютным клетчатым пледом, а в другом — обшарпанный письменный стол с горделивым новеньким «Макинтошем». Над столом книжные полки, а на них десятка два обложек — и судя по всему, больше книг в этой квартире не было. Вдоль противоположной стены, от угла до угла, стояли в ряд шкафчик, тумбочка с маленьким телевизором, другая тумбочка побольше и на ней — какие-то нераспакованные свертки. Елки нигде не было. В комнате было довольно прохладно даже по европейским меркам, и Саша никак не мог согреться.
Ингрид упорхнула на кухню. Почти сразу же появилась снова со столовыми приборами в руках, сгребла на дальний край письменного стола тетради и бумаги и стала расставлять посуду. Саша вызвался помочь, и она передала ему из холодильника пару бутылок пива «Хролш» (а Саше бы как раз чего погорячее!) и еще откуда-то — пачку картофельных чипсов.
Ужин состоял из полуфабрикатов — довольно вкусных и возможно, дорогих, но Саша как-то с самого начала настроился на рождественскую романтику с милыми домашними радостями и шампанским, и все было не то чтобы плохо, но как-то совсем не так. Впрочем, ел он с огромным аппетитом (ведь впервые за весь день), наконец, осоловел, согрелся, по эскимосскому методу — плотной едой.
Для Ингрид у него уже был приготовлен подарок — сережки из московского сувенирного магазина, под малахит. Совсем недорого, но очень изящно. После ужина он извлек их из сумки, попросил Ингрид закрыть глаза и вложил в раскрытую ладонь. Отмерив положенное удивление и радость, она достала из маленькой тумбочки изящно перевязанный сверток и отдала Саше. Это был кожаный бумажник. Мда-а… В его-то положении — не то изящная издевка, не то стимул к действию: чем заполнишь?
А потом они вместе убирали со стола, Ингрид смотрела телевизор, а Саша в благодарность за угощение мыл посуду. Ему уже мучительно хотелось спать, и он мог только мечтать о том моменте, когда кончится этот несуразный рождественский вечер. Он подумал, что сегодня, наверно, им надо быть с Ингрид вместе, но он не находил в себе ни сил, ни желания. Когда он вернулся в комнату, Ингрид уже стелила постель. Он неуверенно подошел к ней сзади — и с облегчением услышал:
— Not tonight, Sunny. I can’t.[33]
9. Совершенно новый год
Дни Рождественских каникул были наполнены какой-то хрустальной прозрачностью и пустотой. Они с Ингрид отсыпались после бурных гастролей и вставали несколько дней подряд почему-то точно в половине двенадцатого. В Сашином мозгу свербела мысль «надо бы пойти что-нибудь сделать», но делать совершенно ничего не хотелось, да и нечего было. Представительство Аэрофлота наверняка было закрыто на выходных, да и телефонной книге не было под рукой. Так что узнать о новой дате вылета было невозможно. Саша понимал, что нельзя постоянно жить на деньги Ингрид, а свои уже кончились. Но и для поиска «левого» заработка лучше было подождать конца Рождественских каникул и возобновления деловой активности.
Впрочем, если признаться самому себе, просто не хотелось разрушать безмятежность существования, и все дела сами как-то выстраивались в запутанную цепочку причин и следствий, конец которой находился вне пределов Сашиных способностей. Надо позвонить в Москву маме, да пожалуй, и Даше, но для этого нужны деньги, а значит — сперва надо устроиться на работу. Надо что-то решить и со сроком отъезда, но для этого надо сначала побывать в конторе Аэрофлота, и, похоже, опять-таки устроиться на работу, ведь наверняка придется что-то доплачивать. Надо, что ли, пойти в университетский театр и справиться насчет места, но для этого надо разобраться со всем остальным.
Выходило — прежде конца каникул заботиться не о чем и незачем. Время было наполнено невольной ленью, и от этого особенно долгими казались ранние вечера. Казалось невероятным, что еще несколько дней назад все это было — вновь, взахлеб, до дрожи… Куда все это делось? Неужели только скорый отлет раскрашивал во все цвета радуги эти сумрачные голландские города и этот технически безупречный секс с Ингрид? Теперь приходилось буквально совершать над собой усилие, чтобы заполнить время маленькими развлечениями, вроде прогулки по вечернему парку или похода в кафе по соседству. Однажды они пошли в гости к Яну. Отменная вежливость не позволила ему удивиться, что Саша остался — или же он подозревал о чем-то подобном с самого начала.
Плавное течение полусветской беседы на хорошем английском буквально усыпило Сашу, да и его языковые способности явно отставали от уровня Яна и Ингрид. Саша подумал даже, что им совершенно не стоило отказываться от родного языка в его пользу — он бы мог подремать и под голландскую беседу. Но неожиданно всплыла новая тема. Ингрид упомянула Сашино желание найти работу, и Ян наконец-то перешел к осязаемым материям. Он пообещал справиться у своих знакомых по русской церкви — и так неожиданно выяснилось, что тут, в Амстердаме, есть русская православная церковь, и Ян в нее ходит и даже поет в хоре. Заодно последовало приглашение на православное Рождество, которое тут, как и в России, справляли по юлианскому календарю, седьмого января.
А потом наступил Новый год.
Они решили встречать его по-амстердамски — на улицах, среди фейерверков. Уже за несколько дней до праздника то тут, то там над городским небом взлетали с ревом и свистом миниатюрные модели баллистических ракет — амстердамцы опробовали припасенные фейерверки. Апогей, конечно, должен был наступить в новогоднюю полночь в центре города.
Они оказались там около половины двенадцатого. На улицах уже собирался народ, который явно не хотел встречать праздник за накрытым столом. Впрочем, душевно принять кое-кто успел заранее. Слегка возбужденные кучки народа перемещались по улицам и поглядывали на часы, а наиболее домовитые заняли позиции наизготовку у дверей собственного дома, с фейерверками в положении «ключ на старт».
Саша с Ингрид переминались с ноги на ногу на одном из мостиков. И вдруг — с угрожающим шелестом прямо рядом с ними ушла в небо первая ракета, рассыпалась наверху снопом желтых брызг, и чей-то истошный бас пророкотал под ухом: «Gelukkig Niew Jaar!»[34]
И началось. Саша ожидал ярких впечатлений, но что это будет так, он и представить себе не мог. Вверх и вдоль улиц, с одной стороны на другую и из окон вниз летели со свистом, воем и грохотом петарды, ракеты, шары, и то, чему нет и не может быть названия — и все это вертелось, шипело и взрывалось на лету. Саша оглох, а потом утянул беспечную Ингрид к стенке, в более безопасное место, и не зря — в центре мостовой рвалось гораздо чаще, чем у стен. На противоположной стороне улицы уже вовсю горели обе шины чьего-то велосипеда, а через некоторое время показалась машина скорой помощи, с трудом продиравшаяся через толпу.
На двадцатой минуте нового года Сталинградская битва потихоньку превратилась в обычное мирное веселье. Тогда они влились в хаотичную праздничную толпу и отправились бродить по улицам. Выпивки было куда меньше, чем бывает по такому случаю в России, да и народ был не так раскрепощен, общего веселья не наблюдалось. Гуляющая толпа все-таки состояла из отдельных личностей и групп личностей, каждая из которых свято уважала свободу других. Только поздравляли друг друга иногда…
Вернулись домой уже под утро и сразу же завалились спать.
На следующий день Сашу ждало небольшое объяснение с Ингрид. Нормальная русская девчонка, наверное, постаралась бы сделать ребенка или завести парня на стороне, стала бы динамить или завлекать — смотря по уму и характеру. А может, закатила бы истерику с заламыванием рук и бесконечной цепочкой риторических вопросов: «Ты что, меня разлюбил? У тебя другая? Это правда?» — и пришлось бы давать дежурные успокоительные ответы, думая про себя, что и любви-то особо никакой не было, так, перепихнулись. И Саша не начинал такого разговора именно потому, что терпеть не мог всего этого бабства.
Но не то — с гордой и прекрасной Ингрид, правнучкой воинственных батавов и вольнолюбивых гёзов, хладнокровных моряков и прижимистых торговцев, трудолюбивых фермеров и добропорядочных их жен. Ясным днем 1 января 1992 года она хорошо поставленным голосом произнесла длинный и изящный монолог, из которого Саша понял далеко не все выражения, но хватило и понятого.
Собственно, почва была уже давно готова. Размеренное буржуазное супружество им по определению не грозило, настоящих girlfriend’a и boyfriend’a из них как-то не получилось, а о вялом совковом «сожительстве» и думать не хотелось.
Она важно сообщила ему, что в отношениях наступил кризис, и она будет рада, если они останутся добрыми друзьями. Конечно, пусть он поживет у нее. Интересно, не справлялся ли он о переносе даты вылета?
Все было просто, понятно и намного хуже простого русского бабства. Ингрид начала этот роман, она же указала на его завершение, заблаговременно известив партнера и позаботившись о взаимоприемлемой форме расставания. Наконец, она сделала кофе и подала его к столу вместе с печеньем и бутербродами, попросив его помыть посуду после завтрака.
Без нервов и особенных чувств, с твердым осознанием ситуации и глубоким уважением к личности друг друга — так завершался их роман. А собственно, не так ли и начинался? Да и был ли он? Что он знал об этой девчонке, что он в ней видел? Это не утрехтская ли башня притворилась ее тонким носиком, не амстердамские ли каналы сделались ее серыми глазами? Может быть, она — это просто Дева Голландия, ловящая прохожих странников? Русалка, напоившая его зельем под видом кофе, утянувшая его на дно морское? Надо же, какая нелепость взбредет порой в голову…
Саша пережил этот праздничный день в терзаниях и безделье, не понимая ровным счетом ничего. А на следующий пошел в контору Аэрофлота. В пространном и хорошо обставленном помещении конторы сидело всего два человека, и оба отказались говорить с ним по-русски, хотя из задней комнаты явственно доносилась русская речь. Пришлось переходить на английский, и Саша даже не сразу понял, что ему объясняют. А когда понял, то вздрогнул. Его билет был куплен по самой дешевой таксе, не предусматривающей переноса даты. Теперь он просто-напросто пропал. Чтобы купить новый, надо заплатить немногим меньше тысячи гульденов. Были еще какие-то скидки, но они мало что значили в подобной ситуации. Ловушка захлопнулась.
Он вежливо простился с видом человека, который просто осведомился о покупке, но пока не захватил с собой наличных, и вышел на улицу. Некоторое время он бессмысленно бродил по улицам в центральной части города, разглядывая витрины и вывески и пытаясь сосредоточиться хоть на какой-то мысли. После вчерашнего разговора делиться этой новостью с Ингрид было нельзя, тем более нельзя было просить ее о помощи. Надо немедленно наниматься на работу, и работать по 15 часов в сутки, где только достанется, собрать деньги на билет. И даже больше: заявиться с ворохом подарков для родных и друзей, с навороченными прибамбасами для себя! Пусть знают, что его поступок был не мальчишеской блажью, а приятным европейским вояжем.
Но начинать поиски работы надо было прямо сейчас, а это пугало. Как он помнил, для несчастливых обладателей социалистических паспортов оставалось мытье посуды в ресторанах. Собственно, так и описывалась жизнь европейских бедняков в старых журналах «Крокодил». Оставалось только выбрать дверь, в которую он войдет и предложит свои услуги. Но одна казалась слишком роскошной, другая пугала непрозрачностью, а третья просто смотрелась неприветливо.
Впрочем, что уж тут привередничать! Саша толкнул первую попавшуюся дверь и оказался в немноголюдном уютном кафе. В маске уверенного дружелюбия Саша приблизился к официанту. Тот учтиво сказал что-то по-голландски и показал на пустующий столик. Саша сглотнул слюну и спросил:
— Good afternoon. Do you need a worker?
— What do we need, sir?
— A worker. To wash dishes or something. A job.
— You can talk to the manager, chap,[35] — и официант указал на дверь в углу, за которой скрывался менеджер.
Еще раз сглотнув, Саша вошел внутрь и оказался в тесном коридорчике. За приоткрытой дверью слушались звуки оживленной канцелярской деятельности. Саша постучал, дождался ответа и вошел. В крохотной комнатке за столом сидел пожилой господин в мягком темно-синем свитере.
— Good afternoon, sir, — начал Саша, — do you need a worker?
— Are you a foreigner?
— Yes, sir.
— Where from?
— Russia.
— You’ve got a residence permit of course?
— No, sir.
— Sorry. Try to get your papers first. Bye.[36]
Аудиенция была окончена.
В этот день ему предстояло несколько подобных диалогов. Иногда они оканчивались уже на уровне официанта, иногда он добирался до менеджера, но либо не было вакансий, либо проявлялся слишком оживленный интерес к его праву работать в границах Европейского сообщества.
За ужином он сказал Ингрид как можно безразличнее (иногда все-таки здорово быть актером!):
— I think I leave you in a week. Thanks for hospitality.
— Oh! Do you fly home?
— Yea, that’s what I plan.
— Well. T’was a marvelous time, wasn’t it?
— Sure.[37]
Разговор прошел чисто по-европейски — или по-голливудски? Саша оказался талантливым учеником.
Их было много, этих ресторанчиков и кафе. Потом Саша стал пробовать еще и магазины. В одном супермаркете его даже отвели в подсобку и дали перетаскать какие-то нетяжелые коробки, а потом сунули десятку, но о постоянной работе разговаривать не захотели. Впрочем, обнадеживало уже и это. Десятка за час — неплохо! И все же…
Может, не такое у него выражении лица? Слишком просительное и неуверенное? Ну, Саня, ты же актер, давай, надень другую маску! Хороший парень с временными затруднениями рассмотрит деловые предложения…
Наконец, примерно в двадцатом кафе, ему повезло. Хозяином был пожилой индонезиец с тонким молочно-шоколадным лицом и короткими седыми волосами. Он сразу отвел его на мойку и, даже не задавая бессмысленных вопросов о происхождении и официальном статусе, объяснил, что через день надо приходить в восемь вечера и мыть посуду примерно до половины двенадцатого. В кафе в это время наплыв, штатный посудомой не успевает. Плата — 15 гульденов за вечер, плюс покормят.
Это было совсем негусто — буквально на прожитие, и все. При самом идеальном раскладе — чуть больше двух сотен в месяц. Но это было начало. Да и работа хоть не особо приятная, но и не слишком утомительная. И ужин бесплатный на дороге не валяется.
Гораздо проще решилось с жильем. Он наведался в родную общагу, и койка, которая стоила 15 гульденов за ночь, была ему предоставлена без денег — за ежеутреннюю мойку посуды в буфете. Таким образом, середина дня оставалась свободной для поисков настоящей работы.
Новый, 1992, год оказывался не таким уж и плохим.
Близилось расставание с Ингрид. После того новогоднего разговора Саша старался общаться с ней как можно меньше, и Ингрид была этим удивлена. Доброй дружбы не получалось. Пару раз она пыталась вернуться к разговору об их отношениях, и, кажется, пыталась по-своему извиниться, даже делала ему комплименты — мол, русские гораздо сексуальнее голландцев и вообще они богатыри из сказочной страны. Но Саша вежливо отталкивал эту тему. Теперь-то что? Разве он матрешка сувенирная?
Он мог бы простить измену, но у него просто не укладывалось в голове, как можно было с одинаковым равнодушием затащить его в койку и по прошествии некоторого времени из нее выпихнуть. Он уже успел убедить себя, что это Ингрид заставила его остаться и, следовательно — что это она сломала ему и театральную карьеру, и личную жизнь, да еще и с билетом раскрутила. Бедная Ингрид, вероятно, и представить не могла, как беззвучно материл ее Саша после очередной неудачи с трудоустройством. Все-таки надсадные российские нотки в их расставании прозвучали — не с ее, так с его стороны.
Так что днем 7-го января он покинул ее квартиру с набитой сумкой и сказал, что провожать до аэропорта не надо. Ингрид, в свою очередь, предпочла не сообщать, что уже звонила в справочную и узнала, что в этот день рейсов на Москву не было, да и в любом случае провожать его она бы не стала.
Саша перебрался в общагу. За всеми хлопотами он чуть было не забыл, что Ян пригласил его на празднование русского Рождества. Он был бы не прочь зайти в церковь, но мытье посуды в буфете явно не оставляло такой возможности. Зато днем должен был состояться праздник в некоем «приходском доме» в центре города.
Он довольно легко нашел этот дом, расположенной на живописной улице, идущей вдоль канала. Пришел он чуть позже назначенного времени, но, по русскому обычаю, народ еще только начал собираться. Оказалось, на входе продают билеты, и пришлось собирать по карманам последнюю десятку. Если бы не перспектива работы, он бы просто плюнул и ушел.
«Приходским домом» оказались несколько комнат на первом этаже старинного роскошного здания. Обставлены они были довольно просто, а по стенам были развешаны картины на какие-то религиозно-фольклорные темы и репродукции икон. Посреди главной комнаты стояла со вкусом украшенная елка.
В углу были накрыты столы, и это оказалось как нельзя кстати, да и потеря десятки оправдалась. Впрочем, к столам пока не приглашали. Помещение постепенно наполнялось самыми разнообразными людьми, говорившими вперемешку на русском и голландском, а местами и на английском. Довольно обычное сочетание для такого рода тусовок, отметил про себя Саша. Среди этих людей оказался и Ян, да и еще несколько знакомых по прежним вечеринкам парней и девушек, но поговорить было просто невозможно — вокруг Яна сразу закипела не слишком бурная, но суетливая деятельность по окончательному приведению столов в праздничный вид, и было не до разговоров. Саша сам оказался затянут в водоворот праздничной суеты и резал на кухне французские батоны, еле удерживаясь, чтобы не начать их поедать прямо на месте.
Но хлопоты стали потихоньку стихать, и Саша успел перебраться в комнату как раз к началу торжественной части. К елке вышел старенький священник, прочитал какие-то молитвы на славянском и на голландском, в ответ ему неожиданно громко грянул хор, стоявший тут же, сбоку от елки. Священник был похож на Деда Мороза, и стало быть, на долю регента, молодой женщины, выпадала роль Снегурочки. Саша даже явственно представил себе, как сейчас этот священник взмахнет чем-нибудь подобающим и скажет: «Ну-ка, елочка, зажгись!» А потом они с регентом будут загадывать загадки и раздавать подарки.
Собственно, почти так оно и получилось. После молитвы хор стал петь рождественские колядки. Пели здорово, хотя, пожалуй, слишком громко. Звучало что-то вроде бы и русское, может, даже из дореволюционного, а вроде бы и неживое.
Ликуй ныне, и радуйся, земле, Сын Божий народився!Или это по-украински? Похоже.
Придут к тебе, земле, три праздники в гости. Ото перший праздник Святого Василя…Но едва они кончили петь, как к регенту полез некий выходец с Украины и стал горячо доказывать, что текст они переврали, а потом полез в ноты и стал править прямо там. Но робкие возражения регента, что это из сборника начала века, и что это мог быть какой-то особенный диалект украинского языка, поборник самостийности страшно обиделся и стал кричать, что украинский — не диалект, а самостоятельный язык, и что вот московский говор — это точно испорченный украинский диалект.
Словом, праздник начался.
Скоро позвали и к фуршетным столам, но вот до деловых разговоров дело как-то не доходило. И как раз в то время, когда фуршетиться было уже особенно нечем, Ян вдруг сам подошел к Саше и представил невзрачного паренька, их ровесника.
— Знакомьтесь: Дмитрий, Александр.
Они молча пожали друг другу руки. Дмитрий, видимо, был в курсе ситуации.
— Живешь где? — сходу спросил он.
— Тут, недалеко, в хостеле.
— Нормально?
— Нормально.
— С работой, сам знаешь, тяжело. Пока нет ничего на горизонте. А будет — скажу Ване, о’кей? С ним-то контачишь?
— Бывает.
— Ну и ладно. Сам с Москвы?
— Точно.
— А я с Днепропетровска. Ну, как там столица?
— Да так себе. Жрать нечего.
— Ну так. У нас тоже не густо было, как я уехал.
— А ты давно тут?
— Полгода. Ты прикинь, — рассмеялся парень, — уезжал из УССР. А теперь вон незаможня, зато самостийна та незалежня. Видал, тут хохол выдрючивался, насчет песенок ихних?
— Ви-идел.
— Ладно. Короче, держим связь.
И парень уже явно собрался отчаливать. Результат Сашу явно не обнадежил, и он постарался продолжить разговор:
— Слушай, а что за работа-то может быть?
— Посмотрим. Пока неясно, — и парень резко отошел в сторону.
Да, небогато для начала. Десятку, главное, жалко. Впрочем, поел хорошо, да и с выпивкой, уже неплохо… И тут к Саше подошел другой паренек, совсем молоденький, с простоватым деревенским лицом.
— Вовкой меня зовут, — представился он. — Чё, нелегал?
— Чего? — удивился Саша.
— Нелегально тут?
— Почему, виза пока не кончилась.
— Ну дык кончится ж. Да не бось, я ж не потому чтоб чего такого. Остался тут, что ли?
— Пока остался, там посмотрим.
— Бабки нужны, конечно?
— Ясное дело.
— Хошь с нами? Я тут на Кальвере саксофоню, а Педро на стреме.
— На чем — саксофонишь? — разговор начинал пугать Сашу своей блатной терминологией.
— На Калверстрат, — пояснил Вовка. — Ну, улица такая, где магазины. Ты врубайся. Полиция гоняет — нельзя, значит. Уже один раз чуть не заставили пенальти, ну, штраф нехилый платить. Еле выкрутился.
Саша с трудом начал понимать, что это, кажется, музыкант. И что саксофоном он называет не воровской инструмент, а музыкальный — и возможно даже, действительно саксофон.
— Педро — это бразилейро тут один, — видя, что собеседника заинтересовал разговор, терпеливо объяснял Вовка. — Я тогда предложил ему, чтоб сторожил. Но надо ж с двух сторон, ты прикинь. Вот ты за квартал справа, он за квартал слева, я лабаю. Ментура подвалит — вы по шустрому ко мне, я в переулок. А бросают хорошо, они тут на это не жадные. Тебе четверть сбора, если согласен.
До Саши, наконец, дошло, что именно ему предлагают:
— А сбор большой?
— Получается нормально, не дрейфь. Если хорошо посидеть — до сотни в день забашлить можно. Слушай, тебя как зовут-то?
— Саней.
— Ну вот и скорефанились.
Трудовой договор был заключен. Скоро они втроем с Педро, который тут же поджидал своего работодателя, покинули вечеринку, оживленно обсуждая планы дальнейшего обогащения и щедрость охочих до уличной музыки аборигенов.
10. Серенада Солнечной долины
Так сходу и решилась проблема заработка. Вовка (он предпочитал, чтобы его называли именно так) играл на саксофоне на Калверстрат. Саша и Педро должны были сторожить по обеим сторонам улицы, чтобы вовремя предупредить о приближении полиции.
Вовка действительно играл здорово, ничего не скажешь. Больше всего на свете он любил смутные и сумбурные импровизации, но скоро понял, что прохожие от них не в восторге. Тогда он подобрал проходной репертуар — битловскую «Yesterday», «La vie en rose» от Пиаф, несколько вещей Армстронга, но больше всего грела его собственное сердце «Серенада Солнечной долины» Глена Миллера. Именно так он и обозначал эти мелодии по имени исполнителей, похоже, не задумываясь всерьез о существовании композиторов.
Серенада разносилась по предвечерней торгово-туристической улице под пронзительным сырым ветром и нескончаемым дождем, словно Вовка был шаманом и хотел бесконечными повторами милой джазовой мелодии превратить этот промозглый вымокший город в солнечную долину где-нибудь в Калифорнии. И люди действительно щедро кидали ему деньги, в основном от кварче[38] до ряйксдалдера[39], но за серенаду обычно платили щедрее. Видимо, сами признавали в нем шамана. А может быть, просто много было среди них американцев. Часто в дневной выручке попадалось несколько американских, бельгийских или немецких монет, и тогда Вовка матерно ругал этих остолопов, которые думают, что на их родную валюту водку во всем мире продают. Такие монеты Саша сначала оставлял себе для коллекции, а потом стал их просто выбрасывать. Не нести же в обменный пункт десять центов, в самом деле!
Заработок действительно выходил очень приличным. В час набегало гульденов двадцать пять, а то и тридцать, Саше, стало быть — семь с полтиной. За мытье посуды могли дать и побольше, но там была тяжелая работа на весь вечер, а тут — гуляешь себе часок по улице, глазеешь, пока Вовка старается. И никаких хлопот. А кроме того, никто не командует, когда начать работу, когда кончить. Мало денег — можно побольше подудеть, как выражался Вовка.
Командовал, конечно, Вовка. На ветру и холоде играть было нелегко, поэтому больше трех часов в день они там оставались редко, да и то с одним-двумя перерывами. В перерыв шли в соседнее кафе и пили капуччино, согреваясь и подпитываясь кофеином для дальнейшей жизни. Конечно, ничего, кроме кофе, не заказывали. Раз как-то дернули на пробу по глинтвейну, но вышло дорого и несерьезно, поэтому повторять не стали. Лучше уж бутылку джина взять в магазине. Не водка, конечно, но все же…
Вовка с Педро жили тоже в каком-то притоне вроде Сашиной общаги, и тоже устроились за мелкую работу, не за деньги. Покупали продукты в самом дешевом магазине Aldi — в центре, на Вяйзелстрат. Правда, далековато и от Калвера, и от места жительства, но у Вовки был раздолбанный велосипед, поэтому возили все на нем. Ели в основном два раза в день, или в одной из «общаг», или просто где-то в парке. За ужином обычно пили, но не до полусмерти, как водится, а только допьяна.
И жизнь получалась необычайно экономной. Саша даже попробовал подсчитать, сколько потребуется времени, чтобы насобирать необходимую на обратный билет и подарки тысячу, и выходило, что пару месяцев, не больше. А с визой как-нибудь обойдется, не он первый, не он последний, в конце концов. Саша позвонил из уличного автомата в Москву, маме и постарался, насколько хватило мелочи в кармане, ее успокоить. Кажется, удалось.
Очень скоро Саша отказался от мытья посуды в ресторане — это было и тяжело, и поздно, и при таком легком доходе все-таки необязательно. В общаге, конечно, приходилось заворачивать часов в 12 дня в кухню и перемывать небольшую горку посуды, но когда Саша привык, на это стало уходить совсем немного времени.
Через неделю их совместного труда Саша с удивлением узнал, что бразильца зовут Жозе, а вовсе не Педро. Но Вовка, а следом за ним и Саша, звал его Педро, и тот откликался. Как не вспомнить русскому человеку «дона Педро из Бразилии, где в лесах много диких обезьян».
Впрочем, странное имя очень скоро получило совсем другое объяснение. С самого начала было хорошо заметно, насколько бразилец с ними мягок и обходителен. Вовка над ним периодически подшучивал, иногда довольно грубо, но тому, похоже, это нравилось. Можно было только удивляться таким отношениям, пока бразилец как-то в припадке пьяной сентиментальности не ущипнул Сашу за мягкое место и не стал нашептывать по-португальски непонятные нежности. Словом, Педро оказался педерастом.
Саша слегка встряхнул его за грудки, ляпнул что-то вроде «I’m not of your company»[40], и тот отстал. За Вовкой он все же слегка ухаживал, а тот отмахивался от него с шутливым гневом, если что-то такое замечал. Саша оставлял этот странный альянс без комментариев. Что ж тут поделаешь — Педро и Педро со всех сторон, будь ты хоть трижды Жозе.
А если всерьез, Педро явно не стремился перетянуть их с Вовкой в свой колхоз — он жил какой-то своей особенной жизнью, периодически пропадал, иногда в самый неподходящий момент, и никогда ничего не объяснял. Вероятно, вся эта затея с Вовкиным саксофоном была нужна ему лишь как средство заработать на пропитание, пока он будет наслаждаться своей жизнью амстердамского гея.
Вот он-то их и подвел. Тот день выдался, против обыкновения, ясным и солнечным, так что «дудеть» было одно удовольствие, да и туристов на улице было побольше. Как обычно, Саша пошел на следующий перекресток ближе к центру, а Педро — в противоположную сторону. Через час они должны вернуться к Вовке, а тот скомандует — или пошли кофе пить, или на сегодня уже хватит, или «еще малек подудим». Саша лениво прогуливался в полной готовности распознать в праздной толпе иссиня-черную полицейскую форму и побежать предупредить Вовку, что надо смываться.
Когда через час он вернулся на условленное место, полиция была уже там. Здоровенный детина выламывал саксофон из Вовкиных рук, а тот не хотел отдавать, но и бежать без инструмента тоже явно не собирался. Рядом другой детина-полицейский меланхолично наблюдал схватку, не вмешиваясь в нее.
Саша замер. Встревать было бесполезно. Оставалось разыгрывать роль случайного прохожего, глазеющего на колоритную сценку.
Наконец, первый полицейский здорово крутанул инструмент, и новенький саксофон, блеснув в воздухе, звонко грохнулся о мостовую и распался на составные части. Вовка ахнул и нагнулся за «дудкой», как он ее называл — нагнулись и оба полицейских, но за обломки уже не было никакой схватки. Что-то опять звякнуло, и еще раз, второй детина что-то сказал первому, они повернулись и медленно пошли прочь.
Вовка сидел на корточках и плакал. Саша подошел, сел рядом и почему-то стал нежно гладить металическую трубку со свежей вмятиной на боку.
— Вот суки, а, — выдохнул с жалобным всхлипом Вовка, — нарочно ведь, мурло ментовское, дудку сломал. Пенальти, говорит, заплатишь, а пока арестую инструмент. А ломать-то, блин, на хрена? Ты ж видел, он потом нарочно об стенку захреначил, и каблуком гребанул — конкретно помял, теперь не починишь.
— Может, случайно он?
— Хренайно! А где этот мудрила гребаный, бразилейро недоделанный? Я ему, помидору гнойному, хлебальничек-то начищу.
Вовка рванулся в ту сторону, где должен был стоять Педро. Саша — следом, чтобы предотвратить разборки прямо тут, на улице — тогда ведь могут действительно в полицию загрести.
Педро на улице не было. Вовка вмазал кулаком по ближайшей стене — как только руку до крови не расшиб! — и поплелся обратно, подбирать обломки своего саксофона, которые уже звенели под ногами какого-то парня с лицом дегенерата. Вовка подскочил к парню, но драться не стал, наклонился к обломкам — и вдруг сам пнул ногой самую большую трубу, и она покатилась метра на три, пугая прохожих. Чинить там было уже нечего.
Вовка переживал потерю саксофона как гибель близкого человека. Никогда больше об этом не заговаривал и не выказывал никаких эмоций, но весь как-то сник и стал равнодушен.
В тот день они вдвоем с Сашей довольно долго бродили по улицам, потом вернулись в Вовкину общагу. Вошли в его комнату и оказалось, что там уже сидит недоумевающий Педро.
— Where were you?[41] — спросил он раздраженно.
— We?! Where you were, fucking… fucking… — Вовка со своим скудным английским никак не мог подобрать что-нибудь подходящее, — fucking fool![42]
Прежде чем он успел повторить свое главное слово три раза, Педро был уже на ногах и кричал что-то по-португальски. Вовка перешел на родимый русский мат — так они и стояли, вцепившись друг в друга взглядом (но без рук) и ругаясь — каждый на непонятном противнику языке.
— Э, да что с ним говорить. Чурбан, не понимает, — неожиданно резюмировал Вовка. И, утратив всякий интерес к бразильцу, повернулся и лег на свою койку, как был в одежде, задрав ноги в ботинках на спинку кровати.
Саша попробовал объяснить бразильцу, что произошло и в чем его вина. Тот на самом деле очень огорчился, виновато подошел к Вовке и стал говорить что-то очень хорошее и ласковое, опять по-португальски. Вовка мягко и даже почти ласково ответил ему:
— Уйди, педрила.
Несколько дней они продолжали жить по-прежнему — встречались днем на Кальвере, прогуливались, даже пробовали собирать деньги так, без саксофона. На сей раз Саша пробовал петь, а Вовка с Педро стояли на шухере (с Педро была проведена разъяснительная работа), но без инструмента выходило как-то не так, и денег кидали мало. Если делить на троих, то слезы горькие. В другой день Педро попробовал жонглировать апельсинами, но получалось еще хуже. Словом, бродячего цирка из них не вышло.
А потом Педро пропал насовсем. Видимо, прибился к другой, более удачливой компании, или нашел какое-то занятие в своем гомосексуальном мире. Однажды вечером просто сказал «Bye-bye»[43], взял свою сумку (а больше вещей у него не было) и ушел, как это уже бывало не раз. Но к утру не вернулся. Больше они его не видели.
Деньги тем временем таяли. Саша попробовал было сунуться в ресторан, где раньше мыл посуду, но его место оказалось занято. Зашел еще в несколько кафе, но безуспешно. Работы не было.
А через пару дней Вовку выставили из «общаги», сказав, что его услуги на кухне больше не нужны. Саша решил попробовать поселить его у себя — и вышло еще хуже. Менеджер, дама сильно за пятьдесят, почему-то очень рассердилась, и сказала, что вообще-то место стоит пятнадцать гульденов в сутки, и что если Саша моет посуду в буфете, так это полчаса работы, и она может засчитать это только за пятерку. Остается десять, которые надо платить деньгами. Так что не только не удалось пристроить Вовку, но и сам Саша вылетал из «общаги», потому что платить десятку в день явно не мог. Взять ее было негде.
Так в начале февраля 1992 года оба они оказались без работы, без жилья, без билета домой и без законных оснований находиться в Нидерландах.
11. Бездомный, безвизовый, безработный
Все последующее слилось в Сашиной памяти в один тягучий горький комок. Это было как с бредовым сном, когда пытаешься вспомнить его наутро — все события перемешались и беспорядочно всплывают в памяти, и уже невозможно понять, какое предшествовало какому и была ли между ними логическая связь.
Кончалась зима и начиналась весна. Постоянной работы не было, хотя отчаянно голодать тоже не приходилось: ели практически каждый день, часто даже и пили. Впрочем, при такой жизни выпить было порой важнее, чем наесться: помогало не думать и не чувствовать. В особо трудный день Вовка даже продал совсем задешево свой велосипед.
Сперва казалось, что существует немало способов подкормиться на халяву. То в магазине давали бесплатно конфетки на пробу, то прямо на улице — льготные жетончики для какого-нибудь кафе или забегаловки. Правда, магазинные рекламные порции были ничтожными, а льготный жетон вступал в силу только после того, как какие-то деньги уже потрачены: например, если купишь кусок пиццы, то второй дадут за жетон, без денег. Так что никакой халявы, одна видимость.
Гораздо лучше — попасть куда-нибудь, где угощают. Вовка с Сашей стали аккуратнейшим образом посещать русскую церковь по воскресеньям. Они приходили минут за пятнадцать до окончания службы и, поцеловав должным образом крест, отправлялись в комнатку на втором этаже, где подавали отличный кофе с печеньем. Голода это не утоляло, но давало удивительное ощущение домашнего покоя. Вообще-то в центре стола стояла плетеная корзиночка для денег за кофе, но платить было совершенно не обязательно, вот они и не платили. Кроме того, воскресное кофепитие было неплохим шансом познакомиться с представителями русской общины и разжиться работой. К сожалению, шанс этот ни разу не воплощался ни во что реальное.
Вовка попробовал подъехать с задушевным разговором к священнику и пожаловаться на их бедственное положение. Священник выслушал его очень внимательно, посоветовал возвращаться в Россию и предложил исповедаться и причаститься. От него, однако, ждали совершенно других предложений, и разговор не получился.
Они перехватывали десятки и четвертные на разгрузке машин, на черной работе в кафе и супермаркетах, один раз даже на стройке. Саша попробовал сунуться в студенческий театр. Его узнали, очень ему обрадовались, позвали на очередную вечеринку. Когда он попробовал заикнуться о работе, лицо голландского режиссера перекосилось и на нем недвусмысленно отразилось недоумение: как можно было испортить приятную светскую беседу столь неделикатной просьбой? Саше даже неловко стало. На вечеринку они, правда, с Вовкой пошли и хоть наелись досыта и вкусно.
Вовка сходил в кабак, где доводилось как-то играть. Его были готовы взять хоть завтра, но с инструментом. При этом кредит на покупку новой «дудки» выделить отказались. Впрочем, и их можно понять — это приличные деньги. А что как Вовка запьет, смотается или попадется полиции? Кто отрабатывать будет? Вот с инструментом — приходи, потолкуем. Эх, не знали они, что за парень Вовка на самом деле! Такой — не пропьет. Для него ж саксофон — как невеста.
Существовал, правда, еще один выход. В центре, желательно в «красном квартале»[44], подъезжать по вечерам к иностранцам приличного вида: «Sir, can you give me a guilder to eat something? Do you know what does it mean when you have nothing to eat?»[45] Иностранцы сами-то небось не голодали, потому и порой бывают и жалостливыми. Но больно уж мерзок был вид у тех, кто промышлял таким образом. Таким рецептом они с Вовкой ни разу не воспользовались — и очень этим гордились.
С жильем было совсем сложно. Сначала пробовали ночевать на вокзале, но там было очень шумно и практически невозможно выспаться. Спать можно было в парках или на улице, но было еще холодно, а никаких спальников, естественно, не было и в помине. Кроме того, на улице могла проверить документы полиция — и что тогда? Даже толком неясно. То ли с позором депортируют, перекрыв навсегда въездную визу в приличные страны, то ли, хуже того, в тюрьму посадят. Впрочем, в тюрьму — это вряд ли. Но в любом случае попадаться не хотелось. Ведь если уж ввязались, то надо вынырнуть из этого дерьма победителями, верно? Заработать на билет и обязательно — на подарки родне и друзьям. Даже и на такси от Шереметьева. И вернуться с приятной европейской прогулки, а не из вонючей каталажки.
Ночевали какое-то время в слипине — бесплатной ночлежке, совсем уж убогом заведении. Очень нескоро Саша сообразил, что это от английского «sleep-in». Но оставаться постоянно там, конечно, было нельзя.
А потом случайно встретили на улице мужика лет сорока, с косичкой и здоровой серьгой в левом ухе. Они, собственно направлялись в слипин, но что-то заблудились, да и были оба под градусом. Короче, спросили у него дорогу. Он сказал, что никакого слипина не знает, но если им негде ночевать, то нехай идут к нему на чердак. Там встанет пара раскладушек, правда, холодно.
И с последних чисел марта они стали ночевать на чердаке маленького домика где-то довольно далеко от центра, в районе Слотерварт. Мужик был явно с прибабахом, но очень полезный. С ними совершенно не общался, денег не требовал, и похоже было, что так он расплачивается с судьбой за собственную хипповскую юность, когда сам ночевал неизвестно где.
На чердаке было очень холодно — он совершенно не отапливался. Но хозяин (кажется, его звали Кес) дал им два драных пуховых одеяла. Так и спали под ними, почти не раздеваясь. В общем, было неплохо. Только далеко от центра, где кипела жизнь и было больше всего шансов перехватить денег или кормежку на халяву. Приходилось добираться на трамваях, причем выбирая такие, где нет кондуктора и можно влезть без билета. А потом внимательно смотреть на каждой остановке, не сядет ли контролер в темно-синей форме.
А тем временем началась ранняя голландская весна. Свинцово-бледное низкое небо постепенно голубело и поднималось над оттаявшей землей, а клумбы на перекрестках меняли свой цветочный наряд чуть не каждую неделю. Пронзительный ветер становился теплее и приносил с собой что-то особенное, весеннее, тот тонкий необъяснимый аромат, с которого начинается приход весны в любом городе. Пуховые одеяла на чердаке стали излишеством, а погода превратила неизбежные хождения по улице в почти приятные прогулки. Так что жизнь не то чтобы наладилась, но все-таки была терпимой.
Саша с Вовкой даже стали меньше пить и начали ссориться — верная примета, что стадия совместного выживания пройдена и жизнь возвращается в нормальное русло.
Купили себе по велосипеду в знакомом всему Амстердаму месте около университета. Двадцать пять гульденов, стандартная такса — наркоман продает ворованную машину ради дозы. Знаешь, что ворованная вещь, а куда денешься? Без велосипеда в этом городе и вправду никак. Санин железный друг был совсем обшарпанным и заезженным, но в хорошем состоянии. Былая роскошь все еще работала: ручные тормоза, трехскоростная коробка передач прямо на руле и фара с генератором от переднего колеса.
Возвратилась и тяга к путешествиям — Саня ездил по окраинам города, накручивая километры просто для удовольствия — или для знакомства с Амстердамом? Однажды, не слишком погожим весенним днем, побродив пальцем по карте, он выбрал маршрут вдоль утрехтского шоссе. Оздоровительная такая прогулочка — променад перед ужином. Может быть, даже удастся добраться и до Утрехта — города, где так славно начались их сумасшедшие поездки с Ингрид.
Когда он миновал мост через Амстель, а с ним — и границу города, время уже приближалось к сумеркам и накрапывал мелкий дождик, но Саша был полон радостной энергией. Голова была свежа и свободна от забот, велосипед легко катил по фитспаду — велосипедной дорожке рядом с шоссе.
Легко и приятно было вспоминать Россию и прошлую жизнь — тем более, что теперь он был от этой жизни далек и относительно независим. И пока он проезжал мимо травянистых лугов с канальчиками и коровами, воспоминания о родной квартире на проспекте Мира приходили словно от противоположного — настолько все было теперь другим.
Здесь само слово «дом» означает нечто совсем другое, чем в России, даже в почтовом адресе. Поначалу Сашу удивляло, как на коротенькой улочке номера домов могут перевалить за несколько десятков. А потом понял: то, что у них в почтовом адресе считается домом, на российский счет составляет подъезд или даже полподъезда. Для них дом — это твое жилье, даже если это всего лишь маленькая квартирка.
Когда ты идешь по этому городу, он тебе в самый раз, как домашние тапочки. Вот магазинчик, вот кафе, вот мостик через канал с утками, а вот садик с лавочками. Вот сквер и детская площадка — всё то, что давно уже изгнано из московского центра. А что такое девять десятых Москвы? Огромные, несоразмерные человеку пространства, застроенные коробками зданий и расчерченные широченными линиями проспектов. Нырнул в метро, вынырнул, протрясся четверть часа в автобусе или прошлепал по грязи среди однотипных зданий, убогих киосков — и негде тебе остановиться. Говорят, Брежневу очень понравился фильм «Ирония судьбы, или с легким паром» — и немудрено. Это же история счастливого совка, для которого что одна квартира, что другая, что та женщина, что эта.
Или вот эта их привычка — оставлять окна без занавесок. Зачем, казалось бы? Наверное, не станешь жить в свинарнике, раз с улицы люди смотрят. Вот у нас, как известно, сор из избы не выносят… Вот и лежит он веками, этот сор-то.
Мы привыкли к поворотам рек и социальным революциям — а может быть, не о них надо бы трубить по телеку и в газетах, а о том, как еще один человек перестал быть совком…
Сумерки уже сгустились, и он примкнул вращающуюся головку аккумулятора к ребристой поверхности передней шины. Крутить педали стало чуть труднее, но лампочка еле теплилась: шина была старая, ребрышки стерлись и головка генератора скользила. Сбоку блистало огнями утрехтское шоссе. Луга и коровы потонули в плотной тьме за занавеской измороси, которая становилась все гуще и холодней. Саше стало зябко и он понял, что насквозь промок, невзирая на любимую кожаную куртку, и что до Утрехта он так и не доберется.
Он остановился и обернулся. На плоской равнине были видны цепочки и островки далеких огней. Ясно было, что он заехал слишком далеко. Саша развернул велосипед и помчался обратно, изо всей силы налегая на педали, чтобы поскорее вырваться из пелены сумерек и сырости. Конечно, он не рассчитал. Надо было поворачивать еще полчаса назад. А теперь когда еще доберешься домой…
Домой! Как меняется смысл этого слова вместе с нашими передвижениями в пространстве! По мере удаления от собственного дома мы переносим это название на гостиничный номер, армейскую казарму, туристскую палатку в лесу. А теперь — на чердак чудаковатого дядьки в чужом городе и чужой стране. Так что не домой — скажем так: к сухости, теплу и свету.
Цепочки далеких огней разматывались навстречу, но каждая оказывалась все еще не тем, за что он ее принимал — началом Амстердама. Саша крутил и крутил педали все сосредоточенней, уже с каким-то остервенением, ничего не замечая и ни о чем не думая. Он настолько погрузился в монотонную механическую работу, что с недоуменным ужасом дернулся в сторону, когда из-за его спины вынырнул и просвистел вперед какой-то мотоциклист. Он почему-то был уверен, что едет по этой дорожке совершенно один.
До чердака Саша добрался уже глубоким вечером. Он улегся на кровать, подложив под гудящие ноги свою одежду, чтобы было повыше. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы его никто не трогал; только Вовка сбегал вниз к Кесу и принес чашку крепчайшего кофе с ромом. Какие же они все-таки замечательные ребята, подумал Саша, прежде чем провалиться в сон.
12. День Ее Высочества
Конец апреля выдался солнечным и теплым. Тридцатого, как сказал им Кес, намечалось большое празднество — «Конингиннедах», королевский день. Накануне вечером Кес поднялся к ним на чердак, стал рыться в картонных коробках, что стояли в углу, вытаскивая самые экзотические вещички: невысокий ржавый канделябр, рокерский плакат в сломанной деревянной рамке, потертый кожаный портфель…
Потом спустился вниз, вернулся с негустой охапкой ношеной одежды. Критически оглядел худощавые фигуры русских нелегалов и собственное пивное пузико, поцокал языком, приложил свитер к Вовке, потом к Сане, что-то спросил. Ребята покачали головами — нет, не по размеру. Да и тепло уже. Тогда Кес аккуратно сложил одежду — а она оказалась выстиранной и поглаженной — в стопочку поближе к отобранным вещам, похлопал ребят по спине и разразился длинной речью, из которой они отчетливо поняли только «морхен», «конингеннедах» и «феркоп»[46].
Утром он позвал их с собой на улицу — не на свою, правда, на соседнюю, где движение пооживленнее. Выбрал место, прямо на тротуаре постелил какую-то драную скатерку, разложил на ней странные свои товары. Впрочем… странные ли? Слева и справа на том же тротуаре пристраивались соседи, с таким же нехитрым скарбом. Неужто это всерьез? А вот и совсем интересно: пара молодых парней вытащила ящик пива, и второй, и ведерко со льдом… Так, пиво на лед, грамотно. Сверху — ценник. И недорого, кстати, куда дешевле, чем в пивной. Так это… они собираются его продавать?! А как же полиция? Законы? То Вовке с его дудкой деньги собирать не дают, а то на виду у всех — пивом торговать, да еще и всякой дребеденью непонятной, и ничего?
А пива, кстати, неплохо бы сейчас. Солнце шпарит совсем по-летнему.
Кес вовсю перекидывался радостными фразами с соседями, подходил к ним посмотреть, и они подходили, вертели в руках ржавый канделябр и рокерский плакат. А вот… неужели? Дама в нарядном плаще протянула Кесу три желтых пятигульденовых кругляша, и канделябр перекочевал к ней в объемистую сумку. Довольный Кес сунул деньги в кошелек, подмигнул ребятам — мол, поняли, как надо? — и, уже развернувшись уходить, бросил на прощание:
— It’s all yours, chums. Whatever sells out, keep the cash. If the junk doesn’t sell, just leave it here. G’luck, see ya![47]
— Данк е вел! — только и сумели поблагодарить его Саша с Вовкой, прямо в унисон.
Тут Вовку осенило. Из бесчисленных своих карманов он вытащил пригоршню советских монет, положил с краю скатерки. Монеты взял проходивший господин, видать, нумизмат, причем за «лысого» — рубль с Лениным — отвалил целый ряйксдалдер. Ну, хоть по пиву взяли, освежились.
Но на этом — всё. Вовка еще чего-то пыжился, потрясал рокерским плакатом, а Саша молчаливо созерцал камни на мостовой.
— Ну что ты, как неживой, медитируешь! — внезапно взорвался Вовка. — Давай, что ли, слепи им пару фраз по-ихнему, мол, хут, зер хут[48]! Можешь ведь, Санёк!
— Хорош с дерьма пенки снимать! — Сашин ответ прозвучал резко, неожиданно для него самого.
— Ну, а ты с чего хотел бы? Жрать-то надо? — вдруг посерьезнел Вовка.
— Надо. Но не по-собачьи! — сам не понимая, что на него нашло, отрубил Саня. — Всё, хватит, — он резко встал на ноги.
— Что, в полицию сдаваться? Чтоб депортировали? Да отстань ты, чудогрёб, не до тебя — отмахнулся Вовка от потенциального клиента, который как раз спросил цену шерстяного свитера.
— Да хоть бы и это, — вдруг устало выдохнул Саня. — Понимаешь, не могу так больше. Или найду вот сегодня, вот сейчас, что-нибудь настоящее — или в полицию. Пусть депортируют. Жили в Союзе, ничего. Проживем.
— Эх, паря, пожалеешь. Эээ, минхер, минхер, — бросился Вовка за уходящим клиентом, — Хут, чистая шерсть, понимаешь, тин хилдер. Ну, фор ю ахт, хуткоп, фяйф[49]! Да постой же ты, рожа твоя нерусская! — бросал Вовка в напряженную высокую спину, которая не реагировала ни одним мускулом, ни одной складкой синей ветровки.
Саша нагнал Вовку:
— Знаешь, Володя… брось это, а?
— Как ты меня назвал? — опешил тот, до сих пор он был только Вовкой. Потом криво улыбнулся и упрямо мотнул головой: — Не, Санёк. Я еще побарахтаюсь. Пену повзбиваю. А ты иди, раз решил…
— Ладно. Бывай. Лихом не поминай.
— И ты… будь.
И они крепко обнялись, а потом Саша развернулся и потихоньку побрел прочь, сам пока не зная, куда.
Столица нидерландского королевства явно страдала от острого приступа шизофрении: одна ее половина дурела от безделья, другая — ударилась в лихорадочную торговлю. По улицам шли кучки молодежи: парни в двурогих викинговских шлемах, и на каждом роге — по пивной банке, и девчонок в драных джинсовых шортах, так аппетитно просвечивавших голыми попками, что ужасно хотелось ущипнуть. И тут же на тротуарах — такие же парни и девчонки, а с ними и люди постарше, а с ними и разномастные иностранцы — черные, желтые, медно-бронзовые, а порой и явные братья по соцлагерю — торговали всем, чем только можно и чем, казалось бы, и вовсе нельзя торговать. Вот, две матроны оживленно ощупывают переходящее знамя победителя соцсоревнования — хороший материал, Ленин красиво вышит… На коврик в сортир, что ли?
— Привет!
Русское приветствие посреди голландского празднества прозвучало как выстрел. Саша ошалело завертел головой. Он добрел почти до Фондел-парка, куда вливались толпы отдыхающих.
— Привет, говорю! Не узнал?
— Ян! Ваня! — перед ним стоял ван дер Велд, — это… Ваня… с праздником тебя.
— Меня-то зачем? Сегодня — день рождения принцессы Юлианы.
— Тогда при чем тут королева?
— Сейчас все объясню. Слушай, пошли в парк, у меня тут в двух шагах свидание назначено? А я по дороге расскажу.
Пока они потихоньку плыли в густой толпе к входной калитке, Ян начал хорошо поставленным лекторским голосом:
— Изначально этот день — день рождения нашей бывшей королевы Юлианы.
— А разве она умерла?
— Жива еще. Когда она поняла, что слишком состарилась, то ушла в отставку и передала трон своей дочери, Беатрикс. Это нынешняя королева. А Юлиана теперь опять называется принцесса. Но поскольку все привыкли праздновать именно 30 апреля, и это очень удобный день, то решили королевин день не перемещать. Обычно сегодня бывает хорошая погода, как теперь.
— Слушай, а почему базар такой повсюду?
— Сегодня не может работать ни один магазин. Но каждый человек имеет право без налогов, пошлин и лицензий торговать в любом месте любым разрешенным товаром. Мы — нация торговцев, так? Вот и торгуем раз в год всем подряд.
— Опаньки! — вздрогнул Саша, когда толпа притиснула их к забору.
— Кстати, и в Москве сейчас точно так. Каждый день, — заметил Ян.
— То есть?
— Торгуют, чем попало, где попало. Ельцин объявил свободу торговли, и теперь весь центр Москвы выглядит именно так. Теперь Россия — самая свободная в мире страна. Серьезно. Я как раз две недели назад вернулся. Впрочем, — помолчав, добавил Ян, — там кажется, люди этим живут. А у нас — весело избавляются от старых… шмакодявок, так это называется?
— Шмоток. Или — барахла. Шмакодявки — это… маленькие люди, — поправил его Саша.
— Ты, кстати, посмотри, что тебе нужно, обычно находишь много ценных… шмоток для дома.
— Да что мне нужно… — вдруг вырвалось у Саши. — У меня и дома-то никакого нет.
— Серьезно? — В голосе Яна неожиданно прозвучала теплота, словно не был Саша для него — чужим нелегалом, незаконно попирающим голландскую землю. Или правда — не был?
— Серьезно, Ваня.
— А с работой?
— Аналогично.
— Так, — вытянутое нордическое лицо прорезали деловые морщинки, — надо будет подумать. Жаль, что ты не сказал раньше… Знаешь что? Я позвоню сегодня вечером Дмитрию с Украины, помнишь? У него напарник, вроде, уезжает. Они убирают богатые квартиры. Нелегально, конечно. Может, он возьмет тебя. А ночевать — есть где?
— Нет.
— Хорошо. Сегодня можешь переночевать у меня, а потом будет ясно.
— Ваня… спасибо! — справляясь с комком в горле, выдохнул Саша. Да разве можно было ожидать, что все разрешится так быстро и просто?!
— Еще не за что. Вечером пойдем ко мне, и я ему буду звонить. Я еще не знаю. Ооо! — обрадовался Ян, заметив какую-то компанию, которая как раз ожидала его по другую сторону от калитки. — Hoi!
И они пошли в переполненный парк сидеть на покрывале, постеленном поверх загаженного донельзя газона, есть бутерброды, пить пиво, сок и лимонад. Потом гуляли по улицам. Потом Ян терпеливо ждал, пока Саша рьяно рылся в грудах тряпья по гульдену-два за вещь и вылавливал оттуда небросовые еще свитера, курточки, платьица — в Москве такие в комиссионках висят, и недешево! А потом и вовсе наткнулся на бесплатную кучу: бери кто что хочет — нераспродано.
Потом какие-то непривычно услужливые женщины усадили их за белый пластмассовый столик и напоили ароматнейшим кофе с куском пирога — всего за гульден. А потом они пошли к Яну домой, в маленькую студенческую квартирку на одной из центральных улиц города.
За окном уже смеркалось. Горы старого барахла рассыпались по тротуару, и коммунальные рабочие аккуратно заталкивали их в бездонные чрева медленно ехавших по обеим сторонам дороги мусорных машин. Апофеоз общества потребления.
А Сашино ухо улавливало в телефонной трубке сухой и острый выговор Димы, словно музыку небесных сфер:
— Значит так. Работать начинаем послезавтра, а ко мне переберешься дня через два, когда Толян съедет. За хавиру договорились по стольнику в месяц, стол общий, готовка по очереди. Работа почасовая — когда десятка в час, когда только семь с полтиной. Первые две недели я тебя учу, что и как, ты за это отдаешь треть заработка мне. Потом — сам. По-голландски-то спрекать — мал-мала смогешь?
— Dat kan[50], — с чистым амстердамским выговором ответил Саша.
На чужую и богатую землю опускался вечер — чуть-чуть попозже, чем на московские улицы, переулки и бульвары, где тоже торговали чем попало. И где ходили люди, которых он прежде любил.
13. Все нормально!
Саша захлопнул дверь и аккуратно повернул ключ. Димка ушел еще раньше, по своим собственным делам. Хорошо все-таки с таким соседом — все четко, по-деловому, в душу не лезет. Голландец прямо, а не славянин.
За спиной — рюкзак с инструментом, в руке — связка ключей от двери и от велосипеда. Ведь, пожалуй, мог бы быть и от машины ключик, только прав нелегалу не получить, да и ездить на подержанных нашенских жигулях ему особенно некуда. А по городу на велосипеде даже и быстрее.
Вниз по лестнице, к велосипедному подвальчику. Открыть одним ключом дверь, найти своего железного друга, другим ключом разблокировать ему заднее колесо, третьим — раскрыть амбарный замок на стальной цепи, что оплела раму, переднее колесо и вросший в землю стояк. Иначе нельзя: или переднее колесо открутят на запчасти, или велосипед с цепью унесут, чтобы потом в мастерской спокойно перерезать цепь автогеном. Первый велосипед у него так и увели с парковки перед магазином. На специальных стояках велосипедных мест не было, а за фонарный столб цепь завести поленился — до сих пор вспоминать обидно! Впрочем, ворованный велик он тогда купил, вот его и своровали. Второй уже выбирал в магазине подержанных велосипедов, за настоящую цену.
Теперь-то все уже совсем не так, как в прошлом году. Этот город стал ему знакомым и своим, иногда даже казалось — родным, хотя на самом деле они не породнились. Он знал, где, что и почем, он понимал, как не только выживать, но и жить. Где будешь в пролете, где можешь забашлить. Все нормально!
Над деньгами теперь можно было не трястись — просто считать их и даже рассчитывать наперед. Это там, в далекой России, то разрисовывали всякими узорами советские червонцы, то прибавляли российский флаг (ребята показывали, он видел), а главное — то и дело приписывали нули. Тут деньги жили спокойной жизнью. Монеты были скучными, с номиналом на одной стороне и портретами королевы на другой. Старые монеты изображали ее реалистично, новые лепили из ее профиля что-то авангардистки-геометрическое. Из всех монет Саше нравилось держать в руке только толстенькие желтые пятигульденовые кругляши. Да еще «ряйксдалдеры», монеты в два с половиной гульдена, забавляли своим названием и дурацким номиналом.
Но в бумажнике, том самом, от Ингрид, не переводились и купюры. Синяя десятка с портретом Франса Хальса, импозантного господина …надцатого века (оказалось, это знаменитый художник) была самым частым гостем. Пореже водились красные четвертные — на них была какая-то геометрическая муть в виде спирали, видимо, чтобы фальшивомонетчиков стошнило, пока будут перерисовывать. Изредка попадались и старые, с Вильгельмом Оранским. И по особым поводам доводилось подержать в руках — недолго, правда! — желтые полусотенные с пейзажем польдера и подсолнухами, а еще потрясающе красивые коричневатые сотни с водяными птицами. Такую сотню хоть в рамке на стену вешай.
Не на стенку, конечно, а вот в конверте на полке с бельем если не сотни, то десятки и четвертные оседали не так уж и редко. Тем более, что жизнь в строжайшей экономии уже стала привычкой, бананы, и те только при снижении цен покупаешь (в черных пятнышках, не выше гульдена за кило), не говоря уж о прочем.
Изредка подворачивалась оказия в Москву, и тогда Саня шел в одну из контор в центре города и обменивал часть своей галереи на скучные серо-зеленые доллары. Приходилось просить, чтобы дали новые бумажки — в Москве не любят старых. Эти бумажки заклеивались в конверт с маминым телефоном и вручались случайному путнику. До сих пор никто не подводил. Много не посылал — а ведь и на полусотне долларов (в гульденах — чуть меньше сотни) там, в обновленно-демократической Москве одинокая женщина, литературный редактор, могла протянуть месяца два-три, а то и все четыре, если скромно.
Теперь они с Димой уже снимали третью квартиру, причем эта была сама лучшая. Можно было уже не гоняться за сверхдешевой, а просто выбирать по средствам. В новом доме, две комнатки, кухня с балкончиком. Место называется Амстелфейн, официально — отдельный город, а по сути дела, южная часть Амстердама. Если бы у нас так держались за традиционную географию, то Москва кончалась бы за Садовым кольцом, а Хамовники и Сокольники числились бы сами по себе, не говоря уж о более дальних районах. До центра, конечно, далековато, зато не слишком дорого, и магазины все под боком.
Саша вывел велосипед из подъезда и по коротенькому переулочку выехал на рыжую велосипедную дорожку. Сегодня было два заказа, довольно удобных — недалеко друг от друга, и по времени как раз успеваешь. Димка-то уже квартир больше не убирал, развернулся всерьез с какой-то торговлишкой, кажется, и не слишком законной, но жили они по-прежнему вместе. Диме, к тому же, надоело нелегальное положение. Не застревать же так на всю жизнь, в самом деле! Так что в последнее время он звонил в посольства Южной Африки и Новой Зеландии в Гааге: в эти страны принимали молодых-перспективных, особенно с белым цветом кожи. Надо было только еще раздобыть всякие рекомендательные письма, справки и все такое прочее — и через месяц-другой рассчитывать на льготный билет в Африку или на Тихий Океан с вполне легальным видом на жительство. А через сколько-то там лет — и на гражданство…
А своих клиентов Дима передал Саше за стольник отступного. Ничего не скажешь, интересы свои парень блюдет основательно, но все честно, никого не кидает, лишнего тоже не требует. Сане чужие ковры пылесосить да окна мыть — не в западло. Руки заняты, зато голова свободна. И нелегалом быть не в западло. Африка, конечно, это круто, но ведь оттуда уже вряд ли выберешься. А как оно там — кто знает… Был бы Саша евреем, может, еще и подумал бы об «исторической родине», но только и с этой родины прибывали в Голландию несчастные совграждане, которых в московских подворотнях ругали жидовскими мордами, а в тель-авивских — необрезанными гоями. И, что характерно, некоторые из них даже смогли получить в Голландии политическое убежище. Но от себя ведь все равно не убежишь. Хоть на Луну переселяйся, но если в двух таких разных странах места себе не нашел, и в третьей вряд ли найдешь.
Фитспад, рыжая велосипедная дорожка вела в центр, словно маленькое шоссе, тянущееся вдоль основной трассы для автомобилей. Со своими дорожными указателями, красными на белом, со своей осевой линией разметки, со своими правилами движения. Словно сам Бенилюкс — маленький кусочек суши, вроде и на обочине европейской истории, зажатый между Германией, Францией и Англией, а поди ж ты, все свое и ничуть не отстаем от сверхдержав. Так оно и приятнее, и для здоровья полезнее, тише едешь — дальше будешь. А Россию — с чем сравнишь? Разве что с безнадежно разбитым и размокшим под ливнями глинистым проселком, что бежит через холмы, луга и березовые перелески, но все так и не сменится асфальтом… Зато, конечно, очень живописно.
Впрочем, такие удобства для велосипедистов — только тут, вдоль относительно нового проспекта Бяутенфердтсе Лан. Скоро велосипедная дорожка закончится и ехать придется по мостовой этих здешних улиц с аршинными названиями — Рулоф-харт-пляйн, Ван-барле-страт — справа от автомобильного потока. Тут следи следить в оба! Движение будь здоров, и даже припаркованная машина может оказаться опасной — откроет водитель дверь, не посмотрев, и саданет тебя пямо по колесу. Саня так один раз уже получил от какого-то немца, не то чеха, потом три дня прихрамывал. Жаль, не догадался тогда слупить с обалдуя четвертной за ущерб! Хорошо хоть велосипед цел остался. А нелегалам ни в полицию, ни в больницу попадать нельзя. В больнице за наличные, может, и примут, а вот страховки у нас нет, и не будет.
Хорошо, что свет не без добрых людей! Тут ведь даже и в аптеке серьезней аспирина без рецепта ничего не купишь… Как той осенью заболел гриппом, пришлось знакомых просить, достали все-таки капли — голландцы, они не немцы, на всякий запрет отмычку найдут, всякую инструкцию нарушат, если хорошему человеку плохо. Как-то оклемался. Димка тоже молодец, лимоны ему тогда таскал, апельсины, и денег не взял. Хоть и жмот, а настоящий товарищ. Он тогда только и разобрался в этих апельсинах, или, как они говорят, «синасаппелях»: «ханд» — чтоб чистить, то есть для руки, а «перс» — чтоб сок давить, прессовать, то бишь. Надо же, буржуины проклятые! В Москве хоть какие купил — и счастлив.
И еще, Димка тогда с базара притащил коробочку диковинного заморского фрукта, киви. На гульден — целый десяток! Кивины они ели только так, вместе с мохнатой их кожурой, да так и вкуснее, только хвостики древесные выплевывали. А голландцы их чистят, чудаки! А еще как-то купили они клубнику, да вот только на вкус несильно отличалась она от сырой картошки, только что помягче. Декоративная, на гидропонике. Смотрится хорошо, долго не портится, а вот кушать — это извольте натуральную, совсем по другим ценам. Словом, гримасы капитализма, как расписывали парторги-комсорги. А они еще не верили.
Но гримасы гримасами, а пока остается здесь. Почему? Да как-то так сложилось. И, если честно, особо некогда — или неохота? — об этом думать. Вот, сейчас свернет в этот проулок, потом к знакомой двери, звонок, полминуты ожидания, ухоженная старушечья физиономия. Постоянный клиент, одинокая пенсионерка, по-голландски помешанная на чистоте и по-голландски прижимистая. С нелегалами-то оно дешевле выходит, без налогов и прочей мутотени. А придерись полиция — что докажет? Тимуровец, старушкам помогаю, а они мне за это спасибо говорят, пряничком угощают. Свободные люди в свободной стране.
Потом — велосипед, другой адрес, другая физиономия. В субботу, кстати, хотел съездить с Машкой на море — искупаться. Уже ведь и лето вовсю, да и погода пока, вроде, ничего — надо же устраивать себе иногда и выходные! А в воскресенье, может быть, заглянем с ней вместе вечером к Лодейниковым.
Так что все нормально!
Велосипед тщательно прикован к стояку, звонок поет свою трель. Раскрывается дверь, и дежурное:
— Goede middag, mijnvrouw.
— Hoi, Alex[51].
14. С Марусей на Маркене: былые любови
Вечером в пятницу Саша сделал два звонка. Сперва маме в Москву — для ритуальных словообменов «как дела — все в порядке». Порядок с обеих сторон был довольно относительный, но, во всяком случае, все шло по заведенному и не было причин жаловаться. А может, и были, только не говорили о них. Мама по-прежнему слегка болела, пыталась свести концы с концами в двух редакциях и одном институте одновременно, страшно переживала за свой предпенсионный возраст и вяло протестовала против присылаемых Сашей с редкими оказиями долларов. А так как будто и не удивлялась, что это делает ее сынок на два часовых пояса к западу от нее. Здоров, сыт, одет и ладно.
Потом позвонил Маше. Маша на самом деле была не Машей, а Карен, но предпочитала, чтобы звали ее непременно на русский манер. Маша училась в университете на отделении русистики и западала на все русское, даже отращивала косу до пояса, что как-то странно вязалось с ее нордическим овалом лица и длинным тонким носом. Вот только серые глаза подходили.
Познакомились они три месяца назад, и у них намечался роман — как раз в той чудной стадии, когда все еще возможно, но ничего не ясно, когда симпатия не переросла в сладкую и мучительную влюбленность.
С Машей они договорились провести субботу вместе, и Саня хотел поехать на море, в Зандфорт-ан-Зе. Все равно по субботам у него редко бывают заказы. По субботам вся семья обычно дома, кому тут нужен чужой уборщик? А тут еще и лето все-таки вступило в свои права, пригревало солнышко и наконец-то кончились бесконечные дожди. На море было здорово, все напоминало рижское взморье, куда они пару раз ездили в далекие лета детства.
Саша один раз даже прокатился туда на велосипеде — километров 30 в одну сторону, не меньше, и совершил героическое омовение — уж очень хотелось поближе познакомиться с этой синевой! — а потом все никак не мог согреться. Как раз зарядил мелкий противный дождик и не отпускал до самого дома. Зато даже на глобусе можно было теперь прочертить его героический маршрут: пересек от края до края выдавшийся в море ломоть Голландии.
Но у Маши возникло иное предложение: остров Маркен. «Такой остров, сказала она, где живут по-старому, ну, в общем, сам увидишь. И тоже море, правда, залив. Он, конечно, грязный, но тоже морской». Ну, Маркен так Маркен. Имя само по себе ничего не говорило Саше, но новые места всегда интересно посмотреть. Договорились встретиться в 945 (ох уж эта голландская пунктуальность!) у центрального вокзала.
Погода субботним утром выдалась удачная: ветрено, легкие облачка, но без дождя и в целом солнечно. Как раз для приятной поездки. До вокзала Саня добирался на велосипеде, и в такое время нетрудно было найти свободный кусок пространства на велосипедной парковке. С Машей договорились встретиться у главного входа и подошли к нему с двух сторон практически одновременно, строго в назначенное время.
— Hoi! — Саня радостно чмокнул девушку в щеку.
— Привет!
— Hoe gaat het[52]?
— Нормально! — рассмеялась она, — давай говорить по-русски! Я уже знаю, что на вопрос «как дела» надо отвечать «нормально», а не «хорошо». Как ты думаешь, это отражает менталитет русского народа?
— Это отражает, что кто-то задает слишком много умных вопросов, — приобнял ее Саша, — автобус-то где?
— Здесь рядом. Пошли. Через десять минут автобус до Моникендама. Там возьмем катер.
— На абордаж?
— Что?
— На абордаж, говорю, возьмем — как пираты?
— А как надо сказать?
— «Поплывем на катере». Или «сядем на катер».
— Спасибо, Саша. Поплывем на катере…
— … к растакой-то матери, — не удержавшись, срифмовал Саша. — Частушка, фольклор.
— Нет, этого юмора я пока не знаю, — серьезно ответили Маша. — Вот наш автобус. Надо семь полосок стриппенкарт, это далеко.
— Ага, у меня есть. Как раз специально купил длинную.
Они сказали заветное «twee, Monikendam[53]», водитель сверкнул штемпелем, как когда-то пограничник в аэропорту, и голубая с серым стриппенкарта — билет на несколько поездок на общественном транспорте — украсилась двумя фиолетовыми полосками цифири. Свободных мест было полно, сели рядом, причем Саша, по старой привычке, пристроился у окошка (Машка-то все равно не в первый раз, уже давно все это видела). Вскоре автобус тронулся и почти сразу нырнул в чрево огромного туннеля, проходящего под морским заливом с нелепым именем Ij.
— Тут в прошлом году, — рассказала Маша, — трафик остановился. В порт приехало русское судно, у моряков не было денег, они хотели посмотреть город. Они пошли пешком по тоннелю. Сработал alarm system…
— Сигнализация.
— Да, сигнализация. Долго не могли их найти, а потом долго не могли им объяснить, что пешком нельзя.
— А эти дорожки по бокам?
— Только для emergency[54]. Если, например, пожар и людям нужно выйти наружу.
— Да, Машка, вот такие мы, русские. Бедные, но гордые.
— Вы хорошие! Я это давно поняла. Я еще в детстве зачитывалась Толстым. Надо мной даже насмехались другие дети, они читали комиксы про space wars[55]. А я плакала от Наташи Ростовой, правда! А потом, когда я была подросток, я открыла Достоевского. Это был новый мир, представляешь! Только я очень мало понимала. Я тогда думала: как может быть у русских столько имен? Я не знала, сколько в этих книгах героев. Если человек Иван Иваныч, то кто такие Ванечка и Ванюша? Я, например, Карен. И все. А вот теперь я могу называться Мария Яковлевна (моего отца зовут Jар, Яков), Маша, Маруся…
— Машка, Маха, Маруська… впрочем, это уже было, — радостно подхватил Саша. — Что, разобралась потом с героями Достоевского?
— Ага! — девушке явно нравилось, как звенели на языке у парня ее новые имена.
— А почему именно Маша, кстати?
— Подожди! И вот потом, уже когда я учила русский в университете, я стала понимать, что в моей жизни чего-то не хватает. У меня были русские друзья, и мы говорили по душам. Они позвали меня петь в русскую церковь. Мне очень нравится пение, и церковная музыка особенно. Я стала петь в хоре, приходить на службу. А потом я решила принять Православие. И стала именоваться Мария.
— Ну, в общих чертах это я знаю. А вот почему все-таки Мария? А не, скажем, Екатерина — ведь больше на Карен похоже?
— Я не хотела, чтобы было похоже на Карен. Я хотела стать русской. Потом я поняла, что это не получается. Для меня Маша — самое русское имя. Я его хотела.
— Хорошее имя, — кивнул Саша.
Автобус тем временем выбрался из-под земли и покатил среди ровных домиков северного Амстердама и его ближних пригородов. Деревня… Да вообще, годится ли тут такое слово? В основном — пастбища, разгороженные канальчиками с мостиками вместо ворот. Редкие крестьянские усадьбы и вовсе ни на что не похожи: чистенькие домики, по фасаду каменные львы или вазы игрушечного размера, а с заднего двора или пастбища в двух метрах поодаль глядят толстые мохнатые овцы, раз в двадцать крупнее каменных львов. И тут же роскошная машина, а то и две.
И ни клочка земли под пустырь! И ни одного строения, от которого не шла бы безупречная лента асфальта, вливающаяся у самых ворот в узкое шоссе и через десяток километров — в скоростную автостраду. Будет ли так когда-нибудь в России? Невозможно поверить.
— Саша, а тебе, что нравится в Голландии?
— Знаешь, я тоже не раз задавал себе этот вопрос. Ведь для чего-то я тут задержался, в конце концов! Ну… есть вещи, которые лежат на поверхности. Тут, конечно, жить сытнее, ничего не скажешь. Но если бы только это, я бы давно сбежал. Еще тут все очень четко и просто.
— Что ты имеешь в виду?
— Супермаркеты. Нет, серьезно. Ты же бывала в России?
— Да, три раза.
— Ты ходила в наши магазины?
— Да, иногда ходила.
— В обычные, за сосисками?
— Очень мало, с русской подругой. Я знаю, это было сложно. Не всегда было товара, потом надо запоминать цену, идти в кассу, называть ее, потом стоять очередь к прилавку и давать чек. Это очень странная система. Неудобно.
— А теперь сравни: супермаркет. Поняла?
— У вас скоро тоже будет цивилизованный рынок. Саша, но при чем тут ты? Ты живешь здесь из-за супермаркетов? Это не может быть правда.
— Да нет, это ерунда, я эти сосиски самые там, в Москве, только так лопал. Были бы сосиски. Я о другом. Понимаешь, у вас все общество такое: пришел, выбрал, заплатил. И — пользуйся.
— Это капитализм, Саша. Это все за счет духовности. Когда так в супермаркете, я согласна. Но у нас же так во всех аспектах, и это ужасно.
— Это удобно, Машка, понимаешь? Меня никто не грузит, я живу сам по себе, как хочу. Я никому ничего не должен. Я свободен.
— Это не свобода, Саша. Но я пока не умею этого объяснить.
— Да что ты, Машка, я тоже понимаю, духовность, Достоевский, я сам Чехова запоем читал, и до сих пор читаю. Я только за. Но меня всю дорогу грузили: ты должен, должен, должен… Одним — делать вид, что строю коммунизм, другим — кукиш власти в кармане показывать, третьим — изображать интеллигентного мальчика из хорошей семьи. А здесь — никому и ничего. Вот ты студентка, в скором будущем — элитный специалист, а я лимита, прости за выражение, и мы вместе. И никого не колышет! Понимаешь, это здорово.
— Я понимаю тебя, Саша. У меня были похожие мысли. Я носила майку с портетом Че Гевара, когда мне было пятнадцать лет. Но моих родителей будет колыхать, если я женюсь за такого человека, как ты. Они буржуи.
— Буржуи, говоришь? А мы приехали, что ли?
Автобус действительно застыл у остановки с надписью «Monikendam», и они неспешно выплыли наружу, не прерывая разговора. Было так здорово говорить на языке, которого заведомо никто не понимал, и можно было обсуждать любые темы. Впрочем, в самом Амстердаме русских становилось все больше, и в людных местах Саша уже не раз натыкался на соотечественников. Большинство из них наслаждались той же языковой неприступностью — в квартале красных фонарей мужики откровенно обсуждали программу дальнейших похождений, а на рынке один шпаненок кричал другому через все ряды: «Васёк, чё тибрить-то будем?» Если так пойдет дальше, то скоро русский будет тут легко узнаваем, подумал Саня… И едва ли ему обрадуются.
Но пока радовались. Как-то они с Димкой стояли на остановке, о чем-то говорили. К ним подошла старушка без комплексов, поинтересовалась, что это за язык. Когда узнала, что русский, пришла в неописуемый восторг, сообщила, что сама наполовину коммунистка (оба парня скривились) и подарила пакет с замечательными пирожками, который как раз оказался у нее в руке. Ничего, она себе еще купит… Она ж настоящего коммунизма и не нюхала.
Мимо старой церкви Маша с Сашей прошли к гавани. Собственно, городок и был развернут вокруг этой самой гавани еще со дня своего основания — тут находились основные кафе, магазины и киоск, где задешево продавали замечательную скумбрию горячего копчения, только что из моря.
Все голландские города похожи уютностью и добропорядочностью и все, кроме Амстердама — чистотой. Непохожи они множеством мелочей, из которых и складывается неповторимость облика: формой крыш, регулярностью и расположением каналов и даже выражением лиц прохожих. Эту атмосферу было очень трудно описать, но легко уловить, угадывая в каждом городе характер: вот мускулистый портовый трудяга — Роттердам; а вот тихий очкарик, переулочный студент-гуманитарий — Лейден. А Моникендам — капитан рыбацкой шхуны. Вот так.
На катере они выбрали верхнюю палубу, хотя было довольно ветрено. Рядом радостно галдела группа американцев, фоткая друг друга на фоне моря и примеряя купленные в лавчонках не берегу черные рыбацкие кепки — Саша как раз недавно в русской газете видел такую на Жириновском. Катер медленно оторвался от причала, выбрался к узкому выходу из гавани между двумя половинками старого деревянного мола и заскользил по серой рябистой глади. На море было немало разноцветных парусов, некоторые совсем близко, и можно было видеть, как управляются со снастями люди на собственных яхтах.
— Здорово, наверное, так, на яхте, — мечтательно сказал Саша.
— Да, и очень дорого. Саша, можно задать тебе откровенный вопрос?
— Ну?
— У тебя, наверное, в Голландии были девушки?
— Были две. Собственно, так и вышло, что из-за одной я и задержался тут.
— Расскажешь?
— Попробую. Если не обидишься?
— Нет, не обижусь.
— Она тоже училась в университете, как ты, только на другом факультете. Мы приехали сюда с театром на гастроли, я тебе уже говорил. И однажды после спектакля она подошла ко мне и сказала, что я играл лучше всех. Лестно, конечно, но я до сих пор не уверен, что она это всерьез.
— А что она имела в виду?
— Ну, может, просто, я приглянулся ей. Скажем так: не я играл лучше всех, а ей было приятнее смотреть на меня, чем на всех остальных. Нет, правда, я не думаю, что она специально врала. А потом она пригласила меня на вечеринку… ну, мы и подружились.
— Вы с ней спали?
Саша не случайно сказал «подружились» — ему всячески хотелось избежать примитивной последовательности «познакомились — выпили — перепихнулись». Может быть, оно так и выглядело со стороны, но трудно было объяснить, чем отличалось их знакомство от такой же цепочки действий на танцах в доме культуры. А отличалась она очень сильно, хотя он едва ли мог бы объяснить, чем. Только ли тем, что вместо дома культуры была колоколшьня утрехтского собора?
— Ну-у-у… Никак не привыкну к вашей голландской манере задавать вопросы в лоб. Ну да, спали. Только не в этом дело.
— Извини, я не хотела тебя задеть.
— Понимаешь, мне тогда все было в новинку. Все было такое красивое, яркое, сочное. И Ингрид была такая яркая. И мне все хотелось попробовать, а тем более, что она сама так ненавязчиво предложила. Тьфу ты, выходит, словно я оправдываюсь перед тобой. В общем, это трудно объяснить. А потом мы стали ездить со спектаклями по стране. Знаешь, это было так странно — приезжаем в новый город, играем спектакль, возвращаюсь в гостиницу, а там — Ингрид. Но все быстро подошло к концу, а душа требовала, как у нас в одном фильме старом говорится, продолжения банкета. Я еще не насытился впечатлениями. Да и в России меня практически никто не ждал. В общем, решил еще немного потусоваться и не полетел обратно со всеми.
— Остался?
— Ты, может быть, заметила, я предпочитаю говорить «задержался». У нас говорили «остался» в старые времена, когда обратно уже было не вернуться. Сейчас — другое дело. Ну, а с Ингрид все очень быстро кончилось, даже не очень понятно, почему. У меня было такое ощущение, что ей тоже хотелось попробовать экзотики, потом она накушалась, а всерьез и с самого начала не собиралась.
— Ты строг к ней.
— Допустим. Только, знаешь, не слишком-то порядочно все это было с ее стороны… У нас даже частушка такая есть: «если ты меня не любишь, завлекала-то на чё?»
— Ты любишь русский фольклор?
— Ну, я бы не сказал, — усмехнулся Саша, — сократи эту свою фразу на несколько слов, и будет точно: «ты русский». И какие-то вещи у меня в крови, как у тебя эта ваша пунктуальность или манера выражаться прямо в лоб. Ты можешь носить кокошник или юбку из пальмовых листьев, но твои голландские черты лица от этого никуда не денутся.
— И что значит «ты русский» в отношении к девушкам?
— Понимаешь, у нас есть как бы две разновидности отношений с девушками. Одна — это просто так, ты меня извини, потрахаться.
— Это есть везде, Саша.
— Да, наверное. Но вот если любовь-морковь, то мы ждем романтики. Да ты ж литературу нашу читала, письмо Татьяны к Онегину и все такое прочее… Она ждет принца, он — принцессу, любовь до гроба, дураки оба, как в детском саду дразнятся. И правильно дразнятся, потому что принцы и принцессы все в сказках. И потом начинаются истерики, скандалы, нелепые расставания — хотели романтики, а получили прозу жизни. У Пастернака здорово сказано: «наша проза с ее безобразием»…
— Ты думаешь, так только у русских?
— Нет, наверное, — Саша рассмеялся. — Хотя мы сами себе и другим талдычим всю дорогу, что у нас особый путь. Романтика, загадочная русская душа… Машка, да ты сама, небось, на все это покупалась не раз?
— Купалась?
— Покупалась, ну, тебя все эти представления о загадочной русской душе заставляли делать маленькие глупости, понимаешь?
— Ты прав. Я расскажу. Но сначала ты. Кто была вторая? Она была сразу после первой?
— Да нет. Потом мне как-то было очень хреново… и не до девушек было некоторое время.
На самом деле Саша, пожалуй, привирал. В период их дремучего отшельничества с вдвоем с Вовкой, то в слипине, то на чердаке, когда прошел первый, самый трудный период, молодое тело брало свое, и в снах и жадных фантазиях виделись то золотые локоны Ингрид, то миловидная фигурка Даши из Политехнического, а то и вовсе безымянная эротика. И даже злость на Ингрид проходила в этих снах: ну ведь по-европейски все получилось, уютные сексуальные каникулы, принято здесь так… Жаль, что так быстро все закончилось, но ведь на то они и каникулы.
Саша как-то забрел в квартал красных фонарей, зашел в секс-шоп и застрял там, пока буквально не выгнали, перелистывая порножурналы и жадно вглядываясь в чужие фантазии. Некоторые оказались до странного похожими на его собственные, в том числе и на такие, которых он стыдился. Даже какое-то освобождение приходило к нему в эти минуты в амстердамской дыре: надо же, не я один такой! Тысячными тиражами все это издают, люди покупают… А потом он наткнулся на зоофильский журнал и, увидев репортаж о том, как голый мужик в ванной занимался сексом с крокодилицей, окончательно успокоился: нет, я еще не извращенец, если люди могут тащиться от такого, что мне даже и вообразить-то невозможно. С тех пор он еще несколько раз заглядывал в эти секс-шопы, внешне лениво перелистывая журналы, жадно напитывался чужой фантазией, но ничего по бедности не покупал.
Но это было томление плоти, и с ним действительно было все просто. Грубо, но просто. Сложнее оказалось справиться с душевным голодом по нормальному женскому обществу. А кого они могли тогда позвать к себе на чердак? На какой тусовке их бы приняли полноценно? Другое дело, когда он перебрался к Димону…
— С другой девушкой я познакомился год назад, прошлым летом. Точнее сказать, была она даже не девушкой, а замужней дамой. Мы познакомились на одной тусовке. У нас был довольно странный роман. Ее звали Юля. Русская, но живет здесь уже довольно давно. Училась в Москве на филфаке, изучала голландский язык — совсем как ты тут учишь русский! — потом вышла замуж за голландца. У меня, кстати, возникло ощущение, что она для того и училась. Знаешь, у нас есть категория шикарных и капризных девчонок, для которых практически основная цель в жизни — жених из богатой капстраны. Но нет, может быть, я к ней несправедлив… В общем, картина такая. У нее состоятельный муж, живут в собственном домике под Амстердамом. Он бизнесмен средней руки, уже лет под сорок. А ей 25–26. Домохозяйка. Детей нет. С мужем договорились, что она будет работать два дня в неделю продавщицей в модном магазине, вроде как карманные деньги. Ну, там, солярии всякие, поддерживать себя в форме, клуб и прочее. Чтобы жизнь золотой клеткой не казалась. Вот и я для той же цели, наверное…
— Не поняла. Для чего ты?
— Знаешь, она тут обвыклась, как мало кто обвыкается. И резко перестала быть советской девочкой с окраины. По улице пройдет — уже видно, что родилась в Европе. А по-голландски говорит вообще без акцента. И она красивая, обалденно красивая, если честно. Тут таких мало. И знаешь, есть в этой красоте какой-то вызов, что ли. Не просто так я тут у вас, я тут королева. Она же и в браке с мужем добилась полного равноправия, хотя смешно сказать — какое там равноправие! Он ее содержит, его дом, его зарплата, а ее — только красота и уют в этом доме.
— Это тоже много значит, Саша.
— Ну да. Знаешь, она ведь вовсе не была хорошенькой такой куколкой без мозгов. Она тоже в литературе разбиралась, если кино смотрела — так Тарковский, Куросава, Антониони или какой-нибудь авангард современный. Чтобы было стильно, ярко, сочно. Так, наверное, она и с мужем хотела жизнь построить. Но он что — в конторе весь день, да у голландцев вообще с романтикой напряг. Эротики вон навалом, а романтики не очень. Словом, установили они такое порядочное супружество, основанное на взаимном уважении и четких договоренностях. Даже договорились, что посуду грязную в посудомоечную машину ставят по очереди! Нет, не могу себе представить, чтобы у нас такое было: пришел муж, весь день вкалывал, а жена после солярия ему говорит: дорогой, твоя очередь грязные тарелки на кухню тащить… Ну, и в остальных отношениях у них так же. Договорились не ограничивать свободы друг друга: мол, муж может на работе секретарше под юбку залезть, или там в деловой поездке девочек снять, и это нормально, и она, соответственно, тоже может гульнуть, если захочет.
— Наверняка они установили границы.
— Наверняка. Скажем, домой своих любовников не водить, денег на них лишних не тратить, и все такое. В общем, я ей, похоже, для реализации этого соглашения и понадобился.
— Саша, ты опять строг. Ты же ее любил?
— Ну-у-у… Нет, на самом деле влюбился я по уши. Я от нее просто балдел. У нее… (ну не рассказывать же Машке, как с ней было в постели?)… в общем, все в порядке у нее. И, понимаешь, не только с телом. Она как-то так умела выстроить отношения, что и я человеком себя чувствовал. Есть какая-то семейная жизнь, где ее минхер из конторы придет и тарелки грязные в машину мечет, а есть и другая сторона, где она, продавщица, занимается таким уютным легким сексом с таким же городским пролетарием, как и она сама. С ней вообще потрясающе уютно было, это точно. Вкусно жила. И знаешь, она могла просто идти по улице, но в ней было что-то совершенно особенное. У вас тут женщины часто носят, что на распродажах достали, оранжевое с салатовым и фиолетовым. А она… Она тут стала настоящей европейкой — и не голландкой даже, а какой-то парижанкой, что ли. Может, за тем и приехала из своего Свердловска сперва в Москву, потом — сюда. А еще она по-своему любила Россию, часто ее вспоминала, пару раз туда ездила. Ругала Запад, как тут принято у эмигрантов. Но в России ей нужно появляться богатой иностранкой, не иначе. И ей очень подходил русский любовник. При том, что русский муж ей был сто лет не нужен, это точно.
— А почему вы расстались?
— Трудно даже сказать. Не то чтобы надоело, но что-то вроде этого. А такие отношения и не строятся надолго. В том вся их прелесть — сошлись, разошлись… Чуть больше полугода получилось в общей сложности. Просто в какой-то момент стала реже звонить, да и я ей тоже, и встречаться уже не договаривались — ну, так и сошло на нет.
А корабль тем временем преодолел серое продувное пространство и входил в другую гавань, заставленную яхтами — гавань острова Маркен. Прямоугольник гавани был так же аккуратно оплетен торговыми улицами, как и в Моникендаме, а за ними теснились низенькие дома под черепичными крышами.
Они неторопливо прогуливались по узким улочкам этого музейного города, почти не разбавленного современностью. В чем-то это было похоже на Брюгге, город, где к Саше пришло решение остаться, но только там была фламандская кружевная веселость, а тут — голландская деревенская простота. У порога одного дома стояли деревянные башмаки — как встарь, хозяин, придя с поля, оставил грязную обувь у входа и прошел в стерильно чистое свое жилище в одних чулках. Неужели это не для туристов, а просто так? Да нет, вряд ли… А вот навстречу им попалась уже явно искусственная пара пожилых голландок в национальных костюмах, с затейливыми передниками и изогнутыми чепцами, напоминающими контуры голландских крыш.
Когда они в Сашином детстве, еще пока был жив отец, ездили отдыхать в Юрмалу, в писательский дом творчества, однажды они навестили этнографический музей под Ригой. Там тоже стояли старые крестьянские домики, собранные со всей Латвии (а вот здесь ничего не собирали, просто сохранили, что было). И повсюду попадались вот такие же бабушки, наряженные в национальные костюмы. Одна из них, сидя за столиком у окна своей избушки, прихлебывала кофе и читала сегодняшнюю газету. И вот этот самый кофе с газетой, немыслимые для крестьянки двухсотлетней давности, криком кричали: не верьте, люди добрые! Можно сберечь стены и надеть костюмы, но изменились люди. Они пьют кофе и читают газеты, а потом садятся в автобус и едут домой смотреть телевизор. Они думают и чувствуют по-другому, чем двести лет назад, и никакими фольклорными мерами этого не изменишь.
Нагулявшись, они устроили пикничок на высокой дамбе, тянувшейся, как и везде в Голландии, непрерывной насыпью вдоль берега моря. Маша достала купленную в Моникендаме свежайшую скумбрию горячего копчения, заранее нарезанный хлеб в аккуратном пакетике, сыр и даже термос с кофе, Саша — несколько бананов и пару бутербродов с ореховым маслом. После прогулки на свежем морском воздухе аппетит был отменный, и скоро все это было уничтожено. Но до обратного автобуса (а они решили возвращаться автобусом) еще было время, и они просто сидели на дамбе, у подножья грязноватого моря, в котором не хотелось купаться, любовались чайками и парусами яхт и понемногу болтали.
— Ну, теперь моя очередь, — неожиданно серьезно сказала Маша.
— Какая очередь?
— Рассказывать о своих парнях.
— Давай, — усмехнулся Саша, — и что, много их было?
— Вовсе нет. Был подростковый период, когда протестуют, тусуются, занимаются сексом. Но у меня это было несерьезно. Я не находила это интересным. Некоторые люди, ты прав, так и остаются в этом возрасте на всю жизнь, но это очень скучно. Я думаю, так они прячутся от… от пустоты.
— А ты, соответственно, читала Достоевского?
— Да, он многое мне открыл. Я была удивлена, что можно жить такой богатой внутренней жизнью. Хотя эту жизнь я иногда находила нездоровой. Может быть, мои некоторые депрессии стимулируются моей любовью к Достоевскому. Как бы то ни было, я поступила на русское отделение. Вокруг были очень интересные люди, но я тогда не увлекалась парнями. Достаточно было интеллектуальной жизни. Например, ты слышал про семинар отца Андрея?
— Нет. А что это?
— Отец Андрей из русской церкви устроил семинар несколько лет назад. В него приходили разные люди, русские и голландцы, раз в месяц. Они делали доклады на разные темы. Цель этого семинара была в том, чтобы лучше понять наши системы ценностей, культурные различия. Это было иногда очень интересно. Но больше его не будет.
— Почему?
— Говорили, он исчерпал себя. Мы все равно плохо понимаем друг друга. Мы, голландцы, и другие европейцы тоже, очень практичны. А у вас, русских, любовь к иррациональности… Или нет — к неутилитарной рациональности. Вы говорите о судьбах мира. «Дайте русскому мальчику карту звездного неба, и назавтра он вернет ее исправленною», — писал Достоевский. Некоторых это пугает, некоторых привлекает. Я нахожу, привлекает, но иногда пугает.
— Ага, загадочная русская душа. Только ты вроде про парней собиралась?
— Да, это было важное введение. Так вот, у меня была депрессия. Мне казалось, что я не живу. Я читаю книги, но во мне нет живого. Тогда я встретила его, случайно, на улице, он говорил с кем-то по-русски, я невольно стала слушать, потом поняла, что он голодный и решила его накормить. У меня были бутерброды. Так мы познакомились. Это было больше года назад. Он был русский, очень симпатичный, очень бедный, немного слишком нервный. Но зато талантливый. Я в детстве учила игру на флейте, у меня осталась флейта, и он так замечательно играл, когда я пригласила его домой… Я подумала: вот это жизнь. Он каждый день борется за существование. Я прокисаю в университетских комнатах. Я даже завидовала его бедности, его таланту, его настоящей жизни. Все было так стремительно, ты не поверишь. Я совсем не такая, какая будет кидаться на шею парня, но я быстро и сильно влюбилась. Я тогда снимала однокомнатную квартиру около рынка на Алберт-Кёйп. Тогда я переехала его к себе. Что ты смеешься?
— Извини, Маш, «переехать кого-то» — значит раздавить его колесами автомобиля.
— А как надо?
— «Я предложила ему переехать». Или «он переехал».
— Ага, спасибо. Все было так стремительно. Мы стали жить вместе. Он играл ко мне на флейте, жизнь была прекрасна и удивительна. Мы видели небо в алмазах. Он не мог устроиться работать, но это было не нужно. Я училась, подзарабатывала, тоже помогали родители, нам хватало денег, и мы были счастливы. Мы ходили на замечательные русские тусовки. С русскими так здорово тусоваться! Знаешь, есть такое стихотворение английского писателя Lewis Carol «The Walrus and the Carpenter»?..
— Точно, «Морж и Плотник» Кэрола, мы его один раз на этюды разобрали — ну, в театре. Очень здорово его играть: Морж и Плотник прогуливаются по берегу моря в ясную солнечную полночь, приглашают с собой устриц, ну и все такое.
— Да! И они говорят устрицам: нам с вами надо о многом поговорить, и называют множество всяких топиков, например, о королях и капусте. Только там они съедают устриц, и конец. А у русских не так. Вы долго говорите о самых разных темах, о королях и капусте, но никто никого не съедает. И у вас тоже полночь солнечная, потому что в ней бывают задушевные разговоры. А здесь, в Голландии, у людей разговоры мелкие: о шоппинге, о политике, или о погоде, или о футболе. Никому на самом деле это не интересно и не нужно, но надо же о чем-то говорить. Вот, соберутся буржуи, пьют пиво и говорят пустое. А тут все было не так! Мы много говорили, гуляли, тусовались. Я была очень счастливая. А потом мы познакомились с одной тусовкой. На барже. Знаешь баржи на Схинкел?
— Это где?
— За олимпийским стадионом, такой канал. Люди небогатые, земля слишком дорогая, вот они и живут на воде. Прямо настоящие плавучие дома.
— А, ну да. Там полно таких. Своего рода романтика, может, кому-то так даже больше нравится…
— Да, это романтика. И на одной барже собиралась компания, там были русские, люди из Восточной Европы. Одна романтическая и артистическая компания. Люди читали стихи, пели, разыгрывали спектакли. Ты там не был?
Нет, Маш, даже не слышал. Оказывается, есть русские тусовки, о которых я не знал, — твой семинар, эта баржа.
Саша не стал продолжать, опасаясь задеть нежные Машкины воспоминания ехидным комментарием. С какого-то момента он стал довольно настороженно относиться к здешним эмигрантским тусовкам. Они бывали интересными, но порой слишком надрывными. Люди собирались поговорить по-русски — и ругали Россию, а потом ругали Голландию, порой с тонкой иронией, порой с грубой издевкой. Там жить вообще нельзя, здесь до некоторой степени можно, только разве здешние понимают что в этой жизни… Выходила беседа разочарованных во всем, и прежде всего, кажется — в себе. Не нашли себя на Родине, не нашли и за границей… Да и у Юли — вся эта нарочитая европейскость — не от ущербности ли совковой? Смотрите, люди, кем я стала, девчонка с рабочей окраины…
А может быть, ему просто не везло? Ведь есть и другие — спокойные, уверенные в себе люди, которые выбрали определенный стиль жизни. Например, Лодейниковы. Тоже, может, не без надрыва, но надрыв этот хотя бы наружу не вылезает каждые пять минут…
А Маша продолжала:
— Так вот, он там играл на флейте, его очень любили. Он прекрасный музыкант. Но там была одна проблема. Они курили травку. Ты пробовал травку?
— Знаешь, Маш, никогда не тянуло, правда. Даже здесь.
— А я пробовала, когда была подросток. Тогда было много проблем, хотелось их отключить. Но у меня сильно заболела голова, тошнило, кайфа не было и я больше никогда хотела повторить. А он там попробовал. Ты знаешь, это так обычно, артистическая компания, водка, бренди, сигареты, каннабис… По-русски каннабис будет марихуана, да?
— Да.
— И он здорово играл, просто отлично, после марихуаны. Он импровизировал. Сначала он играл только на флейте, потом друзья подарили саксофон. Он говорил, что когда он выкурил одну сигарету с травкой и взял свой саксофон, он бог. Было похоже. Люди находили его звездой, а он обнимал меня и пел импровизации в мою честь, и это было прекрасно. Я тогда не понимала, я думала, одна сигарета — нестрашно. У нас многие так курят. Но потом стало нужно две сигареты. И водка, много водки. Он становился злой, особенно если не было марихуаны. Мы ходили туда раз в неделю, но ему нужно было курить чаще. Марихуана есть в кофе-шопах, но у него не хватало денег, регулярная порция стоит 25 гульденов. Малая — 15 гульденов.
— Да, круто. Если хорошо экономить, на четвертной можно на неделю еды накупить, не меньше! Ну, если на одного.
— Знаешь, почему ворованные велосипеды продают ровно по 25 гульденов? Столько стоит наркотическая порция. Он стал требовать денег у меня. Но у нас не было лишних! Я не могла бросить университет, подзарабатывать ему на травку. И меня уже не радовала ни флейта, ни саксофон. У меня начиналась депрессия. А он был такой злой, если не было травки, даже мог меня ударить в лицо. Да, два раза он ударял мое лицо и убегал из дома. Я не знала, где его искать. А потом он приходил, он был ласковый, счастливый, от него пахла марихуана. Он просил прощения, я его принимала, все было хорошо. Я думала, это мой крест.
— Твой что? — не понял Саша.
— Я думала, это мой крест. Мы говорили об этом с отцом Андреем, я тогда уже была православная, но он не поддержал меня. Он еще сказал во время исповеди, что если мы живем вместе, но мы не муж и жена, это называется блуд, и мы не можем причащаться. Мне это было так странно, потому что в Голландии это распространено. Мы же не проституируем, не ходим в дурные компании, люди просто не торопятся вступить в брак. Я тогда не поняла его, но я подчинилась. Я приходила в церковь, но я не могла причащаться. И все было очень тяжело. Мы начали скандалить. Наверное, мне не стоило его обижать, но мы жили в моем доме, на мои деньги, он совсем не хотел никак устроиться в жизни, он хотел жить в моей квартире, курить и импровизировать. Он думал, что если он играет мне на флейте, этого достаточно. Женщине нужно находить мужчину опорой. Мне казалось, что русские мужчины такие. У нас тут феминизм, ты же знаешь, если даму пропускают вперед, она обижается. Но это неправильно, феминизм обижает женщину еще хуже. Я ценила в нем, что он был настоящий мужчина, сильный, ласковый, добрый. Но он скоро перестал быть таким. Он стал наркоманом. Я несколько раз говорила ему: или бросай курить травку, или уходи. Но пришел день, когда я сказала, и он ушел. Я ревела неделю. Меня утешали друзья, мне даже звонил отец Андрей, хотя он всегда сильно занят, я потом ходила на сеанс психотерапевта. Я как будто умирала. Мы больше никогда не виделись, я не ходила на эту баржу и потом никогда не пойду. Я сменила квартиру. Я встретили потом одного друга, он сказал, что Владимир попал в тюрьму. Это была уличная кража. Ему не хватало на порцию. Я так переживала. Наверное, я не смогла ему помочь. Но что теперь я могла сделать? А потом я встретила тебя. Саша, ты не такой, это так здорово!
— Маш, так его звали Владимиром?
— Владимиром.
— Скажи… — в Сашиной голове зароились воспоминания, которые, наверное, были не к месту, но все же… — ты говорили, саксофон. Почему он играл на саксофоне, если был флейтист?
— О, он не был флейтист. Он мог играть на многих инструментах, но его главный инструмент был саксофон. Он рассказывал мне, что когда-то у него был в Амстердаме саксофон, но его сломали полицейские. Это так странно, я даже не верила, полицейские не могут так поступать. Он играл на Калверстрат, полицейский хотел забрать у него саксофон и сломал. Может быть, он выдумал это.
— Машка… Машка, он не выдумал, понимаешь! — Саша вскочил на ноги, взмахнул руками, и в Машиных глазах уже явно читался испуг. — Это же мы с ним, с ним там были! А потом мы зависли без денег, жилья, работы, без визы, мы с ним несколько месяцев гужевались где придется, даже на вокзале пробовали ночевать! Он же мне почти брат. Мы расстались в прошлом апреле, а я его с тех пор и не видел. Иногда смотрел в спину человеку, думал — вот, вроде, Вовка, а оказывалось, совсем другой. Вот оно как замкнулось-то, колечко! Где он теперь?
— Я говорила, в тюрьме… — в раскрытых Машиных глазах уже сиял не испуг, но настоящий ужас, причину которого Саша не хотел сейчас понимать.
— Да, ты говорила, — вялым эхом отозвался он, — в тюрьме… Уличная кража. Знаешь, мне так это знакомо! Нет, я не воровал, но вот когда жрать нечего, идешь по улице, смотришь на эти гладкие, пресытившиеся рожи, и думаешь: раз вы со мной так, раз вам на меня наплевать, то и я с вами так же. Вот велосипед вроде припаркован лажово, замок бы сейчас сковырнуть, да и продать его… Но нет, ни разу не взял. Да и не умею я… И Вовка был не такой. Но вот на ломах… Слушай, а где эта тюрьма?
— Я… я не знаю… Саша… это правда?
— Ну правда, правда, чего я, выдумал, что ли? А тюрьма… а впрочем, что тут сделаешь. Я же нелегал.
— Ты не волнуйся, Саша, — сказала Маша каким-то подчеркнуто правильным и бесцветным голосом, поднимаясь с земли, — у нас очень комфортабельные тюрьмы. В первый раз его наказали не очень строго, и потом его депортируют в Россию. Я не знаю, это может быть лучше для него. Он стал настоящим наркоманом. Кстати, у нас скоро автобус, пошли скорей.
— Да… автобус…
И они скорым шагом отправились к автобусной остановке, ошарашенные нежданным совпадением. Говорить об этой истории не хотелось. Половинки её совпали — но не сошлись.
15. Житейские вопросы на фоне сала
Вечером в воскресенье Саша действительно заглянул к Лодейниковым — правда, один. Маша с ним не пошла, и он вполне понимал, почему. Понимал, но не мог согласиться. Ну и что, что он дружил с Вовкой? Разве он теперь отвечает за вовкины наркотики, за это «ударял мое лицо» и все такое прочее? Депрессии свои лелеять поменьше надо. А то ее парень в тюрьму загремел, между прочим, а она об этом так спокойно говорит — мол, сплавила подальше, и ладно… Нет, все-таки не понять голландке русского. Хоть ты тресни, не понять.
Жили Лодейниковы в Амстердаме совсем недавно и тосковали не столько по родным краям, сколько по своей тусовке, и потому жадно собирали вокруг себя русских. Валера, свежеиспеченный кандидат физико-математических наук, получил какую-то хорошую работу в одном из двух городских университетов, вот они и жили пока что в университетском общежитии вместе с Галей и двумя мальчишками-погодками. Хорошие ребята, к ним всегда можно запросто завалиться, посидеть, поболтать, да и выпить нормально. А если слишком наберешься, можно даже ночевать остаться. Но это на самом деле ни к чему, они же в университетском общежитии в том же самом Амстелфейне, в пяти минутах на велосипеде. Один раз ехал от них пьяный, смешно сказать, уснул за рулем! Упал, конечно. Хорошо, что на газон.
На велосипедном багажнике стояли шесть бутылочек бельгийского белого пива в картонной коробочке — Сашино любимое, «Хухарден». С долькой лимона вообще бесподобно идет, но можно и так. По правде сказать, с лимоном он только один раз и пробовал, а обычно до пижонства руки как-то не доходили.
Общежитие было странным, каким-то уж совсем по-советски коммунальным. Блочное здание, по обеим сторонам которого тянулись балконы — сплошные, без перегородок, так что служили они чем-то вроде коридоров. Идешь себе по балкону, а за стеклянными дверями — чужая жизнь, которая то и дело выплескивается на балконы — покурить, подышать, пообщаться.
Квартирка у них тоже была забавная, в хрущовках такую систему называют «распашонкой». Входишь в крохотный коридорчик, справа и слева по спаленке (у Лодейниковых как раз получилось для детей и родителей), прямо перед тобой — некое подобие кухни, то есть плита, мойка и холодильничек в торце коридора. Тут же дверь в совмещенный санузел, а слева и справа — еще по комнатушке: вроде как справа кабинет, а слева — гостиная. Всего получается метров 40 общей площади, а ведь зато — четырехкомнатная! И с двумя балконами по обе стороны — двумя выходами в открытый студенческий космос. Дешево и сердито, как говорится.
Дверь ему открыла Галя, (компания, похоже, уже собралась — из гостиной доносились пока еще трезвые голоса):
— А, Санек, здорово, проходи. Так, пиво в холодильник, черт, там места уже нету, маленький он, сволочь, ну ничего, так выпьем, оно вроде не теплое… А что ты один — без Маши?
— Не, пиво теплое, — признался Саша.
— Ну проходи, проходи. Валерка там заканчивает с докладом, ему завтра в Гамбург на конференцию, я картошку жарю, а ребята там уже, в общем, проходи.
— А, Саня, — выглянул из рабочего кабинета Валера, — давай, располагайся. Мне, понимаешь, завтра к немцам ехать, я тут быстренько доклад дотюкаю. Ты, кстати, не в курсе, как по-английски сказать «в заключение»?
— Ну, может быть, «in conclusion» — неуверенно протянул Саша.
— Ага. Спасибо, — и Валерка немедленно скрылся в своем условном кабинетике. «Да брат, это тебе не тряпку с пылесосом держать, — прислушиваясь к бодрой дроби за дверью, невольно усмехнулся Саня. — В Гамбург! Ишь ты».
— Не, сала тут настоящего нету, — донеслось тем временем из гостиной. — Мы с Олесей так делаем: покупаем якобы венгерское в их супермаркете, он так и называется «Еда», прямо по-нашему[56]. Ну, и сами еще доводим: с перчиком там, с сольцой… Недельку подержим натертым, вроде и годится. Мы из Киева настоящего привезли, только где ж теперь то сало…
— Здрасьте, — Саша застыл на пороге гостиной.
— Привет, — отозвался озабоченный салом человек средних лет в аккуратном, но потрепанном сером костюме. — Не из Украины будете?
— Да нет, из Москвы…
— Ну, — рассмеялся тот, — как раз поспели: теперь москали опять будут клеветать, что мы только про сало и гуторим… Впрочем, проходите. Я Петр Остапенко, микробиолог, а вот Олеся, моя жена, — показал он на сидевшую рядом худощавую блондинку.
— Саша Смирнов… уборщик.
Третьей в компании была приятная женщина кавказской внешности, она сидела в углу и почему-то казалась знакомой.
— Тамара, — улыбнулась она. — Ваша коллега.
— Ну, Тамара скромничает, — отозвался Остапенко. — Она в нашей группе первый специалист.
— А по совместительству уборщик, — настаивала та, — когда домой приду. Сынишка такой погром устраивает. Садитесь, Саша.
— Тамара, а Вы тоже из Киева? — спросил Саша.
— Нет, я московская грузинка. Мы здесь все из бывшего Союза, по специальной программе учимся на биофаке.
— А что, стосковались друг по дружке, небось? — донесся бодрый Галин голос из «кухни».
— И не говори, Галка, — ответила молчавшая до сих пор Олеся, — я как вспомню нашу коммуналку…
— Киевскую? — не понял Саша.
— Да нет, Амстердамскую.
— А разве такое бывает? — изумился Саня. Где, казалось бы, только ни ночевал, но такого не видел.
— Бывает-бывает, — Петр мощно хлебнул «Хухардена». — Ишь, какое пивко… У нас учебная программа — университет приглашает советских специалистов по микробиологии. Ну, тут парторги-профорги всякие налетели… А им простой такой вопросик: пришлите список публикаций за последние десять лет. И точка. А какие публикации у парторга — смекаешь? Партийное руководство глистами в свете последних решений? А у нас с Тамарой, да еще у некоторых — по паре публикаций таких, что во всем мире цитируют. Так что обломалась партэлита. А нас позвали. В общем, прилетаем сюда, встречают нас, а я им — «битте шён! Майне фрау, майне тохтер»[57]. Они, в принципе, в приглашении упомянули их, но на самом деле не ждали. А куда же я без них поеду? В общем, решили нас, как цивилизованных, по квартирам расселить. Сняли на Бетховен-страт несколько меблированных квартир для молодых ученых, каждому по комнате. А большинство-то приехало всем семейством!
— Да, есть, что вспомнить, — мягко отозвалась Тамара.
— У них там три дамы жили. Тамара со своим мальчишкой приехала, а Лариса и Татьяна — кроме детей еще и с мужьями. И живут! Белье в ванной стирают, на балконе сушат. Еду по очереди в кухне готовят. Щами весь подъезд пропах.
— Бедная наша мисс Феликс, — отозвалась Тамара.
— Ну да, а там управляющая — фельдфебель в юбке, гримаса капитализма. Хозяин-то за домом не следит, только доход получает, а вот эта Феликс долго не могла ситуёвину уразуметь: как зайдет в квартиру, думает, наверно, что это гостей столько пришло. В общем, когда она просекла, в чем дело, она та-акой скандалище закатила! Выставила университету счет за проживание дополнительных персон, да потребовала, чтобы все посторонние немедленно съехали. Так вот мы все сюда, в общагу и переселились. Все по отдельности, так гораздо лучше, конечно.
— А что, — поинтересовался Саня, — у них семьи не запланированы, что ли?
— Нет, конечно, — ответила Олеся. — Зовут ведь специалистов. А всё остальное — личное дело.
— Да что семьи! На этой Голландщине гостей разве так принимают, как у нас заведено? — с большой скворчащей сковородой картошки в комнату вплыла Галя. — Нам тут уже объяснили: в шесть все обедают. Значит, если зовут к шести, рассчитывай на обед, если к четырем или к восьми — на чашку кофе с печенюшкой. Буквально на чашку, ну, две! Нас тут с Валеркой позвала одна семья, к половине пятого, мы пришли, поговорили с ними, сами смотрим на часы: вроде как уже к шести дело, непонятно, уходить, что ли? А как сказать, может, обидятся? А она сама возьми да и скажи: «I think it’s time for you to go home»[58].
Смущенно улыбаясь, из своего укрытия вынырнул Валера:
— Ну все, дотюкал. Давайте, что ли, по маленькой!
— Валер, а по какой теме доклад? — спросил Саша.
— Да так, обычная наша мутотень… По математическим методам спецификации полного цикла производства программных продуктов.
— Что-то насчет Венского метода?
— Ну да, это ж сейчас самое перспективное. Стоп… Саня, а ты, я смотрю, разбираешься?
— Так я же два курса мехмата закончил. Ну, и программированием увлекался.
— Серьезно? Ну, дела-а. Слушай, Санек… Да нет, не выйдет, наверное, — Валера уже сел за стол и держал первую рюмку. — Ну, поехали! За встречу.
— А что не выйдет-то, — переспросил Саня, пока водка теплым шариком спускалась по пищеводу.
— Ну, я вот подумал: нам человек еще один ой как пригодился бы. Голландцы, они ребята толковые, но с образованием у них беда-а… Наш второкурсник иногда равен их выпускнику. А ты, говоришь, разбираешься?
— Я говорю, интересовался когда-то. Многое уже забыл.
— Главное, чтобы чайник варил, а подучиться-то всегда можно. Знаешь что… я поговорю с нашим боссом, ты мне позвони через денька три-четыре, или я сам позвоню, лады?
Идея Валеры насчет университета, конечно, была заманчива. Но Саша уже натренировал себя не разевать рот на такую вот халяву. Слишком редко она сбывалась.
— Фиговая у них водка, и образование фиговое — после второй резюмировал Петр.
— Водка-то немецкая, — вступился Саня.
— Ну вот, даже водки своей нет… А джин их этот вообще никуда не годится. Как и образование, — настаивал Петр, — мы свою Оксанку в международную школу отдали, для посольских. Там программа поприличнее. Тамар, а твой куда ходит?
— Школа по системе итальянского педагога Монтессори, — пояснила Тамара. — Но я не уверена, что ему это подходит…
— А что за система? — оживилась Галя.
— Странная это школа, — с мягкой грустью начала Тамара, — парню уже шесть лет. Но у нас даже в детском саду в старшей группе их уже читать-считать учат, а тут вообще непонятно, чем они занимаются: кубики какие-то разноцветные, формочки… А главное, проблема с дисциплиной. Ну просто ужасная проблема! Никому ничего не запрещается. И дети ходят совершенно на головах. К тому же у них в классе около трети — турки и прочие. Они же совершенно не говорят по-голландски, мой и то лучше! И вот учительница тратит большую часть времени, чтобы хоть как-то установить с ними контакт. Странно, что она сама еще на турецкий не перешла! А они сколотили свою прямо банду, лупцуют всех прочих детей и никого слушать не хотят. Вон, рассказывали, в старших классах турки местным так и говорят: мол, дождетесь, мы вас скоро в море сбросим!
— И не говори, — вступил Петр, — строгость тут нужна!
— А вот еще недавно им раздали рабочие тетради, и там среди всяких птичек-бабочек маленькие голые дети. Вот «йонге», мальчик, а вот и «мяйше», девочка, прямо так с письками и нарисованы. Я уж и не знаю, как к этому относиться.
— Да никак не относись, — посоветовала Галя, — надо будет парню, сам разберется. Ну, спросит в случае чего.
— А у нас — отозвался Петр, — тоже в международной школе Оксанке дали пособие по сексологии. Я прямо озверел! Ну, сиськи-пиписьки это ладно, мама-папа, животик в разрезе — тоже ничего страшного. Лучше пусть так, чем в подворотне ей все расскажут и покажут. Меня вот что убило: страничка с четырьмя картинками. На одной хлопчик гуляет в обнимку с девочкой. Ладно. На другой — две девочки в обнимку друг с дружкой. Допустим. На третьей — хлопчик в обнимку с хлопчиком! А четвертая перечеркнута пополам, там в одном углу — хлопчик с девочкой, а в другом — хлопец с другим хлопцем. И подпись, подпись-то какова! Люди мол, разные: кому нравится со своим полом гулять, кому — с противоположным. А ты к какому типу относишься? Это десятилетним соплюхам и соплякам вопросик такой задавать! Представляете?!
— Ужас! — ахнула Тамара.
— Ну да! А может, на следующей картинке нарисовать, как кто козу какую обихаживает? И такие ведь бывают!
— Ага. Но надо же делать разницу между нормой и извращением! Причем школа и должна устанавливать норму. А извращения сами появятся, — рассудительно подвела итог Олеся.
— Ну, тут они явно так не считают, — ответили Галя, — у них школа призвана отражать жизнь во всех ее проявлениях.
— Ну да, а врач, вместо того, чтобы лечить больных, будет рассказывать им, что инвалиды — тоже достойные члены общества, да? Слушай, Саня, ты тут ведь давно — неужели у них эта дрянь и в самом деле на каждом шагу?
— Да ведь я-то не по этой части, — усмехнулся Саня, — к гомикам не хожу, наркоту не употребляю. Вот водочки — это пожалуйста.
— И точно, — оживился Валера, — чего-то мы заболтались. Ну, еще по одной… по последней, кажется? Девочки, вам?
— Себе, себе налейте, — Олеся прикрыла рюмку ладонью.
— Мне рассказывали, — вернулась к прежней теме Тамара, — что в Голландии даже венчают гомосексуальные браки! И что первый пастор, который совершил такой обряд, был женщиной!
— Переодетой, что ли? — удивилась Оксана.
— Нет, точнее сказать, женщина и была пастором. Это у них сплошь и рядом.
— Поп с невестой местами поменялись! — хохотнул Петр. — Вырождаются они тут, точно.
— Но я этого даже понять не могу, — растерянно произнесла Тамара, — у нас вот такой красивый обряд венчания. Священник молится, чтобы молодые уподобились Аврааму и Сарре, а еще Иакову и… кто там был его женой, кажется, Ревекка? Ну, в общем, патриархам. А на таком венчании кого вспоминать будут?
— Содом с Гоморрой! — весело отозвался Петр.
— Саша, а тут ведь и церковь наша вроде есть? — спросила Галя.
— Есть. На Керк-страт. Так прямо и называется — Церковная улица. Они там у католиков кусочек собора арендуют.
— Бывали?
— Бывал… на Пасху последний раз.
— На Пасху и мы были, как же, — отозвалась Олеся, — а Тамара вообще часто ходит.
— Вот откуда лицо знакомо… — протянул Саша. — Я-то сам редко, вот только на Пасху и на Страстной. Как-то не до этого.
Саше захотелось рассказать, как это было — даже не на Пасху, а именно на Страстной. Его позвала Машка — в ночь с пятницы на субботу они собирались читать в храме Евангелие. Каждый по полчаса. Кто не читал, спал в небольшой комнатке наверху, где обычно пили кофе после службы. Машкина череда была с полчетвертого до четырех; значит, Саша выбрал до полпятого. Трудное время, самый сон.
Будильник ударил прямо в ухо: без пяти четыре. Саша хлопнул ладонью, вскочил на ноги, протер глаза. Невозможно гудела сонная голова — спал-то всего ничего. Но пока спускался вниз, как будто все развеялось. И вступил в сумрачное пространство маленького храма, примостившегося под крылом чопорного католического собора. Посредине стояла на подставе плащаница — большая икона убитого Христа. На подсвечнике теплилась пара свечей, и перед ними — стояла девушка в платочке, и округло, напевно, по-университетски правильно и по-детски вдохновенно текла ее славянская речь (каждый сам выбирал язык чтения). Трудно было узнать в этой сумеречной и торжественной фигуре Машку. Она закончила фразу, приняла из его рук русскую Библию и показала пальчиком: вот здесь. Саша встал на ее место.
Кто-то стоял у него за спиной (наверное, осталась Машка, а может, подошел кто-нибудь еще), но было не до того. Перед ним лежал мертвый Христос в окружении скромных цветов, а Саша читал по Нему Евангелие. Словно действительно только что умер кто-то дорогой, и надо было продержаться эту ночь у мертвого тела. Гулко звучали слова, колебались строки в слабом свете свечи, и пересыхало горло…
«…придя же в себя, сказал: „сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих“. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. И начали веселиться».
И знакомый издавна сюжет вдруг вырастал в полный рост в присутствии Мертвеца и невидимых людей за спиной. Словно тут и вправду была пещера, где когда-то лежало Его тело. Словно все было в первый раз: и эта смерть, и это слово.
А потом кто-то тронул его за плечо, и незнакомый очкастый парень со спутанными русыми кудрями заглянул к нему в текст, отчеркнул что-то ногтем у себя, в книжке с замысловатыми вьющимися буквами, встал на его место и начал новую главу на еще одном языке, нараспев: «Элеген де ке прос тон мафитон…»[59] Как непохоже было это на официальную строгость московских храмов!
Воспоминание нахлынуло так ярко, что он даже не заметил: Петр уже вовсю обсуждал какую-то другую тему. Здесь-то жизнь шла в обыденной колее. Нет, здесь об этом не расскажешь, не получится.
— Ну, мы этого уже не увидим. До дому, до хаты, каштаны в цвету… Ох, люблю я этот город, Киев! А вот Тамарка останется.
— Неизвестно еще, — ответила Тамара, — контракт не подписан, а подишут — как оно еще сложится… Тысячи две в месяц для начала положат. Минус налоги, за квартиру, за школу… Уж и не знаю, сколько останется.
— Вдвоем на две тысячи прожить можно. И даже неплохо, — основательно резюмировал Саша.
— Да? Впрочем, Вы, Саша, наверное, знаете…
— Я тут жил на гораздо меньшие средства. Правда, без ребенка.
— Саша, как ты сюда попал-то? — вдруг напрямую спросил Петр.
— С гастролями, — усмехнулся Саша.
— С какими гастролями? Ты же математик?
— Пробовал им стать. И актером тоже пробовал. После гастролей остался. Теперь вот уборщик. Зато свободен.
— Уважаю решительность, — сказал Петр, — Я, может быть, если здесь полы мыть пойду…
— Да не пойдешь ты, — перебила его Олеся.
— Ну, надо будет, так пойду! В общем, я, может быть, здесь и пристроюсь чернорабочим. Может, буду больше получать, чем наш директор института. Но кто я здесь буду? А там я ученый. Голодный, но уважаемый. Они нас здесь для чего прикармливают? Ну, лучших, вроде Тамарки, себе заграбастать, а мы чтоб там сидели и не рыпались. В Киеве я и для них буду человек. Там, мне, может, грант дадут, хоть сотню баксов в месяц. Да у тещи под Житомиром поросята, так что без сала не останемся. Сало-то доели?
— Пиднадкусали, — задразнилась Галя. — Вот, остатний кусочек, Петро, тебе чекае.
— А что, Саша — теперь не жалеешь, что остался? — продолжал Петр.
— Пожалуй, оно того стоило. Что-то я узнал.
— А что, интересно? — включилась Олеся.
Я не знаю, как это назвать. Во всяком случае, не из области математики, — попробовал обратить все в шутку Саша. — И вообще: сало доели, водку допили, переходим на вечные вопросы! Вот ведь забавно получается: я вчера вот только говорил с… ну, в общем, с одной местной жительницей. И она мне все рассказывала, какие у русских глубокие и содержательные разговоры. Достоевского цитировала: «дай русскому мальчику карту звездного неба, и он вернет ее исправленной». Мол, полночь-заполночь, а мы все о судьбах мира. А вот вы прикиньте, какие мы тут мировые вопросы решали: как сало готовят, как в одной квартире три семьи проживут, да нужно ли детям показывать пиписьки. Вот и вся достоевщина.
— Достое-ееевщина, — протянул Петр, — будь она неладна! Это местную интеллигенцию, обожрамшись, на солененькое потянуло, вроде как после торта на селедочку. А у нас и по жизни достаточно достоевщины. Так что давайте-ка лучше про сало
— Вот что, ребят, — свернул на другие рельсы Валера, — а не пойти ли нам в кабак? Типа, на дорожку. Я проставляюсь. Вы там завтра за меня кулаки держите, мне еще германскую границу пересекать, кстати, без визы. Ну, и конференция послезавтра. Тут местный кабачок есть, где студиозусы оттягиваются, вроде, ничего, и не слишком дорого. Так что по стаканчику возьмем.
— Ну, тогда пошли, — резюмировал Петр.
И компания влилась в чрево студенческого бара, где орала невнятная музыка и развлекалась не менее невнятная молодежь. Наверное, как раз с такими заскучала в свое время Карен, перед тем, как стать Машей…
16. Adieu…
По раскаленной августовской жарой автотрассе несся новенький пежо с голландскими номерами, голландским водителем и тремя голландскими пассажирами. Четвертым пассажиром, на середине заднего сиденья, был Саша Смирнов. Позади оставался маленький привал в Бельгии, у отрогов Арденн, где за чашку кофе и за вход в туалет Саша расплатился голландской мелочью — желтых бельгийских монет с королем Бодуэном у него просто не было. Там в туалете он перепутал дверь, и вместо выхода прошел в женскую половину (странно, зачем такую дверь между двумя половинками проделали?), и две молодые голландки долго потом смеялись по этому поводу. Ну да, туалетный юмор у них — самый популярный.
Две голландские студенческие пары возвращались из Парижа с какой-то выставки. Вот так вот запросто сели в машину и поехали в соседнюю страну на выставку. А что, каникулы кончаются, скоро за парту — прошвырнемся в Париж! А чтобы оправдать деньги на бензин, связались с системой «аллостоп» — организованным автостопом. Очень удобно, в самом деле: в этом агентстве им подбирают попутчиков, а те платят по твердой таксе. А уж попутчикам как удобно! От Амстердама до Парижа — тридцать с небольшим гульденов, и столько же обратно, дешевле автобусного билета. А главное, едешь на машине с европейскими номерами. Такие редко останавливают на границе, разве что уж кто-то совсем подозрительный будет сидеть внутри.
Позади лежал такой же маленький привал в Пикардии, еще во Франции. Это там он разговорился со своими попутчиками. Откуда ты, парень? Из России? А, так вот почему ты худой! У вас ведь там кризис, проблемы, хочешь бутерброд? Нет, говоришь, давно приехал? А что в Голландии делаешь? Работаешь, учишься, путешествуешь?
А и в самом деле, что он в Голландии делает? Работает, конечно, кушать-то надо. Причем в последнее время уже и не только уборщиком. Маша поделилась с ним переводами на русский, сама она что-то не успевала, и заплатили за коммерческие бумажки очень даже прилично. Если бы не это обстоятельство, не видать бы ему Парижа. Вот только с Машкой так и не сложилось…
Еще, наверное, он действительно учится. Что-то такое про «школу жизни» говорить глупо, да и очень банально, но ведь и в самом деле он открыл для себя — или в себе? — нечто новое. Что бы там ни было, но он уже не тот растерянный и восторженный школяр, который когда-то спускался по трапу в Схипхоле. Может, уже и выпускник.
И еще он теперь — путешествует! Да, только теперь, после полутора лет в Европе, он вот просто так берет и едет в чужую страну. С месяц назад он звонил Лодейникову, спросил, как прошла гамбургская поездка. Оказывается, поездка никак не прошла: в поезде немецкие пограничники тормознули безвизового Валеру и даже штамп какой-то в паспорт вкатили о попытке нелегального перехода границы. Валера ужасно ругался, но все равно собирался с Галей поехать в Париж, тоже без виз, на машине приятелей, пока Тамара приглядит за их мальчишками. Он-то в Гамбург ехал поездом, там обычно документы проверяют, а вот на машине с местными номерами — без проблем. А вот насчет университета… Он узнавал: да, вообще-то на кафедре была одна вакансия, но когда оказалось, что на нее претендует русский нелегал без официального высшего образования, разговор закончился. Так что извини, старик.
Но все равно Валерка навел его тогда на замечательную идею. Съездить в Европу и не повидать Парижа? Не бывает! А заодно — своего рода лотерея. Да, он еще и играет с судьбой! Три страны: Нидерланлы, Бельгия, Франция — значит, на этом маршруте будут четыре границы. Любая проверка документов означает немедленную депортацию, это ясно. Тут взятку в лапу не сунешь. Так что оставил инструкции Диме, что и как в случае, если он не вернется. Депортация, так депортация. Значит, домой, только и всего! Хватит дрожать, в конце концов.
Теперь позади было три пограничных поста, на которых у Саши не спрашивали документов. Оставался последний, на бельгийско-нидерландской границе.
Очень жалко, конечно, что он был в Париже один. Хоть и писал в свое время Чехов, что ехать туда с женой или девушкой — все равно что в Тулу со своим самоваром, но до последнего момента хотелось попасть туда с Машкой. Но не вышло. У них вообще после той маркенской поездки все как-то разладилось. Она на него за что-то обиделась, он так и не понял за что, да и он тоже не мог ей по-настоящему простить, что вот так вот запросто она бросила Вовку. Ну ладно, ссорились-мирились, с кем не бывает, но неужели она его вот так же, как Ингрид — выпихнула, когда стал не нужен… Вовка тоже хорош, конечно, свинтус настоящий, но не бросать же его теперь из-за этого! Подобрала на улице, так теперь не выбрасывай.
А сам-то его бросил, говорил внутренний голос, сам-то не захотел с ним рядом бултыхаться, но тут же находился и ответ: я нелегал, что я тут могу. Первая встреча с полицейским означает одно: депортацию. Это вот Машка, точнее, Карен…
Они еще перезванивались, пару раз встречались, но в какой-то момент он поймал себя на мысли, что говорит ей «пока» с облегчением. Не то, чтобы было плохо, но и хорошо тоже не было от этих встреч — словно оба ждали чего-то друг от друга, чего дать то ли не могли, то ли не хотели. И в какой-то момент он просто позвонил, а встретиться — не предложил. И Машка не предложила.
Нечего, наверное, было раскрывать свое былое знакомство с Вовкой. Для нее это явно было болевой точкой, да впрочем, этих болевых точек у нее и так хватало, а Саша не знал, как их обходить. А еще не знал, где у нее кончается литература и начинается жизнь. Да и вообще, после того рассказа он призадумался: а он-то ей зачем? Тоже в виде героя Достоевского? А вдруг не потянет? Тогда и его — пинком под зад? Нет уж, лучше сразу… Ладно. Проехали.
Ведь он и в самом деле тут никто. Ничтожество, если мерить привычными мерками, если смотреть на него глазами человека в форме. А можно сказать иначе: он — человек, живущий по собственному выбору. Захотел вот поехать в Париж — и поехал.
И теперь уже знает он точно: он не пропадет. Ни здесь, на сытом и равнодушном Западе, ни там, в задушевной и нищей России. Он еще не знает, что будет завтра, но он может делать свой выбор, он готов нести за него ответственность. Ему не нужны добрые дяди и в особенности тети, которые в любой момент могут сказать ему «прости-прощай». Он может теперь говорить «doe-i!»[60] первым, он хорошо усвоил уроки голландского.
Так и парижскую поездку он устроил себе сам. У Валерки на работе был новый зверь интернет, он по просьбе Саши высмотрел адрес какого-то недорогого парижского хостела, долларов по 15 в день. Оказался он вроде общаги, куда их поселили после приезда в Амстердам, да и от центра недалеко. В том же интернете разузнали про самые дешевые супермаркеты, «Monoprix», нашли ближайший к хостелу. Там можно было закупать батоны, которые тут звали «багетами», сыр, ветчину и делать бутерброды, а потом бродить целый день по городу с ними и с бутылкой воды в рюкзаке. Дешево, и ни от кого не зависишь.
Когда другая машина с европейскими номерами завезла его в вечерний город и вдалеке на холме замаячил светлый силуэт Сакре-Кёр, знакомый с давних времен по давно заброшенному учебнику французского, он не мог поверить: неужели Париж? А потом машина оставила его у входа в метро, где пахло дешевой дезинфекцией и с отсутствующим видом ждали поезда негры. Так и впечатались в память первые впечатления от Парижа: световой силуэт собора и пропахший хлоркой грязный перрон.
Париж тоже оставался позади. Как описать его, первый визит русского мальчика в Париж, прямо в карту звездного неба? Восторг и удивление, и, может быть, даже разочарование, что это не одна только сказка, а просто еще большой шумный и не слишком чистый город, как и Москва. Даже и русской речью обдавало на каждом шагу.
Позади оставался ажурный силуэт Эйфелевой башни, растиражированной в миллиардах сувениров, и лифт, стремительно взлетавший по ее изящной ноге, а потом многоликая толпа глазела с верхнего пятачка на залитый солнцем город. И за спиной: «Так, ну и шо в этом Париже мы ще не видали? У Лувре были, у замке этом, как его, тоже, шо осталось? — Та шо тут смотреть, большая дереуня, уроде нашего Брайтону — Ну, не скажи, все ж таки культура ж тут просматривается».
Оставался позади бесконечной чередой коридоров тот самый Лувр, где уже бывали брайтонские, и где Саше через три часа стало просто невмоготу, картины не вмещались в сознание. Он решил выйти передохнуть во двор, к фонтану и к нелепой стеклянной пирамиде, но спутал дорогу и наткнулся на нижнем этаже на Венеру Милосскую. Толпа японцев озаряла ее вспышками фотографических молний, снимаясь поочередно на ее фоне, но золото солнца все равно играло на ее коже, и невозможно было поверить, что это мертвый мрамор, а не живая богиня. И тут же, в коридоре горячечной интеллигентской скороговоркой на два голоса: «Нет, как же вы не понимаете, президенту сейчас нужна наша безусловная поддержка, советская гадина должна быть окончательно раздавлена, советская экономика полностью демонтирована, и только после этого можно надеяться на возрождение обновленной России — Простите, но воровство, лихоимство, наконец, эти пьяные дебоши, как вы можете поддерживать все это? — Но ворюга нам милей, чем кровопийца, и мы должны быть солидарны с Борисом Николаевичем… — Так как же, если вы сами призываете давить гадину, ведь не может обойтись без большой крови, неужели вам не ясно… — Нет, это вы не хотите понять!»
Да оба они ни фига не хотели понять в двух шагах от Венеры Милосской.
Оставалась позади сумрачная, невнятная громада Нотр-Дама, где можно было гулять, как в тенистом парке, а потом взобраться на башни и любоваться вместе с ироничными каменными химерами — здесь их звали «горгульями» — на копошащуюся у подножья собора разноязыкую жизнь. Если спуститься, станет слышно, как эта жизнь, частично и на русском языке, предлагает нарисовать портрет, купить открытки, как она обсуждает планы на вечер или хвастается сувенирами.
Оставались позади бесчисленные музеи, от такого домашнего музея Пикассо с бронзовой козой во дворике, словно тут же ее и собирались подоить, до огромного Орсэ, который был вокзалом, да так им и остался, с толпами туристов, что купили билет до импрессионизма, а потом осаждали буфет с туалетом. Оставались цветочные и открыточные улочки Монмартра, базарный Монпарнас, книжные развалы вдоль бульвара Сен-Мишель и маленькие забегаловки в боковых ответвлениях от него, где курчавые посетители неизменно приветствовали друг друга: «салям алейкум».
Летом одна тысяча девятьсот девяносто третьего года позади него оставался Париж. Он приехал туда свободным человеком, свободным и от идеологических шор (коммунистических ли, каких ли иных — не так уж и важно), и от унижающего безденежья, и от робкого страха советского человека перед Неведомой и Прекрасной Заграницей, где ты никому, увы, не нужен. Если что-то он хотел доказать себе и другим — доказал.
Радио в машине было настроено на французскую станцию, передававшую старые, проверенные временем шлягеры, и стереозвук обволакивал пассажиров со всех сторон. Сейчас Мирей Матье пела «Acropolis, adieu…»[61] Это было не про Париж, конечно, а про Грецию, но все равно выходило так, будто это счастливый Саша прощался и с Парижем, и с какими-то своими комплексами, и можно было начинать дальше.
А потом Эдит Пиаф запела, играя на каждой букве R, как на аккордеоне: «Non, rien de rien, non, je ne regrète rien…»[62], и Саша впервые понял слова этой знакомой песни. Несколько дней во Франции, где сперва казалось чудным, что кругом почти все говорят по-французски, даже маленькие дети, оживили в его памяти полузабытые начатки этого языка. Тем более, что с английским в Париже далеко не уедешь, даже в туристических местах. «Нет, ни о чем, не жалею я ни о чем…» Точно. Он не жалел ни о чем.
Перед пограничным постом машина притормозила. В окне медленно проплыла очередная чиновная физиономия, разглядела пассажиров, ничего не сказала — и машина без проверки пересекла четвертую границу. Саша был снова в Нидерландах. Игра была сыграна, и Саша выиграл, впрочем, у депортации шансы с самого начала были не слишком высоки.
Наверное, кто-то скажет ему: ты хотел им всем доказать, что ты взрослый. Неправда. Даже себе не хотел, не было в том необходимости. Он хотел ощутить вкус свободы — и не в том дело, в какой стране проживать и сколько сортов сыра покупать, а в том, что ты сам выбираешь все это. И не ведут тебя за ниточку ни громкие слова о долге, ни бурчание в голодном желудке, ни чужие люди в форме, ни идеологические программы всех мыслимых расцветок. Выбираешь сам — и Сане это, похоже, удалось.
Значит, можно не прятаться и жить дальше — свободным. Можно искать свое место… А где оно, это место? Здесь, со шваброй в руках? Вряд ли. На берегах теплых океанов, куда собрался Димон? Тоже не очень верится — разве что дети будут чувствовать этот берег своим домом, но когда они еще будут, эти дети… Или все-таки в Москве — в театре, универе, или может быть, просто там, где спускается вал тополей с Рождественского бульвара на Трубную площадь, где еще прячутся в переулках между Остоженкой и Пречистенкой старые деревянные домики, где усмиряют городскую суету сосны Серебряного Бора… Проживи еще полвека здесь — а все это останется с тобой. Никуда не денется, сколько границ ни пересекай.
Как близко все это, в четырех часах полета — и как далеко. В другой жизни, куда не попадешь обратно, не отказавшись навсегда от этой. Но теперь, отныне и навсегда, он сам будет делать свой выбор.
В Амстелфейн Саша добрался поздним вечером. Открыл своим ключом дверь их маленькой квартиры, с кухни доносились веселые голоса Димы и еще какого-то парня. Саша заглянул туда, прямо как был, с рюкзаком за плечами. За столом с бутылками пива и чипсами сидели Дима и тихий болгарин Иво, который уже пару раз заходил к ним.
— О, Саня, здорово! Ну, как Париж?
— Как положено!
— Ну, тогда порядок. А мы тут как раз отмечаем, присоединяйся. Все, через три недели хвосты новозеландским коровам крутить будем. Билеты, паспорта — все оформили.
— Серьезно? Ну, поздравляю. Дим, а я тебе подарок привез, как ты просил, — и Саша выудил из рюкзака дурацкую майку с Эйфелевой башней. — Как видишь, стои́т!
— Ну, чтоб и у нас так стоял, — Дима сковырнул с бутылки «Амстеля» крышку и протянул ее Сане, — спасибо, брат. Ты прикинь, Иво, — вот в чем буду на ранчо батрачить. Жаль, еще майку с Кремлем взять не догадался. Разве что тут на Ватерлоо у наших купить. Земляку, небось, со скидкой уступят.
— Хлебнули пива, Иво молча протянул Саше пачку чипсов, и Саша спросил его:
— Иво, тоже едешь?
— Тоже еду, — кивнул болгарин, — наконец, будут документы у меня.
— Так, Санек, а теперь слушай, — неожиданно посерьезнел Дима. — Теперь деловой разговор начинается. В Новую Зеландию они еще год будут пускать, не меньше. Еще, конечно, есть Южная Африка, но что-то меня туда не тянет, там у негров разборки с белыми крутые пошли, ну его на хер. А еще, говорят, Канада принимает, но там холодно, и документы сложно собирать, особенно нелегалам. Ты не торопишься выбирать, и это правильно, только долго резину тоже не тяни. У меня есть знакомый мужик, адрес вон на бумажке, он тебе такие рекомендации добудет, закачаешься. С ними хоть в парламент избирайся. Подаешь пока документики в новозеландское посольство, я тебе сейчас распишу, куда и в каком виде. Они там потихоньку оформляются, а мы приедем, освоимся, напишу тебе, как там и что. Ты все взвесишь, а тем временем и бумаги готовы, они и денег не берут. Не захочешь — не поедешь, только… только все равно ведь надо легализоваться. Всю жизнь-то не пробомжуешь.
— Не, Дим, спасибо. Вы пишите, я, может, в гости приеду. А насовсем не хочу. Слишком далеко, не выберешься потом.
— Ну есть еще вариант, конечно — женись вон на Машке своей, хоть фиктивно, вот тебе и вид на жительство, а если не разойдетесь — годиков через пять и гражданство. Если бы у меня тут такая была, я бы остался. Голландский паспорт куда круче даже американского, всюду пускают, никто волком не косит.
— Знаешь, это вряд ли. Не очень-то у нас получается.
— В Париже как было, нормально? — спросил неожиданно Иво.
— Нормально. Я бы даже сказал, отлично.
— И вот еще что, Санек, — продолжил Дима, — тебе ведь одному эта квартира не потянуть, правильно? Так я тебе одного огурца приведу, если понравится — пусть он потом на мое место впишется.
— Наверно, не надо, Дим.
— А что так? Отдельную снимешь? Дороже встанет, смотри.
— Я вернусь домой.
— Что-о-о?
Дима даже привстал, выражая всем своим видом то, что явно хотел сказать, но не сказал: да чтобы обратно в этот совок, да ты совсем сбрендил, жрать там нечего, и никому ты не нужен, и вообще там гражданская война скоро начнется, и… — но ничего не сказал. Он умел промолчать. Саша всегда ценил в нем это качество. И сказал Дима только одно:
— Давно так решил, Санек?
— Два часа назад, Димон. Я возвращаюсь.
17. … и здравствуй!
Обратного пути как будто и не было.
Были нудные объяснения на регистрации, почему такой перевес, и Саша все-таки отказался сдавать в багаж вторую ручную кладь и платить, и правильно, потому что несли в салон и по четыре тяжеленные сумки. Был еще более нудный разговор с пограничниками в отдельном закутке возле паспортного контроля, и даже какое-то уважение в их голосе — надо же, сам возвращается! — и все-таки штраф за нарушение визового режима.
Был ТУ-154, разрезавший разреженную атмосферу на высоте 10 600 метров. Были две точки в пространстве — Схипхол и Шереметьево — между которыми он должен был провести единственно возможную прямую. Были три с половиной часа свободного времени, к которым шарообразность земли добавляла двухчасовую разницу во времени. Не было ни соседей (точнее были, но он их не запомнил), ни восторга от проплывавшей за иллюминатором географической карты. Собственно, не было и карты — низкие облака ранней осени поглотили самолет, едва тот оторвался от земли, и хотя на высоте сияло ослепительное солнце, но земля была прочно скрыта белой пеленой. Саша припомнил свой полет в Голландию — как он завидовал сидевшему у иллюминатора соседу (а теперь сам сидел на выгодном месте), как с удивлением пережевывал воздушный обед. Теперь еда казалась искусственной и дешевой, да впрочем, такой она и была. Привык уже к другой пище.
Были соседи-голландцы, туристическая группа, всю дорогу радостно сосавшие пиво и виски и делавшие неуклюжие комплименты стюардессам. Отрываются ребята по полной, отпуск у них.
Но все это было где-то на задворках сознания. Саша думал только о том, как все будет в России. Надо будет взять такси — и сразу к маме. Впрочем, на такси надо рублей — придется искать обменный пункт прямо в аэропорту, должен же быть. А может быть, попробовать предложить таксисту валюту? Не возьмет, наверно. Но попробовать стоит. А потом… И уже было невозможно логично представить себе, что будет потом. В сознании всплывал хоровод лиц, слов и имен — и все это должно было придти сразу и полностью, хотя сразу и полностью придти не могло. И Саша вновь и вновь погружался в болезненную лихорадку, не замечая ничего вокруг и уходя в только что придуманное будущее, которое через несколько часов должно было стать настоящим.
«Пристегните, пожалуйста, ремни». Почти неощутимая перемена наклона самолета. Как долго, как мучительно долго снижается он с этих десяти тысяч метров до уровня человеческих жизней. Но все-таки — увеличившиеся деревья и здания проносятся в иллюминаторе, и сразу толчок снизу, и вжимает тебя в спинку кресла на торможении, и зачем-то аплодируют экипажу пассажиры, как будто удачное приземление — сложный акробатический трюк. «Наш самолет произвел посадку… Температура за бортом… Командир корабля и экипаж…» Когда же подадут трап? Когда же?
Но все-таки подали, и вот они, экономический класс, выходят вслед за вальяжным бизнес-классом и бредут по железной кишке и застекленным коридорам к паспортному контролю. А там, где в прошлый раз таращилась тупая физиономия солдата, миловидная девушка с погонами прапорщика удивленно смотрит на единственный предшествующий штемпель: «декабрь 91-го» — и ставит новый: «октябрь 93-го». Но говорит только ласковое «пожалуйста».
Невыносимо долго приходится ждать у обшарпанного транспортера багаж. За доллар одалживать у грузчика в замызганном халате тележку на колесиках (в Схипхоле-то бесплатно!). Потом заполнять дурацкие декларации, и снова стоять в очереди на таможне, и ползти мимо вялого с виду кота-чиновника в погонах, что ждет свою жирную мышку и пропускает их, ненужных таможне тараканов. Разлет стеклянных дверей, толпа встречающих и — Москва!
— Такси, такси, не надо?
— Сколько до проспекта Мира?
— Сегодня сотня, парень. Сам видишь, что творится.
— Чего сотня?
— Баксов, но можно и в рублях, если хошь.
— Сотня долларов?!
— Ну да, сегодня ты дешевле не найдешь. И автобусов точно не будет.
Изумленный Саша выбрался на улицу — неужели и тут такие цены? Еще пара человек предлагала «такси, такси», но меньше сотни никто, действительно, не называл, да и в голосе их ощущалось какое-то нервное напряжение. Вокруг одного молодого парня собрался небольшой островок людей:
— Откуда ехал?
— С Пролетарской, по кольцу и по Ленинградке.
— Как там?
— Гаишников ни одного нет, веришь? И машин практически тоже. По кольцу шел сто, не меньше, на светофорах притормаживал, веришь?
— А видел кого?
— Этих-то? Ну, промелькнула пара автобусов с чудилами, уже когда на Тверскую с кольца сворачивал. Блин, как в кино: Ленин на броневике! Автоматы, флаги всякие — от красных до андреевских… Не, ребят, я сейчас последний рейс — и домой. Тут никаких денег не надо, если замочат вот так запросто…
Мужичок невысокого роста подхватил Сашу под локоть:
— Куда тебе, парень?
— Проспект мира. Сколько?
— Сотня, сотня, — и уже шепотом, на ухо: — Главное, садись, договоримся.
— А…
— Садись, садись.
Мужичок потащил его с тележкой к потрепанным жигулям (как бросалась теперь в глаза вся эта грязь, выбоины на асфальте, треснутое стекло в автомобиле — словно человек без штанов посреди толпы, а ведь раньше никогда такого не замечал!), лихо закидал его сумки в багажник.
— Понимаешь, сам там рядом живу, на Алексеевской, и вправду, пора выбираться, — затараторил мужик, — эти-то герои щас бабки с иностранцев посшибают, у них такса, я ж не могу тебе сразу сказать, что дешевле, мне ж потом кирдык, а ты парень хороший, сразу видно. Так что решил: с тебя семьдесят.
— Так тебе все равно по дороге домой? — в Саше просыпался прижимистый голландец, — тогда сорок.
— Шестьдесят, дорогой, последняя цена. Сам видишь, что творится.
— Ну, сговорились на полтиннике?
— Ладно, — мужик резво тронулся с места, — у меня жена, дети, вдруг чего, тут не до бабок, или мы не русские, друг другу помогать не должны…
Машина выбралась за ворота аэропорта и пошла по удивительно пустому шоссе в сторону Москвы. Саша жадно уставился в окно — и не мог налюбоваться на золотистые и багровые кроны деревьев у дороги. Надо же было подгадать с приездом именно на самое красивое и родное из всех времен года — золотую очень. На фоне деревьев проносились рекламные щиты, все те же SONY и TOSHIBA, а вот и что-то отечественное, крикливое, аляповатое — и даже не понятно, что рекламируют.
— Слушай, давай я по Кольцевой, накинь десяточку на лишний бензин, а то через центр стремно ехать, еще нарвешься на этих…
— Десяточку не накину, цена, как договорились, а маршрут мне, в принципе, без разницы. А на кого на этих, — которые как Ленин на броневике?
— Ну.
Они выехали на мост, и тут отчетливо заслышалась какая-то дальняя глухая и нечастая дробь, и Саша даже не сразу опознал в ней выстрелы.
— Блин, да где ж это? — еще больше разволновался водитель.
— Не знаю, по воде звук хорошо идет, может быть где угодно, — со странным спокойствием отвечал Саша, может, теперь это тут верх крутизны, ездить на броневиках и стрелять в воздух. Только в воздух ли? И решил уточнить: — Слушай, а кто они, на броневике?
— Да кто ж… Защитники Белого Дома, мать их. Дядя Боря-то давно уж в отключке, известное дело, выпил с утра и весь день свободен, с документами работает.
— Защитники Белого Дома?!
— Ну да.
— Да как же… Мы же… Это же мы, тогда в августе, мы же ни в кого не стреляли, и как это может быть теперь…
— Так то август, парень, а теперь октябрь, — водитель оторвал колючие глаза от дороги и с недоуменной злостью взглянул на Сашу, — давненько ты, видать, по заграницам. Ну ничего, привыкай.
Березы и клены по обочинам дороги роняли свое золото, и им не было дела до перестрелки, паспортов и самолетов. Они просто росли здесь. Они жили.
Примечания
1
Добрый вечер, мадам, что это? (англ.)
(обратно)2
Вы находитесь здесь. (англ.)
(обратно)3
Что-нибудь еще? (нидерл., англ.)
(обратно)4
— Привет! Английский, французский, немецкий?
— Лучше английский. Я не говорю по-французски, только знаю несколько слов. Нет немецкий! (нидерл., англ., франц., нем.)
(обратно)5
— Отлично. Я хотела поблагодарить вас за спектакль — мне очень понравилось.
— Спасибо.
— Ваш Астров был великолепен — настоящий русский, как вы это называете, интеллигент.
— Вы серьезно? Мне кажется, Войницкий более типичен.
— Ну нет, мне не понравилось сегодняшнее исполнение этой роли.
— Что не понравилось?
— Актер, его манера.
— Но ведь он звезда…
— Да?
— Ну конечно.
— Честно говоря, мне больше понравилась ваша игра. (англ.)
(обратно)6
— Ну что вы, спасибо вам большое…
— Завтра вы тоже играете?
— Да, но очень маленькую роль.
— Кстати, меня зовут Ингрид. (англ.)
(обратно)7
— Меня зовут Александр, Саша. (англ.)
(обратно)8
— Завтра у нас будет вечеринка, здесь неподалеку. Не хотите присоединиться после спектакля?
— С удовольствием. Спасибо. Это не слишком поздно?
— Ничуть. Как раз вовремя. Может, попросить Яна проводить вас после спектакля?
— Яна…?
— Яна ван дер Велда. Он тоже придет.
— Да, спасибо.
— Отлично. До завтра!
— До свидания.
— Пока! (англ.)
(обратно)9
— Господин, вы говорите по-английски?
— Да. Я спросил вас, где автобусная остановка.
— Простите, не знаю. Я нездешний.
— Вы из Англии? (англ.)
(обратно)10
— Нет, я из России.
— Ра-си? Это где?
— Москва, Советский Союз.
— Ах, Рюсланд! Микаил Горбачэв! То-ва-риш Йелтцин! Горбачэв хороший человек. Он лучше Сталина. Сталин был убийцей, я знаю. Вы согласны?
— Конечно. Простите, у меня нет времени. (англ.)
(обратно)11
Человек, сделавший себя сам (англ.)
(обратно)12
Кого поминаем? (англ.)
(обратно)13
Советский Союз. (нидерл.)
(обратно)14
— Кажется, пора.
— Да. Уйдем вместе? (англ.)
(обратно)15
Я пойду. (англ.)
(обратно)16
— Отлично.
— Можно поехать на моем велосипеде, но только ты повезешь меня… на багажнике.
— На багажнике? (англ., нидерл.)
(обратно)17
— Пошли? (англ.)
(обратно)18
— Боюсь, трамваи уже не ходят… Во сколько тебе завтра на работу?
— В 10 мы встречаемся в гостинице.
— Может, у меня переночуешь? (англ.)
(обратно)19
— Привет! (нидерл.)
(обратно)20
— Привет.
— Хорошо поспал?
— Да… Очень хорошо. (англ.)
(обратно)21
— Извини.
— Не за что. Я уже видела. Не прогуляться ли нам по городу?
— Как ты меня нашла?
— Запросто. Я знала, в каком зале вы должны играть, мне кто-то вчера сказал, так что приехала туда, а оттуда меня отправили в гостиницу. Запросто.
— Ну! А как называется город?
— А ты что, не знаешь? Утрехт. Так что, прогуляемся или нет? У нас есть три часа до спектакля. (англ.)
(обратно)22
— Хочешь чая?
— Пожалуй, лучше кофе. (англ.)
(обратно)23
— Ну так пойдем выпьем кофе и потом прогуляемся. Идет?
— Идет. (англ.)
(обратно)24
Обслуживание было нормальным, полагаю, можно дать чаевые (англ.).
(обратно)25
Санни — «солнышко» (англ.).
(обратно)26
— Знаешь что… Может, останешься на недельку? Можешь ночевать у меня. Я ведь живу одна.
— А как же… (англ.)
(обратно)27
— Что?
— В билете проставлена дата.
— Что, ее нельзя изменить?
— Не знаю… Это, наверно, денег стоит.
— Так если нужны деньги, заработай.
— Как?
— А ты не знаешь, дурачок? Есть способы. Без вида на жительство можно мыть посуду в ресторане или что-то в этом роде. Это, конечно, не талоны на усиленное питание, но все-таки. А со временем, может, и место в театре найдется. (англ.)
(обратно)28
— Привет!
— Привет… (нидерл.)
(обратно)29
Можно? (нидерл.)
(обратно)30
Моя здесь (искаж. нидерл.)
(обратно)31
Ты из Мос-квы? Вот прикол! (нидерл.)
(обратно)32
Валлонская церковь (нидерл.)
(обратно)33
Не сегодня, солнышко. Мне нельзя. (англ.)
(обратно)34
С Новым годом! (нидерл.)
(обратно)35
— Добрый день. Вам нужен рабочий?
— Кто нужен, сэр?
— Рабочий. Мыть посуду или что-то вроде того. Работа.
— Можешь поговорить с менеджером, парень. (англ.)
(обратно)36
— Добрый день, сэр. Вам нужен рабочий?
— Вы иностранец?
— Да, сэр.
— Откуда?
— Из России.
— У вас, конечно, есть вид на жительство?
— Нет, сэр.
— Извините. Постарайтесь сперва его получить. Пока. (англ.)
(обратно)37
— Пожалуй, я через недельку съеду. Спасибо за все.
— А, летишь домой?
— Да, собираюсь.
— Понятно. Хорошо время провели, правда?
— Конечно. (англ.)
(обратно)38
«Четвертак» — монета в 25 центов.
(обратно)39
«Имперский таллер» — монета в 2 ½ гульдена.
(обратно)40
Я из другого кооператива (англ.)
(обратно)41
Где вы были? (англ.)
(обратно)42
Мы?! Ты где был, гребаный, гребаный… гребаный дурак! (англ.)
(обратно)43
Пока! (англ.)
(обратно)44
Район публичных домов.
(обратно)45
Сэр, не дадите ли Вы мне гульден на еду? Знаете, каково это, когда есть нечего? (англ.)
(обратно)46
«Завтра», «королевский день», «продажа».
(обратно)47
Это все ваше, кореша. Если что распродадите — берите бабки себе. Какое барахло не продается — просто бросьте его тут. Ну, бывайте, удачи! (англ.)
(обратно)48
Хорошо, очень хорошо (нидерл.)
(обратно)49
Десять гульденов… для вас восемь, дешево, пять! (нидерл.)
(обратно)50
Это можно (нидерл.)
(обратно)51
— Добрый день, мадам. — Привет, Алекс (нидерл.)
(обратно)52
Привет… как дела? (нидерл.)
(обратно)53
Два, Моникендам (нидерл.)
(обратно)54
Аварийный случай (англ.)
(обратно)55
Космические войны (англ.)
(обратно)56
Сеть универмагов «Edah».
(обратно)57
Пожалуйста! Моя жена, моя дочь. (нем.)
(обратно)58
Я думаю, вам пора идти домой. (англ.)
(обратно)59
«Сказал же и к ученикам…» (др.−греч.)
(обратно)60
Пока! (нидерл.)
(обратно)61
Акрополь, прощай! (франц.)
(обратно)62
Нет, вовсе ни о чем, не жалею я ни о чем… (франц.)
(обратно)




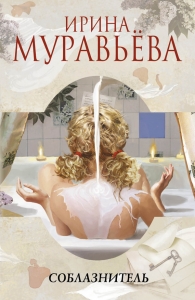


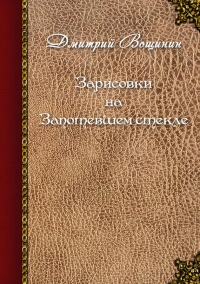

Комментарии к книге «Письма спящему брату», Андрей Сергеевич Десницкий
Всего 0 комментариев