Книга издана с согласия HarperCollins Publishers и при содействии Литературного агентства Эндрю Нюрнберга.
The Beautiful Ruins Copyright © 2012 by Jess Walter
© Екатерина и Сергей Шабуцкие, перевод, 2014
© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2014
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Анни, Бруклину, Аве и Алеку
Древние римляне построили величайшие шедевры архитектуры, и все для того, чтобы там сражались дикие звери.
Вольтер, из писемКЛЕОПАТРА. Я не стану рабой любви!
МАРК АНТОНИЙ. Тогда ты не вкусишь ее.
Из фильма «Клеопатра», 1963Дик Кэветт в 1984 году взял четыре отличных интервью у Ричарда Бёртона.
Уже тогда Бёртон завораживал, как завораживают великолепные руины.
Луис Менанд. «История в разговорах»(«Нью-Йоркер», 22 ноября 2010)1. Умирающая актриса
Апрель 1962
Порто-Верньона, Италия
Умирающая актриса приехала в деревню единственно возможным способом: моторная лодка обогнула утес, завернула в бухту и ткнулась носом в причал. На миг потеряв равновесие, актриса одной рукой схватилась за красно-коричневые перила кормы, а другой изящно придержала готовую улететь в море широкополую шляпу По волнам во все стороны разлетались солнечные осколки.
За появлением девушки наблюдал с расстояния метров в двадцать Паскаль Турси. Все происходило словно во сне. Или наоборот, словно Паскаль всю жизнь спал, а теперь вот проснулся и мир вокруг него стал ясен и отчетлив. Юноша выпрямился, забыв про дело, которым занимался с начала весны: он сооружал пляж перед пустовавшей отцовской гостиницей. Холодные волны Лигурийского моря толкали Паскаля в грудь, пока он укреплял старенький волнорез камнями размером с добрую кошку. Паскаль надеялся, что волнорез помешает морю размывать песок на пляже. Не то чтобы этого песка было много. Так, узкая полоска шириной в две лодки, а под ней – голые скалы. Участка ровнее на всем берегу вдоль деревни не нашлось. Когда-то здесь начали строить городок, который кто-то в насмешку, а может, в надежде на лучшее будущее назвал Porto. Хотя заходили сюда только лодки рыбаков, промышлявших торговлей сардинами и анчоусами. Porto Vergogna. Vergogna значит «стыд». Поселение основали в семнадцатом веке, и тогда сюда приплывали моряки в поисках женщин… не обремененных суровыми представлениями о морали и способах заработка.
В тот день, когда Паскаль впервые увидел прекрасную американку, он стоял в море, по грудь в воде и по уши в мечтах о новом популярном курорте, в который превратится со временем грязная деревушка Порто-Верньона. Себя самого юноша воображал умудренным опытом бизнесменом шестидесятых, человеком неограниченных возможностей, стоящим на пороге бурного века научно-технической революции. Повсюду он видел признаки наступающего il boom, Италию накрывало волной растущего благосостояния и просвещения, Италия преображалась. Почему бы этой волне не докатиться и до их деревушки? Паскаль четыре года учился в шумной Флоренции и вернулся лишь недавно, воображая, что несет с собой благую весть об огромном мире, о новой эре сверкающих machinas, телевидения и телефонов, двойных мартини и женщин в элегантных брюках. Раньше такой мир существовал разве только в фильмах.
Выбеленные непогодой развалюхи теснились в бухте, словно стадо коз на горном уступе. Тут же часовенка и единственная достопримечательность – малюсенькая гостиница с кафе, собственность семейства Паскаля. Вот и вся деревня Порто-Верньона. Над изогнутой, похожей на креветку бухтой вздымалась черная двухсотметровая скала. Каждый день рыбаки пробирались между торчащими из воды валунами, чтобы выйти в море и вернуться обратно. Горы сзади, море спереди – добраться сюда на машине или в повозке было невозможно, на улочках между домами едва-едва могли разминуться двое. Узенькие мощеные vias, еле приметные тупики и лестницы пронизывали всю деревню. Повсюду, кроме площади Piazza San Pietro, стены домов по разные стороны улицы можно было потрогать, просто раскинув руки.
Если честно, от уютных городков, составлявших Синк Терре, Порто-Верньона мало чем отличалась. Ну чуть поменьше, поуединенней и не такая живописная. Владельцы окрестных гостиниц и ресторанчиков давно прозвали деревушку Мокрощелкой, Baldracca Culo. Паскаль на презрение соседей внимания не обращал и верил, как верил когда-то его отец, что Порто-Верньона вполне может еще расцвести подобно Синк Терре и другим городкам и деревушкам Леванте – так называлось побережье к югу от Генуи. Здесь, между Поненте и Портофино, простиралась изысканная Итальянская Ривьера. В Порто-Верньону, на лодке или пешком, попадали в основном заблудившиеся французы или швейцарцы, и все же Паскаль надеялся, что шестидесятые принесут с собой новую волну американских туристов, с их bravissimo президентом Джоном Кеннеди и его супругой Жаклин во главе. Но и Паскаль сознавал, что американцев этих, появись они здесь и стань местное побережье tourista destinacion primo, нужно будет еще чем-то привлечь, а для этого потребуется главное – пляж.
Вот потому-то, когда десятиметровая яхта с красными бортами вошла в бухту, Паскаль и ковырялся по пояс в воде, прижимая подбородком поднятый со дна камень. Вел яхту Оренцио, давний Паскалев приятель. Она принадлежала богатому виноторговцу и hoteliero Гвальфредо, владельцу множества гостиниц к югу от Генуи, и в Порто-Верньону заходила очень редко. Яхта стала на якорь у берега, и Паскаль не нашел ничего умнее, как громко крикнуть: «Оренцио!» – чем ужасно смутил своего приятеля. Они дружили с двенадцати лет, но никогда не орали и бурно друг друга не приветствовали. Оба были скорее созерцателями, любителями приглушенных тонов. Оренцио мрачно кивнул. Доставка американских туристов требовала, с его точки зрения, самого серьезного вида и сосредоточенности.
– Они – ребята серьезные, – как-то объяснил он Паскалю. – Подозрительные, хуже немцев. Им только улыбнись, сразу решат, что ты их облапошить собрался.
Сегодня Оренцио был особенно торжествен. Он часто оглядывался на пассажирку, кутавшуюся в длинное бежевое пальто. Лицо ее скрывала огромная широкополая шляпа.
Девушка что-то негромко сказала Оренцио, ветер донес до Паскаля обрывки слов. Галиматья какая-то, подумал он сперва, потом прислушался и понял – английский, нет, даже американский!
– Простите, а что он делает?
Паскаль знал, что его друг очень стесняется своего чудовищного акцента и на вопросы старается отвечать как можно более кратко и резко. Оренцио оглянулся на Паскаля, сооружавшего волнорез, и попытался правильно произнести по-английски spiagga — пляж. Вышло «плядь». Женщина вздернула подбородок, явно надеясь, что не расслышала. Паскаль решил помочь приятелю и пробормотал, что «плядь» «per i turista». Но прекрасная американка, похоже, не обратила внимания на его слова.
Мечта о туристах досталась Паскалю в наследство от отца. Последние десять лет своей жизни Карло Турси провел в тщетных попытках убедить пять известных приезжим деревушек Синк Терре принять Порто-Верньону в их число. (По-моему, говорил он, Сей Терре, «шесть земель», звучит куда лучше, Синк Терре – это же туристам не выговорить.) Но малюсенькая Порто-Верньона не могла похвастаться красотой и административным весом своих более удачливых соседей. И потому пять деревушек были связаны телефонными линиями, трамваем, идущим по прорубленному в скалах туннелю, и деньгами туристов, в то время как Порто-Верньона напоминала атрофировавшийся за ненадобностью шестой палец. Еще Карло мечтал о том, чтобы жизненно необходимый Порто-Верньоне туннель с трамвайчиком продлили на километр и деревушка перестала быть отрезанной от пяти соседних курортов. Мечтал, потому что надеяться тут было не на что. Ближайшая дорога заканчивалась позади виноградников Синк Терре, и Порто-Верньоне так и суждено было остаться кучкой домов, сгрудившихся в складке неприступных черных скал, перебраться через которые можно было лишь по узким горным тропам.
Со дня смерти отца Паскаля прошло уже восемь месяцев. Он умер быстро и мирно: читал за столиком на веранде, прихлебывал эспрессо из чашки, курил сигарету, смеялся над какой-то статьей в миланской газете (мать Паскаля сохранила ее, но ничего смешного там так и не обнаружила), в голове лопнул сосуд, и Карло уронил голову на грудь, словно вдруг задремал. И все. Паскаль в тот момент учился во флорентийском университете. После похорон он долго уговаривал уже немолодую мать переехать с ним во Флоренцию. Это что же я за жена такая, возмущенно ответила ему синьора Турси, если брошу мужа просто потому, что он умер? И для Паскаля вопрос был решен раз и навсегда. Он должен вернуться домой и поберечь хрупкое здоровье матери.
Паскаль поселился в той же самой комнате в отеле, в которой жил ребенком. Мечты отца, над которыми Паскаль в детстве смеялся, словно перешли к нему по наследству, и он увидел свою гостиницу глазами Карло Турси. Да, конечно же, здесь вполне можно основать совершенно новый тип итальянского курорта! Зонтики на скалистых уступах, щелкающие затворы фотоаппаратов. Райский уголок для бегущих от цивилизации американцев. Семейство Кеннеди в полном составе. Превратить пустующий pensione в процветающий отель мирового класса – задача интересная и вполне достойная. Другого наследства у Паскаля не было, а его итальянское воспитание требовало наследство беречь и приумножать.
В гостинице имелась trattoria — кафе на три столика. А еще кухня, две квартирки на первом этаже и шесть номеров на втором и третьем, там, где когда-то располагался бордель. Вместе с отелем Паскалю досталась обязанность заботиться о единственных работницах этого заведения, due stregas, как называли их рыбаки, двух ведьмах, – больной и немощной синьоре Антонии Турси и ее сестре Валерии, великанше-людоедке с бурной курчавой шевелюрой. Валерия готовила еду на кухне в те редкие моменты, когда не орала на ленивых рыбаков или случайно забредшего в эти края гостя.
Паскаль был юношей очень терпеливым, и он спокойно сносил эксцентричные выходки своей Мата и сумасшедшей Tia. Так же спокойно он сносил насмешки рыбаков, каждое утро стаскивавших свои peschereccio вниз по каменистому берегу на воду. Лодки покачивались на волнах, точно грязные супницы, а моторы чадили и захлебывались кашлем. Рыбаки вылавливали ровно столько анчоусов, сардин и морских окуней, сколько могли купить у них на рынке и в ресторанчиках Синк Терре. Потом возвращались домой, пили граппу и курили едкие самокрутки. Карло Турси всегда старался дистанцироваться от этой неотесанной публики. Карло утверждал, будто они с Паскалем происходят из купеческого флорентийского рода. «Ты только погляди на них, – говорил отец сыну, разглядывая рыбаков поверх свежей, только доставленной почтовой лодкой газеты, – во времена более цивилизованные это были бы наши слуги».
Двое старших сыновей Карло погибли на войне, и он твердо решил, что младший не станет рыбаком, не будет горбатиться на консервном заводе в Ла-Специя, не будет гнуть спину на виноградниках Синк Терре, не будет добывать мрамор в Апеннинах и вообще не будет заниматься работой, которая позволяет юноше стать мужчиной, набраться сил и жизненного опыта. Паскаль родился, когда Карло и Антонии было уже под сорок. Родители тряслись над ним как над хрустальной вазой, хранили, точно семейную тайну, и Паскалю стоило немалых усилий отпроситься у них на учебу во Флоренцию.
После смерти отца юноша вернулся, и рыбаки долго не могли решить, как с ним обращаться. Он постоянно читал, что-то бормотал себе под нос, что-то измерял, высыпал на камни у моря мешки строительного песка и потом без конца перекладывал этот песок, словно волосы на лысеющей голове. Он таскал камни с места на место, чтобы защитить свой пляж от штормов. Рыбаки поначалу решили, что малый чудит с горя. Они чинили сети и со слезой вспоминали мечты собственных, давно умерших родителей. И все же довольно скоро рыбаки вспомнили и другое – как подшучивали над Карло. Без этих шуток было как-то грустно.
Через несколько недель терпение рыбаков лопнуло. Как-то вечером Томассо-Хрыч бросил Паскалю коробок спичек и крикнул: «Смотри! Я тебе лежак для пляжа принес!» Сколько ж можно быть добренькими? Рыбаков прорвало, будто грозовую тучу, и на Паскаля обрушился проливной дождь из шуток. Жизнь вернулась в свою колею. «Эй, Паскаль, я вчера в Леричи половину твоего пляжа видел! Мне остальной песок туда свезти или подождем, пока его течение само унесет?»
Но пляж – это еще понятно, пляжи были в Монтероса-аль-Маре и на Ривьере к северу от деревушки. Рыбаки эти пляжи видели своими глазами, когда ездили туда продавать улов. Но Паскаль к тому же начал делать теннисный корт на уступе скалы, и вот тут его объявили чокнутым, еще похуже папаши. «Совсем пацан с катушек съехал, – говорили они, сидя на площади, покуривая самокрутки и наблюдая за тем, как Паскаль скачет по валунам и размечает бечевкой границы будущего корта. – Вся их семейка pazzi. Скоро с кошками начнет разговаривать». Паскаль же понимал, что на гладких скалах площадку для гольфа не сделаешь, а вот залить бетоном прямоугольный корт, может, и удастся. И тогда над морем, на высоте двенадцати метров, точно волшебное видение, возникнет площадка для тенниса, и всем сразу станет ясно: здесь расположен первоклассный отель. Паскаль закрывал глаза и видел, как на скалистом уступе теннисисты в красивых белых брюках перекидываются мячиком, а рядом под зонтиками женщины в великолепных платьях и шляпках потягивают коктейли. Вот потому-то Паскаль раскидывал по берегу песок, таскал валуны и терпеливо сносил насмешки рыбаков. Он старался почаще заглядывать в комнату к больной матери и не терять надежды. Паскаль ждал, когда жизнь придет и найдет его.
Так прошло восемь месяцев. Паскаль не был очень уж счастлив, но и несчастным его было не назвать. Он поселился там, где обитают почти все люди на земле, – на равнине между скукой и спокойствием.
Там бы он и остался, если бы не прекрасная американка. Паскаль стоял по пояс в воде и смотрел, как яхта с красными бортами причаливает к старенькой пристани. Смотрел на девушку на корме и легкую волну за бортом.
Американка была тощая, но с формами. Ветер развевал золотые, блестевшие на солнце волосы. Паскалю она показалась представителем иного вида. Девушка была выше и стройнее итальянок. Оренцио протянул ей руку и помог сойти на шаткий причал.
– Спасибо, – неуверенно донеслось из-под шляпы, и потом: – Grazia.
Итальянские слова давались ей с трудом. Девушка споткнулась о доски причала, но удержалась на ногах. Сняла шляпу, огляделась. Паскаль впервые увидел ее профиль. Прекрасная американка могла бы быть… ну… попрекраснее, что ли?
Нет, конечно, она была удивительной, но совсем не такой, как он ожидал. Высокого роста, почти метр восемьдесят. И черты слишком резкие для такого худого лица: губы слишком полные, глаза слишком круглые, как будто удивленные, подбородок тяжеловат, а нос совсем маленький. И такая худющая, что все положенные выпуклости, казалось, были ей великоваты. Интересно, может быть женщина слишком худой? Длинные волосы американки были собраны в хвост, кожа слегка загорела на солнце. Нет, решил Паскаль, она, конечно, производит впечатление, но не красавица.
А потом девушка повернулась и все черты сложились в единую, потрясающей красоты картину. Студентом Паскаль часто бродил по Флоренции. Некоторые здания под одним углом казались уродливыми, а под другим прекрасными, и с этого ракурса на фотографиях выходили просто изумительно. Наверное, и с людьми так бывает: отдельные черты производят одно впечатление, а лицо в целом – совсем другое. Американка улыбнулась, и Паскаль влюбился, раз и навсегда (если вы, конечно, верите в любовь с первого взгляда). Влюбился даже не в девушку, с которой он и знаком-то не был. Влюбился вот в этот удивительный момент.
И даже камень уронил.
Американка посмотрела вправо, влево, снова вправо, как будто искала остальные дома. Паскаль увидел берег ее глазами: дюжина серо-коричневых хижин. Некоторые пустые, давно покинутые. Дома толпятся у кромки прибоя, точно крабы. И никаких признаков жизни, только злые тощие кошки бродят по площади. Все сейчас в море, ловят рыбу. Иногда сюда по ошибке забредали туристы. Они искали Портофино или Портовенере, а попадали в bruto Порто-Верньону и почему-то ужасно расстраивались.
– Ах, простите, – девушка повернулась к Оренцио, – давайте я заберу багаж? Или за это тоже… я не знаю, за что вам заплачено.
Оренцио свою норму разговоров на английском уже выполнил. Он молча пожал плечами. Неловкий коротышка с оттопыренными ушами казался туристам дебилом. Трудно было поверить, что этот полудурок способен управляться с яхтой, а потому за любое, самое простое действие он получал щедрые чаевые. Оренцио свою выгоду отлично понимал. Чуди побольше и поменьше болтай, тогда и денежек отвалят. А потому он все сильнее таращился и моргал.
– Так что, мне самой багаж вынести? – терпеливо и немного растерянно переспросила американка.
– Bagaglia, Orenzio! – крикнул Паскаль.
Господи, ведь девушка поселится в его гостинице! Он побежал по воде к причалу. Английский он знал, но плохо.
– Пожалуйста, – язык во рту едва ворочался, выговаривая чужие слова, – я буду иметь честь. Оренцио доносить багаж для вас. Идите в отель «Подходящий вид».
Американка удивилась, но Паскаль на это внимания не обратил. Как бы поторжественнее закончить? Назвать ее «мадам»? Нет, не годится. Кошмарный язык! Непредсказуемый и опасный, как бездомная дворняга. Одна система спряжений чего стоит! Того и гляди ляпнешь что-нибудь. Паскаль учился английскому у американского писателя. Тот приезжал в гостиницу каждый год и работал над романом о Второй мировой. Что бы сейчас сказал американец? В голову ничего не шло. Интересно, есть в английском аналог итальянского обращения Bella? Надо попробовать.
– Прошу вас, идите, прекрасная Америка!
Несколько секунд девушка пристально смотрела на Паскаля (то были самые долгие секунды в его жизни), а потом улыбнулась и тихонько сказала:
– Благодарю вас! Это ваша гостиница?
Паскаль добрался наконец до причала. Он потряс ногами, чтобы со штанов не текло, и приосанился.
– Да. Гостиница моя. – «Преуспевающий бизнесмен» указал на вывеску. – Пожалуйста.
– И что, у вас забронирована для меня комната?
– О да! Многие комнаты. Все комнаты для вас. Да!
Девушка взглянула на вывеску, потом снова на Паскаля. Теплый ветерок развевал выбившиеся из прически пряди. Американка еще раз улыбнулась: под ногами смешного худенького парня натекла лужа.
– У вас глаза очень красивые. Синие, как море! – сказала девушка.
Она поправила шляпку и пошла по причалу к площади.
В Порто-Верньоне никогда не было il liceo, школы, и маленький Паскаль каждый день ездил в Ла-Специю. Там он и познакомился с Оренцио, своим первым другом. Им на роду было написано стать друзьями, иначе сыну старого hoteliero и ушастому коротышке было не выжить. Иногда зимой, когда на море бушевали шторма, Паскаль даже оставался у друга на какое-то время. Перед отъездом Паскаля во Флоренцию они придумали новую интеллектуальную игру. Они пили швейцарское пиво и обзывались. Проигравший, тот, кто выдыхался или повторялся первым, выпивал кружку до дна.
Вот и сейчас Оренцио перегнулся через перила яхты и решил сыграть в «безалкогольную» версию.
– Эй, вонючка, что она сказала?
– Ей нравятся мои глаза. – Паскаль не догадался, что игра уже началась.
– Да ладно врать, засранец, не могла она такого сказать.
– А вот и сказала.
– Брехло ты, Паско. Брехло и пидор.
– Это правда!
– Правда, что ты пидор?
– Нет, что ей понравились мои глаза.
– Размечтался, скотоложец! Она – звезда, между прочим.
– Согласен, – ответил Паскаль.
– Вот тупица! Я не про то. Это актриса. Настоящая. Понял? В Риме сейчас фильм снимают, так она оттуда.
– Какой фильм?
– «Клеопатра». Ты что, газет не читаешь, говноед?
Паскаль оглянулся на девушку, взбиравшуюся по ступеням.
– Слишком она светлокожая для Клеопатры.
– Клеопатру играет Элизабет Тейлор. Ну та шлюха, что мужей чужих ворует. А у нашей американки другая роль. Нет, дебил, ты что, правда газет не читаешь?
– И кого она играет?
– А я откуда знаю? Мало там ролей, что ли?
– Как ее зовут? – спросил Паскаль.
Оренцио протянул другу записку. В записке говорилось, что девушку нужно доставить в гостиницу в Порто-Верньоне, а счет за проживание направить в Гранд-Отель в Риме, некоему Майклу Дину, специальному помощнику режиссера студии «Двадцатый век Фокс».
Девушку звали…
– Ди… Морей, – запинаясь, прочел Паскаль.
Имя ему ни о чем не говорило, но всех американских актеров разве упомнишь? Там этих Роков Хадсонов, Мерилин Монро и Джонов Уэйнов как собак нерезаных. Только в одних разберешься, тут же новые появляются. Можно подумать, у них там в Америке целая фабрика по производству знаменитостей. Паскаль оглянулся. Девушка уже поднялась по лестнице.
– Ди Морей, – сказал Паскаль.
Оренцио заглянул другу через плечо и подтвердил:
– Ди Морей.
Что-то в этом имени было завораживающее, и приятели принялись повторять его на все лады.
– Она больна, – сказал Оренцио.
– Чем?
– Я что, врач? Тот мужик просто сказал «больна» и все.
– Серьезно больна?
– Да не знаю я, травоядное! – Оренцио продолжил игру.
Ди Морей медленно шла к отелю.
– Нет, вряд ли серьезно, – решил Паскаль. – Смотри, какая красивая!
– Ну, не Софи Лорен, – ответил Оренцио. – И не Мерилин Монро, если честно.
Еще одна игра, которой они увлеклись прошлой зимой, – ходить в кино и сравнивать актрис.
– Еще бы: она явно умнее. Похожа на Анук Эме.
– Тощая-то какая! – сказал Оренцио. – Это тебе не Клаудиа Кардинале.
– Да уж! – С Клаудией Кардинале никто не мог сравниться. – Но лицо у нее удивительное. Необычное очень.
Оренцио в такие тонкости вдаваться был не готов.
– Знаешь, Паско, даже если бы я трехногую собаку привез, ты бы все равно к ней страстью воспылал.
И тут Паскаль забеспокоился:
– Оренцио, а ей точно сюда?
Оренцио сунул товарищу в руку бумагу:
– Ее привез этот американец, Дин. Спросил про Порто-Верньону. Я ему объяснил, что никто сюда не ездит. Спросил, может, ей в Портофино или Портовенере? А он говорит: какая она, эта Порто-Верньона? Я ему отвечаю: да там нет ничего, кроме гостиницы. Он спрашивает: а городок тихий? Я ему отвечаю: тише, пожалуй, только в гробу. Ну вот, говорит, значит, ей точно туда.
Паскаль улыбнулся:
– Спасибо, Оренцио!
– Все равно ты скотоложец! – тихонько сказал Оренцио.
– Повторяешься.
Оренцио сделал вид, будто выпивает кружку до дна.
Юноши оглянулись. Первая американская постоялица отеля стояла на краю скалы в пятнадцати метрах над морем.
«Вот оно, наше будущее», – подумал Паскаль.
Ди Морей посмотрела на причал, потом на море. Она распустила волосы, и золотистые пряди рассыпались по плечам. Девушка повернулась к вывеске. «Подходящий вид». Как же это понимать?
Будущее сунуло шляпу под мышку, толкнуло дверь и, нагнувшись, шагнуло через порог.
Быть может, Паскаль сам позвал ее сюда. Мечтал об американских гостях, томился от горя и одиночества и создал женщину из отрывков фильмов и книг, из воспоминаний и ожидания чуда. Оренцио потащил в гостиницу багаж. Паскалю вдруг показалось, будто время остановилось. Открылась дверь, а за ней оказался сказочный мир. Никогда еще Паскаль не чувствовал такой отрешенности, такой пугающей свободы. Он словно оторвался от тела и парил в вышине над деревней, и от этого жутко и сладко щемило сердце.
– Ди Морей, – внезапно произнес Паскаль, будто очнувшись.
Оренцио оглянулся на друга. Паскаль еще раз повторил ее имя, уже про себя, чтобы не осквернить дыханием чудесных звуков. Жизнь, подумал он, – это просто плод небогатого воображения.
2. Последний сценарий
Наши дни
Голливуд, штат Калифорния
До рассвета – еще не выехали на автострады гватемальские водилы на грязных грузовичках, еще не закипела работа на кухнях карибских ресторанов, еще не открылись детские сады Монтессори, пилатес-клубы и «Кофебины», еще не выбрались из гаражей на утыканные пальмами улицы «мерседесы» и «БМВ», еще не начали острозубые акулы бизнеса набивать мозги американских обывателей новым мусором – включаются поливалки на газонах. Они плюются во все стороны, увлажняют почву От центра Лос-Анджелеса до самых пляжей шипят поливалки, исполняя колыбельную для развлекательной индустрии.
В предрассветной тишине за окном квартиры Клэр Сильвер тоже раздается шипение. Она открывает глаза, вздыхает и смотрит на мраморное плечо мужчины, занимающего на широкой кровати семьдесят процентов свободного места. Дэрил часто перед сном распахивает настежь окно в спальне. И Клэр просыпается от шипения. Она даже к управляющему ходила, спрашивала, зачем нужно непременно поливать сад камней в пять утра. Да и не только в пять утра, кстати.
Но дело, конечно, не в поливалках.
Ее будит острый информационный голод. Она нащупывает на столике «блэкберри» и погружается в электронный мир. Четырнадцать писем, шесть новых твитов, пять запросов на добавление в друзья, три эсэмэски и расписание на сегодня. Вся жизнь на ладони. Ну и общая информация, конечно: пятница, за окном пятнадцать градусов, а днем будет больше двадцати, нужно сделать пять важных звонков, шестеро записаны на прослушивание. И письмо, способное перевернуть все в ее жизни. Письмо от affinity@arc.net.
Дорогая Клэр,
Спасибо Вам за то, что Вы проявили такое терпение. Мы долго не могли принять решение. И на меня, и на Брайана собеседование и Ваши рекомендации произвели прекрасное впечатление. Мы бы хотели встретиться еще раз. Может быть, позавтракаем сегодня утром?
С уважением,
Джеймс Тест,Музей американского киноискусства.Клэр садится на постели. Твою мать! Точно предложат место! Или нет? «Встретиться еще раз»? Вообще-то, они ее уже два раза собеседовали, о чем тут говорить? И что, значит, сегодня она уйдет с работы, о которой мечтала всю жизнь?
Клэр работает главным ассистентом по фильмопроизводству у легендарного продюсера Майкла Дина. В названии должности – все липа, кроме слова «ассистент». Производства фильмов нет вообще, и ни над кем она не главная. А вот ассистирования выше крыши, это да. Клэр удовлетворяет причуды Майкла. Еще отвечает на его почту и телефонные звонки, покупает ему бутерброды и кофе. И читает бесчисленные сценарии и синопсисы – никому не нужную макулатуру.
А сколько было когда-то надежд! Клэр бросила аспирантуру и диссертацию по киноискусству, и все ради того, чтобы поработать с «Королем Голливуда» – так раньше называли Майкла Дина. Ей хотелось снимать фильмы. Хотелось заставить зрителя задуматься, хотелось достучаться до его души. Клэр начала работать на Дина три года назад, не в лучшие для него времена. Он почти ничего не продюсировал, не считая сериала «Ночные охотники». За три года Дин не выпустил ни одного фильма – только реалити-шоу «Фабрика любви» с одноименной соцсетью в придачу.
Поскольку получившийся монстр стал суперхитом, о фильмах в «Дин Продакшнз» больше никто не вспоминает. Клэр регулярно втюхивают чудовищные реалити-шоу. Ей уже начинает казаться, будто грядет апокалипсис и Клэр его приближает. «Их нравы» – «приглашаем семь фотомоделей и селим их в мужском общежитии». «Нимфо-ночи» – «снимем шоу про людей с сексуальными расстройствами». «Дом пьяных карликов» – «это такой дом… где полно пьяных карликов».
Майкл все время говорит ей, что нужно снизить планку, хватит уже кормить народ интеллектуалыциной. Культура такова, какова она есть. Расширяй, мол, сознание, учись новым стандартам качества.
– Хочешь искуйства, – твердит он, – ехай в Лувру, там они как раз по этой части.
Так она и поступила. Почти. Месяц назад Клэр откликнулась на объявление. Новому частному музею киноискусства требуются сотрудники. И вот теперь член совета директоров этого музея, кажется, собирается пригласить ее на работу.
Вроде тут и думать не о чем: музей и платит больше, и часы работы куда приемлемей, и диплому калифорнийского университета по истории кино будет применение. Да и мозгами пошевелить тоже неплохо бы.
Майкл над ее интеллектуальными заморочками смеется, говорит, каждый продюсер был когда-то мальчиком на побегушках. Или девочкой. Чтобы найти зернышко, надо сначала тонну говна перекидать. Так он витиевато выражается. Заработай имя на коммерческих проектах, а там уж делай что хочешь. А теперь вот Клэр не знает, то ли ждать, когда ей наконец дадут снять хороший фильм, то ли начать перебирать карточки в музейном каталоге. Зато эти карточки, вернее, экспонаты будут связаны с эпохой Великого Киноискусства.
Перед тем как принять важное решение (уйти от парня, поступить в колледж, писать диссертацию), Клэр обязательно составляла список всех «за» и «против». Ждала Знамения, торговалась с Судьбой. Хороший сценарий, – или я уволюсь, думает Клэр. Жду один день.
Это, конечно, нечестно. За два года Дин не одобрил ни единого сценария, очень уж он увлекся телевизионными проектами: вот где сверхприбыли! (Этот сценарий слишком дорогой, этот слишком мрачный, этот слишком затянутый, на этом бабла не срубишь.) К тому же сегодня последняя пятница месяца – Безумная пятница, день прослушиваний. Все знакомые-приятели Дина, бывшие коллеги, неудачники и провинциалы сползутся в ее комнату, как тараканы. А у Дина и его партнера Дэнни Рота, разумеется, выходной. Так что говно ей одной разгребать. «Пс-с-с» – шипят поливалки.
Рядом на кровати уютно посапывает Дэрил. Надо было, конечно, Клэр с ним поговорить, рассказать, что хочет бросить работу. Нехорошо. Но они почти и не видятся теперь, он поздно приходит, а разговаривать они вообще давно перестали. И потом, Клэр и Дэрила тоже собирается бросить.
– Что скажешь? – тихонько спрашивает она. Дэрил тяжело вздыхает во сне. – Ну да, – отвечает Клэр, – согласна.
Она, потягиваясь, двигает в ванную и тут же останавливается. Дэрил вчера оставил джинсы где снял, прямо на полу. «Не с-с-смей!» – шипят поливалки. А что поделаешь? Молодая женщина на распутье. Ей же нужно какое-нибудь Знамение?! Клэр нагибается и обшаривает карманы. Шесть долларов, несколько монеток, спички… и… ага! – визитка стрип-клуба «Асстакулар». Такое вот у Дэрила пристрастие. Клэр переворачивает карточку. Ну как же, понаделали визиток и сразу превратились в респектабельное заведение. Прямо чистый «Хилтон». Ух ты! Оказывается, всего два посещения и Дэрилу полагается бесплатный приват-танец! Вот здорово! Она оставляет карточку на своей подушке.
Клэр идет принимать душ. Ну вот, теперь можно смело и насчет Дэрила с Судьбой поторговаться. Хороший сценарий – или я уволюсь и этого любителя стриптиза пинком под зад выкину. Какое там на сегодня расписание? Перед ней расстилается карта дня. Первая остановка, 9.30. Чувак, наверное, жует омлет и обдумывает речь. Вторая остановка, 10.15. Этот занимается тай-чи на пляже. Тот, что на 11.00, моется в душе в Сильвер-лейк. Теперь от Клэр ничего не зависит, они сами примут за нее решение. А она просто радостно шагнет сейчас навстречу свободе, навстречу Судьбе, ну или хотя бы навстречу горячему душу.
Ну, пожалуйста, неожиданно для себя просит Судьбу Клэр, хочу хороший сценарий! Чтобы вышел классный фильм! И чтобы не пришлось бросать любимую работу. На газоне перед домом поливалки давятся от хохота.
А в это время остановка десятая и последняя, 16.00, Шейн Вилер, уже вылезает из-под душа в Бивертоне, штат Орегон. Лет ему чуть меньше тридцати, он высок, худощав и довольно агрессивен на вид. Каштановые волосы, стриженные под горшок, растрепанные бакенбарды. Он опаздывает. Минут двадцать Шейн копается в летней одежде, уже спрятанной на зиму в шкаф. Мятые рубашки поло, футболки с дурацкими надписями, гавайки, джинсы клеш и джинсы узкие, штаны со множеством карманов, слаксы. В общем, ничего, что бы годилось для непринужденного выступления талантливого сценариста на первом в жизни прослушивании в Голливуде.
Шейн рассеянно потирает татуировку на левом предплечье. Написанное граффити-шрифтом слово «Действуй». Отец очень любил цитату из Библии: «Действуй так, словно веришь в успех, и успех придет». До недавнего времени эти слова были девизом Шейна.
Как всякий домашний мальчик, в детстве он смотрел телевизор, его хвалили учителя и наставники, он получал награды за научные проекты, играл в футбол и баскетбол. Его родители вырастили пятерых детей и были свято убеждены, что перед их отпрысками откроются все двери, стоит только постучать.
А потому в школе Шейн верил, что он стайер, и сил прибавлялось вдвое. Верил, что получит пятерку, и получал. Верил, что неотразим, и клевая девчонка сама приглашала его на танцы. Верил, что поступит в Беркли, и поступил. Верил, что его примут в самое понтовое студенческое братство, и его приняли. Он вел себя так, будто прекрасно говорил по-итальянски, и поехал на год на стажировку в Европу. Делал вид, будто он писатель, и его приняли на курс литераторов в Аризоне. Делал вид, будто влюблен, и женился.
А потом в этой стройной логике обнаружилась пробоина. Оказалось, одной веры недостаточно. И когда дело уже шло к разводу, его будущая бывшая жена («Господи, как же я устала от тебя, Шейн…») просветила его. Оказывается, в Библии такой фразы нет. Это строчка из финального монолога Пола Ньюмана в фильме «Вердикт».
Не откровение, конечно, но зато многое теперь прояснилось. Он построил свою жизнь не по слову Божьему, а по цитате из фильма. Учителем его никуда не берут, брак разваливается, долгов полно, сборник рассказов, объединенных единой сюжетной линией (под названием «Связь», а как же иначе?), заворачивает литературный агент, которого Шейн предусмотрительно нанял в преддверии грядущих творческих успехов.
Агент: Книга никуда не годится, Шейн.
Шейн: В смысле, с вашей точки зрения?
Агент: В смысле, с точки зрения английского языка.
Ни брака, ни работы, ни иллюзий. Шесть лет он бульдозером пер к цели. Шесть лет впустую. Впервые в жизни Шейн увяз по самую маковку, и даже девиз «Действуй» больше не помогал. Пришлось его маме самой приниматься за спасение сына. В психотерапии главное что? Таблетки и разговоры.
– Слушай, ну мы ведь не очень верующие. И в церковь ходили только на Рождество и Пасху. Хорошо, пусть это цитата из старого фильма. Пусть ей тридцать лет, а не две тысячи. Она же от этого хуже не стала? Разве только лучше.
И Шейна эти разговоры в сочетании с ингибиторами серотонина очень вдохновили. И даже озарение на него снизошло.
Для людей его поколения кино – главная религия. Кинотеатр – это храм, в который каждый входит сам по себе, а через два часа все выходят уже вместе. Объединенные одним переживанием, одними чувствами, одной моралью. Сотни религиозных учений оставили миру сотни заветов, десятки тысяч сект изобрели миллионы таинств. А вот фильмы – фильмы в каждом торговом центре крутят одни и те же. И смотрят их все поголовно. Тем летом везде шли «Аватар» и «Гарри Поттер». Картинки мелькали, зашивали прорехи в памяти зрителей, становились частью воспоминаний. И Шейн позвонил своему учителю, Жану Перго. Перго преподавал, писал эссе, которые никто не читал, а потом ему все надоело и он сочинил сценарий сериала «Ночные охотники». Про постапокалиптический Лос-Анджелес. Нехорошие зомби хотят поработить тех немногих людей, что выжили после конца света. Перго продал права киностудии и заработал больше, чем за десять лет преподавания и публикаций. И ушел из университета, прямо посреди семестра. Шейн был студентом второго курса. О том, как Перго насрал в храме литературы, говорили тогда на всех углах.
Шейн разыскал Перго в Лос-Анджелесе. Профессор как раз адаптировал вторую книгу для сценария трилогии «Ночные охотники-2: Улицы ждут (3D)». Оказалось, к Перго обращались все его бывшие студенты, причем те, кто особенно яростно его клеймил, прибежали в первых рядах. Профессор порекомендовал Шейну агента, Эндрю Данна. Посоветовал учебные пособия для начинающих сценаристов (то есть все книги Сида Филда и Роберта Мак-Ки). И главное, велел прочитать главу из мемуаров Майкла Дина. Очень впечатляющее чтиво! «Путь Дина. Как я продал Америке современный Голливуд и как сценаристу добиться успеха». Там была такая строчка: «Главное на прослушивании – поверить в собственные силы. Поверить в свою историю». И Шейн снова вспомнил про свой девиз. Он подготовил речь, начал подыскивать в Лос-Анджелесе квартиру и даже агенту своему позвонил.
Шейн: Я хотел вам сказать, что с книгами покончено. Я их больше не пишу.
Агент: Отлично! Я непременно сообщу Нобелевскому комитету.
И вот сегодня все его старания окупятся. Сегодня он встречается с продюсером, да не с каким-нибудь, а с самим Майклом Дином! Ну, вернее, с его ассистенткой, некоей Клэр. При помощи этой самой Клэр он, Шейн Вилер, сделает первый шаг из темноты книжного чулана на залитую ярким светом сцену в Каннах.
Как только придумает, что надеть.
Мама кричит снизу:
– Давай скорее, папа тебя в аэропорт отвезет! (Шейн молчит.) Солнышко, ты опоздаешь! Я тебе тосты поджарила. Ты так и не решил, что наденешь?
– Я сейчас! – кричит Шейн и с досады пинает кучу одежды.
Штаны и майки взлетают в воздух. Вот! То, что надо! Вываренные клешеные джинсы и вполне приличная летняя рубашка. Отлично! Теперь надо найти высоченные ботинки с двумя железными пряжками, и вид будет просто супер. Шейн быстро одевается, подходит к зеркалу и закатывает рукава, чтобы видна была татуировка.
– Ну вот, – сам себе говорит Шейн Вилер, – вот теперь можно ехать.
В «Кофебине» в 7.30 утра полно народу. За каждым столиком сидит по очкастому тощему сценаристу, у каждого сценариста на столе по «маку», и в каждом «маке» открыта электронная «финальная версия». В самом углу устроились два бизнесмена в серых костюмах, а напротив них пустой стул – Клэр дожидаются.
Клэр проходит через зал. Сценаристы пялятся на ее юбку. Вернее, на то, что под ней. Черт бы побрал эти каблуки! Чувствуешь себя подкованной лошадью.
– Доброе утро, Джеймс! Доброе утро, Брайан!
Они приносят извинения за то, что так долго не давали ответа. Все, как она и ожидала. Отличное резюме, прекрасные рекомендации, впечатляющее собеседование. Они уже успели поговорить с советом директоров и после долгих колебаний (Клэр поняла это так, что предложение сделали кому-то другому, но он отказался) решили пригласить ее на работу. Тут Джеймс кивает Брайану, Брайан достает большой желтый конверт и кладет его на круглый стеклянный столик. Клэр совсем чуть-чуть приоткрывает конверт. Становится виден заголовок: «Соглашение о конфиденциальности».
– Прежде чем вы откроете конверт, послушайте меня, – говорит Джеймс, а Брайан в первый раз за весь разговор отводит глаза: оглядывает зал, чтобы понять, не подслушивает ли кто.
Вот черт! В голове Клэр мелькают предположения, одно страшнее другого: зарплату выдают кокаином, надо сначала замочить того, кто сейчас работает на ее должности, на самом деле это музей порнографического киноискусства…
– Скажите, Клэр, что вы знаете о сайентологии? – неожиданно спрашивает Джеймс.
Через десять минут Клэр уже едет на работу. Ей удалось вымолить себе выходные на раздумье. Хотя – это ведь ничего не меняет? Ну и что, что музей ее мечты – это ширма для секты. Нет, так нечестно. У нее много знакомых сайентологов, и все они сектанты не больше, чем какие-нибудь лютые лютеране – ее родственнички с материнской стороны. Или правоверные евреи – родственники папаши. Но восприниматься-то это будет совсем по-другому! Все подумают, будто она управляет музеем, в который Том Круз отправил все, что не сумел сбагрить на распродаже.
Джеймс клялся, что никакой связи с церковью у музея не будет, разве только финансирование. Конечно, коллекция начнется с пожертвований общины, но большую часть экспозиции Клэр нужно будет собирать самой.
– Просто церковь нашла способ вернуть свой долг индустрии, которая годами поддерживала ее приверженцев, – объяснил Брайан.
И ее идеи им очень понравились: интерактивные экспонаты для детишек, зал для просмотра немого кино, недели сериалов, ежегодный фестиваль. Клэр вздыхает. Ну почему им надо было обязательно оказаться сайентологами?!
Клэр ведет машину автоматически, погруженная в свои мысли. Прямо как зомби, рефлексы сами работают. Дорога состоит из бесконечной череды поворотов и перестроений с полосы на полосу, тихих улочек, велосипедных дорожек и парковок. Маршрут составлен так, чтобы ровно через восемнадцать минут после выезда добраться до студии.
Клэр кивает знакомому охраннику, заезжает в ворота и паркуется. Прихватив сумочку, шагает к офису. Даже ноги спорят между собой на ходу: «уволюсь, останусь, уволюсь, останусь». «Майкл Дин Продакшнз» располагается в старом доме на территории «Юниверсал», раньше в нем жил какой-то писатель. Дом зажат между декорациями, офисными зданиями и звукозаписывающими студиями. Майкл на «Юниверсал» больше не работает, но он принес им столько денег в восьмидесятые и девяностые, что его не выкинули вон. Этот дом достался Майклу как довесок к договору с «Юниверсал». В договоре значилось, что Дин обязан показывать студии все свои проекты. Ему тогда очень нужны были деньги и он согласился. Да и показывать-то особенно нечего было.
Клэр включает свет и садится за компьютер. Проверяет рейтинги – вдруг что-нибудь изменилось? Но рейтинги который год подряд неумолимо показывают одно и то же: сверху детские передачи, за ними сериалы, снятые по известным комиксам (в 3D, конечно). Коммерческий успех легко просчитать и предсказать при помощи алгоритмов. Производство – трейлер – рекламная кампания – зарубежные рынки – фокус-группы для оценки реакции аудитории. Фильмы нынче – это просто информация о скидках, реклама новых игрушек или поддержка запуска компьютерных игр. Взрослые вполне потерпят три недельки и купят себе диск. Или по кабельному просмотр закажут. А премьеры в кинозалах – это помпезные театрализованные представления для юнцов, у которых сперма из ушей брызжет, и для их булемичных подружек. Кино, ее первая любовь, давно почило, протухло и смердит.
А ведь Клэр даже день помнит, когда влюбилась. Четырнадцатое мая 1992 года, час ночи. Помнит, потому что шестнадцатого – ее день рождения. Ей показалось, будто кто-то в гостиной хихикает. Оказалось, отец смотрит старый фильм и плачет. «Посиди со мной, зайка». И Клэр вместе с отцом досмотрела вторую половину «Завтрака у Тиффани». Ее поразила жизнь на экране. Казалось, будто жизнь эту Клэр придумала сама, а не увидела по телевизору. В этом и есть сила киноискусства: у зрителя возникает ощущение déjà vu. Через три недели отец ушел из семьи и женился на грудастой Лесли, двадцатичетырехлетней дочери его партнера по фирме. Клэр была уверена, что папу у нее украла Холли Голайтли из того самого фильма.
«Мы никому не принадлежим, и нам никто не принадлежит» – так говорила Холли.
Клэр поступила в дизайнерский колледж на факультет киноискусства, потом в аспирантуру Калифорнийского университета и уже совсем собралась защищать диссертацию, когда ее судьбу перевернули сразу два события. Во-первых, отца хватил удар, хоть и несильный, но достаточный, чтобы Клэр поверила в то, что родители, а заодно и она сама, очень даже смертны. А потом ей приснился сон. Про пятидесятилетнюю старую деву, библиотекаршу, с квартирой, полной кошек, и у всех кошек имена известных режиссеров. «Годард, немедленно выплюнь игрушку Риветт». Старой девой была Клэр.
Клэр снова вспомнила «Завтрак у Тиффани», вспомнила все, о чем мечтала, забросила докторскую и очертя голову кинулась в водоворот Голливуда. Она хотела снимать фильмы, а не изучать их.
Начала она с того, что отправила резюме в известное голливудское агентство. Ее пригласили на собеседование. Менеджер едва взглянул на ее трехстраничное резюме.
Он говорил с ней как с шестилетней девочкой, терпеливо объясняя, что звезды и режиссеры – люди чрезвычайно занятые. У каждого есть собственный ассистент, агент, адвокат и бухгалтер. Пиарщики занимаются имиджем звезд, горничные убирают дома, гувернантки воспитывают детей, специально нанятые люди выгуливают собак. И каждый день знаменитостям приходят кипы сценариев, заявок на сценарии и прочей макулатуры. Кажется, разумно нанять кого-то, кто будет все это читать.
– Я тебе большую тайну открою, Клэр, – сказал ей агент. – Тут никто ничего не читает.
Тоже мне тайна, подумала Клэр. Достаточно посмотреть, что сейчас выходит на экраны.
Но вслух говорить Клэр ничего не стала и получила работу. Она писала краткие пересказы романов, сценариев и заявок, сравнивала их с известными фильмами, классифицировала героев, оценивала качество диалогов, коммерческий потенциал будущих картин и тем самым давала возможность актерам и их агентам делать вид, будто они не просто знакомы с материалом, но долго его изучали.
Название: ВТОРОЙ КРУГ. СМЕРТЬ.
Жанр: МОЛОДЕЖНЫЙ ХОРРОР.
Содержание: помесь фильмов «Клуб “Завтрак”» и «Кошмар на улице Вязов». История о том, как ученики сражаются с ненормальным учителем, который потом оказывается вампиром…
Месяца через три Клэр наткнулась на сценарий средней заумности, основанный на готическом романе. Этакий осколок сентиментализма. Концовка там была совершенно идиотская, deus ex machina (буря опрокидывает столб электропитания, и оголенный провод хлещет злодея по лицу). И Клэр ее просто… изменила. И ничего такого, не сложнее, чем вешалку в магазине поправить. В новой версии героиня принимала активное участие в собственном спасении.
Поправила и забыла.
А через два дня ей позвонили:
– Здравствуйте, меня зовут Майкл Дин. Вы обо мне слышали?
Слышала, естественно, хотя и удивилась, что он еще жив. Как же о нем было не слышать – «Король Голливуда», продюсер самых нашумевших фильмов конца двадцатого века, всех ужастиков, «соплей в шоколаде» и стрелялок. Когда-то он был очень влиятельным человеком. В те времена быть продюсером означало иметь возможность безнаказанно закатывать истерики, карабкаться по чужим головам, делать карьеру себе и другим, трахать актрис и нюхать кокаин. Вот это были продюсеры так продюсеры, настоящие игроки, не чета нынешним.
– А вы, значит, и есть та самая девушка, которая легким росчерком пера спасла кошмарный сценарий. Я, между прочим, за него сотню тысяч баксов отвалил.
Через пару дней она работала не где-нибудь, а на территории «Юниверсал», и не на кого-нибудь, а на самого Майкла Дина, в должности главного ассистента по фильмопроизводству. Дин нанял ее в надежде найти что-нибудь стоящее и «реинкарнироваться».
И поначалу ей все очень нравилось. После скукотищи аспирантуры тут было весело – совещания, беготня, суета. Каждый день приходили новые книги, заявки, сценарии. А прослушивания! Как она любила прослушивания! «Один чувак просыпается утром и понимает, что его жена – вампир». В кабинете постоянно толкутся сценаристы и продюсеры («принесите всем воды, пожалуйста»), обсуждают раскадровку («сквозь титры виден космический корабль инопланетян, и сразу другой кадр: парень сидит за компьютером»). Ни одной стоящей идеи прослушивания не приносили, и все-таки она их любила. Сама по себе продажа сценария – это форма современного искусства, перформанс. В настоящем времени говорили и о Наполеоне, и о пещерном человеке, и даже о Библии: «И тут этот чувак, Иисус, восстает из мертвых… прямо как зомби».
Ей всего-то было двадцать восемь, а она уже работала в таком месте! И делом занималась, пусть и не тем, о котором мечтала, но все же вполне «взрослым». Тут все сидели на совещаниях, читали сценарии и проводили прослушивания. Делали вид, будто им нравится, и изыскивали тысячи причин, чтобы ничего не снимать. А потом случилось нечто ужасное. Успех…
Клэр как сейчас помнит это прослушивание.
– Назовем его «Фабрика любви». Это типа такой телефейсбук для тех, кто ищет пару. Выкладываешь свое видео на сайт и автоматически попадаешь к нам на кастинг. А мы выбираем самых отпадных и самых говнистых, снимаем их свидания, а потом и всю историю: как они срутся, мирятся, женятся. А главное – кастинг сам собой происходит. Никому не надо бабок платить.
Майкл пристроил это шоу на второсортный кабельный канал. А наутро впервые за десять лет снова проснулся знаменитым. Теперь эта кошмарная труба постоянно изрыгала потоки синхронизированного с интернетом говна, смотреть которое у Клэр сил не было. Майкл Дин вернулся! Клэр поняла наконец, почему сотрудники студии так старались ничего не снимать. Как только тебе что-то удалось, на тебя сразу навешивают бирку и ничего другого делать уже не дадут. Клэр проводит дни на прослушиваниях шоу типа «Жри!» (куча жиртрестов соревнуется, кто быстрее напихается едой) или «Мамашки моей мечты» (агрессивные дамы бальзаковского возраста на свидании с такими же агрессивными юнцами).
Дошло до того, что Клэр с нетерпением ждала Большой пятницы. В этот день она хотя бы делала вид, что выбирает сценарий для фильма. К сожалению, большую часть сценаристов ей присылал Майкл. К ней приходили анонимные алкоголики, те, кому Дин был должен, те, с кем Дин встречался в клубе, бывшие партнеры по гольфу, бывшие поставщики кокаина, женщины, с которыми он переспал в шестидесятых и семидесятых, мужчины, с которыми он переспал в восьмидесятых, друзья бывших жен и его троих законных несовершеннолетних отпрысков, и еще троих, но уже незаконных и взрослых, сын его врача, сын его садовника, сын парня, чистящего его бассейн, парень, который чистит бассейн его сына.
Вот взять того, что назначен на 9.30. Дин с ним в сквош играл еще во времена Рейгана. Теперь этот желтушный старикашка хочет снять реалити-шоу про своих внуков и с гордостью демонстрирует их фотографии.
«Какие милые», говорит Клэр, и «ух ты!», и «да, теперь диагноз “аутизм” ставят всем подряд».
Но жаловаться нельзя, иначе Майкл опять начнет нудеть. Мол, в огромном враждебном городе он один никогда не забывает друзей, он протягивает им руку помощи и не боится смотреть людям в глаза. «Я всегда восхищался вашими работами (ПОДСТАВИТЬ НУЖНОЕ). Приходите ко мне в следующую пятницу, поговорите с моей Клэр». И протягивает, гад, визитную карточку. Все, Клэр опять попала. Они придут и потребуют билеты на премьеру, или телефон известного актера, или плакат с автографом. Но это еще полбеды. Обычно они хотят попасть на прослушивание. Как и все в Лос-Анджелесе.
Прослушивание в Голливуде – это жизнь. Толкни хорошую речугу – и перед тобой откроются все двери. Родители впаривают модным школам своих детей. Банки впаривают клиентам кредит на дом, который им не по карману. Незадачливые прелюбодеи, пойманные с поличным, впаривают супругам идиотские объяснения. Больницы впаривают роженицам новые родильные центры. Детские сады впаривают мамашам безграничную любовь к детям. Школы впаривают родителям истории успеха выпускников. Автосалоны впаривают покупателям роскошные автомобили. Психотерапевты впаривают пациентам книги из серии «Поверь в себя». Мессии впаривают пастве загробную жизнь. Похоронные конторы впаривают убитым горем родственникам могилку поживописнее и вечный покой. Конца этому словесному потоку не видно. Он высасывает все соки, разлагает душу, он неотвратим, как смерть. Он – часть жизни, как поливалки на газонах.
На территории студии подписанная Дином визитная карточка – основная ходовая валюта. И чем карточка более ветхая, тем больше шансов на удачу. Тот, что назначен на 10.15, достает визитку, на которой Дин еще значится исполнительным продюсером. Может, хоть этот будет сценарий предлагать? Фигу! Опять реалити-шоу: «Дворец паранойи». «Возьмем пациентов психушки, отменим все лекарства, запрем в большом доме, битком набитом камерами, и будем им потихоньку выносить мозги. Включил свет – заиграла музыка, открыл холодильник – в унитазе вода спустилась…»
Кстати, о лекарствах. Тот, что на 11.30, явно перестал их принимать. Бородатый сын Майклова соседа так и остался сидеть в плаще с накинутым капюшоном. Клэр в глаза он не взглянул ни разу. Парень предлагает создать мини-сериал по сюжету, который хранит исключительно в голове («если записать, его точно украдут»). Называется сериал «Квадрология Вераглим». Вераглим, как вы понимаете, это такая параллельная вселенная о восьми измерениях. А квадрология – «это такая трилогия, только историй четыре». Чувак гундит и гундит про физические параметры этой вселенной и устройство жизни (у них там есть невидимый король, а еще постоянно восстают кентавры, а пенисы у мужской части населения стоят в течение одной недели в году). Клэр грустно глядит на жужжащий мобильник. Очередное Знамение для тех, кому они еще не надоели: ее возлюбленный, любитель стрип-клубов, неспособный удержаться ни на одной работе, проснулся (без двадцати двенадцать) и отправил ей эсэмэску. «Молоко». И никакого вопросительного знака. Клэр представляет себе, как Дэрил стоит перед холодильником в одних трусах, не находит молока и шлет ей недоделанный вопрос. Интересно, где он надеется это молоко найти? Ну-ка, попробуем. «В посудомойке», – пишет она в ответ. Чувак из Вераглима продолжает бубнить. Судьба принялась играть с Клэр в азартные игры. Ты мне, дескать, условия ставишь? Так вот тебе за это! Послушай про Вераглим. Такой удачный день выдавался Клэр последний раз в восьмом классе. У нее начались особенно обильные месячные прямо во время урока физкультуры. Маршал Эйкен, который обычно ничего вокруг себя не замечал, увидел расцветающий на ее шортах красный бутон и завопил на весь зал: «У Клэр кровоизлияние!» Вот и сейчас у нее кровоизлияние, только в мозг. Кровь разливается по всему столу, а вераглимский придурок уже перешел ко второй части квадрологии («Фландор обнажает клинок-двойник»). Телефон на ее коленях опять жужжит. «Овсянка», спрашивает Дэрил.
Шасси с визгом касаются посадочной полосы, Шейн просыпается. Самолет опоздал, но до встречи еще три часа, а ехать тут – четырнадцать миль. На машине это всего ничего. Шейн, потягиваясь, заходит в здание аэропорта, шагает по длинному туннелю, минует ленту выдачи багажа и через вращающиеся двери попадает на залитую солнцем улицу. Садится в автобус, вылезает у автопроката. Очередь состоит из сияющих туристов, предвкушающих отпуск в «Диснейленде». Небось они тоже рекламу в интернете увидели, «распечатай купон со скидкой на 24 доллара». Он протягивает девушке за стойкой права и кредитку. «Шейн Вилер?» – удивленно и со значением повторяет она. Может, самолет прыгнул в будущее и Шейну полагается купаться в лучах славы? Нет, просто девушка радуется, что нашла его бронь. Мы живем в мире банальных чудес.
– Вы тут по делу или отдыхать, мистер Вилер?
– Хочу испытать судьбу.
– Страховку брать будете?
От страховки он отказывается, от дорогущего навигатора и экстренной заправки тоже и отправляется восвояси со связкой ключей и картой, нарисованной не иначе как десятилетним наркоманом. Садится в красную «киа», приводит сиденье в соответствие с географическим положением руля, шумно выдыхает и заводит машину В голове его вертится зачин сегодняшней речи: «Итак, живет на свете один парень…»
Через час он оказывается от места назначения дальше, чем был, когда прилетел. «Киа» его застряла в пробке, да еще и не в том направлении движется, похоже. Вернее, не движется. И чего он, идиот, от навигатора отказался? Шейн бросает бесполезную карту на сиденье и набирает мобильный Жана Перго. Абонент вне зоны действия сети. Звонит агенту, но его ассистент отвечает: «Простите, Эндрю сейчас недоступен», что бы это ни значило. От отчаяния Шейн звонит даже матери, потом отцу, потом домой. Да где же они все, елки-палки?! Дальше наступает черед бывшей жены. Вот уж кому бы он ни за что звонить не стал, так это Сандре. Но деваться уже некуда.
Наверное, его телефон еще забит в памяти ее мобильника, потому что, едва взяв трубку, она говорит:
– Надеюсь, ты звонишь, чтобы отдать мне долг?
Вот именно таких разговоров ему бы хотелось избежать. Целый год они спорили о том, кто кому испортил кредитную историю и кто у кого украл машину. Шейн вздыхает:
– Вообще-то, я как раз сейчас пытаюсь эти деньги заработать, Сандра.
– Опять кровь сдаешь?
– Нет, я в Лос-Анджелесе, продаю сценарий.
Она начинает хохотать и только потом понимает, что он говорит серьезно.
– Погоди-ка, ты что, пишешь сценарий к фильму?
– Нет, я пытаюсь его продать. Получить заказ.
– Теперь понятно, почему у нас такая дрянь на экраны выходит.
И в этом вся Сандра. Вроде официантка, но с замашками богемной поэтессы. Они познакомились в Таксоне. Сандра работала в кофейне, куда Шейн каждый день приходил писать рассказы. Он влюбился в ее ноги, в ее смех, в ее восхищение писателями, в ее готовность поддерживать Шейна во всех начинаниях. Именно в такой последовательности.
Ну а сама она, как призналась потом, влюбилась в его мечты.
– Слушай, – говорит Шейн, – давай ты потом современную культуру покритикуешь, ладно? Посмотри карту «Юниверсал», а то я потерялся.
– У тебя что, правда встреча в Голливуде?
– Да, – отвечает Шейн. – С одним известным продюсером.
– И что ты надел?
Шейн вздыхает и повторяет слова Жана Перго: одежда не имеет значения (если, конечно, у тебя нет говноупорного костюма).
– А я и так знаю. – И Сандра описывает то, во что он одет, до мельчайших деталей, включая цвет носков.
Шейн уже сто раз пожалел, что позвонил.
– Ты не можешь просто помочь?
– И как твой фильм называется?
Шейн снова вздыхает. Главное, помнить: они уже не женаты. К ее сарказму он должен быть равнодушен.
– «Доннер!».
Секунду-другую Сандра молчит. Но знает-то она его как облупленного. Знает, что он читает и чем увлекается.
– Ты сценарий про каннибалов пишешь?
– Я же тебе сказал, пока я просто идею продаю. И фильм не про каннибалов.
Конечно, мясной пир – не самый легкий предмет для описания. Тем более для фильма. Но тут ведь важна подача. Как сказал Майкл Дин в четырнадцатой главе своей книги: «Что общего у сфинктера и идеи? Они бывают в каждой заднице. Весь вопрос в том, как эту идею подать. Я бы мог прийти сегодня на киностудию “Фокс” и впарить им фильм про ресторан, где кормят жареными обезьяньими яйцами. Главное – правильно подать».
И Шейн подаст все в лучшем виде. Он расскажет не классическую историю похода Доннера, не про то, как люди застряли в лагере в заснеженных горах и поедают друг друга с голодухи. Нет, он расскажет историю плотника Вильяма Эдди, который собрал молодежь, в основном женщин, и вывел их из ущелья, и спас их. И – внимание, третий акт, – восстановив силы, он возвращается в горы за своей женой и детьми! Когда Шейн рассказывал эту историю агенту, Эндрю Данну, по телефону, его самого поразил героизм и стойкость персонажей. «Это будет фильм о триумфе! – кричал он Эндрю. – Фильм о преодолении, фильм с эпическим размахом! Смелость! Упорство! Любовь! Вот что важно!» И в тот же вечер агент назначил ему встречу с Клэр Сильвер. Ассистенткой самого Майкла Дина. Обалдеть можно!
– О как, – говорит Сандра, выслушав его. – И что, ты надеешься это продать?
– Да, – отвечает Шейн. Он действительно верит в успех. Это же главное – верить самому. «Действуй»! Его поколение выросло в святом убеждении, что неприятности мимолетны, что стоит только постараться, потерпеть минут тридцать, ну час, ну может, полтора – и все наладится.
– Ладно, – говорит бывшая жена. Все-таки его энтузиазм пока еще производит на нее впечатление. Сандра диктует, куда ехать. – Удачи тебе, Шейн!
– Спасибо, Сандра.
Как обычно, от ее спокойной доброжелательности ему становится ужасно одиноко.
Ну вот и все. Надо же было так сглупить – дать себе всего один день. Сколько раз Майкл ей говорил: мы не фильмы делаем, а в развлекательной индустрии работаем. День, понятно, еще не кончился, но тот, что назначен на 14.45, ковыряет прыщ на лбу и впаривает сериал. «Там, короче, коп – он по ходу вампир…» Впаривает и ковыряет, ковыряет, ковыряет. Клэр чувствует, как из нее по капле утекает оптимизм. Следующий, похоже, вообще не явится. (Как его там? Шон Веллер, что ли?) Клэр смотрит на часы: 16.10. Глаза покраснели и слезятся. Конец. Все дела она на сегодня переделала. Майклу Клэр ничего говорить про разочарование не станет – зачем? Предупредит за две недели, вещи соберет и отправится собирать сувениры для сайентологов.
А как же Дэрил? Его тоже сегодня надо бросать? Клэр и раньше пыталась с ним разойтись, только у нее ничего не выходило. С Дэрилом ссориться все равно что суп резать – сопротивления никакого. Она ему: нам надо поговорить, а он улыбается так спокойно, расслабленно, и через пять минут они в постели. Похоже, его это даже заводит. Клэр рассуждает про то, как у них ничего не складывается, а он уже рубашку снимает. Она жалуется, что ее достали его стрип-клубы, а он только кивает.
Она: Обещай, что больше туда не пойдешь.
Он: Обещаю, что тебя туда не потащу.
Дэрил не спорит, не врет, не переживает. Чувак просто ест, дышит и трахается. Как можно прекратить отношения, которых, по сути, нет?
Она познакомилась с ним на единственных в ее жизни съемках. На «Ночных охотниках». Клэр всегда очень татуировки возбуждали, а у Дэрила, который выходил (или выползал?) в роли зомби номер четырнадцать, все руки были в татуировках. Клэр обычно встречалась с тонко чувствующими занудами, на их фоне ее собственное занудство как-то бледнело. Ну еще с парочкой коллег, из которых амбиции торчали, как второй пенис. А вот с безработными актерами ей сталкиваться не приходилось. Впрочем, она ведь этого хотела, ради этого бросила докторскую – чтобы с головой окунуться в мир кино. Через тридцать шесть часов красавчик очутился у нее в постели. Выяснилось, что его поперла из дома девушка и ему негде жить. С тех пор прошло три года, роль в «Ночных охотниках» так и осталась лучшей в карьере Дэрила, и роскошное тело зомби номер четырнадцать украшает теперь кровать в спальне Клэр.
Нет, сегодня она его выкидывать не станет. И так день не задался. Сначала сайентологи, теперь эти дедули со своими внуками, зомби-копы и ковыряльщики прыщей. Клэр даст Дэрилу еще один шанс. Придет домой с пивом, устроится на его широком татуированном плече, они посмотрят кабельное вместе (ему нравятся передачи на канале «Дискавери», особенно про грузовики на льду). Она хоть живой себя почувствует. Конечно, Клэр не о такой любви мечтала, но, с другой стороны, вполне американский у нее оказался стиль жизни. Целая нация зомби несется по автострадам, сжигает в пробках полные баки бензина, старается поскорей попасть домой, а потом тупо пялится в телик, смотрит «Грузовики на льду» или «Фабрика любви» на огромном плоском экране.
Клэр берет куртку и идет к двери. Задерживается на пороге, оглядывается на комнату. Она мечтала создавать здесь великое кино. Глупая какая-то мечта, это ее Холли Голайтли сбила с толку. На часах 16.17. Клэр запирает за собой дверь, вздыхает и уходит.
Часы в «киа» тоже показывают 16.17. Шейн опаздывает. Ему конец. Твою мать! Он бьет кулаком по рулю. Развернуться-то он развернулся, но опять застрял в пробке, а потом не там съехал с шоссе. Вот и въезд на студию. Охранник пожимает плечами и говорит, что ему в другие ворота. Шейн опаздывает уже на двадцать четыре минуты. Тщательно выбранная одежда вымокла насквозь. Еще через четыре минуты он добирается до нужного въезда, еще через две охранник отдает ему права и выписывает пропуск на парковку. Шейн бросает картонку на лобовое стекло и заводит мотор. Руки дрожат.
До офиса Майкла Дина всего метров семьдесят, но взвинченный Шейн идет не туда. Бежит мимо огромных студий звукозаписи, мимо огромной складской территории, описывает круг и возвращается вдоль цепочки бунгало. Подъезжает трамвайчик, полный веселых туристов. Они гомонят и фотографируют, водитель-экскурсовод бормочет в микрофон, рассказывает им байки. Туристы восхищенно внимают, тут же находят аналогии в собственном прошлом. Им важно установить связь между жизнью обыденной и жизнью волшебной («Точно, помню, я это шоу просто обожала!»). Изможденного Шейна они оглядывают с любопытством. Перебирают карточки в банке данных. Может, это Шин? Или Болдуин? Опознать его никому не удается, но они все равно его фотографируют, так, на всякий случай.
Экскурсовод весело частит в микрофон про то, как известная любовная сцена из известного фильма снималась «во-о-он там». Шейн подходит ближе, и водитель знаком показывает, что надо подождать. Шейн потеет, на глазах выступают слезы, он яростно борется с желанием позвонить родителям. Про «Действуй» он давно забыл. На бейджике экскурсовода имя: «Ангел».
– Простите, пожалуйста! – теребит его Шейн.
Ангел прикрывает микрофон ладонью и говорит с сильным испанским акцентом:
– Чего тебе?
Возраста они примерно одного, и Шейн решает воззвать к поколенческой солидарности.
– Чувак, я трындец как опаздываю! Где тут у вас офис Майкла Дина?
Какой-то турист тут же фотографирует Шейна. Ангел молча тыкает пальцем куда-то за спину и трогается с места. Как только трамвай отъезжает, открывается вывеска «Майкл Дин Продакшнз».
Шейн опаздывает уже на тридцать шесть минут. Твою мать! Он бросается за угол, но дверь загораживает пожилой джентльмен с тросточкой. Сначала Шейн принимает его за Майкла Дина, хотя агент ясно сказал, что Дин будет на совещании. Нет, конечно, это не Дин. Просто какой-то старичок лет семидесяти, в темно-сером костюме и черной фетровой шляпе. Крючок тросточки висит у него на сгибе локтя, а между пальцами зажата визитка. Старик поворачивается на звук шагов и снимает шляпу. У него черные с проседью волосы и ярко-синие, совсем молодые глаза.
Шейн смущенно кашляет.
– Вы заходите? А то я ужасно опаздываю!
Старик протягивает ему визитку, старую, потертую, с истрепанными краями. Буквы почти стерлись. Визитка совсем другой студии, «Двадцатый век Фокс», но имя то же: Майкл Дин.
– Да, вы пришли по адресу, – говорит Шейн и достает свою, более новую версию. – Видите, он теперь в этой студии работает.
– Да, я идти сюда, – отвечает старик. Кажется, итальянец. Шейн год учился во Флоренции и потому сразу узнает акцент. Дед снова показывает на карточку: – Они сказали, идти сюда. – Он показывает на здание: – Только закрыт.
Шейн ушам своим не верит. Он обходит старика и дергает за ручку двери. Действительно, заперто. Ну все. Вот теперь действительно конец.
– Паскаль Турси. – Старик протягивает ему руку.
– Неудачник, – представляется Шейн.
Клэр пишет Дэрилу эсэмэску с вопросом, чего тот хочет на ужин. Приходит лаконичный ответ: «KFC». И следом второе сообщение: «+ фабр, любви без купюр». Зачем-то Клэр ему рассказала, что скоро в интернете появится более жесткая версия шоу, со всеми подробностями постельной жизни героев и прочей фигней, которую по телевизору показать никак нельзя. Ну и ладно, решает она, сейчас вернусь за диском с этим апокалипсисом, быстренько заскочу в «KFC», потом свернусь комочком под боком у Дэрила, а все решения отложу до понедельника. Клэр разворачивает машину, снова проезжает мимо охраны, паркуется рядом с офисом Дина и идет искать порно-DVD. Но тут видит у дверей даже не одного опоздавшего, а аж двоих. Клэр Сильвер останавливается. Ей ужасно хочется сбежать, пока не поздно.
Она часто старается угадать, откуда ее посетители знают Дина. Игра такая. Тот, что с большими растрепанными бакенбардами, в джинсах с фабричными потертостями и летней рубашке, – это, наверное, сын драгдилера, у которого Майкл когда-то брал наркоту. А вот с синеглазым стариком в темно-сером костюме все сложнее. Оргия у Тони Кертиса году этак в шестидесятом?
Взъерошенный молодой человек замечает ее первым.
– Простите, вы не Клэр Сильвер? – бросается он кней.
«Нет», – отвечает она про себя.
– Да, это я, – отвечает она вслух.
– Я Шейн Вилер. Простите бога ради! Пробки были ужасные, и я потерялся, и… Может, вы согласитесь все-таки поговорить со мной?
Клэр растерянно смотрит на старика, тот снимает шляпу, протягивает девушке визитку и представляется:
– Паскаль Турси. Я ищу… мистер Дин.
Красота! Целых две потеряшки. Пацан, не способный найти дорогу в Лос-Анджелесе, и итальянец, прибывший на машине времени. Оба таращатся на нее и протягивают визитки Дина. У того, что помладше, и визитка, естественно, поновее. На обороте подпись Майкла и приписка от агента, Эндрю Данна. Эндрю она недавно натянула. Не в смысле переспала с ним, это бы ей легко сошло с рук, а попросила придержать коней и не сливать журналистам инфу о новом шоу его клиента (что-то такое без сценария и про жизнь в мире моды, «Башмачок подошел»), подождать, пока Майкл примет решение. А Дин тем временем взял и вывел в эфир шоу конкурентов под названием «Фетиш» и успешно похоронил тем самым идею клиента Эндрю. В записке сказано: «Надеюсь, тебе понравится». То есть это он ей так отомстил. Жесть!
Вторая визитка совсем загадочная. Клэр в первый раз видит такую старую карточку, потускневшую и помятую, еще времен работы Дина на первой студии, «Двадцатый век Фокс». Клэр удивленно читает название должности. Пиар? Майкл начинал с пиара? Сколько же лет назад это было?
Нет, ей-богу, если бы Дэрил не прислал идиотские эсэмэски, не потребовал курицу и порнодиск, она бы послала этих ребят к черту. Сказала бы, что в пятницу вечером не подает. А может, это и есть Знамение? Может, один из них… Так, ну ладно. Клэр отпирает дверь и просит потеряшек еще раз представиться. Ага, растрепанные бакенбарды – Шейн. Пучеглазик – Паскаль.
– Проходите в переговорку, пожалуйста, – приглашает она обоих.
Они садятся под плакатами блокбастеров Дина. Времени разводить церемонии у Клэр уже нет. Впервые в истории она проведет прослушивание, не предлагая собеседникам воды.
– Мистер Турси, прошу вас, начинайте.
Старик растерянно оглядывается.
– А мистер Дин… нет? – спрашивает он с сильным акцентом, точно пережевывая и выплевывая каждое слово.
– Боюсь, его сегодня не будет. Вы с ним дружили когда-то?
– Я встречаю его… – Паскаль смотрит на потолок, – в… diciannove sessantadue.
– В шестьдесят втором, – говорит молодой парень. И пожимает плечами в ответ на удивленный взгляд Клэр: – Я год в Италии учился.
Клэр сразу представляет, как Майкл и эта древняя развалина рассекают по Риму шестидесятых в кабриолете, трахают актрисок и пьют граппу. Паскаль Турси, кажется, совсем растерялся.
– Он говорил… если… вам что-то понадобится…
– Ну разумеется, – отвечает Клэр. – Я обещаю непременно рассказать Майклу о вашем сценарии. Начинайте, пожалуйста.
Паскаль щурится, словно никак не может понять, что происходит.
– Я английский… совсем давно…
– С начала, – повторяет Шейн. – L'inizio.
– Один парень… – подсказывает Клэр.
– Женщина, – перебивает Паскаль. – Она приехать в мою деревню, в Порто-Верньона. В… – Он беспомощно оглядывается на Шейна.
– В шестьдесят втором? – переспрашивает Шейн.
– Да. Она… красавица. А я… строить пляж, да? И теннис? – Старик трет лоб, рассказывать ему явно тяжело. – Она… в кино, так?
– Актриса? – подсказывает Шейн.
– Да. – Паскаль задумчиво глядит в пространство.
Клэр смотрит на часы и пытается придать старику ускорение:
– Короче, актриса приезжает в городок и влюбляется в парня, который насыпает пляж?
– Нет, – отвечает Паскаль. – Не в меня… Может, да. Е 'il momento, да? – Он поворачивается к Шейну: – Il momenta che dura per sempre.
– Миг, который длится вечность, – тихонько повторяет Шейн.
– Да, – Паскаль кивает, – вечность.
Клэр зацепило: эти два слова рядом. Миг и вечность. Не то что «KFC» и порно. Она вдруг ужасно раздражается. На себя – за дурацкое пристрастие к романтике и неумение выбирать мужчин. На придурков-сайентологов. На отца за то, что он посмотрел «Завтрак у Тиффани» и бросил их с мамой. Снова на себя – за то, что вернулась в офис. И еще раз на себя, за дурацкий оптимизм. И на Майкла. Чтоб ему провалиться! Вместе с его дебильной работой, визитками, старыми пердунами друзьями, идиотской привычкой отдавать долги и помогать всем, кого он когда-то хоть раз поимел, а имел он все, что движется.
– Она болела, – вздыхает Паскаль.
– Чем? – сердится Клэр. – Волчанкой? Псориазом? Или у нее был рак?
При слове «рак» Паскаль внезапно вздрагивает и бормочет:
– Si. Ma non è cosi semplic…
И тут встревает этот сопляк Шейн:
– Э… Мисс Сильвер, по-моему, он не сценарий рассказывает. – Шейн поворачивается к Паскалю и медленно, с трудом произносит: – Questo е realmente accaduto? Non unfilm?
Старик кивает:
– Si. Sono qui per trovare il suo.
– Ну точно. Это реальная история, – поясняет Шейн. И спрашивает Паскаля: – Non l'ho piu vista da allora? (Паскаль отрицательно качает головой.) Он не видел эту актрису лет пятьдесят. И приехал, чтобы найти ее. – И снова Паскалю: – Il suo поте?
– Ди Морей, – отвечает тот.
Клэр чувствует, как что-то в ее груди вдруг лопается. Цинизм, который она так тщательно в себе культивировала, куда-то испаряется. Напряжение последних дней отступает. Имя актрисы ей ни о чем не говорит, но старик прямо преображается, когда произносит его, словно бы впервые за много лет. Да и в Клэр оно задевает какие-то струны. Как романтично, миг и вечность! Пятьдесят лет ожидания. Пятьдесят лет страданий. Клэр даже кажется, будто это ее страдания, да что там, страдания каждого человека на свете! И вот, наконец, имя произнесено, рана вскрылась и боль выплеснулась наружу. Клэр так потрясена величием момента, что у нее слезы наворачиваются и приходится смотреть в пол, чтобы никто не заметил такого позора. Шейн, кажется, тоже переживает. Имя зависает на минуту посреди комнаты и осенним листом, кружась, тихонько опускается на пол. Итальянец провожает его взглядом. А Клэр ждет, надеется, она все сейчас готова отдать, лишь бы только старик произнес это имя еще раз. Тихонько, чтобы подчеркнуть, какое оно важное, – так часто делают в сценариях. Но старик молчит. Просто смотрит на пол, туда, куда упало имя. И Клэр Сильвер приходит в голову, что она слишком много пересмотрела фильмов.
3. Гостиница «Подходящий вид»
Апрель 1962
Порто-Верньона, Италия
Целый день он ждал, что она выйдет из комнаты, но ни вечером, ни ночью девушка со своего третьего этажа не спускалась. И Паскаль занялся своими делами, которые скорее походили на метания сумасшедшего, чем на хлопоты серьезного предпринимателя. Но придумать себе другого занятия он не смог, а потому выкладывал в море камни и ровнял площадку для тенниса. И время от времени оглядывался на окна с белыми ставнями. Ближе к вечеру, когда кошки разлеглись на прибрежных камнях, чтобы погреться в лучах заходящего солнца, с моря налетел сильный ветер и поднял волну. Паскалю пришлось выбираться из воды. Он уселся на площади, в одиночестве наслаждаясь сигаретой: рыбаки еще не пришли за выпивкой. Из гостиницы не доносилось ни звука, словно прекрасной американки там и не было вовсе. Паскаль вдруг испугался, что ему все привиделось: и яхта Оренцио, и стройная девушка, грациозно поднимающаяся по ступеням к отелю, и то, как он поселил ее в лучшей комнате на третьем этаже. Привиделось, как она распахнула ставни, вдохнула полной грудью соленый воздух и сказала «как чудесно». Привиделось, как он просил ее позвать его, если что-нибудь понадобится, и повторял, как он «счастлив ее принять». Привиделось, как она поблагодарила его и закрыла за ним дверь, а он в одиночестве спускался по темной лестнице.
И тут – о боже! – оказалось, что тетя Валерия варит на ужин свою фирменную уху с томатной пастой, луком, белым вином и оливками, ciuppin.
– Ты что думаешь, я американской кинозвезде твою тухлую баланду из рыбьих голов понесу?
– Не захочет есть, пусть проваливает, – ответила тетя.
На закате, когда рыбаки втягивали свои лодки на каменистый берег, Паскаль понес по узкой выдолбленной в камне лестнице тетин суп и постучал в дверь на третьем этаже.
– Кто там? – спросила девушка. Было слышно, как скрипнули пружины кровати.
Паскаль откашлялся.
– Простите мое беспокойство. Хотите кушать ухи и antipasti, да?
– Уши?
Паскаль ужасно рассердился на себя за то, что не смог отговорить тетю приготовить ciuppin.
– Да, уха. С рыба и vino. Рыбная уха.
– А, уха, я поняла. Нет-нет, благодарю вас. Я пока ничего не могу съесть, – глухо ответила из-за двери американка. – Я еще плохо себя чувствую.
– Да, – ответил Паскаль. – Я понял.
Он спускался по лестнице, на все лады повторяя про себя слово «уха». А потом ел девушкин ужин у себя в комнате. Ciuppin, кстати, вполне удалась. Газеты, выписанные еще его отцом, до сих пор приходили раз в неделю. Паскаль их обычно не читал, но тут пролистал парочку – узнать, что пишут про «Клеопатру». Оказалось, ничего не пишут.
Чуть позже он услышал, как в траттории кто-то ходит, но это, конечно, была не американка, она так топать не стала бы. Зато оказалось, что за обоими столиками устроились все рыбаки деревни – причесанные, шляпы аккуратно выложены на стол. Всем охота была взглянуть на прекрасную актрису. Валерия подавала им суп, но они не супа хотели, а просто ждали Паскаля, чтобы его как следует расспросить. Сами-то они были в море, когда прибыла яхта.
– Говорят, в ней росту два с половиной метра, – сказал Люго, похотливый герой войны, хваставшийся, будто убил по одному солдату из армии каждой страны – участницы Второй мировой. – Великанша она.
– Хватит чушь молоть! – ответил Паскаль, разливая гостям вино.
– А сиськи у нее какие? – не унимался Люго. – Круглые, как холмы, или острые, как вершины гор?
– Ты лучше меня спроси, – сказал Томассо-Хрыч. Его двоюродный брат женился на американке, так что об американках Томассо, разумеется, знал все. Как, впрочем, и обо всем остальном. – Они одно блюдо на целую неделю готовят. Зато им до свадьбы можно, если в рот. Тут, прямо как в жизни, есть плохое, а есть хорошее.
– Я тебе корыто поставлю, будешь жрать со свиньями! – Валерия на кухне возмущенно сплюнула.
– Валерия, выходи за меня замуж! – закричал Томассо-Хрыч. – Мне и секса уже не надо, и глухой скоро буду как пень. Мы ж прямо созданы друг для друга.
Он достал изо рта трубку, которую задумчиво жевал на протяжении всего разговора. Томассо-коммунист Паскалю нравился больше всех. Старый рыбак считал себя большим докой по части кино, в особенности итальянского неореализма, а потому к американским фильмам относился с большим презрением. Томассо считал, что именно они привели к появлению нового течения, Commedia all'Italiana, глупых водевилей, пришедших на смену глубоким фильмам пятидесятых.
– Я тебе, Люго, так скажу. Американские актрисы только и умеют, что носить корсет в вестернах и визжать.
– Ну и ладно. Хочу посмотреть, как у ней сиськи раздуваются, когда она визжит, – упрямо ответил Люго.
– Может, она завтра загорать голышом на Паскалев пляж выйдет, – мечтательно проговорил Томассо-Хрыч. – Вот тогда мы на ее сисищи и посмотрим.
Триста лет в этой деревне ничего не менялось. Мальчики вырастали, отцы передавали им свои лодки, а потом и дома – дома обычно старшим сыновьям, – и сыновья женились на девушках из окрестных деревень. Кто-то привозил молодых жен в Порто-Верньону, кто-то уезжал, но число villagio оставалось неизменным, и двадцать с небольшим домов никогда не пустовали. Однако после войны все изменилось. Рыболовство приобрело промышленный размах, и местные уже не могли соревноваться с большими сейнерами, которые каждую неделю выходили из Генуи на промысел. Рестораны все еще покупали у старых рыбаков их нехитрую добычу, в основном потому, что туристам нравилось видеть, как на кухню приносят свежую рыбу, но жизнь уже была не та. Все равно что в парке развлечений работать: рыбалка ненастоящая, будущего у нее никакого. Молодежи пришлось уехать из Порто-Верньоны и поступить на консервные заводы в Ла-Специи, Генуе, а то и подальше. Любимый сын больше не мечтал о том, как унаследует лодку. Шесть домов уже опустело – некоторые стояли заколоченными, некоторые пришлось снести. И это было только начало. В феврале младшая дочь Томассо-коммуниста, косоглазая Иллена, вышла замуж и уехала в Ла-Специю. Томассо потом несколько недель места себе не находил. Как-то утром Паскаль, посмотрев на рыбаков, которые кряхтя и охая тащили лодки в море, вдруг понял, что кроме него в деревне никого моложе сорока уже не осталось.
Паскаль оставил рыбаков веселиться в траттории и пошел навестить маму. Она плохо себя чувствовала и уже две недели не вставала с постели. Мама лежала, уставившись в потолок, скрестив руки на груди и скривив рот в предсмертной гримасе, которую часто репетировала в последнее время. Седые пряди разметались по подушке.
– Мама, ты бы встала. Пойдем, поешь с нами.
– Не сегодня, Паско, – просипела она. – Сегодня я надеюсь умереть. – Антония Турси вздохнула, зажмурилась, затем осторожно приоткрыла один глаз.
– Валерия говорит, у нас гости из Америки?
– Так и есть.
Паскаль приподнял одеяло, чтобы взглянуть на ее пролежни. Оказалось, тетка их уже посыпала тальком.
– Женщина?
– Да, мама, женщина.
– Сбылась-таки мечта отца. Он все твердил, что американцы приедут, и оказался прав. Женился бы ты на ней и ехал себе в Америку. Там и теннисный корт сделаешь.
– Мама, ты же знаешь, я тебя не…
– Уезжай, а то сгинешь тут, как твой отец.
– Я тебя не брошу.
– Обо мне не беспокойся. Скоро я уйду к твоему бедному отцу и братьям.
– Ты пока не умираешь, – сказал Паскаль.
– Душою я уже умерла. Надо тебе было вывезти меня в море и утопить, как ту старую больную кошку.
Паскаль насторожился.
– Ты же говорила, она убежала, пока я был в университете?
Она искоса глянула на сына:
– Это такое выражение.
– Нет, не выражение. Нет такого выражения. Вы что с папой, мою кошку утопили, когда я уехал?
– Паско, я старая больная женщина! Зачем ты меня мучаешь?
Паскаль вернулся к себе. В ту ночь он слышал, как американка ходила в туалет, но на следующее утро девушка так и не вышла из своей комнаты. Паскаль занялся работой на пляже. Когда пришло время обеда, тетя Валерия сообщила ему, что американка спускалась вниз, выпила кофе, съела кусок торта и апельсин.
– Что она сказала? – спросил Паскаль.
– А мне почем знать? Кошмарный язык. Точно кто-то костью подавился.
Паскаль тихонько поднялся по ступеням и прислушался, но в комнате Ди Морей было тихо.
И он вернулся на пляж. Много ли песка унесло течением, определить было трудно. Юноша вскарабкался на уступ, которому предстояло стать теннисным кортом. Полуденное солнце скрывали тучи, отчего небо казалось плоским, как стекло на крышке стола. Паскаль взглянул на колышки, ограждающие строительную площадку, и ему стало стыдно. Даже если навалить из камней двухметровую стену вокруг корта, все равно бетон тут вряд ли удержится. И как укрепить часть, нависающую над обрывом? К тому же придется еще выпирающую скалу взрывать. Может, построить маленький корт? Интересно, правилами такое разрешается? Если ракетки тоже будут поменьше?
Паскаль уселся на уступе покурить и подумать. Внезапно у мыса Вернаццио показалась яхта Оренцио. Она двигалась по направлению к деревне. Вот яхта уже прошла Риомаджоре. Похоже, Оренцио вез двоих пассажиров. Неужели еще американцы едут? Нет, на такое Паскаль даже надеяться не смел. Наверное, они поедут дальше, в Портовенере или в Ла-Специю. И тут яхта сбавила ход и повернула в бухточку.
Паскаль запрыгал с камня на камень вниз к причалу, пробежал по узкой тропинке вдоль берега и остановился лишь тогда, когда понял, что Оренцио привез не туристов. Одного, здоровенного громилу, он никогда не видел. Вторым был Гвальфредо, владелец отелей на этом побережье и редкий гад. Оренцио пришвартовался, и пассажиры сошли на пирс.
Гвальфредо был лыс, щекаст, зубаст и усат. А здоровяка, кажется, просто вытесали из гранита. Оренцио остался на палубе, в глаза Паскалю он почему-то не смотрел.
Гвальфредо всплеснул руками и воскликнул:
– Выходит, правду говорят, что сын Карло Турси вырос, возмужал и вернулся в Мокрощелку!
Юноша мрачно кивнул:
– Добрый день, синьор Гвальфредо.
Раньше этот мерзавец в Порто-Верньону не приезжал, но Паскаль хорошо знал его биографию. Мать Гвальфредо спуталась с богатеньким банкиром из Милана, и, чтобы ее сынок с явными криминальными наклонностями не болтал лишнего, банкир купил ему долю в сети отелей в Портовенере, Чиавари и Монтероса-аль-Маре.
Гвальфредо осклабился:
– Так у тебя что, американка в бывшем борделе живет?
Паскаль кивнул:
– Да, у нас иногда останавливаются американские туристы.
Гвальфредо нахмурился. Огромные усы, казалось, пригибали его голову на бычьей шее к земле. Он оглянулся на Оренцио, но тот притворился, будто копается в моторе.
– Я уже сказал Оренцио: тут явная ошибка. Женщина наверняка ехала ко мне в Портовенере. А он утверждает, будто ей было надо именно… сюда.
– Да, – ответил Паскаль, – ей нравится, что у нас тихо.
Гвальфредо угрожающе шагнул вперед:
– Это тебе не крестьянин из Швейцарии! Американцам нужен комфорт, а уж тем более звездам кино. Ты его обеспечить не можешь. Я в этом бизнесе давно. И очень расстроюсь, если ты опозоришь наш курорт.
– Мы заботимся о ней.
– Значит, ты не будешь возражать, если я с ней поговорю и задам ей пару вопросов?
– К ней нельзя, – поспешно ответил Паскаль. – Она спит.
Гвальфредо оглянулся на Оренцио и снова, угрожающе, на Паскаля:
– А может, ты меня к ней не пускаешь, потому что парочка старых друзей обманула бедную женщину, не знающую итальянского, и привезла ее в Порто-Верньону вместо Портовенере? А она-то, бедняжка, сюда и не собиралась?
Оренцио открыл было рот, чтобы возразить, но Паскаль его опередил:
– Разумеется, нет! Пожалуйста, можете приехать попозже, когда она проснется, и спросить все, что вам хочется, но сейчас я ее беспокоить не позволю. Она больна.
Гвальфредо криво усмехнулся из-под усов:
– Ты знаком с синьором Пелле? Он из туристической гильдии.
– Нет еще. – Паскаль попытался встретиться с незнакомцем взглядом, но это было делом нелегким: щелочки глаз синьора Пелле почти скрывались за складками мясистых щек. Даже серебристый плащ не мог смягчить контуров мощной фигуры.
– За вполне разумную плату туристическая гильдия предоставляет услуги всем приличным отелям на побережье. Транспорт, рекламу, защищает их интересы в муниципальном совете…
– Sicurezza, – подсказал синьор Пелле скрипучим басом.
– Да-да, синьор Пелле, благодарю вас, – ответил Гвальфредо. – И безопасность, разумеется, обеспечивают. – Усы-щетка приподнялись еще выше. – Охрану.
Паскаль не стал спрашивать, от кого именно синьор Пелле собрался его защищать. Понятно, что от самого синьора Пелле.
– Мой отец о вас ничего не рассказывал. – Юноша проигнорировал предупреждающий взгляд Оренцио. Паскаль уже давно пытался разобраться в тонкостях бизнеса по-итальянски. Часть поборов можно было смело не платить, а часть нужно было платить обязательно, но вот как узнать, которая какая?
Гвальфредо улыбнулся:
– И папаша твой платил, а как же. Годовой взнос, ну и так, небольшой налог на проживание иностранцев за каждую ночь. Только мы этот налог с него до сих пор не брали, потому как не думали, что тут бывают иностранцы. – Гвальфредо пожал плечами. – Десять процентов. Ерунда. Многие отели перекладывают этот расход на плечи клиентов.
Паскаль прокашлялся.
– А если я не заплачу?
Гвальфредо тут же перестал улыбаться. Оренцио снова поднял голову и выразительно посмотрел на товарища. Паскаль сложил руки на груди, чтобы не было заметно, как они дрожат.
– Если вы мне покажете документы на этот налог, я с удовольствием его заплачу.
Гвальфредо несколько секунд молчал, потом рассмеялся и обернулся к Пелле:
– Синьор Турси хочет увидеть бумагу!
Пелле медленно шагнул вперед.
– Ну ладно, – Паскалю было ужасно стыдно, что он так легко сдался, – не нужна мне бумага.
Нет бы подождать, пока этот громила хотя бы еще шаг сделает. Надо же, какой он трус! Паскаль оглянулся на окна американки – не заметила ли она его позора.
– Я сейчас вернусь, – сказал он.
Юноша начал взбираться по ступеням обратно в отель. Щеки его пылали, так стыдно ему не было еще никогда. В кухне ждала тетя Валерия. Она явно все видела.
– Tia, – спросил Паскаль, – отец что, правда этому Гвальфредо платил?
Валерия, которая Карло всю жизнь терпеть не могла, только фыркнула:
– Конечно!
Юноша прошел в свою комнату, пересчитал деньги и снова начал спускаться кпристани, по дороге стараясь успокоиться. Когда он вернулся, Гвальфредо и Пелле смотрели на море, а Оренцио сидел на палубе с независимым видом.
Паскаль дрожащей рукой отдал бумажки. Гвальфредо похлопал его по щеке, как маленького ребенка:
– Мы вернемся позже и поговорим с ней. Тогда и решим, сколько ты нам должен.
Паскаль снова покраснел от злости, но промолчал. Гости вернулись на яхту, Оренцио отчалил, так и не взглянув Паскалю в глаза. Мотор несколько секунд покашлял, но потом все-таки завелся, и яхта с урчанием пошла вдоль берега в обратном направлении.
Паскаль сидел на пороге гостиницы и переживал. Рыбаки сегодня ночью все ушли в море, надеясь при свете полной луны выловить как можно больше рыбы. Паскаль прислонился спиной к перилам, которые недавно соорудил на крыльце, закурил и начал перебирать в памяти детали разговора с Гвальфредо и Пелле. Он как раз воображал, как смело он мог бы им ответить («Вот твои деньги, а теперь засунь свой длинный язык приятелю в грязную жопу, Гвальфредо»), когда пружины входной двери тихонько скрипнули. Юноша обернулся. Рядом с ним стояла она – прекрасная американка в узких черных брюках и белом свитере. Прямые светло-каштановые волосы рассыпались по плечам. В руках у нее была пачка машинописных листов.
– Можно я с вами посижу? – спросила девушка.
– Да, мне будет честь, – ответил Паскаль. – Вам лучше, нет?
– Спасибо, гораздо лучше. Просто надо было поспать. Можно?..
Американка протянула руку, и Паскаль даже сначала не понял, чего она хочет. Наконец до него дошло. Он порылся в карманах, нащупал сигареты и протянул одну девушке. Зажег спичку. Слава богу, руки больше не дрожали.
– Спасибо, что говорите со мной по-английски, – сказала американка. – По-итальянски у меня не очень получается.
Она прислонилась к перилам и глубоко затянулась.
– Ох! Как мне этого не хватало! – Она повертела в пальцах сигарету. – Крепкие!
– Испанские, – ответил Паскаль. Больше говорить было не о чем. Наконец он придумал: – Скажите, вы правда сюда ехать, в Порто-Верньона? Не Портовенере? Не Портофино?
– Нет, сюда. У меня тут назначена встреча. Это он так решил. Надеюсь, он завтра приедет. Я слышала, городок у вас очень тихий? И уединенный?
– Да! – энергично закивал Паскаль, дав себе зарок посмотреть значение слова «уединенный» в отцовском словаре. Он очень надеялся, что оно переводится как «романтичный».
– Ой, совсем забыла! Я это у себя в комнате нашла, на письменном столе.
Девушка протянула Паскалю пачку бумаги. «Улыбка небес», – было написано на титульном листе. Первая глава романа, над которым работал здесь второй и единственный до сих пор американец, постоялец отеля, писатель Алвис Бендер. Каждый год он привозил с собой пишущую машинку, пачку бумаги и две недели пьянствовал, а иногда писал. Он оставил копию первой главы Паскалю и его отцу, хотя им нелегко было разобрать английский текст.
– Кусок книги, да? – сказал Паскаль. – Американец. Писатель. Он приезжий к нам. Каждый год.
– Как вы думаете, он не будет против? Я с собой ничего почитать не взяла, а у вас тут все книги на итальянском.
– Я думаю, нет, не будет.
Она пролистала страницы и положила стопку бумаги на перила. С минуту юноша и девушка молча стояли на крыльце и смотрели, как дрожат на воде две цепочки огоньков – отражение фонарей на рыбацких лодках.
– Великолепный вид! – сказала она.
– Ммм, – промычал Паскаль и вдруг вспомнил слова Гвальфредо – о том, что этой женщине тут не место. – Пожалуйста, – сказал он, – я бы хотел знать, как ваш постой? – Она не ответила, и он пояснил: – Вы получаете удовлетворение, да?
– Что получаю, простите?
Паскаль облизнул губы и попробовал еще раз:
– Я… хочу сказать…
Она пришла ему на помощь:
– А, удовольствие? Да-да, мне все у вас нравится, мистер Турси.
– Пожалуйста… Я… для вас… Паскаль.
– Паскаль, хорошо. А я тогда для вас Ди.
– Ди. – Паскаль кивнул и улыбнулся. Звук ее имени кружил ему голову. Невозможно, чтобы ему позволили так ее называть. Он не удержался и повторил: – Ди.
И тут Паскаль понял, что надо срочно придумать еще тему для разговора, а то он так и будет всю ночь повторять это имя.
– Ваша комната… туалет не далеко, нет, Ди?
– Нет, очень удобно, спасибо, Паскаль.
– Сколько вы остаетесь?
– Я… не знаю пока. Моему другу надо закончить кое-какие дела. Надеюсь, он завтра приедет и мы все решим. У вас эта комната для кого-то еще забронирована?
И хотя Алвис Бендер должен был вот-вот приехать, Паскаль поспешно ответил:
– Нет-нет! Это вам. Больше никто.
Вечер был прохладным и тихим. У причала плескалась вода.
– А что они там делают? – Ди показала сигаретой на огни, пляшущие в море. За волнорезом рыбаки вывешивали фонари на бортах лодок, убеждая рыб, что начинается рассвет и надо срочно кормиться на поверхности. Наиболее доверчивых поджидали сети.
– Рыбу ловят, – ответил Паскаль.
– А что, разве ночью ловят рыбу?
– Иногда. Обычно днем.
Напрасно Паскаль заглянул в эти огромные глаза. Ему никогда еще не доводилось видеть такого странного лица – разного, с какой стороны ни посмотри. В профиль вытянутое и решительное. Открытое и нежное анфас. Наверное, поэтому она и пошла в актрисы, из-за своей способности быть такой многоликой. Паскаль вдруг понял, что таращится на нее, кашлянул и отвернулся.
– А огни зачем? – спросила американка.
Паскаль взглянул на море. Теперь и он осознал, насколько захватывающим было это зрелище. Фонари на лодках покачивались над своим отражением в темной воде.
– Чтобы… они… чтобы рыба… – Он налетел на языковой барьер, и пришлось показывать руками, как всплывает рыба – вверх.
– Свет привлекает рыб на поверхность?
– Да, – облегченно выдохнул Паскаль, – поверхность, конечно.
– Как мило, – ответила девушка.
Над головой раздалось шебуршение, кто-то шикнул. Прямо над ними находились окна спальни, в которой мама с тетей подслушивали разговор, не понимая при этом ни слова.
Бездомная кошка, сердитая и одноглазая, устроилась на ступенях рядом с Ди Морей. Девушка хотела ее погладить, но тут же отдернула руку, когда кошка злобно зашипела. Ди посмотрела на сигарету и засмеялась своим мыслям.
Паскаль решил, что она смеется над его куревом.
– Они дорогие, – защищаясь, сказал он. – Испанские.
Она откинула волосы со лба.
– Боже мой, я не об этом! Я просто подумала: люди годами сидят и ждут, когда же начнется жизнь. Как в кинотеатре. Вы меня понимаете?
– Да, – ответил Паскаль, потерявший нить повествования после слова «сидят». Но его так заворожил этот жест, сияние светлых волос в свете луны, что он сейчас согласился бы на что угодно, даже если бы ему ногти вырвали и заставили их съесть.
– Вот видите, и я так думаю, – улыбнулась она. – Я сама такой была. Все ждала чего-то, точно я персонаж из фильма и вот-вот начнется действие. А многие ждут и ждут годами и только в самом конце обнаруживают, что провели всю жизнь в ожидании жизни. Вы понимаете, что я имею в виду, Паскаль?
И он понимал, правда! Как будто кто-то сидит в кинотеатре и ждет, когда же начнется фильм.
– Да! – ответил он.
– Правда? – Она засмеялась. – Когда же начнется наша жизнь? Ну, когда будет все самое интересное? Когда пойдет действие? Так быстро все пролетает. – Девушка заглянула ему в лицо, и Паскаль вспыхнул. – Иногда даже поверить нельзя, что это и есть жизнь. Словно заглядываешь в освещенные окна ресторана, где едят люди.
Вот теперь он опять ничего не понял.
– Да, да, – на всякий случай сказал Паскаль.
Она снова тихонько рассмеялась.
– Я так рада, что вы меня поняли. Вот, к примеру, актриса, родом из маленького городка. И вдруг первая же роль, которую она получает, – в «Клеопатре»! Вы можете себе это представить?
– Да, – твердо сказал Паскаль, разобрав слово «Клеопатра».
– Правда? А я вот никак такого не ожидала.
Паскаль поморщился. Не угадал.
– Нет, – попробовал он снова.
– Я родилась в маленьком городе в штате Вашингтон. – Она махнула сигаретой в сторону деревни. – Конечно, не такого маленького, как этот. Но все же достаточно маленького, чтобы меня там считали звездой. Сейчас даже вспоминать неудобно. Чирлидер. Потом принцесса на выпускном балу. Королева красоты округа. – Девушка рассмеялась сама над собой. – После школы я переехала в Сиэтл, хотела стать актрисой. Казалось, жизнь непременно вот-вот начнется. Это как всплывать на поверхность. Просто задержи дыхание и плыви. К славе, к известности, счастью или… ну, не знаю… – девушка опустила глаза, – куда-нибудь.
Паскаль тем временем зациклился на единственном слове, которое он опознал. «Принцесса». А он думал, у американцев знати не бывает. Но если она принцесса… Вот это удача для его гостиницы, если тут у него принцесса остановилась!
– Мне все говорили: поезжай в Голливуд, тебе сниматься надо. Я тогда играла в театре, и мне всем миром деньги собирали на дорогу. – Она затянулась. – Ну что тут поделаешь? Может, они просто от меня избавиться хотели? – Ди доверительно нагнулась к Паскалю. – У меня был роман с одним актером. Женатым. Глупо как-то вышло.
Девушка посмотрела на море и засмеялась.
– Я никому этого не говорила, но на самом деле мне на два года больше, чем все думают. Тому парню, что проводил пробы для «Клеопатры», я сказала, будто мне двадцать. А мне уже двадцать два. – Она полистала страницы романа Алвиса Бендера, точно надеялась прочесть там историю своей жизни. – Я ведь имя сменила, так заодно решила и возраст поменять. Если скажешь правду, они на тебя смотрят и подсчитывают, сколько лет тебе еще осталось в кино. Ужасно! Я бы этого не вынесла. – Ди пожала плечами и снова положила листы на перила. – Как думаете, я поступила скверно?
Шансы угадать у него были пятьдесят на пятьдесят.
– Да.
Кажется, его ответ ее расстроил.
– Наверное, вы правы. Ложь всегда потом догоняет. Вот это я в себе больше всего ненавижу. Тщеславие. Может, поэтому… – Она вдруг замолчала, последний раз затянулась, бросила окурок на дощатый пол крыльца и придавила его каблуком. – С вами очень легко разговаривать, Паскаль.
– Да, мне приятно… говорить с вами.
– И мне. Мне тоже приятно. – Ди выпрямилась, обхватила себя руками за плечи, опять взглянула на огни в море и словно стала еще выше и стройнее. Казалось, она никак не решится что-то сказать. – Вам говорили, что я больна? – тихонько спросила она наконец.
– Да, мой друг Оренцио. Он сказал.
– А он сказал чем? – Она коснулась своего живота: – Вы знаете слово «рак»?
Да, к сожалению, он его знал. По-итальянски Cancro. Паскаль смотрел на свою сигарету.
– Это ничего, нет? Докторы… они смогут…
– Не думаю. Очень плохая разновидность. Они говорят, что можно помочь, но, по-моему, они просто меня утешают. Я вам это говорю, чтобы вы поняли, почему я так… откровенна. Вы знаете слово «откровенна»?
– Откровение? Апокалипсис? – переспросил Паскаль. Она что, ждет конца света?
Ди рассмеялась:
– Нет. Это значит «честная, открытая».
Честное откровение.
– Когда я узнала, какая у меня стадия, я решила, что теперь буду говорить только то, что думаю. Плевать на вежливость, плевать, что скажут другие. Для актрисы это очень трудно, отказаться видеть себя глазами других людей. Почти невозможно. Но мне важно не тратить больше время на пустые слова. Надеюсь, вы на меня не сердитесь.
– Нет, – тихонько ответил Паскаль и с облегчением понял по ее реакции, что угадал.
– Отлично. Тогда давайте условимся: будем говорить только то, что думаем. И поступать только так, как нам хочется. И к черту всех, кто будет нас осуждать. Захотим курить – и будем. Захотим ругаться – и будем ругаться. Вы согласны?
– Мне нравится очень, – ответил Паскаль.
– Ну и хорошо.
Она наклонилась и поцеловала его в шершавую щеку. У Паскаля перехватило дыхание точно так же, как при стычке с Гвальфредо.
– Спокойной ночи, Паскаль.
Ди взяла с перил роман Алвиса Бендера, пошла к дверям и вдруг остановилась перед вывеской «Подходящий вид».
– Кому такое название в голову пришло?
Паскаль, все еще потрясенный поцелуем, показал на пачку бумаги в ее руке:
– Он.
Девушка кивнула и снова оглянулась на деревню и скалы вокруг.
– Паскаль, можно я вас спрошу? Каково это, жить здесь?
Вот тут правильное слово нашлось сразу.
– Одиноко, – ответил Паскаль.
Отец Паскаля, Карло, происходил из семьи флорентийских рестораторов и всегда считал, что сыновья пойдут по его стопам. Но старший, отважный черноволосый Роберто, мечтал стать летчиком. Во время Второй мировой он поступил на службу в Regia Aeronautica. И даже полетать ему удалось, целых три раза. А потом моторы его развалюхи Saetta отказали над Северной Африкой и он упал с неба на землю, как подстреленная птица. Второй сын, Гвидо, поклялся отомстить за брата и поступил в пехоту, чем привел Турси в полную ярость.
– Хочешь отомстить, так пойди и убей того механика, который позволил твоему брату вылететь в бой на ржавом корыте. При чем тут британцы?
Но Гвидо настоял на своем и выступил на войну в составе элитного экспедиционного корпуса Восьмой армии, которую Муссолини послал немцам в доказательство того, что поддержит их на русском фронте.
– Пошли кролики на медведя, – сказал на это Карло.
Когда Роберто погиб, сорокалетний Карло, чтобы утешить жену, исхитрился в последний раз произвести здоровое семя и сделать тридцатидевятилетней Антонии еще одного сына. Поначалу она поверить не могла, что снова беременна. Потом решила, что долго ее беременность не продлится (после рождения первых двух сыновей выкидыши шли один за другим). И наконец, глядя на растущий живот, Антония вообразила, будто это Божий знак: Гвидо вернется с войны живым. Она назвала синеглазого bambino miracolo Паскаль, по-итальянски «избавление», поскольку заключила с Господом сделку, что с рождением этого младенца кровавая волна, захлестнувшая мир, обойдет семью Турси стороной и что Господь избавит их от несчастий.
Но Гвидо упал с простреленным горлом на сталинградский снег зимой сорок второго. Убитые горем родители теперь хотели лишь одного – спрятать от страшного жестокого мира своего чудо-ребенка. Карло продал двоюродному брату долю в семейном бизнесе и купил маленький Pensione di San Pietro в самом отдаленном уголке Италии, Порто-Верньоне, деревне, ставшей их убежищем.
Им повезло, что у них остались деньги после продажи ресторанов, потому что отель почти не приносил прибыли. Иногда здесь ночевали заблудившиеся итальянцы и европейцы, траттория на три стола тоже давала небольшой доход – в ней собирались по вечерам деревенские рыбаки. Но от одного постояльца до другого иногда проходили месяцы. Однажды весной пятьдесят второго в бухту зашло водное такси и на берег ступил высокий красивый американец с тоненькими усиками и гладко зачесанными каштановыми волосами. Молодой человек явно выпил в пути, в одной руке он держал дымящуюся сигару, в другой – чемодан и чехол с пишущей машинкой. Американец огляделся, почесал в затылке и вдруг, к удивлению всех, произнес на вполне приличном итальянском: «Qualcuno sembra aver rubato la tua citt» — «Похоже, кто-то украл все дома в вашем городке». Он представился Алвисом Бендером, scrattori fallito та ubriacone successo, никудышным писателем, но вполне профессиональным пьяницей. Бендер устроился в траттории и шесть часов кряду пил вино, рассуждая о политике, истории и книге, которую он не писал.
Паскалю тогда было одиннадцать, и мир, если не считать кратких визитов к родственникам во Флоренцию, он знал разве только по книгам. А тут вдруг настоящий писатель, с ума сойти! Мальчик вырос под колпаком родительской опеки в маленькой деревушке, а потому огромный веселый американец его совершенно покорил. Казалось, он везде побывал, все на свете видел. Паскаль садился в ногах у Алвиса и задавал вопросы. А Америка, она какая? А какой автомобиль самый лучший? А на самолете летать страшно? И однажды: а о чем ваша книга?
Алвис Бендер протянул мальчику стакан:
– Налей еще, и я тебе расскажу.
Паскаль принес вина, Бендер потер подбородок и начал:
– Я пишу книгу о том, что вся история человечества доказывает лишь одно: мы смертны, и смерть – естественный и единственный итог жизни.
Паскаль и раньше слышал такие речи, когда Алвис разговаривал с его отцом.
– Нет, – отмахнулся он. – О чем она? Что там происходит?
– Ну да. Рынок требует навороченного сюжета. – Алвис отхлебнул из стакана. – Ладно. Роман про американца, который воюет в Италии во время Второй мировой, теряет лучшего друга и перестает любить жизнь. Он возвращается в Америку, чтобы преподавать литературу и писать роман о том, как он разочаровался в жизни. Но вместо этого наш писатель только пьет, ноет и клеит всехженщин подряд. Не может он писать. Наверное, потому, что чувствует себя виноватым: сам остался жив, а друг его погиб. Иногда вина и зависть – почти одно и то же. У друга остался маленький сын, и писатель идет его навестить, а потом ему становится обидно, ему тоже хочется быть легендой, а не жалкой развалиной. Писателя выгоняют с работы, и он возвращается в семейный бизнес, снова торгует машинами. Пьет, ноет и клеит всех женщин подряд. И тогда он решает, что надо вернуться в Италию, иначе ему книгу никогда не написать и от горечи не избавиться. Там, в Италии, ключ от его несчастий, но описать это место, находясь вдали от него, невозможно, как невозможно, проснувшись, вспомнить детали сна. И потому каждый год писатель на две недели приезжает в Италию, чтобы поработать над романом. Но все дело в том, – ты только никому не рассказывай, Паскаль, это тайный поворот сюжета, – что и в Италии писатель ничего не пишет. Он пьет. Ноет. Клеит всех женщин подряд. И разговаривает с умным мальчиком из крохотной деревушки о романе, который никогда не напишет.
На улицах было тихо. Паскаль решил, что книга выйдет скучная.
– А чем кончается?
Алвис помолчал, разглядывая стакан.
– Не знаю, Паскаль. А ты как думаешь? Чем она может закончиться?
Мальчик задумался.
– Ну, он мог бы не в Америку вернуться, а поехать в Германию и попробовать убить Гитлера.
– Точно, – ответил Алвис. – Так оно и было. Писатель напивается на вечеринке, все ему говорят, чтобы он не садился за руль, а он все-таки уходит со скандалом, залезает в машину и случайно сбивает Гитлера.
Паскаль считал, что смерть Гитлера не должна быть случайной. Иначе не получится интриги. Мальчик предложил свой вариант:
– Он мог бы его из автомата застрелить.
– Так даже лучше, – ответил Алвис. – Писатель напивается на вечеринке. Все ему говорят, что он пьяный и автомат трогать не надо. А он все-таки уходит с автоматом и случайно попадает в Гитлера.
Когда Паскаль понимал, что Алвис над ним подшучивает, он менял тему:
– Алвис, а как ваша книга называется?
– «Улыбка небес», – ответил писатель. – Это из Шелли. – И он старательно перевел на итальянский:
Шептались волны в полусне, Рой облаков исчез, И озарился мрак на дне Улыбкою небес.Паскаль покрутил эти строчки в голове. «Le onde erano sussurrando» — волны шептались – это он понял. А вот название, «Sorridere di Paradiso», показалось ему странным. Кто там, на небесах, в раю, станет улыбаться? Если смертные грешники попадают в ад, а просто грешники, вроде него самого, – в чистилище, то в раю остаются только монашки, мученики, священники и крещеные младенцы, которые еще не успели нагрешить. Кто же из них будет улыбаться?
– А почему небеса улыбаются?
– Не знаю. – Алвис осушил стакан и снова вручил его Паскалю. – Может, потому, что кто-то убил-таки этого подонка Гитлера?
Паскаль пошел было за вином, но тут ему в голову пришло, что Бендер совсем не шутит.
– По-моему, Гитлера должны убить не случайно.
Алвис устало улыбнулся:
– Все в жизни происходит случайно, Паскаль.
В те годы Бендер если и писал, то не больше пары часов за весь приезд. Иногда Паскалю казалось, будто постоялец вообще не доставал машинку из чехла. В пятьдесят восьмом году, перед самым отъездом Паскаля на учебу в университет, писатель вручил Карло первую главу своего романа. Семь лет. Одна глава.
Непонятно было, зачем он вообще приезжает в Порто-Верньону, если все равно ничего не пишет.
– А почему вы именно сюда приезжаете? В мире столько интересных мест!
– Это побережье – источник вдохновения для писателей. Петрарка сочинял здесь свои сонеты. Байрон, Джеймс, Лоуренс – все приезжали сюда и творили. Здесь Бокаччо изобрел реализм. Неподалеку утонул Шелли, а его жена изобрела роман ужасов.
Паскаль не очень понимал, что значит «изобрел». Изобретают такие люди, как Маркони, великий инженер из Болоньи, придумавший радио. А тут что – рассказал историю, вот и все изобретение.
– Отличный вопрос! – С тех пор как Бендера выгнали из университета, он постоянно искал, кому бы прочесть лекцию, и Паскаль из всех слушателей был самым благодарным. – Представь себе, что истина – это горная гряда. На вершинах спят облака. Писатели штурмуют эти горы, постоянно ищут новые тропинки наверх.
– Значит, истории – это тропинки?
– Нет, скорее, быки. Молодым писателям ужасно хочется выгнать старую историю из стада. И во главе этого стада на какое-то время становится новая история, а потом приходит кто-то помоложе и все повторяется.
– Истории – это быки?
– И тоже нет. Истории – это народы, империи. Они могут жить долго, как Рим, или погибнуть быстро, как Третий рейх. Истории расцветают и рушатся. Меняются правительства, меняется мода, одни государства захватывают другие. Взять хотя бы поэму. Она жила долго, много веков, как Римская империя, и распространила свое влияние на весь мир. Роман вознесся вместе с Британией. Погоди-ка? А что у нас вознеслось вместе с Америкой? Кино?
Паскаль ухмыльнулся:
– А если я сейчас спрошу, похожи ли истории на империи, вы скажете…
– Что истории – это люди. У меня, у тебя, у твоего отца – у каждого своя история. Они разбегаются в разные стороны, сталкиваются, умирают. Иногда нам везет и две истории сливаются воедино. Тогда мы ненадолго становимся чуть менее одинокими.
– Вы так и не сказали, зачем сюда приехали.
Алвис поболтал в стакане вино.
– Писателю, чтобы стать великим, нужно четыре вещи: страсть, разочарование и море.
– Это только три.
Алвис сделал большой глоток.
– Разочарование надо пережить дважды.
Бендер под влиянием винных паров начинал видеть в Паскале младшего брата. И те же родственные чувства испытывал Карло по отношению к американцу. Эти двое часто засиживались ночами и говорили, говорили, каждый о своем, не очень слушая друг друга. Пятидесятые прокатились мимо, боль от военных потерь поутихла, и в Карло начал вновь оживать бизнесмен. Он поделился с Бендером своей мечтой привлечь туристов в Порто-Верньону. Алвис был против, он считал, что от очарования этих мест не останется и следа.
– Когда-то все итальянские города были обнесены крепостной стеной, – Алвис снова взялся читать лекцию, – в Тоскании до сих пор на каждом холме можно найти развалины. В минуту опасности все крестьяне собирались за стенами, которые давали защиту от разбойников и вражеских войск. В Европе крестьяне как класс исчезли лет тридцать-сорок назад, но в Италии-то они остались! После двух тяжелых войн дома наконец начали строить в долинах, вне крепостных стен. Стены рушатся, но вместе с ними рушится и итальянская культура. Италия становится похожей на все европейские страны. Туристы, желающие быть поближе к итальянскому духу, приносят с собой свою культуру и разрушают вашу.
– Ну да, – ответил Карло. – На этом я и хочу построить свой бизнес.
Алвис показал на скалистые хребты, окружающие деревню:
– Но эту стену, ее возвел сам Господь – или вулканы. Их нельзя снести. И строить вне их не получится. Здесь никогда ничего не будет, кроме пары десятков домов. Зато однажды окажется, что это последний кусочек настоящей Италии.
– Вот именно! – Карло уже изрядно выпил. – И тогда туристы повалят сюда валом, согласен, Роберто?
Стало тихо. Старший сын Карло был бы ровесником Алвиса, если бы не авиакатастрофа над Северной Африкой. Карло вздохнул:
– Прости, Алвис. Оговорился.
– Ну да, – ответил американец и потрепал Карло по руке.
Сколько раз Паскаль засыпал под звуки их разговоров, просыпался среди ночи, а они все еще сидели на крыльце. Писатель постоянно рассуждал на какие-то смехотворные темы («А потому, Карло, канализация – это величайшее достижение человечества, это возможность избавиться от всякого дерьма, от плодов стычек, случек и изобретательства»). А Карло возвращал его обратно к теме туризма, спрашивая своего единственного американского гостя, как сделать Pensione di San Pietro более привлекательным.
Алвис и об этом говорил охотно, но, как правило, заканчивал тем, что умолял Карло ничего не менять.
– Они скоро все побережье засрут, Карло. А тут все будет по-прежнему. Смотри, какое великолепие кругом! Как тут тихо! Вот оно – величие природы.
– Так я это и буду рекламировать! Только название, наверное, нужно английское. Ну-ка, скажи по-английски: Primo Albergo Tranquillo con Una Bella Vista del Villaggio di Scogliere.
– «Самая лучшая и самая тихая гостиница с прекрасным видом, расположенная в горной деревушке». Как-то это длинно. И чересчур сентиментально.
Карло спрашивал, в каком смысле это название sentimentale?
– Слова и чувства – они как деньги. Раз – и ничего не стоят. Инфляция. Если ты скажешь про бутерброд, что он великолепный, смысла в твоих словах будет ноль. После войны все обесценилось. Слова и чувства теперь маленькие – но очень точные. Скромные, как нынешние мечты.
И Карло Турси послушался его совета. В шестидесятом году, когда Паскаль учился во Флоренции, Алвис Бендер приехал в деревню, поднялся по ступеням и встретил хозяина, сиявшего от гордости. Хозяин показал рыбакам и американцу новую вывеску: отель «Подходящий вид».
– И что это значит? – спросил один из рыбаков. – Пустующий бордель?
– Vista adeguate, – перевел Карло.
– Какой идиот станет говорить про свою гостиницу, что вид из нее просто подходящий?
– Bravo, Карло, – сказал Алвис. – Отличное название.
Прекрасную американку рвало. Паскаль сидел в полной темноте у себя в комнате и слушал, как девушку выворачивает. Включив свет, он взял со стола часы. Четыре утра. Юноша тихонько оделся и поднялся по узкой лестнице на третий этаж. Не дойдя до верхней ступеньки, он увидел Ди, прислонившуюся к дверям ванной комнаты. Девушка задыхалась. На ней была тонкая белая ночнушка, коротенькая, выше колен. Из-под ночнушки торчали такие длинные и гладкие ноги, что Паскаль остановился и дальше двинуться уже не мог. Американка была почти такой же белой, как ее рубашка.
– Простите, Паскаль, я не хотела вас разбудить.
– Это ничего.
Она повернулась к унитазу, и ее снова вырвало, но в желудке уже ничего не осталось, и девушка согнулась от боли.
Паскаль начал было снова подниматься, но остановился, вспомнив, что говорил Гвальфредо. «Подходящий вид» – не место для американки.
– Я буду звать доктора, – сказал он.
– Не надо, – ответила Ди, – все хорошо. – Она схватилась за бок и осела на пол. – Ой!
Паскаль помог ей вернуться в постель и выбежал на улицу. Врач жил в трех километрах отсюда, в Портовенере. Очень добрый старый dottore, настоящий джентльмен, он и по-английски умел. Раз в год этот врач перебирался через горы, чтобы осмотреть рыбаков. Паскаль сразу решил, кого пошлет за ним, – Томассо-коммуниста. Жена Томассо открыла дверь и отступила в глубь комнаты. Томассо натянул штаны с подтяжками, торжественно водрузил на макушку «ленинскую» кепку и пообещал Паскалю, что не подведет.
Паскаль вернулся в гостиницу. Тетя Валерия сидела в комнате Ди и придерживала девушке волосы всякий раз, как та нагибалась над тазом. Контраст между женщинами был разителен. У Ди – светлая прозрачная кожа, гладкие блестящие волосы. У Валерии – смуглое лицо, темные усики и рыжие пружинки волос.
– Ей надо пить, чтобы было чем блевать, – сказала Валерия.
На столе, рядом с романом Бендера, стоял стакан воды.
Паскаль начал было переводить, но Ди, кажется, слово aqua и сама поняла. Она взяла стакан и выпила воду.
– Простите, что я так вас побеспокоила, – сказала девушка.
– Чего она там бормочет? – переспросила тетя.
– Просит прощения за беспокойство.
– Скажи ей: такие рубашки только шлюхи носят. Вот за что надо извиняться! За то, что искушает моего племянника своими тряпками.
– Я не буду ей этого говорить!
– Скажи этой продажной свинье, чтобы уезжала, Паско.
– Хватит!
– Это ее Господь за такую рубашку наказал.
– Помолчи! Совсем на старости лет из ума выжила!
Ди Морей удивленно слушала эту перепалку.
– Что она говорит?
– Э-э… – Паскаль сглотнул. – Ей жаль, что вам плохо.
Валерия выпятила нижнюю губу.
– Ты ей повторил мои слова?
– Да, – ответил Паскаль. – Я все ей сказал.
В комнате стало тихо. Ди закрыла глаза, ее согнуло от нового приступа тошноты.
Спазм прошел, и девушка тяжело задышала.
– У вас такая милая мама.
– Она не мама. Она тетя. Tia Valeria.
Валерия подозрительно переводила взгляд с одного лица на другое. По-английски она не понимала ни слова, но имя свое разобрала.
– Надеюсь, Паскаль, что ты не женишься на этой шлюхе.
– Тетя!
– А твоя мать считает, что женишься.
– Хватит!
Валерия нежно убрала волосы со лба девушки.
– Что с ней такое?
– Cancro, – тихонько сказал Паскаль.
Ди не подняла головы.
Валерия задумчиво пожевала щеку.
– А-а, – наконец сказала она, – все с ней будет хорошо. Скажи этой потаскухе, что с ней все будет хорошо.
– Не буду я ей этого говорить.
– Скажи, – убежденно повторила Валерия. – Скажи ей: пока она живет в Порто-Верньоне, ничего с ней не сделается.
– О чем ты?
Валерия протянула Ди еще один стакан воды.
– Здесь никто не умирает. Дети и старики, это да. Но из тех, кто может плодиться, тут еще ни один не помер. Такое уж у этих мест старое проклятие: дети шлюх мрут как мухи, а сами они живут со своими грехами до глубокой старости. Если ты здесь вырос и не загнулся, значит, жить тебе еще никак не меньше сорока лет. Давай. Скажи ей. – Она похлопала прекрасную американку по руке и ободряюще кивнула.
Ди Морей поняла, что женщина хочет ей что-то сказать.
– Что? – переспросила она Паскаля.
– Это ерунда, – ответил Паскаль. – Сказки бабушек.
– Переведите! Ну пожалуйста, – попросила девушка.
Паскаль вздохнул и потер бровь.
– Она говорит, что молодые люди не могут умирать в Порто-Верньона. Ни один не умирать. – Он пожал плечами и улыбнулся. Надо же, какие идиотские предрассудки! – Старая магия… stregoneria… Старые ведьмы говорят так.
Ди Морей повернулась и взглянула на круглое усатое лицо Валерии. Старуха кивнула и погладила девушку по руке:
– Уедешь – умрешь, как шлюха. Ослепнешь, высохнешь и будешь скрести сморщенную детородную дыру.
– Большое вам спасибо, – по-английски ответила Ди.
Паскаля самого замутило.
Валерия наклонилась вперед и резко сказала:
– Е smettila mostrare gambe a le nipote, puttana. Хватит ногами тут светить, потаскуха.
– И я вам того же желаю, – ответила Ди. – Спасибо вам!
Через час, с рассветом, в бухту вернулся Томассо-коммунист. Остальные рыбаки уже вышли в море. Томассо помог доктору Мерлонги сойти на пристань и отправился в тратторию. Там Валерия подала герою премиальный завтрак. Томассо снял кепку и некоторое время сидел молча, преисполненный важности своей миссии. Но голод взял свое, и рыбак снизошел до еды.
Мерлонги был облачен в длинное шерстяное пальто, галстук он повязать не успел. На ушах топорщилась седая поросль. Старый доктор с трудом вскарабкался на третий этаж вслед за Паскалем и все никак не мог отдышаться.
– Простите, что мы вас побеспокоили, – сказала Ди. – На самом деле мне уже полегчало.
Доктор говорил по-английски куда лучше Паскаля.
– Какое же тут беспокойство? Всегда приятно пообщаться с красивой девушкой.
Он посмотрел ей горло и послушал дыхание при помощи стетоскопа.
– Паскаль сказал, у вас рак желудка. Когда вам поставили диагноз?
– Две недели назад.
– В Риме?
– Да.
– Они использовали эндоскоп?
– Что?
– Эндоскоп. Это такой новый инструмент. Вам в желудок должны были опустить трубку и сделать снимок опухоли.
– Я помню, мне врач в горло фонариком посветил.
Синьор Мерлонги пощупал ее живот.
– Вообще-то я должна в Швейцарию ехать лечиться. Может, там есть этот… скоп. Они хотели, чтобы я уехала еще два дня назад, а я вместо этого приехала сюда.
– Почему?
Девушка взглянула на Паскаля.
– Я должна встретиться здесь с другом. Он сам выбрал это место, потому что тут тихо. А потом я, наверное, поеду в Швейцарию.
– Наверное? – Врач тщательно прослушивал ее легкие, ощупывал живот, нажимал и постукивал. – Почему «наверное»? В Швейцарии лечат, вам надо туда.
– Моя мама умерла от рака… – Девушка закашлялась. – От рака груди. Мне было двенадцать. Так тяжело было на это смотреть! Даже не на саму болезнь, а на лечение. Никогда этого не забуду! Понимаете… – Она замолчала и сглотнула. – Ей отрезали груди. А она все равно умерла. Папа всегда жалел, что не забрал ее домой и не дал ей просто сидеть на крылечке и смотреть на закаты.
Доктор опустил стетоскоп и нахмурился.
– Да, лечение бывает тяжелым. Это нелегко. Но с каждым днем медицина совершенствуется. Придумывают новые средства. В Штатах… есть прогресс. Облучение. Химиотерапия. Сейчас все намного лучше, чем было при вашей маме.
– А прогноз для рака желудка? Он тоже улучшился?
Врач ласково улыбнулся ей:
– Кто вас лечил во Флоренции?
– Доктор Крейн. Американец. Он работает на киностудию. Наверное, лучше никого не найти.
– Да-да, – кивнул доктор, – конечно. – Он приложил стетоскоп к ее животу и прислушался. – Какие жалобы у вас были? На боль и тошноту?
– Да.
– Болело вот тут? – Он положил руку ей на грудь, и Паскаль ревниво поморщился.
Ди кивнула:
– Да. И изжога.
– А еще?
– Аппетит пропал. Устаю быстро. Все тело ломит. Часто хочется в туалет, и потею сильно.
– Так, – кивнул доктор.
– И еще кое-что. – Она посмотрела на Паскаля.
– Я понял. – Доктор повернулся к Паскалю и сказал по-итальянски: – Пожалуйста, не могли бы вы подождать в коридоре?
Паскаль вышел на лестницу и встал на верхней ступеньке, прислушиваясь к тихим голосам. Через несколько минут вышел врач. Вид у него был обеспокоенный.
– Ну как, доктор, все плохо? Она умирает?
Вот ужас-то будет, подумал Паскаль, если их первая американская гостья, к тому же актриса, умрет в гостинице. А вдруг она и вправду принцесса? Ему вдруг стало ужасно стыдно за такие эгоистичные мысли.
– Наверное, ее надо в большой город перевезти, там уход будет получше?
– Не думаю, чтобы сейчас ей что-то угрожало. – Доктор Мерлонги отвечал задумчиво и рассеянно. – Кто ее сюда послал, Паскаль? Вы знаете этого человека?
Паскаль сбежал по лестнице и вернулся с клочком бумаги, который прислали вместе с Ди. Доктор внимательно прочитал записку. Там говорилось, что счет следует прислать в римский Гранд-Отель некоему Майклу Дину, сотруднику кинокомпании «Двадцатый век Фокс». На обратной стороне ничего написано не было. Врач поднял голову:
– Вы знаете, как девушка, страдающая от рака желудка, будет описывать свои симптомы, Паскаль?
– Нет.
– Она будет жаловаться на боль в пищеводе, тошноту, отсутствие аппетита, рвоту, возможно, живот немного распухнет. По мере того как будет распространяться опухоль, появятся и другие симптомы. Будут задеты кишки, мочевыводящий канал, почки. Может быть, прекратятся менструации.
Паскаль покачал головой. Бедная женщина!
– Разумеется, это все симптомы рака желудка. Но вот загвоздка: какой врач, столкнувшись с такими симптомами у молодой женщины, не сделав эндоскопии и биопсии, поставит диагноз «рак», а не куда более очевидный?
– Какой же?
– Беременность.
– Беременность? – громко переспросил Паскаль.
Доктор зашикал.
– Вы думаете, она…
– Я не знаю. Сейчас еще слишком ранний срок, чтобы сердцебиение прослушивалось, и симптомы у нее тяжелые. Но если бы ко мне обратилась пациентка такого возраста с жалобами на тошноту и раздувшийся живот, изжогу и отсутствие месячных… Знаете, рак желудка чрезвычайно редко встречается у молодых женщин. А вот беременность, – он улыбнулся, – куда чаще.
Они шептались, хотя Ди, конечно, не понимала по-итальянски.
– Погодите, выходит, рака у нее нет?
– Не знаю. Надо помнить, что у ее матери рак был. Вполне возможно, у американских врачей другие методы диагностики, до нас еще не дошедшие. Я просто говорю, что, основываясь на этих симптомах, диагноз поставить нельзя.
– Вы ей об этом сказали?
– Нет, – рассеянно ответил врач. – Я ничего говорить не стал. Она столько пережила, я не хочу давать ей ложную надежду. Если этот ее друг… – он взглянул на листок, – Майкл Дин, приедет, спросите его, что он знает.
Пожалуй, в списке вопросов, которые Паскаль хотел бы задать человеку из мира кино, этот был последним.
– И вот еще что, – доктор взял Паскаля за руку, – вам не кажется странным, что фильм снимают в Риме, а ее отправили сюда?
– Они искали тихий уголок у моря, – ответил Паскаль. – Я спросил, может, ей в Портовенере, но мне ответили, что нет.
– Разумеется. Я же не говорю, что у вас тут плохо. – Доктор Мерлони сразу отреагировал на испуганный тон Паскаля. – Но ведь, скажем, в Сперлонге почти так же тихо и до Рима гораздо ближе. Так почему же ее послали к вам?
Паскаль пожал плечами:
– Тетя говорит, молодые тут не умирают.
Доктор вежливо засмеялся.
– Ладно, вот появится этот человек, и тогда мы что-нибудь узнаем. Если на следующей неделе она еще не уедет, попросите Томассо-коммуниста привезти ее ко мне на осмотр.
Паскаль кивнул. Они вернулись в комнату американки. Девушка спала. Золотистые, как оливковое масло, волосы разлились по подушке. Одной рукой она прижимала к себе тарелку с макаронами. Рядом лежала рукопись романа Бендера.
4. Улыбка небес
Апрель 1945
Окрестности Ла-Специи
Автор: Алвис Бендер
А потом пришла весна, и вместе с ней конец моей войны. Генералы, штабные крысы, послали сюда слишком много солдат, войска нужно было чем-то занять, и мы протопали маршем по всем закоулкам Италии. Всю весну мы шагали по меловым долинам в предгорьях Апеннин. Путь был свободен, нас ждали деревни, рассыпанные по зеленым холмам близ Генуи крошками высохшего сыра. Из подвалов понемногу выбирались на свет сердитые худые итальянцы. Конец войны, мерзкая формальность. Мы ютились в брошенных землянках и бункерах. Притворялись друг перед другом, будто нам не терпится повоевать, а на самом деле были довольны, что немцы быстро отступают и мы не успеем догнать их на марше. Линия фронта, Linea Gotica, отодвигалась все дальше и дальше.
Мне бы радоваться, что остался жив, так нет же: на меня напала черная тоска. Мне было страшно, одиноко, меня корежило от варварства, царившего вокруг. Но главное несчастье пришло снизу. Ноги подвели. И превратились в красные, мокрые, распухшие от инфекции копыта. Мои ноги перешли на сторону противника. Пока они меня не предали, я думал в основном о трех вещах: сексе, еде и смерти, думал каждую минуту на марше. Настала весна, и думать я теперь мог только об одном: сухие носки. Меня преследовали галлюцинации. Я бредил сухими носками. Я вожделел их. Представлял, как после войны куплю пару толстых вязаных носков и суну в них измученные ноги. Как я умру стариком с сухими ногами в шерстяных носках.
Каждое утро штабные крысы приказывали артиллерии обстреливать земли к северу от нас. А мы маршировали в промокшем обмундировании под мелким затяжным дождем. От Девяносто второй пехотной дивизии, целиком состоявшей из негров, мы отставали всего на два дня. Там же, впереди нас, шли два батальона интернированных японцев, которых штабные генералы привезли как пушечное мясо для тяжелых боев на Западном фронте. Мы же просто проводили зачистки, проходя вслед за неграми и японцами по уже проторенному ими пути. Счастливчики. Нам повезло, что генералы не придумали для нас занятия получше. Я служил в помеси разведроты и стройбата. Тут были специалисты всех мастей: инженеры, плотники, похоронная команда, переводчики с итальянского (в их числе я и мой друг Ричардс). Мы должны были подходить к окраинам разоренных деревень, помогать хоронить убитых и раздавать конфеты и табак в обмен на информацию. Информацию предполагалось получать от оставшихся в живых немногочисленных и основательно напуганных женщин и детей. Считалось, будто они смогут рассказать нам, как отступали немецкие войска, где расположены минные поля, где были штабы и склады оружия. Потом поступил еще приказ записывать имена партизан-коммунистов – они прятались среди холмов и воевали на нашей стороне.
– Значит, теперь за коммунистов возьмутся, – сердито ворчал Ричардс. Его мать была итальянкой и говорила с ним на родном языке, чем спасла сына от участия в настоящих боях. – Могли бы подождать, пока мы эту войну закончим, а уж потом бы следующую затевали.
Мы с Ричардсом были старше своих однополчан. Двадцатитрехлетний Ричардс уже дослужился до капрала, я в свои двадцать два был рядовым первого класса. Оба мы успели поучиться в колледже. Мы были похожи внешне и вели себя одинаково. Я был светловолосым, долговязым жителем Висконсина, где остался мой семейный бизнес – торговля автомобилями. Ричарде был светловолосым долговязым жителем Сидар-Фоллз, штат Айова, где на паях с братьями владел страховой компанией. Но была между нами и разница. Меня дома ждали лишь несколько бывших подружек, приглашение работать преподавателем литературы да парочка жирных племянников. А вот у Ричардса были прелестная жена и маленький сын, которые очень надеялись увидеть его снова.
В сорок четвертом мы с Ричардсом не гнушались никакой информацией. Мы докладывали, сколько буханок хлеба конфисковали у местного населения немцы, какие одеяла забрали партизаны, а однажды я даже написал рапорт на пару абзацев о несчастном немецком солдате, раненном в живот: его вылечила при помощи оливкового масла и костной муки деревенская ведьма. Доложил, так сказать, о методах паллиативного лечения. Работа, конечно, поганая, но мы старались: альтернативой было долбить известняк и закапывать трупы.
Само собой, на моей войне случались вещи и пострашнее – ходили слухи о кошмарных концлагерях и о том, что тыловые крысы собираются разделить мир пополам. Но для нас с Ричардсом война состояла из мокрого обмундирования и бесконечных марш-бросков по грязным дорогам и холмам, из окраин разбомбленных деревень да из редких допросов перепуганных замызганных крестьян, умолявших дать им еды. Небо затянуло тучами еще в ноябре, а сейчас был уже март, и казалось, этот дождь никогда не кончится. Весь март мы шагали только ради того, чтобы шагать, без всякой тактической цели, просто потому, что промокшая армия – если она не на марше – начинает смердеть, как толпа бездомных. Две трети Италии к тому моменту уже были освобождены. То есть стерты с лица земли войсками, полагавшими великолепные статуи, церкви и дома своим главным врагом. Скоро и северу предстояло стать такой же освобожденной грудой обломков. Мы поднимались по сапогу полуострова, как женщина натягивает чулок.
Вот тогда я и начал подумывать о самостреле, только никак не мог решить, куда же лучше выстрелить. И вдруг познакомился с девушкой.
Мы шагали по ослиному шоссе – двум колеям посреди заросшего сорняком поля. Справа и слева на холмах и в долинах появлялись деревни, по краям дороги стояли голодные женщины с выпученными, как от базедовой болезни, глазами. Дети, похожие на модернистские портреты в треснувших рамах, махали серыми тряпками из окон полуразрушенных домов и тянули к нам ручонки:
– Dolce, perfavore. Конфе-е-еты, американо!
Страшное цунами прокатилось по этим местам, сметая все на своем пути. Ночью мы разбивали лагерь на окраинах мертвых городков, в покосившихся хлевах, остовах крестьянских домов, на руинах империй. Каждый вечер я осторожно стягивал сапоги, снимал мокрые носки и гипнотизировал, заговаривал, ругал их на все корки, пристраивая сушиться на заборе, подоконнике или растяжке палатки. Потом я залезал в спальный мешок, засыпал, просыпался утром, полный надежд, надевал сухие носки на сухие ноги, и тут начиналась химическая реакция. Ступни немедленно превращались в две склизкие личинки какой-то неведомой твари и принимались пожирать мою плоть и сосать мою кровь. Наш юный интендант был высок, тонок в кости и чувствителен. Ричардс считал, будто он ко мне клеится. («Да я ему в жопу дам, – как-то ответил я, – лишь бы он мне ноги вылечил».) Этот интендант постоянно раздобывал для меня новые носки и всяческие присыпки, но гнусные слизняки никогда не отступали надолго. Каждое утро я вытряхивал присыпку в сапоги, надевал сухие носки и чувствовал, что мне намного лучше. Потом делал первый шаг, и слизняки снова присасывались к моим ступням. Надо было срочно что-то придумать, долго я бы так не протянул.
В день, когда я познакомился с девушкой, я, наконец, решился. Случайный выстрел. Прострелю насквозь это проклятое копыто. Отправят меня, безногого инвалида, домой в Мэдисон, буду слушать репортажи бейсбольных матчей по радио и рассказывать племянникам героическую историю о том, как я потерял ногу (история, разумеется, будет постепенно обрастать все более и более героическими подробностями, – например, как я наступил на мину, спасая товарищей).
В тот день мы должны были остановиться в очередной деревне и допросить тех, кто остался в живых («Американо, конфе-е-еты! Dolce, perfavore»). Потребовать, чтобы крестьяне сдали нам имена своих внуков-коммунистов. Разузнать, не проболтались ли отступавшие немцы ненароком, где прячется Гитлер. Рядом с дорогой на самодельных козлах из корявых веток лежал труп немецкого солдата.
Других немцев мы той весной не встречали, только таких – трупы, выложенные вдоль дороги суровыми американскими бойцами и еще более суровыми итальянскими партизанами. Партизан мы суеверно боялись и уважали. Нет, конечно, мы и сами не были туристами, мы тоже кое-что повидали. Да, дорогие мои скучные племяннички, вашему дяде тоже выпал случай пальнуть из винтовки тридцатого калибра в направлении врага. Я стрелял, и при каждом выстреле над вражеским окопом взлетали брызги грязи. Трудно сказать, сколько грязи я застрелил, но, поверьте мне, я старался: страшнее врага, чем она, у меня в то время не было. Ну и в нас стреляли, конечно. За пару недель до того мы потеряли двоих, когда немцы накрыли огнем восьмидесятивосьмимиллиметровых орудий дорогу на Серавеццу, и еще троих в жуткой перестрелке у Стреттуи, продолжавшейся целых девять секунд. Но это все были исключения, короткие, слепящие вспышки ужаса. Мне доводилось и самому видеть поступки поистине отважные и слышать о них от однополчан, но в основном на поле боя мы приходили уже по окончании сражения, и оставалось только разгадывать мрачные ребусы вроде этого – почему мертвый солдат, почему на козлах? Может, он делал козлы, а ему в этот момент перерезали глотку? Или его так казнили – втащили на козлы и закололи? А может, это какой-то ритуал: мертвый солдат на козлах, точно рыцарь на коне? Или это совпадение и немец просто упал на козлы, когда его убили?
Мы часто находили трупы, и всегда старались угадать, что случилось. Кто отрезал партизану голову и унес ее с собой? Почему младенца погребли в куче зерна вверх тормашками? Судя по тому, как пах труп немца и сколько вокруг жужжало насекомых, хоронить его надо было еще дня два назад. Мы сделали вид, будто не заметили тела, очень надеясь, что наш придурочный шепелявый лейтенант Бин не заставит нас рыть могилу.
Мы уже миновали немца и козлы, и было ясно, что опасность миновала, когда я остановился и передал по цепочке вперед, что сам похороню разлагающуюся тушу. Понятное дело, это я не от доброты душевной так решил. Сапоги с трупа уже стянули, знаки отличия и все прочие трофеи, которые можно было бы потом племяшам на День благодарения в Рокпорте показывать, унесли («Смотри, малец, это саперная ложка Гитлера, я ее забрал у жутко опасного фрица, которого замочил вот этими вот ногами»). Но носки-то остались, уж бог его знает почему. Я настолько тронулся умом, что эти носки казались мне манной небесной. Пара теплых вязаных носков, они греют ноги, точно ватное одеяло в гостиничном номере. Наш душевный интендант снабдил меня целой дюжиной носков, но это все было обмундирование союзников, а тут немецкие! Может, они лучше наших?
Я сказал Ричардсу, что вернусь за носками.
– Ты больной! – ответил он.
– Больной, – согласился я.
Но не успел я тронуться с места, как приперся придурок лейтенант с новостью, что впереди еще одно тело, кто-то там на мину напоролся. Тело обнаружил другой батальон, а нам – хоронить. И я ушел, покинул самые теплые, самые уютные, самые сухие носки во всей Европе. И протопал еще две мили в мокрых, вонючих, колючих убожествах, – понятно, как я разозлился. Вот тут-то я окончательно понял, что с меня хватит.
– Все, – сказал я Ричардсу. – Сегодня ночью отстрелю себе ногу.
Ричардс слушал мое нытье много дней подряд и всерьез эти разговоры не воспринимал. Он считал, что скорее я научусь левитировать, чем отважусь на такое.
– Не валяй дурака, – ответил он. – Война почти кончилась.
– Вот и отлично, – ответил я. – Никто не подумает, что это самострел.
В начале войны меня бы с таким ранением, пожалуй, домой не отправили, но сейчас дело шло к концу и шансы демобилизоваться у меня были неплохие.
– Нет, точно, сегодня отстрелю.
Ричардс презрительно посмотрел на меня:
– Ну и ладно, валяй. Надеюсь, ты сдохнешь на гауптвахте от потери крови.
– Лучше сдохнуть, чем такая жизнь.
– Тогда какого черта ты в ногу стрелять собрался? Стреляй уж сразу в башку.
Наш взвод остановился у деревни и разбил лагерь в винограднике под стеной какого-то сарая. Мы с Ричардсом соорудили на крыше наблюдательный пункт, где нам предстояло провести всю ночь. А потом стали спорить, в какую часть ноги лучше всего стрелять, – обычно так спорят о том, где бы пообедать. И вдруг снизу послышались чьи-то шаги. Мы переглянулись, я схватил карабин, подкатился к краю крыши и увидел…
Девочку? Нет. Женщину. Очень молодую. Лет девятнадцати. Или двадцати двух? Или двадцати пяти? Трудно сказать. В сумерках не разберешь. Зато я точно видел, что она симпатичная и что идет она по грязной дороге совершенно одна. Каштановые волосы подколоты на затылке, узкий подбородок, круглые щеки, огромные темные ресницы, похожие на облачка дыма. Роста она была невысокого, как и все в этой замученной недокормленной Италии. Хотя вид у девушки был не то чтобы голодающий. На ней были платье и шаль, и мне ужасно обидно сейчас сознавать, что цвета платья я вспомнить не могу, кажется, что-то голубое с большими желтыми цветами, но я не уверен. (Странно ведь, что каждая женщина в моих воспоминаниях о Европе, каждая шлюха, каждая бабка и матрона, встретившаяся на моем пути, одета в голубое платье с большими желтыми цветами.)
– Стой! – крикнул Ричардс.
Я рассмеялся. По дороге идет дивное видение, а Ричардс ничего лучше не придумал, как вопить «Стой!». Не будь мой разум так затуманен болью в ногах, я бы вспомнил бессмертного Барда. «Кто здесь?» – и далее по тексту. Мы бы ей всего «Гамлета» наизусть прошпарили.
– Американцы, миленькие, не стреляйте! – крикнула девушка на чистейшем английском. Она не сразу поняла, откуда ее окликнули, а потому обратилась сначала к верхушкам деревьев у дороги и только потом к нашей развалюхе. – Я маму иду навестить.
Девушка подняла руки, и мы встали в полный рост, все еще держа ее под прицелом. Оказалось, ее зовут Мария, а живет она в деревне за холмом. По-английски она говорила с акцентом, но гораздо лучше, чем большинство парней в нашей роте. И еще она улыбалась. Пока не увидишь такую улыбку, не поймешь, как тебе ее не хватало. Я пытался вспомнить и не мог, когда же я в последний раз видел улыбающуюся девушку на сельской дороге.
– Туда нельзя, там все перекрыто. – Ричардс махнул винтовкой в направлении холмов, – Придется вам возвращаться.
– Хорошо, – ответила девушка и спросила, свободна ли западная дорога. Ричардс сказал, что свободна. – Спасибо! Боже, благослови Америку! – И она повернула обратно.
– Погодите! – крикнул я. – Я вас провожу!
– Ты чего, совсем дурак? – спросил Ричардс.
Я стянул с головы шерстяной подшлемник, плюнул на ладонь, пригладил волосы и повернулся к Ричардсу:
– Да провались все пропадом! Возьму и провожу. – Я чуть не плакал.
Конечно, Ричарде был прав. Покинуть пост – значит дезертировать. Но сейчас я готов был остаток войны провести на гауптвахте, лишь бы пройти с этой девушкой хотя бы пять шагов.
– Ну пожалуйста, отпусти меня! Проси что хочешь!
– Хочу «люгер», – не задумываясь ответил Ричардс.
Я так и знал, что Ричардс его попросит. Он страдал по этому «люгеру», как я – по сухим носкам. Хотел сыну подарок привезти. И это понятно, я сам думал о сыне, которого у меня пока не было, когда покупал пистолет на рынке в Пьетрасанта. За неимением сына я собирался показывать «трофей» девушкам и мерзким племянничкам, когда напьюсь. Я бы сначала притворялся, что не хочу говорить о войне, а потом доставал заржавевший «люгер» из ящика стола и заливал про то, как отобрал пистолет у безумного немца, убившего шестерых моих парней и прострелившего мне ногу. Черный рынок немецких трофеев не выжил бы без таких баек. Отступающие голодные немцы продавали свое сломанное оружие и знаки отличия не менее голодным итальянцам в обмен на хлеб, а итальянцы перепродавали трофеи американцам вроде Ричардса и меня, тем, кому нужны были доказательства собственного героизма.
Только вот «люгер» сыну Ричарде так и не привез. Он умер за шесть дней до отправки домой смертью совсем не героической – в полевом госпитале от заражения крови после удаления аппендикса. Ричарде пошел к врачу жаловаться на боль в животе и температуру, и больше я его не видел. Дебил лейтенант сообщил мне между делом: «Да, кстати, Бендер! Чуть не забыл – Ричарде умер». Последний и лучший из моих друзей, павших в моей войне. А в его войне пусть будет точкой такой эпизод: через год я приехал в Айову, в Сидар-Фоллз, остановил машину у дома с кирпичным крылечком, над которым развевался американский флаг, снял фуражку и позвонил в дверь. Жена Ричардса оказалась толстенькой коротышкой. Я наврал ей, что Ричардс умер с ее именем на устах, – лучшего я придумать не смог. И отдал их пацану коробку с «люгером», сказав, что папа отнял пистолет в бою у немецкого офицера. Я смотрел на рыжие вихры, и мне так хотелось своего собственного сына, чтобы жизнь, которую я уже решил потратить впустую, получила хоть какой-то смысл. И когда этот чудный парнишка спросил меня, храбро ли папа «сражался на фронте», я ответил совершенно искренне: «Твой отец был самым храбрым человеком в мире».
Да, это чистая правда. В тот день, когда я познакомился с девушкой, Ричардс мужественно сказал:
– Иди уж. Не надо мне твоего «люгера». Я тебя прикрою. Только потом расскажешь во всех подробностях.
Вам может показаться, что я только и делаю, что жалуюсь, как нам было страшно. Попробую оправдаться. Вот вам доказательство моей щепетильности: я и не собирался трогать эту девушку. И мне важно было, чтобы Ричарде это понял. Понял, что я бросаю боевой пост не для того, чтобы урвать немножко удовольствия, а чтобы просто пройтись с девушкой по темной дороге, почувствовать себя снова нормальным человеком.
– Ричарде, я ее не трону.
По-моему, он мне поверил, потому что вид у него стал совсем расстроенный.
– Господи! Тогда давай я с ней пойду.
Я похлопал его по плечу, схватил винтовку и припустил вдогонку за девушкой. Она шла довольно быстро. Когда я поравнялся с ней, девушка остановилась на обочине. Сейчас, вблизи, она казалась старше, ей было года двадцать три. Девушка смотрела на меня испуганно. Я решил ее успокоить и пустил в ход свое знание языков:
– Scuzi bella. Fare una passeggiatta, per favore?
Девушка улыбнулась:
– Хорошо, проводите. – Она сбавила шаг и взяла меня под руку. – Но только если перестанете подтираться итальянским.
Ага. Это любовь!
Мария, ее сестра Нина и трое братьев выросли здесь, в поселке. Отец умер в начале войны, а братьев – шестнадцати, пятнадцати и двенадцати лет – призвали на службу. Самого младшего утащили из дома рыть окопы сначала для итальянцев, а потом и для немцев. Мария надеялась, что хоть один из братьев уцелел и находится сейчас на севере, за линией фронта. Хотя надеяться, в общем, было почти не на что. Девушка коротко рассказала, как ее деревню, точно губку, досуха выжал Муссолини. А потом пришел черед партизан. А потом отступавших немцев. В конце концов во всей округе не осталось ни одного мужчины в возрасте от восьми до пятидесяти пяти. Поселок разбомбили, обстреляли и обобрали. Мария ходила в школу при монастыре. Там она выучила английский и, когда пришли американцы, устроилась к ним медсестрой в полевой госпиталь. Иногда она работала неделями подряд, но всегда возвращалась в деревню проведать мать и сестру.
– А ты после войны замуж собираешься? У тебя есть парень? – спросил я.
– Был, только вряд ли он жив. Нет, когда война окончится, я вернусь сюда и буду ухаживать за мамой. У нее ведь теперь ни сыновей, ни мужа. Может, потом, когда ее не станет, попрошу какого-нибудь американца отвезти меня в Нью-Йорк. Буду жить в Эмпайр-стейт-билдинг, покупать мороженое каждый вечер, обжираться в дорогих ресторанах и стану ужасно толстой.
– Хочешь, я тебя в Висконсин отвезу? И толстей там на здоровье.
– А, так ты из Висконсина, – сказала она. – Молочные реки, сырные берега? – Мария махнула рукой, как будто Висконсин лежал совсем близко, буквально за вон той рощей. – Коровы, фермы, Мэдисон, луна над рекой, Беджерс-колледж. Зимой очень холодно, зато летом повсюду разгуливают красивые девчонки с косичками и красными щеками.
Она так про любой штат могла рассказать: каждый американец, лежавший в госпитале, с удовольствием рассказывал ей о своей родине. Многие – перед смертью.
– А в Айдахо огромные озера, высоченные горы и бескрайние леса, а еще там на каждой ферме красивые девчонки с косичками и красными щеками.
– Мне вот пока ни одной девчонки не попалось.
– Ничего, после войны найдешь.
Я сообщил, что после войны хочу написать книгу.
Она подняла голову:
– Какую книгу?
– Роман. Обо всем об этом. Может, даже смешной.
Мария насупилась и сказала, что писать книгу – дело серьезное. Какие уж тут шутки?
– Ты не поняла. Я не буду над вами смеяться. Смешной не в этом смысле.
Она спросила, в каком же тогда, а я не знал, что ей ответить. Из мрака выступили очертания ее деревни, сидевшей на холме, точно кепка на затылке.
– Бывает, что смешно и грустно одновременно. Вот я такой роман напишу.
Мария с любопытством посмотрела на меня, и в этот момент из кустов вылетела то ли птица, то ли летучая мышь и мы вздрогнули. Я обнял Марию за плечи. Не знаю, как это вышло, но вдруг оказалось, что я лежу навзничь в кювете под лимонными деревьями, она лежит сверху, а над нами, точно гири, угрожающе раскачиваются незрелые фрукты. Я целовал ее губы, шею и щеки, а она быстро расстегнула мне штаны и заработала ладошками. Словно специальную армейскую брошюру про то, как это делается, читала. У нее и правда здорово получалось, гораздо лучше, чем у меня самого. Очень скоро я запыхтел, и она прижалась ко мне теснее. Я вдыхал аромат земли, лимонов, ее волос; потом мир куда-то исчез, а Мария чуть отстранилась, чтобы я не запачкал ее платья. Так доярки направляют струю молока. И на все про все ушла минута, Марии даже узел на затылке распускать не пришлось.
– Ну вот и все, – сказала она.
И до сего дня ничего романтичнее, грустнее и ужаснее я не слыхал. «Ну вот и все».
Я заплакал.
– Что случилось? – спросила она.
– У меня ноги болят.
Ничего умнее я не придумал. Понятное дело, ревел я не из-за ног. И даже не от благодарности к Марии и вообще к миру за то, что жив остался. Я плакал, потому что мне стало совершенно ясно: Марии не раз приходилось помогать хамью вроде меня, потому-то она и действовала своими ручками так ловко и нежно.
Я плакал, потому что за этой отточенной техникой, конечно, стояла настоящая трагедия. Мария научилась этому трюку после встречи с другими солдатами, которые швыряли ее на землю, и быстрые руки не могли защитить ее от беды.
«Ну вот и все».
– Прости меня, Мария! – плакал я.
И плакал на ее груди я тоже не единственный. Она точно знала, что делать. Мария расстегнула верхние пуговки платья и прижала мою голову к высокой груди.
– Тихо, тихо, Висконсин, не плачь! Тихо, тихо! – говорила она.
Кожа у нее была такая мягкая и сладкая, такая мокрая от моих слез, что я заплакал еще горше.
– Тихо, тихо, Висконсин.
Я зарылся лицом между ее грудей и как будто попал домой, в Висконсин. И до сего дня мне не доводи лось побывать в месте прекраснее, чем та долина между двух холмов. В конце концовя успокоился и взял себя в руки. Через пять минут я отдал ей все свои деньги и сигареты, и поклялся в вечной любви, и пообещал вернуться. А потом заковылял обратно к своему посту. И уверял моего друга Ричардса, которого вскоре не стало, что я просто проводил девчонку до деревни.
Жизнь наша сложна и хрупка. Но другой нам не дано. В ту ночь я забрался в спальный мешок совершенно опустошенным, пустой выпотрошенной раковиной.
Прошли годы, а я все та же выпотрошенная раковина, все так же снова и снова переживаю день, когда окончилась моя война. Тот день, когда я впервые осознал, как осознают наверняка все чудесно спасшиеся, что выжить и жить – это не одно и то же.
Ну вот и все.
Через год я уехал из дома Ричардса, оставив его сыну «люгер», и остановился в городском баре, чтобы выпить миллионную по счету рюмку с того самого дня. Официантка спросила, зачем я приехал в Сидар-Фоллз, а я ответил: «Сынишку навестить». Она начала расспрашивать меня о сыне, о прекрасном мальчике, у которого был только один недостаток: его не существовало. Я сказал официантке, что он отличный парень и что я ему сувенир с войны привез. Она спросила, какой сувенир. Это, наверное, что-то очень важное? Носки, ответил я.
С войны я привез только одно – печальную историю о том, как я выжил, а другой парень, куда лучше меня, умер. И о том, как под веткой лимонного дерева в придорожной канаве меня за двадцать секунд обслужила руками девушка, которая очень старалась, старалась, чтобы я ее не изнасиловал.
5. Студия Майкла Дина
Наши дни
Голливуд, штат Калифорния
Король Голливуда возлежит в шезлонге на своей веранде, потягивает коктейль и любуется проглядывающими сквозь деревья огнями Беверли-Хилз. На его коленях – раскрытый сценарий, сиквел «Ночных охотников». (Сцена первая. Лос-Анджелес, ночь. Черный поезд мчится по направлению к музею современного искусства «Гетти».) Клэр, его помощница, объявила, что даже на помойке такому сценарию не место. Стандарты у нее, конечно, завышенные, но тут Майкл вынужден с ней согласиться: доходы с каждой серией падают, а первые «Ночные охотники», между прочим, кучу бабок принесли.
Этим видом Майкл любуется уже лет двадцать, но сегодня даже знакомый пейзаж выглядит иначе. За холмы тихонько соскальзывает закатное солнце. Майкл удовлетворенно вздыхает. Хорошо снова быть царем горы. И всего-то год понадобился. Не так давно ему и вид этот надоел, и вообще все на свете. Майкл начал бояться, что это конец. Не смерть, в роду Динов никто раньше девяноста не помирал, а просто он вышел из моды. Устарел. Десять лет Майкл не мог выбраться из жуткой ямы. Ни одного попадания. Повезло ему только с первыми «Ночными охотниками», да и то это же стыдобища, а не сериал! И еще издательство не хотело его мемуары выпускать, редактор сказал, что это гнусный пасквиль, написанный с целью отомстить врагам, а факты в нем проверить невозможно. В итоге наняли какого-то литературного негра, переделавшего шедевр в помесь автобиографии и книжки из серии «как добиться успеха».
Казалось, все, конец пути и скоро Майкл вместе с другими привидениями из прошлого будет тусоваться в загородном клубе, шумно хлебать суп и предаваться воспоминаниям о Дорис Дей и Дэриле Зануке. Ан нет, есть еще порох в пороховницах. Вот за что Майкл любит этот город и этот бизнес: удачная идейка, удачная презентация этой идейки – и ты снова на коне. Дин так до конца и не понял, что такого было в этом шоу «Давай знакомиться» (если честно, Майкл только делает вид, будто разбирается во всех этих интернетах, твиттерах-шмиттерах и прочей компьютерной фигне). Но по реакции своего партнера Дэнни, а особенно задаваки Клэр, он догадался, что нащупал золотую жилу. Оставались пустяки: как следует идейку подать. И продать.
И теперь номер Майкла Дина снова есть у каждого приличного человека в городе, у каждого агента, продюсера и прочей швали. Главная проблема сейчас – договор, который он когда-то подписал с «Юниверсал». Договор пожизненный и предполагает, что Дин каждую свою идею должен предложить в первую очередь им, а потом еще отвалить жирный процент от прибыли. По счастью, его юристы вроде бы нашли лазейку, и Майкл уже начал приглядывать себе офис где-нибудь подальше от студии. Неужели он снова будет свободен? От этой мысли Майкл сразу молодеет лет на сорок, и между ног у него начинает покалывать.
Хотя… Может, это таблетка подействовала? Ну да, четко по расписанию, ровно через час после приема. Там, под сценарием, дряхлые нервные и эндотелиальные клетки производят окись азота, которая стимулирует синтез гормона, сокращает видавшие виды мышцы и наполняет пещеристое тело кровью.
Сценарий на коленях поднимается, как знамя над Рейхстагом.
– Доброе утро, дружок! – Майкл кладет сценарий на столик, с трудом встает и идет в дом проведать Кейти.
Пижамные штаны ощутимо жмут. Майкл проходит мимо бассейна, мимо огромных, в человеческий рост, шахмат, мимо прудика с японскими карпами, мимо спортивного коврика и большого мяча, на которых Кейти делает гимнастику, мимо литого чугунного кофейного столика тосканской работы. Сквозь окно кухни Дин видит жену номер четыре в узких спортивных брюках и облегающей майке. Майке есть что облегать. Недавно он сделал вложение в женину красоту, и гелевые импланты последней модели пришли на смену дряблому силикону (преимущества: минимализируются капсулярные контрактуры и шрамы почти незаметны, импланты вживляются в ретромаммарных впадинах между грудями и мышцами верхнего плечевого пояса).
Жарко.
Кейти всегда его ругает за то, что он шаркает; он, дескать, из-за этого кажется столетним стариком. Майкл спохватывается и легко впархивает на кухню. Кейти стоит к нему спиной.
– Простите, мисс, – Майкл встает так, чтобы она заметила вздыбленные штаны, – вы деревянный хот-дог не заказывали?
Но в ушах у Кейти опять эти ужасные затычки – наушники, а потому она его не слышит и не видит. А может, просто притворяется. Года два назад, когда дела шли совсем плохо, ему казалось, будто она поглядывает на него снисходительно и разговаривает с ним терпеливо, как сиделка с больным. Кейти преодолела важный рубеж, ей исполнилось тридцать шесть, Майклу – семьдесят два, и теперь она всего лишь вдвое его моложе. Майкл вообще с недавних пор увлекся женщинами за тридцать. Все-таки как-то неудобно уже двадцатилетних обхаживать. А вот за тридцатилетними ничего, можно, никто и слова не скажет, будь тебе хоть сто лет от роду. К несчастью, Кейти еще и выше его на десять сантиметров, и вот с этой разницей уже ничего не поделаешь. Иногда Майкл без всякого удовольствия представляет себе, как они выглядят в постели: похотливый гном скачет по холмам и долинам великанского тела.
Он обходит барную стойку – вдруг она все-таки заметит бугор на его штанах. Кейти поднимает голову, потом опускает взгляд и снова смотрит ему в лицо. Вынимает из ушей затычки.
– Привет, зайчик. Ты чего?
Майкл открывает рот, чтобы ответить банальностью, но тут на барной стойке принимается вибрировать мобильник. Кейти толкает телефон в направлении супруга. Если бы не поддержка современной химии, Майкл мог бы существенно пострадать от такого явного отсутствия интереса.
Звонит Клэр. Странно. Без четверти пять вечера, сегодня Большая пятница. Чего ей надо? Ассистентка у него просто ужас какая умная и вдобавок (тьфу-тьфу-тьфу), похоже, удачливая. Вот только у нее вечно все сложно. Переживает по любому поводу, постоянно сравнивает жизнь и свои ожидания от нее, сомневается, достигла ли она чего-нибудь, делает ли она важное и полезное дело. Майкл даже начал подозревать, что Клэр ищет другую работу, у него на такие вещи нюх. Наверное, поэтому он поднимает палец, чтобы Кейти не мешала, и отвечает на звонок.
– Что случилось, Клэр?
Она мекает, бекает и запинается. И это Клэр, вечно сердитая и требовательная, притворно циничная, как будто она все в жизни повидала и от всего устала. Насчет цинизма он ее всегда предупреждал: таким дешевым спектаклем никого не убедишь, это как костюм за восемьдесят долларов. Рецензент она отличный, а вот хладнокровия, так необходимого продюсеру, ей явно не хватает. «Ну не знаю, мне не нравится», – говорит она, хотя какое в их профессии может быть нравится – не нравится? Партнер Дина, Дэнни, в шутку называет Клэр канарейкой (такой, которую в угольной шахте сажают, чтобы предупреждала об опасности) и предлагает всем ее советам следовать, только наоборот. Если ей что-то нравится, – не берем. Вот, к примеру, Клэр хорошо понимала, что «Давай знакомиться» выстрелит. И при этом умоляла Дина не выпускать шоу на экраны. Типа, не хочет же он, чтобы его запомнили по этому убожищу, когда он столько замечательных фильмов спродюсировал? А он ей тогда ответил: главное, чтобы запомнили, как он делал деньги.
Клэр в трубке продолжает мямлить, извиняться и бормотать. Чего-то такое рассказывает про Большую пятницу, про какого-то итальянца и еще про парня, который с итальянского переводит.
– Клэр! – пытается прервать ее Майкл. Но девушка не останавливается, даже чтобы вдохнуть. – Клэр! – Нет, она его не слышит.
– Этот итальянец ищет одну старую актрису. Кажется, – тут она произносит имя, и у Майкла перехватывает дыхание, – Ди… Морей.
Ноги под ним подгибаются, телефон выпадает из рук, Майкл ищет и не находит опору. Если бы не Кейти, он так бы и осел на пол. Или головой о стойку ударился. Или налетел на собственную эрекцию.
– Майкл, ты что? – спрашивает Кейти. – У тебя опять инсульт?
Ди Морей.
Вот они какие, привидения. Он-то думал, они такие белые и полупрозрачные, а это просто имена, произнесенные в телефонной трубке.
Он машет на жену рукой:
– Отстань, Кейти, нет у меня инсульта!
Редко бывает, чтобы прошлое догнало и накрыло. Так нет же, повезло. И вот сидит он теперь на полу, на своей кухне в огромном доме в Голливуде, из пижамы член торчит, а в руках бормочет телефонная трубка.
– Никуда не уходите, – говорит в нее Майкл, – я уже еду.
Майкл Дин производит впечатление человека, слепленного из воска или преждевременно забальзамированного. Сейчас уже трудно подсчитать, сколько масок для лица, косметических процедур, грязевых ванн, подтяжек, коллагена, ботокса, инъекций стволовых клеток и операций по удалению бородавок понадобилось, чтобы у семидесятидвухлетнего старика было личико девятилетней филиппинки.
Понятно, что многие, увидев Майкла впервые, так и застывают с открытым ртом, не в силах оторвать взгляда от лоснящейся физиономии, мало чем напоминающей лицо живого человека. Некоторые даже отступают на шаг, чтобы получше рассмотреть это диво. Их оторопь Майкл принимает за восхищение, уважение, невозможность поверить, что можно так выглядеть в его возрасте. И поэтому со все большей яростью и упорством подвергает себя новым омолаживающим процедурам. Ладно бы он молодел с каждым годом – в Голливуде этим никого не удивишь. Нет, он словно шаг за шагом превращается в существо совершенно иного вида, и трансформация эта никаким разумным объяснениям не поддается. Представить себе, как же он выглядел в Италии пятьдесят лет назад, все равно что встать на Уолл-стрит и попробовать вообразить топографию острова Манхэттен до прихода голландцев.
Шейн Вилер смотрит на диковинное создание, шаркающее ему навстречу, и не может поверить, что оно и есть Майкл Дин.
– Так это…
– Да, – отвечает Клэр. – Постарайтесь не пялиться.
С таким же успехом можно постараться не вымокнуть под проливным дождем. Особенно смущает старческая походка в сочетании с детским лицом. Впрочем, и одет Дин тоже странно – в шелковые пижамные брюки и длинное шерстяное пальто, практически целиком закрывающее тело. Если бы Шейн не знал точно, что это один из самых известных продюсеров в Голливуде, он бы принял старика за сбежавшего пациента психушки.
– Спасибо, что позвонила, – говорит Дин, подходя ближе, и показывает на дверь здания: – Итальянец там?
– Ага, – отвечает Клэр. – Мы ему сказали, что сейчас вернемся.
Клэр никогда не видела Майкла таким потрясенным. Интересно, что же между этими двумя произошло когда-то? Дин даже перезвонил ей с дороги и велел им с «переводчиком» дожидаться снаружи, потому что хотел отдышаться перед встречей с Паскалем.
– Столько лет прошло…
Обычно Майкл говорит быстро и отрывисто, как гангстер сороковых годов, но сегодня он тянет и с трудом выталкивает из себя слова, хотя лицо его кажется совершенно спокойным.
Клэр берет Майкла под руку:
– Как вы себя чувствуете?
– Нормально. – Он наконец замечает Шейна. – А вы, наверное, переводчик?
– Э-э… Ну, я год учился во Флоренции, поэтому немного говорю по-итальянски. Но вообще-то я писатель. Я хочу предложить идею для сценария. Меня зовут Шейн Вилер, вспомнили? (По лицу Дина нельзя даже сказать, что Шейн сейчас говорил по-английски.) В общем, я очень рад с вами познакомиться, мистер Дин. Ваша автобиография произвела на меня большое впечатление.
При упоминании о книге, которую агент и литературный негр превратили в пособие по продаже сценариев, Майкл Дин морщится и быстро поворачивается к Клэр:
– Что именно он сказал?
– Я вам уже по телефону говорила. Почти ничего.
Майкл смотрит на Шейна, словно надеется, что Клэр упустила важную деталь при переводе.
– Ну, сказал, что познакомился с вами в шестьдесят втором, – неуверенно говорит Шейн. – И про актрису эту, которая приехала к ним в город, Ди…
Майкл поднимает руку, чтобы не слышать полного имени. Снова смотрит на Клэр, как будто перекрестный допрос поможет выяснить больше.
– Я сначала думала, он рассказывает сюжет. Про актрису, приехавшую в Италию. Он сказал, она была больна. Я спросила чем.
– Рак, – произнес Дин.
– Да, он так и сказал.
– Он хочет денег?
– Про деньги не было ни слова. Он хочет ее найти.
Майкл проводит рукой по светлым, искусственно вживленным кудрям и кивает на дверь:
– Он там?
– Да, я сказала, что пойду вас встретить. Майкл, что происходит?
– Что происходит? Вселенная рушится. – Он оглядывает Клэр с ног до головы. – Знаешь, какой у меня главный талант?
Клэр судорожно соображает, как бы повежливее ответить, но, к счастью, Дин ответа и не ждет.
– Я знаю, чего хочет человек. У меня такой рентген в голову вмонтирован: я вижу людей насквозь, все их желания. Спроси кого-нибудь, что он любит смотреть по телевизору? Он ответит: новости или оперу. А поставь у него в доме регистратор, и что ты увидишь? Одни минеты и аварии. О чем это говорит? Что в стране живут сплошь дегенераты и вруны? Нет. Просто они бы и рады смотреть новости и слушать оперу. Но на самом деле хотят не этого.
А я смотрю на человека, – он прищуривается, продолжая разглядывать Клэр, – на женщину и вижу, чего ей хочется, о чем она мечтает. Режиссер отказывается работать у меня и клянется, будто дело не в деньгах. Я иду и добываю ему больше денег. Актер говорит, что хочет работать в Штатах, быть поближе к семье. Я нахожу ему съемки в Европе, чтобы он мог отдохнуть от своих чад. Я этим талантом почти пятьдесят лет пользуюсь…
Майкл не заканчивает фразу. Он поворачивается к Шейну, будто только сейчас вспомнил о его существовании:
– Знаете, эти сказки про людей, продавших душу… Их не поймешь, пока не состаришься.
Клэр потрясена. Майкл никогда не рефлексирует. Никогда не говорит о себе «старый» или «старше». Спроси ее кто-нибудь час назад, она бы ответила, что самая примечательная черта Майкла – это способность никогда не оглядываться, никогда не вспоминать об актрисках, которых поимел, о фильмах, которые сделал. Дин никогда не сомневался в себе, никогда не проклинал перемены и новую культуру, никогда не оплакивал смерть кинематографа, то есть не делал того, чем Клэр и все прочие сотрудники студии занимались постоянно. Майкл обожает то, что стоит в основе современной культуры, – скорость, беспорядочные сексуальные связи, провалы и поражения, всеобщую поверхностность. Эта культура, с точки зрения Майкла, совершенна. Не будь циничной, часто повторяет он Клэр. Верь всему, что видишь. Он, словно акула, плывет по волнам культуры и выискивает будущую добычу. И вот теперь Майкл невидящим взором смотрит в прошлое, потрясенный чем-то, что произошло пятьдесят лет назад.
– Ну ладно. Я готов. Пошли. – Майкл глубоко вздыхает и поворачивается к двери.
Паскаль Турси смотрит на вошедшего и щурится, пытаясь узнать в нем Майкла Дина. Майкл быстро усаживается за стол, Паскаль и Шейн устраиваются на диване, Клэр притаскивает себе из другой комнаты стул. Пальто Майкл так и не снимает. Он ерзает в неудобном кресле, хотя лицо его абсолютно спокойно.
– Рад снова видеть вас, друг мой, – говорит Майкл, но реплика звучит ужасно фальшиво. – Давно мы не встречались.
Паскаль кивает, поворачивается к Шейну и спрашивает:
– Sta male?
– Нет, – отвечает Шейн, пытаясь сообразить, как бы объяснить Паскалю, что Майкл не болен, просто перенес много пластических операций. – Molto… э-э… ambulatory.
– Что вы ему сказали? – спрашивает Дин.
– Он… он сказал, вы хорошо выглядите, и я ответил, что вы за собой следите.
Майкл благодарит.
– Спросите его, нужны ли ему деньги.
Паскаль с отвращением вздрагивает. Слово «деньги» он знает.
– Нет. Я приехать… искать… Ди Морей.
Майкл расстроенно качает головой:
– Я не знаю, где она. Простите меня. – Он поворачивается к Клэр, словно надеясь на ее помощь.
– Я уже в интернете искала, – говорит Клэр. – Просмотрела все списки актеров, занятых в «Клеопатре». Нигде ни слова.
– Естественно. Ты и не найдешь ничего. Это псевдоним. – Пожевав губу, Майкл обращается к Шейну: – Пожалуйста, переведите. Скажите, мне очень жаль, что я так себя тогда повел.
– Lui è dispiaciuto, – говорит Шейн.
Паскаль кивает. Он понял, но принял ли извинения? Неясно. «Что-то между ними серьезное произошло», – думает Шейн. Раздается жужжание, Клэр достает телефон и тихонько говорит:
– Сам за своей курицей сходишь.
Все трое смотрят на нее.
– Извините, – говорит Клэр и открывает рот, чтобы объяснить, но тут же его и закрывает.
– Скажите, что я ее найду, – просит Майкл.
– Egli vi aiutera а… э-э… trovare il suo.
Паскаль снова кивает.
– Скажите, что я немедленно этим займусь, что для меня честь помочь ему. Я должен искупить свою вину, замкнуть круг. И еще скажите, я не хотел никому причинить вреда.
Шейн растерянно трет лоб, глядя на Майкла и Клэр.
– Я не знаю, как это… ну, то есть… Lui vuole fare il bene.
– И это все? – спрашивает Клэр. – Он слов пятьдесят сказал, а вы только пять.
– Я же вам говорил, что я не переводчик, – обиженно отвечает Шейн. – Я не знаю, как это все перевести. Я просто сказал «он хочет все исправить».
– Нет-нет, все правильно. – Майкл смотрит на Шейна с восхищением, и тот вдруг представляет, как превращает этот диалог в сценарий. – Именно этого я и хочу: все исправить. Клэр, это сейчас наша первоочередная задача.
Шейн глазам своим не верит. Еще утром он сидел в подвальной комнате у родителей, а сейчас допущен в кабинет самого Майкла Дина и слушает, как легенда раздает указания. Ибо сказано: «Действуй!» Главное – верить в себя. И тогда весь мир вознаградит тебя за эту веру.
Майкл Дин вытаскивает на середину стола круглую подставку для файлов и принимается с треском ее крутить.
– Я прямо сейчас позвоню Эммету Байерсу. А ты пока посели мистера Турси и переводчика в какую-нибудь гостиницу.
– Слушайте, – неожиданно даже для самого себя огрызается Шейн, – я уже сто раз сказал: я не переводчик, я писатель.
Повисает пауза, и Шейн тут же начинает жалеть, что влез не вовремя. Может, черная полоса в его жизни еще не окончилась? Вот раньше он совершенно точно знал, что впереди его ждет столько всего интересного и прекрасного! Ему все это говорили, не только родители, но и совсем чужие люди. Конечно, и в колледже, и в Европе, и в аспирантуре успехи у него были весьма скромные (и те за счет родителей, как любила повторять Сандра), но он всегда верил, что прославится.
Зато потом, когда их короткий брак начал рушиться, Сандра (и чудовище психолог, явно перешедший на сторону противника) нарисовала совсем другую картинку. Мальчик, которому никогда ни в чем не отказывали родители, никогда ни в чем не утруждали, не заставляли работать и содержали даже тогда, когда по всем канонам ему полагалось быть самостоятельным, стал разрушать все, к чему прикасался (улика номер один: инцидент с полицией во время весенних каникул в Мексике). Посмотрите на него, ему почти тридцать, а у него никогда не было настоящей работы! Он закончил колледж семь лет назад, два года назад – аспирантуру, женился, а его мама по-прежнему каждый месяц покупает ему одежду! («Просто она любит мне одежду покупать, не запрещать же мне ей? Она расстроится».)
Последние недели их совместной жизни прошли ужасно. Казалось, на нем по живому производят вскрытие. Сандра пыталась убедить его, что не он, – или, по крайней мере, не он один – виноват в своих несчастьях. Что ему просто не повезло родиться во времена, когда выросло целое поколение молодых людей, избалованных матерями. Что им прививалась незаслуженная и ничем не подкрепленная уверенность в себе. Что они жили в аквариуме, полном родительской любви, в инкубаторе, набитом ненастоящими победами.
Таким мужчинам никогда не приходилось сражаться, говорила Сандра, и сражаться ты не умеешь. Все вы вырастаете безвольными и слабыми. Милые телята, вскормленные материнским молоком.
И тогда вскормленный материнским молоком Шейн сделал то, что лишь подтвердило правоту Сандры. После особенно тяжелой ссоры он дождался, пока жена уйдет на работу, собрал вещи и уехал на их общей машине в Коста-Рику Друзья рассказывали, будто там набирают рабочих на кофейные плантации. Машина приказала долго жить в Мексике, Шейн без денег кое-как добрался до Портленда и поселился в доме родителей.
С тех пор он не раз пожалел о своем поведении, извинился перед Сандрой и даже иногда пересылал деньги за ее часть машины (в основном – те, что дарили ему бабушка с дедушкой на день рождения) и обещал вскорости вернуть оставшееся.
Самым неприятным в разговоре про телят было не то, что Сандра права. Права, конечно, тут и отрицать нечего. Нет, самым неприятным было то, что раньше он этого в себе не замечал. Ты и в самом деле веришь, что молодец, презрительно говорила Сандра. И он действительно верил. А вот теперь, когда она разнесла на части его мир, вера эта куда-то испарилась.
Первые несколько месяцев после развода Шейну было очень пусто и одиноко. И еще стыдно. Раньше как-то само собой разумелось, что таланту нужно время, чтобы созреть. Атеперь курс сбился, руль сломался, и Шейн все глубже погружался в пучину депрессии.
И именно поэтому, как он сейчас понял, так важно использовать этот второй шанс, доказать, что «Действуй» – это не просто девиз, не татуировка и не детская иллюзия, а правда жизни. И он не домашний теленок. Он бык, борец, победитель.
Шейн делает глубокий вдох, смотрит на Клэр Сильвер, потом на Майкла Дина и говорит с былой убежденностью:
– Я пришел, чтобы рассказать о своем сценарии.
6. Наскальные рисунки
Апрель 1962
Порто-Верньона, Италия
Узкая тропинка струилась по скалам, как полоска шоколада по белому свадебному торту Поворачивала влево и вправо, обходила препятствия. Начиналась она позади деревни. Паскаль осторожно шагал вперед, постоянно оглядываясь на отстающую Ди. На самом верху дорожку смыло – зимой шли сильные дожди – и остались только голые камни. Паскаль обернулся и взял девушку за теплую руку. Впереди показалась совершенно неожиданная здесь апельсиновая роща – шесть кривых сучковатых деревьев, по три с каждой стороны тропы. Стволы были привязаны к скалистым стенам проволокой, чтобы их не сдуло в море.
– Чуть-чуть остается, – сказал Паскаль.
– Все хорошо, – ответила Ди.
Им оставалось взобраться на последний уступ. Внизу, в шестидесяти метрах под ними, показалась деревня.
– Плохо чувствуете? Остановиться или идти? – спросил Паскаль. Он потихоньку снова привыкал говорить по-английски.
– Не будем останавливаться. Так приятно прогуляться по горам!
Наконец они взобрались на самую вершину и встали на утесе. Ветер дул в лицо, внизу пульсировало море, укрывая камни под деревней белой пеной.
Ди стояла у самого края, такая хрупкая, что Паскалю хотелось схватить ее, чтобы ветер не сдул девушку в пропасть.
– Какой потрясающий вид, Паскаль!
Бледно-голубое небо с пятнышками перистых белых облаков переходило на горизонте в темно-синее море.
Вершины гор были опутаны паутинкой тропинок. Паскаль указал на одну из них, на северо-западе.
– Вон там Синк Терре. А там, – он махнул на восток, в сторону большого залива у них за спиной, – Ла-Специя. Вон наша дорога, на юге.
Тропа, по которой им предстояло пройти, поднималась еще на километр, а затем спускалась в никем не населенную бухту.
– Там Портовенере. Сначала легко, потом трудно. Из Венере только для коз.
Девушка шла за Паскалем. Впереди лежала легкая часть пути, повороты, вверх и вниз по холмам. Внизу море превратило горы в скалы, но здесь, наверху, местность была более пологой. И все же им пару раз пришлось хвататься за ветки апельсиновых деревьев и виноградные лозы, чтобы сползти вниз по крутому склону или взобраться на уступ. На одной из вершин девушка остановилась у развалин старого римского укрепления. Ветер и дождь обтесали их за долгие годы, и руины стали похожи на ряд торчащих из земли зубов.
– Что это? – Она погладила белый камень.
Паскаль пожал плечами. Тысячелетиями армии устраивали тут свои форпосты, наблюдая за морем. Развалин тут было столько, что Паскаль их уже не замечал. Иногда, правда, юноша смотрел на остатки старинных крепостей и ему становилось грустно. Вот все, что осталось от великой империи. Что же тогда после него останется? Пляж? Теннисный корт у моря?
– Идем, – сказал юноша. – Совсем чуть-чуть.
Они прошли вперед, и Паскаль показал девушке дорогу, спускавшуюся к Портовенере, до которой оставался еще примерно километр. Юноша взял Ди за руку, сошел с тропы и начал продираться через кустарник вверх по склону. Они выбрались на площадку, с которой открывался потрясающий вид на побережье, в обе стороны. Ди ахнула.
– Идем, – снова позвал Паскаль и начал осторожно спускаться на уступ.
Ди поколебалась, но пошла-таки следом, и вскоре они добрались до места назначения, небольшого бетонного купола, притаившегося среди камней. Его-то Паскаль и хотел показать американке. Купол уже так слился с ландшафтом, что лишь квадратные бойницы пулеметных гнезд выдавали его происхождение: дот, оставшийся здесь со времен Второй мировой.
Паскаль помог девушке забраться на крышу. Ветер совсем растрепал прическу Ди.
– Это с войны? – спросила она.
– Да, – ответил Паскаль. – Тут всюду война. Они смотрели корабли.
– Тут шли бои?
– Нет. – Паскаль махнул рукой на горы: – Место слишком… – Он хотел снова сказать «одиноко», но решил, что это слово не подходит. – Isolato?
– Изолированное? На отшибе?
– Si, да. – Паскаль улыбнулся. – Война тут только мальчики стреляют лодка.
Дот построили в нише в скале, и сооружение совершенно сливалось с ландшафтом. Сверху его вообще нельзя было заметить, а снизу он казался обычным камнем. Три прямоугольных окна выходили на море. Внутри располагалось пулеметное гнездо. Берег отсюда просматривался от Порто-Верньоны до невысоких гор Пунта дель Луого и дальше, до самой Риомаджьорры, последней деревни в Синк Терре. Отсюда и Портовенере было видно, и даже остров Палмарла. И везде белела пена прибоя, поднимались ввысь скалы, зеленели сосны, оливковые деревья, виноградники и сады. Отец говорил Паскалю, будто древние верили, что этот берег – конец плоского мира.
– Как красиво! – Ди забралась на крышу дота.
Паскаль был очень рад, что ей понравилось.
– Хорошее место думать, да?
Ди улыбнулась:
– И о чем же ты здесь думаешь, Паскаль?
Старый вопрос. Как на него ответишь? О чем думают люди? Мальчиком он сидел тут и представлял себе, какой он, остальной мир. Теперь Паскаль в основном думал здесь о своей первой любви, Амедии, которая осталась во Флоренции. Проигрывал в голове их последний разговор, гадал, надо ли было сказать какие-то другие слова. А иногда просто размышлял о мире, о своем месте в нем. Такие большие и сложные мысли не перескажешь даже на итальянском, не то что на английском. И все же ему хотелось попробовать объяснить.
– Я думаю… все люди в мире… и я один, да? И иногда я смотрю здесь луну… да, для всех… все люди смотреть луну. Да? Здесь, Франция, Америка. Для всех людей, одно время, одна луна, да? – Он представил себе, как его милая Амедия смотрит на ту же луну, что и он, из окна ее дома во Флоренции. – Иногда смотреть одна луна хорошо… А иногда… очень грустно, да?
Она некоторое время пыталась понять сказанное.
– Да, я тоже так думаю, – наконец сказала Ди и сжала руку Паскаля.
Паскаль от такой сложной английской фразы совсем обессилел, но он и рад был, что ему удалось сформулировать абстрактную мысль. А то последние два дня он все больше про «как комната» и «еще мыла» говорил.
Ди смотрела в море. Паскаль знал, она ждет, когда появится яхта Оренцио. Он успокоил девушку, сказал, что отсюда они лодку непременно заметят. Американка села, поджав коленки, и принялась разглядывать дальний, более плодородный, чем в Порто-Верньоне, берег, поля и виноградники.
Паскаль махнул рукой в направлении деревни:
– Видите камень? Я строю теннис… там.
Ди изумленно посмотрела вниз:
– Где?
– Там. – Они ушли немного в сторону от деревни, и отсюда он едва мог разглядеть площадку. – Будет primo корт.
– Подождите! Вы что же, корт прямо на скале строите?
– Мой отель станет destination primo, да? Очень роскошный.
– Я все равно не поняла, где он там поместится.
Паскаль наклонился поближе к ней и вытянул руку. Ди прижалась щекой к его плечу, чтобы смотреть точно туда, куда он показывал. Паскаль почувствовал, как руку пронзает электрический разряд, и воздуху снова не хватало. Ему казалось, что милая Амедия всему его научила и что смущаться он больше не будет, так нет же, вот он опять дрожит как лист на ветру.
Ди все никак не могла поверить своим глазам.
– Вон там? Там будет корт?
– Да. Я делаю камни… плоско. – Он вдруг вспомнил правильное английское слово. – Выравниваю, да? Будет очень известный, лучший теннис в Леванте. Primo корт, прямо из моря.
– И что, мячики не будут все время падать в море?
Он посмотрел на девушку, потом на свою площадку. Интересно, она хоть раз в жизни в теннис играла?
– Нет, игроки ударять мяч, – он показал двумя руками, – с этой стороны и с этой.
– Да, но ведь они и промахиваются иногда?
Паскаль недоуменно взглянул на девушку.
– Паскаль, вы когда-нибудь в теннис играли?
Вот тут она ему наступила на больную мозоль. Для итальянца Паскаль был довольно высоким, но вырос он в Порто-Верньоне, какой уж тут спорт? Довольно долго юноша ужасно стеснялся этого обстоятельства.
– Я вижу много картинки, – сказал он. – И размеры из книги.
– Ну представьте, что игрок, тот, что у моря, промахивается. Мяч ведь улетит в море?
Паскаль задумчиво потер подбородок.
Ди улыбнулась:
– Вы можете забор повыше сделать.
Паскаль смотрел на море и представлял, как на волнах качаются желтые мячики.
– Да, – сказал он. – Забор. Забор! Конечно. – Вот он дурак-то!
– Я уверена, у вас выйдет прекрасный корт.
Паскаль искоса разглядывал профиль американки и развевающиеся на ветру волосы.
– Мужчина, который сегодня приедет… У вас… любовь? – Паскаль и сам не ожидал от себя такого вопроса. Девушка повернулась к нему, и он смущенно опустил взгляд. – Надеюсь, не плохо, что я спрашивал?
– Конечно-конечно. – Ди вздохнула. – К сожалению, да… кажется. Хотя не стоило бы.
– А он? Тоже любит?
– Да-да, конечно, любит. Только себя, и очень сильно.
Паскаль секунду соображал, потом понял, что она пошутила.
– А! Очень смешно.
Порыв ветра снова подхватил ее волосы, и она подняла руку, чтобы придержать пряди.
– Паскаль, я прочитала роман того американца.
– Книга… хорошая, да?
Мать Паскаля никогда Бендера не любила, не то что они с отцом. Если он такой великий писатель, говорила она, чего ж тогда только одну главу за восемь лет накропал?
– Она очень грустная. – Ди прижала руку к груди. Паскаль не мог оторвать взгляда от тонких пальцев.
– Простите, – он прокашлялся, – что вы читать грустная история в мой отель.
– Да нет, она очень хорошая. Там такая безысходность, что моя безысходная тоска показалась мне не такой уж и страшной. Я понятно выразилась?
Паскаль неуверенно кивнул.
– Я снималась в «Клеопатре», это фильм о разрушительной силе любви. Впрочем, наверное, все на свете истории как раз про это. Паскаль, вы когда-нибудь влюблялись?
– Да. – Он поморщился.
– Как ее звали?
– Амедия.
Сколько ж времени прошло с тех пор, как он последний раз произносил это имя вслух? Паскаля потрясла власть, которую имело над ним простое сочетание звуков.
– Вы ее по-прежнему любите?
Вот тут ему как никогда не хватало знания английского.
– Да, – сказал он наконец.
– А почему вы не с ней?
Паскаль резко выдохнул и сказал:
– Это не просто, да?
– Да, – согласилась Ди, глядя на череду белых облачков, вынырнувших из-за горизонта. – Это не просто.
– Идем. Еще одно.
Паскаль потащил ее к дальней стене бункера. Он отодвинул камни и ветки и показал девушке небольшую квадратную дыру в бетонной крыше. Потом протиснулся внутрь, соскользнул вниз и поднял голову Ди не тронулась с места.
– Безопасно, – сказал Паскаль, – вниз. Спускайтесь.
Ди проскользнула в щель и спрыгнула на пол. Внутри было темно, пахло чем-то затхлым, и приходилось нагибаться чуть-чуть, если не стоять в центре. Тусклый свет падал только из трех прямоугольных окошек.
– Смотрите, – сказал Паскаль, зажег спичку и поднял ее над головой.
Ди подошла поближе. На голой бетонной стене кто-то нарисовал пять картин, одну за другой, точно в галерее. Паскаль зажег еще одну спичку. Художник даже некоторое подобие деревянных рамок к ним пририсовал. И хотя писал он на бетоне и краски давно потрескались, все равно было видно, что художник очень талантливый. Первая картина изображала берег под окнами бункера, кипящие волны, крыши Порто-Верньоны в правом углу. На следующих двух были очень официальные портреты двух немецких солдат. И наконец, два одинаковых изображения одной и той же девушки. От ветра и холода краски со временем выцвели и поблекли, поток воды, стекающий по стене во время зимних дождей, стер часть пейзажа, трещина прошла через самый центр одного из портретов солдат и немного задела первое изображение девушки. Но в целом картины удивительно хорошо сохранились.
– Позже… солнце проходит сквозь них, – Паскаль показал на бойницы, – и тогда они… живые. Девушка molto bella, да?
Ди завороженно смотрела на стену.
– Да!
Спичка погасла, и Паскаль зажег следующую. Он обнял Ди за плечи и повернул ее к портретам солдат:
– Рыбаки рассказывал, два немецких солдата жили здесь в войну, смотрели море, да? Один нарисовал.
Юноша, совсем мальчик, на первом портрете смотрел куда-то в сторону. Гордо поднятая голова, мундир, застегнутый на все пуговицы. Второй, постарше, был изображен в рубашке с распахнутым воротом. Этот, казалось, смотрел Ди прямо в глаза. В его взгляде, хоть краски и поблекли, читалась настоящая страсть.
– Вот этот – художник, – уверенно сказала Ди.
– Откуда вы знаете? – Паскаль наклонился к картине.
– Не знаю. Он похож на художника. И он смотрит прямо на нас. Он, наверное, в зеркало смотрел, когда писал.
Ди подошла к бойницам и выглянула наружу.
– Как здесь здорово! Спасибо вам, Паскаль! – Она закрыла рукой рот, как будто старалась не заплакать. – Представьте себе: быть талантливым художником, жить здесь, рисовать и знать, что твои картины никто не увидит. Грустно, правда?
Она вернулась к стене и взяла у Паскаля еще одну спичку. По стене катились пенистые валы, два юноши смотрели вдаль, две девушки загадочно улыбались, обернувшись к зрителю вполоборота, – классические портретные позы.
– Смотрите, – сказала Ди. – Вот эта у него не вышла. И он исправил ошибку. Спорим, он рисовал по фотографии? Вот тут горбинка получилась слишком большой, и глаза запавшие.
Теперь Паскаль и сам понял, что американка права.
– Наверное, он очень ее любил, – сказала Ди.
Она повернулась, и в мерцающем свете спички Паскалю показалось, будто в глазах ее блеснули слезы.
– Как вы думаете, он вернулся домой живым?
– Да, – прошептал Паскаль. Они стояли так близко, что могли поцеловаться. – Да. Он видит ее снова.
Ди нагнулась и задула спичку. В наступившей полутьме она шагнула к Паскалю и крепко его обняла.
– Господи, как бы мне хотелось, чтобы так и было!
Было четыре часа утра. Паскаль лежал и вспоминал, как они сидели в темном бункере. Может, надо было ее поцеловать? За всю свою жизнь он целовался только с одной девушкой, с Амедией. Если честно, она первая его поцеловала. Может, он и решился бы, но ему до сих пор было ужасно стыдно за свою промашку с кортом. Как это он сам не додумался, что мячики будут падать в воду? На картинках игроки никогда не промахивались. Все-таки он идиот. Теннис казался ему зрелищем сугубо эстетическим. Ему нужен был не корт, а красивая картинка. Что там мячики! Сами игроки могут упасть со скалы. Ди Морей права. Он поставит забор повыше. Это просто. Одна беда, высокий забор испортит картинку. А он так здорово все представил: открытый всем ветрам корт высоко на скалистой площадке, игроки в белых костюмах, девушки, потягивающие коктейли под цветастыми зонтиками. Если поставить забор, то с моря, с яхт, корт никто не разглядит. Можно, конечно, сетку натянуть, но тогда вида на море с площадки не будет, и вообще, они же не в тюрьме? Кому нужен brutto, тюремный теннисный корт?
В тот вечер человек, которого ждала Ди Морей, так и не приехал. Паскалю стало стыдно. Он желал сопернику смерти в бурных волнах. А вдруг Бог услышал его и исполнил его просьбу? На закате Ди ушла в свою комнату, а с утра ей снова стало совсем плохо. С постели она вставала, только когда ее рвало. Потом в желудке уже ничего не осталось. Ди сидела в дверях ванной, по щекам ее катились слезы. Ей не хотелось, чтобы Паскаль видел ее такой, поэтому юноша устроился в коридоре у порога и держал прекрасную американку за руку. Внизу шумно возилась на кухне тетя Валерия.
Ди судорожно вздохнула.
– Расскажите мне что-нибудь, Паскаль. Расскажите, как художник снова встретился со своей девушкой.
– Они поженились и имеют пятьдесят детей.
– Пятьдесят?
– Может, шесть. Он стал известный художник и когда рисует женщину – только ее.
Ди снова вырвало. Отдышавшись, она спросила:
– Он не приедет, да?
Странная это была близость: они держались за руки, но находились в разных комнатах, разговаривали, но не видели друг друга.
– Приедет, – ответил Паскаль.
– Откуда вы знаете? – прошептала она.
– Знаю.
– Откуда?
Паскаль закрыл глаза и сосредоточился, чтобы все правильно сказать по-английски.
– Потому что… если вы ждете меня… я бы полз на коленях от Рима, – прошептал он.
Ди сжала его руку. Ее снова тошнило.
Он не приехал. Паскаль ужасно разозлился. Как он мог послать больную женщину в рыбацкую деревушку и забыть про нее?! Да что он вообще за человек?! Паскаль хотел было позвонить по телефону в Гранд-Отель из Ла-Специи, но потом решил лично посмотреть подонку в глаза.
– Я поеду в Рим, – сказал он Ди.
– Не стоит, Паскаль, ей-богу, это ни к чему! Я поеду в Швейцарию, как только мне станет полегче. Может, он мне туда написал, а я и не знаю.
– Мне надо в Рим. – Паскаль решил, что проще будет солгать. – Я найду этого Майкла Дина и скажу ему, что вы ждете.
Она на секунду задумалась, потом улыбнулась:
– Спасибо, Паскаль.
Он оставил тете инструкции, как ухаживать за прекрасной американкой. Пусть спит, сколько хочет, ест только то, что хочет, и никаких нравоучений насчет подобающей длины ночной рубашки. Если американка заболеет, надо послать за доктором Мерлоньи.
Перед поездкой Паскаль заглянул к матери. Антония ждала его.
– Я завтра вернусь, мама.
– Она такая высокая, здоровая, и грудь большая. У вас будут хорошие дети.
Паскаль попросил Томассо-коммуниста отвезти его на моторке в Ла-Специю. Оттуда поезд идет до Флоренции, потом пересадка, еще один поезд. В Риме надо будет найти этого Дина и наорать на него как следует. Как он посмел бросить больную девушку одну?!
– Мне бы, конечно, с тобой поехать, – сказал Томассо-коммунист. Мотор ревел и захлебывался. Паскаль устроился на носу – Американцы – ужасные свиньи. Особенно те, кто фильмы снимает.
– Да уж, отослать женщину и забыть о ней! – согласился Паскаль.
– Это их кино – издевательство над искусством. Они превращают подлинную скорбь в водевиль, и обязательно им надо, чтобы жирные мужики падали мордами в жирные торты. Кино должны снимать только итальянцы. Так нет же, эта зараза распространилась уже по всему миру, как дурная болезнь среди моряков. Comedia d'Italiana, пакость какая!
– А мне нравятся вестерны, – сказал Паскаль. – И ковбои нравятся.
– Пакость! – повторил Томассо-коммунист.
Паскаль уже отвлекся.
– Томассо, Валерия говорит, что в Порто-Верньоне никто не умирает. Только дети и старики. Она сказала, американка не умрет, если не уедет отсюда.
– Паскаль…
– Да я знаю. Это все россказни. Но ведь и правда, я не помню никого, кто бы умер здесь молодым.
Томассо задумчиво поправил на голове ленинскую кепку.
– Сколько лет было Карло, когда он умер?
– Шестьдесят три.
– По мне, так совсем молодой.
На подходе к Ла-Специи пришлось пробираться между больших кораблей.
– Томассо, а ты когда-нибудь в теннис играл?
В молодости Томассо попал в концлагерь под Миланом и там всякого насмотрелся.
– Играть не играл, но как другие играют – видел.
– И часто игроки по мячу промахиваются?
– Те, что получше, – редко, но все равно каждый сет кончается тем, что кто-то теряет мяч либо в сетку попадает. Иначе никак.
Паскаль ехал в поезде и думал о теннисе. Каждый сет заканчивается тем, что кто-то теряет мяч. Вроде жестоко, но очень жизненно. Удивительно, как английский повлиял на его мышление. Во Флоренции он изучал поэзию. Английские слова постепенно утрачивали старый смысл и обретали новый, наполнялись образами, превращались в цитаты. Вот, например: он спросил Ди Морей, любит ли тот человек так же, как она. Ди ответила: да, конечно любит. Себя. Паскаль очень гордился тем, что понял шутку, и своим знанием английского гордился тоже. Он снова и снова прокручивал в голове последний разговор. И еще другой, в бункере. Надо же, какое у Ди воображение! Как она сразу представила себе молодого солдата, рисующего портрет с фотографии!
Напротив Паскаля сидели две девушки. Обе читали один и тот же модный журнал. Они постоянно шушукались, обсуждали прочитанное, тыкали пальчиками в фотографии, хихикали и поглядывали в сторону Паскаля. «Брижит Бардо еще красавица, но скоро она станет толстой как корова». Девчонки не говорили, а кричали, наверное, из-за шума в поезде.
Паскаль закурил и вдруг спросил их:
– А там ничего про актрису Ди Морей не сказано? – Он и сам от себя не ожидал, что заговорит с ними.
Бедные девушки уже целый час на него поглядывали, а потому ужасно обрадовались. Та, что повыше, спросила:
– Она англичанка?
– Американка. Снимается в «Клеопатре», в Риме. Вряд ли она такая уж известная, но, может, про нее в журнале пишут?
– В «Клеопатре»? – Девушка полистала журнал, нашла фотографии потрясающе красивой темноволосой женщины, несомненно, куда более красивой, чем Ди Морей, и показала снимок Паскалю: – С Элизабет Тейлор?
Подпись под фотографией обещала читателям шокирующие подробности «американского скандала».
– Из-за нее Эдди Фишер и Дебби Рейнолдс разводятся, – доверительно сообщила Паскалю та, что повыше.
– Ужас какой! – добавила та, что пониже. – У бедняжки Дебби двое детей.
– А теперь она и Фишера бросила. У нее роман с этим англичанином, Ричардом Бёртоном.
– Бедный Эдди Фишер!
– А по-моему, это Ричард Бёртон бедный. Она же чудовище!
– Эдди Фишер специально прилетел в Рим, чтобы ее вернуть.
– А у самого двое детей! Вот стыдобища-то! Бросил их и ушел к этой Тейлор!
Паскаль был потрясен таким объемом информации. И откуда эти девицы все знают? Можно подумать, они свое семейство обсуждают, а не актеров. Теперь девушки принялись перемывать косточки Ричарду Бёртону и Элизабет Тейлор. Вот чего Паскаль к ним полез? Про Ди Морей девчонки и слыхом не слыхали. Она и сама ему говорила, что «Клеопатра» – ее первый фильм.
– Этот Ричард Бёртон – редкий бабник. Я бы на него и не взглянула.
– А вот и взглянула бы!
– Ну взглянула бы, да. – Девушка улыбнулась Паскалю.
Клуши захихикали.
– А Элизабет Тейлор уже четыре раза замужем была, – сказала Паскалю та, что повыше.
Юноше остро захотелось спрыгнуть с поезда на ходу. Девицы перекидывались репликами, как теннисным мячом, и ни одна не промахивалась.
– Ричард Бёртон тоже женат.
– А она змея!
– Да, но красивая змея.
– И ведет себя как дешевка. Мужчины таких насквозь видят.
– Мужчины видят только ее глаза.
– Сиськи они видят. А она дешевка!
– У дешевок таких глаз не бывает.
– Все-таки американцы ведут себя возмутительно! Ну просто как дети!
Паскаль притворился, будто на него напал приступ кашля.
– Простите, пожалуйста. – Он встал и, кашляя, вышел из вагона.
Юноша остановился у окна. Поезд подходил к вокзалу в Лукке. Вдали виднелся прекрасный мраморный собор. Главное, чтобы во Флоренции осталось время перед следующим поездом.
Паскаль закурил и прислонился к ажурной железной ограде на площади. Отсюда хорошо был виден дом Амедии. Они, наверное, только что закончили ужинать. Синьор Бруно любил в это время прогуляться с женой и шестью красавицами-дочерьми (а может, их теперь поменьше, если кого-нибудь удалось пристроить замуж). Синьор Бруно демонстрировал дочерей с гордостью, точно лошадей на скачках. Паскаль отчетливо представил себе лысого и вечно торжественного синьора Бруно.
Весь день было пасмурно, но на закате солнце выглянуло из-за туч и весь город высыпал на прогулку. Паскаль курил, наблюдал за парочками и ждал появления семейства Монтелупо. И разумеется, дождался. Через пару минут вся процессия появилась из-за угла: синьор Бруно с супргой, Амедия и две младшие дочери. Трех других, наверное, замуж выдали. Паскаль аж дышать перестал, когда увидел Амедию, так она была красива. Мать Амедии везла детскую коляску. Паскаль резко выдохнул. Так вот оно что.
Юноша всегда дожидался ее на свидания на этом месте. В груди что-то оборвалось, как обрывалось и раньше. Амедия заметила его. Она вдруг замерла и схватилась за стену. Неужели она каждый день ищет его? Ведь столько месяцев прошло! Сестры ушли вперед, и Амедия взяла себя в руки. Паскаль снял шляпу – это была часть их условного сигнала. Амедия покачала головой. Паскаль снова надел шляпу.
Какая-то пара остановилась поглазеть на младенца. Паскаль слышал их голоса через всю площадь.
– Какой он большой, Мария!
– Еще бы! Прожорливый, весь в папу.
Бруно гордо поднял голову и засмеялся.
– Ты наше прожорливое чудо! – сказал он младенцу.
Женщина ущипнула малыша за щечку:
– Мог бы и с сестрами поделиться, не жадничать, а, Бруно?
Младшие девочки слушали взрослых, Амедия не отрываясь смотрела на Паскаля, точно боялась, что отвернется – и он исчезнет.
Паскаль отвел взгляд.
Женщина повернулась к младшей из сестер, двенадцатилетней девочке:
– Доната, ты рада, что у тебя теперь есть братик?
Нравится, ответила девочка. Женщины начали обсуждать особенности кормления и прочую детскую лабуду. А потом Паскаль почти перестал их слышать. Так, какие-то обрывки. Про дождь, про то, что тепла им, видимо, еще долго не видать.
Молодая пара пошла дальше, членов семейства Монтелупо по одному поглотила резная дверь трехэтажного узкого дома. Последним вошел Бруно и торжественно запер за собой засов. Паскаль курил. Времени до последнего поезда на Рим было еще много.
Через десять минут вышла Амедия, она ежилась, точно от холода. Паскаль смотрел в ее бездонные карие глаза, на тонкие дуги бровей. Никогда он не мог разобрать выражение этих глаз. Даже когда Амедия сердилась (а сердилась она частенько), казалось, она готова немедленно все ему простить, потому что в глазах у нее постоянно словно бы стояли слезы.
– Бруно?! – сказал Паскаль, когда девушка подошла поближе. – Как ты могла разрешить им назвать его Бруно?
– Что ты здесь делаешь, Паскаль?
– Я хотел тебя увидеть. И его тоже. Ты не могла бы его сюда вынести?
– Не говори глупостей.
Амедия взяла у него из рук сигарету, глубоко затянулась и выпустила струйку дыма уголком рта. Паскаль уже и забыл, какая Амедия маленькая, маленькая и шустрая. Она была на восемь лет старше его и двигалась с почти животной чувственной грацией. Паскаль до сих пор волновался в ее присутствии. Когда-то она совершенно спокойно за руку притащила его в квартирку. Парень, с которым Паскаль делил жилье, днем учился. Амедия толкала юношу на кровать, расстегивала ему штаны, задирала юбку и устраивалась на нем верхом. Паскаль держал ее за талию, смотрел ей в глаза и думал: вот это жизнь!
– Что же мне, даже на сына своего нельзя поглядеть?
– Можно утром попробовать, когда папа уйдет на работу.
– Я сегодня вечером уезжаю в Рим.
Она молча кивнула.
– И что, ты притворяешься, будто это твой брат? И никому не странно, что между младшими детьми разница двенадцать лет?
– Не знаю я, что они думают, – устало ответила Амедия. – Папа отослал меня к тетке в Анкону, всем сказал, что тетка заболела и я за ней ухаживаю. Мама одевалась, как беременная, а под конец тоже поехала в Анкону, вроде рожать. Через месяц мы вернулись с младенцем. Моим братом. – Амедия равнодушно пожала плечами: – Чудо!
Паскаль совсем растерялся.
– Тяжело было? – спросил он.
– Рожать? Это как высрать живую курицу, – она улыбнулась. – А сейчас уже ничего. Он милый. Когда все спят, я иногда его к себе прижимаю и говорю: «Я твоя мама». А иногда и сама верю, что он мой брат.
Паскаля затошнило. Казалось, они не о живом ребенке, не о сыне говорят, а о каком-то чужом мальчике.
– Это же ненормально! На дворе шестьдесят второй год… – Паскаль осекся. Он-то в воспитании младенца участия не принимал.
Амедия молча посмотрела на него и сплюнула крошку табака, прилипшую к губе.
«Ведь я же просил тебя выйти за меня», – хотел сказать Паскаль, но передумал. Амедию это воспоминание о его… «предложении» только насмешит.
Амедия уже была однажды помолвлена. Ей было семнадцать, когда ее обручили с богатым сынком партнера Бруно, торговцем недвижимостью. Сынок был богатый и лупоглазый. Вылитая жаба. И вдвое старше ее. Амедия отказалась выходить за него, и синьор Бруно пришел в ярость. Выбирай, сказал он: можешь уйти в монастырь или остаться в доме прислугой для родителей и сестер. Ну и ладно, сказала Амедия, буду прислугой. Муж ей был совершенно ни к чему. Вскоре отцу надоело, что нахальная старшая дочь болтается по дому и мозолит ему глаза. Он позволил Амедии поступить на службу секретаршей в местный университет. Она проработала там шесть лет. Иногда заводила со студентами романчик, все не так одиноко. Как-то раз она пошла прогуляться и встретила на берегах реки Арно девятнадцатилетнего Паскаля (Амедии тогда было двадцать семь). Мальчик сидел на скамейке и читал учебник. Амедия остановилась и, когда он поднял голову, улыбнулась и сказала:
– Ух ты, какие у тебя глаза!
С самого начала его поразила ее кипучая энергия, ее острый ум и еще более острый язык. В тот первый день Амедия попросила у него сигарету, но он тогда не курил.
– Я здесь каждую среду гуляю, – сказала девушка. – Это на случай, если ты вдруг решишься начать курить.
Через неделю Паскаль вскочил со скамейки, едва завидев ее, и дрожащей рукой протянул ей сигарету. Она кивнула на книги на траве, сборник поэзии и словарь английского языка. Паскаль объяснил, что ему задали перевести на английский «Атоге è Morte».
– Великий Леопарди! – Амедия подняла тетрадь и прочла то, что он уже перевел.
Fratelli, а ип tempo stesso, Атоге е Morte ingenerm la sorte. Сестры Любовь и Смерть Приходят вместе.– Эк у тебя ловко вышло, – сказала она. – В этой песне музыки не осталось. – Амедия вернула ему тетрадь и пошла дальше. – Спасибо за сигарету!
В следующую среду Паскаль снова ждал Амедию. Он протянул ей сигарету и тетрадь. Девушка прочла вслух:
Любовь и Смерть всегда вдвоем, И мы их сестрами зовем.Амедия улыбнулась и спросила, далеко ли отсюда до его дома. Через десять минут первая девушка, которую он поцеловал в своей жизни, уже расстегивала его штаны. Следующие полтора года они встречались дважды в неделю. Амедия ни разу не осталась у него на ночь и на людях показываться с ним отказывалась. Говорила, что она ему не возлюбленная, а наставница. Амедия помогала ему учиться, воспитывала из него хорошего любовника, давала ему советы, как правильно разговаривать с девушками, как с ними знакомиться, чего не стоит говорить. Паскаль повторял, что ему другие девушки ни к чему, ему нужна именно она, но Амедия только смеялась. Еще она смеялась над его робкой попыткой поговорить с ней.
– Такие красивые глаза, а сказать-то и нечего! – говорила Амедия.
Она учила его смотреть собеседнице в глаза, глубоко дышать, думать, прежде чем говорить. Больше всего ему нравились уроки на матрасе. Что делать руками, как не кончить слишком быстро. Как-то раз Амедия скатилась с него на пол, перевернулась на спину и сказала:
– Все-таки я – хороший учитель! Повезет же твоей будущей жене!
Время, проведенное с Амедией, летело быстро. Паскаль готов был провести так всю жизнь: ходить на занятия и знать, что дважды в неделю к нему придет прекрасная Амедия. Как-то раз, после особенно бурного урока, он совершил ошибку.
– Ti ато, – сказал Паскаль. Я люблю тебя.
Амедия сердито оттолкнула его, встала и начала одеваться.
– Эти слова просто так не говорятся, Паскаль. После них люди женятся. – Она натянула блузку. – Никогда не говори о любви после секса, ты понял? Если тебе вдруг захочется признаться в любви, сначала посмотри на девушку с утра пораньше, когда она еще зубы не почистила и не накрасилась. Посмотри, как она на унитазе сидит. Послушай, как она болтает с подружками. Познакомься с ее волосатой мамашей и визгливыми сестрами. И, если это тебя не остудит, тогда – помоги тебе Бог!
Она часто и уверенно ему повторяла, что он не любит ее, что это просто реакция на первый сексуальный опыт, что она для него старовата, что они друг другу не подходят, они из разных слоев общества, что ему нужна ровесница, и Паскаль ей поверил.
А потом она как-то пришла и сказала:
– Я беременна.
Повисла пауза. Паскаль переваривал информацию (она беременна?), потом нахлынуло недоумение (но мы же почти всегда предохранялись!), а потом еще он ждал ее совета (она всегда говорила ему, что надо делать). Когда юноша обрел наконец дар речи (мне кажется, нам надо пожениться), гордой Амедии только и оставалось, что рассмеяться ему в лицо.
– Tale ип ragazzo! Ты еще такой мальчишка!
Неужели он ничего не понял? Неужели подумал, будто она позволит ему выбросить свою жизнь на ветер? И даже если бы он об этом только и мечтал (хотя зачем это ему?), она все равно не выйдет замуж за мальчика из рыбацкой деревни без гроша за душой. Да ее отец никогда такого позора не допустит! А даже если бы и допустил (хотя он не допустит, конечно), она ни за что не выйдет за глупого неопытного мальца, которого она соблазнила от скуки. Вот только никчемного мужа на шее ей сейчас и не хватает. Амедия говорила и говорила, и Паскаль наконец пробормотал:
– Да, ты права.
И он поверил ей тогда. Так уж были устроены их отношения: она была главной в постели и в жизни. А он только соглашался, как маленький ребенок.
И вот теперь, почти год спустя, они стояли на площади перед большим домом семейства Монтелупо. Амедия устало улыбнулась и снова отняла у него сигарету.
– Я слышала, у тебя отец умер? Мне очень жаль. А мама как?
– Не очень. Говорит, что жить больше незачем.
Амедия кивнула:
– Остаться вдовой, наверное, очень трудно. Я все думала, не заехать ли в твой pensione. Как он, кстати?
– Хорошо. Я строю пляж. Хотел еще теннисный корт сделать, но, кажется, места не хватит. У меня там… у меня американка живет… Актриса.
– В кино снимается?
– Да, в «Клеопатре».
– Не Лиз Тейлор случайно?
– Нет, другая.
– Красивая? – Таким тоном она обычно наставляла его, как надо обращаться с девушками.
Паскаль сделал вид, будто он об этом до сих пор даже не задумывался.
– Да нет, не очень.
Девушка выставила вперед руки, словно удерживая две тяжелые дыни.
– Но грудь-то большая? Как воздушные шары? Как тыквы? Или аэростаты?
– Амедия! – просто сказал он.
Она засмеялась:
– Я всегда знала, что девушки будут тебя любить.
Она что, издевается? Амедия протянула ему сигарету, но он махнул и достал себе новую из пачки. Они молча курили, пока от сигареты Амедии не остался один пепел. Мне пора домой, сказала ему Амедия. Паскаль ответил, что ему тоже надо на поезд.
– Удачи тебе с твоей актрисой! – Амедия вроде бы очень искренне улыбнулась.
Она пошла к дому, обернувшись только раз, и исчезла за дверью.
У Паскаля защипало в горле. Ему хотелось крикнуть ей, остановить, но он промолчал, потому что не находил правильных слов.
7. Вкус человечины
1846
Траки, штат Калифорния
Итак, живет на свете один парень, Вильям Эдди. Повозки делает. Беден как церковная крыса, образования никакого. Честный, открытый, любит свою семью. У него жена и двое маленьких детей. Ему предлагают поехать в Калифорнию попытать счастья, и он с радостью соглашается. На дворе 1846 год. В то время все стремились на запад.
И вот Эдди просится в караван, который пойдет из Миссури в Калифорнию. Они с женой собирают пожитки.
Камера скользит мимо длинной вереницы фургонов, нагруженных добром. По бокам от каравана гонят скот, вокруг носятся детишки и собаки. На головном фургоне надпись: «Калифорния или смерть», сзади еще одна: «Экспедиция Доннера».
Караванам всегда давали названия по фамилии самого богатого из пионеров, того, кто внес больше всех средств на снаряжение похода. А Эдди всего лишь скромный первопроходец, охотник и добытчик. В первый же вечер у костра собираются члены богатых семей. Они обсуждают план похода. Вперед выходит Эдди. Он говорит, что его беспокоит маршрут, да и поздновато они выступили. На него машут руками, и он возвращается в свой убогий фургон в самом хвосте каравана.
Первая часть – это постоянное действие. Несчастья валятся одно за другим. Погода ужасная, колеса у фургонов постоянно ломаются. Среди пионеров есть немецкий эмигрант, Кесеберг, который уговорил пожилую чету ехать в его фургоне, а по дороге ограбил и выкинул вон. Старики вынуждены идти пешком. Эдди берет их к себе.
Караван прибывает в Юту на месяц позже, чем планировалось. Люди измотаны. Ночью к лагерю подкрадываются индейцы и уводят часть скота. Эдди – отличный охотник, лучший в этом походе, и потому на него возлагают обязанность добывать пропитание. Но удача отвернулась от экспедиции. Погода становится все хуже. Они пересекают соляную пустыню. Теперь уже всем ясно, что маршрут выбран неудачно. Мы видим, как падает истощенный скот, как фургоны растянулись на целую милю, как усталые люди и лошади бредут по сухой растрескавшейся земле, ничего не замечая вокруг. Начинаются распри, и только Эдди по-прежнему спокоен и добродушен. Он изо всех сил помогает другим семьям, старается облегчить их страдания.
Экспедиция добирается до Невады лишь в октябре. Никто еще не пытался перевалить через горы так поздно. Снег обычно выпадает в середине ноября, время пройти через Сьерра-Неваду еще есть. Осталось найти тропу у горы Васач – и они в Калифорнии. Но надо спешить. Караван двигается без остановок день и ночь в надежде успеть до первого снега.
Теперь мы летим сквозь облака. Но не белые пушистые облачка, которыми каждый рад полюбоваться. Нет, это свинцовые тучи, несущие горе и смерть. Жуткие, как акула из фильма «Челюсти». Камера следует за одной из снежинок. Мы смотрим, как она падает, как рядом с ней кружатся другие. Большие, тяжелые хлопья. Снегопад. Та самая, первая снежинка падает на руку Эдди. Наш герой грязен и небрит. Он знает, что его ждет. Эдди смотрит в небо.
Они опоздали. Снег выпал на месяц раньше срока. Экспедиция Доннера уже забралась далеко в горы. Начинается пурга. Идти почти невозможно, видимость нулевая. Наконец караван спускается в ущелье. Вот он, перед ними, тот самый проход, узкая тропа меж нависающих скал. Так близко! Но лошади вязнут в снегу по грудь. Фургоны переворачиваются. С той стороны перевала – Калифорния. Тепло. Безопасность. Но они опоздали. Зимой через эти горы пройти нельзя. Экспедиция застряла в ущелье между двух хребтов. Ни вперед, ни назад дороги нет. Ловушка захлопнулась.
Караван оказался разделенным на две части. Основная часть, а с ней и фургон Эдди, застряла ближе к выходу, у небольшого озера. Группа Доннера – в двух милях позади. Девяносто человек выбиваются из сил, возводя укрытия: три хижины у озера и две в начале ущелья. Эдди строит хибару для жены и детей, натягивает вместо крыши шкуры. И приглашает к себе другие семьи. Снег продолжает валить. Еды не хватает, нужно экономить. До конца зимы они здесь не протянут. Начинается буран, и, когда люди с утра выходят на улицу, скота уже нет, его завалило снегом. Эдди с товарищами тщетно пытаются палками нащупать туши коров. В хижинах горят костры, снег под ними тает, и вскоре все постройки оказываются в ямах. Приходится вырубать ступени в шестиметровых снежных стенах. Над белой гладью поднимается лишь дым от костров. Время тянется невыносимо медленно. Через два месяца запасы еды подходят к концу. Люди надеются на охотников, но никому не удается подстрелить дичь, кроме…
Эдди. Он совсем ослабел от голода и холода, и все же каждый день храбрый парень уходит в горы и возвращается с кроликом или даже оленем. Прежде богатые семьи отказывались делиться с ним едой. Теперь Эдди добывает мясо для всех. Но звери уходят все дальше на запад, спускаются с гор, туда, где тепло. Дичи становится меньше с каждым днем. Как-то раз Эдди отправляется на охоту и видит следы. Он долго преследует добычу. Наконец Эдди настигает зверя. Это медведь. Эдди поднимает ружье… руки не слушаются. Он стреляет. Попал! Раненый медведь бросается на охотника. Перезаряжать ружье нет времени. Полумертвый от голода и усталости Эдди забивает зверя прикладом.
Он тащит медвежью тушу в охваченный отчаяньем лагерь. «Надо послать группу вперед», – повторяет Эдди. Сил на такое предприятие ни у кого, кроме Эдди, не осталось, но и он боится бросить в ущелье семью. Дичь ушла, каждый день бушуют метели. Эдди говорит со своей женой. В начале фильма мы видим лишь молчаливую, хлебнувшую горя на своем веку женщину. Сейчас она глубоко вздыхает и решительно произносит: «Вильям, ты должен собрать тех, кто еще может ходить, и вывести их отсюда. Найди людей и приведи помощь». Эдди возражает, но жена продолжает настаивать: «Прошу тебя! Ради наших детей». Что же делать? Неужели единственный способ спасти любимых – это оставить их здесь, а самому идти вперед?
Всех лошадей, мулов и даже собак колонисты уже съели. Теперь суп варят из седел, старых одеял и кожаных шнурков. Из чего угодно, лишь бы у талой воды появились вкус и запах. В доме Эдди осталось всего несколько кусочков медвежьего мяса. Выбора нет. Эдди собирает добровольцев. Только семнадцать человек готовы отправиться с ним: двенадцать мужчин и мальчишек, пять женщин. Они мастерят из веток и веревок снегоступы и пускаются в путь. Два мальчика сразу поворачивают назад, снег для них слишком глубокий. Даже в снегоступах при каждом шаге люди проваливаются на метр.
Пятнадцать человек сражаются с природой. Два дня уходит лишь на то, чтобы добраться до расщелины. Эдди развязывает мешок на одном из привалов, и сердце у него обрывается. Жена собрала ему в дорогу остатки медвежатины. Пожертвовала собой ради него. Эдди плачет. Он оглядывается и видит дым, поднимающийся над его хижиной.
Неужели единственный способ спасти любимых – это оставить их здесь, а самому идти вперед?
Они продолжают путь. Много дней отряд пробирается по заснеженным тропам, карабкается в горы и спускается по склонам. Налетают бураны. Людям приходится остановиться, снег залепляет глаза. На то, чтобы пройти километр, уходит несколько дней. Кусочков медвежьего мяса надолго не хватает. Люди слабеют от голода. Один из них, Фостер, предлагает пожертвовать кем-нибудь ради спасения остальных. Он предлагает тянуть жребий. Эдди возражает. У каждого человека должен быть шанс. Уж лучше выбрать двоих мужчин, и пусть они дерутся, пока один не убьет другого. Эдди вызывается быть первым. Никто не поднимается с места – нет сил. Наутро просыпаются только тринадцать человек: умирают старик и мальчик. Выбирать не приходится. Путники разводят костер и жарят мясо погибших.
Но мы не показываем подробностей. Это всего лишь… часть трагедии. Люди связывают экспедицию Доннера с каннибализмом. Но те, что спаслись, рассказывали потом, что куда страшнее были голод и отчаянье. Отряд идет вперед много дней. Эдди старается подбодрить товарищей. Умирают еще несколько человек, их тоже съедают. В живых остаются все пять женщин и только четверо мужчин. Двое индейцев и двое белых – Эдди и Фостер. Фостер предлагает застрелить краснокожих и съесть их. Но Эдди против. Он предупреждает индейцев, и те успевают скрыться. Фостер в ярости бросается на Эдди, их разнимают женщины.
Почему мужчины умирают, а женщины остаются жить? У женщин больше подкожного жира, а вес меньше, и пробираться по снегу им легче. Злая шутка судьбы: мужчин убивают мускулы.
Отряд в пути уже восемнадцать дней. Восемнадцать дней они пробираются через горы, ледяные иглы впиваются в щеки. Наконец отряд спускается туда, где снега нет. Семь скелетов идут по лесу. Они видят оленя, но у Эдди нет сил поднять ружье. И все же он целится, стреляет… и промахивается. Эдди бросает ружье на землю. Люди жуют траву, как коровы. А потом Эдди замечает дымок. Индейская деревня. Его спутники уже не могут встать с земли, и Эдди бредет в деревню один.
Вы помните, что золотая лихорадка началась в сорок девятом? До этого в Калифорнии людей почти не было. На месте нынешнего Сан-Франциско стоял городок Эрба-Буено, в нем жили несколько сотен человек.
Камера показывает ранчо у подножия гор. Рядом журчит ручей, кое-где еще видны проплешины снега. Камера отъезжает все дальше, и мы видим, что на много километров вокруг нет жилья. Где-то там, в углу экрана, двое индейцев поддерживают изможденного человека. Камера снова придвигается, и мы видим костлявую фигуру, свалявшуюся бороду, грязные лохмотья, босые ноги. Этот человек…
Вильям Эдди! Ему дают воды. Немного муки, большего его желудку не вынести. Из глаз Эдди катятся слезы.
– Еще шестеро остались в индейской деревне, – шепчет он.
За ними отправляется отряд. Эдди вывел из гор Форстера и пять женщин. Восемь человек погибли в пути. Эдди рассказывает фермерам о тех, кто остался в горах. Он смог! Он дошел!
Но это еще не конец. Первая часть – путь в горы, вторая – путь из ущелья к людям. И наконец, третья – спасательная экспедиция. Семьдесят человек в горах ожидают помощи. Отряд из сорока кавалеристов отправляется на поиски. Возглавляет экспедицию самовлюбленный полковник Вудворт.
Эдди и Фостер не могут пойти с ними, они еще слишком слабы.
Эдди просыпается и видит, как мимо окна едут всадники. Десятки человек.
Несколько дней Эдди мечется в лихорадке. Наконец он приходит в себя. Его первый вопрос: что с остальными. Хозяин дома говорит, что полковник Вудворт остановился в двух днях пути отсюда, пережидает снежную бурю.
Семеро солдат сумели-таки прорваться через перевал. Сами чуть не погибли. Вывели они только двенадцать человек: снег оказался слишком глубоким, да и колонисты совсем ослабели. Некоторые из них умерли в пути.
Эдди долго молчит.
– Что с моей семьей?
Хозяин опускает голову.
Когда солдаты добрались до ущелья, жена и дочь Эдди были уже мертвы. Сынишка выжил, но взять его с собой не вышло: слишком он мал, чтобы идти по снегу.
Эдди садится на постели. Он должен идти. Сын Фостера тоже остался в лагере. Враги заключают перемирие и договариваются отправиться в горы вместе.
Они находят лагерь спасательной экспедиции. Вудворт говорит, что весенние бури очень опасны и его люди с места не сдвинутся. Но Эдди не готов сдаться. Он предлагает двадцать долларов за каждого вынесенного из ущелья ребенка. Несколько солдат соглашаются, и отряд пускается в путь. Они чуть не погибают в горах. Наконец Эдди, Фостер и несколько уцелевших солдат, едва передвигая ноги, добираются до ущелья. Страшное зрелище! На снегу валяются разделанные тела. Куски плоти свисают с крюков, как связки сосисок в мясной лавке. И запах! И отчаянье! Оставшиеся в живых утратили человеческий облик. Эдди едва находит в себе силы зайти в хижину, которую построил в начале зимы. В ней жила его семья, и семья Фостера тоже.
Сын Фостера жив! Отец плачет, прижимая ребенка к груди. Но Эдди опоздал. Его мальчик умер несколько дней назад. Тела нигде нет. Вильям Эдди потерял всю семью. Он в ярости бросается на Кесеберга, который выжил лишь потому, что ел трупы детей. Кесеберг падает. Он уже не человек, он просто животное. Да он и не был никогда человеком. Эдди поднимает руку… и опускает ее. Он не может убить.
Эдди лежит на снегу и смотрит в небо – небо, с которого упала та самая, первая снежинка. Фостер склоняется над Кесебергом. Раз Эдди не может убить эту тварь, Фостер все сделает сам.
– Оставь его, – раздается голос убитого горем Эдди. Он знает, что зверь притаился в каждом из нас, что все мы можем в него превратиться. – Пусть живет, – говорит Эдди.
Вильям Эдди просто выжил. Он смотрит на горы. Человек не вправе рассчитывать на большее. Только на то, чтобы выжить. Перед лицом истории, страданий, смерти мы осознаем, сколь мы беспомощны и сколь самоуверенны. Наш удел – корчиться, укрываясь от ветра, умирать от голода, бороться со зверем в себе. Это и есть жизнь.
Люди благородны. Они выступают против природы и судьбы во имя семьи, любви, во имя человеческого достоинства. Но их усилия тщетны, победить природу нельзя. Любовь – это победа человека над его звериной сущностью. Мы любим. Мы боремся. И погибаем в одиночку.
На экране двести лет пролетают за десять секунд. Появляются поезда, потом дома, машины едут через тот же самый перевал. Когда-то непроходимый отрезок пути становится частью автострады. Дорога через горы теперь занимает час, а о людях, погибших в этом ущелье, мы не вспоминаем. А потом камера, слегка отодвигаясь, показывает нам лес, и становится понятно: нет, ничего не изменилось. Вот те же деревья, та же гора, то же непроницаемое, жестокое лицо природы. Лицо смерти.
Шоссе пропадает так же быстро, как и появляется. Это был всего лишь мираж, бред угасающего разума. Мы снова видим перевал. 1847 год. Здесь тихо, как в могиле. Закат. Вильям Эдди уезжает из гор. Один.
8. Гранд-Отель
Апрель 1962
Рим, Италия
Паскаль так и не смог уснуть в маленьком, но очень дорогом albergo — гостинице у вокзала. Непонятно, как люди отдыхают в этих римских гостиницах. Такой шум кругом! Юноша встал пораньше, оделся, повязал галстук, выпил кофе и поехал на такси в Гранд-Отель, туда, где жила американская съемочная группа. На ступенях Испанской лестницы Паскаль выкурил сигарету – тянул время. На улицах торговцы уже расставляли на столиках цветы, вокруг сновали туристы – на шеях фотоаппараты, в руках свернутые карты города. Паскаль сверился с запиской, которую отдал ему Оренцио, и тихонько повторил про себя имя, чтобы ничего не напутать.
«Мне нужен… Майкл Дин. Майкл Дин. Майкл Дин».
Внутри Гранд-Отеля Паскалю бывать не доводилось. Он потянул на себя тяжелую красную дверь и оказался в роскошном вестибюле: мраморные полы, цветочные фрески на потолке, хрустальные люстры, витражи с изображениями святых, птичек и свирепых львов. Паскаль в жизни такого не видел. Хотелось все внимательно рассмотреть, но на это уйдет уйма времени, и Паскаль заставил себя не пялиться, разинув рот. Ему нужно найти подлого Майкла Дина. У него серьезное, важное дело. В вестибюле толпился народ, туристы и итальянцы-бизнесмены в темных костюмах и темных очках. Звезд вроде было не видно, хотя Паскаль все равно бы их не узнал. Юноша прислонился спиной к мраморному льву, но у зверюги оказалось настолько человеческое, и весьма свирепое к тому же, выражение лица, что Паскалю стало не по себе, и он двинулся к стойке.
Сняв шляпу, Паскаль передал клерку записку с именем Майкла Дина. Он уже открыл было рот, чтобы произнести вызубренную фразу, но клерк показал на роскошную дверь в конце холла:
– Вам туда.
Паскаль увидел извивающийся хвост очереди.
– У меня дело к этому человеку, – сказал юноша. – Он там?
Клерк снова махнул на дверь:
– Вам туда.
Паскаль встал в конец очереди. Интересно, тут все к Майклу Дину? Может, у него в каждой деревушке Италии по больной актрисе спрятано? Впереди стояла красивая длинноногая девушка, каштановые волосы струились по шелку облегающего платья. На вид ей было года двадцать два – двадцать три, ровесница Паскаля. Она крутила незажженную сигарету.
– У вас огоньку не найдется? – спросила она.
Паскаль чиркнул спичкой, девушка прикурила и сделала глубокую затяжку.
– Я так нервничаю! Если не покурю, придется пирог целиком слопать, чтобы успокоиться. Буду толстая, как моя сестра, и тогда меня точно не наймут.
Паскаль заглянул ей через плечо. Впереди был великолепный бальный зал с золочеными колоннами по углам.
– А куда все стоят? – спросил он.
– Другого пути нет. Можно, конечно, прийти на студию или где уж они там в этот день снимают. Но все равно потом окажешься здесь. Такужлучше сразу сюда. Нет, вы все правильно сделали.
– Я ищу одного человека, – сказал Паскаль и протянул девушке записку с именем Дина.
Она взглянула на его листок и показал ему свой, с другим именем.
– Да это неважно, – ответила девушка. – Все равно все очереди в конце концов сходятся в одном месте.
За Паскалем уже выстроились другие люди. Очередь проходила мимо столика, за которым сидели мужчина и женщина со списками. Может, мужчина – это и есть Майкл Дин? Парочка задавала каждому несколько вопросов. Потом люди либо возвращались туда, откуда пришли, либо вставали в углу, либо переходили в очередь у противоположной двери, ведущей, кажется, на улицу.
Девушку перед ним спросили, сколько ей лет, откуда она, говорит ли по-английски. Оказалось, она из Терни, ей девятнадцать и по-английски она говорит molto хорошо.
– Малыш, малыш! Я тебья люблу, малыш! – На английский как-то было непохоже.
Ее отправили стоять в углу. Паскаль обратил внимание, что туда отправляли только симпатичных девушек. Все остальные возвращались или уходили в другую дверь. Юноша протянул мужчине за столиком записку с именем Майкла Дина, тот ее сразу же вернул.
– Это вы Майкл Дин? – спросил Паскаль.
– Ваши документы, – попросил мужчина по-итальянски.
Юноша протянул документы.
– Я ищу этого человека, Майкла Дина.
Мужчина пролистал листы со столбцами имен и вписал имя Паскаля самым последним.
– Опыт у вас есть?
– Что?
– Снимались когда-нибудь?
– Я не актер. Я ищу Майкла Дина.
– По-английски говорите?
– Да, – ответил Паскаль по-английски же.
– Скажите что-нибудь.
– Здравствуйте. Как поживаете?
Мужчина заинтересовался.
– Скажите что-нибудь смешное.
Паскаль секунду подумал и произнес:
– Я спросил ее… любит она его. Она сказала да. Я спросил тоже… любит ли он. Она сказала, да, он любит себя.
Мужчина не улыбнулся, но протянул Паскалю его документы и еще какую-то карточку с номером 5410 и указал на дверь в противоположном конце зала, ту, куда уходили все, кроме красивых девушек.
– Садитесь в четвертый автобус.
– Да нет же, я ищу…
Мужчина уже повернулся к следующему в очереди.
Паскаль вышел и сел в четвертый автобус, полный мужчин в возрасте от двадцати до сорока лет. Через несколько минут в соседний автобус, поменьше, загрузились красивые девушки. В его автобус вошли еще несколько человек, дверцы со скрипом закрылись, и кавалькада тронулась. Их привезли в центр города – Паскаль здесь совсем не ориентировался. Все высыпали на улицу.
Они прошли по переулку к воротам, на которых была надпись «Центурионы». Как и следовало ожидать, внутри было полно людей, одетых центурионами. Они курили, жевали бутерброды, читали газеты и болтали. Сотни людей с копьями и в доспехах, но с часами и в фетровых шляпах. Камер и съемочной группы было не видать.
Чувствуя себя ужасно глупо, Паскаль встал в длинную очередь за костюмами: в небольшом здании с каждого снимали мерку и подгоняли одежду.
– А тут какие-нибудь представители кинокомпании есть? – спросил юноша у соседа.
– Нету. В этом вся прелесть. – Мужчина показал Паскалю пять номерков. – Я просто каждый раз снова в очередь встаю. И эти идиоты каждый раз мне платят. Даже костюма не беру. С ума сойти, как все просто. – Он подмигнул юноше.
– Но мне-то сюда зачем?
– Да не волнуйся ты. Тебя не поймают. – Мужчина засмеялся. – Сегодня все равно съемок не будет. Дождь пойдет, или свет кому-нибудь не понравится, или к нам выйдут и скажут, что миссис Тейлор снова заболела, и всех отправят по домам. Они снимают раз в пять дней, не чаще. Пока шли дожди, одному моему приятелю удавалось шесть раз за день оплату получить. Только за то, что он сюда являлся. Сюда и на все дополнительные площадки. В конце концов до них дошло и его вышибли. И знаешь, что он сделал? Украл камеру и продал ее каким-то жуликам, а те продали ее обратно американцам за двойную цену. Говорю тебе, они дебилы!
Очередь продвигалась вперед. Вдоль нее шли мужчина в твидовом костюме и женщина с блокнотом. Мужчина говорил по-английски отрывисто и сердито, а женщина записывала его указания и кивала. Иногда кого-то вытаскивали из очереди, и они, довольные, уходили. Мужчина подошел к Паскалю и наклонился так близко, что юноше пришлось отступить.
– Сколько лет?
Паскаль не стал дожидаться, пока женщина переведет, и ответил по-английски:
– Мне двадцать два года.
Мужчина схватил Паскаля за подбородок и повернул к себе, чтобы заглянуть юноше в лицо.
– Э, приятель, а чего это у тебя глаза голубые?
– Моя мать из Лигурии. Там это часто.
Мужчина повернулся к переводчице:
– Раб? – И снова к Паскалю: – Хочешь быть рабом? Им платят лучше. И съемочных дней больше будет. – Паскаль не успел ответить. – Пошлите его к рабам, – велел переводчице человек в твидовом костюме.
– Нет, – сказал Паскаль, – подождите! – Он вынул из кармана бумажку и протянул ее мужчине: – Я просто искать Майкл Дин. В моем отеле американка. Ди Морей.
– Что ты сказал?
– Я искать…
– Ты сказал, Ди Морей?
– Да. В моем отеле. Поэтому я искать этот Майкл Дин. Она его ждала, а он не приходит. Она очень больна.
Мужчина перечитал записку и посмотрел на переводчицу.
– Господи помилуй! А я слышал, что она уехала в Швейцарию лечиться.
– Нет, она приехала мой отель.
– Вот черт! А тут-то ты что забыл? Тут же массовку набирают!
Его отвезли на машине обратно в Гранд-Отель. Паскаль сидел в вестибюле и смотрел, как свет играет на гранях хрустальных люстр. По большой лестнице у него за спиной постоянно кто-то спускался, причем с таким видом, будто ждал аплодисментов. Тренькали двери лифтов, но за Паскалем никто не шел. Юноша курил и ждал. Ему хотелось вернуться в бальный зал и спросить, не знают ли они, где Майкл Дин, но он не решался: а вдруг его опять в автобус затолкают?
Прошло двадцать минут. И еще двадцать. Наконец к нему подошла красивая девушка. Вот в красивых девушках тут точно недостатка не было.
– Мистер Турси?
– Да, это я.
– Мистер Дин просит извинить его за то, что вам пришлось так долго ждать. Пожалуйста, пойдемте со мной.
Они вошли в лифт, и лифтер поднял их на четвертый этаж. Тут было светло и просторно. Паскалю стало ужасно стыдно. Ди Морей жила здесь, а потом поселилась в его pensione, где места для лестницы не хватило, и потому ее просто встроили в скалу. Создавалось впечатление, что пещерный свод поедает потолок, да и вообще всю гостиницу сейчас поглотит.
Девушка привела Паскаля в апартаменты, двери в анфиладе комнат были распахнуты настежь. Людей было полно, и все ужасно заняты: каждый что-то кричал в телефонную трубку, или печатал на машинке, или просто писал. Как будто тут торговая фирма обустроилась. В одной из комнат стоял стол с едой, и милые итальянские девушки разносили кофе. Одну из них он точно видел в очереди, но она на юношу не посмотрела, нарочно отвернулась.
Паскаля провели через все апартаменты и вывели на балкон, выходивший на церковь Святой Троицы. Юноша снова вспомнил, как Ди Морей восхищалась видом из окна. Стыд-то какой!
– Прошу вас, садитесь. Майкл сейчас выйдет.
Паскаль сел на железный стул с завитушками. За его спиной стучали клавиши пишущих машинок и раздавались голоса. Он курил и ждал. Прошло сорок минут. Потом красивая девушка вернулась. Или это была другая?
– Еще пару минут. Хотите воды?
– Да, спасибо, – ответил Паскаль.
Но воды так и не принесли. Было уже начало второго. С тех пор как Паскаль приступил к поискам Майкла Дина, прошло три часа. Ужасно хотелось есть и пить.
Еще через двадцать минут женщина вернулась:
– Майкл ждет вас внизу в холле.
Паскаль встал. Его уже трясло, то ли от голода, то ли от злости. Он прошел за девушкой через анфиладу комнат, снова по коридору, в лифт и обратно в вестибюль. И там, на том же самом, уже ставшем родным Паскалю диванчике сидел мужчина, нет, скорее юноша, его ровесник, совсем молодой человек. Паскаль думал увидеть кого-то постарше. Бледный, с редкими каштаново-рыжими волосами. Майкл Дин увлеченно жевал ноготь на большом пальце. Он был не красавец: довольно привлекательный, но какой-то выцветший. И его ждала сама Ди Морей! А может, подумал Паскаль, на свете просто нет человека, достойного такой девушки.
– Мистер Турси! – Американец встал и протянул руку: – Меня зовут Майкл Дин. Я так понял, вы приехали поговорить о Ди.
И тут Паскаль совершил поступок, который изумил даже его самого. Такого он не выкидывал с тех пор, как ему было семнадцать лет. Тогда брат Оренцио смеялся над ним, говорил, что он не мужчина. Паскаль шагнул вперед и со всей силы ударил Майкла Дина. Почему-то в грудь. Никогда он никого не бил в грудь и никогда не видел, чтобы это делали другие. Кулаку было очень больно. Удар вышел громким, Майкл откинулся на диванчик, точно жук, перевернутый на спину. Упал и скрючился.
Паскаль стоял над поверженным противником, трясся и думал: ну вставай же! Вставай и дай мне сдачи. Я хочу с тобой драться. Гнев уже прошел. Юноша оглянулся. Никто ничего не заметил. Всем, наверное, показалось, что Майкл просто снова сел на свое место. Паскаль отступил на шаг.
Отдышавшись, Дин распрямился, поднял голову и сказал:
– Черт! Больно! – Он откашлялся. – Вы, наверное, думаете, что я это заслужил.
– Зачем вы ее одну оставить? Она боится. И больна.
– Да знаю я, знаю. Слушайте, мне очень жаль, что так все вышло, – Дин снова закашлялся, потер грудь и испуганно оглянулся. – Может, на улице поговорим?
Паскаль пожал плечами. Они вышли из вестибюля и спустились по ступеням Испанской лестницы.
– Только больше не драться, ладно?
Паскаль был согласен больше не драться. На площади во всю глотку вопили продавцы цветов. Юноша еле успевал от них отмахиваться.
Майкл Дин все потирал грудь.
– По-моему, что-то там хрустнуло.
– Dispiace, – сказал Паскаль, хотя совсем не раскаивался.
– Как Ди?
– Она больна. Я привозил доктор из Ла-Специя.
– И что, он ее осмотрел?
– Да.
– Понятно. – Майкл мрачно кивнул и снова принялся за ноготь. – Легко догадаться, что он вам сказал.
– Он спрашивал ее доктор. Поговорить.
– Он хочет поговорить с доктором Крейном?
– Да. – Паскаль попытался припомнить точные слова доктора, но решил, что перевести все равно не сможет.
– Слушайте, доктор Крейн тут ни при чем. Это все я придумал. – Майкл отступил, ожидая нового удара. – Он просто объяснил ей, что такие симптомы встречаются при раке желудка. И это чистая правда.
Паскаль не очень его понял.
– Теперь вы приедете забрать ее?
Майкл Дин оглядел площадь:
– Знаете, что мне тут больше всего нравится, мистер Турси?
Паскаль взглянул на Испанскую лестницу, поднимающуюся к церкви Святой Троицы. На ближайшей к ним ступеньке сидела девушка в юбке до колен и читала книжку Парень рядом с ней рисовал в блокноте. Таких тут было много – все читали, фотографировали или разговаривали, преимущественно о любви.
– Мне нравится эгоцентризм итальянцев, – продолжил Майкл. – Они не боятся просить то, что им нужно. Американцы не такие. Мы все время ходим вокруг да около. Говорим намеками. Вы меня понимаете?
Паскаль не понимал, но признаваться в этом ему не хотелось, поэтому он кивнул.
– Нам с вами надо объясниться. Я в тяжелом положении, а вы, очевидно, можете мне помочь.
Паскалю трудно было сосредоточиться на этой абракадабре. И что только Ди в нем нашла?
Они подошли к центру площади, к «фонтану старой лодки», la Fontana Della Barcaccia. Майкл Дин прислонился к каменной чаше.
– Вы знаете что-нибудь об этом фонтане?
Паскаль посмотрел на бегущие струи воды.
– Нет.
– Он не такой, как остальные фонтаны. Они – серьезные произведения искусства, а этот – пародия, шутка. Потому-то я его и люблю. Вы меня понимаете, мистер Турси?
Паскаль растерянно молчал.
– Когда-то давно, во время наводнения, река подняла лодку и бросила ее вот здесь, на месте фонтана. Художник пытался передать непредсказуемость стихии. Он хотел сказать, что иногда объяснения нет. Лодка посреди улицы. Это странно, конечно, но теперь уж ничего не поделать, лодку надо обходить. Вот и я тут примерно в таком же положении.
О чем он вообще? Паскаль ничего не понимал.
– Вы, наверное, думаете, что я обошелся с Ди жестоко. Не спорю, в каком-то смысле так оно и есть. Мне надо справиться со всеми проблемами, с каждой по очереди. – Майкл Дин достал из кармана конверт и протянул его Паскалю: – Половина ей. Вторая половина вам. За все, что вы сделали для нее, и что, я надеюсь, еще сделаете для меня. – Он похлопал Паскаля по руке. – Хоть вы меня и ударили, мне хотелось бы считать вас другом, мистер Турси. Я обращаюсь к вам, как к другу. Но если я узнаю, что вы отдали ей меньше половины или что вы кому-то проболтались о нашем разговоре, я тут же изменю свое отношение. И вам это не понравится.
Паскаль отдернул руку. И этот гад смеет обвинять его в бесчестии? Он вспомнил слова Ди и угрожающе произнес:
– Пожалуйста, я доверительно!
– Отлично! – Дин испуганно поднял руки и прищурился. – Хотите говорить доверительно? Извольте. Меня послали сюда, чтобы спасти фильм от неминуемой смерти. В этом состоит моя работа. Мораль тут ни при чем. Эта работа не плохая и не хорошая. Просто такая работа – убирать лодки с улиц. – Он отвернулся. – Разумеется, ваш врач прав. Мы обманули Ди, чтобы отослать ее из Рима. Мне нечем гордиться. Пожалуйста, скажите ей, что доктору Крейну не следовало выбирать такую болезнь. Он не хотел ее пугать. Вы же знаете этих врачей, у них у всех холодный аналитический ум. Он выбрал рак желудка, поскольку симптомы совпадают с симптомами ранней беременности. Но мы думали, это всего на пару дней. Потому-то она и должна была поехать в Швейцарию. Там ее ждет врач, специализирующийся на нежелательной беременности. Он умеет держать язык за зубами.
Паскаль едва поспевал за его речью. Значит, это правда. Она беременна.
Майкл испугался его взгляда.
– Послушайте, передайте ей, мне очень жаль. Скажите ей, – он погладил конверт с деньгами, – что жизнь иногда выкидывает странные фокусы. Мне правда жаль! Ей надо ехать в Швейцарию. Там обо всем позаботятся. Счет уже оплачен.
Паскаль посмотрел на конверт с деньгами.
– Да, и вот еще что. – Дин достал из кармана пиджака три маленькие фотографии. Кажется, снимки сделали на съемочной площадке: на заднем плане одного из них виднелись камеры. Карточки были совсем маленькие, но на каждой из них Паскаль разглядел Ди Морей. На ней было белое струящееся платье. Очень красивая темноволосая актриса стояла в центре снимка, и рядом еще две женщины, одна из них – Ди. На самой удачной фотографии Ди Морей и эта брюнетка хохотали, запрокинув головы. – Мы эти снимки делаем перед съемкой, надо же убедиться, что кадр правильно построен. Что костюмы и прически в порядке… ни на ком нет часов. Ди, наверное, будет рада их получить.
Паскаль вгляделся в верхнюю карточку. Ди держала темноволосую актрису за руку, и они так искренне смеялись! Он бы многое отдал за то, чтобы узнать, что же там смешного случилось. Может, она хохочет над той же самой шуткой, про мужчину, который любит, но себя.
– У нее интересное лицо, – сказал Майкл. – Ей-богу, я сперва этого не разглядел. Думал, Манкевич совсем с ума сошел, выбрал блондинку на роль египетской служанки! Но в ней что-то есть… Я не про сиськи сейчас говорю. Какая-то естественность. Она настоящая актриса, уж поверьте мне. – Дин покачал головой. – Сцены с Ди придется переснять. Их немного. Столько было проволочек, потом дожди, потом Лиз заболела, потом Ди. Когда я сажал ее в поезд, она сказала, что ей очень грустно: ведь теперь никто не узнает, что она снималась в этом фильме. И я подумал, надо ей фотографии передать. Майкл пожал плечами: – Конечно, тогда она думала, что умирает…
Это слово, «умирает», повисло в воздухе.
– Знаете, я почему-то уверен был: вот она мне как-нибудь позвонит и мы вместе над всем посмеемся. Такая у нас будет смешная история на двоих, и, может, даже мы… – Он замолчал и устало улыбнулся. – Нет. Она будет жаждать моей крови. Пожалуйста, скажите ей… если она не будет упрямиться… как только все закончится, пусть она мне позвонит, и я найду ей работу в других фильмах. Какие угодно роли, пусть сама выбирает! Скажете ей? Пусть только вернется в Штаты, и я сделаю из нее великую актрису.
Паскаля аж мутило от ненависти. Он с трудом сдерживался, ему хотелось снова стукнуть Майкла Дина. Это кем же надо быть, чтобы бросить беременную женщину?! И вдруг до него дошло. Осознание нахлынуло, затопив с головой, он даже вдохнуть не смог. Паскалю показалось, будто его ударили под дых.
«Я осуждаю его за то, что он бросил беременную женщину. А мой сын вырастет, считая собственную мать своей сестрой».
Паскаль покраснел. Он вспомнил бункер и как объяснял Ди Морей, что в жизни все непросто. Да нет же! Очень даже просто! Есть мужчины, которые бегут от ответственности. Такие, как он сам и Майкл Дин. Не имеет он права бить этого гада. Тогда уж лучше себя ударить. Паскалю стало противно: надо же, какая он двуличная тварь!
– Такова жизнь, – сказал Майкл Дин, не дождавшись ответа, и посмотрел на Fontana Della Barcaccia.
И он ушел, растворился в толпе, оставив Паскаля одного. Юноша открыл конверт. Там было много денег, столько он никогда не видел. Доллары для Ди. Лиры для Паскаля.
Паскаль положил фотографии в конверт и огляделся. День подходил к концу. На ступенях все так же лениво сидели туристы и парочки, но на площади римляне спешили по делам, каждый по своей траектории. Тысяча пуль, выпущенных из тысячи стволов. Всем этим людям казалось, что они поступают правильно… столько историй, столько предательства, столько зла! «Такова жизнь». Вот она, эта жизнь, клубится вокруг него. Туристы курят, фотографируют, болтают. Паскалю показалось, что он сейчас окаменеет да так и останется стоять посреди площади, рядом с лодкой. Люди будут показывать пальцем на статую юноши, который приехал из деревни, чтобы поговорить с американцами, снимающими кино. Юноши, окаменевшего от сознания собственной гнусности.
А Ди?! Что он ей скажет? Как он сможет осуждать эту подлую змею, Майкла Дина, когда он и сам – подлая змея? Паскаль застонал.
Кто-то тронул его за плечо. Какая-то женщина. Переводчица со съемок.
– Вы знаете, где Ди? – спросила она по-итальянски.
– Да, – ответил Паскаль.
Женщина оглянулась и сжала его руку:
– Пожалуйста, пойдемте со мной. Один человек очень хочет с вами поговорить.
9. Комната
Наши дни
Студия «Юниверсал», штат Калифорния
Комната – это вся вселенная. За ее стенами ничего нет. Ваши слушатели не могут покинуть Комнату, как не могут они по собственной воле остановить оргазм. Они должны вас выслушать. Существует только эта Комната.
В великих романах читатель обретает новую Истину. Великие фильмы эту Истину меняют к лучшему. Где вы видели Истину, которая собрала бы сорок миллионов в первые выходные проката? Разве станут сорок стран покупать Истину на фестивале в Каннах? Кто будет стоять в очереди за билетами на сиквел Истины?
Если ваша история делает Истину лучше, вы обязательно убедите слушателей. Продайте свою историю, и с вами заключат Договор. Заключите Договор, и весь мир будет ждать вас в постели, точно дрожащая невеста.
«Путь Дина. Как я продал Америке современный Голливуд и как добиться успеха сценаристу».
Майкл Дин. Глава 14.Шейн чувствует то самое возбуждение, о котором писал Дин. Они хотят делать «Доннер!». Словно Майкл Дин – это учитель Йода, а ему только что удалось поднять корабль в воздух. Да он теперь горы свернет! Вот бы Сандра это видела, или родители. Сначала он, конечно, нервничал, но ему все удалось.
Комната, как ей и положено, притихла. Шейн ждет. Первым заговаривает старый Паскаль. Он хлопает молодого человека по руке и произносит:
– Penso che è andato molto bene. По-моему, все прошло хорошо.
– Grazie, сеньор Турси.
Шейн оглядывается. Лицо Майкла Дина совершенно непроницаемо. Интересно, а какое-нибудь человеческое выражение на нем вообще бывает? Кажется, Дин глубоко задумался: морщинистые руки подпирают гладкий подбородок. Похоже, у Дина одна бровь выше другой. Или это косметические операции виноваты?
У Клэр Сильвер выражение очень странное. То ли она улыбается (ура, ей понравилось), то ли скривилась (какой кошмар, ей не понравилось). Хотя, на взгляд Майкла, ей одновременно и грустно, и смешно.
Все молчат. Шейн уже начинает думать, что он ошибся. Снова погружается в депрессию. Но тут Клэр неожиданно издает забавный звук: гудит, как маленький моторчик.
– Каннибалы! – говорит она, и ее переклинивает. Она хохочет, икая и давясь, и машет Шейну рукой: – Простите! Дело не в… Просто… – Все, на большее ее не хватает. – Простите, – еще раз начинает она, немного отдышавшись. – Я… – Но ее скручивает следующий приступ хохота. – Я три года ждала! Все мямлят и нудят. Ни одной убедительной речи. Дождалась. Говорили вы классно. И про что фильм? Про ковбоя, – она зажимает рот рукой, чтобы снова не рассмеяться, – которого съел толстый немец. – Клэр складывается пополам.
– Он не ковбой. – Шейн прямо чувствует, как уменьшается в размерах, усыхает, умирает. – И акты каннибализма мы показывать не будем.
– Да-да, конечно, извините. – Клэр зажмуривается и все равно продолжает неприлично ржать.
Продюсер задумчиво смотрит вдаль.
Шейн чувствует, как из него выходит последний воздух. Все, теперь он стал плоским, двухмерным, расплющенным. Каким был весь последний год. С чего он взял, будто старая присказка ему поможет, вернет уверенность в себе? Ну пусть не всю, так хоть часть какую-то. Нет, Шейн-оптимист умер. Теленка пустили на говяжью котлету.
– Ну классный же сюжет, – бормочет он, с надеждой глядя на Майкла Дина.
Главное правило Клэр запомнила четко: никогда не говори, что тебе не понравилось. Вдруг кто-то другой потом купит идею, а ты останешься в дураках? Нет, надо отказывать аккуратнее, типа, «это не формат», или «мы уже делаем фильм на эту тему», или, если идея совсем уж кошмарная, «к сожалению, нам это не подходит». Но сегодня, да и вообще за последние три года столько всего навалилось, что теперь Клэр прорвало. Три года она молчала в тряпочку, нежно посылала подальше дебилов, втюхивающих ей свои дебильные сюжеты, и вот не выдержала. Это надо же, аж слезы выступили! Исторический триллер со спецэффектами о ковбоях-каннибалах. Три часа горя и страданий, и только чтобы узнать, что сына главного героя… съели на десерт?
– Ох, простите, – еще раз хихикает она.
Майкл Дин выныривает наконец из транса и сердито смотрит на свою ассистентку:
– Клэр! Ну хватит уже!
Клэр утирает слезы. Кажется, Майкл и вправду разозлился.
– Чудненько! – продолжает Дин. – Вот о таком фильме я и мечтал, когда только начинал работать.
Клэр потрясена, задета, обижена. А ей-то казалось, что ее уже ничем не проймешь.
– Потрясающе! – говорит Майкл. – Эпическая картина о страданиях первых переселенцев. – Он поворачивается к Клэр: – Подавай заявку. Нам нужно поскорее назначить совещание со студией. – И к Шейну: – Если у вас нет других обязательств, я бы предложил подписать короткий договор, месяцев на шесть. Переговоры я возьму на себя. Десять тысяч вас устроит? Разумеется, это просто залог, чтобы вы не уступили права кому-нибудь другому. Если вы согласны, мистер…
– Вилер. – У Шейна едва хватает сил выговорить свою фамилию. – Да. Десять тысяч меня вполне… устроит.
– Ну что ж, мистер Вилер, вы сегодня прекрасно выступили. Очень энергично. Как-то сразу вспомнилась молодость.
Шейн смотрит на Дина, на побледневшую Клэр, снова на Дина.
– Огромное вам спасибо! Вы знаете, я вашу книгу залпом прочитал.
Майкл снова морщится.
– Это заметно. – Он растягивает тонкие губы, наверное, это у него улыбка такая. – Может, мне надо было в учителя податься, а, Клэр?
Фильм о каннибалах?! Майкл – учитель?! Клэр не находит слов. И еще эта дурацкая сделка с Судьбой: один день, один хороший сценарий. Вот Судьба ее и натянула. Клэр с трудом привыкла к цинизму окружающего мира, но привыкла же вроде, адаптировалась, а тут ей опять дубиной по голове: ни фига ты не врубаешься в правила игры. Все, кончилось ее терпение! Ну ладно, пусть жизнь несправедлива, но ведь теперь и мироздание взялось ее осуждать! И правила нарушать. Это же нечестно, это же его, мироздания, правила.
Майкл встает:
– Клэр, назначь, пожалуйста, совещание на следующую неделю. Позови Уоллеса, Джулию… В общем, всех.
– Вы правда будете это студии показывать?
– Да. В понедельник мы с тобой, Вилером и Дэнни расскажем им про «Ущелье Доннера».
– Вообще-то, я хотел назвать сценарий просто «Доннер!». С восклицательным знаком.
– А что, так даже лучше, – соглашается Майкл. – Мистер Вилер, вы сможете в понедельник еще раз все рассказать? Вот так же, как сегодня, энергично?
– Ну да, – отвечает Шейн. – Смогу.
– Отлично! – Майкл достает мобильный. – И вот еще что, раз уж вы все равно останетесь на выходные, не сочтите за труд, помогите нам с мистером Турси. Мы оплатим услуги переводчика и гостиницу. А в понедельник попробуем выбить для вас договор. Согласны?
– Конечно, – неуверенно отвечает Шейн, глядя на впавшую в ступор Клэр.
Майкл открывает ящик стола и что-то там ищет.
– Мистер Вилер, пока вы не ушли… Задайте, пожалуйста, мистеру Турси еще один вопрос. – Майкл улыбается Паскалю. – Спросите его… я хотел спросить… ребенок родился?
Паскаль все понял и без перевода. Он вытаскивает из кармана пальто конверт, достает оттуда потертую голубоватую открытку и протягивает ее Шейну. На открытке младенец и надпись «У нас мальчик!» На обороте адрес: Паскалю Турси, отель «Подходящий вид», Порто-Верньона, Италия. И приписка аккуратным почерком:
Дорогой Паскаль!
Жаль, что мы с Вами так и не попрощались. Наверное, бывают такие встречи, которые возможны только в определенное время и в определенном месте.
В любом случае, спасибо Вам!
Всегда Ваша,
Ди.P.S. Я назвала его Пат, в Вашу честь.
Все разглядывают открытку. Майкл вертит ее в руках и рассеянно улыбается.
– Боже мой! Мальчик! – Дин качает головой. – Хотя… теперь-то уже не мальчик. Мужчина. Ему сейчас… Господи, сорок семь! – Майкл осторожно возвращает открытку Паскалю, тот убирает ее обратно в конверт, а конверт – в карман пальто. – Мистер Турси, – продюсер неловко пожимает Паскалю руку, – мы с вами все сделаем, как правильно. Клэр, забронируй им номера в отеле, пожалуйста. Я свяжусь с частным детективом, и завтра мы снова встретимся. – Майкл одергивает тяжелое пальто и поправляет пижамные штаны. – А сейчас мне пора домой, меня ждет миссис Дин. Мистер Вилер, добро пожаловать в Голливуд! – Он пожимает Шейну руку.
Клэр приходит в себя, когда Майкл уже шагает за порог. Она извиняется перед Шейном и Паскалем и бросается следом:
– Майкл!
Он поворачивается. Гладкая кожа блестит в свете фонаря.
– Что?
Она оглядывается, ей не хочется, чтобы Шейн слышал их разговор.
– Я вам другого переводчика найду. Зачем обнадеживать бедного мальчика?
– О чем ты?
– Я про фильм о каннибалах.
Майкл молча смотрит на нее.
– Вам что, правда понравилось?
– А тебе разве нет?
Клэр краснеет. Нет, рассказывал Шейн здорово, интересно, трогательно, даже захватывающе. Да, выступление было классным, но такой фильм снимать нельзя! Трехчасовой вестерн без пальбы, без любовной линии, и под конец еще страсти-мордасти.
Клэр вздергивает подбородок:
– Значит, в понедельник вы будете просить у студии пятьдесят миллионов долларов на исторический фильм о каннибализме переселенцев?
– Нет, – Майкл снова растягивает губы в улыбке, – в понедельник я приду на студию и попрошу восемьдесят миллионов на исторический фильм о каннибализме переселенцев. – Он поворачивается и шагает по дороге.
– А мальчик? – кричит ему в спину Клэр. – Он ведь ваш сын, да?
Майкл медленно поворачивается.
– Знаешь, Клэр, такие, какты, – большая редкость. Ты прямо всех насквозь видишь. Как прошло собеседование?
Клэр потрясена. Всякий раз, как она привыкает видеть в Майкле просто великолепную развалину, динозавра, карикатуру, он вдруг снова демонстрирует былую хватку.
Она опускает голову. На ней строгая юбка и туфли на каблуке – одежда для собеседования.
– Мне предложили работу. Куратором в музее киноискусства.
– И что, пойдешь к ним?
– Я еще не решила.
Он кивает.
– Слушай, мне необходима твоя помощь в эти выходные. На следующей неделе – пожалуйста, захочешь уйти – я пойму. Я даже помогу тебе. Но сейчас нужно, чтобы ты приглядела за итальянцем и переводчиком. И в понедельник организовала совещание. И вместе со мной нашла актрису и ее сына. Я могу на тебя рассчитывать?
– Конечно, – кивает Клэр. И тихо переспрашивает: – Так это ваш сын?
Майкл Дин смеется и запахивает пальто.
– Знаешь, как говорят: у успеха тысяча отцов, а у провала всего один? Согласно этой концепции, этот маленький ублюдок… мой единственный отпрыск.
10. Турне по Англии
Август 2008
Эдинбург, Шотландия
А началось все просто: какой-то мелкий ирландский пацан постучал его по плечу в баре в Портленде.
Пат Бендер обернулся. Бледное личико, кривые зубы, прическа супермена, черные очки и футболка «Денди Ворхол».
– Я тут, в вашей Америке, уже три недели торчу. Как же меня задолбал спорт по всем каналам! – Пацан кивнул на телевизор над стойкой. – Ну вот хоть ты мне объяснишь, в чем прикол? Ни хера я не понимаю в бейсболе!
Пат и рта открыть не успел, а пацан уже сел на диванчик напротив.
– Ваще не врубаюсь! – крикнул он. – Я Джо. Короче, американцы сосут во всех видах спорта, кроме тех, которые они сами придумали, ага?
– Если честно, – ответил Пат, – я и в американских-то видах спорта тоже не очень.
Пацан довольно улыбнулся и ткнул пальцем в гитарный кофр, устроившийся рядом с Патом, как скучающая девушка на свидании:
– Бренчишь помаленьку?
– В баре напротив.
– Гонишь?! А я, типа, музыкальный менеджер. Начинающий. Что играешь?
– Ерунду всякую. Я раньше фронтменом был в «Молчунах», не слышал? – Пацан молчал, и Пату стало неудобно. Не фиг было спрашивать. Как описать то, что он делает сейчас, Пат не знал. Начиналось с монологов под акустику, а теперь он просто исполнял прикольные песни и болтал. – Короче, – объяснил он Джо, – я сижу на стуле и немножко пою. Потом народ веселю, рассказываю, в основном про себя. Иногда потом еще гинекологом подрабатываю. Если повезет. Везет не часто.
Вот так и родилась идея турне по Англии. И опять инициатива была не его. Инициатива принадлежала Джо. Пацан уселся в полупустом зале и громко ржал над песней про джем-сейшны. Джем-сейшны, утверждал Паскаль «Пат» Бендер, – отстой, и играют на них одни говнюки. Песня про тексты, рожденные по обкурке, Джо вообще башню снесли. Очень они познавательные, прямо как меню в китайском ресторане. К концу вечера чувак уже во все горло орал вместе со всеми припев песни «Отчего барабанщики дакие тепилы?».
Что-то в этом пацане было завораживающее. Если бы не он, Пат бы обязательно цыпочку в короткой юбочке закадрил. Она сидела за первым столиком, и Пату открывался отличный вид на ее белые трусики. Но он в тот вечер слышал только ржание Джо. Сцена погрузилась во тьму, наступала исповедальная часть шоу, про наркотики и несчастную любовь. Пат исполнил самую известную свою песню, «Лидия», и Джо ужасно растрогался, даже очки снял и утер скупую слезу.
Я тебя не достоин, так всегда говорят, Мол, это не ты, это я виноват. Но, Лидия, как я могу тебе лгать Теперь, когда нету пути назад.Когда Пат слез со сцены, пацан уже чуть из штанов от восторга не выпрыгивал. Типа, он такого вжизни не видал, прикольно, без художественного свиста, с мозгами. И музыка с текстом круто вместе катят. А «Лидия» – ваще атпад!
Ясное дело, Джо тут же вспомнил про девушку, по которой он давно сох, и конечно, его понесло толкать Пату душещипательную телегу о великой любви. Пат слушал вполуха. Эти телята все одинаковые, сначала ржут, а потом ревут белугой над песней «Лидия». Вот вроде написал он жесткий стеб про «сопли в шоколаде» («Как я жил, пока не увидел твои карие глаза?»), а они прямо реально переживают.
Джо сразу запел, что Пату надо в Лондон. В полночь это был просто треп, вчас Пату стало интересно, к двум он почти поверил Джо. В полпятого утра они вместе раскурились (траву принес Джо) и переслушали все старые альбомы «Молчунов» («Вот это круть! Че ж я раньше-то тебя не видел?!»). И план сложился сам собой. К черту все напряги с деньгами, телками и карьерой! Пат едет в Англию.
Джо сказал, надо двигать в Лондон и Эдинбург, там поржать любят, и музон им понравится. Клубов полно, главное, забукать все как надо. Агенты и телевизионщики в этих клубах кишмя кишат, его сто пудов заметят. В Портленде было пять утра, в Эдинбурге час ночи, и Джо пошел на улицу звонить. Вернулся довольный как слон: устроитель фестиваля в Эдинбурге вспомнил «Молчунов» и обещал втиснуть Пата в программу Типа, там отказался кто-то и не приедет. Все детали они перетерли. Пату надо только нарисоваться в Эдинбурге, а дальше уже по ходу Джо сам сориентируется: поселит, жрачку и транспорт обеспечит. Лабать надо шесть недель, и за это еще бабла отвалят. А там, глядишь, и еще чего наклюнется. Они ударили по рукам, похлопали друг друга по спине, а поутру Пат уже звонил своим ученикам и отменял занятия на месяц вперед. Лет двадцать Пат такого подъема не ощущал. Гастроли! Старые фанаты его теперь слушать не хотели. Им покоя не давало, что Пат жив. Всем рок-легендам полагается честно склеить ласты в конце творческого пути, а он живехонек, да еще и публику веселит дурацкими монологами. Живые сморчки-фронтмены вызывают подозрение. Значит, ни хера они не зашибали и не ширялись, так, дурили народ только, а сами потихоньку вели здоровый образ жизни. Пат даже песню про это написал («Ничего, что я живой?»), но в программу она как-то не вписывалась, и он ни разу ее не исполнил.
Хорошо все-таки, что он коньки не отбросил. Вот он, его второй шанс… отметиться. Пат писал тем немногим друзьям, у которых еще можно было разжиться деньгами («Обалденный шанс… я столько этого ждал…»), а внутренний голос твердил: «Тебе сорок пять, а ты скачешь, задрав хвост, навстречу славе в Европу».
Обычно подсознание разговаривало с ним голосом матери, Ди. В юности она была актрисой, что-то там у нее не склеилось, и она изо всех сил его убеждала не раскатывать особенно губы. Она, мол, раскатала, и что из этого вышло? Пат создавал группу, разгонял группу, выпирал из группы музыкантов, переезжал в Нью-Йорк, уезжал из Нью-Йорка, и каждый раз Ди говорила: «Это нужно для дела… или тебе просто так хочется?»
«Глупый вопрос, – как-то ответил он. – Все на свете просто так. Вот и ты меня тоже просто так спросила».
Но сейчас он слышал не Ди, а Лидию. В последний раз они виделись уже после того, как окончательно разбежались. Он пришел к ней, извинился, вернул ее побрякушки. Пат клялся тогда, что впервые в жизни видит все так ясно, что он слез с наркоты и к бухлу почти не притрагивается. И вообще не притронется, если только она примет его обратно.
Лидия была офигенной, не то что все другие девчонки. Умная, смешная и застенчивая. И красивая, и не в курсе, что красивая, а это важно. Выглядела она потрясно и нос не задирала. Все женщины похожи на подарки: обертка красивая, развернешь – а там фигня. С Лидией все наоборот. Снаружи мешковатые платья и дурацкая кепка. А внутри бриллиант! В тот вечер Пат снял с нее эту кепку и заглянул в глаза.
– Зая, – нежно сказал он, – на хера мне музыка, бухло и наркота? Мне ты нужна! Я все брошу, только вернись.
У Лидии глаза заблестели от слез. Она забрала у него кепку и ответила:
– Ну ты даешь, Пат! Так обычно сектанты с богом торгуются.
У Джо в Лондоне был приятель, чувак по имени Куртис, здоровенный лысый хип-хопер. Пат с Джо вписались на квартире этого Куртиса и его девчонки, бледной моли по имени Уми. Пат в Лондоне раньше никогда не был. Он и в Европе-то был лишь однажды, поехал еще в школе по обмену, и то потому, что мать хотела показать ему Италию. До Италии он так и не добрался: в Берлине подцепил какую-то телку, их приняли с коксом, и его отправили домой за нарушение всех и всяческих правил. Потом еще была надежда поехать с «Молчунами» на гастроли в Японию. Это у них такая шутка была с Бенни, типа, «живыми легендами» становятся только те, кто играл в Японии. Но не срослось. И сейчас Пату впервые в жизни предстояло выступать на другом континенте.
– Так ты из Портленда, – сказала ему Уми. – Вроде группа «Декабристы» тоже оттуда?
В девяностых, когда Пат говорил в Нью-Йорке, что он из Сиэтла, все сразу вспоминали «Нирвану» или «Перл джем». Пат скрипел зубами и притворялся, будто он в тусовке, хотя сопляков этих терпеть не мог. Теперь и с Портлендом, младшим братом Сиэтла, та же история.
План был такой: в Лондоне Пат должен был выступить в подвальном клубе «Труппа» – Куртис там работал вышибалой. Но Джо решил, что начинать надо с Эдинбурга, обкатать шоу и тогда уж двигать на Лондон. Пат укоротил программу. Получился смешной монолог минут на тридцать, перемежаемый шестью песнями. («Всем привет! Меня зовут Пат Бендер. Если мое лицо вам знакомо, значит, ваши друзья тоже хипстеры с утонченным вкусом. Ну вот, вы это говно слушали, а я его пел. Второй вариант: мы трахались после концерта в туалете. В любом случае, простите, что я так внезапно исчез».)
Пат провел квартирник для Джо и его друзей. Депрессняк из программы он решил исключить, и песню «Лидия» тоже, но Джо сказал, «Лидию» надо петь обязательно. Типа, это такая эмоциональная кульминация, усек? Поэтому на квартирнике Пат ее исполнил, и Джо опять утирал слезы. Тут и Уми преисполнилась энтузиазма. Даже молчаливый Куртис признал, что шоу «сойдет».
В лондонской квартире все трубы были наружу, ковер прогнил и вонял. Пат с Джо жили там целую неделю, и Пат совсем очумел от бардака. Вот Джо не парился: они с Куртисом целыми днями сидели в гостиной в грязных семейных трусах и курили шмаль. Джо, как выяснилось, слегка приврал, когда сказал, будто он менеджер. В основном пацан либо болтался без дела, либо приторговывал дурью. В квартиру приходили незнакомые люди и покупали наркоту. Разница в возрасте быстро дала о себе знать: Пата как-то напрягала их музыка, растянутые треники, сон до полудня и ненависть к личной гигиене.
Пат мучился от бессонницы, поздно засыпал, рано вскакивал и сразу сваливал из дома. Бродил по городу, пытался научиться ориентироваться в нем, но сосредоточиться не мог. Он постоянно терялся, не мог запомнить ни одного кривого переулка, ни одной магистрали, внезапно превращающейся в тупик. С каждым днем Пату все сложнее было вобрать в себя этот город. Он понимал, что брюзжит как старый хрен, и от этого еще больше раздражался. Вечно он путался в названиях улиц, вечно не знал, куда смотреть, когда дорогу переходишь. И монеты эти еще дурацкие, никакой в них не было логики. Почему столько народу на тротуарах? Почему все так дорого? У Пата денег не было совсем, так что оставалось только ходить и смотреть. Ходил он в основном по бесплатным музеям, от которых у него быстро поехала крыша: десятки комнат в Национальной галерее, тысячи экспонатов в Британском музее и Музей Виктории и Альберта в придачу Под конец у Пата случился передоз культурных ценностей.
В последний день Пат забрел в галерею «Тейт модерн». Его потрясла бесшабашность тамошних творцов и размах всего мероприятия. Осмотреть галерею целиком было невозможно, как невозможно целиком увидеть океан или небо. Может, дело было в недосыпе, но Пата аж затошнило от всего этого великолепия. Он бродил среди сюрреалистических полотен и удивлялся странному, извращенному уму их создателей. Бэкон, Магритт и особенно Франсис Пикабиа, который, если верить аннотации, разделял мир на две категории: никому не известные ничтожества – и неудачники. Пат ощущал себя жуком под лупой. Жгучие лучи искусства буравили в его несчастном, лишенном сна черепе дыру.
Пат вышел на улицу. Воздуха не хватало. Снаружи тоже творилось какое-то сумасшествие. Мост Миллениум, продукт космической эры, словно ложка в рот, входил в арку собора Святого Павла. Лондон с хрустом перемалывал цвета, эпохи и жанры. Здесь смело соседствовали модернизм, неоклассицизм, викторианские особняки и небоскребы.
Пат перешел через мост и остановился послушать квартет: виолончель, две скрипки и клавиши. Приятное разнообразие, Бах над Темзой. Пат присел, чтобы отдышаться, и его поразил профессионализм совсем еще молодых ребят. Играли они блестяще. И это уличные музыканты! А ему-то что тут ловить? Гитаристом он был слабеньким и всегда этого стеснялся. Нет, ритм держать Пат мог и на сцене знал, как себя вести, но настоящим музыкантом в их группе был Бенни. Вместе с Бенни они написали сотни песен. А вот сейчас Пат послушал, как дети, не надрываясь, лабают сложный канон, и осознал смехотворность своих композиторских потуг. Даже лучшие его песни на музыку никак не тянули. Так, поделки, для заумных бездарей сгодится. Оказалось, что за всю жизнь Пат не создал ничего просто… прекрасного. Канон Баха был похож на старинный собор, а песни Пата – на грузовик: обаяния и наглости примерно столько же. Для Пата музыка была просто позой, подростковой агрессивной реакцией на изящество мироздания. Чихать он хотел на всякие художественные изыски. А теперь вдруг ощутил горечь и пустоту. Никому не известный неудачник. Ничтожество. Пат попал сразу в обе категории.
И тогда он сделал то, чего не делал уже много лет. По пути домой Пат зашел в музыкальный магазин с огромной красной вывеской «Безбашенные диски», побродил немного по залу для вида, а потом попросил у продавца «Молчунов».
– А, ну да, – парень натужно вспоминал, – конец восьмидесятых – начало девяностых, такой мягкий панк-поп-рок.
– Ну, не такой уж и мягкий…
– Или это гранж?
– Нет, гранж был уже после.
– Ну да. Нет, у нас ничего из них нет. Мы тут более… актуальную музыку продаем.
Пат поблагодарил и вышел на улицу.
Наверное, потому-то он и переспал с Уми, когда вернулся. А может, просто она была одна и в нижнем белье, и Джо с Куртисом ушли в паб смотреть футбол.
– Можно я присяду? – спросил Пат, и она закинула ноги на спинку дивана, чтобы освободить Пату место. Он посмотрел на ее белье, а через пять минут они уже целовались и кувыркались, неуклюжие, как дорожное движение в Лондоне (Уми: «Главное, Курти не говорить»), а потом наконец нащупали ритм. Для Пата Бендера хороший трах был проверенным способом вернуть уехавшую крышу на место.
Они лежали, касаясь друг друга ногами, и Уми расспрашивала его о личной жизни, как будто обсуждала экономическое положение страны или выясняла ходовые качества новой машины. Пат отвечал честно, но кратко. Ты женат? Нет. И даже не был никогда? Нет. И не собирался? Нет. А как же та песня, «Лидия»? Разве эта Лидия – не главная любовь всей его жизни? И почему все так серьезно воспринимают слова этой песни? «Главная любовь всей его жизни», бред какой! Нет, когда-то он и сам так думал. Они снимали квартирку и жарили шашлыки на балконе, а по утрам в воскресенье вместе разгадывали кроссворды. А потом Лидия застала его с другой. «Если ты меня любишь, то это даже хуже. Значит, ты просто жестокий человек», – сказала она.
Да нет же, ответил он Уми. Какая там любовь всей жизни? Просто девчонка. И они перешли к обычному трепу. Откуда он? Из Сиэтла, хотя много лет прожил в Нью-Йорке, а сейчас вот в Портленде обосновался. Семья? Только мать. А отец? Пат его почти не знал. Он продавал машины. Хотел быть писателем. Он умер, когда Пату было четыре года.
– Как жалко! Вы с мамой, наверное, очень дружите?
– Вообще-то, я с ней больше года не разговаривал.
– Почему?
И он вдруг вспомнил один вечер. Лидия с матерью объединились и наехали на него («Пат, мы за тебя переживаем» и «сколько можно?»). В глаза они ему не смотрели. Лидия познакомилась сначала с Ди, а уж потом с Патом. Они с матерью вместе играли в театре в Сиэтле. Обычно все подружки Пата жаловались, что он грубиян, что он обижает их, а Лидия все больше говорила про то, как он расстраивает маму. Не появляется месяцами (пока деньги не понадобятся), не держит данное слово, не вернул ей долг. Так нельзя, повторяла Лидия, это ее убивает. «Ее», с точки зрения Пата, относилось к обеим женщинам. Чтобы они угомонились, Пат завязал со всем, кроме бухла и шмали. Они с Лидией протянули еще год, а потом заболела мать. Если подумать, в тот самый вечер, когда Лидия с матерью на него напали, вся их любовь и закончилась.
– А где она сейчас? – спросила Уми. – Твоя мама?
– В Айдахо, – нехотя ответил Пат. – В Сэндпойнте. Она там театром руководит. – И неожиданно добавил: – У нее рак.
– Жесть какая! – Оказалось, у отца Уми лимфома.
Пат не стал расспрашивать ее, что да как, она ведь тоже его не расспрашивала.
– Это тяжело, – просто сказал он.
– Даже не знаю, как… – Уми помолчала, глядя в стену. – Мой брат постоянно твердит, что папа отлично держится, что он очень храбрый. А по-моему, его жизнь – сплошной кошмар.
– М-да… – Пату стало неловко. – Ну что делать…
С его точки зрения, все послепостельные правила вежливости он соблюл, во всяком случае, американские правила. Как тут у них в Англии принято, он пока не выяснил, случая не было.
– Ну ладно… – Он встал.
Уми смотрела, как Пат одевается.
– У тебя большой опыт, – сказала она уверенно.
– Да ладно!
– Вот за это я вас, красавчиков, и люблю, – засмеялась она. – «Кто, я? Да я сто лет ни с кем не спал!»
В Лондоне Пат был иностранцем, а вот в Эдинбурге – вообще инопланетянином.
Они с Джо сели в поезд на вокзале Кингс-Кросс, и пацан через минуту уже уснул. Пат смотрел в окно и гадал, что это они такое проезжают. Потянулись районы, исчерченные бельевыми веревками, потом вдалеке мелькнули развалины, потом пошли пшеничные поля, потом базальтовые скалы. В целом ничего, похоже на Америку.
Через четыре с половиной часа, когда поезд въезжал в Эдинбург, Джо чихнул и проснулся.
– Ага, – сказал он, глядя в окно.
Они вышли с вокзала. Перед ними лежала глубокая долина. Слева замок, справа город эпохи Возрождения. Фестиваль «Фриндж» оказался масштабнее, чем Пат себе представлял. На каждом столбе висели плакаты с рекламой концертов. Народу тут было полно: туристы, хипстеры, немолодые фанаты рока, артисты всех мастей, в основном комики, но и театральных актеров с музыкантами тоже хватало. В программе предполагались монологи, дуэты, импровизации (и даже целые труппы импровизаторов). Можно было посмотреть кукольные представления, на мимов, на жонглеров, подбрасывающих горящие факелы, акробатов на одноколесных велосипедах, фокусников, а еще на живые статуи и чуваков в костюмах на вешалках (что это значит, Пат так и не понял) и близнецов, танцующих брейк. Короче, настоящий средневековый ярмарочный дурдом.
В администрации фестиваля они поговорили с каким-то усатым долдоном (акцент у него был еще хуже, чем у Джо, ни слова не разобрать) и выяснили, что рекламой своих выступлений Пату придется озаботиться самостоятельно, а денег ему будут платить вдвое меньше против того, что обещал Джо. Пацан начал качать права и говорить, что какая-то Николь ему гарантировала совсем другую оплату. Усатый долдон ответил, что Николь «кроме демонстрации собственной жопы ничего гарантировать не может». Тогда Джо сказал Пату, чтобы тот не волновался, раз так, Джо комиссии не возьмет. Пат обалдел, поскольку о комиссии раньше не было ни слова.
Они вышли на улицу. Пат с любопытством озирался. Городские стены высились над ними, точно скалы, а дальше начиналась мощеная дорога, идущая через старый город, «Королевскую милю», к замку и огромным старинным особнякам, весьма закопченным и обшарпанным. Фестивальная жизнь била ключом. Гомон, крики, помосты с микрофонами – Пат совсем приуныл от такого количества артистов. А вот зрителей на всех не хватало.
Джо и Пата поселили в пансионе, в полуподвальной комнате. Пансион содержала пожилая чета.
– А ну, скажи что-нибудь смешное, – велел Пату косоглазый старик, когда услышал, с чем Пат собирается выступать.
Вечером они пошли на первый концерт. Вниз по улице, через какой-то проулок, потом насквозь через людный бар, снова через проулок, и наконец перед ними открылась высокая узкая дверь с резной медной ручкой посередке.
Какая-то тетка молча проводила Пата в гримерку (это явно был чулан: тут стояли метлы и швабры, а вдоль стены шли водопроводные трубы). Джо объяснил, что поначалу народу будет немного. Тут важно мнение критиков, их около дюжины. Они пишут рецензии, и у Пата есть все шансы получить от них «четыре звезды». Тогда и зрители подтянутся. Через минуту его объявила женщина с блокнотом, и Пат вышел под жиденькие аплодисменты. Жиденькие – это еще мягко сказано: в зале на сорок посадочных мест вольготно устроилось шесть человек. Включая Джо и престарелую чету, у которой они поселились.
Но Пату было не привыкать, и он порвал этот «зал» и даже добавил пару новых рифов перед «Лидией».
«Она сказала друзьям, что у меня в постели завелась другая женщина. Завелась, слыхали? Как клоп. Сказала, что поймала меня с поличным. Как будто бандита арестовала. Надо бен Ладену кого-нибудь в постель подкинуть, тогда б американцы его наконец изловили».
Даже аудитория в шесть человек все равно заводит. Ему хлопали и хвалили. Произношение у этих англичан – оборжаться! Пат и Джо до утра обсуждали, как будут рекламировать шоу.
На следующий день пацан приволок плакаты и флаеры – фотография Пата с гитарой и заголовок: «Пат Бендер, “Да, я такой!”» И приписка: «Великий комик-музыкант из Америки». Да, и еще четыре звезды от кого-то, кто назывался Жан-де-Арм. Пат и раньше видел такие флаеры, но название шоу и особенно пурга про великого американского комика-музыканта его разозлила. Комик-музыкант, это надо же! Он же не новичок сопливый. Это писатели могут валять дурака сколько влезет и при этом писать серьезные романы. Или режиссеры. Музыкантам, хоть убейся, полагается быть говном, притом патетическим как бегемот. «Я люблю тебя, детка!» и «Дайте миру шанс!» Джо божился, что у каждого артиста на флаерах такое написано. Ну и пошли они! Он-то тут при чем? И пацан в первый раз рассердился, даже щечки порозовели.
– Але! Короче, так все делают, усек? Знаешь, кто такой этот «Жан-де-Арм»? Я, мля! Я дал тебе четыре звезды. – Он швырнул Пату флаеры. – И бабки платил тоже я!
Пат вздохнул. Понятно, сейчас другие времена и музыкантам положено иметь блоги, шмоги, твиттеры и прочую чухню. А у него и мобильника-то не было. Даже в Штатах тихонько писать музыку и не скандалить нынче не прокатывало. Теперь надо себя «продвигать». Выкладывать в интернет отчет о каждом пуке. Современный протест против общества – это сунуть в жопу «лего», заснять все это на видео и выложить на «ю-тубе».
– «Лего» в жопу, – заржал Джо. – Это надо в шоу использовать.
Они прошлись по улицам, раздавая флаеры. Занятие это было примерно столь же унизительное, сколь он себе и представлял. Но Пат честно учился у Джо. Тот кидался к прохожим с поистине юношеским пылом: «Приходите, шоу улетное, от него в Америке у всех башню снесло!» Пат очень старался. Усилия он сосредоточил в основном на женщинах. «Обязательно приходите. Я думаю, вам понравится», – говорил он, заглядывая барышням в глаза, и вкладывал флаеры в затянутые в перчатки руки. Вечером на концерте было восемнадцать зрителей, включая критика, писавшего для загадочного портала «Смеха ради». Он поставил Пату четыре звезды и написал в своем блоге (Джо читал это, захлебываясь от восторга): «Бывший фронтмент когда-то культовой американской группы “Молчуны” читает едкий, остроумный, честный монолог, монолог, который стоит послушать. Приятно видеть настоящего мизантропа».
На следующий вечер пришло уже двадцать девять человек, включая девицу в черных обтягивающих штанах. После концерта они обкурились на пару. Пат трахнул ее, прижав спиной к трубам и швабрам в гримерке.
Когда он проснулся, напротив него на табуретке, скрестив руки на груди, сидел Джо, уже полностью одетый.
– Ты что, трахнул Уми?
Пат сначала не сориентировался, думал, он про вчерашнюю девушку.
– Ты ее знаешь?
– Я про Лондон, ушлепок! Просыпайся давай! Ты переспал с Уми?
– А, да. – Пат сел. – Куртис знает?
– Куртис?! Она мне, мне все рассказала! Хотела узнать, спрашивал ли ты про нее. – Джо рывком снял очки и вытер глаза. – Помнишь, в Портленде я тебе говорил, что влюблен в девушку лучшего друга, в Уми? Помнишь?
Что-то такое Пат припоминал, и имя Уми, теперь, когда Джо об этом сказал, показалось ему знакомым. Но он тогда загорелся мыслью поехать в Англию и про девушку не очень-то слушал.
– Куртис трахает все, что движется. Прямо как долбоеб из твоей песни, а я об этом Уми не рассказываю, потому что этот кретин считает меня своим другом. А ты при первой же возможности… – Джо порозовел, потом покраснел, глаза наполнились слезами. – Пат, я же ее люблю!
– Джо, ну прости! Я не знал!
– А о ком, ты думал, я тебе рассказывал? – Джо нацепил очки на нос и вылетел из комнаты.
Пат немного посидел, приходя в себя. Ему было ужасно неудобно. Потом он оделся и пошел искать Джо. «Как долбоеб из твоей песни». Господи, он что же думал, это песня про Пата? И тут ему в голову пришла ужасная мысль: а может, он и правда… Этот самый?
Пат искал Джо весь день. Даже в средневековый замок заглянул. Протолкался через толпу туристов с фотоаппаратами. Джо нигде не было. Вернулся в новый город, взобрался на Келтон-хилл, обошел памятники разных эпох в истории Эдинбурга. Этот город всегда старался забраться повыше, занять положение повыгоднее и побезопаснее, и дома тут строили высокие, колокольни, башни, колонны, и повсюду винтовые лестницы, ведущие на самый верх. Внезапно Пату показалось, что и человечество вот так же постоянно лезет ввысь. Конечно, надо заметить врага и утвердиться над крестьянами, но еще – надо оставить по себе след, построить нечто, чему будут дивиться потомки. Доказать, что… когда-то ты был там, на самом верху, на сцене. Те, кто строил эти здания, давно уже умерли, и никто об этих неудачниках не слышал, и никто их не знал.
На вечернем концерте было сорок человек. Джо так и не появился.
– Я сегодня гулял по Эдинбургу и подумал, что искусство и архитектура – это просто память об умерших, тех, кто старался оставить свой след во времени. – Выступление только начиналось, а Пат уже опасно отклонился от сценария. – Вся моя жизнь… Я думал, мне на роду написано стать знаменитым. Прославиться. – Он огляделся. Его зрители, да и он сам, очень рассчитывали посмеяться над хорошей шуткой. – Так уж устроен мир. Нам отчаянно нужно, чтобы нас заметили. Мы просто дети, мы хотим внимания. И я хуже всех. Спроси меня кто, какой у твоей жизни заголовок… философия… девиз, я бы сказал: тут какая-то ошибка! Я должен был стать великим музыкантом!
Откуда берутся провальные концерты? Ответа Пат не знал, как не знал он, сколько таких провалов досталось другим музыкантам. Во всяком случае, случались эти провалы с большой регулярностью. Пока он играл в «Молчунах», судьба распоряжалась очень просто: один классный альбом («Молчуны»), один хороший («Манна») и потом бессмысленная претенциозная блевотина («Метроном»). И с концертами так же было, тут уж кому как повезет. Хотя с концертами – это они нарочно так делали. Ну, не то чтобы совсем нарочно, просто ровно у них как-то не получалось: Пат сидел на кокаине, Бенни вообще на герыче, а Кейси Миллер постоянно рвался все песни отстучать на пять четвертей. Но никто ведь и не хотел, чтобы они играли одинаково. Нет, всем нужен был драйв, надрыв. Никаких тебе танцевальных ритмов, длинных хаеров или разрисованных черным лиц. Никакой рисовки, короче. Потому что это все херня. Правда, дальше выступлений в клубах «Молчуны» не ушли, но зато и в слезливую псевдо-рок-группу, исполняющую лирические баллады, тоже не превратились. Они остались верны духу рока, а в те времена верность еще ценилась.
Но даже и тогда случались у него кошмарные провалы. И не из-за наркотиков, не из-за бесконечных раздоров, не из-за экспериментов со звуком. Просто провалы, и все.
В тот день, когда Пат поссорился с Джо, он тоже с треском провалился. На концерт пришел критик из «Шотландца», а Пат сначала запорол вступление к «Барабанщикам», потом попытался выкрутиться и рассказать бородатый анекдот из репертуара восьмидесятых про то, что в Америке все говорят «скотч», а в Шотландии почему-то просто «виски». А вот еще – скотч, это ведь просто клейкая лента, да? И все смотрели на него и думали: да, дебил, это просто клейкая лента, и что? «Лидию» он еле-еле доиграл до конца, ему не давало покоя ощущение, будто он один в зале не понимает ее смысла.
Он почувствовал, как аудитория перешла тонкую грань. Вот тут она тебя еще любит, смеется над шутками, она «с тобой». А вот тут ты ее уже раздражаешь, что бы ты ни сделал. Ни разу не опробованный пассаж про огромные зады шотландских девчонок («как будто им в трусы пудинга и сосисок напихали») тоже не прибавил ему популярности. Даже гитара фальшивила и била диссонансом по ушам.
И на следующее утро Джо тоже не появился. Пожилая пара положила перед дверью комнаты Пата номер «Шотландца». Его выступление называли дискриминационным агрессивным нытьем, а дальше он читать не стал. Вечером пришло восемь человек, потом пять. Все покатилось примерно так, как он и предполагал. Джо не появлялся. Долдон с усами сообщил Пату, что его контракт не продлевается. Время выступления и гримерка переходят чревовещателю. Чек он передал его менеджеру, добавил долдон. Пата прямо смех разобрал, надо же, он этого Джо повсюду ищет, а тот свалил себе на поезде в Лондон с его пятьюстами фунтами в кармане.
– Как же я до дома доберусь? – спросил он долдона.
– В Штаты? Ну не знаю… Твоя гитара хорошо на воде держится?
В темном периоде жизни Пата было только одно преимущество: тогда он научился выживать на улице. Дольше пары-тройки недель он так не развлекался, но сейчас хотя бы в панику не ударился. Пат знал, что делать. В Эдинбурге было несколько каст артистов: известные, менее известные, но профессионалы с постоянными контрактами (вроде Пата), те, что путешествовали по миру с гитарой, те, кто просто так приехал попытать своего счастья на сценах в программах «свободный микрофон», потом уличные музыканты. Дальше шли танцоры с Ямайки в грязных кроссовках и с дредами, чилийские оркестры, маги с пятью дежурными фокусами, цыганка, играющая на флейте. Ниже на социальной лестнице стояли только попрошайки и карманники. В тот вечер в ряды уличных музыкантов влился и Пат Бендер. Он встал напротив кофейни в центре города и начал исполнять американскую классику, время от времени добавляя пару смешных строк от себя.
Американских туристов было полно, и он довольно быстро собрал тридцать пять фунтов. Пат купил себе пива и жареной рыбы, а потом пошел на вокзал. И обалдел: билет до Лондона стоил шестьдесят фунтов. С учетом еды, этак ему три дня выступать придется.
Чуть ниже замка располагался длинный и вытянутый, как кишка, городской парк, окруженный высокими стенами. Пат прошелся вдоль скамеек, выискивая местечко, где можно переночевать. Примерно через час он решил, что стар уже для таких развлечений, это дело молодежи, и отправился в новый город, где выпил водки, заплатил ночному портье и переночевал в кабинке гостиничного туалета.
На следующее утро Пат снова занял место перед кофейней. Он как раз заиграл старую песню «Молчунов», когда обнаружил в толпе зрителей девчонку, которую трахнул в своей гримерке. Она выпучила глаза и дернула подружку за руку:
– Смотри, это же он!
Оказалось, ее зовут Наоми, ей восемнадцать, и она приехала сюда с родителями на каникулы из Манчестера. Ее родителей звали Клод и Джун, и они как раз обедали в пабе неподалеку от кофейни. Клод и Джун оказались его ровесниками и вовсе не обрадовались, когда дочка представила им своего нового друга. Наоми почти плакала, описывая его злоключения, каким он был честным и порядочным, а подлый менеджер его обобрал до нитки, и теперь бедный Пат застрял и не может уехать домой. Через два часа он уже сидел в поезде. Сомнений насчет того, почему отец Наоми так страстно хотел помочь ему покинуть пределы Шотландии, у Пата не было.
Пат ехал в Лондон и думал о фестивале. О несчастных артистах, раздающих флаеры прохожим, об уличных музыкантах, о треугольных верхушках церквей, о замке и скалах. О стремлении забраться повыше, быть замеченным. О замкнутом круге созидания и протеста, когда каждый уверен, будто непременно скажет новое слово в искусстве, что его творчество станет откровением, хотя все уже сделано и сказано миллионы раз до них. Вот к чему он стремился всю жизнь. Быть знаменитым. Быть звездой.
Ну и что, услышал он голос Лидии, значит, тебе не обломилось.
Куртис открыл дверь. В ушах у него торчали наушники-затычки. Выражение его лица не изменилось, вот что больше всего потрясло Пата. Круглоголовый Куртис спокойно толкнул его к стене, ударил ребром ладони по шее, вышибив из Пата дух, дал коленом по яйцам. Пат уронил рюкзак и гитару. Он попытался что-то сказать, но не смог, и еще успел понять, что Куртис отрабатывает на нем приемы вышибалы. В лицо ему ударил огромный кулак, и все мысли из башки мигом улетучились. Пат сполз по стенке на пол. Он утер кровь и попытался разглядеть, нет ли позади Куртиса Уми или Джо. Квартира была не просто пустой, она была разгромленной. Пат представил себе, как Джо врывается сюда, как месяцами копившееся говно брызжет фонтаном, как все трое орут, как Джо говорит потрясенной Уми, что любит ее. Мысль о том, что эти двое едут сейчас в поезде с его пятьюстами фунтами, Пату очень понравилась.
А Куртис, оказывается, вышел к нему в одних трусах. Господи, ну что за люди! Парень пнул его гитару. Только не ее, подумал Пат.
– Слабак, – тяжело дыша, произнес Куртис. – Вали отсюда, пока цел! – И ушел в квартиру.
Даже волна воздуха, докатившаяся до Пата, когда дверь захлопнулась, причиняла боль. Если бы Пат не боялся, что Куртис вернется и займется гитарой, он бы не встал. На улице от него шарахались все прохожие: кровь из носа текла ручьем. В пабе напротив ему дали пива, лед и тряпку. Пат умылся в туалете и стал наблюдать за подъездом Куртиса. За два часа никто не вышел, ни Джо, ни Уми, ни Куртис. Тогда он допил пиво и выложил на стол перед собой все деньги: двенадцать фунтов и сорок пенсов. Он полюбовался убогой кучкой, закрыл лицо руками и разрыдался. Пату даже полегчало немного. Он понял наконец, что стремление забраться повыше едва не разрушило его жизнь. Ему показалось, будто он проскочил через туннель, через кромешную тьму, и выбрался на другую сторону.
Все, с него хватит. Больше он не будет карабкаться и доказывать, а начнет просто жить.
На улице было сыро и промозгло, дул пробирающий до костей ветер. Пата аж трясло от нетерпения. Он вошел в красную телефонную будку, основательно провонявшую мочой и усыпанную рекламками стрип-клубов и эскорт-сервисов.
– Будьте добры, Сэндпойнт, штат Айдахо, – сказал он оператору. Голос дрожал. Пат боялся, что забыл номер, но как только назвал код города, 208, сразу вспомнил и остальные цифры.
– С вас четыре фунта пятьдесят пенсов, – ответил оператор.
Почти половина всех его сбережений, но просить мать оплатить звонок сейчас нельзя. Пат сунул деньги в прорезь автомата.
Трубку сняли со второго звонка:
– Але?
Что-то было не так. Голос чужой, не мамин. Опоздал, с ужасом подумал Пат. Она умерла, дом продали. Господи боже, он опоздал. Не успел попрощаться с единственным человеком, который его любил.
Пат Бендер стоял в красной телефонной будке на улице Лондона, утирал кровавую юшку и ревел.
– Але? – снова повторил голос. Вроде кто-то знакомый. Но все равно это не мама. – Але? Говорите!
– Але. – Пат выдохнул и утер слезы. – Лидия?
– Пат?
– Да, это я. – Он представил себе ее высокие скулы, темные печальные глаза, задумчивое лицо, короткие, почти черные волосы. Это знак, решил Пат. – Лидия, ты откуда там?
Матери делали очередной курс химиотерапии. Значит, все-таки не опоздал. Пат зажал рукой рот. Лидия говорила, что они все помогают по очереди, сестры Ди – сумасшедшие тетки Дарлин и Диана, – а теперь вот и Лидия на несколько дней из Сиэтла прилетела. У нее был такой звонкий голос, такие интонации… Ничего удивительного, что Пат когда-то в нее влюбился. Она напоминала сияющий в лучах света кристалл.
– Пат, а ты где?
– Не поверишь, – ответил он, – в Лондоне, прикинь? Его один местный пацан уговорил поехать сюда в турне, но тут все полетело кувырком, пацан его обобрал, и… На том конце провода стало очень тихо.
– Да не, Лидия. – Он засмеялся, представив, что она сейчас про него думает. Сколько раз он вот так же звонил ей и просил выслать деньги? – Все не так, как ты решила!
Не так? Он на секунду задумался и огляделся. Зассанная будка. Почему не так? Что именно не так?
Что такого Пат мог сейчас ей сказать, чего не говорил прежде? Как он предполагал выбраться на твердую землю из болота? Я обещаю больше никогда не пить, не ширяться, не курить шмаль, не воровать и не трахаться с другими девчонками? Можно я вернусь домой? Наверное, он и эти слова тоже говорил или скажет еще, через неделю или через месяц. Потому что потребность карабкаться обязательно вернется. А с ней вернется и наркота. А как не вернуться? Ничего другого-то в жизни у него нет. Люди делятся на неудачников да тех, кто никому не известен.
И Пат рассмеялся. Он вдруг понял, что этот звонок – еще один провальный концерт, он таких уже много сыграл. Как в ту ночь, когда мама с Лидией на него набросились. Пат разозлился на них ужасно. Никак они не хотели понять: гнать можно только тогда, когда и правда готов вычеркнуть человека из своей жизни. Они были не готовы еще.
А в этот раз…
На том конце трубки его смех восприняли неправильно.
– Пат, ты опять на что-то подсел? – тихонько, почти шепотом спросила она.
Нет, хотел ответить он, но горло перехватило. И тут он услышал на заднем фоне голос мамы, видимо, она только что вошла.
– Кто там, Лидия?
Пат сообразил, что в Айдахо сейчас три часа ночи.
Он позвонил умирающей матери в три часа ночи, чтобы попросить ее дать денег и вытащить его из очередной жопы. Даже в конце жизни он не пожалел ее. Давай, Лидия, думал Пат, ну давай же!
– Давай же, – прошептал он, глядя на двухэтажный красный автобус, с грохотом проезжающий мимо будки.
И она все сделала правильно.
– Да так, никто, ошиблись номером, Ди. – Она глубоко вздохнула и повесила трубку.
11. Ди из Трои
Апрель 1962
Рим, Порто-Верньона, Италия
Водителя хуже Ричарда Бёртона Паскаль еще не встречал. На дорогу Дик смотрел одним глазом, руль держал двумя пальцами, а правой рукой стряхивал сигаретный пепел в окно, хотя сигаретой этой он даже и не затянулся ни разу Паскаль смотрел на Бёртона и думал, не забрать ли у него окурок, пока тот не обжегся. «Альфа-ромео» визжала и скрипела на поворотах. Они уже выбрались из центра Рима. Вслед машине кричали и грозили кулаками пешеходы, едва успевавшие увернуться из-под колес. Ричард рассеянно огрызался и бормотал извинения.
Паскаль не узнал его, пока та женщина, что подошла к нему на Испанской лестнице, их не представила:
– Познакомьтесь, Паскаль Турси, а это Ричард Бёртон.
Он все еще сжимал конверт Майкла Дина, когда она провела его вниз по ступеням и через пару переулков. Они зашли в ресторан, вышли через заднюю дверь. На пустой узкой улочке, прислонившись к голубому «альфа-ромео», стоял человек в темных очках, слаксах, толстом свитере и красном шарфе. Ричард Бёртон снял очки и криво улыбнулся. Они с Паскалем были примерно одного роста. У Ричарда были пушистые бакенбарды, взъерошенные каштановые волосы, ямочка на подбородке, оспины на щеках, широко расставленные синие глаза, а самое главное – огромная голова! Черты лица удивительно резкие, казалось, будто скульптор по отдельности вылепил каждую деталь, а потом собрал все вместе. Паскаль никогда не видел фильмов с его участием, и имя его впервые услышал от клуш в поезде. Но с первого взгляда на Ричарда было понятно: это великий актер.
По просьбе переводчицы Паскаль снова рассказал, запинаясь, всю историю на ломаном английском. Как Ди Морей приехала в его деревню, как она ждала какого-то человека, а он все не ехал, как пришел врач, как Паскаль поехал в Рим, как его по ошибке отправили сниматься в массовке, как он ждал Майкла Дина, а потом говорил с ним, как ударил его, а тот признался, что Ди не больна, а беременна, как Дин решил откупиться вот этим конвертом с деньгами.
– Господи! – сказал Бёртон. – Этот Дин просто бессердечный торгаш. Похоже, они всерьез решили закончить картину, раз посылают эту мразь разбираться с бюджетом, сплетнями и дисциплиной. Разобрался, ничего не скажешь! Бедная девочка! Послушайте, Пат, – он взял Паскаля за руку, – отвезите меня к ней, а, старина? Давайте хоть немного благородства проявим, смотрите, каких тут дел наворотили без нас.
– А! – Паскаль наконец понял, что вот этот человек и есть его соперник, а вовсе не жалкий Майкл Дин. Понял и расстроился. – Тогда… ваш ребенок?
Ричард Бёртон даже глазом не моргнул.
– Похоже, что да, так оно и есть.
Через двадцать минут они уже неслись в «альфа-ромео» Бёртона по предместьям Рима к автостраде и Ди.
– Как же здорово снова сесть за руль! – Ричарду приходилось перекрикивать шум ветра, разметавшего его каштановые волосы. В темных очках отражалось предзакатное солнце. – Я тебе ужас до чего завидую, Пат! Как ты ему вмазал, молодец! Вот ведь гаденыш какой! Только я, пожалуй, повыше прицелюсь, когда придет мой черед.
Окурок обжег ему пальцы, он дернулся, словно его пчела ужалила, и выбросил сигарету в окно.
– Я ничего не знал про их идиотский план. И что у нее ребенок будет, тоже не знал. Я, конечно, не в восторге, но что поделаешь? Ты же знаешь, на съемках всякое бывает. – Ричард пожал плечами и посмотрел в зеркало заднего вида. – Но Ди мне нравится. Она… – Бёртон все никак не мог подыскать слово. – В общем, я по ней скучал. – Он поднес пальцы ко рту и ужасно удивился, что в них нет сигареты. – Мы и раньше были знакомы, а когда муж Лиз приехал в Рим, нас с Ди закрутило. Потом «Фокс» согласились, чтобы я поучаствовал в каких-то дурацких съемках, «Самый длинный день». Наверное, хотели от меня избавиться на время. Я был во Франции и вдруг узнал, что Ди больна. Я позвонил ей, она сказала, что была у доктора Крейна… что у нее рак. Она должна была поехать на лечение в Швейцарию, но мы договорились сначала встретиться на море. Я сказал, как закончу сниматься, сразу приеду к ней в Портовенере. И велел этому гнойному прыщу Дину доставить ее туда. Этот гад врет как дышит. Он мне сказал, Ди стало хуже и она уехала в Берн. Мол, она позвонит, когда вернется. Что я мог поделать?
– Портовенере? – переспросил Паскаль. Значит, она все-таки приехала к нему по ошибке. Или Майкл Дин ее просто обманул.
– А все этот фильм, чтоб ему пусто было! – Ричард покачал головой. – Ничего с ним не выходит, полная задница. Куда ни пойдешь, всюду тебе вспышки в морду. Даже священники в рясах и те с фотоаппаратами. И из Штатов вон всяких уродов малолетних присылают, чтобы съемки не останавливались, чтобы девок с площадки убрать, чтобы мы не надирались каждый день… Газеты прямо криком заходятся, стоит нам выпить по коктейлю. Давно надо было мне отказаться и уехать. Сумасшедший дом! Знаешь, из-за кого все полетело к черту? Из-за нее.
– Из-за Ди Морей?
– Что?! – Ричард сердито посмотрел на Паскаля, как будто тот его совсем не слушал. – Нет, не из-за Ди, конечно. Из-за Лиз. От нее вреда столько же, сколько от смерча в квартире. А мне оно надо? Нет. Я спокойно играл в «Камелоте» и отлично себя чувствовал! От этой Джули Эндрюс, конечно, даже кивка не дождешься, но женщин там и без того полно, я вниманием не обижен. Кино мне на хрен не сдалось! Я хотел вернуться на подмостки, ну, там, призвание, искусство и прочая лабуда. А потом звонит мне мой агент и говорит, что «Фокс» заплатит неустойку «Камелоту» и еще мне гонорар в четырехкратном размере, если только я соглашусь попрыгать в белой хламиде вокруг Лиз Тейлор. В четырехкратном размере! И то я не сразу бросился вещи собирать. Сказал, что подумаю. Покажите мне смертного, который будет думать, когда ему такое предлагают! А я вот пошел думать. Знаешь о чем?
Паскаль пожал плечами. Понять этого человека было невозможно, все равно что пытаться устоять на ногах во время шторма.
– Я думал о Ларри. Оливье. Вспоминал, как он меня поучал. Знаешь, нудно так, как древний дед. – Ричард выпятил нижнюю губу и гнусаво произнес: – «Дик, когда-нибудь тебе придется выбирать, кем стать, знаменитостью или Акте-е-ром». – Он засмеялся. – Старый пердун! Я сыграл в «Камелоте» последний раз и вечером поднял стакан за здоровье Ларри. И за театр. Сказал, что возьму деньгами, большое вам спасибо за предложение. Думал, и недели не пройдет, как я поставлю эту чернявую выскочку Лиз Тейлор на колени. Ну или посажу на колени. Себе. – Ричард снова рассмеялся. – Да, Оливье… Бог ты мой, да кому какая разница, на сцене играет сын валлийского рудокопа или в кино? Как говорил Китс, имена наши все равно написаны водой, так чего беспокоиться? Старые козлы вроде Оливье или Гилгуда могут свой актерский кодекс друг дружке в жопу засунуть. А я говорю, отвалите и не портите людям праздник, так? – Ричард Бёртон оглянулся на Паскаля: – Короче, я уехал в Рим и познакомился с Лиз. Знаешь, Пат, я таких женщин прежде не встречал. У меня их много было, но эта… Господи боже! Знаешь, что я ляпнул при знакомстве? «Вам когда-нибудь говорили, что вы неплохо выглядите?»
Ричард улыбнулся.
– Она на тебя посмотрит, и мир перестает вращаться. Я знал, что она замужем, и главное, что она мужиков как перчатки меняет. Но я-то тоже не железный. Дураку понятно, что каждый дебил захочет стать великим актером, а не знаменитостью, если только ставки будут равны. Но они же не равны, правда? Потому что на весах еще чертова куча денег, и сиськи, и обалденная талия в придачу. И глаза, господи, какие глаза! И тут, старик, весы начинают склоняться в сторону кино, а потом просто переворачиваются. Нет, точно, имена наши написаны водой. Или коньяком. Если повезет, конечно.
Он повернулся к юноше и подмигнул. Паскаль уперся рукой в щиток.
– Кстати, о коньяке! Ты как, старичок? – Ричард глубоко вздохнул и продолжил: – Ну понятно, газетные ищейки мигом все разнюхали, и ее муж заявился в город. Дня четыре я злился, а потом решил вернуться к Ди, пусть хоть она меня утешит. Вообще-то, и двух недель не проходило, чтоб я к ней в дверь не постучал. Она – чистая душа… и умненькая. – Он покачал головой. – Ужасно, когда у хорошенькой женщины есть мозги. Когда она все понимает. Вот она бы точно с Ларри согласилась, я уверен. Сказала бы, что я только зря трачу свой талант на этот фильм. Она за меня очень переживала. Я понимаю, нечего было с ней связываться, такая хорошая девчушка не для меня, но… Себя не переделаешь, верно? Природа возьмет свое. – Ричард похлопал себя по карманам. – У тебя сигареты не найдется?
Паскаль вынул из пачки сигарету, прикурил. Ричард глубоко затянулся, выпустил через ноздри дым.
– Этот Крейн, тот, к которому Ди ходила, он только и годится, чтобы Лиз таблетками пичкать. Он же рассыпается на ходу! Они с Дином нарочно всю эту хрень про рак придумали, чтобы увезти Ди из города. Это кем же надо быть, чтобы девушке, которую тошнит по утрам, сказать, что у нее рак и она скоро умрет?! Ублюдки! Такие ни перед чем не остановятся.
Внезапно Ричард ударил по тормозам, машина подпрыгнула, как испуганный зверь, взвизгнули шины, и «альфа-ромео» вынесло с дороги на пятачок перед магазином.
– Ну что, старичок, выпить хочешь? Я хочу!
– Я есть хочу, я сегодня не завтракал даже.
– Ага. А денег у тебя случайно нет? А то я так распереживался, когда мы уезжали, что забыл прихватить кошелек.
Паскаль открыл конверт и протянул актеру тысячу лир. Тот рысью помчался в магазин. Вернулся он через минуту с двумя открытыми бутылками красного вина.
– Что за дыра, тут даже коньяк не продают, – сказал он, протягивая Паскалю вино и усаживаясь обратно за руль. Бутылку Ричард пристроил между ног. – Нам что теперь, виноградной мочой имена выписывать? Ну ладно, деваться-то все равно некуда. – Ричард отхлебнул из бутылки и тут заметил, что Паскаль его разглядывает. – Мой отец двенадцать пинт пива в день выпивал. У валлийцев дурная наследственность, так что я себя сдерживаю: пью, только когда работаю. – Он подмигнул. – Поэтому я всегда работаю.
Через четыре часа человек, сделавший Ди ребенка, допил обе бутылки и остановился, чтобы купить третью. Паскаль только диву давался, сколько в Ричарда влезало вина. Они припарковали «альфа-ромео» в порту Ла-Специя, и юноша уговорил рыбаков в таверне отвезти их в Порто-Верньону за две тысячи лир.
– Я, между прочим, сам из маленькой деревушки, – сказал Ричард, устраиваясь на скамейке старой моторки.
Было холодно и темно, дул сильный ветер. Паскаль поднял воротник. Капитан встал у руля и вывел лодку из бухты, окатив их брызгами с головы до ног. На свежем воздухе Паскалю еще сильнее захотелось есть.
Капитан не оглядывался на пассажиров. Так и стоял на носу, как изваяние, с покрасневшими от холода ушами.
– Наше пятнышко на карте называется Понтрхидифен. Это долина между двумя большими зелеными горами, а посреди деревни течет речушка, чистая, как водка. Это в Уэльсе. У нас там угольные шахты. Знаешь, как речка называется?
Паскаль ни слова не понимал из речи Ричарда.
– А ты подумай. Все очень логично.
Паскаль пожал плечами.
– Эйвон. Как в Стратфорде-на-Эйвоне. Про Шекспира слыхал? Смешно, правда?
Паскаль согласился, что смешно.
– Так, кто тут про водку говорил? Ага, я же и говорил. – Он грустно вздохнул и крикнул в спину капитану: – Эй, капитан! Кто же выходит в море всухую? Так нельзя! (Рыбак не оборачивался.) Этак и до бунта недалеко, что скажешь, Пат? – Ричард устроился на скамейке полулежа, поднял воротник, чтоб не дуло, и продолжил рассказ: – Нас, маленьких Дженкинсов, было тринадцать, и все как один настоящие спиногрызы. Я двенадцатый. Когда тринадцатый родился, мне было два года. Он мамашу и прикончил. Сил в ней больше не осталось, все детишки досуха высосали. Мне последнему хоть что-то досталось. А потом нас воспитывала сестра, Сесилия. От старого козла Дженкинса помощи особой ждать не приходилось. Ему было пятьдесят, когда я родился, и он был пьян в зюзю с первыми лучами солнца. Я его почти и не знал. Из наследства одна фамилия. А псевдоним – это от учителя в актерской школе, хотя я всем говорю, будто в честь Майкла Бёртона назвался. «Анатомия меланхолии», слышал, нет? Нет? Ну извини. Нет, это все я сам придумал. Бёртон. Дики Дженкинс был сопливым сусликом, а вот Ричард Бёртон… он… орел!
Паскаль сонно кивнул. Бормотание Ричарда, стук мотора и качка его совсем усыпили.
– Все мальчишки Дженкинсы пошли работать в ту же шахту. Только я один выбрался. Меня спас Гитлер. Подвернулся шанс поступить в летчики. Повезло. Я думал, я слепой как крот и меня не возьмут. Нет, взяли. Вот скажи мне, что надо говорить парнишке из такой деревни, если встретишь его в Оксфорде?
Паскаль пожал плечами. Он ужасно устал от этой болтовни.
– Надо говорить: а ну вали в свою шахту обратно!
Видя, что юноша не смеется, Ричард склонился к нему, пытаясь объяснить:
– Ты пойми, просто я… не то чтоб я из шкуры выпрыгивал… но я знаю, каково это, тут родиться. Я же не всегда был… ну, вот таким. Нет, я, конечно, многое уже позабыл. Стал мягче, расслабился. Но ощущение помню.
В жизни Паскаль не встречал такого болтуна. Когда юноша чего-то не понимал по-английски, он старался сменить тему. И сейчас решил применить ту же тактику, хотя бы для того, чтобы снова услышать собственный голос:
– Ричард Бёртон, а вы в теннис играете?
– Больше в регби. Жесткие виды спорта мне больше по душе. Я бы после Оксфорда пошел играть нападающим за университетскую команду, но всех артистичных юношей губит легкость, с которой им покоряются женщины. – Он задумался. – Мой брат, Ифор, был отличным регбистом. И я бы не хуже смог, если бы постарался. Или надо было в хоккей податься, там у всех подружки с большими титьками. Но мне показалось, что актерам больше дают. – Ричард снова окликнул рыбака: – Эй, кеп, точно ни капельки нету? И коньяку не найдется? – Рыбак даже не обернулся, и Ричард снова прилег на скамью. – Чтоб ты потоп вместе с корытом, старый пидор.
Наконец они обогнули мыс, ветер стих. Лодка сбавила ход и ткнулась в дальний конец причала, в склизкие от воды доски. Ричард Бёртон прищурился, разглядывая дюжину коричневых домиков на берегу. Свет горел только в паре хижин.
– А что, остальные дома за холмом?
Паскаль смотрел на темные окна Ди Морей на третьем этаже его гостиницы.
– Нет. Это Порто-Верньона. Все.
Ричард покачал головой:
– Ну конечно. Прости! Боже мой, да это ж просто щель между скал! Телефонов тоже нет?
– Нет, – смущенно ответил Паскаль. – Может, следующий год придут.
– Этот Дин – прямо злой гений, – сказал Ричард почти восхищенно. – Вернусь, буду пороть этого гаденыша, пока у него из сосков кровь не пойдет. Змееныш!
Ричард сошел на пирс, а Паскаль задержался, чтобы заплатить рыбаку. Тот взял деньги и молча отбыл в обратном направлении. Юноша зашагал к берегу.
Наверху, на площади, вовсю гуляли рыбаки, как будто ждали чего-то. Они жужжали и носились по траттории, как растревоженные пчелы. Томассо-коммуниста вытолкнули вперед, и он начал спускаться по ступеням навстречу Паскалю и Ричарду. Юноша знал, что Ди не больна, просто беременна, но все равно испугался.
– Сегодня днем приезжали Гвальфредо и Пелле, – сказал Томассо, когда они встретились на ступенях. – Паскаль, они забрали твою американку! Я пытался их остановить. И тетя Валерия тоже. Она им сказала, девчонка помрет, если отсюда уедет. Американка тоже уезжать не хотела, но эта свинья, Гвальфредо, сказал ей, что она должна в Портовенере вернуться, что ее сюда по ошибке привезли. Что ее там ждет мужчина. И она уехала с ними.
Говорили они на итальянском, поэтому Ричард не понял, что случилось. Он опустил воротник, одернул рубашку и начал оглядываться. Потом улыбнулся Томассо и сказал:
– Старик, ты, часом, не бармен? Я бы выпил чего-нибудь. А то мне еще бедной девочке предстоит сказать, что ее обманули. А это непросто.
Паскаль перевел ему слова Томассо:
– Приехал человек другой отель и увез Ди Морей.
– Куда увез?
Паскаль махнул рукой:
– Портовенере. Сказал, она должна быть там, а мой отель не для американцев.
– Пират какой! Ну, мы ему еще покажем!
Они поднялись в тратторию, и, пока Ричард распивал с рыбаками остатки граппы, Паскаль составлял план действий. Его уговаривали подождать до утра, но Паскаль и Ричард сошлись во мнении, что Ди Морей должна немедленно все узнать. Она не умирает от рака. В Портовенере решили ехать этим же вечером. Все страшно разволновались. Томассо-Хрыч обещал перерезать Гвальфредо глотку, Ричард спрашивал, до каких часов открыты бары в Портовенере, Люго, герой войны, побежал домой за карабином, Томассо-коммунист торжественно отсалютовал и вызвался доставить экспедицию к месту сражения. И тут Паскаль понял, что он единственный трезвый человек в этой компании.
Он зашел в гостиницу, чтобы рассказать матери и тете о своих планах и прихватить для Ричарда бутылку вина. Валерия сидела у окна и описывала сестре все, что видела. Паскаль сунул голову в дверь.
– Я пыталась его остановить, – сказала мрачная Валерия и протянула ему записку.
– Я знаю, – сказал юноша.
В записке говорилось:
«Паскаль, сегодня приехали какие-то люди и сказали, что мой друг ожидает меня в Портовенере, что я попала сюда по ошибке. Я обязательно прослежу, чтобы Вам заплатили.
Спасибо за все,
Ваша Ди».Паскаль вздохнул. «Ваша».
– Ты там поосторожней, – предупредила его мать. – Гвальфредо – человек опасный.
Юноша спрятал записку в карман.
– Все будет хорошо, мама.
– Конечно, будет, Паско. Ты хороший человек.
Паскаль удивился. Антония редко так открыто проявляла свои чувства, особенно когда на нее находили приступы депрессии и она не вставала с постели. Может, ей уже получше? Он подошел и поцеловал мать. От нее пахло чем-то кислым, как и всегда, когда она долго не поднималась с кровати. Она изо всех сил сжала его руку дрожащей худой лапкой.
Паскаль испугался.
– Мама, я скоро вернусь!
Он оглянулся на Валерию, но та угрюмо смотрела в пол. Антония не выпускала его руку.
– Мама, не переживай ты так!
– Я говорила Валерии, такая высокая красивая американка никогда здесь не останется. Я ведь ей говорила!
– Мама, о чем ты?
Она откинулась на подушку и медленно разжала пальцы.
– Поезжай за этой американкой и женись на ней. Я тебя благословляю.
Он засмеялся и снова поцеловал ее.
– Я ее найду, но люблю я только тебя, мама! Других женщин для меня не существует.
Паскаль вышел на веранду. Ричард и рыбаки по-прежнему пили. Смущенный Люго сказал, что карабин дать не сможет, потому что жена подперла им ростки помидоров в огороде.
Они пошли к морю. Ричард ткнул Паскаля локтем в бок и показал на вывеску отеля:
– Твоя идея?
Паскаль кивнул:
– Отец.
– Потрясающее название. – Он отхлебнул портвейна. – Прямо кино какое-то! Такие приключения. Чудеса!
Рыбаки помогли Томассо-коммунисту выгрузить сети, рыболовную снасть и сердитую кошку на берег и стащили моторку в воду. Паскаль и Ричард уселись на скамейке. Рыбаки смотрели им вслед с узкой полоски песка, которую Паскаль называл пляжем. Томассо дернул шнур и случайно выбил бутылку из рук Ричарда. К счастью, она упала Паскалю на колени и портвейн почти не пролился. Юноша вернул бутылку основательно набравшемуся валлийцу. Мотор никак не заводился. Они тихонько качались на волнах, отплывая все дальше от пристани. Ричард постоянно икал и извинялся.
– Что-то тут воздух какой-то спертый, – говорил он.
– Сволочь! – заорал Томассо-коммунист. – Давай, заводись! – Он дергал и дергал за шнур, но двигатель молчал.
Рыбаки с берега кричали, что нет искры или бензин кончился, потом те, кто считал, что нет искры, стали кричать про бензин, а те, что кричали про бензин, наоборот, советовали проверить зажигание.
Тут на Ричарда накатило. Он встал и звучным глубоким голосом произнес, обращаясь к рыбакам на берегу:
– Оставьте страхи, эллины! Клянусь вам… сегодня же в Портовенере прольются слезы. Слезы… по их усопшим сыновьям. По тем… с кем мы на битву нынче выступаем… во славу девы, юной Ди Морей… Прекрасной девы, чья краса… нам будоражит кровь. Вот слово вам мое: мы, эллины, вернемся… с победою иль вовсе не вернемся!
Рыбаки поняли только, что это героическая поэма. Все дружно захлопали, даже Люго, который в этот момент мочился на камень. Ричард взмахнул бутылкой, словно окропляя святой водой нахохлившегося от холода Паскаля и сражающегося с мотором Томассо-коммуниста.
– О гнусные сыны Портовенере! Дрожите! Походом выступают сей же миг… бесстрашные воители, и скоро… несчастье постучится в вашу дверь! – Он положил руку на голову Паскалю. – В общем, с нами Ахилл и вон тот ароматный парень, не помню, как его зовут… Герои, все как на подбор! – Томассо дернул еще раз, мотор завелся, и Ричард чуть не вывалился за борт. Паскаль еле-еле успел его поймать. Ричард похлопал его по руке и закончил: – Остры умом, суровы сердцем.
Лодка тронулась с места, и спасательная экспедиция наконец началась.
Рыбаки на берегу расходились по домам. Ричард вздохнул и тоскливо поглядел на Порто-Верньону, постепенно скрывающуюся за мысом. Ему вдруг показалось, что деревушки этой и не было никогда.
– Слушай, старичок, знаешь, я беру свои слова назад. Насчет того, что я из такой же дыры. – Он махнул бутылкой портвейна. – Нет, тут здорово, конечно, но я даже в войну такого захолустья не видал.
Причалив в Портовенере, они тут же двинулись к новой гостинице Гвальфредо. Портье запросил бешеную цену, они поторговались, заплатили из тех денег, что дал им Майкл Дин, и нахал выдал им бутылку коньяку для Ричарда и сообщил номер комнаты Ди Морей. Актер немного поспал в лодке. Как уж ему это удалось, Паскаль не представлял. Ричард прополоскал рот коньяком, пригладил волосы и сказал:
– Ну все. Я готов.
Они поднялись по лестнице, прошли по длинному коридору и остановились перед дверью с номером шесть. Паскаль разглядывал обстановку. Ему было ужасно стыдно, что Ди Морей пришлось прозябать в его обшарпанном pensione. Тут даже пахло как-то по-особенному, по-американски. Не то что в его гостинице: там воняло падшими женщинами и гниющими водорослями.
Ричард галсами шел впереди Паскаля, загребая ковер ногами и ежесекундно выправляя крен. Он подмигнул Паскалю и тихонько поскребся в дверь. Никто не ответил, и Ричард постучал громче.
– Кто там? – спросила Ди.
– Любовь моя, это Ричард. Я пришел тебя спасти.
Через секунду дверь распахнулась. На пороге стояла Ди в халате. Она бросилась в объятия к Ричарду, и Паскалю пришлось отвернуться, чтобы не выдать своихчувств. Он страшно завидовал актеру. И он еще смел надеяться на взаимность такой девушки. Куда уж ему! Паскаль сам себе напоминал ослика, который восхищенно наблюдает, как резвятся в поле породистые скакуны.
Через несколько секунд Ди отстранилась.
– Где ты был?! – спросила она укоризненно и нежно.
– Я искал тебя, – ответил актер. – Тут у нас целая одиссея была. Слушай, я вот что хотел тебе сказать, тебя ужасно обманули!
– О чем ты?
– Давай зайдем и присядем. Я тебе все объясню. – Ричард прошел в комнату и закрыл за собой дверь.
Паскаль остался в коридоре один. Он смотрел на дверь, слушал приглушенные голоса в номере и не знал, что теперь делать – остаться здесь, постучать в дверь и напомнить о себе или сесть обратно к Томассо в лодку и уплыть домой. Юноша зевнул и прислонился к стене. Он не спал часов двадцать. Бёртон, наверное, ей уже рассказал, что она не больна, что она беременна, но в комнате почему-то было очень тихо. Он ожидал криков, ожидал, что она рассердится или, наоборот, обрадуется и удивится, что у нее будет ребенок. «Ребенок!» – должна была закричать Ди. Или просто спросить: «Ребенок?» Нет, слышны были только приглушенные голоса.
Прошло пять минут. Паскаль уже совсем собрался уходить, но тут дверь распахнулась и появилась Ди. Одна. Она плакала. Ни слова не говоря, девушка пошла по коридору, ступая по ковру босыми ногами. Паскаль отлепился от стенки. Ди крепко обняла его за шею, прижалась к его груди, и он обнял ее в ответ. Животик у нее уже немного выступал под тонким халатом. Она пахла розами и мылом, и Паскаль вдруг с ужасом подумал, как же он-то пахнет после дороги, после поезда, автобуса, машины и моторок? И в этот момент он осознал, каким удивительным был сегодняшний день. Он начался в Риме, где Паскаля чуть было не приняли на роль раба в «Клеопатре», а закончился здесь, в пустом коридоре. Ди затряслась, точно старый мотор в лодке Томассо. Паскаль сжимал ее в объятиях целую минуту. Минуту он старался ни о чем не думать, просто наслаждаться, чувствовать ее тело под мягким халатом.
Наконец она отстранилась и вытерла слезы.
– Я не знаю, что сказать.
– Ничего, – пожал плечами Паскаль.
– Но мне хочется что-то вам сказать, Паскаль! Мне это необходимо! – Ди рассмеялась. – «Спасибо» как-то… недостаточно.
Паскаль опустил голову. Оказалось, иногда дышать – просто вдыхать и выдыхать – это тяжелая работа. Ему было очень больно.
– Нет. Достаточно.
Он вынул из кармана конверт с деньгами, изрядно похудевший с того момента, как Майкл Дин протянул его юноше на Испанской лестнице.
– Майкл Дин просил дать вам.
Ди открыла конверт и вздрогнула. Столько денег! Паскаль не сказал, что часть предназначалась ему. Тогда бы вышло, будто он соучастник.
– И еще это. – Паскаль протянул ей фотографии, на верхней была Ди и темноволосая женщина, на заднем плане декорации «Клеопатры». Девушка закрыла рот рукой. – Майкл Дин просил меня говорить вам…
– Я не хочу знать, что сказал этот ублюдок! Не надо, пожалуйста! – Она не отрывала взгляда от снимков.
Паскаль кивнул.
Ди показала на темноволосую женщину:
– Знаете, она кажется такой милой. Даже смешно. – Ди вздохнула и посмотрела на другие фотографии. На одном снимке Паскаль вдруг узнал Ричарда Бёртона.
Ди оглянулась на открытую дверь номера и снова вытерла слезы.
– Мы, наверное, сегодня здесь останемся. Ричард ужасно устал. Ему завтра нужно вернуться во Францию, там у него еще съемок на один день. А потом мы вместе поедем в Швейцарию и пойдем к этому врачу… ну, чтобы он обо всем позаботился…
– Да, – ответил Паскаль. В воздухе между ними повисли слова «обо всем позаботился». – Я рад, вы не больны.
– Спасибо, Паскаль. Я тоже рада. – В ее глазах снова заблестели слезы. – Когда-нибудь я вернусь и навещу вас, хорошо?
– Да. – Он знал, что больше ее никогда не увидит.
– Мы можем сходить в горы, к бункеру, снова посмотреть на картины.
Паскаль просто улыбнулся и сосредоточился, подыскивая правильные слова.
– Первая ночь… вы сказали… мы не знаем, когда начнется наша история, да?
Ди кивнула.
– Мой друг, Алвис Бендер, тот, кто писал книгу, вы ее читали… он сказал один раз то же самое. Он сказал, наша жизнь, это история. Но истории идут в разные стороны. – Паскаль отвел руку влево. – Вы. – Он отвел вторую руку вправо. – Я. – Выходило не очень, но Ди кивнула, как будто все поняла. – Иногда мы вместе… как в поезде или в машине… едем в одну сторону. Одна история. – Он сжал руки. – И я думаю, это… приятно, да?
– Ну конечно! – Ди тоже сжала руки, чтобы показать, что поняла его. – Паскаль, спасибо вам!
Они обнялись и на мгновение замерли, потом Ди отступила на шаг. Паскаль двинулся по коридору к лестнице. Он собрал в кулак всю свою волю и гордость, чтобы уйти достойно, как центурион, которым он чуть было не стал сегодня утром.
– Паскаль, – сейчас же окликнула его Ди.
Он обернулся. Она подбежала к нему и поцеловала, на этот раз в губы, но совсем не так, как она целовала его на ступенях гостиницы в первую ночь. Тот поцелуй был началом истории, а этот – завершением. Финальной сценой первого действия пьесы, после нее второстепенному герою полагается уйти со сцены.
Ди вытерла слезы и протянула ему фотографию. Ту, где она смеялась вместе с красивой брюнеткой.
– Это вам на память.
– Нет. Это ваше.
– Я не хочу ее оставлять. У меня две другие есть.
– Когда-нибудь… хотите.
– Знаете что? Однажды, когда я постарею и захочу доказать внукам, что была киноактрисой, я приеду и заберу ее у вас. Хорошо?
Она сжала его руку, повернулась и скрылась в номере, тихонько прикрыв за собой дверь, словно ребенок, тайком от родителей проскальзывающий к себе поздно ночью.
Паскаль стоял и смотрел на дверь. Ему так хотелось, чтобы к нему в отель приехали американцы. И вот явилась Ди. Точно воплощение мечты. Дверь в сказочный мир приоткрылась. А теперь все вернулось на круги своя. Лучше бы он за эту дверь никогда не заглядывал.
Паскаль прошел по коридору, спустился по лестнице мимо ночного портье и вышел на улицу. Томассо курил, прислонившись к стене. Паскаль показал ему фотографию.
Томассо взглянул на нее, пожал плечами и фыркнул. Они медленно пошли обратно к морю.
12. Десятый отказ
Наше время
Лос-Анджелес, штат Калифорния
До рассвета – до гватемальских водил, до «мерседесов» и острозубых акул бизнеса, засоряющих мозги американских обывателей, – кто-то кладет руку Клэр на бедро.
– Отстань, Дэрил, – бормочет она.
– Дэрил?
Она открывает глаза. Светлый письменный стол, большой телевизор с плоским экраном, картина на стене – такие обычно вешают в гостиницах. Так это и есть гостиница!
Клэр спала на боку, а позади нее спал тот, кто сейчас держит ее за бедро. Она опускает глаза. Слава богу, одежда на ней. Ну хоть секса не было, и то хорошо. Клэр переворачивается и заглядывает в большие влажные глаза Шейна Вилера. Как-то до сих пор ей не приходилось просыпаться в постели с едва знакомым мужчиной. Что в такой ситуации надо говорить, неясно.
– Привет, – произносит Клэр.
– Дэрил – это твой парень?
– Десять часов назад был.
– Тот, который любит стриптиз?
Хорошая у него память.
– Ага.
Вчера ночью они пили и болтали. Клэр рассказала, как Дэрил бессовестно ходит по стрип-клубам. Она расстраивается, а он только смеется («тупик», так она обозначила их отношения). Клэр смотрит на Шейна. Вот тут тоже тупик намечается. С ума она сошла, что ли? Зачем-то согласилась подняться к Шейну в номер. И что теперь делать с руками? Ночью этими самыми руками она гладила голову Шейна, ну и… другие части тела. Клэр берет с тумбочки телефон, и на нее обрушивается шквал информации: семь утра, пятнадцать градусов, девять писем, два пропущенных звонка и короткая эсэмэска от Дэрила. «Че как?»
Шейн с утра кажется еще всклокоченнее, и бакенбарды у него скорее как у Элвиса под конец жизни, а совсем не хипстерские. Рубашку он снял, на тощей левой руке видна дурацкая татуировка, «Действуй». Это татуировка во всем виновата. В фильмах героине полагается вспоминать события вчерашнего вечера, превозмогая похмелье. Клэр вспоминает. Как она по просьбе Майкла забронировала номера в гостинице. Как везла итальянца, а Шейн ехал следом. Как Паскаль извинился, сказал, что устал, и ушел в свою комнату. Как Клэр попросила прощения у Шейна за свой дурацкий смех. Как Шейн пожал плечами, хотя было видно, что он обиделся. Как Клэр попыталась объяснить, что дело не в нем, просто ее работа достала. Как он ответил, что все понимает, и предложил отпраздновать победу. Как они пошли в бар, и платила Клэр. Как она убеждала Шейна не радоваться раньше времени, говорила, что интерес продюсера – это одно, а студия – совсем другое дело. Как они заказали еще выпить и Шейн кричал, что за пару коктейлей вполне может заплатить. Он ведь десять штук сегодня срубил! Как они выпили еще, и снова платила она.
Они пили и рассказывали о своей жизни. Сначала короткую версию для чужих (семья, колледж, работа), а потом уже правду: про неудачный брак Шейна, про сборник рассказов, который никто не хотел печатать. Про то, как Клэр выбралась из кокона научной работы и теперь никак не может решить, превращаться ей обратно в гусеницу или не стоит. Про то, что Сандра считает Шейна молочным теленком, да он и сам теперь с ней согласен. Про то, что Клэр так и не поработала на съемках хорошего фильма.
А потом они хохотали и кричали друг другу всякие глупости.
– У меня парень – зомби, и он обожает стрип-клубы!
– А я живу в подвале у родителей!
Они еще выпили, настал черед банальных откровений.
– Я люблю тайскую пиццу!
– И я тоже! Ну надо же!
А потом Шейн закатал рукав и показал ей татуировку. Боже, как же она любит татуировки! Клэр потянулась к нему через стойку и поцеловала его. Он погладил ее щеку. Вроде мелочь, только Дэрил никогда так не делал. Через десять минут они уже изучали содержимое минибара в его номере: им срочно потребовалась дозаправка в воздухе. И целовались, как студенты. Клэр хихикала, потому что бакенбарды оказались ужасно щекотные. Шейн сказал, что у нее красивая грудь. Часа два они хохотали и препирались насчет секса. Он склонялся к тому, что секс сейчас был бы очень кстати. Она сомневалась. А потом они, наверное, уснули.
И вот теперь Клэр садится в постели.
– Да, профессиональная этика у меня явно хромает.
– Смотря какая у тебя профессия.
Она смеется.
– Если ты за это деньги заплатил, то тебя прокатили.
Шейн снова кладет руку ей на бедро:
– Времени еще полно.
Она аккуратно перекладывает его руку на кровать. Хотя, конечно, хочется. Целоваться было классно, наверное, и секс будет не хуже. С Дэрилом в последнее время все разделилось на две фазы: первую, продолжительностью минуты в две, похожую на прием у аутичного гинеколога, и вторую, минут в десять, такой «визит водопроводчика». Может, Шейн сумеет сосредоточиться на ней, а не на процессе?
Она встает.
– Ты куда?
Клэр показывает ему телефон:
– Хочу выяснить, бросили меня или нет.
– Ты же вроде сама собиралась его бросить?
– Я еще не решила.
– Давай я за тебя решу.
– Спасибо, конечно, но я сама разберусь.
– А если порно-зомби спросит тебя, где ты была всю ночь?
– Я ему расскажу.
– И он тебя бросит? – с надеждой спрашивает Шейн.
– Не знаю.
Клэр садится за письменный стол и начинает просматривать сообщения. Надо же знать, во сколько Дэрил звонил в последний раз.
Шейн тоже встает и поднимает с пола рубашку. Клэр улыбается, глядя на него: такой тощий и такой симпатичный! Вот точь-в-точь в таких парней она влюблялась в колледже. Симпатичные, но не отпад. Только этот постарше. И на гориллу Дэрила, отжимающегося по пятьсот раз за день, совсем не похож. Шейн худой, весь из острых углов, локтей, коленок, выпирающих ключиц, и живот к позвоночнику прилип.
– Что-то я не помню, чтобы ты рубашку снимал.
– Я тоже не помню. Наверное, надеялся, ты поддержишь тенденцию.
Клэр открывает сообщение Дэрила. «Че как?» В голову ничего не приходит.
– И что ты ему скажешь?
– Не знаю пока.
– Скажи, что мы, кажется, влюбились. Тогда он точно уйдет.
– Да? – Она поднимает голову. – А мы влюбились?
Шейн застегивает кнопки на рубашке и улыбается:
– Может быть. Чтобы это узнать, придется провести день вместе.
– Ты прямо такой порывистый!
– Поэтому меня девушки и любят.
Вот черт, думает Клэр, обаятельный, зараза! Шейн вроде вчера говорил, что женился на суровой официантке, большой любительнице резать правду-матку в глаза. Пару месяцев они встречались, и он сделал предложение. Ничего удивительного! Только идиот будет говорить про любовь через четырнадцать часов после знакомства. Есть в нем какой-то… здоровый оптимизм. Клэр бы тоже не помешало смотреть на вещи проще.
– Можно я тебя спрошу? Почему ты решил именно про экспедицию Доннера написать?
– Ну вот! – ответил он. – Ты опять будешь надо мной смеяться.
– Я же уже извинилась. Просто Майкл три года подряд заворачивал все сценарии, которые мне понравились. Эти слишком мрачные, те слишком дорогие, а это вообще историческая картина… На фига она нам? Денег на ней не заработаешь. А потом появляешься ты. С мрачным и депрессивным сценарием на историческую тему. Деньгами тут и не пахнет. И Майкл вдруг в восторге. Как-то это подозрительно, он явно что-то задумал. Так почему Доннер?
Шейн пожимает плечами и поднимает с пола носок.
– У меня три старшие сестры. Все мои детские воспоминания связаны с ними. Я их обожал. Они со мной играли, как с куклой, одевали, причесывали. Когда мне было шесть лет, у самой старшей, Оливии, проявилось психическое расстройство. Она перестала есть. После этого весь семейный уклад пошел прахом. Кошмар! Ей было тринадцать. Она уходила в туалет и вызывала у себя рвоту. Покупала таблетки для похудения на деньги, которые родители давали ей на завтраки. Прятала еду в карманы, как будто съела ее. Предки поначалу орали, но от ора что толку? Ей было плевать. Казалось, она твердо решила умереть от голода. Вместо рук тонкие косточки. Волосы лезли клоками. Родители все перепробовали. Водили ее к врачам, к психологам, клали в клинику. Моя бывшая жена считает, что вот тогда они и начали квохтать над детьми. Может, и так, не знаю. Я помню, как однажды ночью лежал и слушал мамин плач. Папа ее утешал, а она все повторяла: «Мой ребенок умирает от голода». – Шейн так и сидит на кровати с носком в руках.
– И что было дальше? – тихонько спрашивает Клэр.
– А? – Шейн поднимает голову. – С ней все хорошо. Наверное, лечение помогло. Она просто… начала есть. У нее по-прежнему есть заскоки, она, например, никогда не привозит еду на День благодарения. Зато украшает стол. Тыквочки там, прочую ерунду раскладывает. И про пироги при ней лучше не говорить. Но в целом все закончилось благополучно. Оливия вышла замуж. Гнусный тип, надо сказать, но они вроде счастливы. У них двое детей. Знаешь, забавно, что все остальные члены семьи о том времени никогда не говорят. Оливия считает, что это такая детская болезнь была, в общем, ерунда. «Стройные годы», так она их называет. И только я один на этом зациклился. Мне было лет семь или восемь, и по ночам, лежа в кровати, я молился. Обещал, если Оливия поправится, ходить в церковь каждый день, стать священником… Короче, посвятить себя Богу. А сразу ведь ничего не бывает. Ну и я, как всякий ребенок, винил себя, считал, что сестра умирает от голода, потому что я недостаточно истово верю.
Шейн замолкает, глядя в пол, потом продолжает:
– К старшим классам все наладилось, бзик прошел, наверное, я его перерос. Но истории про голод всегда меня завораживали. Я всю библиотеку перерыл. Делал в школе доклады о блокаде Ленинграда. Особенно много я читал о каннибализме. Про регбистов из Уругвая, Альфреда Пакера, про маори… И конечно, про экспедицию Доннера.
Шейн замечает носок в руках и рассеянно надевает его.
– Видимо, я себя отождествлял с несчастным Вильямом Эдди. Он выбрался, но ничем не мог помочь своей семье. Я прочитал книгу Майкла Дина. Про то, что главное рассказывать вдохновенно, поверить самому. В свою историю, в себя. И тут меня осенило. Я вдруг понял, о чем расскажу.
«Осенило»? «Поверить в себя»? Может, на этот его здоровый оптимизм Майкл вчера и клюнул? И она тоже? Черт, а вдруг и впрямь им удастся сделать «Доннер!»? На одном только голом энтузиазме.
Клэр листает почту и находит письмо от партнера Майкла, Дэнни Рота. Написано вчера. Тема: «Доннер!». Наверное, Майкл ему уже звонил. Может, хоть Дэнни ему мозги на место вправил? Клэр открывает письмо. В нем, как обычно, одни малопонятные сокращения: Дэнни почему-то считает, что они экономят массу времени. Идиот!
К!
Гврт, ты нзнч встрч в «Юниверсал» по пвд «Доннер!». Надо, чтб прошло хрш: контракт. Проследи, чтб у пис-ля были кртнки, преза. Чтб было впеч., что мы эту идею давно разраб. Морду кирпичом.
ДэнниКлэр смотрит на Шейна. Потом снова на письмо. «Морду кирпичом». Почему? Что-то тут не так. И презентация… «Впечатление, что идея давно разрабатывается». Она вспоминает слова Майкла: «Я попрошу восемьдесят миллионов на исторический фильм о каннибализме среди переселенцев».
– Черт! – говорит Клэр.
– Опять эсэмэска от зомби?
И они на это пойдут? Майкл и Дэнни что-то говорили насчет адвокатов. Вроде те придумали, как вывернуться из договора с «Юниверсал». Глупый вопрос. Конечно, пойдут. Не могут не пойти. У них работа такая. Клэр хватается за голову.
– Что случилось? – Шейн смотрит на нее огромными щенячьими глазами. Бакенбарды смешно топорщатся. – Эй, ты чего?
Клэр колеблется. Может, не говорить ему? Пусть хоть пару дней порадуется. Надеть шоры и дожить до конца воскресенья. Помочь Майклу с презентацией, найти ему умирающую актрису, а в понедельник принять предложение сайентологов. И начать запасаться кошачьей едой. У Шейна глаза сияют. Такой хороший парень! Сейчас или никогда! Иначе она из этого круга не вырвется.
– Шейн, Майкл не собирается снимать твой фильм.
– Что? – Он нервно смеется. – Ты о чем?
Она садится рядом и все ему объясняет. Как Майкл в тяжелый для себя период заключил кабальный договор с «Юниверсал» и отдал им права на старые фильмы, а те в обмен оплатили часть его долгов.
– В договоре было еще два пункта. Майкл получил здание на территории студии. А студия получила право первого показа. То есть все, что Майкл собирается делать, он в первую очередь обязан предложить им. А уж потом другим студиям, и только если «Юниверсал» откажутся. Тогда Майкл не придал этому значения. «Юниверсал» отказывались от всех идей Майкла пять лет подряд. А другие тоже не брали: зачем брать то, что не нужно «Юниверсал»?
Клэр вздыхает.
– Апотом появилась «Фабрика любви». Майкл, когда ее начинал, думал, что телешоу и проект в соцсети в договор не входят. Что там речь только о фильмах. Оказалось, нет, Майкл обязан показывать все, что делает. В любых средствах массовой информации. То есть Майкл придумал новую концепцию, реалити-шоу без сценария в онлайне, денег она должна была принести немерено, и тут выясняется, что все права принадлежат студии.
– Я не понял, а ко мне-то это какое…
– С тех пор адвокаты Майкла искали лазейку. И несколько недель назад нашли. Студия сама этот пункт заложила на случай, если Майкл и впрямь совсем выдохнется. Если за пять лет «Юниверсал» откажется от десяти идей Дина, каждая из сторон вправе разорвать договор. В целом речь идет о любом материале, а вот в лазейке, в пункте про условия расторжения, говорится только о фильмах. Конечно, шоу «Фабрика любви» студия выпустила, но если Майкл принесет им десять сценариев и они от всех откажутся, Майкл вырвется на свободу.
До Шейна начинает доходить.
– Получается, мой сценарий – просто…
– Десятый по счету. Вестерн стоимостью в восемьдесят миллионов долларов, чернуха про каннибалов! Студии придется сказать «нет», никуда они не денутся. Майкл распишет все как можно мрачнее, потом заплатит тебе за то, чтоб ты написал сценарий, как будто и в самом деле собирается снять фильм. Студия откажется, и он сможет продать права на свое телешоу тому, кто больше заплатит. Там бабла – десятки миллионов.
Клэр ужасно стыдно. Ранить самолюбие такого оптимистичного мальчика ей неприятно. Она берет его за руку:
– Шейн, прости, пожалуйста!
И тут телефон начинает вибрировать. Дэрил, наверное. Вот черт! Клэр еще раз сжимает руку Шейна, отходит на другой конец комнаты и, не глядя на определитель, нажимает на кнопку.
Но это не Дэрил.
Это Майкл Дин.
– Отлично! Ты уже встала. Ты где? – Ответа он не ждет. – Итальянца с переводчиком в отель поселила?
Клэр смотрит на Шейна:
– Типа того.
– Через сколько будешь в гостинице?
– Я быстро доберусь. – Никогда она еще не слышала, чтобы Майкл разговаривал таким голосом. – Я бы хотела с вами поговорить о сценарии Шейна.
– Мы ее нашли, – перебивает Майкл.
– Кого?
– Ди Морей. Только ее на самом деле звали Дебра Морган. Она всю жизнь прожила в Сиэтле, учила детей итальянскому и руководила школьным театром. Нет, ты представляешь?! – Майкл аж булькает от возбуждения. – А пацан ее… Ты когда-нибудь про группу «Молчуны» слышала? – И снова он не ждет ответа. – Вот и я не слышал. Короче, детектив готовит нам целую папку материалов. Я тебе все расскажу по дороге в аэропорт.
– Аэропорт? Майкл, а что происходит?
– Мне надо, чтобы ты все в самолете успела прочитать. Тогда сама поймешь. А теперь бегом в гостиницу и скажи мистеру Турси и переводчику, чтобы они собирались. Вылет в двенадцать.
– Майкл…
Но он уже отключается, такчто спросить, куда они летят, Клэр не успевает. Шейн по-прежнему сидит на кровати, глядя в пол.
– Майкл нашел эту актрису. Нам нужно в аэропорт, он хочет сегодня же с ней встретиться.
Шейн, похоже, ее вообще не слышит. Не надо было ему ничего говорить. Пусть бы жил себе и радовался.
– Слушай, ну прости! – говорит Клэр. – Хочешь, я другого переводчика найду? Можешь никуда не ездить…
– Значит, он заплатит мне десять тысяч долларов за то, чтобы я помог ему вывернуться из контракта? – перебивает Шейн. Выражение лица у него очень странное и одновременно чем-то знакомое. – А он на этом десять лимонов наварит?
Вот теперь понятно, что это за выражение. В глазах у Шейна, как в окошке «однорукого бандита», мелькают доллары.
Обалдеть! Да у пацана прямо талант!
– Ты ж понимаешь, кому охота толкать провальную идею за десять штук? А вот за пятьдесят или даже восемьдесят… – Он криво ухмыляется. – Я согласен!
13. Фильм с участием Дика
Апрель 1978
Сиэтл, штат Вашингтон
До приезда физрука Стива оставалось минут пять. Дебра Бендер давно научилась уклоняться от ухаживаний коллег-учителей. Но Стиву отказать никак не получалось, очень уж ему не терпелось пригласить молодую вдову на свидание. Он несколько месяцев кружил вокруг нее и наконец решился. Они вместе дежурили на школьных танцах, сидели за столом под вывеской «Непреходящая любовь. Весна 1978».
Дебра попробовала отказаться под обычным предлогом: никаких отношений на работе. Стив только посмеялся.
– Это профессиональная этика такая? Как у адвокатов с их клиентами? Если что, я физкультурник, Дебра. Физкультурник – не настоящий учитель.
Подруга Дебры, Мона, уговаривала ее обратить на Стива внимание с тех самых пор, как в учительской заговорили о его разводе. Милая бедная Мона. Ее собственная личная жизнь никак не складывалась, но зато она точно знала, что нужно подруге. Дебра согласилась только потому, что Стив пригласил ее в кино. А она как раз хотела посмотреть один фильм…
Она стояла в ванной и разглядывала свое отражение. Светлые волосы ложились на плечи волнами. Дебра повернулась в профиль. Напрасно она перекрасилась в этот цвет. Лет десять она выкорчевывала из души актерское тщеславие. Ей тридцать восемь, можно было бы уже и смириться с ролью женщины «среднего возраста». Но не получалось. Ну никак не получалось. Каждый седой волосок раздражал, как репейник на клумбе. Сколько миллионов раз она провела расческой по светлым прядям, сколько масок и косметических процедур перенесла, лишь бы только о ней говорили: красавица, хороша собой, умопомрачительна. Когда-то она принимала свою красоту как должное и никаких подтверждений собственной неотразимости не требовались. Не нужны ей были ни ухажеры, ни даже милая Мона («Знаешь, если бы я так выглядела, я бы мастурбировала круглые сутки»). А вот теперь Дебра смотрела на щетку, как на талисман. В детстве она брала расческу и пела в нее, словно в микрофон. И сегодня тряслась перед свиданием, как та пятнадцатилетняя девчонка.
А может, это и естественно, так нервничать. С последним ухажером она рассталась год назад. Пат называл его Лысый Марв (у Пата была дурацкая привычка давать прозвища всем ее кавалерам). Марв был учителем Пата по классу гитары. Лысый Марв ей вообще-то нравился. Он был старше ее на десять лет, воспитывал двух дочерей от первого брака. Мечтал слить две семьи в одну. Как-то раз они с Деброй вернулись вечером домой и застали Пата сливающимся с его пятнадцатилетней дочкой Дженет. И Марв сразу как-то передумал.
Он рвал и метал, а Дебре хотелось встать на сторону Пата. Вот почему в такой ситуации во всем винят мальчиков? Дженет, между прочим, была на два года старше. Но Пат, как обычно, гордо взял вину на себя, прямо благородный герой фильма про Джеймса Бонда. Это он все придумал, он сам добыл водку и презерватив. Чего ж тут удивляться, что Лысый Марв скоренько свалил? Ди терпеть не могла выяснения отношений. Ненавидела безличные штампы. «Я пока не готов». «Дело не в тебе». У Марва хотя бы хватило смелости сказать все прямо:
– Ди, я тебя люблю, но сил разбираться в ваших с Патом отношениях у меня не хватит.
«В ваших с Патом отношениях». Неужели все так плохо? Может быть. Минус третий по счету ухажер, Карл-Мастерок, уговаривал ее выйти за него замуж, только сначала отдать Пата в кадетскую школу.
– Боже, Карл, – сказала она, – ему же девять лет!
И вот теперь настал черед физрука Стива. Ну, у этого хоть дети с бывшей женой живут, может, на этот раз удастся избежать потерь среди гражданского населения?
Она прошла по коридору мимо фотографий Пата. Господи, везде, на всех снимках эта ухмылка! Тот же подбородок с ямочкой, те же влажные, с поволокой глаза, то же самодовольство. Единственное, что менялось от фотографии к фотографии, так это прическа (длинные волосы, ежик, вьющиеся, зализанные назад). Авот ощущение одно и то же: отрицательное обаяние.
Дверь в спальню Пата была закрыта. Дебра постучала, но он не ответил, наверное, слушал музыку в наушниках. Мальчику уже пятнадцать, и можно было бы оставлять его одного без напутственных речей, но Дебра ничего не могла с собой поделать. Она еще раз постучалась и открыла дверь. Пат сидел на кровати, скрестив ноги, рядом лежала гитара. На стене висел плакат «Пинк Флойд»: свет, проходящий сквозь призму. Пат наклонился, как будто спрятал что-то в ящике стола. Дебра вошла, пнув ногой гору одежды на полу. Пат снял наушники.
– Привет!
– Что в ящике?
– Ничего, – быстро ответил мальчик.
– Мне что, открыть и посмотреть?
– Да ради бога!
На нижней полке книжного шкафа лежали разрозненные и помятые листы романа Алвиса, вернее, одной главы из романа. Год назад она сама отдала ему рукопись: они поссорились, и Пат кричал, что ушел бы жить к отцу, если б мог. И она принесла ему пожелтевшие странички. Надеялась, что это даст мальчику опору. «Вот, твой отец писал роман». «Твой отец». Она и сама почти что поверила. Алвис считал, им нужно обязательно рассказать Пату правду, как только он подрастет. Но годы шли, а Дебра все никак не могла собраться с духом.
Она скрестила руки на груди, ну прямо ни дать ни взять классическая мамаша.
– Так что, мне самой ящик открыть?
– Мам, ну правда… там нет ничего! А как же доверие и все такое?
Она шагнула вперед. Пат вздохнул, отложил гитару, открыл ящик, порылся в нем и достал трубку для марихуаны.
– Я не курил, честное слово!
Дебра пощупала трубку. Холодная, и травой не пахнет. В ящике марихуаны тоже не нашлось. Только пара часов, медиаторы, нотные тетради, ручки и карандаши.
– Трубку я забираю, – сказала Дебра.
– Ясен пень. – Он кивнул, как будто только этого и ждал. – Надо было спрятать получше.
Всякий раз, как Пат что-нибудь отчебучивал, он вдруг становился ужасно спокойным и рассудительным. Переходил в режим «мы же любим друг друга, мы семья», чем совершенно ее обезоруживал. Казалось, будто Пат помогает ей воспитывать трудного ребенка. Даже в шесть лет этот фокус ему отлично удавался. Как-то раз она вышла на крыльцо забрать почту, перекинулась с соседкой парой слов, а когда вернулась, он заливал водой дымящийся диван.
– Ничего себе! – сказал Пат, как будто не сам поджег обивку. – Хорошо, что я вовремя воды притащил!
Пат протянул ей наушники. Смена темы.
– Послушай, тебе понравится.
Дебра посмотрела на трубку.
– Может, мне никуда не ходить?
– Да ладно тебе, мам! Ну прости. Я иногда верчу в руках всякую фигню, когда сочиняю. Я уже целый месяц не обкуривался, честное слово! Давай, иди на свое свидание.
Дебра внимательно посмотрела на сына. Вид у него был крайне убедительный, будто он и не врал никогда в жизни.
– Может, ты просто идти с ним не хочешь?
Еще один его фокус – Пат всегда оборачивал дело так, будто это она виновата, и всегда угадывал подоплеку ее решений. Она действительно не хотела идти на свидание.
– Да ладно тебе, расслабься! Сходи проветрись. Можешь мою форму для физры надеть, Стив обожает тесные серые шорты.
Она улыбнулась:
– Спасибо, я лучше в своей одежде пойду.
– Имей в виду, он потом всех заставляет душ принять.
– Правда?
– Ага. Десять приседаний, десять отжиманий, разминка, борьба на ковре, душ. Свидание «мечта физкультурника».
– Да ладно!
– Точно тебе говорю. Очень экстравагантный чувак.
Экстравагантный? Только Пат может так тонко обозвать человека дебилом.
– Только не спрашивай его: «Вы экстравагантный?» Он ответит: «Надеюсь, что да. Я за эту экстравагацию целое состояние в клинике отвалил».
Она снова рассмеялась и, как всегда, тут же пожалела об этом. Вот интересно, сколько раз Пат таким образом выкручивался в школе? Женщины-учителя особенно легко поддавались его очарованию. Он никогда не делал домашнюю работу, уговаривал других детей выполнить за него все задания, получал одни пятерки, убеждал директоров школ изменить ради него правила, прогуливал и придумывал сногсшибательные отговорки. У Дебры все сжималось внутри, когда на родительском собрании ее спрашивали, поставили ли ей уже диагноз, как Пат съездил в Южную Америку, как он пережил потерю сестры, и рассказывали разные версии смерти «бедного папочки»: убит, пропал в Бермудском треугольнике, умер от переохлаждения при восхождении на Эверест. Каждый год бедный Алвис умирал какой-нибудь новой смертью. А потом, лет примерно в четырнадцать, Пат вдруг понял, что врать совершенно необязательно, гораздо интереснее заглянуть человеку в глаза, попросить, и он сам тебе все отдаст.
Может быть, мужчина в доме и уравновесил бы ее слепую любовь к сыну, а может, и нет. Она была слишком очарована искренностью и напором Пата, когда он был малышом, и ей было очень одиноко, особенно в те страшные годы.
Пат встал.
– Мам, я же пошутил! – Он подошел к ней. – Иди, тебе надо развлечься. Я хочу, чтобы ты была счастлива.
Он и вправду вырос за этот год. Ей об этом все говорили. В школе проблем стало поменьше, и из дома он перестал сбегать, и оценки стали лучше. И все же Дебру очень беспокоили его глаза, не форма или цвет, а искра, сияние, отблеск притаившейся опасности.
– Для счастья мне нужно, чтобы ты сидел дома.
– Заметано. – Пат протянул ей руку. – Можно, Бенни зайдет порепетировать?
– Конечно, можно.
Бенни играл на гитаре в группе Пата. Из-за этой группы Пат и повзрослел. Дебра сходила на пару школьных концертов и фестиваль в Сиэтле. Ничего не скажешь, играли они хорошо. Дебра боялась услышать панк-рок или металл, но оказалось, ее сын пишет нервную, неровную и… какую-то очень честную музыку (Дебра сравнила их с «Роллинг Стоунз», и Пат только глаза закатил). Больше всего ее поразило то, как сын держится на сцене. Пат пел, приплясывал, общался с публикой, шутил. Казалось бы, чему удивляться, он всегда легко очаровывал людей. И все же она удивилась. Он обладал властью над толпой. С тех пор как Пат собрал группу, он стал прямо идеальным ребенком. Если пацан начинает играть в группе и сразу превращается в паиньку, тут явно что-то не так. Но отрицать очевидное было невозможно: Пат сосредоточился на главном и твердо шел к цели. Ее очень смущало то, к чему он стремился. Пат постоянно говорил, как прославится, как его группа станет известной всему миру. Она пыталась сказать ему об опасностях славы, но сформулировать как следует свою мысль не могла. Бормотала что-то о чистом искусстве и ловушках на пути наверх. С тем же успехом можно было рассказывать голодающему об опасности ожирения.
– Я вернусь через три часа, – сказала Дебра. На самом деле они придут часов через пять-шесть. Но за три часа Пат меньше успеет натворить, а потом будет сидеть и ждать ее, как пай-мальчик. – Ничего… не…
Она запнулась. Пат ехидно улыбнулся:
– Ничего не делай?
– Вот именно.
Пат отдал честь, снова надел наушники и взял гитару.
– Эй! – сказал он, когда Дебра уже была в дверях. – Только не поддавайся, если он будет тебя уговаривать прыгнуть с тарзанки. Ему нравится смотреть, как девушки машут ногами.
Дебра закрыла дверь, пошла к выходу и вдруг остановилась, задумчиво глядя на трубку. Зачем было ее доставать, если у него нет травы? И он слишком долго рылся в ящике. А трубка ведь должна была быть на самом верху Дебра вернулась и распахнула дверь. Пат сидел на кровати, ящик стола снова был выдвинут, и теперь он держал в руках то, что на самом деле прятал. Тетрадь с песнями. Он поднял голову и покраснел от злости.
– Мама! Какого черта?!
Она вырвала тетрадь у него из рук, еще не зная, что хочет найти. В голове вертелись все самые жуткие сценарии, которыми пугают родителей. Он пишет песню о том, что хочет покончить с собой. Или о том, как торгует наркотиками. Дебра пролистала страницы. Тексты, пометки с аккордами – нотную грамоту Пат знал плохо, – отрывки любовных песен, таких, какие пишут пятнадцатилетние подростки («Сексуальная игра» с неуклюжей рифмой «Таня, хочу тебя»), какой-то патетический гимн про солнце, луну и чрево вечности.
Он протянул руку:
– Отдай!
Дебра листала страницы. Что же тут было такого страшного, если он предпочел отдать ей трубку для марихуаны?
– Мама! Я сказал, отдай! Ну!
Она дошла до последней страницы. Вот эту песню он и прятал. Дебра очень расстроилась. Песня называлась «Улыбка небес», так же, как и роман Алвиса.
А я раньше думал, что папа придет. Почему небо улыбается? Мне не смешно.– О господи! – Дебре было ужасно стыдно. – Пат, прости, я думала…
Он выхватил тетрадь из ее рук.
Так редко удавалось разглядеть эмоции за саркастической маской, что Дебра часто забывала, какой он еще ребенок. Маленький мальчик, до сих пор тоскующий по отцу, которого даже не помнил.
– Тебе что, легче соврать, что ты куришь траву, чем рассказать про песню об отце? Пат, ну прости!
Он потер глаза.
– Песня-то плохая.
– Да ладно тебе, очень даже хорошая.
– Говно сопливое! Я так и знал, что ты будешь потом эту тему час мусолить.
Она села на кровать:
– Ну ладно… давай поговорим.
– О господи! – Он замер, глядя в одну точку, потом вдруг засмеялся, словно вышел из транса. – Мам, да это ж ерунда! Просто песня.
– Пат, я понимаю, тебе было тяжело…
Он поморщился:
– По-моему, ты не въезжаешь. Я вообще не хочу об этом говорить. Совсем. Ну пожалуйста! Давай потом как-нибудь, а?
Она не сдавалась. Тогда Пат легонько толкнул ее ногой.
– Давай уже. Мне еще столько надо написать, а ты на свидание опоздаешь. Физрук Стив всех, кто опаздывает, заставляет бегать пять кругов.
Физрук Стив приехал на здоровенном «плимуте» с грязными сиденьями. Вид у него был вполне геройский, короткая стрижка с косым пробором, квадратная челюсть. Фигура тяжелоатлета только-только начинала оплывать – возраст брал свое. У мужчин период полураспада, как у урана, подумала Ди.
– Что будем смотреть? – спросил Стив, когда она села в машину.
– «Экзорциста-2». – Ди стало неловко за свой выбор. Она пожала плечами: – Дети в библиотеке говорили, что вроде картина неплохая.
– Ну и ладненько. А то я уж боялся, что ты выберешь какой-нибудь заумный иностранный фильм с субтитлами и мне придется делать вид, будто я все понял.
Дебра рассмеялась.
– Там хороший актерский состав. Линда Блэр, Луиз Флетчер, Джеймс Эрл Джонс, Ричард Бёртон… – Она покраснела от одного звука его имени.
– Ричард Бёртон? Он что, не помер еще?
– Нет пока.
– Ну ладно. Только ты меня за руку держи. Я на первом «Экзорцисте» чуть со страху не обделался.
Дебра посмотрела в окно.
– Я первого не видела.
Они поужинали в рыбном ресторанчике. Стив взял креветку с тарелки Ди, не спрашивая разрешения, и это ей ужасно понравилось. Говорить с ним было легко и приятно. Стив расспрашивал ее о Пате, Дебра отвечала, что тот взрослеет и проблем гораздо меньше. Забавно: о Пате говорили только в контексте проблем.
– Да не волнуйся ты так, – Стив как будто мысли ее читал, – в хоккей Пат, честно сказать, играет хреново, но парень он хороший. Талантливые ребята вроде него вечно во что-нибудь вляпываются, и чем больше вляпываются, тем крепче стоят на ногах, когда вырастут.
– А ты откуда знаешь?
– Я вот ни во что никогда не вляпывался, а теперь физруком в школе работаю.
В общем, вечер оказался вполне удачным. Они заранее пришли в кинотеатр. Взяли одно ведро попкорна на двоих, боролись за один на двоих подлокотник и даже историю жизни друг другу успели рассказать. Ди: родилась и жила в Сиэтле, овдовела десять лет назад, мать умерла, отец женился снова, есть младший брат и две сестры. Стив: разведен, двое детей, двое братьев, родители живут в Аризоне. Потом они посплетничали. Школьники обнаружили в тайнике у учителя труда целую порноколлекцию. Миссис Вайли соблазнила забияку Дейва Эймса. Ди: «Но ведь он совсем еще мальчик!» Стив: «Теперь уже не мальчик».
Огни в зале погасли, Стив откинулся на спинку кресла и тихонько сказал:
– Ты какая-то другая, не такая, как в школе.
– А какая я в школе?
– Честно? К тебе подойти страшно.
Она рассмеялась:
– Уж так и страшно!
– Очень страшно. Прямо жуть берет. Сразу чувствуешь себя полным идиотом.
– Я в этом не виновата!
– Да ладно! Ты себя в зеркало видела?
От дальнейших подробностей Ди спасла реклама. Ди подалась вперед, чувствуя, как накатывает знакомое волнение. Она всегда нервничала, когда смотрела его фильмы. На экране появились вспышки пламени, потом демоны, раздались взрыва. Наконец ей показали Ричарда, и Ди расстроилась: лицо его посерело, черты заострились, а в глазах, тех самых, которые она видела дома каждый день, почти совсем потухли искры.
Сюжет лихо закручивался, становился все глупее и непонятней, может, надо было все-таки первую серию посмотреть? Пату недавно удалось пробраться в кино, и он объявил «Экзорциста» «уморительным». Действие разворачивалось вокруг гипнотического прибора, с которого свисала целая копна жутковатых проводов и присосок. Прибор позволял нескольким людям одновременно видеть один и тот же сон. Когда на экране не было Бёртона, Ди старалась сосредоточиться на сюжетных ходах, попытаться понять замысел, заметить режиссерские находки. Она смотрела фильмы с Диком и представляла, как бы сыграла с ним эту сцену. Она и студентов своих тому же учила: следите за тем, какое решение сцены выбирает актер. Луиз Флетчер играла с изумительной легкостью. Ди восхищалась ее профессионализмом. И ее карьерой, и ролями. У Ди тоже могла бы быть такая судьба. Может быть.
– Хочешь, уйдем, – прошептал физрук Стив.
– Что? А, нет, зачем?
– Ты все время фыркаешь.
– Правда? Извини.
Остаток фильма она сидела тихо, аккуратно сложив руки на коленях, и наблюдала, как Дик мечется в поисках выхода. Пару раз она вдруг видела прежнего Бёртона, энергичного, а не растягивающего, словно пьяный, слова.
По дороге к парковке они почти не разговаривали.
– Интересный фильм, – сказал Стив.
– Ну да, – ответила она.
Дебра задумчиво смотрела в окно. Прокручивала в голове разговор с Патом, пыталась понять, не упустила ли она чего. Что, если бы она просто сказала: «Кстати, я сейчас пойду смотреть фильм, в котором главную роль играет твой отец»? Только вот непонятно, чем бы это ему помогло. Что бы он сделал? Стал бы встречаться по выходным с папочкой на теннисном корте?
– Надеюсь, ты не нарочно этот фильм выбрала, – сказал Стив.
– Что, прости? – Ди съежилась.
– Ну, просто после такого фильма трудно пригласить девушку на второе свидание. Все равно что предлагать спасшемуся с «Титаника» еще раз поехать в круиз.
Она натянуто рассмеялась. Ди убеждала себя, что следит за ролями Бёртона из-за Пата, на случай, если она все-таки когда-нибудь расскажет ему правду. Но ведь никогда она не расскажет!
Зачем же она ходила на его фильмы? Шпионила за ним, смотрела, как он губит себя? В уме проигрывала роли его партнерши, непременно положительной героини. И роли эти исполняла не Дебра Морган, учительница актерского мастерства и итальянского, а Ди Морей, актриса, которой она была много лет назад. Ей казалось, будто она тогда разделилась на две части. Дебра вернулась в Сиэтл, а Ди Морей проснулась в маленькой итальянской гостинице у моря, милый Паскаль отвез ее в клинику в Швейцарии, и врачи сделали все, что нужно. Ди променяла ребенка на карьеру, – карьеру, о которой мечтала Дебра. «После двадцати шести фильмов и бесчисленных ролей в театре Ди Морей, ветеран сцены, наконец номинирована на приз за лучшую роль второго плана». Ха!
Дебра вздохнула. Как была она дурочкой, как пела в расческу, так и не поумнела до сих пор!
– Все нормально? – спросил Стив. – У меня такое ощущение, будто ты километров за сто отсюда.
– Прости. – Дебра сжала его руку. – Просто у меня перед выходом был странный разговор с Патом и я расстроилась.
– Что стряслось?
Дебра чуть не рассмеялась. Подумать только, чтобы она во всем призналась физруку Пата!
– Да ну его, – ответила она. – Наплевать и забыть.
Вот интересно, думала Дебра, сумеет Стив повлиять на Пата? Он нормальный мужик, хороший пример для подражания. Или уже слишком поздно?
Они подъехали к дому. Дебре свидание понравилось, она бы и еще пошла, но вот момент, когда водитель поворачивается, с надеждой заглядывает ей в глаза, тянется поцеловать и приглашает на следующее свидание, – это кошмар. Аж скулы сводит от неловкости.
Дебра оглянулась на окна. Ей ужасно не хотелось, чтобы Пат увидел, как они со Стивом целуются, и потом ее дразнил. Перед домом чего-то не хватало. Она открыла дверцу и пошла по дорожке, словно во сне.
– Ну что, на этом все? – спросил Стив.
– Что? – Дебра обернулась.
Стив вышел из машины.
– Слушай, может, сейчас неподходящий момент, но я все-таки скажу. Ты мне нравишься. – Он стоял, опираясь рукой на крышу автомобиля. – Ты меня спросила, какая ты в школе. Вот честно, такая, как сейчас по дороге домой. Я сказал, что к тебе страшно подойти, потому что ты красивая. Это правда. Но иногда кажется, будто ты вообще не замечаешь тех, кто рядом. Они для тебя не существуют.
– Стив…
Но он еще не закончил.
– Я знаю, я тебе не очень подхожу. И это нормально. Но ты была бы куда счастливее, если бы хоть изредка подпускала людей поближе.
Дебра хотела все объяснить, но последняя реплика, «ты была бы куда счастливее», ее разозлила. Была бы? Конечно, была. У нее могла бы быть совсем другая жизнь! Ди сердито смотрела на Стива.
– В общем, спокойной ночи! – Он уехал.
Дебра проводила взглядом до поворота красные огоньки.
А потом обернулась к дому, к пустой дорожке, на которой должна была стоять ее машина.
Дебра открыла ящик, где хранилась запасная пара ключей. Их, разумеется, не было. Зашла в комнату к Пату (его, разумеется, не было тоже), поискала записку (которой, разумеется, тоже не было), налила себе вина и села у окна ждать возвращения сына. Без четверти три ночи ей наконец позвонили из полиции. «Вы миссис… Вашего сына зовут… Какая машина… “Ауди”, бежевая… номерной знак…» Дебра на все вопросы отвечала «да». Вопросов было столько, что она перестала вслушиваться, просто бездумно соглашалась. Потом она повесила трубку, позвонила Моне, та приехала и отвезла ее в полицейский участок.
Мона припарковалась и взяла Дебру за руку. Милая Мона! На десять лет моложе Дебры, недурна собой, красивые плечи, зеленые умные глаза, светлые волосы, собранные в тугой узел. Однажды она попыталась Дебру поцеловать. Они закрылись в кабинете труда для девочек и слишком много выпили. Настоящее чувство всегда легко распознать. Только почему-то в Дебру влюбляются именно те, кого она не любит.
– Слушай, я знаю, ты от него без ума, но сколько же можно это терпеть? Эй, ты слышишь меня? Пусть этот говнюк сядет. Не вытаскивай его!
– Он уже почти исправился, – сказала Дебра. – И песню написал… – Она не закончила. Сказала спасибо и пошла в участок.
Там ее встретил здоровенный полицейский в круглых очках. Беспокоиться не надо, сказал он, ее сын жив и здоров, но вот машина вдребезги – вылетела за ограждение и упала в овраг.
– Жуткая авария, чудо, что никто не пострадал!
– Никто?
– Сзади сидела девушка. Она тоже цела. Испугалась сильно, а так ничего. Ее родители уже здесь.
Девушка, ну конечно!
– Можно мне с ним поговорить?
Полицейский сказал, можно. Но сначала он должен поставить ее в известность, что ее сын был нетрезв. В машине нашли бутылку водки и следы кокаина на зеркальце. Его обвиняют в неосторожном вождении, управлении машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, к тому же и прав у него пока нет.
Он сказал «кокаин»? Дебре ничего не оставалось, кроме как слушать и кивать.
Обвинения серьезные, дело передадут в прокуратуру, следователю по делам несовершеннолетних, который определит…
Стоп! Кокаин?! Где он взял кокаин? И еще – физрук Стив сказал, что она всех держит на расстоянии. За что он так с ней? Она бы и рада кого-нибудь подпустить. Или скорее она бы и рада сама от себя сбежать куда подальше. И Мона тоже заладила: «Засади говнюка, сколько можно терпеть?» Они думают, она мазохистка?! Что она может хоть как-то повлиять на Пата? А хорошо бы и правда его засадить. Вернуться назад во времени и прожить совсем другую жизнь…
Ди Морей сидит на скамейке на берегу Ривьеры. Она читает газету, а ее спутник, милый Паскаль, уходит играть в теннис.
– У вас есть ко мне вопросы?
– Что, простите?
– У вас вопросы есть?
– Нет.
Толстяк проводил ее куда-то в глубь участка.
– Наверное, сейчас момент неподходящий, – сказал он, оглянувшись, – но я заметил, что вы без кольца. Может, сходим как-нибудь поужинать? От всех этих юридических тонкостей можно с ума сойти, совет опытного человека вам бы не помешал…
Служащий отеля приносит Ди телефон. Она снимает шляпу и берет трубку. Это Дик! «Здравствуй, любовь моя, – говорит он, – я уверен, ты сегодня как всегда прекрасна».
Полицейский протянул ей визитную карточку:
– Я понимаю, вам сейчас не до того, но, может, потом как-нибудь?
Дебра посмотрела на карточку.
«Я видела “Экзорциста”». «Господи боже, зачем ты пошла на эту дрянь? – говорит Дик. – Вечно ты мне на больную мозоль наступаешь». «Да уж, – мягко говорит она, – не Шекспир». Дик смеется. «Послушай, дорогая, – говорит он, – у меня тут есть одна пьеска, мне бы хотелось сыграть ее с тобой…»
Полицейский открыл дверь. Дебра судорожно вдохнула и вошла в пустую комнату.
Пат сидел на стуле, обхватив голову руками. Услышав шаги, он выпрямился и посмотрел на мать. Эти глаза! Никто никогда не поймет, как тесно они с Патом связаны. Как все непросто, подумала Ди. Ссадина у Пата на лбу была похожа на проплешину на ковре. Главное, он цел и практически невредим. И неотразим, как его отец.
– Привет! – Он улыбнулся так, словно удивился, увидев ее здесь. – Как свидание?
14. Ведьмы из Порто-Верньоны
Апрель 1962
Порто-Верньона, Италия
Когда Паскаль проснулся, солнце уже позолотило верхушки гор над деревней. Он поднялся по ступеням на третий этаж, в комнату Ди Морей. Ди была здесь только вчера. Трудно в это поверить. И вчера же он приехал из Рима на «альфа-ромео» сумасшедшего Ричарда Бёртона. Как будто время замерло на сутки, подождало, пока сказка закончится, и снова пошло. Паскаль посмотрел на терракотовые стены. Это теперь комната Ди. Приедут и другие гости, но у Ди всегда будет собственный номер. Паскаль открыл ставни, впустил солнечный свет. Пахло только морем. Запах Ди уже исчез. Паскаль пролистал неоконченную рукопись Алвиса. Писатель приедет со дня на день и снова засядет за свой роман. Придется его переселить в другой номер.
Паскаль вернулся к себе и оделся. На столе лежала фотография Ди Морей и хохочущей брюнетки. Фотографу не удалось передать ощущения от девушки, Паскаль запомнил ее совсем другой: изящной, высокой, с длинной красивой шеей, с огромными бездонными глазами. И главное, пластика! Точные, энергичные движения. Удивительная, никогда не виданная прежде грация! Паскаль взял фотографию, поднес к глазам. Ему нравилось, как смеялась Ди, как она держала другую женщину за руку, как они хохотали. Фотограф поймал настоящий, живой момент. Теперь никто никогда не узнает, что же там случилось такого смешного. Паскаль спустился в холл и пристроил снимок за раму картины с оливковыми деревьями. Он представил, как показывает фотографию американским гостям и непринужденно говорит: «Ну конечно, звезды у нас тоже бывают. В “Подходящем виде” тихо, и в теннис можно на скалах поиграть».
Он снова вспомнил Ричарда Бёртона. Сколько у него женщин! Может, Ди ему и не нужна вовсе? Он отвезет ее в Швейцарию, там ей сделают аборт, а потом что? Никогда он на ней не женится.
Взять и поехать в Портовенере, постучать в дверь ее номера и сказать: Ди, выходите за меня замуж, я буду любить вашего ребенка, как своего! Нет, конечно, смешно даже думать об этом. Она ни за что не выйдет за того, с кем едва знакома. Паскаль вспомнил об Амедии, и ему стало стыдно. Кто он такой, чтобы осуждать Бёртона? Вот что бывает с мечтателями: представляешь себе то одно, то другое, а жизнь проходит.
Паскалю захотелось кофе. Он вошел в тратторию. Ставни были распахнуты, полуденное солнце заливало комнату. Странно, обычно Валерия держала их закрытыми почти до вечера. Тетя сидела за столиком и пила вино. В одиннадцать утра. Она подняла голову. Глаза ее были красными и мокрыми от слез.
– Паскаль, – сказала тетя Валерия. – Прошлой ночью… твоя мама…
Паскаль промчался через тратторию и распахнул дверь в комнату Антонии. Здесь тоже были открыты все окна и ставни, морской бриз раздувал занавески. Антония лежала на кровати, волосы разметались по наволочке, точно водоросли, рот скривился и стал похож на клюв. Подушки за ее спиной были взбиты, одеяло подтянуто до плеч и загнуто, как будто мать готовилась к похоронам. Кожа казалась желтой, выскобленной.
В комнате пахло мылом.
Валерия стояла за его спиной. Она что же, обнаружила сестру мертвой и убралась в комнате? Что-то тут не сходится. Паскаль повернулся к тете:
– Почему ты мне вчера об этом не сказала, когда я вернулся?
– Время пришло, Паскаль, – ответила Валерия, глотая слезы. – Теперь ты сможешь пойти и жениться на американке. – Голова ее упала на грудь, точно выбившийся из сил гонец, принесший важную весть. – Она так хотела, – прошептала Валерия.
Паскаль посмотрел на подушки, потом на пустую чашку на тумбочке у кровати.
– Что же вы наделали, тетя? – сказал он.
Паскаль взял Валерию за подбородок и заглянул ей в глаза. И понял, как все было. Увидел, как две женщины подслушивают у окна, не понимая ни слова из его разговора с Ди. Услышал, как мать много месяцев твердила, что ее время пришло, что Паскалю нужно уехать отсюда и найти себе жену. Тетя Валерия в отчаянии рассказала больной американке дурацкую сказку про то, что в их деревне никто не умирает молодым. Она надеялась удержать девушку, не дать ей уехать. Мать снова и снова умоляла сестру помочь, просила, требовала…
– Не может быть!
Не успел он закончить, как Валерия рухнула на колени. Паскаль обернулся к постели:
– Боже мой, мама!
Но ведь это же дурацкое недоразумение! Они все неправильно поняли! Паскаль погладил рыдающую тетю по щекам. Глаза застилали слезы.
– Что… ты сделала?
И Валерия рассказала ему все. Антония просила отпустить ее с того момента, как умер Карло. Она даже пыталась удавиться подушкой. Валерия не дала. Антония заставила сестру пообещать, что, когда боль станет невыносимой, Валерия поможет ей уйти. И неделю назад она напомнила Валерии об их уговоре. Та снова отказалась, но Антония все повторяла, что она мать, что Валерия никогда ее не поймет, ведь у нее нет детей, что для Паскаля она, Антония, теперь просто обуза, что мальчик не уедет из Порто-Верньоны, пока она жива. И Валерия согласилась. Она запекла яд в хлебе и по просьбе сестры ушла из гостиницы на час. Антония считала, что тогда грех будет только на ней. Перед уходом Валерия еще раз попыталась отговорить сестру, но Антония твердила, что душа ее обрела покой, что Паскаль сможет уехать с прекрасной американкой и жениться на ней…
– Что ты говоришь! – закричал Паскаль. – Американка любит другого! Помнишь актера, который приезжал прошлой ночью? Вот его. На меня ей наплевать! Все это было напрасно!
Валерия снова зарыдала, обняв его колени. Паскаль смотрел на ее вздрагивающие плечи, и его постепенно охватывала жалость. Жалость к тетке и любовь к матери. И он поступил так, как хотелось бы Антонии: погладил Валерию по голове и произнес:
– Прости, тетя! Это я со зла сказал. – Он оглянулся на мать, и ему показалось, что она его слова одобряет.
Валерия весь день проплакала в своей комнате, а Паскаль курил на крыльце и ждал возвращения рыбаков. Ближе к вечеру они с тетей туго завернули тело в простыни и одеяло, юноша поцеловал холодный лоб матери в последний раз и закрыл ей лицо. Мамины поступки понять невозможно, подумал он. Она потеряла двоих сыновей, его братьев, которых он никогда не видел. Она пережила детей и мужа. Кто он такой, чтобы решать, пришло ее время или еще нет? Антония считала, что покончила со всеми делами. Может, это даже и хорошо, если она верила, будто он поедет за прекрасной американкой.
Томассо-коммунист помог Паскалю перенести Антонию в лодку. Юноша не знал, что мать так похудела. Он понял это, только когда нес тело на берег, придерживая за костлявые плечи. Валерия выглядывала в дверь, тихонько прощаясь с сестрой. Остальные рыбаки толпились на площади и приносили свои соболезнования. «Она теперь встретилась с Карло», говорили они, «бедная Антония», «упокой Господь ее душу». Паскаль кивнул им всем из лодки, Томассо снова завел мотор, и они вышли в море.
– Ее время пришло, – сказал Томассо.
Паскаль сидел на носу и смотрел вперед, чтобы не нужно было разговаривать, не нужно было смотреть на иссохшее тело матери. Он был рад тому, что от соленых брызг так щипало глаза.
В Ла-Специи Томассо договорился со смотрителем маяка и одолжил у него тележку. Они везли тело Антонии по улицам, точно мешок с зерном, и Паскалю было очень стыдно перед мамой. Наконец они добрались до погребальной конторы и договорились похоронить Антонию рядом с Карло сразу после службы. Паскаль разыскал косоглазого и очкастого падре, отпевавшего его отца. У падре два дня были расписаны по минутам, очень много детей должны прийти на первое причастие. Отпевание он мог назначить только на пятницу. Сколько человек придет прощаться? Немного, ответил Паскаль. Рыбаки придут, если их попросить. Поплюют на ладони, пригладят волосы, наденут черные костюмы и встанут вместе с неулыбчивыми женами над гробом, пока священник будет петь Antonia, requiem aeternum dona eis, Domine. А потом неулыбчивые жены принесут в гостиницу еду и устроят поминки. Паскаль понял, что заранее видит всю картину, все до мельчайших подробностей. Какая-то бессмысленная суета. Но мама хотела, чтобы ее похоронили именно так, и потому он договорился на пятницу. Падре глянул на юношу поверх очков с толстенными линзами и что-то пометил в своем гроссбухе. Желает ли Паскаль, чтобы он прочитал еще и trigesium на тридцатый день? Интересно, зачем это? Чтобы придать покойнице ускорение в направлении небес? Да, Паскаль желал заказать trigesium.
– Eccellente, – сказал отец Франциско и протянул Паскалю руку. Юноша собрался пожать ее, но косой падре глянул на него очень строго одним глазом.
– А… – Паскаль достал из кармана деньги. Купюры исчезли в недрах сутаны. Падре торопливо благословил юношу.
Паскаль шел к пристани, ничего не замечая вокруг. Забрался в лодку, опустился на скамейку, заляпанную рыбьей кровью. Юноше было очень стыдно. Он даже не смог как следует позаботиться о теле матери! И вдруг Паскаль вспомнил одну историю. Ему было лет семь. После обеда его положили спать, а когда он проснулся и спустился вниз, мама плакала, а отец ее утешал. Паскаль так и прирос к полу в дверях кухни. Тогда он впервые осознал, что родители – отдельные от него существа, что они жили задолго до того, как Паскаль появился на свет. «Бабушка умерла», – сказал ему отец. Паскаль решил, что умерла мать его мамы. А потом оказалось, что умерла мать отца. И при этом папа утешал маму. Антония посмотрела на сына и сказала: «Ей повезло, она теперь с Господом на небесах». Юноша снова заплакал. Невозможно понять даже самых близких людей. Паскаль закрыл лицо руками, и Томассо деликатно отвернулся.
Валерии нигде не было. Паскаль заглянул в ее комнату, там было так же чисто, как и в комнате матери, словно тут никто никогда не жил. Рыбаки ее не увозили. Значит, она ушла пешком через горы. Гостиница казалась Паскалю усыпальницей. Он принес из родительского погреба бутылку вина и сел за стол в пустой траттории. Паскаль пил и смотрел на фотографию Ди Морей. Ночь подходила к концу, а тетя все не возвращалась. Наверное, он заснул, потому что внезапно ему послышался шум моторной лодки, а потом в прихожей раздался глас Божий.
– Buon giorno! – крикнул Бог. – Карло, Антония! Где вы там?
Паскалю захотелось плакать. Раве они не с ним, не с Богом? Почему он зовет их, да еще по-английски? Паскаль понял, что уснул, попытался встряхнуться, а Бог уже переключился на итальянский.
– Cho cosa è un ragazzo devi fare per ottenere una bevanda qui intorno?
Нет, это не Бог. Алвис Бендер приехал с утра пораньше, чтобы две недели писать роман на берегу моря. Ему что же, помирать от жажды прямо у них на крыльце, спрашивал он на ломаном итальянском.
После войны Алвис Бендер совсем растерялся. Он вернулся в Медисон, пошел преподавателем в маленький искусствоведческий колледж Эджвуд. Навалилась депрессия, Алвис постоянно уходил в запои. Былая радость от преподавания и чтения испарилась без следа. Францисканцы, которым принадлежал колледж, пьянство Алвиса долго терпеть не стали, и ему пришлось пойти на работу к отцу. К началу пятидесятых автосалон Бендера стал крупнейшим в Висконсине; в Гринбее, Ошкоше и даже пригороде Чикаго открылись отделения, торгующие «шевроле» и «понтиаками». Бендер пользовался благами, нажитыми его семейством, как умел. Секретарши и бухгалтеры прозвали его Всенощный Бендер, потому что он мог пить всю ночь напролет. Резкие перемены в его настроении сотрудники деликатно считали результатом психологической травмы, полученной на войне. Отец как-то спросил Алвиса, искорежила ли его жизнь война. Алвис ответил: «Меня корежит, когда я не выпью, папа».
Алвис никакого посттравматического синдрома не ощущал. В настоящих сражениях-то он ведь не участвовал. Просто устал от жизни. Может, война и определила его мировоззрение, но поедом ела его душу какая-то мелочь, сущая ерунда. Все на свете утратило смысл. Особенно трудно ему было понять, зачем работать, надрываться, стараться все сделать правильно? Ричардс вот старался, и где он теперь? А Бендер уцелел, вернулся в Висконсин. Для чего? Чтобы учить дебилов разбирать предложения? Или продавать машины дантистам?
В редкие минуты просветления он мечтал выразить все это в романе. Вот только роман он на самом деле не писал. Говорил, да, и много, но писать не писал. Слова не шли. И чем больше он о своем романе говорил, тем труднее ему было приступить. Как начать? Бендер знал, что в его военном романе самой войны быть не должно. Должны быть тусклый солдатский быт и только одно сражение, девять секунд обстрела под Стретуей. Девять секунд, унесших жизни двоих товарищей. Важно только это: рутина и скука, за которой следуют страшные девять секунд, и главный герой погибает, а роман все равно продолжается, только уже со второстепенными персонажами. Он хотел объяснить, что на войне все случайно. Романы о Второй мировой такие серьезные, такие трагические, и речь в них исключительно о героях и подвигах. А он смотрел на вещи проще и говорил только о том, что видел. Так обычно писали о Первой мировой Хемингуэй, Дос Пассос, Селин. Телеграфный отстраненный стиль или мрачный юмор. Личная трагедия, описанная с большой долей иронии.
Как-то вечером он окучивал очередную дамочку, которую собирался затащить в постель, и похвастался, что пишет книгу Дамочка заинтересовалась:
– О чем она?
– О войне.
– В Корее? – вполне серьезно спросила дамочка. Ничего плохого она в виду, безусловно, не имела.
Алвис почувствовал себя жалкой старой развалиной. Ричардс был прав, правительства затеяли новую войну, а Бендер еще не успел уложить в голове последствия предыдущей. Алвис вспомнил о старом друге, и ему стало стыдно. Как он провел эти восемь лет! На следующий день Бендер пришел к отцу и решительно попросил отпуск. Алвис хотел вернуться в Италию и засесть наконец за свой роман. Отец не обрадовался, конечно, но согласился. Только поставил условие: через три месяца Алвис вернется и возглавит автосалон в Кеноше. Так и порешили.
Алвис отправился в Италию. Он переезжал из города в город, из Венеции во Флоренцию, из Неаполя в Рим, пил, курил, размышлял. И повсюду таскал за собой портативную пишущую машинку, хотя из чехла не достал ее ни разу. Алвис селился в отеле и немедленно шел в бар. Каждый встречный рад был поставить выпивку бывшему солдату, а Бендер рад был выпить с каждым встречным. Все это называлось «собирать материал для книги». Никаких материалов он не собрал, разве только во время неудачной поездки в Стретую, где произошла перестрелка. В остальном же вся его подготовительная работа сводилась к пьянству и соблазнению итальянских девчонок.
В Стретуе Алвис, как обычно, напился. С утра его мучило жуткое похмелье. Он отправился на поиски места, где была перестрелка. И вскоре наткнулся на художника. Тот рисовал старый сарай. Только вот сарай почему-то вышел вверх тормашками. Алвис решил поначалу, что у парня нелады с головой. Было в этом наброске нечто завораживающее, какая-то полузнакомая смещенность картинки.
– Наш глаз видит изображение перевернутым, – объяснил художник, – а мозг потом его еще раз переворачивает. Я просто стараюсь запечатлеть первичный сигнал, который получают нервные клетки.
Алвис долго разглядывал набросок. Ему даже захотелось купить его, но он решил, что если повесить картинку на стену, то люди будут постоянно ее переворачивать. Вот то же и с его книгой: так, напрямую, ничего не расскажешь. Чтобы вышло честно, надо поставить повествование с ног на уши, а читатели ничего не поймут и непременно постараются перевернуть все обратно.
Вечером в порту Ла-Специи Бендер пил со старым партизаном. У того через все лицо шел страшный шрам от ожога. Партизан целовал его в щеку, хлопал по плечу, называл товарищем и arnica, другом. Оказалось, что ожоги он получил, когда лег спать со своим отрядом на сеновале, а немецкий патруль решил поджарить их при помощи огнемета. Больше никто не выжил, только он один. Бендера эта история очень тронула. Всю ночь он поил партизана граппой, они чокались и оплакивали тех, кого потеряли. Наконец Алвис попросил разрешения вставить историю партизана в роман. Итальянец зарыдал еще горше. Он признался, что все выдумал, что никакого партизанского отряда не было, и огнемета тоже, и немецкого патруля. Просто пару лет назад загорелась машина, которую он вел.
Бендер еще больше растрогался – вот ведь, человек нашел в себе мужество признаться – и простил его. Он и сам-то был ненастоящий писатель. Десять лет он всем рассказывал про свой роман, но так и не написал ни строчки. Друзья обнимались и плакали до самого утра, признаваясь друг другу во все новых грехах.
На следующий день Алвису было нехорошо. Он тупо смотрел на порт Ла-Специи. Из трех месяцев, которые ему предоставил отец, прошло уже два с половиной. Две недели на то, чтобы выгнать из башки тараканов. Бендер подхватил чемодан и пишущую машинку и пошел торговаться с лодочником, чтобы тот доставил его в Портовенере. Вот только произношение его подвело. Через два часа лодка ткнулась носом в причал. Перед ними лежала малюсенькая бухта с дюжиной домишек, прилепившихся к скалам, и гостиница с тратторией, названная, как и все на этом побережье, в честь святого Петра. На берегу рыбаки чинили сети. Владелец пустующей гостиницы курил трубку на крыльце и читал газету. Рядом на теплом камне пристроился мечтательный мальчик с небесно-голубыми глазами.
– Ты куда меня привез? – спросил лодочника Алвис.
– В Порто-Верньону.
Порт стыда. Разве не сюда он рвался? Вот тут ему самое место.
– Ну и хорошо, – ответил Бендер.
Хозяин гостиницы, Карло Турси, был человеком очень приятным. Он переехал сюда из Флоренции, потеряв на войне двоих сыновей. Карло очень гордился тем, что американский писатель пожелал остановиться в его pensione. Он пообещал Алвису, что Паскаль, его сын, шуметь не будет и Алвис сможет спокойно работать. В комнатушке на третьем этаже, под шум волн, накатывавших на каменистый берег, Бендер распаковал наконец свою пишущую машинку и поставил ее на столик у окна с закрытыми ставнями. Посидел. Засунул под валик лист. Погладил гладкие клавиши и выпуклые литеры. Прошел час. Бендер спустился вниз, чтобы выпить вина. Карло по-прежнему сидел на крыльце.
– Как роман? – серьезно спросил он.
– Не идет что-то, – честно ответил Алвис.
– Почему?
– Начать никак не получается.
Карло задумался.
– Тогда начните с конца.
Алвис вспомнил перевернутый набросок, который он видел в Стретуе. Ну конечно! Сначала надо написать конец! Он рассмеялся.
Карло решил, будто американец смеется над его stupido предложением, и извинился.
Да нет же, ответил ему писатель, предложение просто замечательное. Он так давно говорил об этой книге, как будто она уже написана, висит в воздухе и ждет его, как будто она ручеек, а ему только надо изловчиться и просто войти в нее в правильном месте. Так почему бы не начать с конца? Алвис взлетел по лестнице и напечатал: «А потом пришла весна и вместе с ней конец моей войны».
Бендер смотрел на единственное предложение своего романа, такое обрывочное и такое прекрасное. Он напечатал еще одну фразу, и еще одну. Скоро текстом заполнилась целая страница. Тогда Бендер спустился вниз и выпил вина со своей серьезной музой в очках, Карлом Турси. Такая у него теперь будет награда, решил Бендер, такой ритм: одна страница – один стакан вина с Карло. Через две недели Алвис написал двенадцать страниц. Он сам ужасно удивился, когда понял, что рассказывает про девушку, которую он встретил под конец войны. Девушку, которая руками за пару минут облегчила его страдания. Алвис и не собирался включать этот эпизод в роман: история про девушку ни с чем не вязалась, и вдруг оказалось, что только она и имеет значение.
Перед отъездом Бендер упаковал вещи, машинку и листы романа, попрощался с семейством Турси и пообещал, что вернется на следующий год. И на следующий тоже. Каждый год он будет приезжать на две недели и писать. Писать, пока не напишет. Или не сдохнет.
Один из рыбаков отвез его в Ла-Специю, а там Бендер сел на автобус и поехал в Личиану, деревню, откуда девушка была родом. Он смотрел в окно и искал то место, где они встретились, сарай и рощу. Алвис никак не мог сориентироваться, очень уж все изменилось. Деревня выросла вдвое, вместо убогих домишек выстроились красивые деревянные и кирпичные здания. Алвис отыскал тратторию и назвал владельцу фамилию Марии. Хозяин знал эту семью, он ходил в школу с братом Марии, Марко. Марко воевал на стороне фашистов, за труды на благо немцев его подвесили на деревенской площади вниз головой, и он истек кровью, как зарезанная корова. Про Марию хозяин ничего не слышал, но знал, что ее младшая сестра, Нина, вышла замуж и по-прежнему живет в деревне. Алвис отыскал ее дом, одноэтажный, чистенький, прямо под древней стеной. Деревня выплеснулась за прежние границы, и на склоне холма строился новый район. Алвис постучал. В окно рядом с дверью выглянула черноволосая женщина и спросила, что ему нужно.
Алвис сказал, что во время войны познакомился с ее сестрой.
– С Анной? – спросила женщина.
– Нет, с Марией.
– А, – мрачно ответила Нина. Она помолчала, а потом пригласила его в чистенькую гостиную. – Мария вышла замуж за врача и живет в Генуе.
Бендер попросил адрес. Нина помрачнела еще больше.
– На кой ей надо, чтоб на нее очередной военный дружок свалился? Она наконец-то нашла свое счастье. Зачем воду мутить?
Алвис заверил ее, что совершенно не собирается мутить воду.
– Во время войны ей тяжко пришлось. Оставьте ее в покое. Пожалуйста!
Из кухни Нину позвал ее сын, и она вышла.
В гостиной стоял телефон. Как обычно бывает в семьях, у которых только-только появился в доме аппарат, телефон стоял на самом видном месте, на столике, украшенном фигурками святых. Рядом лежала записная книжка.
Алвис открыл ее на букве «м» и, конечно же, сразу увидел имя «Мария». Ни фамилии, ни номера. Только адрес в Генуе. Алвис запомнил его, закрыл книжку, поблагодарил Нину и ушел.
В тот же день он сел на поезд и поехал в Геную. Улочка оказалась рядом с портом. Авис испугался, что неправильно запомнил адрес: район как-то мало подходил для семьи врача. Каменные и кирпичные домики каскадами спускались со склона к морю, налезая друг на друга, точно ноты в нотной тетради. На нижних этажах размещались дешевые кафешки и таверны для моряков, на верхних – меблированные комнаты и гостиничные номера. Алвис отыскал нужный дом, вошел в грязный бар с насквозь прогнившими стенами и мебелью. Пол был застлан старым ковром. Крысиная нора. Худющий бармен сидел за стойкой и наливал пиво рыбакам в огромных кепках.
Алвис извинился и сказал, что, должно быть спутал адрес.
– Я ищу женщину, ее зовут…
Худой бармен просто ткнул пальцем в лестницу за спиной. Алвис понял, куда попал. Он заплатил бармену и поднялся по ступеням. Он очень надеялся, что спутал адрес, что он не найдет здесь Марию. Наверху был небольшой холл с диваном и двумя стульями. На диване сидели две молоденькие девчушки и листали журналы.
Мария сидела на стуле. На ней был старый шелковый халат, в руках сигарета.
– Здравствуйте, – сказал Алвис.
Мария на него даже не взглянула.
– Америка, да? – по-английски спросила одна из девчушек. – Я тебе нравлюсь, Америка?
Алвис не обратил на нее никакого внимания.
– Мария, – тихо позвал он.
Она не подняла головы.
– Мария!
Проститутка посмотрела на него. Она постарела на двадцать лет, а прошло только десять. Располнела, у глаз и рта залегли глубокие морщины.
– Кто такая Мария? – по-английски спросила она.
Девчушка рассмеялась:
– Хватит его дразнить. Или отдай его мне.
Мария назвала расценки. Кажется, она его не узнала. Над ее головой висела жутковатая картина с ирисом. Алвису вдруг очень захотелось перевернуть рисунок. Он заплатил за полчаса.
Ему и раньше приходилось бывать в таких местах, поэтому он отдал вперед только половину денег. Мария отнесла их вниз бармену. Потом она провела Алвиса в отдельную комнату. Там стояли застеленная кровать, тумбочка, поцарапанная вешалка для одежды, на стене висело мутное старое зеркало. В окно были видны порт и улица. Женщина села на кровать – пружины под ней скрипнули – и начала расстегивать пуговицы халата.
– Ты не помнишь меня? – спросил Алвис по-итальянски.
Она перестала раздеваться и посмотрела на него. Нет, кажется, не помнит.
Алвис, медленно подбирая слова, рассказывал ей, как его полк шел по Италии, как он встретил ее на пустой дороге однажды вечером и проводил до дома, как в тот день он понял, что ему все равно, погибнет он или останется цел, но встреча с ней снова заставила его ощутить радость жизни. Рассказал, что она подтолкнула его, убедила написать роман и отнестись к этому делу серьезно, но он вернулся в Америку («Recordare – Висконсин?») и потратил последние десять лет впустую. Его лучший друг умер на войне, у друга остались жена и сын. А у Алвиса никого не было, он вернулся и пустил на ветер целое десятилетие.
Она терпеливо его выслушала, а потом спросила, надо ли ей раздеваться.
Он ответил, что ездил в Личиану, пытался ее найти. Ему показалось, что в ее глазах нечто мелькнуло. Быть может, стыд? Алвис говорил о том, что она сделала для него в ту ночь. Не секс, не то, как она утешала его после, как прижимала его к своей прекрасной груди, пока он плакал. Потому что никто в мире не был так добр к нему.
– Мне очень жаль, что ты этим кончила, – сказал он Марии.
– Кончила? – Она рассмеялась в лицо потрясенному Алвису. – Да так всегда было! – Она обвела рукой убогую комнату. – Слушай, друг, я тебя не знаю, – спокойно сказала Мария по-итальянски. – И не знаю, о какой деревне ты говоришь. Я всю жизнь прожила в Генуе. Иногда ко мне приходят мальчики вроде тебя, американцы, которые впервые переспали с девушкой, похожей на меня. Ничего страшного. – Мария говорила терпеливо, но равнодушно. – И что ты собирался сделать? Спасти эту Марию? Забрать с собой в Америку?
Алвис не нашелся с ответом. Нет, забирать ее с собой он вовсе не собирался. Так зачем же он сюда приехал? Чего хотел?
– Приятно, что ты выбрал меня, а не тех, молоденьких, – сказала проститутка и потянулась к его ремню. – Только, пожалуйста, не зови меня больше Марией.
Ее руки умело расстегивали штаны, а Бендер все вглядывался в лицо женщины. Это ведь она, правда? Теперь он уже не мог сказать наверняка. Мария должна быть моложе. И стройнее. Алвис поначалу решил, что она просто поправилась, но, может, он все-таки обознался? Излил душу перед незнакомой шлюхой?
Алвис завороженно смотрел, как жирные пальцы расстегивают пуговицы на его ширинке. Наконец он встряхнулся, отпрянул и застегнул ремень.
– Может, позвать другую девочку? – спросила проститутка. – Я могу сходить, но деньги ты все-таки мне отдай.
Алвис дрожащими руками раскрыл кошелек и достал в пятьдесят раз больше, чем она просила. Он положил деньги на кровать и тихо сказал:
– Мне жаль, что я просто не проводил тебя до дома той ночью.
Она смотрела на постель. Алвис вышел за дверь. Последние капли жизни вытекли из него и остались в той комнате. Шлюхи в холле по-прежнему читали журналы. Они даже не взглянули на него. Бендер спустился по лестнице, протиснулся мимо тощего ухмыляющегося бармена и вылетел на улицу. Страшно хотелось выпить. Он ринулся к бару напротив. Спасибо тебе, Господи, за питейные заведения на каждом углу, подумал Алвис. Какое счастье – сколько ни пей, всех баров в мире никогда не обойти! Он будет приезжать в Италию каждый год на две недели, писать роман. И пусть он будет писать его, пока не упьется до смерти, это ничего! Бендер понял, какой будет его книга. Она станет экспонатом в музее, обломком большой истории, искореженным и оплавившимся. И если не было смысла в этой его встрече с Марией, если это была просто случайность, и даже шлюха, быть может, оказалась не та, – ну что ж, значит, так тому и быть.
Бендер едва увернулся из-под колес грузовика и пришел в себя. Он оглянулся на окно борделя и успел заметить Марию у окна (ему хотелось думать, что это все же она). Шлюха стояла, прислонившись лбом к стеклу, халат слегка распахнулся, и она нежно поглаживала то самое место, куда он уткнулся когда-то, заливаясь слезами. Секунду она глядела на него, а потом отшатнулась от окна и пропала.
После той вспышки вдохновения Алвис больше не написал ни слова, хотя возвращался в Италию каждый год. Неделю-другую он бродил по Риму, Милану или Венеции, волочился за женщинами, а потом на несколько дней приезжал в Порто-Верньону. Он работал над текстом, редактировал его, убирал пару слов, вставлял новое предложение, но дальше ничего не писал. И все же Алвис здесь восстанавливал силы. Он раз за разом переписывал свою единственную удачную главу и радовался обществу Карло Турси, его жены Антонии и сына Паскаля, мальчика с глазами синими, как море. И вот теперь Бендер вернулся, и оказалось, что Карло и Антонии больше нет, а Паскаль стал совсем взрослым. Алвис растерялся. Он слышал, что иногда пары уходят почти сразу друг за другим, не пережив тяжести разлуки. Но ведь еще год назад Карло и Антония казались такими живыми, такими полными сил. А теперь их нет. Как же так?
– Когда это случилось? – спросил он Паскаля.
– Отец умер прошлой весной, а мама два дня назад. Завтра отпевание.
Алвис вглядывался в лицо юноши. Последние несколько лет они не встречались, потому что Паскаль учился в университете. Маленький мальчик вырос и превратился… во взрослого мужчину. Даже убитый горем, юноша сохранил удивительное внутреннее спокойствие, которое так поражало Бендера, когда Паскаль был еще ребенком. Синие глаза уверенно смотрели на мир. Паскаль и Алвис устроились на крыльце, на том самом месте, где когда-то сидел и Карло. В ногах у Бендера стояли чемодан и пишущая машинка.
– Мне очень жаль, – сказал Алвис. – Хочешь, я уеду и остановлюсь в другой гостинице? Тогда ты сможешь побыть один.
Паскаль поднял голову. Бендер говорил по-итальянски вполне четко, но сейчас смысл слов до юноши не доходил. Все воспринималось как сквозь вату.
– Нет, останьтесь. – Он налил еще вина и передал Алвису стакан.
– Grazia, – поблагодарил тот.
Они молча пили вино. Паскаль смотрел в стол.
– Знаешь, так часто бывает, что супруги уходят один за другим, – сказал Алвис. Иногда Паскалю казалось, что Бендер знает все и обо всем. – Они умирают от… – он попытался вспомнить, как по-итальянски будет «горе», – dolore.
– Нет. – Паскаль медленно поднял голову. – Маму убила тетя.
Алвис решил, что ослышался.
– Тетя?
– Да.
– Зачем?
Паскаль потер лоб.
– Она хотела, чтобы я уехал и женился на той американской актрисе.
Алвис решил, что Паскаль сошел с ума от горя.
– Какой актрисе?
Паскаль задумчиво протянул ему фотокарточку Ди Морей. Алвис вытащил из нагрудного кармана очки и тихо спросил:
– Твоя мать хотела, чтобы ты женился на Элизабет Тейлор?
– Нет, вторая, – по-английски ответил Паскаль, как будто только на этом языке он мог объяснить все так, чтоб ему поверили. – Она приехал в отель, три дня. Ошибка, что приехал сюда. – Он пожал плечами.
Алвис приезжал в Порто-Верньону восемь лет подряд и за все это время встретил только троих постояльцев. Американцев среди них не было. И прекрасных актрис, подруг Элизабет Тейлор, естественно, тоже.
– Она красавица, – сказал Алвис. – Паскаль, а где тетя Валерия?
– Не знаю. Ушла в горы. – Паскаль посмотрел на старого друга семьи, на его худое лицо, на усики, на шляпу, которой обмахивался Бендер, и сказал: – Ничего, если мы сейчас немного помолчим?
– Ну конечно!
Они пили вино на крыльце и смотрели на море. В тишине было слышно, как разбиваются о скалы волны и с шипением взлетает вверх водяная соленая пыль.
– Она читала ваша книга, – наконец сказал Паскаль.
Алвис склонил голову набок:
– Что?
– Ди. Американка. – Он показал на фотографию. – Она читала ваша книга. Сказала, она очень грустно и очень хорошо тоже. Ей очень нравилась.
– Правда? – по-английски спросил Бендер. – Вот дела!
Они еще помолчали и послушали шелест моря. Казалось, будто там, на берегу, кто-то сдавал огромные карты.
– Я полагаю… больше она ничего не говорила? – через какое-то время спросил Бендер, уже по-итальянски.
Паскаль ответил, что не совсем его понял.
– Про мою главу. Больше актриса ничего не говорила?
Может, и говорила, но Паскаль больше ничего не запомнил.
Алвис допил вино и поднялся в свою комнату, чтобы разобрать вещи. Он все еще улыбался от одной мысли о том, что красивая женщина читала его роман.
Паскаль услышал вдруг рев мотора. Юноша взглянул на море, но яхту, входившую в бухту, не узнал. Тот, кто ее вел, слишком поторопился на повороте, лодка некрасиво подпрыгнула и снова шлепнулась в лужу брызг. На борту было трое, и, когда яхта подошла к причалу, Паскаль смог их разглядеть. Впереди стоял капитан в черной кепке, а сзади на скамейке устроились этот гад, Майкл Дин, и пьяница Ричард Бёртон.
Паскаль не собирался идти их встречать. Капитан пришвартовал яхту, Майкл Дин с Ричардом Бёртоном выбрались на причал и двинулись к лестнице, ведущей на площадь. Бёртон, похоже, протрезвел. Он был одет в ослепительное шерстяное пальто, из рукавов торчали белоснежные манжеты рубашки, галстука не было.
– А вот и мы, дружище! – крикнул Ричард, завидев Паскаля. – Скажи-ка, Ди сюда случайно не возвращалась? – спросил он, поднимаясь по ступеням.
Майкл Дин шел позади актера и внимательно оглядывался.
Паскаль тоже оглянулся, чтобы увидеть деревню глазами американца. Каменные домишки, такие же потрепанные и усталые, как и он сегодня. Пять сотен лет они цеплялись за скалы, а теперь устали и вот-вот соскользнут в море.
– Нет, – ответил юноша.
Гости поднялись на крыльцо. Паскаль грозно взглянул на Майкла Дина, и тот в испуге отступил.
– Значит, Ди не приезжала? – спросил Майкл.
– Нет, – повторил Паскаль.
– Вот видите, я же вам говорил, – обратился к актеру Дин. – Поехали обратно в Рим. Она вернется туда или, может, все-таки поедет в Швейцарию.
Бёртон провел рукой по волосам и кивнул на бутылку вина:
– Ты не обидишься, если я хлебну, парень?
Майкл Дин за его спиной поморщился. Бёртон поболтал бутылкой в воздухе и показал Дину, что она пуста.
– Ну что за везение! – Он облизнулся, словно умирающий от жажды.
– Внутри есть еще вино, – сказал Паскаль. – В кухне.
– Ты отличный парень, Пат. – Бёртон похлопал юношу по плечу и прошел в дом.
Майкл переступил с ноги на ногу и прокашлялся.
– Дик думал, она сюда вернулась, – сказал он.
– Ди потеряна?
– Можно и так сказать. – Дин нахмурился, решая, стоит ли пускаться в объяснения. – Она должна была ехать в Швейцарию, но я позвонил в клинику, и там ответили, что Ди не появлялась. Похоже, она так и не села в поезд. – Майкл потер висок. – Если она приедет, не могли бы вы со мной связаться?
Паскаль промолчал.
– Послушайте, – сказал Дин. – Все очень запутано. Вы видели эту несчастную девочку. Признаю, с ней обошлись ужасно. Но тут речь не только о ней, у нас ведь есть обязательства и перед другими людьми… Браки, карьеры… Все непросто.
Паскаль вздрогнул. Когда-то и он сказал те же самые слова об Амедии. Все непросто.
Майкл Дин снова закашлялся.
– Я сюда не справедливость восстанавливать приехал. Я приехал, чтобы оставить для нее сообщение, если она появится. Передайте ей, я знаю, что она рассержена. Но я также совершенно точно знаю, что ей нужно. Передайте ей: «Майкл Дин знает, чего вы хотите». Я смогу ей помочь. – Он сунул руку в карман и протянул Паскалю еще один конверт. – В итальянском есть одно выражение, которое мне в последнее время очень нравится. Con molto discrezione.
Со всем возможным уважением. Паскаль отмахнулся от денег, как от шмеля.
Майкл осторожно положил конверт на стол.
– Просто скажите ей, чтобы она со мной связалась, capisce?
В дверях появился Ричард Бёртон:
– Где, ты сказал, вино стоит, парень?
Паскаль объяснил ему, где искать бутылки, и Бёртон снова скрылся на кухне.
Дин улыбнулся:
– Иногда эти таланты могут и достать.
– А он талант? – спросил Паскаль.
– Лучший из всех, кого я видел.
Бёртон вышел с бутылкой без этикетки.
– Отлично! Динчик, не забудь за вино заплатить.
Майкл положил на стол в два раза больше, чем стоила бутылка.
На звук голосов спустился Бендер и замер, потрясенно глядя на Бёртона.
– Cin tin, amico. – Ричард поднес темную бутылку к губам. Он явно посчитал Алвиса итальянцем. Сделав большой глоток, Бёртон снова повернулся к Дину: – Ну что, Дин-Дин, пора нам завоевывать другие миры… – Он поклонился Паскалю: – Уважаемый дирижер! У вас прекрасный оркестр. Главное, ничего не менять. – И он зашагал обратно к лодке.
Майкл Дин вынул из нагрудного кармана визитку и ручку.
– А это… – он торжественно положил подписанную карточку перед Паскалем с таким видом, будто только что совершил чудо, – это вам, мистер Турси. Может быть, настанет день, когда и я смогу что-то сделать лично для вас. Con molto discrezione, – повторил он, кивнул и пошел следом за Бёртоном.
Паскаль взял со стола картонку. Под размашистой подписью проступал напечатанный текст: «Майкл Дин, связи с общественностью, “Двадцатый век Фокс”».
В дверях отеля истуканом замер Бендер, ошеломленно глядя вслед уходящим.
– Паскаль, – наконец сказал он, – это что, правда Ричард Бёртон?
– Да, – вздохнул Паскаль.
И тут бы история с кинематографом и закончилась, если бы не тетя Валерия. Она появилась из-за старой часовни, точно призрак, спотыкаясь и всхлипывая, вне себя от горя, стыда и усталости. Глаза ее были пусты, курчавые волосы стояли дыбом, одежда перепачкалась, на пыльных, осунувшихся щеках пролегли бороздки от пролитых слез.
– Diavollo!
Валерия прошла мимо гостиницы, мимо Алвиса и Паскаля и спустилась к воде. Перед ней бежали злобные деревенские кошки. Ричард Бёртон был слишком далеко, и она как фурия накинулась на Майкла.
– Дьявол, подлец, жестокий убийца! – шипела она по-итальянски. – Ornicida! Cruento assassino!
Ричард, который уже почти донес свою бутылку до яхты, обернулся:
– Дин, я же тебе велел заплатить за вино!
Майкл остановился. Он широко улыбнулся, надеясь отбить атаку, но старую ведьму было уже не остановить. Она ткнула в него узловатым пальцем. Ужасное проклятие прогремело над бухтой:
– Lo vi maledicono a moirire lentamente, tormentati du tua anima miserabile! Пусть смерть твоя будет долгой и мучительной и пусть иссохнет от страданий твоя душа!
– Дин, черт тебя побери, – заорал Ричард, – а ну давай быстро в лодку!
15. Первая глава мемуаров Майкла Дина, забракованная редактором
2006
Лос-Анджелес, штат Калифорния
Мотор!
С чего бы начать? С рождения, говорят обычно люди.
Ну что ж. Формально я появился на свет в 1939 году. Четвертый (всего нас было шестеро) ребенок ушлого юриста из Города ангелов. Но по-настоящему я родился лишь весной 1962-го.
Тогда мне открылось мое предназначение.
До этого я жил так, как живут, должно быть, все обычные люди. Ужинал с родителями, ходил на плавание и теннис, на лето ездил к двоюродным братьям во Флориду, щупал девчонок за школой и около кинотеатра.
Был ли я самым способным из класса? Нет. Самым красивым? Тоже нет. Вечно я вляпывался в Неприятности. С большой буквы. Одноклассники мне завидовали и часто лупили. Девчонки отвешивали пощечины. Школы выплевывали, как испорченную устрицу.
Отец считал меня предателем. Я предал его гордое имя и его ожидания. Мне полагалось учиться за границей. Окончить юридический факультет. Пройти стажировку в его фирме. Идти по его стопам. Прожить его жизнь. Вместо этого я пытался прожить свою. Два года я учился на актерском. Изучал бродвейские спектакли. В шестидесятом бросил учебу: хотел сниматься в кино. Но подвело цыплячье теловычитание, и меня не взяли. Тогда я решил узнать этот бизнес изнутри. Начать с самого низу. С отдела по связям с общественностью на киностудии «Двадцатый век Фокс».
Работали мы тогда в старом гараже, переоборудованном под офис. Целый день общались по телефону с репортерами. Старались, чтобы хорошие истории появлялись в прессе, а плохие туда не попадали. По вечерам нужно было ходить на премьеры и вечеринки. Вы спросите, нравилась ли мне работа? А кому бы она не понравилась? Каждый вечер на мне висла новая цыпочка. Солнце, минимум одежды, секс. Жизнь била ключом.
Начальником у меня был лопоухий жирный тип со Среднего Запада по имени Дули. Я был новичком, и он старался за мной присматривать. Потому что я мог представлять для него угрозу. Как-то утром, когда Дули не было в офисе, раздался звонок. На том конце телефонного провода бились в истерике, потому что у ворот студии стоял какой-то умник с очень занимательными фотографиями известного актера из вестернов. На вечеринке. Восходящая звезда, любимец публики. Чего публика не знала, так это что парень голубой, как майское небо. На фотографиях он целовал раскрывающийся в чужих штанах бутон. Лучшее представление в жизни этого актера.
Дули должен был вернуться только назавтра. Но фотограф-то до завтра ждать не стал бы. Сначала я позвонил журналюге из отдела светских сплетен, он был мне должен, и я слил ему информацию, будто бы этот ковбой обручился с юной актриской, тоже восходящей звездой, но уже второго плана. Откуда я знал, что она согласится? Я сам ее попользовал пару раз. Для нее связать свое имя с таким ковбоем означало кратчайшим путем пробиться наверх. Конечно, она согласилась. В этом городе все плывет исключительно вверх по течению. Потом я прогулялся до ворот и нанял этого умника для съемок на студийных фотопробах. Негативы сжег сам, никому не доверил.
Позвонили мне в полдень, а к пяти все было улажено. Но Дули на следующий день рвал и метал. Почему? Да потому что меня вызвал сам директор студии. Меня. Не его.
Дули обрабатывал меня целый час. Не смотри старику Скуросу в глаза. Не выражайся. И ни в коем случае не спорь.
Ладно. Я ждал в приемной целый час. Потом меня впустили в кабинет. Скурос сидел на краешке стола, в похоронном костюме, приличествующем директору студии. Жирдяй в очках с толстенными линзами и набриолиненными волосами. Он пригласил меня сесть. Предложил кока-колы, я поблагодарил. Высокомерный ублюдок открыл бутылку, налил в стакан треть и протянул мне. Бутылку он держал так, как будто другие две трети я пока не заслужил. Старый грек сидел на краю стола, смотрел, как я пью свою малюсенькую порцию колы, и задавал вопросы. Откуда я? Чем хотел бы заниматься? Какой мой любимый фильм? Про того ковбоя он даже не вспомнил ни разу. Я понять не мог, чего он ко мне прицепился.
– Майкл, что ты знаешь о «Клеопатре»?
Дурацкий вопрос. Каждая собака в городе знала про этот фильм все до мельчайших подробностей. «Клеопатра» живьем пожирала «Фокс». Идею фильма мусолили двадцать лет, пока Уолтер Вегнер в пятьдесят восьмом за нее не взялся. А потом Вегнер застукал свою жену, она как раз делала минет его агенту, и продюсер отстрелил обидчику яйца. Эстафету «Клеопатры» подхватил Рубен Мамульян. Он представил смету на два миллиона долларов, а на главную роль взял Джоан Коллинз. Бред! Клеопатра из нее была, как из президента балерина. Студия выкинула ее пинком под зад и пригласила Лиз Тейлор. Самая крупная звезда на небосклоне, вот только репутация подмоченная после того, как Лиз увела Эдди Фишера у Дебби Рейнолдс. Тейлор еще и тридцати не стукнуло, а под венец она сходила уже четырежды. Казалось бы, не самый лучший для нее момент. И что она делает? Требует миллион баксов за роль и еще десять процентов с проката. Да никому даже и полумиллиона за всю историю не заплатили, а эта дамочка желает миллион!
Но студия была в отчаянном положении, и Скурос согласился.
В 1960 году Мамульян выдвинулся со съемочной группой из сорока человек в Англию. И тут начался ад. Плохая погода. Сплошные неудачи. Постройка декораций. Демонтаж декораций. Постройка новых декораций. Мамульян не отснял ни одного кадра. Заболела Лиз. Простуда, зубной абсцесс, воспаление мозга, стафилококк, пневмония. Ей сделали трахеотомию, и она чуть не померла прямо на столе. Съемочная группа пинала балду, пила и резалась в карты. Через шестнадцать месяцев расходы перевалили за семь миллионов долларов, а Мамульян отснял всего полтора метра пленки. Полтора года, а парень даже до роста своего не дотянул! У Скуроса не было другого выхода. Он уволил Мамульяна и нанял Джо Манкевича. Манкевич перенес съемки в Италию и вышвырнул всех, кроме Лиз. Уговорил Дика Бёртона сняться в роли Марка Антония. Нанял пятьдесят сценаристов, чтобы они переписали сценарий, – вышло пятьсот страниц текста. Девятичасовой фильм. Студия теряла семьдесят штук в день, тысячи людей из массовки получали деньги просто так, дождь лил не переставая, съемочное оборудование утекало с площадки как вода, Лиз пила, а Манки начал поговаривать о том, что нужно снять три серии. Три серии! Обратного пути уже не было. С начала съемок прошло два года, двадцать миллионов уже спустили в унитаз, и бог его знает, сколько спустили бы еще. А бедняга Скурос надеялся, вопреки здравому смыслу, что на экраны выйдет лучший фильм в истории кинематографа.
– Что я знаю о «Клеопатре»? Слышал кое-что, – сказал я.
Правильный ответ. Скурос налил мне еще немного колы. Потом взял со стола большой желтый конверт и передал его мне. Никогда не забуду фотографию, которую я оттуда достал! Шедевр! Страстный поцелуй. И целовались не кто-нибудь, а Лиз Тейлор и Дик Бёртон. Не Антоний с Клеопатрой на снимке для газет. Лиз и Дик приросли друг к другу на балконе Гранд-Отеля в Риме. Видно было даже языки.
Вот это катастрофа так катастрофа! Он женат, она замужем. Студия еще не отмылась после скандального развода Эдди и Дебби. А теперь, выходит, Лиз легла под самого великого актера современности. И главного ловеласа, к слову сказать. А как же маленькие дети Эдди Фишера? Как же семья Бёртона? Как же его чумазые валлийские отпрыски, с громким ревом зовущие папочку? Да пресса этот фильм просто закопает! И студию вместе с ним. Потраченные миллионы и так гильотиной висели над жирной шеей Скуроса. Осталось только дунуть на лезвие.
Я пялился на фотографию.
Скурос изо всех сил делал вид, будто спокоен и весел. При этом моргал, как метроном.
– Что скажете, Дин?
Что скажу. Нет, погодите, так сразу отвечать нельзя, сперва надо все обдумать.
Я знал еще кое-что. Ну, не знал, догадывался. Так девственница знает о сексе, хотя еще ни разу не пробовала. У меня был дар. Только я еще не научился им правильно пользоваться. Иногда я видел людей насквозь. Прямо как рентген, до самых косточек. Нет, я не был детектором лжи. Скорее детектором желаний. У меня из-за этого, кстати, частенько бывали неприятности. Скажем, девчонка говорит «нет». Почему? Потому что у нее уже есть парень. Я слышу «нет», а вижу «да». Через десять минут входит ее хахаль, а у девчонки полон рот Дина. Представляете, какая незадача?
Вот и со Скуросом было так же. Говорил он одно, а имел в виду совсем другое.
Так. И что ты теперь будешь делать, Дин? Вся твоя карьера висит на волоске. Советы Дули все еще звучат в башке (не смотри в глаза, не выражайся, не спорь).
– Ну? Что вы думаете?
Вдохнем поглубже.
– Мне кажется, сэр, вы не единственный, кого на этих съемках выебли.
Скурос соскочил со стола. С этого момента он говорил со мной как с мужчиной. Никаких четвертей стакана. Старик разом потеплел. Лиз: с ней невозможно иметь дело. Сплошные эмоции. Упрямство. Но Бёртон не такой. Он профессионал. И роман на съемках у него далеко не первый. Единственный шанс – убедить его. Застать трезвым и убедить.
Удачи тебе, сынок. Вот тебе твое первое задание: поезжай в Рим и убеди трезвого Ричарда Бёртона оставить Лиз в покое, или он вылетит с картины.
Ладно. На следующий день я был в Италии.
Оказалось, все не так просто. Это не интрижка на съемочной площадке. Они и вправду полюбили друг друга. Даже старый сердцеед, имевший все, что движется, увяз по самые уши. Впервые в истории девичья честь парикмахерш и гримерш в полной безопасности. Я приехал в Гранд-Отель и объяснил ему расклад. Передал слова Скуроса. Дословно. Бёртон надо мной только посмеялся. Я вышибу его с картины? Я? Его? Это вряд ли.
Прошло тридцать шесть часов с начала задания, и мой блеф провалился. Даже водородная бомба не смогла бы разрушить их любовь.
Ничего удивительного. Это был самый великий роман в истории кино. Не обычный перепихон. Любовь. Все нынешние романчики актерских пар этому роману и в подметки не годятся. На фоне Лиз и Дика они просто дети.
Дик и Лиз были богами. Квинтэссенция таланта и харизмы. А два бога в одном месте… Кошмар. Светопреставление. Вечно пьяные, самовлюбленные, чудовищно жестокие ко всем окружающим. Вот бы фильму такой накал страстей! Они снимали скучную нейтральную сцену, но, как только камера останавливалась, Дик цедил что-нибудь сквозь зубы, Лиз яростно шипела в ответ и убегала с площадки, он мчался за ней в погоню, настигал в отеле, а потом гостиничный персонал жаловался на дикие крики и звон стекла. Отличить драку от секса у них было невозможно. С балкона на тротуар градом летела посуда. Каждый день они попадали в аварии. С участием как минимум еще десяти машин.
И меня осенило. В тот момент я и родился.
Буддисты называют это просветлением.
Миллионеры – мозговым штурмом.
Художники – музой.
Я просто вдруг понял, что отличает меня от остальных людей. Я всегда это знал, но не понимал до конца. Мне открывалась истинная природа человека. Причины его поступков. Его желаний. Внезапная вспышка молнии озарила для меня весь мир.
Мы хотим того, чего хотим.
Дик хотел Лиз. Лиз хотела Дика. Все люди хотят увидеть автокатастрофу. Говорят, что не хотят. А сами обожают их. Смотреть – значит любить. Тысячи людей проезжают мимо статуи Давида, двести из них взглянут на него. Тысячи людей проезжают мимо места аварии, и тысячи разглядывают горящие останки.
Сейчас-то это стало уже банальностью. По такому принципу устроены интернет-метрики: все считают клики, переходы, количество просмотров. Но для меня это был момент перерождения. Для меня. Для города. Для мира.
Я позвонил Скуросу:
– Тут ничего не исправишь.
– Мне что, послать кого-нибудь другого? Ты это хочешь сказать? – очень тихо спросил старик.
– Нет. – Я говорил с ним, как с пятилетним ребенком. – Я сказал, что исправить тут ничего нельзя. И не нужно.
Скурос сердито запыхтел. Он не привык выслушивать плохие новости.
– Я ни хера не понял.
– Сколько вы уже вложили в эту картину?
– Ну, оценка затрат…
– Сколько?
– Пятнадцать.
– И еще двадцать потратите. По самым скромным оценкам, миллионов двадцать пять – тридцать на круг. Сколько нужно потратить на прессу, чтобы отбить тридцать миллионов?
Скурос даже не смог эту сумму произнести вслух.
– Реклама, билборды, статьи в журналах по всему миру. Восемь? Ну скажем, десять. Уже сорок. Ни один фильм в мире пока еще сорок миллионов не собирал. И вот еще что. Давайте начистоту. Фильм – говно. Отборное, вонючее, первосортное.
Что, скажете, я Скуроса живьем в землю закапывал? Еще бы! Но только для того, чтобы помочь потом откопать.
– А что, если я вам раздобуду бесплатной рекламы на двадцать лимонов?
– Такой рекламы нам не нужно!
– А может, она-то как раз и нужна.
И я рассказал ему, как обстоят дела на съемках. Про пьянство. Про драки. Про секс. Камеры снимали скуку и смерть. Но как только они выключались, от главных героев нельзя было глаз оторвать. Антоний и Клеопатра на хрен никому не сдались. Кому какое дело до рассыпавшихся в пыль старых костей? Роман Лиз и Дика – вот это настоящее кино! Я сказал старику, что их роман – это наш шанс спасти фильм.
И что, задуть это пламя? Ну уж нет! Его надо раздувать изо всех сил.
Теперь-то это легко понять. В наше время падений, искуплений и новых падений все просто. Возвращение за возвращением. Примирение за примирением. Актеры сами сливают прессе постельное видео. Но тогда стандарты были другими. И уж актеры точно не могли себе такого позволить. Они были олимпийскими богами. Воплощением совершенства. Если кто-то оступился, его навечно скидывали с Олимпа. Кто сейчас вспомнит Эву Гарднер? Для публики она умерла.
Я предлагал спалить к чертям весь город, чтобы спасти один дом. Если мне удастся этот фокус провернуть, народ пойдет смотреть картину не вопреки скандалу, а благодаря ему. Но возврата после такого уже нет. Боги упокоятся в вечности.
Я слышал, как на том конце линии тяжело дышит старый грек.
– Выполняйте. – И он повесил трубку.
В ту ночь я подкупил водителя Лиз. Голубки сняли виллу подальше от людских глаз, чтобы пресса их не застукала. Вышли на веранду, и с трех сторон засверкали вспышки. Фотографам я просто намекнул, где искать гнездышко. На следующий день я нанял папарацци. Он должен был ходить за парочкой хвостом и все снимать. Мы, кстати, десятки тысяч баксов заработали. На эти деньги я подкупил остальных водителей и гримеров. Они продавали мне информацию. У нас прямо целое производство компромата открылось. Лиз и Дик были в ярости. Они умоляли меня найти предателей, и я делал вид, будто ищу. Увольнял водителей, массовку, поваров. И вскоре Лиз и Дик уже доверяли мне подыскивать им места для свиданий. Но фотографы и там их находили.
Удался ли мой фокус? Да он выстрелил погромче, чем любой самый кассовый фильм! Портреты Лиз и Дика появились в каждой газете мира.
Жена Дика все узнала. И муж Лиз тоже. Скандал разрастался как снежный ком. Я просил Скуроса потерпеть. Переждать эту волну.
А потом Эдди Фишер прилетел в Рим. Бедняга надеялся вернуть свою жену. Новая проблема. Чтобы мой трюк сработал, к моменту выхода фильма на экраны Лиз и Дик должны были быть вместе. Во время премьеры на бульваре Сансет Дику полагалось трахать Лиз в столовой Шато-Мармон. А Эдди Фишеру – уползти в нору зализывать раны. Но этот гад решил побороться за свой обреченный брак.
Второй проблемой, тоже связанной с Фишером, был Бёртон. Он дулся. Пил. И вернулся к той женщине, к которой захаживал с первого дня приезда в Италию.
Она была высокой и светловолосой. Очень необычная внешность. Камера ее обожала. В те времена все актрисы делились на купе и седаны. Либо красавицы, либо девчонки из соседнего двора. Эта была совсем другая. Съемочного опыта у нее не было, она пришла из театра. Манкевич утвердил ее на роль служанки Клеопатры по одной только фотографии. Он решил, что Лиз будет больше похожа на египтянку на фоне этой блондинки. Бедный Манки и подумать не мог, что прислуга Клеопатры на самом деле будет обслуживать Бёртона.
Господи боже! Я глазам своим не поверил, когда ее увидел. Кому придет в голову приглашать блондинку в фильм о Древнем Египте?
Назовем эту девушку Д.
Про таких, как Д., в хипповские шестидесятые говорили «девушка-цветок». Легкий характер и бездонные глаза. Хорошие были времена, я тогда немало хиппушек переимел.
Нет, эта мне как раз не досталась.
Хоть я был очень не против.
В общем, Эдди Фишер патрулировал Рим, и Дик кинулся в объятия своей бывшей пассии. Поначалу я решил, что с Д. проблем не будет, надо только бросить ей кость. Роль повкуснее. Контракт повыгоднее. А не согласится, так уволить ее, и все дела. Убытков мы от этого не понесем. Я попросил Манкевича звонить ей каждый день в пять утра и вызывать на съемочную площадку, чтобы выдернуть ее из постели Дика. А потом она заболела.
У нас в группе был свой врач, американец, некий Крейн. Вся его работа состояла в том, чтобы выписывать Лиз таблетки. Он осмотрел Д. и на следующий день отвел меня в сторону.
– У нас неприятности. Девчонка беременна, хотя сама пока об этом не знает. Какой-то умник, называющий себя врачом, сказал ей, будто она не может иметь детей. Еще как может!
Понятно, что мне и раньше приходилось устраивать для женщин аборты. Все-таки я работал в отделе по связям с общественностью. Организация абортов, можно сказать, входила в мои должностные обязанности. Но мы были в католической Италии образца 1962 года. Тогда было проще достать камень с луны, чем сделать аборт в Италии.
Да что же это такое? Я сливаю информацию о романе двух великих актеров, а тут эта беременность. Если после премьеры все будут говорить о любви исполнителей главных ролей, шанс на победу есть. Если говорить будут о том, что Бёртон переспал с актрисой второго плана, а Лиз вернулась к мужу, картине крышка.
Я составил план из трех частей. Первая: на время избавиться от Бёртона. Я знал, что Дикки Занук снимает во Франции «Самый длинный день». Ему ужасно хотелось заполучить Бёртона в качестве украшения батальных сцен. Знал, что и Бёртону хочется сняться в этом фильме. Но Скурос Занука терпеть не мог. До Скуроса «Фокс» возглавлял отец Занука, и в совете директоров было полно охотников заменить старика на молодого и энергичного Дикки. Поэтому Скуроса я решил в свой план не посвящать. Позвонил Зануку и сдал ему Бёртона в аренду на десять дней.
Потом я велел Кейну пригласить Д., мол, надо сделать еще анализы.
– Какие анализы? – спросил он.
– Кто из нас врач? Ну придумайте что-нибудь! Лишь бы она на время уехала из города.
Я боялся, что он откажется. Клятва Гиппократа и все такое. Но Крейн даже рад был мне помочь. На следующий день старый засранец пришел, ухмыляясь во всю пасть.
– Я ей сказал, что у нее рак желудка.
– ЧТО ВЫ СКАЗАЛИ?!!
Крейн объяснил, что симптомы раннего токсикоза совпадают с симптомами рака желудка. Лихорадка, тошнота, прекращение месячных.
Я хотел избавиться от девчонки, но не убить же ее!
Док сказал Д., что волноваться не о чем. Эта форма рака излечима. Надо ехать в Швейцарию, там у них разработаны новые методы.
Крейн подмигнул мне. В Швейцарии ей дадут наркоз. Потом коротенькая простая операция. Девушка просыпается, и – опа! – рака как не бывало. Ей и знать ничего не надо. Мы отправляем ее в Штаты на реабилитацию. Я ей обеспечиваю новые роли. Все счастливы. Задача решена, фильм спасен.
Вот только с Д. все пошло не так. Ее мать умерла от рака, и девушка восприняла диагноз очень уж серьезно. И еще я недооценил чувства Дика.
На другом фронте дела шли получше. Эдди Фишер сдался и уехал домой. Я позвонил Дику во Францию и сообщил, что поле свободно. Лиз готова была снова принять его в свои объятия. Вот только он был не готов. Из-за этой самой Д. У нее рак. Она умирает. И Дик должен быть рядом. Так он мне и сказал.
– С ней все будет хорошо. Врачи в Швейцарии…
Дик не дал мне договорить. Д. не хотела лечиться. Она хотела провести последние дни с ним. Бёртон был самовлюбленным идиотом, и ему эта идея ужасно понравилась. В съемках во Франции будет двухдневный перерыв, и Дик хочется встретиться с девушкой на побережье. И поскольку я так ему помогал с Лиз, он просит меня позаботиться, чтобы Д. туда добралась.
Ну что я мог поделать? Бёртон хотел встретиться с ней в богом забытой деревушке у моря, в Портовенере. Как раз на полпути между Римом и местом, где снимали «Самый длинный день». Я открыл карту и сразу заметил малюсенькое пятнышко. Деревню с похожим названием. Порто-Верньона. Я связался с агентом и попросил все устроить. Она мне ответила, что туда туров не бывает. Что это просто дюжина домишек, а вокруг неприступные скалы. Рыбацкая деревня. Ни телефонов, ни дорог. Туда ни поездом, ни на машине не доберешься.
– А гостиница там есть? – спросил я.
Она ответила, что есть, совсем крошечная. И я забронировал для Дика номер в Портовенере, а Д. отправил на лодке в Порто-Верньону. И велел ждать. Мне просто надо было подержать ее там пару дней, пока Дик не вернется во Францию. И уж тогда отправлять Д. в Швейцарию.
Поначалу мой план сработал. Она застряла в этой деревне без всякой связи с внешним миром. Бёртон приехал в Портовенере и вместо Д. нашел меня. Я сообщил ему, что Д. все же решилась поехать в Швейцарию. Не надо за нее волноваться. В Швейцарии лучшие в мире доктора. И я отвез его в Рим, к Лиз.
Не успел я их свести, как возникла новая проблема. Из гостиницы, в которой живет Д., приезжает какой-то пацан и дает мне по морде. В Италии я пробыл уже три недели и к взрывному национальному характеру привык, поэтому я просто дал ему денег и отослал обратно. Но он меня перехитрил. Нашел Бёртона и все ему рассказал. Что Д. не умирает. Что она беременна. И увез Дика в Порто-Верньону, на встречу с любимой.
Думаете, Дин сдался? Черта с два! Я позвонил Дикки Зануку, попросил его вызвать Бёртона во Францию еще на один день и помчался в Портовенере, чтобы поговорить с Д.
Никогда я еще не видел такой страшной ярости. Она хотела меня убить. И я ее понимал. Правда понимал. И даже извинился. Дескать, я и представить не мог, что доктор такое выдумает. Что все вышло не так, как я хотел. Обещал ей блестящую карьеру. Надо только сделать все, как я прошу, и ей гарантирована роль в любом фильме «Фокс».
Не на ту напал. Не нужны ей были ни деньги, ни роли. Я ушам своим не верил. Чтобы актриса отказалась от денег и ролей?!
И тут я понял, что вместе с даром понимать желания людей приходит и ответственность. Одно дело – знать, чего человек на самом деле хочет. И совсем другое – пробуждать в нем это желание.
– Послушайте, все вышло как-то по-дурацки. Дик просто хочет, чтобы вы сделали аборт и не болтали об этом. Давайте вместе попробуем все уладить, – сказал я ей.
Она вздрогнула.
– Он хочет, чтобы я сделала аборт?
Я и глазом не моргнул.
– Нет, вы поймите, он очень переживает. Он даже не решился сам с вами поговорить. Дик расстроился, что так все вышло.
Вид у Д. был похуже, чем тогда, когда она думала, что у нее рак.
– Постойте, вы что же, хотите сказать…
Она закрыла глаза. Ей и в голову не приходило, что Дик в курсе моих проделок. Если честно, до той самой секунды я тоже об этом не думал. Но в каком-то смысле это было правдой.
Я повел себя так, будто считал: она понимает, что я действую от имени Дика. Главное тут – не спешить. Поначалу я его защищал. Говорил, что она ему очень дорога. То, что я ей предлагал, ничего не меняло в их отношениях. Говорил, что ей не следует его винить. Что его чувства к ней были вполне искренними, но на них с Лиз сейчас так давит студия…
Она перебила меня. У нее постепенно начинала складываться в голове вся картинка. Диагноз ей поставил врач Лиз. Она вздрогнула.
– И Лиз тоже обо всем знает?
Я вздохнул и попытался взять ее за руку. Д. отшатнулась от меня, как от змеи.
В тот день, пока Ричард Бёртон мчал по автостраде, чтобы увидеться с Д., я отвез ее на вокзал в Портовенере. Она молчала. Я дал ей свою карточку. Сказал, что, как только она вернется в Штаты, мы с ней просмотрим весь план фильмов «Фокс» и она сама выберет себе роль. Я был абсолютно уверен, что она придет. Через два месяца. Через шесть. Или через год. Но придет обязательно. Все приходят.
Она так и не пришла.
Я остановился перед вокзалом. Д. вышла из машины и зашагала вперед. Не оборачиваясь. Мимо станции и дальше, к зеленым склонам гор. Не знаю, может, она так и шла до конца жизни.
Я сначала хотел ее догнать, а потом решил оставить в покое. И уехал.
Бёртон вернулся из Франции, и его снова встретил я. Он жутко рассердился. Обыскал все в Портовенере. Заставил меня нанять лодку и съездить в ту рыбацкую деревушку. Но Д. и там не было.
Мы уже собирались оттуда уезжать, когда случилось нечто странное. С гор к нам бежала старая ведьма. Она кричала как ненормальная. Рыбак, который нас привез, сказал, что она повторяла «убийца» и желала нам долгой мучительной смерти. Я оглянулся на Бёртона. Досталось ему от той старухи! Еще много лет я смотрел, как Бёртон каждый день напивается вусмерть и сохнет от тоски, и вспоминал то проклятие.
Мы сели в лодку. Дик страшно перепугался. Самое время было провести с ним душеспасительную беседу.
– Ну будет вам, Дик! Ну что бы вы сделали? Воспитывали бы вместе с ней ребенка? Женились на ней?
– Слушай, Дин, отвали, а!
По его тону было понятно, что я не ошибся.
– Вы нужны на съемках. И Лиз.
Он молча глядел на волны.
Конечно, я был прав. Лиз идеально ему подходила. Они любили друг друга. Я это понимал, и он тоже. И я помог сохранить их любовь.
Я все сделал в точности так, как он хотел. В точности! Просто тогда он этого еще не сознавал. Такие люди, как я, существуют для того, чтобы помогать таким людям, как он.
Итак, я определил свое место в мире. Мне суждено было видеть потаенные желания и осуществлять их. Даже такие, которые человек и сам от себя скрывает. И иногда делать то, на что сам бы он ни за что не решился.
Дик все смотрел вперед. «Останемся ли мы друзьями?» – думал я. Остались. И даже на свадьбы друг к другу ходили. Склонил ли Дин голову на похоронах великого актера? Конечно, а как же? Вот только о том, что случилось в Италии, мы больше не говорили ни разу. Ни о девушке, ни о рыбацкой деревне, ни о проклятии старой ведьмы.
Вот так все и закончилось.
Дик вернулся к съемкам. Женился на Лиз. Снимался в других фильмах. Получал премии за лучшие роли. Да вы и сами все знаете. Кто не слышал о величайшем романе в истории? А ведь это я все устроил.
Что же сталось с фильмом? Он вышел на экраны. Как я и предсказывал, мы выехали на этом романе, о нем писали во всех газетах и журналах. О фильме говорили, что он провальный. А вот и нет. Все затраты на него мы отбили. Отбили, потому что я все сделал правильно. Без меня студия влетела бы миллионов на двадцать.
Первое задание Дина. Его первый фильм. И что же он сделал? Спас студию от банкротства, ни больше ни меньше. И спалил к чертям всю старую систему, а вместо нее построил новую.
В то же лето Дикки Занук возглавил студию, и уж он-то воздал мне по заслугам. Больше мне не приходилось париться в бывшем автогараже. И из связей с общественностью я ушел. Теперь я стал продюсером, но не это было моей главной наградой. За ближайшим поворотом меня ждали деньги и слава. А еще женщины, и кокаин, и самый лучший столик в каждом ресторане города. Но и это неважно.
Важно лишь озарение, определившее всю мою дальнейшую карьеру.
Мы хотим того, чего хотим.
Вот так я и родился во второй раз. Так я пришел в этот мир и навсегда изменил его. Так в 1962 году на итальянском побережье я изобрел понятие «звезда».
Примечание редактора.
Потрясающая история, Майкл!
К сожалению, даже если мы отважимся использовать эту главу, юридический отдел ее зарубит. Адвокаты напишут тебе про это отдельным письмом.
Как редактор могу сказать одно: история эта выставляет тебя не в лучшем свете. Признаться в том, что ты разбил два брака, обманул девушку, заставил ее поверить, что у нее рак, пытался подкупить ее, чтобы она сделала аборт… И все в одной только первой главе… Мне кажется, это не лучший способ представиться читателям.
По даже если допустить на минуту, что юристы не станут возражать, все равно этот исторический анекдот выходит у тебя каким-то обрезанным. Столько не выстреливших ружей. Что сталось с той актрисой? Сделала ли она аборт? Родила ли ребенка? Продолжила ли она сниматься? Может, она теперь стала знаменитой? (Вот это было бы здорово.) Пытался ли ты как-то возместить ей причиненный ущерб? Найти ее? Выбить для нее классную роль? Может быть, ты хотя бы раскаялся и усвоил урок? Понимаешь, чего мне не хватает?
Короче, жизнь твоя, и глупо было бы тебе указывать, как о ней писать. По истории этой явно недостает финала. Понимания, что ты хотя бы попытался все исправить.
16. После грехопадения
Сентябрь 1967
Сиэтл, штат Вашингтон
На сцене темно. Слышен шум волн. Появляется Мэгги в измятом плаще. В руках у нее бутылка, на лицо свисают слипшиеся, мокрые пряди волос. Она начинает подниматься на пирс, из дома выбегает Квентин и обнимает ее. Она медленно поворачивается к нему. Из окон дома доносится тихая джазовая музыка.
МЭГГИ. Я любила тебя, Квентин. Никто так не любил на этом свете, как любила тебя я!
КВЕНТИН (отпуская ее). Мой рейс постоянно откладывали…
МЭГГИ (она пьяна, но осознает происходящее). Я собиралась убить себя этой ночью. Или ты и этому не веришь?
– Стоп, стоп, стоп! – Режиссер вскочил со своего места, потрясая сценарием, и Дебра устало нахмурилась. – Ди, золото мое, что с тобой?
Она посмотрела в зал:
– Ну что опять не так, Рон?
– Мы ведь, кажется, договорились, что ты сыграешь это трагичнее, величественнее?
Она быстро переглянулась со своим партнером, Аароном. Тот вздохнул, откашлялся и сказал:
– А мне нравится, как она играет, Рон. – И протянул Дебре руку, как бы говоря: ну вот, все, что мог, я сделал.
Рон эти слова проигнорировал. Он вскарабкался на сцену, встал между актерами и положил руку Ди на талию так, словно вел ее в танце.
– Ди, до премьеры десять дней. Если дело так пойдет, твоей утонченной игры никто не оценит.
– А по-моему, проблема совсем не в утонченности. – Она осторожно выскользнула из-под его руки. – Если у нас Мэгги с самого начала сумасшедшая, то в сцене не может быть никакого развития.
– Она пытается наложить на себя руки! Конечно, она сумасшедшая!
– Да я просто…
– Она алкоголичка, наркоманка, она меняет мужиков как перчатки.
– Да я знаю, знаю! Просто…
Рука Рона легла Дебре на спину и поползла вниз. Упорство, достойное уважения.
– Эта сцена – воспоминание. Благодаря ей зритель понимает: Квентин сделал все, чтобы ее остановить, не дать ей совершить самоубийство.
Дебра еще раз оглянулась на Аарона. Тот исполнял пантомиму «мастурбация». Рон подошел ближе. Плотное облако его одеколона накрыло их обоих.
– Мэгги высосала из Квентина всю жизнь до последней капли. Она убивает их обоих…
За спиной режиссера Аарон, надув щеки, трахал воздух.
– Ну да, – ответила Ди. – Рон, можно тебя на минуточку?
Рука Рона опустилась еще ниже.
– Ну конечно! Я весь твой.
Они спустились со сцены, и Ди села в заднем ряду. Рон встал, прислонившись к спинке кресла перед Ди так, чтобы их колени соприкасались. У режиссера на носу блестели очки в черной оправе, а за ухом торчал карандаш. Господи боже, он что, потеет одеколоном?
– Что случилось, золотко?
Что случилось? Она чуть не рассмеялась. С чего бы начать? С того, что она согласилась играть в пьесе об Артуре Миллере и Мэрилин Монро? Или с того, что она имела глупость переспать с режиссером шесть лет назад? Они случайно столкнулись на театральном фестивале в Сиэтле. Пожалуй, начать нужно именно с этого. И зачем она потащилась на этот фестиваль? Поначалу Дебра избегала старых театральных друзей. Ей не хотелось объяснять, откуда у нее ребенок или почему не сложилась карьера в кино. А потом ей на глаза попалась заметка о фестивале, и Ди вдруг поняла, как ей не хватает театра. Она пришла и сразу почувствовала себя дома. Ощущение было такое, словно бродишь по коридорам своей старой школы. На этом фестивале Ди и встретила Рона. С вилкой в руке он был похож на чертенка. Рон расцвел на местных театральных подмостках за те годы, что Ди не появлялась. Она была искренне рада его видеть. Рон посмотрел на немолодого мужчину за ее спиной, и Ди их представила:
– Рон, это Алвис, мой муж.
Рон тут же побледнел и ушел с фуршета.
– По-моему, ты как-то очень уж… лично воспринимаешь пьесу, – сказала Ди.
– Конечно, – серьезно ответил Рон и снял очки. – Все пьесы должны восприниматься лично. Искусство – вообще дело очень личное. Я поставил много пьес, но эта для меня самая важная.
Рон позвонил через две недели после фестиваля и извинился за свое внезапное исчезновение. Просто он не ожидал ее увидеть. Спросил, чем она сейчас занимается. Ди ответила, что сидит дома с ребенком. У ее мужа автосалон по продаже «шевроле» в Сиэтле, а она воспитывает сына. Рон спросил, не скучает ли она по театру. Ди пробормотала нечто невразумительное, мол, она рада возможности немного отдышаться и пожить для себя, а сама подумала: «Скучаю, еще как скучаю! Так же, как и по настоящей любви. Без театра от прежней Ди осталась только половинка».
Еще через пару недель Рон снова позвонил и сказал, что будет ставить пьесу Артура Миллера. Предложил ей почитать сценарий. Он готов отдать ей главную роль. У Ди внезапно перехватило дыхание, она снова почувствовала себя двадцатилетней девчонкой. И все равно она бы отказалась, если бы на экраны только что не вышел новый фильм Лиз и Дика, и какой! «Укрощение строптивой». Они снялись вместе уже в пяти картинах. Четыре предыдущие Дебра так и не смогла заставить себя посмотреть. В прошлом году Лиз и Дика номинировали на «Оскара» за роли в фильме «Кто боится Вирджинии Вульф?», и Дебра всерьез засомневалась, что Дик и вправду растрачивает свой талант на бездарные картины, как она говорила ему в Риме. Ди увидела в газете рекламу «Укрощения строптивой»: «Самая знаменитая голливудская пара… в фильме, ради которого они родились на свет». Позвала няню, уехала как будто к врачу и пошла в кинотеатр, ни слова не сказав об этом Алвису. Фильм оказался блестящим, хоть Ди и не очень приятно было это признать. Дик играл тонко и честно. Казалось, он и вправду рожден для роли Петруччо. Нет, не казалось, так оно и было. Особенно ему удалась сцена на свадьбе. И на Ди вдруг опять тяжелым грузом навалились воспоминания. Лиз, Дик, Италия, Шекспир. Она оплакивала смерть молодой актрисы, женщины, которой уже не существовало на свете, оплакивала свои мечты. Ди сидела в кинотеатре и плакала. «Ты сама от всего отказалась», – шептал ей внутренний голос. «Нет, – отвечала Ди, – это они отняли у меня кино». Но вот окончились титры, в зале включили свет. Зрители начали расходиться, а она так и сидела, не в силах двинуться с места.
А через две недели Рон предложил ей роль. Ди повесила трубку и заплакала. Пат отложил игрушку и серьезно спросил:
– Мам, ты чего?
Вечером, когда Алвис вернулся с работы, они выпили мартини перед ужином и Дебра рассказала ему о звонке. Он был страшно за нее рад. Алвис знал, как ей не хватает театра. Она еще посопротивлялась для виду. А как же Пат? Алвис только плечами пожал. Наймем няню. Но он ведь еще совсем маленький! Алвис фыркнул. И еще одно, сказала ему Дебра. Режиссером будет Рон Фрай. До Голливуда и Италии у нее с ним был короткий дурацкий роман. Ничего серьезного, она увлеклась им со скуки, а может, потому, что он в нее влюбился. Кстати, Рон в то время был женат. Ну да, сказал Алвис. Между нами ничего нет, объяснила Дебра. Просто молоденькой девушке казалось, что правила не для нее. Она уже давно не та глупенькая девчонка.
Алвис всегда был сильным и уверенным в себе человеком. Он велел ей плюнуть на историю с Роном и сыграть эту роль. Так она и сделала. Начались репетиции, Дебра поняла, что Рон отождествляет себя с героем пьесы Миллера, Квентином. И даже не с Квентином, а с самим Миллером, гениальным писателем, которого бездушная и жестокая актриса мучает ради собственного удовольствия. Актрисой этой он, разумеется, считал Ди.
Дебра отодвинулась от Рона подальше:
– Рон, то, что между нами случилось…
– Случилось?! Слушай, это же не авария. – Он положил руку ей на коленку.
Некоторые воспоминания живут совсем близко – только закрой глаза, и сразу окажешься там. Это воспоминания нашего «я». Но есть и другие, воспоминания о себе самом, о том человеке, которого больше не существует, и до них добраться нелегко. А если и доберешься, то глазам не веришь. Так Дебра вспоминала о вечеринке после премьеры «Сна в летнюю ночь». Шестьдесят первый год. Она тогда соблазнила Рона. Дебра теперь как будто фильм про себя смотрела. Женщина на экране бог знает что вытворяла, а Дебра только удивлялась. Той Дебре льстило внимание молодого актера с трубкой в зубах. Рон учился и играл в Нью-Йорке. На экране та, другая Дебра, зажимает молодого человека в углу, рассказывает о своих глупых мечтах («Хочу играть и в театре, и в кино»), кокетничает, прикидывается то роковой красоткой, то скромницей, превосходно играет роль («Это же только на одну ночь, Рон»), проверяет, нащупывает границы своей власти над ним…
Дебра убрала руку Рона с колена:
– Я замужем.
– Значит, если я женат, это ничего. А твой брак – священная корова?
– Нет. Просто мы повзрослели с тех пор. Пора бы и поумнеть.
Рон прикусил губу и посмотрел куда-то в глубину зала.
– Ди, я не хочу тебя обидеть. Но… сорокалетний пьяница… Торговец подержанными машинами. И что, это и есть любовь всей твоей жизни?
Ди поморщилась. Алвис дважды забирал ее после репетиций и оба раза был нетрезв. Но Ди не сдавалась:
– Рон, если ты меня пригласил, потому что мы не попрощались как следует, то постарайся меня услышать. Все кончено. Мы переспали пару раз. Нужно жить дальше, иначе нам пьесу не поставить.
– Жить дальше? Как думаешь, Ди, о чем эта пьеса?
– Дебра. Меня теперь зовут Дебра. И пьеса не о нас с тобой, а об Артуре Миллере и Мэрилин Монро.
Рон снял очки, снова надел их, взъерошил волосы. Вздохнул со значением. Актерская привычка – в каждый момент не просто жить, а играть, причем так, будто это кульминация пьесы.
– Вот потому-то из тебя и не вышло актрисы. Великие актеры на сцене живут, и спектакль всегда о них, Ди… Дебра.
Самое смешное, что он был прав. Она видела работу титанов. Те и вправду были Клеопатрой и Антонием, Катериной и Петруччо. Они жили так, как будто сцена заканчивалась с их уходом и мир исчезал, как только они закрывали глаза.
– Ты даже не осознаешь, что делаешь, – продолжал Рон. – Ты используешь людей. Играешь с ними, как кошка с мышкой, игнорируешь их, как будто кроме тебя на свете никого не существует. Презираешь их.
Знакомые слова. И обидные. Дебре нечего было ответить. Рон повернулся и сердито зашагал назад к сцене, оставив Дебру одну в темноте зала.
– На сегодня все! – заорал он.
Дебра позвонила домой. Няня, соседская девчонка по имени Эмма, сказала, что Пат опять сломал ручку переключения программ в телевизоре. Было слышно, как мальчик на кухне стучит ложкой по кастрюле.
– Пат, я разговариваю с твоей мамой по телефону!
Звон стал громче.
– А где его отец? – спросила Дебра.
Эмма сказала, что Алвис звонил с работы и просил посидеть с ребенком до десяти вечера. Он заказал столик и велел передать Ди, когда она позвонит, что он ждет ее в ресторане «У Гарри».
Дебра посмотрела на часы. Было почти семь.
– А во сколько он звонил?
– Около четырех.
Три часа. За три часа он уже коктейлей шесть успел выпить. Четыре, если не сразу ринулся в бар. Многовато, даже для Алвиса.
– Спасибо, Эмма. Мы скоро приедем.
– Миссис Бендер, вы только пораньше возвращайтесь. В прошлый раз вы пришли после полуночи, а мне на следующий день надо было в школу вставать.
– Я знаю, Эмма, прости, пожалуйста. Мы скоро, не переживай.
Дебра повесила трубку, надела пальто и вышла на улицу. Там было прохладно, шел дождь. Машина Рона все еще стояла на парковке, и Дебра торопливо села в свою. Повернула ключ зажигания. Тишина. Попробовала еще раз. Опять тишина.
Первые два года после свадьбы Алвис дарил ей по новому «шевроле» каждые шесть месяцев. Но в этом году она убедила его, что новая машина ей ни к чему, старая ее вполне устраивает. И конечно, теперь вот зажигание барахлит. Дебра прикинула, стоит ли звонить в ресторан, но решила, что и пешком прекрасно доберется, тут идти-то всего километра два-три по прямой, вниз по Пятой авеню. Или можно на трамвае доехать. И все же Дебра решила прогуляться, хоть Алвис и рассердится. Он терпеть не мог, когда она ходила одна по центру города, считал, что в этом районе небезопасно. Но Дебре нужно было время, чтобы выкинуть из головы мерзкий разговор с Роном, и она пошла пешком.
Дебра быстро шагала по улице, прикрываясь зонтиком от ветра и дождя. В голове крутились слова, которые она могла бы сказать Рону («Да, Алвис и впрямь любовь всей моей жизни»). Она снова слышала его голос («Ты используешь людей… Презираешь их…»). Точно так же Ди описала Алвису нравы киноиндустрии на их первом свидании.
Сиэтл очень изменился. Он был полон предвкушения счастья. Раньше город казался ей маленьким, усохшим. Наверное, это у нее самой душа усохла после Италии. Дебра вернулась домой, как побитая собака. В Сиэтле гремела Всемирная торговая ярмарка, деньги лились в город рекой. Даже театр получил новое здание. Ди старалась держаться подальше и от ярмарки, и от театра. И «Клеопатру» она смотреть не пошла. Она читала рецензии, радовалась плохим отзывам и стыдилась своего злорадства. Дебра поселилась у сестры и принялась «зализывать раны», как выразилась бестактная Дарлин. Ди собиралась отдать ребенка на усыновление, но Дарлин ее отговорила. Своей семье Ди сказала, что отец ребенка – итальянец, владелец гостиницы. Вот потому-то она и назвала сына Паскалем. Когда Пату исполнилось три месяца, Дебра устроилась официанткой в тот самый ресторан при торговом центре, в котором когда-то работала. Однажды вечером она наливала клиенту лимонад и вдруг увидела знакомое лицо. Высокий, худой, симпатичный мужчина, слегка сутулый, с сединой на висках. Еще через минуту она сообразила, кто это. Алвис Бендер, друг Паскаля.
– Ди Морей, – произнес он.
– А где же ваши усы? Меня теперь зовут Дебра. Дебра Морган.
– Простите, пожалуйста, Дебра, я не знал. – Он устроился на барном стуле у стойки. Выяснилось, что его отец собирается купить в Сиэтле автосалон и Алвиса послали на разведку.
Странно было видеть его в Сиэтле. Италия теперь казалась внезапно оборвавшимся сном. Встретить человека из этого сна было все равно что заметить на улице персонаж из известного романа. Дежавю. Но Алвис покорил ее своим обаянием, и разговаривать с ним было легко. Как же это здорово, встретить того, кто знает о ее прошлом! Она вдруг поняла, как трудно ей было постоянно врать о том, что случилось в Италии. Ди вдохнула полной грудью, словно целый год непроизвольно задерживала дыхание.
Они поужинали вместе. Выпили. Рядом с Алвисом Дебра могла позволить себе расслабиться. Он много и удачно шутил. Бизнес его отца процветал, и это тоже было приятно. Хорошо, когда мужчина уверенно стоит на ногах. Алвис проводил ее до дома и поцеловал в щеку.
На следующий день во время обеда Алвис снова уселся за барную стойку. Он сказал, что хочет признаться ей кое в чем. Их встреча не была случайной. Они много разговаривали в те последние дни в Италии. Он отвез ее в Ла-Специю, а потом и в аэропорт в Риме. Ди рассказывала ему о себе. Говорила, что, наверное, вернется в Сиэтл. И чем вы займетесь, спросил он тогда. Ди ответила, что когда-то работала в ресторане при большом универсаме, вот, может, там ее обратно примут. Когда отец Бендера упомянул, что присматривает автосалон в Сиэтле, Алвис с радостью согласился съездить на Западное побережье.
Он обошел все универсамы, пока в последнем продавщица в отделе парфюмерии не вспомнила, что в их ресторане работает высокая блондинка по имени Дебра. И вроде бы она раньше была актрисой.
– То есть, вы проделали такой путь только для того, чтобы меня найти?
– Ну, мы и в самом деле ищем тут автосалон. Но, да, я очень надеялся вас увидеть. – Он оглянулся по сторонам. – Помните, в Италии вы сказали, будто вам понравился мой роман, а я ответил, что никак не придумаю, чем закончить? А вы вдруг сказали: «А может, он уже закончен. Может, это и есть вся история».
– Боже мой, я не хотела вас…
– Нет, нет, – перебил он. – Я совсем не обиделся. Все в порядке. Так или иначе, ничего нового я за последние пять лет к роману не добавил. Только переписывал снова и снова первую главу. Просто вы тогда это сказали, и я смог наконец признаться себе, что это все, что больше мне сказать нечего и надо продолжать жить. – Он улыбнулся. – Одна глава. Я больше не ездил в Италию. Эта глава моей жизни окончена. Пора заняться чем-нибудь другим.
Дебра вдруг поняла, что он повторил ее собственные слова. Именно так она себе и говорила, когда уезжала из Италии.
– И что вы будете теперь делать?
– Об этом я и собирался с вами поговорить. Вот прямо сейчас больше всего мне хотелось бы… послушать джаз.
– Джаз? – Она улыбнулась.
Да, ответил Алвис. Портье в отеле очень рекомендовал ему один клуб на Черри-стрит.
– «Пентхаус», – подсказала она.
Он картинно хлопнул себя ладонью по лбу:
– Точно, «Пентхаус».
Дебра засмеялась:
– Вы что же, мистер Бендер, на свидание меня приглашаете?
Он ухмыльнулся:
– Не знаю, не знаю, мисс Морган. Все зависит от вашего ответа.
Она внимательно оглядела его. Узкие плечи, тонкие черты лица, каштановые с проседью волосы. Почему бы и нет, подумала Ди.
Вот она какая, Рон, история любви всей ее жизни.
В квартале от ресторана Дебра заметила машину Алвиса. Припарковался он, заехав колесом на тротуар. Неужели начал уже на работе? Она заглянула внутрь, но кроме недокуренной сигареты в пепельнице никаких признаков начинающегося запоя не обнаружила.
Дебра вошла в ресторан и вдохнула теплый воздух. В горшках рос бамбук, стены украшали маски и тотемы, с потолка свисало каноэ. Пол был застелен плетеными ковриками. Дебра оглядела зал. За столами весело щебетали юные парочки. Алвиса нигде не было видно. Через минуту к ней подошел хозяин, Гарри Вонг, и протянул бокал с коктейлем «Май Тай».
– Придется вам догонять. – Он указал Дебре на столик в самом дальнем углу.
Круглая спинка огромного кресла возвышалась над головой Алвиса, точно нимб. Он занимался тем, что умел делать лучше всего: пил и читал лекцию одуревшему официанту, тщетно пытавшемуся потихоньку смыться. Алвис держал его за руку огромной лапой, и бедный мальчик уже потерял всякую надежду.
Она взяла бокал из рук Гарри Вонга.
– Спасибо, что сохранили его в вертикальном положении.
Дебра отпила немного, и сладкая смесь ликера с ромом обожгла ей гортань. К своему удивлению, Дебра залпом выпила половину коктейля. На глазах выступили слезы. Как-то раз ей в школе подсунули в шкафчик записку: «Ты шлюха». Дебра злилась целый день, а потом вернулась домой, увидела маму и тут же разрыдалась. Вот так же она почувствовала себя и сейчас при одном взгляде на Алвиса. Пусть даже и пьяного. Выпив, он становился другим, читал окружающим лекции, философствовал. И все же Дебре сразу захотелось расплакаться. Она вытерла глаза и допила коктейль. Вернула Гарри пустую тару.
– Принеси нам, пожалуйста, воды и чего-нибудь пожевать для мистера Бендера, – попросила она Вонга. Тот кивнул.
Дебра шла через зал, встречаясь взглядом с посетителями и прислушиваясь. Ага, он опять говорит о политике.
– Ая тебе скажу, что единственная заслуга Кеннеди, интеграция черных, на самом деле – заслуга не Джона, а Бобби, его брата. Нет, ты только глянь, что за женщина!
Алвис радостно улыбнулся. Карие глаза потеплели. Он отпустил официанта, и тот немедленно убежал, благодарно кивнув Дебре. Алвис поднялся, широко раскинул руки, отчего стал похож на пляжный зонтик, и выдвинул для Дебры кресло. Настоящий джентльмен.
– Вот сколько раз тебя вижу, столько раз у меня дыхание перехватывает, – сказал он.
Она села.
– Прости, я, наверное, забыла, что мы собирались поужинать.
– Мы с тобой всегда по пятницам куда-нибудь ходим.
– Алвис, сегодня четверг.
– Ты зануда.
Гарри принес им обоим воду и тарелку с яичным рулетом. Алвис отхлебнул из стакана.
– Гарри, поставщик мартини тебя надул. Это же вода!
– Приказ твоей дамы, Алвис.
Дебра вынула из руки мужа сигарету и протянула ему рулет. Алвис тут же сделал вид, что затягивается рулетом.
– Неплохо, – сказал он.
Дебра докурила его сигарету.
Алвис принялся жевать.
– Как твой Те-аа-трр?
– Рон меня с ума сведет.
– А, похотливый режиссер! Мне уже нужно посыпать твою попу порошком и искать его отпечатки?
Все-таки он немножко переживал. Дебра была рада и тому, что он ревнует, и тому, что шутит и легко воспринимает ситуацию. Вот как надо было ответить Рону. Что ее муж слишком взрослый для роли Отелло. Она рассказала Алвису, что режиссер ее постоянно останавливает, поправляет, делает из Мэгги карикатуру, а не женщину, легкомысленную и тупую, как сама Мэрилин.
– Не надо было мне соглашаться на эту роль. – Дебра с силой раздавила окурок в пепельнице.
– Да перестань. – Алвис уже прикурил следующую сигарету. – Тебе нужна была эта роль. Откуда мы знаем, сколько еще возможностей предоставит нам судьба? – Он, конечно, не только ее имел в виду, но и себя, неудавшегося писателя, торгующего машинами. Человека, обреченного на роль интеллектуала среди механиков.
– Он говорил мне ужасные вещи.
Рассказывать, что Рон ее лапал и обозвал Алвиса старым алкоголиком, она не стала, сама разберется. Но вот обидные слова повторила. «Ты используешь людей. Играешь с ними, как кошка с мышкой, игнорируешь их, как будто кроме тебя на свете никого не существует. Презираешь их». Повторила и тут же расплакалась.
– Солнышко, не плачь. – Он придвинул к ней кресло и обнял ее. – Если ты считаешь, что этот дебил стоит твоих слез, я начну ревновать.
– Я не из-за него плачу. – Дебра вытерла слезы. – А вдруг он прав?
– Господи боже! – Алвис помахал Вонгу: – Гарри, смотри, какая у меня сопливая нюня за столом устроилась. Как тебе кажется, он тебя использует?
Гарри улыбнулся:
– Нет, к сожалению.
– Вот поэтому надо всегда ходить к двум врачам, а не к одному. Доктор Гарри, что вы можете прописать от бреда? Только нам, пожалуйста, двойную дозу.
Гарри ушел, и Алвис повернулся к жене:
– Так вот, миссис Бендер. Дебил режиссер из провинциального театра не имеет права говорить тебе, кто ты есть на самом деле. Ты поняла меня?
Она взглянула в его спокойные карие глаза и кивнула.
– Наша жизнь – это история, которую мы рассказываем сами. Все, что мы делаем, все решения, которые принимаем, наша сила и слабость, причины наших поступков, прошлое, характер, убеждения – все это ненастоящее, это не реальность. Просто часть нашей истории. И самое главное помнить: это наша история и нам ее рассказывать.
Дебра покраснела. Алвис был, конечно, пьян и потому излишне патетичен, но, выпив, он любил пофилософствовать и часто оказывался прав.
– Твою историю рассказывают не родители. Не сестры. И Пат, когда подрастет, не сможет ее рассказать. Я твой муж, но и мне это не позволено. Поэтому как бы этот твой режиссер тебя ни домогался, а история все равно твоя. И у козлины Бёртона история своя, твою ему не рассказать! – Дебра испуганно огляделась. Они не называли этого имени ни при каких обстоятельствах, даже когда обсуждали, нужно ли Пату знать правду. – Никому не позволено решать, какой будет твоя жизнь! Ты меня поняла?
Она крепко поцеловала его, отчасти для того, чтобы заткнуть ему рот, а когда они отпустили друг друга, на столе их ждали еще две порции «Май Тая». Любовь всей ее жизни. Если Алвис прав и свою историю она рассказывает сама, то… почему бы и нет?
Ди тряслась от холода рядом с машиной и смотрела на огни небоскребов, а Бендер копался в приборной панели.
– Сейчас посмотрим, что тут у тебя барахлит. – Естественно, мотор завелся с первого раза. Алвис пожал плечами: – Ну, не знаю. Ты точно ключ до конца поворачивала?
Она приложила к губам палец и сказала голосом Мэрилин Монро:
– Боже мой, мне никто не говорил, что ключ надо поворачивать! Вы такой хороший автослесарь!
– Мэм, давайте перейдем на заднее сиденье, и я вам наглядно продемонстрирую все преимущества этой машины.
Она наклонилась и поцеловала его. Алвис быстро нащупал нижнюю пуговицу на платье, расстегнул ее и провел рукой по бедру Дебры, зацепив большим пальцем резинку от чулка. Дебра отступила и схватила его за руку:
– Какой вы быстрый, мистер механик!
Он вылез из машины и поцеловал ее, придерживая за талию и затылок.
– Да ладно тебе, давай назад, а? Десять минут! Все дети так делают!
– А как же няня?
– Я не против. Думаешь, она согласится?
Дебра знала, что он это скажет, и все равно улыбнулась. Она почти всегда понимала, чего ждать от Алвиса, и почти всегда смеялась его шуткам.
– Она попросит четыре бакса в час.
Алвис вздохнул, не выпуская жену из рук.
– Солнце, ты ужасно сексуальная, когда шутишь. – Алвис закрыл глаза, запрокинул к небу худое лицо и широко улыбнулся. – Иногда мне хочется, чтобы мы не были женаты. Тогда я бы смог еще раз сделать тебе предложение.
– Делай сколько вздумается.
– А вдруг ты откажешь? – Он отступил на шаг и поклонился, взмахнув рукой: – Ваша милость! Карета подана!
Дебра сделал книксен и села в холодную машину. Алвис захлопнул дверцу и остался стоять на месте. Дебра включила дворники, фонтан брызг взлетел над лобовым стеклом, чуть не окатив Алвиса. Он отпрыгнул в сторону и пошел к своему драндулету. Дебра с улыбкой смотрела ему вслед.
Ей уже полегчало, и все равно она никак не могла понять, почему так рассердилась на Рона. Неужели просто потому, что он озабоченный злобный придурок? Или ее задели именно его слова? «Любовь всей твоей жизни». Может, и не всей. Может, всей вовсе и не обязательно. Неужели непременно надо держаться за девчачью фантазию? Неужели любовь не может быть мягче, спокойней, нежнее? Неужели ей непременно надо сжигать душу дотла? А может, Дебре просто стыдно за то, что когда-то она обменяла свою красоту на любовь стареющего мужчины? «Ты используешь людей». Продалась за ощущение безопасности и новенькую машину, отказалась от своей любви ради того, чтобы увидеть любовь в его глазах. Может, она и вправду Мэгги. Дебра опять заплакала.
Она ехала следом за машиной мужа, завороженно глядя на красные стоп-сигналы. На Денни-стрит было совсем пусто. Дебра терпеть не могла его тарантас. Такие огромные развалюхи только старики водят. Он мог позволить себе любую машину из салона, а выбрал эту. На следующем перекрестке, когда он встал на светофоре, Дебра притормозила рядом и опустила стекло. Алвис перегнулся через пассажирское сиденье и открыл окно.
– Купил бы ты новую машину, а? – сказала Дебра. – «Корвет», например?
– Не могу. У меня ребенок.
– Можно подумать, дети не любят «корветы».
– Обожают. – Он театрально помахал рукой позади своего кресла. – Там второго ряда нет.
– А ты его на крыше вози.
– Мы что, всех пятерых детей на крышу посадим?
– А у нас будет пятеро детей?
– Я разве забыл тебе сказать?
Она рассмеялась, и ей вдруг захотелось перед ним извиниться. Или просто сказать ему, в тысячный раз, быть может, даже не ему, а себе, что она его любит.
Алвис сунул в рот сигарету и склонился над прикуривателем. Желтый огонек осветил его лицо.
– И хватит цепляться к моей машинке.
Загорелся желтый свет, Алвис подмигнул жене и выжал газ и тормоз одновременно. Мотор взревел, из-под шин повалил дым. В ту секунду, когда зажегся зеленый, Бендер отпустил тормоз и машина прыгнула вперед. Потом в памяти Дебры звук всегда опережал картинку: слева на дорогу вылетает черный грузовик с потушенными фарами. Такой же пьяный водитель решил, что проскочит на желтый. Он врезается в машину Алвиса, сминает ее и тащит через весь перекресток. Долгий, бесконечно долгий скрежет металла. Дебра кричит на той же ноте и продолжает кричать уже после того, как искореженные, слившиеся в одно автомобили замирают на углу.
17. Битва за Порто-Верньону
Апрель 1962
Порто-Верньона, Италия
Паскаль смотрел вслед Бёртону и Дину. По причалу, выкрикивая проклятия, неслась тетя Валерия. Паскалю было нехорошо. Жизнь его раскололась, как упавшее зеркальце, и непонятно, за какой осколок хвататься. Отец с матерью умерли. Амедия с сыном остались во Флоренции. Тетя Валерия совсем сбрендила. Раньше это зеркальце, в котором он видел только свое отражение, закрывало от него реальный мир.
Паскаль догнал тетку уже в воде. Валерия рыдала и ругалась, на посеревших губах выступила пена. Лодка быстро пятилась от причала. Паскаль обнял Валерию за костлявые плечи:
– Tia, не надо, успокойся. Оставь их. Все будет хорошо.
Майкл Дин смотрел на них с кормы, Бёртон в прострации сидел на носу, задумчиво растирая ладонями горлышко бутылки. Жены рыбаков молча наблюдали за этой сценой с берега. Знали ли они, что натворила тетя? Валерия, всхлипывая, прижалась к груди Паскаля. Лодка развернулась, гордо задрала нос и умчалась прочь из бухты, с ревом подпрыгивая на волнах.
Вернувшись в гостиницу, Паскаль уложил тетю отдохнуть.
– Я поступила ужасно, – сказала она.
– Нет, – ответил Паскаль. На тете теперь был смертный грех, но юноша знал, что сказала бы сестре Антония. – Ты помогла ей. Ты сделала доброе дело.
Валерия заглянула ему в глаза и кивнула. Паскаль попытался ощутить присутствие матери, но отель казался пустым. Она покинула его. Юноша вышел на крыльцо. Алвис Бендер сидел за чугунным столиком, пил вино и смотрел на море.
– Как тетя?
– Получше, – ответил Паскаль.
В голове крутились слова Дина. «Все непросто». Паскаль представил, как Ди Морей идет по дороге из Портовенере. Тропинка в горах спускается прямо к станции. Если Ди поднимет голову, то увидит тот самый обрыв, на котором они недавно сидели.
– Алвис, я пойду пройдусь.
Американец кивнул и налил себе еще вина. Паскаль вышел на улицу и захлопнул дверь. Беттина, жена старого Люго, смотрела ему вслед. Юноша не стал с ней заговаривать. Он начал взбираться по ослиной тропе. Из-под ног осыпались мелкие камушки. Позади осталась трепыхающаяся на ветру веревка, ограждавшая его теннисный корт. Идиотская затея.
Паскаль прошел через оливковые и апельсиновые рощи, вскарабкался на уступ, добрался до перевала. Наконец впереди показался бункер, похожий на пустую упаковку из-под таблеток. Паскаль сразу понял, что был прав. Она здесь. Камни и ветки были раздвинуты, открывая спуск в укрепление. Паскаль точно помнил, что аккуратно прикрыл вход, когда уходил отсюда с Ди.
Ветер сердито ударил юношу в спину. Паскаль осторожно переступил с расколовшегося камня на крышу бункера и начал спускаться.
Солнца было побольше, чем в тот день, когда они пришли сюда вместе. Уже перевалило за полдень, и в бункере стало гораздо светлее. И все же Паскаль постоял несколько секунд, привыкая к полумраку. Потом он увидел ее. Она сидела в дальнем углу, прислонившись к стене, свернувшись клубочком под большой кофтой. Ди казалась такой хрупкой на фоне бетонной стены и совсем не походила на то эфирное сияющее создание, которое совсем недавно он увидел в первый раз.
– Как вы узнали, что я здесь? – спросила она.
– Я не узнал. Надеялся, – ответил Паскаль.
Он сел рядом с ней, прямо напротив рисунков. Ди положила голову ему на плечо. Паскаль обнял девушку и крепко прижал к себе. Ее щека оказалась у него на груди. В прошлый раз, утром, солнечный свет падал только на пол. А теперь послеполуденные лучи вскарабкались на стену и осветили все портреты. Три ярких прямоугольника, а в них пять лиц.
– Я собиралась спуститься к гостинце, правда! – сказала она. – Я просто ждала, когда солнце доберется до картин.
– Красиво, – ответил Паскаль.
– Сначала мне показалось, что это ужасно грустно – ведь никто никогда их не увидит. А потом я подумала, если взять эту стену и поместить ее в какую-нибудь галерею, то будет просто пять старых, выцветших портретов. И тогда я поняла: они прекрасны, потому что их место здесь.
– Да, – сказал Паскаль. – Я так думаю.
Они долго смотрели, как пятна света медленно ползут вверх по стене. У Паскаля закрывались глаза. Наверное, это не очень романтично – вот так вот взять и уснуть рядом с красивой женщиной.
Солнце добралось до нарисованной девушки, и она вдруг как будто чуть-чуть повернула голову, разглядывая светловолосую американку и молодого итальянца. Паскаль и раньше замечал, что на свету портреты оживают.
– Вы правда думаете, что он ее встретил? – прошептала Ди. – Художник?
Сколько раз Паскаль задавался этим вопросом! Вернулся ли тот парень в Германию, к своей девушке? Рыбаки рассказывали, что немецких солдат бросили здесь. Их почти всех захватили в плен или убили американцы. Узнала ли немецкая девушка о том, что влюбленный в нее художник дважды написал ее портрет на залитой солнцем бетонной стене бункера?
– Да, – ответил Паскаль. – Я думаю.
– И они поженились?
– Да. – Паскаль вдруг представил себе все до конца.
– А дети у них были?
– Ragazzino, мальчик, – сказал Паскаль и сам себе удивился. В груди заболело, как болит иногда живот, если объесться за ужином. Слишком много всего навалилось.
– Вы мне сказали однажды, что на коленях приползли бы за мной из Рима. – Ди сжала его руку. – Мне никто никогда такого не говорил.
– Да, – ответил Паскаль. «Все непросто».
Ди снова положила голову ему на плечо. Свет забирался выше и выше, рисунки уже скрылись в полутьме. Галерея закрывалась до утра.
– Нет, ну правда, он к ней вернулся? – Ди заглянула ему в глаза.
– Да! – хрипло сказал Паскаль.
– Вы не просто так это говорите, чтобы меня утешить?
Ему казалось, что у него сейчас лопнет что-то в груди, лопнет и раскроется. Английских слов, чтобы выразить все, о чем он думал, не хватало. Он не мог ей сказать, что чем дольше ты живешь, тем больше страданий и сожалений выпадает на твою долю. И жизнь твоя постепенно превращается в автокатастрофу. Всего этого выразить он не мог и потому просто сказал:
– Да.
Они вернулись в деревню уже под вечер, и Паскаль представил Ди Бендеру. Алвис читал на крыльце гостиницы. При виде девушки он вскочил, книга упала на стул. Они неловко пожали друг другу руку. Обычно трещавший без умолку Бендер притих. Может, оттого, что Ди была так красива, а может, просто от усталости: столько всего произошло за один день.
– Очень приятно с вами познакомиться, – сказала Ди. – Вы не обидитесь, если я вас оставлю? Мне нужно поспать. Я сегодня долго гуляла по горам и ужасно устала.
– Ну конечно! – ответил Бендер и только тут догадался стащить с головы шляпу.
Ди вдруг вспомнила, почему его имя кажется ей знакомым. Она обернулась на пороге:
– Боже мой, мистер Бендер! Так вы и есть тот писатель?
Бендер смущенно уставился в пол. Писатель, надо же.
– Ну что вы! Я не настоящий писатель.
– Еще какой настоящий! Мне ваша книга очень понравилась.
– Благодарю вас. – Паскаль в жизни не видел, чтобы американский верзила так краснел. – Я ее еще не окончил. Не все сказал.
– Разумеется.
Бендер глянул на Паскаля, потом снова на красивую актрису и рассмеялся.
– Хотя, если честно, это максимум, на который я оказался способен. Дальше дело совсем не идет.
Она мягко улыбнулась:
– А может, роман уже закончен? Может, это и есть вся история? Если так, мне она очень нравится.
Ди снова извинилась и ушла в гостиницу, а Паскаль с Бендером остались таращиться на закрытую дверь.
– Бог ты мой! Это девушка Бёртона? Я ее совсем другой представлял.
– Да, – ответил Паскаль.
Валерия снова возилась на маленькой кухне. Паскаль стоял рядом с ней и ждал, пока она закончит варить суп. Потом он отнес тарелку в комнату Ди, но девушка уже уснула. Он наклонился проверить, дышит ли она. Поставил тарелку на столик и спустился в тратторию. Бендер ел суп и смотрел в окно.
– Что стало с деревней, Паскаль! Вас затопила цивилизация.
Отвечать уже не было сил, юноша молча прошел мимо Бендера и остановился на крыльце. Впереди плескалось зеленое море. На берегу болтали и сворачивали сети рыбаки. Они курили, смеялись, мыли снасти и лодки.
Паскаль тоже закурил. Рыбаки по одному поднимались по лестнице с оставшимся после продажи уловом, махали рукой, кивали. Томассо-Хрыч протянул ему веревку с анчоусами, сказал, что специально не все продал в ресторане, оставил немного для Валерии. «Как думаешь, она не откажется?» – спросил он юношу. «Нет, не откажется», – ответил Паскаль, и Томассо скрылся на кухне. Через несколько минут он вышел, уже без рыбы.
Бендер был прав. Кто-то открыл кран, и весь мир хлынул в их деревушку. Паскаль и сам хотел ее встряхнуть, разбудить, а теперь…
Потому он и не удивился, когда через несколько минут услышал рев мотора очередного судна. Гвальфредо. Оренцио с ним не было, Гвальфредо сам стоял за штурвалом, рядом пристроился Пелле.
Паскаль чуть губу не прокусил. Вот только этого унижения ему сейчас и не хватало. От горя и растерянности он вдруг вообразил Гвальфредо воплощением всех своих бед. Паскаль вернулся в гостиницу и взял с вешалки старую мамину трость. Алвис поднял голову:
– Что случилось?
Паскаль не ответил. Он молча вышел на крыльцо и спустился по ступеням навстречу Гвальфредо и Пелле. Те как раз сходили на пристань. Из-под ног решительно шагавшего Паскаля летели камни. В сиреневом небе проносились облака, последние лучи солнца грели песок, волны с шумом бились о скалы.
Гвальфредо шагнул навстречу юноше и улыбнулся:
– Американка прожила у тебя три дня, Паскаль, а должна была поселиться в моей гостинице. За тобой должок.
Солнце светило Паскалю в глаза, и лиц мужчин на пирсе он не различал, только силуэты. Юноша молча шел вперед, вновь и вновь вспоминая Валерию, отравившую его мать, Майкла Дина и Ричарда Бёртона, Амедию и своего сына, неудавшийся теннисный корт, вспоминал, что недостоин называться мужчиной, вспоминал свое унижение перед Гвальфредо.
– А еще англичашка свой счет за выпивку не оплатил. С тебя и за это тоже причитается.
– Нет, – просто ответил Паскаль.
– Нет?! – переспросил Гвальфредо.
Юноша услышал, как Алвис выходит на крыльцо.
– Паскаль, тебе помочь?
Гвальфредо поднял голову:
– У тебя еще один американец поселился? Ты что это, Турси, совсем страх потерял? Придется удвоить налог.
Паскаль встретился с ними на краю площади, там, где пляжная грязь перемешивалась с булыжниками мостовой. Гвальфредо открыл было рот, но тут Паскаль изо всех сил ударил Пелле тростью по бычьей шее. Раздался хруст. Здоровяк явно не ожидал нападения, ведь в прошлый раз Паскаль отчаянно трусил. Пелле свалился на бок как подкошенный. Паскаль снова поднял трость, но оказалось, что она сломалась о шею громилы. Паскаль отбросил бесполезный обломок и ринулся на Гвальфредо с кулаками.
Гвальфредо драться умел. Он поднырнул под руку Паскаля и два раза сильно ударил его по скуле и по уху. Скулу сразу обожгло огнем, в ухе зазвенело. Паскаль не устоял на ногах и упал прямо на Пелле. Юноша понял, что на одном адреналине драку не выиграть. Он постарался подобраться к Гвальфредо поближе: бил его кулаками, локтями, ногами, лупил по голове, в грудь, всюду, куда мог дотянуться.
Затем он почувствовал, как Пелле оттаскивает его за волосы, и внезапно понял, что, возможно, из этой драки ему победителем не выйти. От этой мысли адреналин мгновенно улетучился, Паскаль обмяк и всхлипнул, как уставший плакать ребенок. Кулак Пелле тараном врезался ему под ребра. Громила поднял юношу и с силой бросил на землю. В легких у Паскаля не осталось ни молекулы кислорода.
Он лежал и ждал, когда Пелле переедет его, как паровой каток, и царапал землю ногтями, не понимая, почему не чувствует запаха моря. Запаха не будет, пока не будет воздуха в легких, дошло наконец до него. Пелле двинулся к нему, и тут солнце заслонила тень. Алвис Бендер прыгнул с каменной стены прямо на спину громилы. Пелле стал похож на студента с гитарой. Он на секунду растерянно замер, а потом сбросил с себя американца, как мокрую тряпку. Бендер покатился по камням.
Паскаль попытался встать, но воздуха по-прежнему не хватало. Сейчас Пелле его опять ударит. Но тут прямо перед носом Паскаля что-то хлюпнуло, что-то где-то загремело, и нога гиганта взорвалась фейерверком красных брызг. Пелле согнулся и закричал.
Паскаль оглянулся, со свистом втягивая воздух. Старый Люго, все еще в рыбацкой одежде, на ходу перезаряжал карабин. С грязного дула свисал зеленый росток, наверное, Люго только что выдернул свое оружие из грядки. Он прицелился в Гвальфредо.
– Я бы тебя без стручка оставил, но глаза у меня уже не те, – сказал Люго. – Зато в такое пузо только слепой не попадет.
– Гвальфредо, старик прострелил мне ногу, – очень спокойно сказал Пелле.
Еще минуту все кашляли, стонали и топтались на месте, а Паскаль смог наконец вдохнуть. Выстрел быстро привел их в чувство. Как дети обычно начинают убирать разбросанные игрушки после окрика взрослого, так и мужчины успокаиваются, если один держит другого под прицелом. Бендер сел. Под глазом у него набухала огромная дуля. У Паскаля звенело в ухе. Гвальфредо потирал ушибленную голову. Хуже всех пришлось Пелле.
– Вообще-то я тебе под ноги стрелял, хотел остановить, – сердито сказал ему Люго.
– Вам было трудно целиться, – ответил гигант вежливо, даже, пожалуй, с восхищением.
Солнце скрылось за горизонтом. К причалу спустилась Валерия с лампой, сказала, что американку выстрел не разбудил, видать, девочка очень устала. Люго так и остался стоять, опустив на землю карабин. Валерия промыла и туго перевязала рану разорванной наволочкой и леской. Гигант жмурился и скулил.
Бендера эта рана почему-то очень заинтересовала. Он принялся донимать Пелле вопросами. Больно? А идти получится? А страшно было?
– Я много ран на войне перевидала, – сказала Валерия со странной нежностью к громиле, который приехал, чтобы избить ее племянника. – Пуля прошла навылет. – Валерия вытерла пот с огромной башки Пелле. – Ничего, заживет.
– Спасибо, – ответил ей громила.
Паскаль пошел проведать актрису. Она действительно спокойно спала, ни крики, ни даже выстрел, положивший конец драке, ее не разбудили.
Юноша вернулся на площадь. Гвальфредо стоял прислонившись спиной к стене.
– Напрасно вы это, ребята, – негромко сказал он, не сводя глаз с карабина Люго. – Ты ведь и сам все понимаешь, правда? Ох, напрасно! Мы еще вернемся.
Паскаль не ответил.
– Мои люди – это тебе не рыбаки с пукалками.
Паскаль спокойно посмотрел Гвальфредо в глаза, тот не выдержал и отвернулся. Через несколько минут оба бандита шли обратно к моторке. Пелле сильно хромал. Люго провожал их, словно старых приятелей. На причале рыбак остановился, сказал что-то Гвальфредо, показал ему на деревню, потряс карабином и вернулся на площадь к Паскалю и Бендеру. Друзья сели прямо на брусчатку, им надо было отдышаться после драки. Взревел мотор, и лодка исчезла в темноте.
В гостинице Паскаль налил старику вина. Люго, в славное военное прошлое которого раньше никто не верил, выпил залпом и посмотрел на бывшего солдата Бендера, чей вклад в победу оказался весьма скромным.
– Redentore, – презрительно фыркнул старик. Спаситель.
Бендер только кивнул.
Паскалю прежде никогда не приходило в голову, что судьбу сразу нескольких поколений определила война. В том числе и судьбу его отца. И все же те, кто прошел через нее, никогда о ней не говорили. Паскалю война казалась чем-то огромным и значимым, а Бендер рассказывал о ней так, будто у каждого она была своя. У миллиона разных людей – миллион отдельных, персональных войн.
– Что ты сказал Гвальфредо? – спросил Паскаль у Люго.
Рыбак оглянулся на берег.
– Сказал, что знаю его гнусную репутацию, но если он заявится сюда еще раз, я прострелю ему обе ноги, а потом, пока он будет корчиться на земле, суну дуло в его жирную жопу и спущу курок. И в последнюю секунду он почувствует, как говно вылетает у него из башки.
Паскаль с Бендером не нашлись что ответить. Люго поставил стакан на стол и пошел обратно к жене. Она осторожно приняла у него из рук карабин и скрылась в доме.
18. Фронтмен
Наши дни
Сэндпойнт, штат Айдахо
В 11.14 утра вся безумная компашка во главе с Дином отбывает из аэропорта Лос-Анджелеса в Сиэтл, заняв целый ряд в салоне первого класса. Дин смотрит в окно и прокручивает в воображении предстоящую встречу с Ди Морей. (Актриса выглядит точно так же, как пятьдесят лет назад, ну и он, естественно, тоже не постарел.) Вот они встречаются, и она тут же его прощает («Дорогой мой, да ведь эта история – прошлогодний снег»). Клэр время от времени отрывается от забракованной главы Диновых мемуаров и потрясенно вздыхает (не может быть!.. сын Ричарда Бёртона?). Первый ее порыв – немедленно уволиться. Но постепенно отвращение перерастает в сочувствие, потом в любопытство, страницы мелькают все быстрее. До бедного Шейна («Может, стоит предложить “Доннер!” другим студиям?»), бросающего на нее призывные взгляды с другой стороны прохода, девушке нет совершенно никакого дела. Клэр явно взволнована чтением, щеки ее пылают. Шейн думает, что ей дали другой сценарий, расстраивается и тут же отказывается от мысли поторговаться как следует. Он поворачивается к Паскалю Турси:
– E sposato (Вы женаты)?
– Si, та mia moglie è morta (Да, но моя жена умерла).
– Ah. Mi dispiace. Prole? (Мои соболезнования. А дети?)
– Si, tre figli è sei nipoti (Да, трое детей, шестеро внуков).
Паскаль рассказывает о своей семье, и ему становится стыдно за то, что он, пожилой солидный человек, как мальчишка скачет по всему миру за женщиной, с которой провел всего три дня. Какая глупость!
Однако в основе всех великих начинаний лежало такое же мальчишество. Кто-то искал Эльдорадо, кто-то – фонтан вечной молодости, кто-то – жизнь в космосе. Но тогда мы заранее знаем, что найдем. Гораздо интереснее пускаться в погоню за чем-то невиданным, неизвестным. И пускай современные технологии превратили путешествие в две поездки на машине и один авиаперелет (четыре штата, полторы тысячи километров за несколько часов), но ведь путешествие – это не просто время и расстояние. Путешествие – это надежда. Надежда на счастливый случай, на великое открытие. Отправиться в Азию и внезапно открыть Америку. Надежда всех Страшил и Железных Дровосеков: обнаружить, что у них с самого начала было то, за чем они пустились в путь.
В Сиэтле, их Изумрудном городе, экспедиция делает пересадку, и Шейн печально замечает, что вот они пролетели это расстояние за пару часов, а Вильям Эдди добирался бы сюда несколько месяцев.
– И мы даже никого не съели по дороге, – говорит Майкл и вдруг добавляет мрачно: – Пока что.
Они снова садятся в самолет, на этот раз совсем маленький, битком набитый первокурсниками (каникулы только что закончились) и менеджерами. На этот раз, слава тебе господи, лететь совсем недалеко. Десять минут на взлет, десять минут на набор высоты, десять минут, чтобы перевалить через горы, похожие на буханку черного хлеба, десять минут над пустыней, десять минут над зелеными полями, а потом облака расступаются и впереди появляется кругляшок небольшого города в окружении сосновых лесов. Пилот сонно поздравляет пассажиров с прибытием в Спокейн, штат Вашингтон, хотя до земли еще не меньше километра. Температура на аэродроме – десять градусов.
Самолет садится, Клэр включает мобильник и обнаруживает восемь пропущенных вызовов, шесть из них от Дэрила. И эсэмэски. Последний раз они говорили тридцать шесть часов назад, и Дэрил начинает что-то подозревать. Чего-то ему в доме не хватает. Первое сообщение: «С ума сошла?» Второе: «Это из-за стриптиза?» Остальные Клэр удаляет, не читая.
Они проходят через аэропорт, похожий на чистенькую автобусную станцию. Мимо ярких рекламных щитов индейских казино, мимо фотографий старинных домов и лесных ручьев, мимо знака, почему-то приветствующего их на «Среднем Северо-Западе». На странную четверку все оглядываются: очень уж они разные. Паскаль в черном пальто, фетровой шляпе, с тростью. Кажется, он сбежал из черно-белого фильма. Майкл Дин – явный плод биологических экспериментов: шаркающий дедушка с лицом младенца. Шейн переживает, что плохо разыграл свои карты, приглаживает взъерошенные волосы и бормочет себе под нос: «У меня и другие идеи есть». Одна лишь Клэр легко перенесла полет. Глядя на нее, Шейн сразу вспоминает историю об Эдди: именно женщинам удалось перевалить через горы и выжить.
Небо над аэропортом выцветшее, почти белое, дует холодный ветер. Города, который они только что пролетали, не видно. Парковку со всех сторон окружают одни только сосны да базальтовые глыбы.
Их поджидает частный детектив, худой лысый мужчина лет пятидесяти в теплом черном пальто поверх костюма. Он стоит, прислонившись к старому минивэну, и держит в руках многообещающую табличку «Майкл Данн».
Они подходят поближе.
– Вы ждете Майкла Дина? – спрашивает Клэр.
– Это насчет старой актрисы, да? – отвечает он.
На лицо Дина детектив почти не смотрит, как будто его предупредили, чтобы не пялился. Он представляется: его зовут Алан, был полицейским, а потом вышел на пенсию и открыл свое дело. Алан приглашает их в машину, загружает в багажник сумки. Клэр садится сзади, с двух сторон ее стискивают Паскаль и Майкл. Шейн прыгает на переднее сиденье.
Алан протягивает им папку:
– Мне сказали, у вас горит. Удивительно, что за сутки столько всего удалось накопать. Прямо самому приятно. Вы не думайте, я сам себя зря не похвалю.
Клэр забирает папку, пролистывает копию свидетельства о рождении, объявление в газете города Клей-Элам, штат Вашингтон: у Морганов снова родилась дочь.
– Вы говорили, в шестьдесят втором ей было около двадцати, – обращается к Дину детектив. – На самом деле она родилась в конце тридцать девятого. Ничего удивительного. Есть две категории людей, которые всегда скрывают свой возраст, это актрисы и латиноамериканские бейсболисты.
Клэр листает страницы. Майкл заглядывает ей через правое плечо, Паскаль – через левое. Фотография школьного выпуска в Клей-Эламе, пятьдесят шестой год. Потрясающей красоты блондинка с резковатыми, камеры такие обожают, чертами лица очень выделяется на общем фоне. И ниже два десятка групповых снимков поменьше: очки в черных оправах, набриолиненные волосы, масляные глазки, оттопыренные уши, прыщавые лбы и девчачьи «вавилоны». Даже на черно-белой фотографии Дебра Морган сразу бросается в глаза, слишком уж у нее серьезный взгляд для такой школы и такого городка. Подпись под снимками: «Дебра (Ди) Морган. Чирлидер – 3 года. Королева красоты на ярмарке Киттитас. Музыкальный театр – 3 года. Дважды получала приз “Лучшая актриса года”». Каждому студенту полагалось выбрать себе любимую цитату. У всех цитаты из Линкольна, Уитмана, Найнтингейла, Библии. Цитата Дебры Морган из Эмиля Золя: «Я художник… я живу во весь голос».
– Она в Сэндпойнте сейчас обосновалась, – говорит детектив. – Отсюда часа полтора езды. Руководит местным театром. Сегодня вечером как раз будет спектакль. Я вам купил четыре билета и еще гостинцу забронировал. А завтра вечером отвезу вас обратно в аэропорт.
Минивэн выезжает на шоссе и начинает спуск к городу. В даунтауне Спокейна дома низкие, в три-четыре этажа. Никаких тебе небоскребов. Коричневый кирпич, цемент, стекло. Повсюду рекламные плакаты. Парковки все наземные, нехватки места не наблюдается. Автострада разрезает город пополам.
По дороге они читают страницу за страницей. В основном это перечень ролей и спектаклей. «Сон в летнюю ночь», постановка студенческого театра в Сиэтле, 1959, Энн Ди Морган в роли Елены. На каждой фотографии виден удивительный контраст между замороженными актерами пятидесятых и живым, очень современным лицом Ди.
– Она красавица! – говорит Клэр.
– Да, – отвечает Майкл.
– Si, – повторяет Паскаль.
Газетные вырезки из Сиэтла. В шестидесятом и шестьдесят первом годах все хвалят Дебру Морган. Детектив специально обвел маркером слова «новое имя» и «без сомнения талантливая актриса Ди Морган». Дальше ксерокс статьи шестьдесят седьмого года об автокатастрофе и некролог Алвиса Джеймса Бендера.
Клэр пытается понять, кем этот Бендер приходится Ди, но Паскаль вдруг выхватывает у нее некролог, протягивает Шейну и резко спрашивает:
– Вот это – что здесь?
Шейн читает вслух. Ветеран Второй мировой… владелец автосалона… переехал в Сиэтл в шестьдесят третьем, за четыре года до смерти. У Бендера остались родители в Мэдисоне, штат Висконсин, брат, сестра, несколько племянников и племянниц, жена, Дебра Бендер, и маленький сын.
– Они поженились, – говорит Паскалю Шейн. – Sposato. Это муж Ди Морей. Il marito. Il morto, l'incidente machine.
Паскаль белеет.
– Quando?
– Diciannove sessantasette.
– Questo è tutto falle, – бормочет Паскаль. Мир сошел с ума.
Он откидывается на спинку сиденья и замолкает. К папке Паскаль больше не проявляет никакого интереса, просто смотрит в окно на площадь перед торговым центром. Вот так же и в самолете он отрешенно глядел на облака.
– Он что же, думал, она никогда не выйдет замуж? Пятьдесят лет… По-моему, это нечестно, – говорит Клэр.
Паскаль молчит.
– А можно еще сделать программу, на которой встречаются те, у кого в школе был роман, – предлагает Шейн. Дин не обращает на парня никакого внимания.
На следующей странице – диплом об окончании Сиэтлского университета, семидесятый год. Специальность: педагогика, итальянский.
Потом доверенности на имя Дебры Морган от родителей, отчеты из налоговой, справка о продаже дома в восемьдесят седьмом. Еще один альбом выпускников, поновее, за семьдесят шестой год, под фотографией подпись: «Мисс Дебра Морган, преподаватель актерского мастерства и итальянского». Она хорошеет с каждым годом, черты лица становятся резче, отчетливей. А может, это только так кажется, ведь рядом с ней стоят другие учителя с мертвыми рыбьими глазами, мужчины в плохо подогнанных костюмах, толстые тетки в огромных «кошачьих» очках. Вот фотография школьной труппы: Ди в окружении веселых длинноволосых балбесов – садовая роза посреди заросшей сорняком клумбы. Заметка из газеты «Вестник Сэндпойнта» за девяносто девятый год: «Мисс Дебра Морган, заслуженный учитель актерского мастерства и директор драматического театра Сиэтла, назначена на должность художественного руководителя драматического театра Айдахо. Мисс Морган намерена сохранить весь репертуар музыкальных комедий, однако собирается также представить публике и более серьезные пьесы».
Последние листы в папке посвящены Паскалю «Пату» Бендеру. Часть – это протоколы его задержаний за всевозможные правонарушения (в основном вождение в нетрезвом виде и хранение наркотических веществ). Остальное – статьи о группах, в которых он играл. Клэр насчитала этих групп как минимум пять, у самой известной из них, «Молчунов», был даже договор со студией и три альбома в анамнезе. По большей части статейки из мелких газет и журналов. Объявления о концертах или их отмене, о пресс-конференции с фуршетом по случаю выпуска нового диска, рецензии. Но есть и солидные издания. «Спин» ставит альбому «Манна» две звезды и сопровождает их следующей аннотацией: «Пат Бендер прекрасно владеет залом, и в студии это трио из Сиэтла тоже звучит достойно. Но часто кажется, будто фронтмен просто отбывает повинность, словно он явился в студию звукозаписи пьяным или, что еще хуже для музыкантов этого поколения, наоборот, трезвым». Дальше идут заметки уже за 2007 и 2008 годы, когда Пат давал сольные концерты, и короткая рецензия из «Шотландца», резко критикующая какое-то шоу под странным названием «Да, я такой!».
И все. Они обмениваются листочками, читают, машина въезжает в большой город. За окнами тянутся новостройки, стиснутые базальтовыми скалами. Ну надо же, оказывается, целую жизнь можно вот так уместить на нескольких страницах. Детектив отстукивает ритм какой-то только ему одному слышной песни.
– Почти приехали, скоро будет граница с Айдахо, – говорит он.
Экспедиция Дина подходит к концу. Четверо совершенно разных людей, которых судьба свела вопреки логике и здравому смыслу, едут в Сэндпойнт, объединенные одной целью. Каждого подтолкнули к этому путешествию годы жизни, потраченные впустую. Сто километров в час, пятьдесят лет за один день. Всем кажется, что они мчатся на невозможно высокой скорости. Две минуты, целых четыре километра они молча смотрят каждый в свое окно, пока Шейн Вилер не говорит:
– А может, лучше снять передачу про девушек, страдающих от анорексии?
Майкл Дин наклоняется вперед:
– Скажите, водитель, вы что-нибудь знаете о спектакле, на который у нас билеты?
ФРОНТМЕН
Часть четвертая цикла «Сиэтл»
Автор: Лидия Паркер
Действующие лица
Пат, стареющий музыкант, 43 года
Лидия, драматург, подружка Пата, чуть больше тридцати
Марла, молоденькая официантка, 22 года
Лайл, отчим Лидии
Джо, английский клубный менеджер
Уми, девушка-англичанка
Бизнесмен из Лондона, просто прохожий
Исполнители
Пат – Пат Бендер
Лидия – Брин Пейс
Лайл – Кевин Гест
Марла/Уми – Шеннон Куртис
Джо/бизнесмен – Бенни Гиддонс
Действие происходит в Сиэтле, Лондоне и Сэндпойнте, штат Айдахо, с 2005 по 2008 год.
Действие первое
Сцена 1
Захламленная квартира. В центре комнаты кровать, и на ней две фигуры. Лиц в полутьме не видно.
МАРЛА. Уф!
ПАТ. Было здорово! Спасибо!
МАРЛА. Всегда пожалуйста.
ПАТ. Слушай, ты не обижайся только, но нам надо одеваться и валить.
МАРЛА. И что… это все?
ПАТ. В смысле?
МАРЛА. Ну… Просто…
ПАТ (смеется). Что?
МАРЛА. Да нет, ничего.
ПАТ. Да ладно тебе. Давай, колись.
МАРЛА. Ну, просто все девчонки в баре говорили, что с тобой классно. Я подумала, может, со мной что-то не так? Раз я ни разу не дала самому Пату Бендеру. А сегодня ты пришел один, и я решила, вот он, мой шанс. В общем, я как-то… совсем другого ждала.
ПАТ. Какого другого?
МАРЛА. Не знаю.
ПАТ. Вообще-то, сценарий у меня всегда примерно одинаковый.
МАРЛА. Да нет, просто девчонки трындели, будто ты трахаешь все, что движется, и что ты, типа, мастер. Ну я и купилась. Думала, ты умеешь… разное.
ПАТ. Что именно?
МАРЛА. Ну, там, техниками всякими владеешь, короче.
ПАТ. Какими техниками? Типа левитации? Или гипноза?
МАРЛА. Девчонки столько всего наболтали… я думала, будет хотя бы четыре. Или пять.
ПАТ. Чего пять?
МАРЛА (стесняясь). Ну… ты знаешь.
ПАТ. А, понял. И сколько раз ты кончила?
МАРЛА. Пока ни разу.
ПАТ. Тогда давай договоримся так: с меня еще два раза. А сейчас давай-ка одеваться, пока…
Открывается дверь, за ней видна залитая светом комната, единственное яркое пятно на сцене. Пат быстро натягивает Марле на голову одеяло.
ПАТ. Вот черт!
Входит Лидия. На ней камуфляжные штаны, белая футболка, большая «ленинская» кепка на коротко стриженных волосах.
ПАТ. Я думал, у тебя сегодня репетиция.
ЛИДИЯ. Я ушла пораньше. Пат, нам надо поговорить. (Протягивает руку к настольной лампе на тумбочке у кровати.)
ПАТ. Давай не будем свет включать?
ЛИДИЯ. Опять мигрень?
ПАТ. Ага. Жуткая.
ЛИДИЯ. Ну ладно. Я просто хотела извиниться за то, что убежала сегодня из ресторана. Ты прав. Я действительно пытаюсь тебя перевоспитывать.
ПАТ. Лидия…
ЛИДИЯ. Нет, дай мне закончить, это важно. (Подходит к окну, свет от фонаря на улице падает ей на щеку) Я так старалась тебя изменить, что перестала радоваться тому, что имею. Ты уже почти два года как завязал, а я все равно постоянно жду, когда… Хотя вроде и не из-за чего.
ПАТ. Лидия…
ЛИДИЯ (оборачиваясь). Нет, ты сначала дослушай. Я тут подумала… надо нам переехать. Бросить Сиэтл. Перебраться в Айдахо, поближе к твоей маме. Я знаю, я сама говорила, что от проблем не убежишь, но, по-моему, надо попробовать. Начать с чистого листа. Оставить тут все говно, твои группы, мою маму с отчимом и жить дальше.
ПАТ. Лидия…
ЛИДИЯ. Да знаю я, что ты хочешь сказать.
ПАТ. Это вряд ли.
ЛИДИЯ. Ты скажешь – а как же Нью-Йорк? Да, там вышла лажа. Но теперь-то мы старше. И ты тогда еще сидел на наркоте. У нас бы все равно ничего не склеилось. Помнишь, я пришла домой, а ты наши вещи в ломбард снес? Мне даже легче как-то стало. Я все ждала, когда же это кончится, – вот оно и кончилось. (Снова поворачивается к окну.) Я еще тогда сказала твоей маме, что, если б не твоя потребность непременно обдолбаться в хлам, ты бы обязательно стал звездой. Никогда не забуду, что она мне ответила. «Солнышко, но ведь это и есть его главная потребность – стать звездой».
ПАТ. Господи, Лидия…
ЛИДИЯ. Пат, мне звонила твоя мама. Не знаю, в общем, как сказать… Скажу как есть… У нее метастазы. (Подходит к кровати и садится рядом с Патом.) Операцию, кажется, делать бессмысленно. Может, она еще годы протянет, а может, месяцы, но остановить процесс они не могут. Попробуют еще химию, но облучать больше не будут. Но она вроде ничего, держится. Просила меня, чтобы я тебе все рассказала. Сама не смогла. Она боится, что ты опять сорвешься. Я ей сказала, что ты у меня молодец…
ПАТ (шепотом). Лидия, ну пожалуйста!
ЛИДИЯ. Ну так что, Пат? Давай просто бросим все и уедем? А? Пожалуйста! Нам кажется, что мы так и будем вечно ходить по кругу. Ссориться, разбегаться, мириться… А вдруг это не круг, а, Пат? Вдруг это воронка и нас засасывает все глубже и глубже? Вдруг мы оглянемся и окажется, что мы стобой даже и не пытались выкарабкаться?
Лидия тянется к нему, но вместо его руки нащупывает что-то странное. Она испуганно вскакивает и включает лампу. Яркий свет заливает кровать, становится видно, что рядом с Патом кто-то лежит. Лидия откидывает одеяло. Теперь мы видим все три лица. Марла подтягивает к груди простыню и приветственно машет рукой. Лидия спиной отступает к двери. Пат просто смотрит в стену.
ЛИДИЯ. Мамочки!
Пат медленно вылезает из кровати, тянется за одеждой и вдруг замирает. Он как будто впервые замечает свое тело. Смотрит вниз, удивленно, словно он не знал, что так постарел и потолстел. Наконец он поворачивается к Лидии, остановившейся в дверях.
Пауза.
ПАТ. Ну что, втроем, похоже, не выйдет.
Занавес
В полупустом зале кто-то судорожно вздыхает, зрители напряженно смеются – и над последней репликой, и над обнаженным Патом, чье хозяйство искусно задрапировано уголком одеяла, накинутого на спинку кровати. Клэр осознает, что почти не дышала во время первого акта.
У Клэр перед глазами все еще стоят призрачные силуэты героев. Интересное решение: зритель вынужден напряженно вглядываться в полумрак, и оттого в конце акта измученное, залитое ярким светом лицо Лидии, оплывшая фигура Пата и девушка на постели запечатлеваются на сетчатке, точно рентгеновский снимок. Снимок предательства и раскаяния.
Как-то Клэр не ожидала от провинциального театра такой сильной постановки. Ну надо же, богом забытая дыра, горнолыжный курорт на берегу огромного озера, а пьеса отличная, и актеры играют прекрасно!
Когда экспедиция добралась наконец до Сэндпойнта, времени ехать в гостиницу уже не было, и они сразу пошли на спектакль. Театр располагался в симпатичном и уютном центре города, и вертикальная вывеска «Театр Панида» Клэр тоже очень понравилась. Зал был великоват для такой камерной пьесы, но декорирован замечательно, обстановку кинотеатра двадцатых годов воспроизвели до мельчайших деталей. Задние ряды пустовали, на первых же устроились местные хипстеры (все в черном), бизнесмены со своими женами (крашеными блондинками в лыжных костюмах от «джуси кутюр») и даже представители высшего сэндпойнтского общества, почти наверняка – члены попечительского совета. Клер откинулась на жесткую спинку кресла и вытащила из кармана программку. «Фронтмен. Театральная труппа “Панида”. Прогон спектакля». «Ну поехали, – подумала Клэр, когда огни в зале погасли, – придется этот кошмар пересидеть».
И вот закончился первый акт. Ничего себе! Даже Шейн шепчет что-то восхищенное. Клэр оглядывается на Паскаля – похоже, ему тоже нравится, хотя бог его знает, с ним не угадаешь. Может, его просто потрясло, что кто-то посмел выйти на сцену голым. Майкл так ошарашен, что хватается за сердце:
– Господи Боже! Клэр, ты видела?! Нет, ты его видела?!
Да, что правда, то правда. Пат Бендер производит сильное впечатление. Очень сильное. Может, конечно, Клэр пристрастна, потому что знает, кто его отец? Нет, пожалуй, он просто здорово играет. Клэр вдруг кажется, что актера органичнее она на сцене еще не видела.
А потом свет снова гаснет.
Сюжет незатейливый. Две истории развиваются параллельно.
Пат три года борется с алкоголизмом и демонами в своей душе. Во втором действии есть вставка – музыкальный монолог о группах, в которых Пат играл, и о том, как он предал Лидию. Музыкант приезжает в Англию, поддавшись на уговоры экзальтированного юнца из Ирландии. Для Пата это последняя отчаянная попытка стать звездой. Все его надежды идут прахом: Пат предает Джо, переспав с девушкой, в которую тот безумно влюблен. Джо в отместку обчищает Пата до нитки и удирает. Пат застревает в Лондоне, без денег и крыши над головой.
Лидия в то же самое время ухаживает за выжившим из ума отчимом, с которым они прежде не ладили. Ее мать умерла. Лайл – персонаж комический. Он постоянно забывает, что овдовел, и то и дело спрашивает тридцатипятилетнюю падчерицу, почему она опять прогуляла школу. Лидия собирается отдать его в дом престарелых, но Лайл упирается, и она понимает, что не может так поступить со стариком. Сюжетная линия выстроена отлично, временные отрезки отмеряются по телефонным разговорам с Деброй, матерью Пата, живущей в Айдахо. На сцене Дебра не появляется ни разу, но незримо присутствует постоянно.
– Лайл сегодня опять кровать промочил, – говорит Лидия и выслушивает ответ Дебры, которую иногда называет Ди. – Да, Ди, я согласна, в его положении это неудивительно, вот только пострадала-то моя постель, а не его. Я повернулась, а он стоит на моей кровати, дует в нее и орет: «Где бумажные полотенца?»
В конце концов Лайл лезет в духовку и обжигается, Лидия в это время находится на работе. Ей все же приходится отдать его в дом престарелых. Она сообщает ему о своем решении, и Лайл плачет.
– Все будет хорошо, – говорит ему Лидия. – Я тебе клянусь, все будет хорошо.
– Дело не во мне, – отвечает Лайл. – Я обещал твоей маме… кто же теперь будет о тебе заботиться?
Все это время Лайл верил, что это он заботится о Лидии, а не наоборот. Она понимает, что живет лишь тогда, когда ей есть за кем ухаживать. И Лидия отправляется в Айдахо, к матери Пата. Как-то ночью Лидию будит звонок. Сцена разделена на две части: слева зрители видят Лидию, справа – Пата, он стоит в красной телефонной будке. Пат звонит матери, потому что застрял в Лондоне и ему нужна помощь. Поначалу Лидия рада услышать его голос. Но Пата, кажется, волнуют только его собственные проблемы. Ему нужны деньги. О матери он даже не спрашивает.
– Слушай, а сколько у вас времени? – вдруг вспоминает Пат.
– Три часа ночи, – тихонько отвечает Лидия.
И музыкант, как и в первой сцене, опускает голову.
– Кто там, солнышко? – Голос Дебры звучит впервые за всю пьесу.
– Давай же, Лидия, – шепчет Пат.
– Да так, никто, ошиблись номером, Ди. – Лидия глубоко вздыхает и вешает трубку.
Свет в телефонной будке гаснет.
Пат превращается в бездомного. Грязный, оборванный и пьяный вдрызг он сидит по-турецки на площади и играет на гитаре. Надеется собрать денег на билет. Мимо проходит какой-то бизнесмен. Он останавливается и предлагает дать Пату двадцать евро, если тот сыграет песню о любви. Пат берет первые аккорды песни «Лидия» и не может заставить себя сыграть ее до конца.
За окном в Айдахо идет снег, отмечая проходящие месяцы. В гостиной Дебры снова раздается звонок, теперь из дома престарелых. Лайл умер. Лидия вешает трубку и отправляется на кухню, чтобы заварить для Ди чаю. И замирает, глядя на свои руки. Кажется, что она в этой квартире, да и вообще в целом свете, совсем одна. Раздается стук. На пороге той самой двери, где когда-то, в первой сцене, стояла Лидия, переминается с ноги на ногу Пат Бендер. Лидия смотрит на свою потерянную любовь, на постаревшего Одиссея, который так долго скитался по миру в поисках пути назад, к дому. Впервые после первого акта они появляются на сцене вдвоем. Повисает еще одна пауза, длинная, на пределе возможностей зрительского восприятия. Наконец Пат судорожно вздыхает и тихонько спрашивает:
– Я опоздал?
В этой сцене он почему-то кажется еще более обнаженным, чем в начале пьесы.
Лидия качает головой. Его мать жива. На лице Пата читаются облегчение, усталость, стыд. За сценой вновь слышен голос Ди:
– Солнышко, кто там?
Лидия оглядывается, и зритель напряженно ждет ее ответа.
– Да так, никто, – хрипло отвечает Пат.
Лидия тянется к нему, и в ту секунду, когда она берет его за руку, свет гаснет. Занавес.
Клэр переводит дух, кажется, она девяносто минут и не дышала вовсе. Гремят аплодисменты. Все члены экспедиции ощущают, что конец пути близок, что их ожидает главный приз, за которым пускается в путь каждый путешественник: возможность познать самого себя.
Майкл Дин наклоняется к Клэр и снова повторяет:
– Ты видела, видела?!
Паскаль Турси держится за грудь, словно у него сердечный приступ.
– Bravo, – говорит он. – Sono troppo tardi?
Что он сказал, остается загадкой, поскольку переводчик с итальянского временно недоступен. Он качается, обхватив голову руками, и произносит:
– Твою мать! Я же всю жизнь просрал!
Вот и у Клэр такое же впечатление. Она говорила Шейну, что отношения с Дэрилом зашли в тупик, что она просто никак не может его выставить, а не то они давно бы уже разбежались. А теперь оказалось, что весь спектакль Клэр думала только о нем. А может, она такая и есть, эта любовь? Может, правило Майкла Дина глубже и умнее, чем он сам думает? Мы хотим того, чего хотим. Мы любим того, кого любим. Клэр вынимает телефон. Последнее сообщение от Дэрила: «просто скажи что жива».
«Я жива», – пишет она в ответ.
Дин кладет руку ей на плечо.
– Я хочу купить права на это все, – говорит он.
Вот интересно, сделка с Судьбой еще в силе? Получится из «Фронтмена» хороший фильм? Может, Клэр удастся остаться на этой работе?
– Вы хотите купить пьесу?
– Я хочу купить все: пьесу, песни… – Он встает и оглядывает зал. – Покупаем сразу все.
Клэр машет визиткой перед носом парня с пирсингом во все уши. Парня зовут Кит, он сотрудник театра. «Вы из Голливуда? Охренеть можно!» – говорит он и с радостью приглашает их на банкет по случаю прогона. Они находят недостроенное здание в квартале от «Паниды». Стены кое-где не оштукатурены, все трубы наружу, короче, молодежный клуб. Поднимаются по ступеням – в колледже Клэр вот точно в такие же места тусоваться ходила, только тут потолки повыше и залы попросторнее: на старом Западе дома строят с куда большим размахом, чем в Калифорнии.
Паскаль останавливается на пороге:
– Lei è qui? Она здесь?
Его переводчик отрывается от телефона:
– Может быть. С'е ип partita, per gli attari. Это банкет для актеров.
Шейн отсылает Сандре эсэмэску: «Можно тебе позвонить? Пожалуйста! Я понял, что я скотина».
Паскаль задирает голову, смотрит на здание, потом снимает шляпу и приглаживает волосы. Клэр помогает совсем выдохшемуся Майклу вскарабкаться на последние ступени. На втором этаже три квартиры и в конце коридора еще одна, там горит яркий свет. Между косяком и дверью вставлена канистра с вином, чтобы замок не защелкнулся. Квартира огромная, обставлена просто, но мило и выдержана в том же стиле, что и все здание. Глаза пару секунд привыкают к полутьме, а потом Клэр видит огромный лофт, двухэтажный, с высоченными потолками, из освещения – только свечи. Комната сама по себе – музей современного искусства (или склад барахла, кому как нравится). Тут есть и обшарпанные школьные шкафчики, и хоккейные клюшки, и типографские коробки из-под газет. На второй этаж ведет старинная, как будто повисшая в воздухе без всякой опоры, винтовая лестница. Приглядевшись, Клэр понимает, что лестница держится на трех почти невидимых в полутьме тросах.
– Мы сюда стаскиваем то, что люди в комиссионки сдают или на помойку выбрасывают, – поясняет Кит, который пришел сразу следом за ними.
Волосы на его голове торчат, точно иглы у ежа, на губе, шее, ноздрях блестят тяжелые железные сережки, Клэр на них даже смотреть больно. Ну и конечно, в ушах еще по паре огромных пиратских колец. Кит рассказывает, что он тоже в театре играет, а еще сочиняет стихи, рисует и немножко снимает видеоролики. Интересно, это все? Может, он вдобавок скульптуры из песка лепит или танцором подрабатывает?
– Ролики делаешь? – Дин заинтересованно смотрит на парня. – А камера у тебя с собой?
– А как же! Я снимаю документальный фильм о своей жизни.
Паскаль оглядывается, но среди гостей Ди не видно. Он поворачивается к Шейну, но тот расстроенно смотрит на экран телефона. «До тебя только сейчас дошло? Пошел ты в жопу!» – пишет Сандра.
Кит решает, что гости озираются по сторонам, потому что им тут нравится. Он пускается в пояснения. Дизайн придумал ветеран вьетнамской войны, об этом чуваке месяц назад даже в журнале писали.
– Идея в том, чтобы совместить старые и новые элементы, не отказываться от того, что кажется нам «прошлым веком», а позволить ему трансформироваться в нечто совершенно новое, обрести вторую молодость. Кому нужны две старые хоккейные клюшки? Но сделай из них кресло – и тогда это уже искусство.
– Здесь просто замечательно, – серьезно говорит Майкл.
Актеры пока не приходили. Человек пятнадцать уже собралось, но это все хипстеры в темных очках. Они тихонько переговариваются, иногда смеются и с любопытством разглядывают членов экспедиции. Клэр эта публика знакома. Точь-в-точь такую же, ну разве только чуть порафинированней, встретишь на любом банкете после премьеры. Народу тут поменьше, а в остальном – разницы никакой. Посреди комнаты стоит стол, сделанный из старой железной двери от грузового лифта. На столе закуски и вино. Рядом экскаваторный ковш, в нем охлаждаются на льду бутылки пива. Слава богу, хоть туалет оказался туалетом, а не, скажем, старой моторной лодкой.
Наконец начинают подтягиваться актеры и служащие театра. Весть о том, что на банкет пришел сам великий Майкл Дин, распространяется быстро, и те, кому особенно невтерпеж, уже начинают его окучивать: рассказывать, как снимались в малобюджетных фильмах вместе с Антонио Бандерасом или Джоном Траволтой. Все присутствующие – люди искусства: мастера граффити, артисты, музыканты, балеруны, писатели, скульпторы. Как им всем хватает места и заработка в Сэндпойнте – непонятно. Даже учителя и юристы в свободное от работы время играют в любительских постановках или рок-группах, а то и вовсе фигуры изо льда вырезают. Майклу публика очень нравится. Клэр с изумлением замечает, что ему и правда все тут интересно. И что у него в руках уже третий бокал с вином, хотя обычно он почти не пьет.
К Дину подходит немолодая морщинистая женщина в ярком летнем платье, явно большая любительница позагорать. Она касается лба Майкла и вскрикивает:
– Боже мой! Как мне нравится ваше лицо!
Женщина называет себя Фантомом, она скульптор, делает фигурки из мыла, а потом продает их на ярмарках и фестивалях.
– Я бы с удовольствием на них взглянул, – говорит Майкл. – Скажите, а здесь что же, все художники?
– Ужас, да? – отвечает Фантом, копаясь в безразмерной сумке. – Никакого спасу от них нет!
Майкл вертит в руках фигурку из мыла, а остальные члены экспедиции потихоньку закипают. Паскаль нервно смотрит на дверь. Расстроенный ответом бывшей жены, Шейн налегает на виски. Клэр спрашивает Кита о пьесе.
– Клевая, правда? – говорит он. – Дебра в основном детские спектакли ставит, мюзиклы, рождественские сказки – лишь бы вытащить туристов с горных трасс на пару часов. А раз в год они с Лидией забабахивают чего-нибудь посерьезнее. Ее потом попечители с говном съедают, особенно те, которые шибко верующие, но такой уговор был с самого начала. Типа, давай ты нам туристов будешь заманивать, а за это раз в год ставь что хочешь. Так что они терпят.
На банкет подтянулись уже все актеры и технический персонал, не хватает только Пата и Лидии. Клэр знакомится с Шеннон, актрисой, исполнявшей роль Марлы и Уми.
– А вы, значит, из… – Шеннон сглатывает, с трудом выговаривая священное слово, – Голливуда? – Она аж моргает от волнения. – И каково это, там работать?
Клэр выпила уже два бокала вина, к тому же устала за последние двое суток. Она не сразу соображает, что ответить. И правда, каково это? Ну мечтала-то она точно о другом. А может, это и ничего. Мы хотим того, чего хотим. Дома она совсем извелась, представляя, какие возможности упускает. А того, что у нее есть, и не замечала вовсе. Она оглядывает квартиру, островок сумасшедших художников посреди огромного горного озера. Майкл раздает визитки направо и налево, увлеченно болтая с актерами и художниками и что-то даже им обещая. Паскаль не отрывает взгляда от двери, он ждет женщину, которую не видел пятьдесят лет. В дупель пьяный Шейн закатывает рукав, показывает потрясенному Киту свою татуировку и объясняет, что она значит. Клэр вдруг понимает, что Пат Бендер, Лидия и Дебра не придут.
– Что? А, ну так все правильно, – отвечает ей Кит. – Они никогда на банкеты не ходят. Пату сюда нельзя. Ты что, столько бухла и травы кругом!
– А где их найти? – спрашивает Майкл.
– Они, скорее всего, к Ди отмокать поехали. У нее домик в горах.
Дин хватает Кита за рукав:
– Отвезешь?
– Может, до утра подождем? – Клэр пытается удержать начальника.
– Нет, – отвечает предводитель опьяненной надеждой экспедиции. Он оглядывается на Паскаля. – Пятьдесят лет прошло. Сколько можно ждать?
19. Реквием
Апрель 1962
Порто-Верньона, Италия
Паскаль проснулся затемно и посмотрел на часы. Полпятого. Слышно было, как рыбаки готовятся выйти в море, разговаривают, тащат лодки к воде. Он быстро оделся и побежал на берег. В предрассветной полумгле Томассо-Коммунист аккуратно раскладывал рыболовные снасти.
– Ты чего это? – спросил Томассо. – Рано же еще.
Паскаль попросил отвезти его в Ла-Специю после рыбалки. Сегодня ведь похороны мамы.
– Ну конечно, – ответил Томассо. – Я часа три-четыре порыбачу, а потом вернусь и отвезу тебя. Лады?
– Спасибо большое!
Томассо приподнял кепку, сел в лодку и потянул за веревку. Мотор чихнул и завелся. Паскаль постоял еще немного, глядя, как подпрыгивают на волнах старые моторки.
Потом он вернулся к себе и лег досыпать, но сон не шел. Юноша лежал и думал о Ди Морей, о том, что ее кровать находится прямо над ним. Родители иногда возили его отдыхать в Кьявари. Как-то раз он копался в песочке и вдруг увидел красивую молодую женщину, устроившуюся позагорать на полотенце. Кожа ее блестела. Паскаль глаз не мог от нее отвести. Наконец девушка собралась и ушла, на прощанье помахав ему рукой. Но юный Паскаль был так заворожен ее красотой, что даже не смог помахать в ответ. Из сумки девушки что-то выпало. Паскаль подбежал и поднял кольцо с красным камушком. Он держал его на ладошке, а девушка уходила все дальше. Паскаль оглянулся. Мама смотрела на него и ждала, как он поступит.
– Синьора! – закричал мальчик и помчался вслед за девушкой.
Она остановилась, поблагодарила его, погладила по голове и дала монетку, пятьдесят лир.
Паскаль вернулся, и мама сказала:
– Я очень надеюсь, что ты бы все равно за ней побежал, даже если бы я на тебя не смотрела.
Паскаль не понял, что она имела в виду.
– Иногда, – сказала ему мама, – то, что хочется, и то, что надо, – это не одно и то же. Чем меньше между ними расстояние, тем счастливее наша жизнь.
Паскаль не стал объяснять маме, почему замешкался. Мальчик был уверен, что, если он даст девушке кольцо, ему придется на ней жениться и уехать от родителей. Тогда этот разговор о благих намерениях вылетел из его семилетней головы почти мгновенно, а вот сейчас вдруг вспомнился. Насколько проще была бы его жизнь, если бы «хочется» и «надо» совпадали!
Солнце встало, а вместе с ним поднялся и Паскаль. Он умылся, надел жесткий старый костюм. Тетя Валерия сидела на кухне, в своем любимом кресле.
– Я не пойду на отпевание, – сказала она. – Как я в глаза священнику буду смотреть?
Паскаль ответил, что прекрасно все понимает, и вышел на крыльцо покурить. Без рыбаков деревня казалась совсем пустой, только кошки гуляли по площади. В воздухе еще висела утренняя дымка, безжизненные волны накатывали на берег.
На лестнице раздались шаги. Как долго он мечтал о постояльцах из Америки, а вот теперь в его гостинице их сразу двое. Шаги были тяжелыми, мужскими. Алвис вышел на крыльцо и закурил трубку, потянулся, наклоняя голову вправо и влево, потер синяк под глазом.
– Да, боец из меня теперь тот еще, – сказал он.
– Больно? – спросил Паскаль.
– Больше всего пострадало самолюбие. – Он выпустил облачко дыма. – Смешно, раньше я сюда приезжал, потому что здесь тихо. Думал, что спрячусь от мира и тогда смогу писать. Да, с тишиной нынче как-то не сложилось, а, Паскаль?
Паскаль посмотрел на Алвиса. Все-таки у американцев, у Ди, у Майкла, у Бендера, были удивительно открытые лица, каждая эмоция сразу заметна. По этой открытости, по упрямой вере в свои возможности Паскаль узнал бы теперь любого американца. У итальянцев – даже у совсем юных – такого выражения не было. Может, дело просто в том, что Америка младше Италии? Там у них огромные кинотеатры под открытым небом, заезжай на машине и смотри фильм. И ковбойские салуны везде. А здесь люди живут на развалинах империи, на костях, на осколках великого прошлого.
Вот и Алвис говорил, что истории похожи на народы. Италия – это героическая поэма, Англия – длинный готический роман, а вот Америка – это цветное кино. Ди как-то сказала, что много лет ждала, когда же начнется фильм. И что она чуть не проворонила начало сеанса. Жизнь-то уже идет, а она и не заметила.
Алвис поднес спичку к трубке.
– Lei è molto bella. Она красивая, – сказал он.
Алвис, конечно, имел в виду Ди, но Паскаль в тот момент думал об Амедии.
– Si, – ответил юноша. И потом по-английски: – Сегодня похороны мамы.
Эти двое так ценили друг друга, что старались обращаться к собеседнику только на родном для него языке.
– Si, Pasquale. Dispiace. Devo Andare?
– Нет, спасибо. Я ехать… один.
– С'è qualcosa che posso fare?
– Да, есть чем помочь.
Лодка Томассо уже входила в бухту. Почти пора. Паскаль повернулся к Алвису и сказал по-итальянски, чтобы тот его правильно понял:
– Если я сегодня не вернусь, обещай, что выполнишь мою просьбу.
– Ну конечно, – сказал Алвис.
– Пожалуйста, позаботься о Ди Морей. Проследи, чтобы она добралась до дома.
– А что случилось? Ты куда-то уезжаешь?
Паскаль вынул из кармана конверт, тот самый, с деньгами от Майкла Дина.
– Передай ей вот это.
– Хорошо. Куда ты едешь?
– Спасибо!
Паскаль боялся ответить на вопрос, боялся, что если произнесет все вслух, то у него не хватит сил выполнить задуманное.
Лодка Томассо уже подходила к причалу Паскаль похлопал американца по плечу, еще раз оглядел деревню и молча ушел на кухню. Валерия готовила завтрак. Никогда она раньше этого не делала, хотя Карло вечно ей твердил, что в приличной гостинице, в такой, где останавливаются англичане и американцы, завтрак подавать полагается. Валерия отвечала, что с утра едят только лентяи, сначала надо поработать, а уж потом брюхо набивать. Сегодня утром она делала французские булочки и варила кофе.
– Американская шлюха будет есть? – спросила Валерия.
Ну вот, сейчас Паскаль и узнает, чего он стоит. Юноша поднялся на третий этаж. Из-под двери пробивались солнечные лучи, значит, ставни открыты. Он вдохнул поглубже, собрался с силами и постучал.
– Войдите.
Она сидела на постели и собирала длинные волосы в хвост.
– Поверить не могу, что я столько провалялась. Я и не представляла себе, как устала, пока не проспала двенадцать часов кряду.
Она улыбнулась, и Паскаль усомнился, что сможет сократить расстояние между тем, чего хочет сердце, и тем, что нужно сделать.
– Какой вы сегодня красивый, Паскаль, – сказала Ди и посмотрела на свою одежду, ту самую, которую она надела вчера, чтобы ехать на поезде. Узкие черные брюки, блузка, шерстяной свитер. Ди засмеялась: – А мои вещи так и остались на станции.
Юноша глядел под ноги.
– Что-то случилось, Паскаль?
– Нет, – ответил он и взглянул наконец ей в глаза. Когда ее не было рядом, он точно знал, что должен сделать, а сейчас… – Вы спускаться для завтрак? Бриош и кофе?
– Ну конечно, – ответила она. – Уже иду.
Остальное он произнести не мог. Юноша повернулся к двери.
– Спасибо вам, Паскаль, – сказала Ди.
Смотреть ей в глаза было все равно что заглядывать в приоткрытую дверь. Как можно удержаться и не толкнуть эту дверь, не узнать, что там внутри?
Ди улыбнулась:
– Помните, в первый вечер мы с вами условились, что будем говорить друг другу все-все-все? И ничего не станем скрывать.
– Да, – с трудом ответил Паскаль.
Она смущенно рассмеялась.
– Знаете, просто удивительно – я сегодня утром проснулась, и оказалось, я понятия не имею, что дальше делать. Оставить ли ребенка? Продолжать ли карьеру? Ехать в Швейцарию или возвращаться домой? Вот правда, ни одной мысли в голове. Представляете, я открыла глаза и мне было хорошо. Знаете почему?
Паскаль покрепче ухватился за ручку двери и замотал головой.
– Потому что я знала, что снова вас увижу.
– Да, – сказал Паскаль. – Я тоже.
Дверь как будто немного приоткрылось, там, внутри, что-то сияло, слепило глаза, мучило. Он так хотел сказать ей больше, сказать, о чем он думал, почему так поступал, – и не мог. И дело было не в английском. Ни в одном языке мира не нашлось бы нужных слов.
– Нучтож, – сказала Ди, – я скоро спущусь. – И тихонько добавила, когда Паскаль уже шагнул за дверь: – И тогда мы с вами поговорим о том, что будет дальше. – Слова пролились, точно весенний ручеек.
Дальше. Ну да. Паскаль не помнил, как вышел из комнаты. Как-то вышел, задом, кажется. Он осторожно прикрыл за собой дверь, постоял, опираясь на стену руками и тяжело дыша. Но все же отлепился от косяка и спустился к себе. Схватил пальто, шляпу, заранее собранный чемодан. Валерия ждала его у подножия лестницы.
– Паско, – сказала она, – попроси священника помолиться за меня, ладно?
Он обещал. Потом поцеловал тетю в щеку и вышел на улицу.
Алвис Бендер по-прежнему курил на крыльце. Паскаль похлопал его по плечу и пошел к причалу. Томассо был уже там. Он выбросил в воду окурок и полез в лодку.
– Костюм тебе очень идет. Мама бы тобой гордилась.
Юноша забрался в провонявшую рыбьими потрохами моторку и сел на корме, сложив руки на коленях, как в школе. Он никак не мог заставить себя отвести взгляд от Ди. Она стояла на крыльце рядом с Алвисом и удивленно смотрела на причал, прикрывая глаза от солнца.
Паскаля снова раздирало на части, тело требовало одного, а разум другого, и в тот момент он не мог бы сказать, кто победит. Остаться в лодке? Или взбежать по ступеням и обнять эту женщину? И что она тогда сделает? Ведь между ними ничего не было, только эта полуоткрытая, манящая дверь.
И он действительно разделился на две части. Его жизнь разделилась. Одну он собирался прожить, о другой он будет мечтать и сожалеть до конца дней.
– Поехали, – хрипло сказал Паскаль Томассо. – Пожалуйста!
Рыбак дернул за шнур, но мотор не завелся.
– Паскаль! Вы куда? – крикнула Ди.
– Ну пожалуйста, – шептал Паскаль. У него дрожали колени.
Наконец мотор взревел, Томассо сел, взялся за руль и вывел лодку из бухты. Паскаль не отрываясь смотрел на крыльцо гостиницы.
Ди повернулась к Алвису. Наверное, он сказал ей, что у Паскаля умерла мать, потому что Ди закрыла рот рукой.
Юноша заставил себя отвернуться. Ему было трудно, как трудно бывает оторвать железку от магнита, но он справился. Сел лицом к морю, закрыл глаза – и снова увидел Ди, стоящую на крыльце. Он так старался не смотреть назад, что даже задрожал от напряжения. Когда деревня скрылась за скалами, Паскаль выдохнул.
– Странный ты парень, – сказал Томассо.
В Ла-Специи они попрощались, пожали друг другу руку, и Томассо уехал обратно.
Паскаль пошел на кладбище. Падре уже ждал его. Жиденькие волосы старика были расчесаны на косой пробор. Рядом стояли две женщины, помогавшие в церкви, и мальчик из хора, явный забияка и хулиган. В пустой часовне было темно и сыро, в подсвечниках горела лишь пара-тройка свечей. Казалось, отпевание не имеет к его матери никакого отношения, а потому Паскаль вздрогнул, когда разобрал слово «Антония» в латинской абракадабре. Antonia, requiem aeternum dona eis, Domine. Ну да, подумал Паскаль, конечно. Она же умерла. И вдруг его прорвало, слезы полились рекой. После отпевания Паскаль договорился, чтобы падре помолился за тетю и отслужил Trigesium на тридцатый день. Юноша снова дал священнику денег, тот поднял руку, чтобы благословить его, но Паскаль уже быстро шагал прочь.
На вокзале он выяснил насчет багажа Ди. Сил почти не осталось. Паскаль заплатил смотрителю и попросил отправить чемоданы в Порто-Верньону и нашел лодку, чтобы она на следующий день пришла за Алвисом и Ди. После чего купил билет на поезд во Флоренцию.
Паскаль устроился в вагоне и тут же уснул. Проснулся он лишь тогда, когда поезд уже подходил к вокзалу. Юноша снял комнату неподалеку от Piazza Massimo D'Azeglio, принял ванну и снова надел свой единственный костюм. На закате бесконечно длинного дня Паскаль стоял на площади у ограды и курил. Семейство Амедии прошествовало мимо него, точно выводок утят во главе с уткой и селезнем.
Амедия вынула из коляски малыша, и Паскаль снова вспомнил тот солнечный день на пляже. Вспомнил, как мама боялась, что сам, без ее присмотра, Паскаль не сможет сделать правильный выбор. Ему хотелось успокоить ее, сказать ей, что мужчина хочет от жизни многого, но если среди его желаний есть хотя бы одно, совпадающее с «надо», то лишь дурак не выберет именно его.
Паскаль подождал, пока Монтелупо не скроются в доме. Потом бросил окурок, раздавил его каблуком, перешел площадь и позвонил в звонок над черной дверью.
Ему открыл отец Амедии. Он стоял на пороге, слегка запрокинув лысеющую голову, точно разглядывал неаппетитное блюдо в кафе поверх съехавших на кончик носа очков. За его спиной Доната, сестра Амедии, охнула и закрыла рот рукой. Она повернулась и взвизгнула, глядя куда-то наверх: «Амедия!» Бруно оглянулся на дочь, потом снова сердито посмотрел на юношу. Паскаль снял шляпу.
– Да? – спросил синьор Монтелупо. – Что вам угодно?
На ступенях лестницы показалась стройная, чудесная Амедия. Она качала головой, словно надеялась отговорить его от этой затеи. Но под рукой, прижатой ко рту, Паскаль разглядел улыбку.
– Синьор, – сказал юноша, – меня зовут Паскаль Турси. Я приехал из Порто-Верньоны, чтобы просить руки вашей дочери, Амедии, – он откашлялся, – и забрать своего сына.
20. Звездный свет
Наши дни
Сэндпойнт, штат Айдахо
Дебра просыпается. Она сидит в кресле-качалке на заднем крыльце дома, с той стороны, где начинается лес. Сегодня прохладно, небо чистое и звезды светят как-то особенно ярко. Они даже не мерцают. Дебра любит смотреть на звезды. С переднего крыльца видно горное озеро, гости ахают, когда приезжают, но Дебре вечером там сидеть не нравится. На озере, лодках и в домах горят огни, а тут у нее тенистая поляна посреди леса. Вокруг только сосны и ели и еще звезды. Миллиарды километров, миллионы лет пути. До встречи с Алвисом она не часто смотрела на небо. Муж очень любил ездить за город, на водопады, и там, вдали от фонарей, наблюдать за звездами. Алвис ужасно расстраивался, что люди не могут и не хотят ощутить бесконечность Вселенной. Ему казалось, что им не хватает фантазии и умения не просто смотреть, но видеть.
На дорожке перед домом хрустит гравий. Наверное, поэтому она и проснулась – услышала, как подъезжает джип Пата. Значит, спектакль закончился. Сколько же она проспала? Чай в кружке совсем холодный. Значит, долго. Под одеялом тепло и уютно, только вот пятка вылезла наружу и замерзла. Пат специально притащил сюда два больших обогревателя, чтобы Дебра могла спать на любимом крыльце. Она побурчала для виду, все-таки электричества на эти обогреватели уходит немало, вполне можно было бы и лета подождать. Но Пат пообещал, что «до конца жизни» будет гасить свет, выходя из комнаты, если только Дебра перестанет упираться. Спать здесь, конечно, здорово. Ей очень нравится просыпаться, когда вокруг темно и холодно, а внутри кокона, который соорудил для нее Пат, тепло и уютно. Дебра выключает обогреватели, проверяет, что не промочила кошмарную клеенку, на которой ей теперь приходится спать, застегивает кофту и, слегка покачиваясь после сна, идет внутрь. Отсюда уже слышно, как опускается дверь гаража.
Дом стоит на холме, в семидесяти метрах над озером. Деньги на строительство выручили от продажи квартиры в Сиэтле. Здание узкое и высокое, Дебра спроектировала его сама. В нем четыре этажа, на каждом – по большой комнате, и внизу еще гараж на две машины. На втором этаже обитают Пат и Лидия, на третьем располагается общая гостиная-кухня-столовая. Дебра поселилась на четвертом. Здесь ее спальня, ванная с джакузи и «будуар». Когда строили дом, она как-то не предполагала, что рак вынудит ее проводить тут все время. А потом врачи сказали, что все средства исчерпаны, и Дебра решила дать болезни идти своим чередом. Она доживет здесь последние дни, все, что ей отмерено судьбой. Если бы она заранее знала, что ее ждет, она бы построила дом пошире и пониже, без лестниц.
– Мам, мы приехали!
Пат всегда орет, когда заходит, и Дебра делает вид, будто не понимает почему. Ей хочется ответить: «Ну жива я еще, жива». Но она сдерживается. Люди обращаются с умирающими как с инопланетянами. К счастью, Дебру это не очень раздражает.
Она спускается по лестнице им навстречу:
– Как прошло? Как публика?
– Народу немного было, но все хлопали. Концовка сегодня лучше получилась, – отвечает Лидия.
– Есть хотите? – спрашивает Дебра.
Пат после спектакля всегда голодный как волк, а после этого спектакля особенно. Он совсем извелся за время репетиций. Лидия написала пьесу и показала Дебре. Вещь получилась душераздирающей. Достойный финал автобиографического цикла, который Лидия начала много лет назад, когда разводились ее родители. Без пьесы о Пате он был бы неполным. Главная беда заключалась в том, что Пата мог сыграть только сам Пат. И никто больше. Дебра и Лидия очень боялись, что он опять сорвется, если переживет все заново. Но Дебра решилась и велела Лидии показать пьесу Пату. Он взял распечатку, ушел к себе, вернулся через три часа, поцеловал Лидию и сказал, что она – гений, что пьесу надо ставить обязательно и что он сам должен сыграть главную роль. Ему будет куда труднее видеть другого актера в этой роли, чем пройти через весь кошмар еще раз самому. К тому времени Пат играл в труппе уже год. Его потребности в сцене нашелся выход. Теперь он не собой упивается, как раньше, а сосредоточенно работает над ролями, и партнерам с ним легко. Актер он талантливый, ничего не скажешь.
Дебра отправляется на кухню делать омлет. Пат выскакивает из-за колонны и целует мать в щеку. Вроде взрослый давно, а ведет себя как мальчишка.
– Тед и Изола передавали тебе привет.
– Как у них дела? – Дебра выливает яйца на сковородку.
– Они теперь в консерваторы подались. Придурки.
Дебра режет сыр для омлета, и Пат таскает куски прямо из-под ножа.
– Надеюсь, ты так им и сказал. Они мне до чертиков надоели. Постоянно шлют чеки на содержание театра.
– Они сказали, что мечтают поставить «Дико современную Милли». Ну, помнишь, мюзикл такой? Тед хочет в нем играть. Говорит, там и для меня роль найдется. Прикинь? Я с Тедом на одной сцене! Лучше сразу застрелиться.
– Да уж, куда тебе рядом с таким титаном. Мастерства не хватит, – улыбается Дебра.
– Просто ты меня плохо научила. Как ты себя чувствуешь?
– Нормально.
– Ты дилаудид пила?
– Нет. – Дебра терпеть не может обезболивающие. От них в голове туман, а ей не хочется терять ни секунды оставшегося времени. – У меня ничего не болит.
Пат щупает ей лоб:
– Что-то ты какая-то горячая.
– Пат, я какая надо. Просто ты с улицы пришел.
– Ты тоже.
– В твоей духовке и поджариться недолго.
Пат тянет разделочную доску к себе:
– Давай я сам закончу. Я умею делать омлет.
– С каких это пор?
– Да ладно тебе! Ну… или Лидию заставлю. У нее эти женские штучки хорошо получаются.
Дебра делает вид, что замахивается на него ножом.
– «Из всех ударов самый злой». – Пат отскакивает.
Ну надо же, ее сын, оказывается, Шекспира читал.
Какой образованный. Приятно!
– Знаешь, я когда-то по «Юлию Цезарю» спектакль в школе ставила. – Она тут же читает свой любимый отрывок: – «Трус и до смерти часто умирает; но лишь однажды умирает храбрый».
Пат садится на кухонный столик.
– Эта реплика будет побольнее ножа.
К ним поднимается Лидия, вытирая влажные волосы полотенцем. Она тоже рассказывает Дебре про Теда и Изолу, говорит, что те справлялись о ее самочувствии.
Понятно, зачем дети это повторяют. Потому что боятся спросить сами.
Пока жива, спасибо. Дебра многое могла бы им сказать, но нельзя. Помирать, оказывается, ужасно трудное дело. Сплошные реверансы и хорошие манеры. Местная богема постоянно рекомендует ей гомеопатию, магниты, травы и всякие притирки из лошадиного помета. Некоторые даже книги ей дарят. Из серии «помоги себе сам». Или трактаты о преодолении горя и страданий, целые тома о том, как надо правильно умирать. Мне уже никто и ничто не поможет, хочется ответить Дебре, ни ваши книги, ни даже я сама. И потом, зачем умирающим читать про то, как справиться с горем? Такие книжки нужны тем, кто остается. А главу «Как правильно умирать» она давно выучила без всяких книжек. Люди без конца пристают к Пату с вопросами насчет ее самочувствия. У нее самой тоже спрашивают, со значением так, с нажимом. Но вот слышать в ответ, что она постоянно устает, что мочевой пузырь подтекает и вообще все жизненно важные органы скоро уйдут в отказ, они не хотят. Полагается отвечать, что в душе у нее царят мир и спокойствие, что она прожила прекрасную долгую жизнь, что она рада возвращению Пата. Так Дебра им и отвечает. И главное, все так и есть. Большую часть времени она и правда спокойна и счастлива, и жизнь у нее была прекрасная, и Пат вернулся. В ящике ее стола лежат телефоны хосписа, компании, сдающей в аренду медицинские койки и капельницы с морфием. Иногда Дебра просыпается и думает, что ничего такого страшного и нету, вот так вот спать себе и спать. У Пата с Лидией вроде наладилось, и попечительский совет согласился назначить Лидию художественным руководителем театра. Долгов у нее нет, и денег в банке достаточно, чтобы все налоги на дом и прочую дребедень оплатить, так что Пат теперь до конца жизни может ковыряться в саду по утрам – он это обожает. Вечно от подрезает чего-то там, подкрашивает, пропалывает, деревья подпирает. Все что угодно, лишь бы руки занять. Иногда, глядя на Пата и Лидию, Дебра кажется себе лососихой. Икру наметала, пора всплывать кверху брюхом. Но иногда эти песни про душевный покой ее просто бесят. Покой, это надо же! Как может человек любить жизнь и вдруг сказать: «Все, достаточно»? И дня не проходит, чтобы она не затосковала о потерянном времени и упущенных возможностях.
Нет, когда ей делали химию, она действительно хотела умереть. Было так больно и так плохо, что мысль о смерти как об отдыхе уже не казалась ей дикой. Дебра прошла все: облучение, операции (две мастэктомии), химиотерпию. Доктора лупили по ее тающему телу из всех орудий, даже ядерную бомбу бросали. И все равно в тазовых костях уцелели метастазы. Дебра тогда решила: хватит. Пусть все идет как идет. Врачи разглагольствовали о новых методах, но с нее было вполне достаточно. Пат вернулся, и лучше она шесть месяцев проживет спокойно, чем будет еще три года терпеть тошноту и боль от уколов. Ей повезло. Она протянула уже почти два года и чувствовала себя при этом вполне прилично. Хотя в зеркало, конечно, лучше не смотреться. Худая, изможденная, безгрудая старуха с лунно-белыми волосами, которая в этом зеркале отражается, ей не знакома.
Дебра ставит чайник. Пат наворачивает уже вторую порцию омлета, а Лидия ворует у него с тарелки грибы и сыр. Пат возмущенно оглядывается на мать:
– А ей, значит, все можно? Чего ты молчишь? Она у меня еду украла!
И в этот момент к дому подъезжает машина. Пат смотрит на часы и пожимает плечами:
– Понятия не имею, кто это.
Он подходит к окну и смотрит вниз. Дорожку заливает свет фар.
– Это Кит Бронко. – Пат делает шаг назад. – Небось нажрался на банкете. Пойду разберусь с ним.
Он скачет вниз по ступенькам, точно мальчишка.
– Как он играл? – тихо спрашивает Дебра.
Лидия быстро собирает с тарелки Пата лук и грибы.
– Потрясающе. Глаз не отвести. И все-таки, знаешь, я жду не дождусь, когда мы перестанем играть этот спектакль. Пат иногда просто сидит и смотрит в пустоту. С тех пор как я написала эту чертову пьесу, я все время боюсь, что он сорвется.
– Ты так всю жизнь с ним живешь, дело не в пьесе. (Они обе улыбаются.) Спектакль вышел просто отличный. Расслабься и перестань дергаться.
Лидия отпивает апельсиновый сок из стакана Пата.
Дебра берет Лидию за руку:
– Ты просто обязана была ее написать. А он – сыграть в ней. И я ужасно рада, что дожила до этой постановки.
Лидия жмурится, смаргивая слезы.
– Ну вот чтоб тебя черти взяли, Ди! Зачем ты это делаешь?
Внизу раздаются голоса: Пат, Кит, еще кто-то. Пять или шесть пар ног топают по ступеням.
Пат заходит на кухню и пожимает плечами:
– Мам, там какие-то твои старые друзья на спектакле сегодня были. Их Кит привез. Ничего, ты не против?
Следом входит Кит, трезвый, со своей дурацкой видеокамерой наперевес. Вечно он что-то там снимает, никто не знает что.
– Здрасьте, – говорит он. – Вы извините, что так поздно, но они очень настаивали…
– Ничего, Кит, не переживай.
В кухню входят еще несколько человек. Симпатичная девушка с рыжими кудряшками, за ней – тощий юноша (вот этот и правда пьян, похоже). Дебра видит их впервые. Следом появляется странное существо: худой сгорбленный старик в длинном черном пальто. Лицо у него гладкое, как у младенца, и вроде бы даже знакомое. В интернете полно фотографий, на которых людей искусственно старят, а тут процесс пошел в другую сторону – тело старика, а голова мальчика. Последним заходит пожилой мужчина в темно-сером костюме. Он не останавливается на пороге, как остальные, а идет через всю комнату прямо к кухонному столу и снимает шляпу. У него бледно-голубые, почти прозрачные глаза, в которых читаются нежность и сожаление, и Ди Морей сразу переносится на пятьдесят лет назад, в другую жизнь…
– Здравствуйте, Ди, – говорит он.
Чашка со звоном падает на стол.
– Паскаль?!
Иногда ей казалось: они еще встретятся. В тот последний день, в Италии, она и представить себе не могла, что больше его не увидит. Между ними ничего не было, лишь притяжение, смутное предчувствие, молчаливая договоренность. Алвис передал ей, что у Паскаля умерла мама, что он едет на похороны и, возможно, уже не вернется. Ди была потрясена. Почему же Паскаль сам этого не сказал? А потом, на следующий день, пришла лодка с ее багажом. Оказывается, Паскаль просил Алвиса проследить, чтобы Ди добралась до дома, чтобы с ней все было хорошо. Ди тогда решила, что Паскалю просто нужно побыть одному. И уехала в Штаты. Родила ребенка, отослала открытку. А вдруг? Но он не ответил. Она и потом о нем вспоминала, но не так часто, как в первые годы. Ди с Алвисом часто говорили, что надо бы съездить в отпуск в Порто-Верньону, но так и не собрались. Потом Алвис погиб, Ди получила диплом учителя итальянского и хотела свозить Пата в Италию, даже в агентство звонила. Там сказали, что в списке отелей «Подходящий вид» не значится и деревни такой, Порто-Верньона, они не знают. Может, имелась в виду Портовенере?
Дебре уже начало казаться, что все это – Паскаль, рыбаки, деревушка, картины в бункере – просто ее фантазия или сцена из фильма.
Но вот же он, Паска ль Турси, стоит у нее на кухне. Постарел, конечно, и волосы совсем седые, и на лице глубокие морщины, и подбородок уже не такой решительный. Но это он! Паскаль делает еще шаг вперед, и между ними остается только стол.
Ди вдруг вспыхивает, точно двадцатидвухлетняя девушка. Боже, она же страшилище! Они смотрят друг другу в глаза, хромой старик и больная старуха. Их разделяют толстая гранитная плита, пятьдесят лет и две прожитые врозь жизни. Никто не произносит ни слова. Никто не дышит.
Первой приходит в себя Ди. Она улыбается и говорит:
– Perché ci hai messo così tanto tempo? Почему ты так долго не приходил?
Та же прекрасная улыбка. Но больше всего Паскаля поражает другое: Ди выучила итальянский. Он улыбается ей в ответ и тихонько произносит:
– Dispiace. Dovevo fare qualcosa di importante. Прости. Меня задержали важные дела.
Из шести человек, окруживших их, лишь один понимает смысл сказанного. Связь между переводчиком и итальянцем установилась прочная, даже выпитое с горя виски не может ее нарушить. День у Шейна выдался тяжелый. Он проснулся в постели с Клэр, узнал, что Дин не собирается снимать его фильм, попытался и не смог выторговать условия получше во время долгого путешествия. Потом был катарсис – спектакль, во время которого Шейн понял, сколь они похожи с Патом, потом жена отказалась с ним говорить, а потом еще случился банкет, где Шейн основательно набрался. И вот теперь сил справиться с эмоциональным напряжением у него не осталось. Шейн судорожно вздыхает, и все остальные как будто просыпаются.
Майкл Дин сжимает руку Клэр, Лидия испуганно смотрит на Пата, Пат переводит взгляд то на мать, то на старика с добрыми глазами. Как она его назвала, Паскаль? Кит забрался повыше на лестницу и оттуда снимает все происходящее.
– Что ты делаешь? – говорит ему Пат. – А ну, убери камеру!
Кит пожимает плечами и кивает на Майкла Дина, человека, который заплатил ему за съемку.
Наконец и Дебра замечает, что в комнате полно народу. И все смотрят на нее, и все ждут чего-то. Она снова вглядывается в черты странного старика с гладким, словно резиновым, лицом. Боже мой! Она же его знает…
– Майкл Дин!
Он растягивает губы в улыбке:
– Здравствуйте, Ди.
Даже сейчас ей страшно произнести его имя и страшно, когда он называет ее по имени. Конечно, Дебра читала о нем в газетах. И знает, как удачно сложилась его карьера. Какое-то время она даже уходила из кинозала до титров, чтобы не наткнуться на знакомое словосочетание. Дин, видимо, это чувствует. Он отводит взгляд.
– Мам! – Пат шагает к ней. – Ты как?
– Все нормально, – отвечает Ди, не отрывая глаз от Майкла.
Дин замечает, что на него пялятся все присутствующие. Вот она, его Комната. Комната – это вся вселенная. За ее стенами ничего нет. Ваши слушатели не могут покинуть Комнату, как не могут они по собственной воле…
Майкл включает обаяние на полную катушку и поворачивается к Лидии:
– А вы, вероятно, и есть автор сегодняшней пьесы? – Он протягивает ей руку. – Спектакль просто великолепный! Вы меня очень тронули.
– Спасибо! – Лидия отвечает на его рукопожатие.
Дин поворачивается к Дебре. Обращаться нужно к самому сильному человеку в Комнате.
– Ди, я уже сказал вашему сыну, что он потрясающий актер. Сразу видно старую школу.
Пат съеживается от такой похвалы и смущенно чешет в затылке, точь-в-точь как мальчишка, разбивший мячом лампу.
Дебра вздрагивает. «Старую школу». Она предчувствует недоброе, только пока не понимает, что Дин задумал. Как он ловко завладел вниманием присутствующих! И почему он так хищно смотрит на Пата? Дебру передергивает от одного только вида Майкла: мертвые, тухлые глаза на омерзительно гладком личике.
Паскаль понимает ее настроение. Но другого способа найти ее у него не было.
– Dispiace. – Он протягивает ей руку. – Era l'unico modo.
Дебра напряжена, как медведица, защищающая детеныша. Она поворачивается к Дину и, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и ровно, произносит:
– Майкл, зачем вы приехали?
Дин ведет себя словно коммивояжер с чемоданчиком товаров.
– Вы совершенно правы, Ди. Позвольте мне сразу перейти к делу. Простите, что свалился вам на голову в столь неурочный час. – Теперь, когда ему удалось превратить обвинение в приглашение к разговору, он поворачивается к Лидии и Пату: – Ваша мама обо мне не рассказывала? Видите ли, я продюсер, – Майкл скромно улыбается, – довольно удачливый, я полагаю.
Боже, только не это, думает Ди. Такая замечательная пьеса, а он собирается все испортить! Но Майкла уже не остановить. Торнадо набирает силу. Клэр удивленно взмахиваетруками, и Майкл тут же вытаскивает ее к столу.
– Прости, дорогая, я забыл тебя представить. Это Клэр Сильвер, руководительница отдела по производству фильмов.
«Это что, шутка такая дурацкая?» – думает Клэр. Или он ее правда повысил? От удивления она теряет дар речи, а Майклу только того и надо. Все взгляды теперь обращены к ней, особенно внимательно ее изучает Лидия, пристроившаяся на краешке кухонного стола. Выбора у Клэр не остается.
– Пьеса была просто замечательная, – растерянно повторяет она слова Майкла.
– Спасибо! – смущается Лидия.
– Да. Замечательная, – говорит Майкл. Вот теперь комната в его власти. Кухня загородного дома или переговорка в роскошном офисе – какая разница? – Мы с Клэр хотели бы знать, не согласитесь ли вы продать на нее права? Мы бы сняли по ней фильм.
Лидия нервно, почти истерически хихикает. Она смотрит на Пата, потом снова на Дина:
– Вы хотите купить мою пьесу?
– Да. И может, быть даже весь цикл, все вместе… – Майкл на секунду замолкает, давая им прочувствовать важность момента. – Мне хотелось бы приобрести права на все, – главное, чтобы голос звучал естественно, будто ничего такого не происходит, – меня поразила ваша история, – он поворачивается к Пату, – история вашей любви. – На Ди Майкл старается не смотреть. – Я бы хотел купить права… – он останавливается, словно эта мысль только сейчас пришла ему в голову, – да, пожалуй, я хотел бы купить права на всю историю вашей жизни.
– Это как? – спрашивает Пат. Он рад за Лидию, но мужик у него никакого доверия не вызывает.
Клэр знает как. Это значит, что Майкл покупает права на книгу, фильм, реалити-шоу – все, что можно только продать. Еще бы, такая сенсация – сын Ричарда Бёртона, да еще и с трагической судьбой! И Ди тоже знает. Она закрывает рот рукой и успевает только произнести:
– Стойте!
У нее подкашиваются ноги, она хватается за стол, чтобы не упасть.
– Мама!
Пат и Паскаль бросаются к ней и подхватывают Ди под руки.
– Отойдите все, ей дышать нечем! – кричит Пат.
Паскаль оглядывается на переводчика, но Шейн пьян. Вместо последней фразы он переводит Паскалю суть предложения Дина, а потом говорит по-английски:
– Имейте в виду, он иногда говорит, что покупает права, а снимать ничего не собирается.
Клэр, все еще потрясенная новым назначением, тащит Майкла в зону гостиной.
– Что вы творите? – вполголоса спрашивает она начальника.
Дин оглядывается на кухню:
– То, ради чего я приехал.
– Мне казалось, вы собирались все исправить.
– Что исправить? – Он удивленно смотрит на Клэр.
– Вы что, с ума сошли? Вы сломали жизнь этим людям. Чего вы сюда приперлись, если не собирались извиняться?
– Извиняться? – Майкл по-прежнему ее не понимает. – Я приехал за историей, Клэр. За моей историей.
Ди уже лучше, она снова твердо стоит на ногах. В гостиной Майкл и его помощница явно из-за чего-то ругаются. Пат поддерживает Ди за локоть.
– Все в порядке, мне уже лучше. – Она улыбается сыну и Паскалю, который подпирает ее с другой стороны.
На свете осталось только три человека, знающих ее тайну. Тайну, которую Ди хранила сорок восемь лет, тайну, которая определила всю ее жизнь. Эта тайна росла с каждым годом и вот теперь заполнила всю комнату. Комнату, в которой находятся все трое посвященных. Тогда, много лет назад, у Ди было множество причин хранить молчание. Роман Лиз и Дика, ее собственная семья, боязнь огласки и газетной шумихи и, главное (теперь-то уж можно себе в этом признаться), – гордость. Не могла же она позволить какому-то уроду победить! Но все причины с годами потеряли значение, и Ди продолжала хранить свою тайну из-за Пата. Она боялась, что это его убьет. У детей великих актеров судьба обычно тяжелая. Тем более у Пата запросы всегда были огромные. Пока он наркоманил, сломать его было очень легко. Когда завязал – стало еще легче. Дебра оберегала его, и теперь ей понятно от чего. Вернее, от кого. Вот от этого страшного человека, которого она ненавидела почти пятьдесят лет. Человека, который явился в ее дом, чтобы купить жизнь ее детей.
Она не сможет защищать их вечно. Ее скоро не станет. Дебра виновата перед Патом, она столько лет обманывала его. А вдруг теперь он ее возненавидит? Лидии тоже придется непросто. Дебра оглядывается на Паскаля, потом на встревоженного сына, собирается с духом и произносит:
– Пат, я хотела… мне надо тебе… в общем… – И вдруг Дебра чувствует, как тяжелый груз, который она много лет тащила на своих плечах, вдруг исчезает, растворяется. Слова еще не сказаны, а ей уже легче. – Твой отец… – Пат смотрит на Паскаля, но Ди качает головой: – Нет. Пойдем наверх? – Ди кивает на Майкла Дина. Нечего старому хищнику присутствовать при этом разговоре. Перебьется.
– Конечно, пошли, – отвечает Пат.
– Лидия, и ты тоже, – зовет Дебра.
Богом проклятая экспедиция Дина не увидит развязки этой истории. Пат, Лидия и Ди поднимаются по лестнице. Майкл Дин подмигивает Киту, тот снова включает камеру и идет наверх. Просто удивительно, как быстро развиваются технологии! Малюсенький аппарат, размером со спичечный коробок, а умеет больше, чем тяжеленные камеры, которые снимали когда-то Ди Морей. На экранчике Лидия поддерживает Дебру под локоть. Пат идет следом. Внезапно он останавливается, почувствовав спиной чужой взгляд, и резко разворачивается.
– Слышь, ты, дебил! Ты меня не понял? Ладно, давай по-другому! – Он бросается на Кита и выхватывает камеру у него из рук. Цифровая память записывает последний в ее жизни фильм – глубокие линии на ладони Пата. Пролетев через гостиную, мимо жуткого старика-продюсера, мимо рыжей девчонки и пьяного переводчика, Пат выходит на балкон, размахивается и что было сил швыряет камеру подальше от дома. Где-то внизу слышен всплеск воды. Пат спокойно идет обратно.
– Чувак, ты просто молоток! – говорит растрепанный пьяный пацан ему вслед.
Пат смотрит на Кита, пожимает плечами – мол, извини, старик, и отправляется наверх. Скоро он узнает правду.
21. Великолепные руины
Нет ничего более очевидного, ничего более осязаемого, чем здесь и сейчас. И все же этого здесь и сейчас мы никогда не замечаем. В этом трагедия человеческой жизни.
Милан Кундера«Перед нами история любви», – говорит Майкл Дин.
А с другой стороны, любая история – это истории любви. Разве полицейский не любит тайны, погони, любопытную журналистку, повсюду сующую свой нос? Журналистку, которую злодеи поймали и заперли на пустом складе? И маньяк-убийца любит своих жертв. И шпион любит свои гаджеты, или свою страну, или красотку-шпионку из стана врага. Дальнобойщик разрывается между любовью к дороге и своему грузовику. Шеф-повара ненавидят друг друга, но дружно обожают морские гребешки. Владелец ломбарда без ума от своего барахла. Домохозяйки живут ради того, чтобы увидеть в зеркалах парализованные ядовитым ботоксом лицевые мышцы. Распухший от стероидов качок мечтает увидеть татуировку на попке симпатичной девчонки, с которой он чатится в «Фабрике любви». На этом реалити-шоу вообще все любят. Страстно, отчаянно. Любят микрофон, прикрепленный под майкой, и продюсера, который предлагает сделать еще один дубль. Робот тоже любит своего хозяина, а инопланетянин – летающую тарелку. Супермен любит Лоис, Лекса и Лану. Люк любит Лею (пока не узнает, что она – его сестра). Экзорцист любит демона даже в тот миг, когда вместе с ним вываливается из окна. Леонардо любит Кейт, и оба они любят тонущий корабль. Акула – ну, акула любит пожрать, как, кстати, и мафиози, только тот еще любит деньги. Ковбой любит свою лошадь и девушку в красивом платье за фортепиано, а иногда и другого ковбоя. Вампир любит ночь и чужие шеи. Зомби… нет, о зомби лучше не говорить, во всяком случае, Клэр. Зомби – это воплощение животной любви, они тянут к тебе руки и стонут. Потому что обожают высасывать людям мозг. Тоже история любви, между прочим.
Комната замерла. Денежные мешки из Голландии готовы потратить сорок миллионов долларов. Они ждут продолжения, но Майкл Дин молчит. История любви. Он заговорит, когда будет готов. Это ведь его Комната. Жалко только, что похорон своих он не увидит, а то бы он убедил всех, кто пришел почтить его память, раскошелиться на реалити-шоу, прямую трансляцию из ада. Презентация «Доннера!» вполне удалась. Свои тридцать штук пацан отработал до последнего цента, и Майкл теперь свободен. Теперь у него в работе шесть проектов. Майкл снова взялся переделывать мир. К черту студию! Денег у него теперь – хоть на улице раздавай, Майкл и представить себе не мог такого богатства. Теперь финансисты к нему в очередь выстраиваются, просят взять хоть немножко денег на проект. Вот она, вторая молодость. Ему как будто снова тридцать. Денежные мешки терпеливо ждут, и Майкл наконец произносит:
– Мы хотим пустить это шоу по кабельному Называться оно будет «Мамашки моей мечты». Как я и говорил, это в первую очередь история о любви.
Конечно, о любви, о чем же еще? В Генуе потрепанная жизнью проститутка ждет, пока за американцем закроется дверь. Жадно хватает деньги с серой простыни, словно боится, что они сейчас пропадут. Едва дыша от волнения, прислушивается к затихающим на лестнице шагам. Прислоняется к чугунной спинке кровати, пересчитывает купюры. Вот это удача! Здесь в пятьдесят раз больше, чем полагается за один перепихон. Она сует добычу за пояс от чулок, чтобы Энцо не отнял, и подходит к окну. «Висконсин» по-прежнему стоит посреди дороги. Несчастный и потерянный. Книгу он хотел написать, надо же! Проститутка вспоминает тот вечер, ее ласки, его голову на мокрой от слез груди. В эту секунду она любит его больше, чем остальных мужчин в своей жизни. Потому-то она и сказала, что он ошибся. Не хотела все испортить. Не хотела, чтобы он стыдился своих слез. Что-то такое было между ними, что-то, чему Мария не находит названия. «Висконсин» поднимает голову, и она вдруг касается ложбинки между грудей. Того самого места, к которому она прижимала его голову той ночью. И отходит от окна…
Вильям Эдди стоит на крыльце своего домика в Калифорнии и с наслаждением курит трубку. В животе его уютно устроился завтрак. Очень вкусный завтрак. Эдди смакует теперь все, что ест, но особенно он любит завтраки. Целый год Эдди ошивался в Эрба-Буэно. Работы там было полно. И зачем только он согласился говорить с журналистом из местной газеты? Дал маху, ничего не скажешь. Теперь все писаки на Западном побережье с наслаждением пережевывают каждую косточку, смакуют детали, роются в грязном белье – ведь им нужен скандал. Те, кто выжил в этом походе, обвиняют Эдди в том, что он преувеличил собственные заслуги. Эдди бросает все и переезжает подальше на юг, в Гилрой. Заслуги! Господи всемогущий, какие тут могут быть заслуги, когда люди умирают от голода и холода? Золотая лихорадка уже началась, и Эдди заказали много повозок. Поначалу все идет хорошо. Эдди женится, у него рождаются трое детишек. Но ему по-прежнему не по себе. Одиночество не отступает ни на шаг. И Эдди сбегает от семьи в Петалуму. Иногда он чувствует себя рубашкой, которую ветер сорвал с бельевой веревки. Его вторая жена говорила, что у него в голове винтиков не хватает. «Где-то очень глубоко, туда и не добраться никому». Теперь и третья его жена, учительница из Сент-Луиса, постепенно начинает приходить к тому же выводу. Время от времени доносятся вести о судьбе остальных – выживших Доннеров и Ридов и тех детишек, которых он вынес из гор. Его заклятый друг Фостер открыл где-то в Калифорнии салун. Интересно, они тоже не могут нигде зацепиться? Вот Кесеберг, говорят, смирился со своей дурной славой. Он теперь держит ресторанчик в Сакраменто. Эдди сегодня как-то познабливает, температура, что ли, поднимается? Смерть уже совсем близко, просто он об этом еще не знает. Эдди умрет в сорок три года, всего через тринадцать лет после перехода через перевал. Конечно, выбраться из этих гор на самом деле нельзя. Смерть все равно тебя нагонит. Эдди кашляет, доски под ним скрипят. Он смотрит на восток, каждое утро выходит и смотрит на восток, на восходящее красное солнце. Туда, где в вечном холоде остались лежать его жена и дети…
Художник идет без остановки всю ночь. Говорят, через швейцарскую границу еще можно перебраться. Больших дорог и деревень он избегает, слишком велика опасность наткнуться на сослуживцев или американцев, зачищающих местность. Художник хотел даже выбросить форму, но не решился: а вдруг его расстреляют как дезертира? А так он просто домой добирается, отстал от своих. На рассвете художник прячется в сгоревшем здании типографии. Вдали слышны выстрелы. Художник ставит винтовку и ранец у стены и сворачивается калачиком под столом, подложив под голову мешок с зерном. Перед сном, как и каждый вечер на этой войне, он вспоминает того, кого очень любил, – своего учителя музыки в Штутгарте. «Постарайся вернуться», – просил его старый пианист, и художник ему обещал. Только потому он и выжил. Каждый вечер художник представляет, как возвращается и стучит в дверь. В предрассветных сумерках художник думает о пианисте и засыпает. Он видит хорошие сны. Его находят двое партизан и проламывают ему голову киркой. Вот и все. Художник не вернется домой, не увидит учителя фортепиано, и маму, и сестру (неделю назад она погибла во время пожара на военной фабрике). Избалованную сестренку, чью фотокарточку художник пронес через всю войну; с этой карточки он дважды написал портрет на стене бункера. Один из партизан смеется, глядя, как художник стонет и извивается на полу, а второй неодобрительно морщится и вынимает пистолет, чтобы добить…
Джо и Уми переезжают в Корк. Они женятся, но через четыре года, так и не родив ребенка, разбегаются, и каждый винит в своих бедах другого. Через несколько лет Джо и Уми снова встречаются на концерте. Теперь они старше и терпимее. Они пьют вино, смеются над своим юношеским максимализмом и в конце концов оказываются в постели. Через пару месяцев судьба снова разводит их, каждый отправляется своей дорогой, но оба рады, что помирились и не держат друг на друга зла. То же самое происходит с Лиз и Диком. Десять лет бурных страстей и не очень счастливого брака, один по-настоящему удавшийся фильм, «Кто боится Вирджинии Вульф?» (за который «Оскар», как это ни смешно, достается только Лиз), потом развод, короткое, куда более печальное, чем у Джо и Уми, воссоединение, и они расходятся окончательно. Лиз снова выходит замуж, и не раз. Дик беспробудно пьет и однажды утром, в пятьдесят восемь лет, просто не просыпается в гостиничном номере. Кровоизлияние в мозг. На столике рядом с кроватью, точно пророчество, лежит открытая книга. «Буря», Шекспир. «Спектакль окончился…» Оренцио как-то зимним вечером напивается и тонет в море, а Валерия остаток своих дней живет с Томассо-Хрычом. Они счастливы. Рана на ноге Пелле заживает довольно быстро, но работа громилы его больше не прельщает, и потому он пристраивается мясником в лавке брата и женится на немой девушке. Гвальфредо подцепляет сифилис и слепнет. Сын Бёртона воюет во Вьетнаме. Демобилизовавшись по ранению, он возвращается в Штаты и становится юристом, защищает права ветеранов, а потом его даже избирают сенатором от штата Айова. Бруно Турси оканчивает факультет искусствоведения и реставрации, переезжает в Рим и работает в небольшой частной фирме: составляет каталог артефактов, найденных во время раскопок. Жизнь его проходит спокойно и скучно, и Бруно спасается от тоски при помощи антидепрессантов. Физрук Стив снова женится – на очень милой женщине, матери дочкиной подружки (девочки вместе ходят на тренировки по софтболу). Тысяча дорог, тысяча жизней, тысяча мгновений. Времени не существует…
Такие прекрасные и такие трагические судьбы…
Клэр Сильвер угрожает Майклу уволиться, если он не оставит семью Дебры «Ди» Морган в покое. В итоге они договариваются, что делают фильм «Фронтмен» по сценарию Лидии. Историю о музыканте, лидере рок-группы, наркомане, которого жизнь основательно потрепала, но он все же возвращается к своей подруге и умирающей матери. Бюджет фильма составляет всего шесть миллионов долларов, но голливудские студии отказываются его финансировать, и Майкл Дин оплачивает съемки из своего кармана (хотя Клэр об этом и не догадывается). Он приглашает сербского арт-хаусного режиссера. Режиссер переписывает сценарий, от первоначальной истории мало что остается, вернее, от той части истории, которую он не поленился прочитать. Музыкант теперь гораздо моложе и гораздо симпатичнее. И конфликт у него не с матерью, потому что режиссеру очень хочется поведать всему миру о своих тяжелых взаимоотношениях с отцом (тот живет в далекой Сербии и очень осуждает сына за выбор профессии). Подружка музыканта из сценаристки, ухаживающей за больным отчимом, превращается в художницу из Детройта. Художница эта учит черных детишек из неблагополучных семей рисованию. Саундтрек теперь тоже другой. А все потому, что в штате Мичиган большие налоговые льготы на съемки, этим грех не воспользоваться малобюджетной картине. В финальной версии (Пата теперь зовут Слейд) главный герой не ворует у матери и не изменяет своей девушке. О кокаине уже и речи нет, Слейд – простой безобидный алкоголик и вред наносит исключительно себе (Майкл и режиссер дружно сходятся на том, что героя надо бы сделать посимпатичнее). Изменения вносят по одному, не сразу. Так в холодную ванну понемногу добавляют горячей воды. Клэр каждый раз убеждает себя, что все самое важное они сохранили, и в конце концов даже гордится своей первой продюсерской работой. Ее папа говорит, что смотрел фильм и плакал. «Фронтмен» показывают на нескольких кинофестивалях, в Торонто он получает приз зрительских симпатий. И критика на него хорошая, и в иностранный прокат его берут, так что Дин даже отбивает свои вложения. «Я прямо сру деньгами в последнее время», – говорит по этому поводу сам Майкл в интервью «Нью-Йоркеру». «Оскара» картина не получает, но зато трижды номинируется на фестивалях авторского кино. На торжественную церемонию Майкл не приходит, он в этот момент находится в Мексике, залечивает раны после развода – ему делают инъекции гормона, замедляющего рост. Клэр с воодушевлением готовится принять награду. На вручение премий она прибывает вместе с Дэрилом. В дешевом темно-синем смокинге он просто ослепителен. К сожалению, приз получает другой фильм. Но это ничего, зато после церемонии Клэр и Дэрил занимаются сексом в лимузине, и Клэр уговаривает водителя заехать в «KFC», чтобы купить целое корыто вкусных куриных…
На деньги, полученные от Майкла, Шейн Вилер снимает домик в Сильвер-Лейке, неподалеку от Лос-Анджелеса. Дин находит ему работу на канале «Биографии». Шейн пишет сценарий для реалити-шоу под названием «Голод» (о людях, страдающих от анорексии и булимии). Шоу выходит очень грустным, даже Шейну оно не нравится, не говоря уж о зрителях. Тогда Майкл переводит его в программу «Великие битвы», где известные сражения воспроизводят при помощи компьютерной графики. Историческую науку тут превращают в «стрелялку» вроде «Квейка», и ведущий произносит текст в стиле спортивного репортажа. На шоу работают три сценариста, включая Шейна. Все пишется на современной фене: «По ходу, сейчас спартанцы со своими пацанскими понятиями ответят за базар». Шейн снова подкатывает к Клэр, но та вроде вполне довольна своим парнем (Шейн с ним знакомится и быстро понимает, что смотрится на фоне Дэрила бледновато). Он отдает Сандре деньги за машину и добавляет еще чуть-чуть, но отношения к нему бывшей жены это не меняет. Как-то вечером после работы Шейн приглашает выпить ассистентку режиссера по имени Вайли. Ей двадцать два года, и она быстро завоевывает его сердце, потому что считает Вилера гениальным и даже делает на попке татуировку «Действуй».
В Сэндпойнте Пат Бендер просыпается в четыре часа утра. Он заваривает кофе и идет на улицу, в предрассветную полутьму. Ему нравится начинать работать, еще не проснувшись по-настоящему, тогда у дня появляется ритм. Все что угодно, лишь бы руки были заняты. Пат подрезает кусты, рубит дрова или шкурит и подкрашивает доски на переднем крыльце, или на заднем крыльце, или в сарае, или снова на переднем крыльце, шкурит и подкрашивает, шкурит и подкрашивает. Десять лет назад он бы назвал такое занятие сизифовым трудом, а вот теперь ждет не дождется, когда можно будет выпить кофе, надеть рабочие ботинки и выйти на темный двор. Побыть одному, наедине с утренней тишиной. Потом они с Лидией едут в город и он мастерит декорации для детского спектакля. Ди научила Лидию, как содержать театр: надо поставить детскую пьесу со множеством персонажей и пригласить играть в ней детишек посимпатичнее. Тогда богатенькие горнолыжники и обутые в шлепанцы жители окрестных деревень, желающие насладиться талантом собственных чад, раскупят все билеты. Вырученные деньги можно потратить на постановку чего-нибудь настоящего, «на искусство». Да бог с ним, с капитализмом в действии, ведь детские представления и правда получаются «очень милыми», и Пату, если честно, они нравятся куда больше серьезной взрослой нудятины. Участвовать в новых спектаклях он соглашается не чаще чем раз в год. И только в тех, что предлагает ему Лидия. Следующим будет «Настоящий Запад» Сэма Шепарда. Киту там тоже дали роль. Лидия счастлива как никогда прежде. Пат отказался продавать права «на жизнь» зомбо-продюсеру и – очень вежливо, разумеется, – посоветовал ему «валить отсюда на хрен». И все-таки этот урод умудрился купить права на пьесу Лидии. «Фронтмена» Пат смотреть отказывается. Все кругом говорят, что сценарий очень сильно переработан, что сходства с его жизнью почти никакого, и он несказанно этому рад. Сейчас ему куда приятнее пребывать в безвестности, чем быть знаменитым неудачником. Деньги за сценарий Лидия мечтает потратить на путешествия. Может, они и поедут куда-нибудь, но Пат легко представляет, что останется в Сэндпойнте навсегда. У него есть кофе, и утренний ритуал, и работа по дому, и спутниковая «тарелка» – девятьсот каналов на любой вкус. Пат смотрит все фильмы с участием отца в хронологическом порядке (уже добрался до шестьдесят седьмого года, «Комедиантов»). Ему доставляет странное, извращенное удовольствие находить в отце собственные черты. Правда, Пат еще не видел фильмов Ричарда периода упадка. Вот от них радости, наверное, будет мало. Лидия тоже любит смотреть картины с Бёртоном, только она постоянно дразнит Пата: «Слушай, какие знакомые ноги! А, точно, я же их сегодня в постели видела!» Милая Лидия! Благодаря ей разрозненные кусочки бытия превращаются в счастливую жизнь. Но бывают дни, когда Лидии, кофе, работы по дому, озера и фильмов с участием Ричарда Бёртона Пату недостаточно. Тогда его корежит, реально корежит от непреодолимого желания снова увидеть беснующийся зал, посадить девчонку себе на колени, положить на стол перед собой зеркальце с дорожкой кокаина. Он вспоминает зазывную улыбку официантки в кафе напротив театра или таращится на визитку Дина. Пата тянет позвонить и спросить: «Так что конкретно вы предлагаете?» В те дни, когда ему хочется немножко, ну хоть немножко накатить и полетать (читай: каждый день), Пат Бендер чинит ступени. Мама в него верит, и это самое главное. Она рассказала ему правду, и Пат простил и поблагодарил ее за все, что она для него сделала. «Это ведь ничего не меняет!» – сказала ему Ди. Пат шкурит и подкрашивает, шкурит и подкрашивает, шкурит-подкрашивает, шкурит-подкрашивает. Как будто от этой работы зависит вся его жизнь. Она и зависит. Приходит следующее утро, а Пат по-прежнему в завязке. У него все хорошо, вот только очень не хватает…
Ди Морей. Она сидит в моторной лодке. Лодка эта несется вдоль гористого побережья Riviera di Levante. Солнышко припекает, ветер раздувает подол кремового платья и изо всех сил старается сорвать с головы Ди большую шляпу. Рядом с Ди тоскует по своей второй, непрожитой жизни Паскаль Турси в парадном костюме. Ну и что, что жарко? Вечером их ждет столик в ресторане, так что без костюма никак. Паскалю кажется, будто он летит высоко-высоко над морем, не тем, что он пятьдесят лет назад увидел из-под облаков в первый день знакомства с прекрасной американкой, а вот этим, сегодняшним. Ведь это же другое море, другое солнце, и скалы тоже другие, да и они сами с Ди очень изменились. И если существует только один миг, если важно лишь восприятие, то вот в эту самую секунду Паскаль живет по-настоящему, а не прозябает. А может, течение времени – вообще иллюзия? Нет ни «раньше», ни «позже», и все, что происходит, происходит сейчас, всегда, одновременно. Тогда Паскалю и Ди двадцать два, и у них в распоряжении целая жизнь. Ди видит, что Паскаль глубоко задумался. Она тихонько трогает его за рукав и спрашивает: «Che cos'è?» Итальянский Ди выучила хорошо, и они теперь подолгу разговаривают, но слов, чтобы объяснить свои чувства, у Паскаля все равно не находится. И потому он просто улыбается Ди, поднимается и встает на носу лодки. Паскаль указывает моряку, куда плыть. Тот скептически хмыкает, но все же поворачивает к маленькой бухте среди скал. Причала давно уже нет, лишь несколько свай торчат из воды, точно зубы морского чудовища. В высокой траве белеют развалины. Вот и все, что осталось от деревни, которая когда-то, вопреки здравому смыслу, прилепилась к этим горам. Паскаль рассказывает Ди, как продал «Подходящий вид» и переехал во Флоренцию. Последний рыбак умер в семьдесят третьем, и пустую деревню поглотил национальный парк Синк Терре. Оставшимся семьям выделили по клочку земли в Портовенере. За ужином в ресторане с видом на море Паскаль говорит о своей жизни. О том, как он нашел Амедию, как счастливо и спокойно провел эти годы. В них нет слепящего душу восторга, такого, какой он испытывает с Ди в его второй, воображаемой жизни. Зато Паскаль сам выбрал свою судьбу: он женится на милой Амедии, и она становится прекрасной женой, смешливой и соблазнительной, а заодно и лучшим другом. Вместе они воспитывают Бруно, Франческу и Анну. Паскаль поступает на работу к тестю: делает ремонт и поддерживает порядок в доходных домах синьора Монтелупо, а потом и наследует весь бизнес, становится во главе огромного клана. Паскаль управляет всеми делами, помогает словом и делом всем детям, внукам, племянникам и племянницам, устраивает их на работу. Это такое счастье – быть нужным! Паскаль о нем и мечтать не мог. Жизнь его прекрасна, полна событиями, но она набирает ход, точно телега, несущаяся с горы, – управлять ею совершенно невозможно. Годы мелькают с такой скоростью, что с утра ты еще молодой человек, к обеду уже зрелый мужчина, а где-то там, после ужина, тебя ожидает смерть.
– Ты был счастлив? – спрашивает Ди.
– Еще как! – без колебаний отвечает Паскаль и добавляет: – Не всегда, конечно, но чаще, чем многие.
Он очень любит свою жену и если и мечтает иногда о других женщинах (в основном о Ди), то все же никогда не сомневается в том, что сделал правильный выбор. Больше всего Паскаль жалеет, что они с Амедией так и не успели попутешествовать. К тому времени, как она заболевает и начинает вести себя странно, их дети уже вырастают. В конце концов ей ставят диагноз. Альцгеймер. И даже тогда им еще выпадают хорошие дни и даже годы, но последние десять лет проходят во мраке. Паскалю кажется, будто море вымывает песчаный пляж прямо у него из-под ног.
Поначалу Амедия просто забывает сходить в магазин или запереть дверь, потом теряет машину, а потом из ее памяти начинают улетучиваться имена, и даты, и предназначение простейших предметов обихода. Паскаль застает ее с телефонной трубкой в руке, и Амедия совершенно не помнит, кому собиралась звонить, а позже – как этой трубкой пользоваться. Сначала Паскаль запирает жену в доме, потом сам перестает выходить. Сознание жены постепенно гаснет, она забывает даже собственного мужа, и Паскалю очень трудно ощутить себя в этом тускло мерцающем свете. Исчезнет ли он, когда Амедия забудет его окончательно? Последний год дается ему особенно тяжело. Заботиться о человеке, утратившем всякое представление об окружающей действительности, не узнающем тебя, – это сплошной кошмар. Ответственность давит на плечи тяжелым грузом. Искупать, покормить… По мере того как разум Амедии разрушается, груз становится все тяжелее, пока она не превращается просто в вещь, тяжелую вещь, которую Паскаль тащит в гору, с трудом преодолевая последние метры их совместной жизни. Детям удается уговорить отца отдать Амедию в хоспис, и он плачет от горя, стыда и облегчения. В хосписе его спрашивают, нужно ли продлевать жизнь его жены. Паскаль не может говорить, горло сдавил спазм. Бруно берет отца за руку и отвечает: «Мы готовы ее отпустить». И она уходит. Паскаль навещает Амедию каждый день и говорит, говорит, глядя в пустые глаза. А потом однажды утром, когда он собирается в больницу, звонит медсестра. Амедия умерла. Он даже и не думал, что будет так по ней горевать. Ему почему-то казалось, что после смерти жены к нему вернется юная Амедия, а теперь в его сердце остается лишь огромная дыра, и Паскаль чувствует себя обманутым. Проходит год. Паскаль начинает понимать, почему мать так и не смогла пережить разлуку с Карло. Столько лет вместе! Без Амедии он ничто. Бруно, его храбрый Бруно первым осознает, что отца засасывает в пучину депрессии, и предлагает Паскалю вспомнить последний момент до его женитьбы, когда он был счастлив. Ведь любил же он кого-нибудь кроме мамы? Паскаль сразу же отвечает:
– Ди Морей.
– Кто это? – спрашивает Бруно.
Разумеется, он никогда не слышал этой истории. Паскаль рассказывает все без утайки, и Бруно предлагает ему поехать в Голливуд, найти женщину со старой фотографии и поблагодарить ее…
– Поблагодарить? За что? – спрашивает Ди.
Паскаль долго обдумывает ответ. Он очень надеется, что выбрал слова правильно и она сумеет его понять.
– Когда я встретил тебя, я жил одними мечтами. Потом я познакомился с тем, кого ты любила, и увидел в нем отражение собственной слабости. Как это глупо и смешно: я был недостоин твоей любви, потому что бросил своего собственного ребенка. Потому-то я и вернулся к Амедии. Я сделал правильный выбор.
Ди понимает его. Работа в школе была для нее формой самопожертвования. Она отреклась от собственных надежд ради того, чтобы развивать талант своих учеников. «А потом оказалось, что преподавание доставляет столько радости! К тому же в окружении детей мне было не так одиноко». Ди наслаждалась последними годами в Айдахо, наслаждалась своим театром. В пьесе Лидии ей больше всего понравилась простая мысль: истинная жертва дается легко, без мучений.
После ужина Паскаль и Ди еще три часа сидят на веранде ресторана. Им есть о чем друг другу рассказать. Наконец Ди говорит, что устала, и они возвращаются в гостиницу, в свои – отдельные – номера. Оба пока не понимают, что ждет их дальше, есть ли у них общее будущее и возможно ли оно вообще, когда времени совсем не осталось. С утра они встречаются за завтраком на веранде и говорят об Алвисе.
Паскаль: «Он был прав, с приходом цивилизации от красоты этих мест и правда ничего не осталось».
Ди: «Алвис стал для меня островом. Я пожила на нем какое-то время, а потом пришлось плыть дальше».
Скоро они пойдут на прогулку, а пока просто планируют, как проведут следующие три недели: отправятся на юг, в Рим, потом в Неаполь и Калабрию, потом снова на север, в Венецию. Будут путешествовать, пока у Ди хватит сил. А потом вернутся во Флоренцию и Паскаль покажет ей свой огромный дом и представит своей огромной семье, всем детям, внукам, племянникам и племянницам. Ди сначала будет немного завидовать, а потом ее захлестнет волна восторга – сколько же их, господи! Это же такая ответственность! Она возьмет на руки младенца, взгляд ее затуманится от слез. Паскаль достанет из волос внука монетку, и Ди подумает: «Теперь его черед быть великолепным». Через день или два (кто же их считает) ее настигнет чернота и Ди уже не сможет встать, еще через день дилаудид перестанет снимать боль, и еще через день…
Они заканчивают завтракать на веранде гостиницы в Портовенере, возвращаются в свои номера, надевают горные ботинки. Ди уверяет Паскаля, что отлично себя чувствует. Они садятся в такси и едут до самого конца дороги (здесь теперь полно машин, велосипедов, туристов). Паскаль расплачивается с водителем, помогает Ди вылезти из машины, и они идут знакомой тропой мимо виноградников ко входу в парк, поднимаются на холмы. Потом начинаются горы. Паскаль и Ди не знают, что сталось с картинами в бункере. Может быть, они выцвели со временем, а может быть, скрылись под слоем граффити. А может, и бункера-то самого больше нет. Или не было никогда. Это неважно, ведь они молоды, и идти им легко. Может, они и не найдут того, что ищут. Самое главное, что они просто гуляют по солнечным горам.


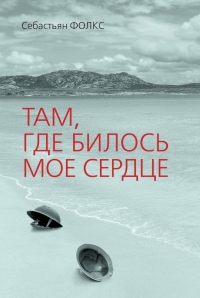





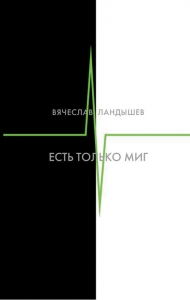


Комментарии к книге «Великолепные руины», Джесс Уолтер
Всего 0 комментариев