И совсем другой она была в тот первый вечер у него дома… Не спуская с него глаз, она одевалась при свете приглушенного приемника, напряженная, вызывающая, с распущенными волосами, — маленький прекрасный злой зверек. Еще минуту назад она была так ласкова, податлива. Ее внезапная вспышка гнева приковала его к постели.
— Надеюсь, ты не пойдешь одна? — спросил он ее. — Ночью?
— Ну и что с того, что ночью?
— Ты не боишься? Пьяные…
— Пьяные. Ну и что с того, что пьяные? Может, они хорошие люди, получше, чем в этом доме.
Она и не думала шутить.
— Я хочу проводить тебя, Флора.
— А я не хочу! Сейчас мне хочется быть одной! Мне нужно быть сейчас одной!
«Раскаивается, — подумал он, — злится на себя, ненавидит себя за то, что сделала, хотя только что сказала: «Хорошо, что это уже у нас позади, уже произошло». Сопротивление измучило ее».
В напряженности ее тела теперь чувствовалась боль.
— Я боюсь только тебя, — добавила она и села возле него.
Равнодушными, сытыми глазами он глядел на ее стройные бедра, на ее нервное лицо, огромные глаза, в которых затаился глухой гнев. Она чего-то ждала, была полна смятения и беспокойства. «Говорят, — подумал он, — что в такой момент женщины, у которых чувства особенно остры, наперед знают, как все пойдет дальше». Он попытался встать.
— Нет, — она удержала его, — нет, нет и нет…
Она склонилась над ним и вглядывалась в него, хотя только что, посмотрев на часы, вскочила, сказав, что у нее нет ни минуты времени. «Те, что обрекают своих разгоряченных любовниц на возвращение в холодные квартиры их мужей…» — его почему-то преследовала эта фраза. Он не помнил, где прочел ее. Флора поцеловала его и ударила, положила голову ему на грудь и внезапно оторвала ее. «Раненый зверек, — думал он, — у нее уже ничего нет, она отдала все…»
Он попросил ее назначить следующее свидание, но она не согласилась, обещала позвонить.
— Меня трудно застать.
— Уж я-то знаю, когда тебя можно застать, я знаю о тебе гораздо больше, чем ты предполагаешь.
Он обратил внимание на эту фразу, но не потребовал объяснений, его уже не сердило ее упрямство, он просто не придавал ему значения, на его стороне было преимущество момента и ситуации; в таких условиях самые лучшие люди могут вести себя недостойно.
Он позвонил около одиннадцати и задал все те вопросы, которые полагалось задавать на следующий день. Каким-то не своим, фальшивым голосом он настаивал на свидании, но ему казалось, что там, в секретариате театра или где-нибудь в коридоре, в перерыве между репетициями, заслоняя трубку рукой, чтобы никто не услышал, о чем идет разговор, она отлично чувствует его неискренность. Она опять отказалась от встречи, отвечала уклончиво. «Ей нужны доказательства», — подумал он. Вечером он убедился, что неискренность в одиннадцать часов утра ничего общего не имеет с душевным состоянием в восемь часов вечера, с остальными часами вечера и ночи. Вечер и ночь, которые потом пришли, были наполнены Флорой, они были подобны лесному эху, которое сохранило и во сто крат усилило голос и дыхание первых часов любви. Он думал, что Флора позвонит назавтра около одиннадцати, потому что однажды она звонила в это время, но она не позвонила, не позволила связать себя ритуалом. На следующий день, несмотря на запрет, он позвонил сам — безуспешно; на другом конце провода никого не оказалось, дом словно вымер. В последующие дни он ждал, ни о чем другом не думая, ждал, Его окружала мгла, заслоняя собой все, что не было связано с Флорой. Его жизнь свелась к нескольким свиданиям с нею, состояла только из того, что было ею. На третий день, под вечер — уже стемнело, — телефон заговорил. Она сказала, что находится в двух шагах от его дома и хочет зайти.
— Если хочешь, пожалуйста.
«Вещи в предельном своем воплощении невыразимы, — подумал он, когда разговор был закончен. — Голос истинно влюбленных тоже не имеет выражения; выражение есть нечто искусственное, это лишь видимость вещи, а не сама вещь».
Она вошла, не глядя на него, и только минуту спустя посмотрела ему в глаза. Она почти ничего не говорила, казалась слабой, безвольной. А потом была горячей, нежной, влюбленной. Настоящую глубокую правду чувства отражает тело, только тело, и пусть возможности его ограничены, но они ограничены и во лжи. Позже, когда они лежали рядом, она сказала, положив голову ему на грудь, что немножко тосковала; даже очень, добавила она тут же.
— Но почему же ты не звонила? — Он поднялся с тахты, словно со дна ада, из которого она только что его вывела.
— Почему? — При слабом свете приемника, который она включила, как только вошла, он заметил гнев на ее лице. — А зачем? Ведь можно тосковать и не звонить… А ты, когда на тебя находит тоска, сразу звонишь? И в конце концов, откуда я могла знать, что ты этого хотел?
Он не отвечал, все еще чувствуя боль ожидания.
— Впрочем, я собиралась тебе позвонить.
— Ну и что?
— Увидела тебя.
— Ну и что?
— Ты притворился, будто не замечаешь меня.
Он опешил; то, что она сказала, могло быть правдой; в неистовстве ожидания он не замечал, что происходит вокруг, впрочем — он понимал и это, — в ней говорит упрямство, злость.
— А почему ты не подошла? Ты думаешь, я мог нарочно пройти мимо?
— А почему бы и нет? — усмехнулась она, внимательно глядя на него. — Почему бы нет? Переспал с девушкой и в долгу перед ней по гроб жизни? А почему ты молчал?
— Ты запретила мне.
— Да… Как-то вечером я звонила, а потом стояла под твоими окнами. Почему было темно?..
Она положила голову ему на грудь с доверчивостью собаки. Однако под конец, так же как и в прошлый раз, в глазах у нее появились злые огоньки. Она не позволила ему встать, не позволила себя проводить. Ушла одна.
Однажды вечером, месяц спустя — на крыше невысокого гаража против окон уже лежал снег, — надкусив яблоко (она всегда потом ела яблоко), Флора сказала ему:
— Мне надо тебе кое-что сообщить, кое о чем попросить тебя… давай некоторое время не будем встречаться. Посмотрим, нужны ли мы друг другу и насколько нужны. Я не одна, пойми это: я не одна.
Когда он воспользовался своим преимуществом сильного, она как будто забыла о только что высказанной просьбе, но, прежде чем уйти, вернулась к ней:
— Я не шутила, право, не шутила.
После ее ухода, взглянув на крышу гаража, он уже твердо знал, что она не шутила. На крыше гаража лежал первый снег всех времен, какие он помнил.
Ее звонки по телефону прекратились, он тоже не звонил, понимая, что не имеет на это права, что должен прежде всего разобраться в себе, заставить себя принять решение. Установилось состояние полной неопределенности; он не знал, расстались ли они ненадолго или навсегда; понимал, что она тоже проверяет себя. В этом состоянии неопределенности он ни на мгновение не переставал думать о ней, его зависимость от нее не исчезала. Он затаился в своей квартире, как в норе. Его работа об отце (известном художнике ушедшего поколения) совершенно не двигалась. Как все влюбленные, он жил у окна — все, у кого не улажены отношения с миром, торчат у окна, — глаза его все время были устремлены к двери, к телефону; он жил в ожидании, прислушиваясь, ища в тумане Флору. Он просыпался среди ночи с сознанием, что должен что-то предпринять, и обещал себе, что завтра непременно это сделает. Но назавтра откладывал срок исполнения, а ночью снова проваливался в пропасть.
Они не виделись уже две недели. Каждый день шел снег и каждый день таял. Бело-черная кашица лежала на больших пустынных площадях, не похожих ни на одну площадь в мире, на улицах, вдоль которых тянулись дома, словно только что сошедшие с картинки, стройки, годами стоявшие в лесах, и заброшенные, замшелые развалины. Такое сочетание придавало городу апокалиптический, жестокий облик. Отчаяние этих руин впиталось в кровь жителей города.
В тот день — это был сочельник — много народу пришло в клуб «на рыбу».
В просторном главном зале находилось несколько лож. Проходя мимо одной из них, Ясь почувствовал, как у него забилось сердце. Он услышал женский голос:
— Этот человек нас не знает.
— В самом деле, этот человек нас не знает, — подтвердил мужчина.
Ясь обернулся: за столиком сидели Бернард, Флора и ее муж. Впервые он видел Гольдмана при ярком свете и не мог решиться взглянуть ему в глаза.
— Не пей, Флора, — сказал Гольдман.
«Какой у него резкий голос», — подумал Ясь.
— Ты что, сдурел, Гольдман?
«Она ничуть его не боится», — снова подумал он.
— Может быть, моя жена вас скорее послушает? Может быть, вы ей прикажете, чтобы она не пила…
Ясь обратил внимание на эти слова.
— Прикажете? — надулась Флора. — Интересно, кто кому в этом обществе вправе приказывать.
Гольдман не сводил глаз с Яся.
«Он знает, — подумал Ясь, — и изучает меня. Почему у него такое странное выражение глаз?»
— Я вернусь через полчаса, — вдруг сказал Гольдман и встал.
— Гольдман вернется через полчаса, — подтвердила Флора. — Ты слышал, Бернард, мы уезжаем с театром, — обратилась она к своему соседу.
— Когда?
— На второй день праздника.
— На гастроли?
— С чего ты взял, что на гастроли? Навсегда.
— На веки веков, — засмеялся Бернард.
«Он тоже знает», — подумал Ясь.
— Муж просил, чтобы ты не пила столько, — произнес он; это были первые слова, которые он смог из себя выдавить.
— Какой муж? — она демонстративно повернулась в сторону Яся, словно только что заметила его. — Чей муж?
Она смотрела на его губы, а не в глаза. Упорно смотрела на его губы, потом подняла глаза, затуманенные чувственностью, что всегда поражало его. Она не была чувственна, ее страстность была не страстностью тела, а страстностью мозга, рождавшего идеи, которыми она мучила его. Раньше ему казалось, что такие рассудочные женщины не знают настоящей страсти. Теперь благодаря Флоре он понял, что только такие любят до безумия. Мысль сопротивляется сильнее, чем тело, ее труднее успокоить, разрядить ее напряжение.
— Ну скажи, какой муж?
Ясь молчал.
— О ком он говорит, Бернард?
«Они сговорились, — подумал он. — У нее нет секретов от него. Они были близки или близки сейчас?» Сердце у него сжалось.
— Бернард, — продолжала она, — о чем он говорит?
Они оба смеялись над ним, их забавляло его растущее смятение; а он падал все ниже. Они чокнулись.
— А что же ты, Ян, не выпьешь сегодня, даже сегодня, в сочельник? — Она снова посмотрела на Яся затуманенными глазами.
— Ты губишь себя, тебе нельзя столько пить, — глупо сказал он с мрачным видом. Он знал, что смешон, и помрачнел еще больше.
— А ты губишь людей, Ян, — серьезно ответила она, но тут же рассмеялась: — Ну, выпей же, ты — славянский овощной суп.
— С петрушкой? — спросил Бернард.
— С петрушкой, — тихо подтвердила Флора. — Ты слышал, чудак, что я послезавтра уезжаю?
— Может быть, — ответил Ясь. Он перестал понимать, что в нем сильнее — гнев или боль.
— Хорошо он это сказал, ты слышал, Бернард? Может быть, — она передразнила Яся; она удивительно ловко передразнивала.
— Хорошо, — подтвердил Бернард; он восторгался всем, что говорила Флора, глаза блестели у него за очками.
Флора повернулась к Ясю:
— Мы едем вместе со всем театром, поезд отходит в шесть.
— Ну и что?
Ему хотелось плакать, он с трудом сдерживал слезы.
— Ну и что? — подхватила она. — Так вот, если хочешь, Ясь, приходи в три минуты шестого — и я буду твоя. Ну как?
— Меня это не волнует, — ответил он; он был уже на самом дне. Бернард, рыча от смеха, целовал Флоре руки.
— Бернард, его это не волнует. Тогда, может быть, ты? Хочешь, я приду к тебе на всю ночь?
— Флора, я ведь женат.
— Ах, женат — ну, тогда на полночи!
Бернард держался за живот от смеха; для него это был спектакль. Ясь чувствовал, как у него кровь стынет в жилах.
— Сотрем в порошок Яся, да, Бернард?
— Тебе это будет трудновато, — ответил он, как дурак.
— Э нет, я вижу кое-что другое, — сразу изменив голос, сказал Бернард.
— Ты уже вернулся? — приветствовала Флора мужа, который глядел на Яся так, будто это он задал ему вопрос.
«Он знает», — снова подумал Ясь.
— Как ты себя вела? — Вопрос был обращен к Ясю.
— Безупречно, развлекала нас по-царски, — торопливо ответил Бернард.
— А вы держались молодцом, — повернулся Бернард к Ясю, когда Флора с мужем ушли. — Как она была великолепна, когда сказала, что отдастся вам в три минуты шестого, потому что в шесть уходит поезд. Я думал, что это куколка с ямочками на щеках, с голубенькими глазками, реклама для мыла, а она… девушка с характером. Умная, тонкая. Оказывается, бывают такие. — Как-то иначе, чем до сих пор, он посмотрел на Яся, у которого сердце все еще обливалось кровью и который не чувствовал себя в силах произнести ни одного слова.
Он обрадовался как ребенок, когда после праздников по чисто деловым обстоятельствам должен был поехать в Лодзь. Ясь считал, что им пренебрегли и выбросили за ненадобностью, как ветошь, и чувство собственного достоинства не позволило ему поехать туда без повода, ему был нужен повод по крайней мере для самого себя. Кроме того, он просто боялся, что, почувствовав, до какой степени он от нее зависит, Флора так его проучит, что ему не поздоровится.
Со своими делами он управился быстро. Оказалось, что они даже не требовали его приезда. Кто-то в чем-то усомнился, кто-то с кем-то поделился своими сомнениями, и, так как никому не хотелось разбираться в этой путанице, вызвали его. Через пятнадцать минут все разъяснилось, к общему удовольствию всех заинтересованных лиц, к тому же деньги на поездку давали не они, за все платило государство. Итак, Ясь был свободен и шел по улице, восхищаясь неразрушенным, уцелевшим городом. Каждый раз, уезжая из Варшавы, он словно впервые осознавал, в каком разрушенном городе живут варшавяне. Он не мог отделаться от ощущения, будто целые годы жил в конторе на территории огромной стройки, там же спал и ел, годами не выходя из нее и не подозревая, что живет в конторе, но стоило ему уехать, как он понимал, что эта контора стоит среди развалин. Лодзь вообще-то считают одним из самых некрасивых городов мира, но по сравнению с Варшавой Лодзь со своими целыми домами, целыми улицами, без апокалиптических площадей и огромных пространств, на которых нет ничего, кроме руин, казалась теперь райским уголком. Глядя на дома, насчитывавшие в лучшем случае несколько десятков лет и казавшиеся старыми по сравнению с варшавскими домами, Ян вновь убеждался в том, что все эти годы каждый день он оплачивал издержки войны и, видимо, не перестанет платить их до конца жизни. Варшава по сравнению с Лодзью производила впечатление города, пережившего атомную катастрофу.
Он вошел в кафе, где, как ему сказали, собирается местный театральный мирок, и сразу же увидел Флору. Она сидела у входа в обществе незнакомой ему женщины и какого-то молодого человека, огромного, как дом. Увидев его, Флора что-то сказала «дому». Гардеробщик энергичным жестом пояснил Ясю, что нужно раздеться, и не дал даже номерка, буркнув, что и так будет помнить. Ясь снимал пальто у нее на глазах, но Флора даже не кивнула ему, не пригласила сесть рядом. Он нашел место за соседним столиком, перед его глазами оказались их спины. «Это ради него она вычеркнула меня из своей жизни». Его терзала ревность. Флора и ее знакомые болтали, разглядывая входящих. Один раз Флора схватила «дом» за руку, но тотчас же отпустила. Сидели они недолго. Перед уходом Флора бросила Ясю улыбку, от которой он преобразился. Но медлительность официантки и гений гардеробщика задержали его, и он не догнал Флору. Он искал ее на улицах, заглядывал во все кафе — безуспешно. Через час он вернулся на то же место и у входа увидел Флору, она разговаривала с какой-то женщиной. Заметив его, она быстро попрощалась со своей собеседницей.
Они вошли в кафе и сели в задней комнате, которая постепенно пустела — приближалось время обеда. Флора дотронулась до его руки. Она сразу заговорила об их последней встрече. Сказала, что в сочельник напилась с отчаяния.
— Ведь ты не знаешь всего! Ты не можешь все знать! Да и откуда? Разве ты когда-нибудь был женой Гольдмана?
Напилась она потому, что был сочельник, и потому, что должна была уехать. Она думала, что он уже забыл ее, и обрадовалась, когда неожиданно увидела его в клубе. Даже Бернард заметил, как она изменилась в лице. Она многое хотела ему сказать и сказала бы, ведь она была сильно пьяна, но сперва помешал Бернард, а потом Гольдман увез ее домой. Она заснула, ведь она здорово устала, проснулась в половине седьмого и сейчас же позвонила ему. Ей так хотелось поздравить его с праздником; он единственный человек, которого ей хотелось поздравить с праздником.
— Ты даже не знаешь, как это важно… если ты можешь кому-то пожелать счастья… Ведь для того и существуют праздники. А где ты был? Где ты был в половине седьмого?
Ясь вспомнил, что как раз в это время вышел на минутку из дому, а до этого и позже как пес сторожил телефон.
— Наверно, сидел в своей конуре, смеялся и нарочно не поднимал трубку. Так было или не так?
— Флора! Флора!
— В первый и во второй день праздника, перед отъездом, я тоже звонила, не так часто — неоткуда было, все заперто, а дома был он.
Ясь лукаво попросил сказать, в котором часу это было. Опять совпадение — он вышел на минутку, она позвонила. «Совсем другие были бы у меня праздники, если бы она хоть раз застала меня».
— И отсюда я тоже писала.
— Я не получил ни одного письма.
— Ты и не мог получить.
— Почему же? Когда ты их послала?
— Я не посылала, я их рвала.
— Но почему?
— Опять «почему»? Не знаю, почему. Ты, конечно, человек просвещенный и не веришь ни в египетский сонник, ни в сны.
— Перестань издеваться.
— Я тоскую и начинаю писать, но процесс писания дается мне с таким трудом, что я перестаю… тосковать.
— Ты смеешься.
— Я совсем не смеюсь — я и так в театре всем надоела разговорами о тебе; там надо мной уже смеются.
— Умоляю тебя, не рви писем. Если бы ты их не рвала, все могло бы сложиться иначе.
— А как? — заинтересовалась она.
— Так, как у людей.
— Как это — у людей? У каких людей? Скажи ясно, как ребенку, как простой необразованной девчонке.
— Мы могли бы быть счастливы.
— Ты что, сдурел? Счастливая любовь. Да ты болван, могу поклясться, что ты круглый болван! Он хочет быть счастливым! Со мной нельзя быть счастливым, даже незаметная гримаса на лице любимого человека приводит меня в ярость, мне сразу хочется умереть! Счастливая любовь! Честное слово, ты ужасно глупый!
— Ну, не знаю.
— Чего же ты опять не знаешь? Счастливых людей нет! Боже мой, неужели ты даже таких пустяков не знаешь? Да, так как сейчас хорошо. Я тоскую, все время тоскую, — она понизила голос, — чего же еще желать?
Они остались совсем одни. Было жарко, как в бане, дым, причудливо изгибаясь, плыл в воздухе, официантка стояла у стены и смотрела в окно. Оказалось, что Флора прямо отсюда должна пойти на вокзал — встречать Гольдмана. Она обещала, что завтра будет свободна.
С момента прощания до следующей встречи Ясь не переставал терзать себя, вспоминая того молодого человека, которого он видел с ней в кафе. Он не успел даже спросить, как его фамилия. Он был убежден, что Флора живет у него и вовсе не из-за Гольдмана сегодня не может с ним встретиться. Он не мог простить себе, что не удержал ее силой.
Следующий день — последний день года — был сырым и теплым. Они условились встретиться там же, где вчера. В половине четвертого ее все еще не было. Ему не сиделось, и без четверти четыре он вскочил, в дверях столкнулся с ней, и они вместе вернулись. Сели на том же месте, где вчера, но в ее поведении не было и следа вчерашнего волнения, лицо ее казалось равнодушным, почти враждебным, она избегала его взгляда. Он не сомневался, что минувшей ночью кто-то умерил ее пыл, что все его подозрения обоснованны. До самого конца она сохраняла такой вид, словно не знала, зачем, собственно, пришла. Равнодушно объяснила, почему опоздала — должна была куда-то пойти с Гольдманом. Через два часа Гольдман уезжает, потом у нее спектакль. Она обещала сразу после театра прийти в гостиницу.
Он не пошел на спектакль. Она запретила ему; он никогда не смел приходить в театр без ее разрешения. И на этот раз боялся, что кто-нибудь из знакомых увидит его и Флора в наказание заставит его провести ночь в одиночестве. Он пошел к знакомым на чашку чаю, потом в кино. Когда он вышел, приближение праздничной новогодней ночи уже сказалось на облике улиц. Навстречу ему шли женщины в длинных платьях, видневшихся из-под меховых манто и жалких пальтишек; на площади Свободы, где сверкала большая елка, появились продавцы воздушных шаров, начал порошить снежок. До гостиницы было недалеко. В комнате Ясь еще раз проверил покупки; он условился с Флорой, что поужинают они не в ресторане гостиницы вместе со всеми, а в комнате, будут есть прямо «с бумажки». У него не оказалось никакой посуды, кроме стакана; он спустился к портье, который напомнил ему, что, согласно правилам, он должен освободить номер завтра в восемь утра. Ясь сунул ему деньги и попросил две рюмки. До прихода Флоры оставался целый час. Она немного опоздала, у нее были горячие губы, горячее тело; давно уж никто не утолял ее жажды, не умерял голода, она была как огонь, — огонь, рожденный голодом и жаждой, и он чувствовал это. В ней не было ничего такого, что сразу проявляется в человеке, который тебе изменил, охладел к тебе или хотя бы частично охладел. Лгать может душа, а тело не может. Ясь всегда очень чутко улавливал лицемерную ласковость рук, уставших от вчерашних объятий. Флора принадлежала ему, и никакие слова ему не были нужны.
Музыка, доносившаяся снизу, словно из другого мира, как бы служила фоном их чувству; они взбирались на высокую гору; утомленные, засыпали, и опять просыпались, и опять любили друг друга. Они произносили какие-то фразы, смысл которых сразу же терялся, слова исчезали в тумане. Ясь признался, что все время ее ревнует. Это ее очень удивило, а ее удивление в свою очередь удивило его; так, недоумевая, он засыпал, потом просыпался, вновь удивленный и — счастливый. Она сказала, что он неуловим и, может быть, в этом самое большое ее несчастье, а может быть, так и должно быть, потому что ей все-таки с ним хорошо. Ему пришлось повторить за ней, что все хорошо. В два часа она сообщила, что у нее больше нет ни минуты времени. Гольдман взял с собой в Варшаву «дом», но жена «дома» осталась. Она встречает Новый год в том доме, где они живут.
Она была довольна, что Флора отказалась пойти вместе с ней. «У дамочек всегда есть свои тайны и всегда одни и те же, но она наверняка каждую минуту заглядывает в мою квартиру, проверить, вернулась ли я». Флора не согласилась, чтобы он проводил ее:
— На улице светло как днем.
Когда она ушла, он погрузился в сон, как в теплую реку; сны ему снились совсем не такие, как всегда, он уснул счастливый. Однако около восьми проснулся с ужасной болью в сердце, его терзала нечеловеческая тоска. Он совершенно не ощущал близости Флоры, будто ее не существовало, будто они не должны снова увидеться через несколько часов. «Ее нет, она никогда не была моей, она не моя, все это обман». Необычайная тишина, в которую была погружена гостиница, усиливала его растерянность. Среди этой удивительной, ничем не нарушаемой тишины он прошел по вымершему коридору через вымерший холл в пустой ресторан, погруженный во мрак, в сон, длящийся не часы, а долгие годы, стены были увешаны цветными фонариками, некоторые из них еще не погасли с ночи; в открытые окна проникал мутный день и холод. Только в небольшой части зала был наведен порядок; он завтракал один в этом прибранном уголке, как на острове. В местной газете он прочел рецензию, полную злорадства по адресу Флоры. Он подумал, что этим, возможно, объясняется ее подавленное настроение вчера днем; ее могли предупредить. Они условились встретиться в двенадцать в том же кафе, что вчера; потом они собирались вместе пообедать. Но кафе было закрыто. Полчаса он стоял на улице, и снежинки таяли у него на лице, на губах. Вдруг он увидел себя, каким он был несколько лет назад, он точно так же, как и теперь, чего-то ждал, но где-то в другом городе, на другом углу. Он видел себя так ясно, будто на расстоянии нескольких метров стоял его двойник. И тогда тоже шел снег и улица была пустынной после безумств ночи. Он подумал; «Может, отсюда берется моя тоска — время, туман, туманы».
Он не дождался Флоры. Почти все рестораны были закрыты после вчерашнего буйного веселья, а в тех, которые были открыты, он ее не нашел. Она не играла ни сегодня, ни на следующий день, у него не было ее адреса, он вернулся в гостиницу, надеясь, что его ждет записка, но там ничего не оказалось. За обедом он принял решение. Вернулся в комнату, уложил чемодан, но не взял его. Еще раз обошел все рестораны — напрасно. Когда в гостинице портье снова ему ответил, что для него ничего нет, он сказал, что уезжает. Взял чемодан и пешком отправился на вокзал. Он вспомнил ее вчерашние слова: «Такие люди, как я, вообще не должны жить в этом мире».
«Кажется, несмотря ни на что, она любит Гольдмана», — подумал он.
Смеркаться начало рано, и, отъехав от вокзала, поезд окунулся в темноту. В купе Ясь был один. Через два часа он уже очутился дома. Одиночество пустой квартиры пугало его, и он спустился к соседям, этажом ниже. Обычная, светлая, хорошо освещенная квартира, дети, жена, собака, накрытый стол — да это верх счастья; хозяин дома — сорокалетний врач, румяный, с маленьким сочным ртом — вызвал у него искреннюю зависть. Когда жена на минутку вышла, Ясь спросил его:
— Послушай, а ты не страдаешь манией самоубийства?
— Не говори об этом, умоляю, не говори, — ответил толстяк. — Мне придется вправить тебе мозги, чтобы уберечь от хандры.
— У вас вид заговорщиков, — сказала жена, вернувшись в комнату.
Ясь сидел долго, насколько дозволяли приличия, но в конце концов пришлось идти домой. В полночь зазвонил телефон. Знакомый, приехавший из провинции, просился переночевать. Наутро с замиранием сердца Ясь глядел, как гость одевается. «Сейчас он уйдет и я останусь один. Если бы удалось его задержать!»
Молчание Флоры затянулось, она не писала, не звонила, не оправдывалась; гордость не позволяла ему во второй раз поехать в Лодзь, хотя ни о чем другом он не думал. В один прекрасный день он поступил так, как поступают все в подобных случаях, — убежал, уехал в горы.
Он провел бесконечную ночь в битком набитом поезде, в вагон влез через окно с помощью провожавшего его приятеля; этот же приятель кинул ему вслед чемодан. Ясь долго стоял у окна, всматриваясь в ночь, потом забрался на верхнюю полку и наблюдал за своими попутчиками, сбрасывающими с себя спортивные куртки, свитеры, брюки, рубашки, нижние сорочки. «Одна из главных причин того, что человек себя не знает, — подумал Ясь, — маска, создаваемая одеждой. Вся драма происходит между тем существом, в которое превращает себя человек благодаря одежде, и человеком в его природной наготе». Ясь долго не мог уснуть. Ему было холодно. Флора говорила ему что-то очень важное, он помнил ее слова еще недолгое время и после пробуждения. Храпели соседи. Утром он раньше других оделся и вышел в коридор. Как всегда, в поезде он чувствовал себя грязным, задыхался от преследовавших его запахов. Время от времени он опускал окно и жадно вдыхал свежий воздух. Они уже въезжали в предгорья, на вокзале толпились крестьяне в гуральских штанах, барашковых шапках, в лаптях. Устанавливался контакт между Ясем и новым пейзажем; отъезд из Варшавы приобретал очевидный смысл.
С вокзала, с его веселыми колокольчиками, снегом и синевшим вдали небом, Ясь поехал в пансионат «Промык», где заранее заказал себе комнату. По здешним порядкам было еще рано и дом спал. Горничная проводила его в маленькую гостиную, куда стекалось тепло всех комнат пансионата. Вскоре туда пришел Ксаверий, бывший помещик, теперь администратор пансионата. Ксаверий был одет в какое-то подобие мешка. Яся поразил его вид. С прошлого года волосы у Ксаверия побелели, лицо так почернело, словно кто-то вымазал его землей, а умыться не позволил. Только глаза по-прежнему были сияющие, чистые, большие, ореховые с желтоватыми белками. «Женщины с такими глазами обычно самые большие мерзавки», — подумал Ясь.
Он отправился в «свою» комнату — в ней он останавливался несколько раз, — поставил чемодан и сел на кровать. За окном на дорожке он увидел гураля, рядом, весело путаясь у него под ногами, бежал шпиц. Ясь снова почувствовал безысходную тоску, сердце, казалось, вот-вот разорвется. Глядя на собачку, он вдруг вспомнил, о чем говорила во сне Флора и что показалось ему таким важным — она сказала, что он нетерпеливый дурак и занят только своими переживаниями. Она не пришла на условленное свидание, потому что неожиданно приехал Гольдман, но Ясь-то зачем уехал? Через пять минут после его отъезда она была в гостинице; она так ждала этой встречи… Как он мог уехать?.. И вдруг Ясь понял, что приезд сюда — это нелепость и рассчитывать на помощь людей типа Ксаверия — безумие. Два дня спустя он вернулся в Варшаву.
Едва открыв дверь, он услышал звонок телефона. Тот, кто звонил так рано, наверное, пытался дозвониться к нему в самое разное время; только люди, уверенные, что никого не застанут дома, решаются на такие ранние звонки; если их захватят врасплох, они тут же положат трубку, как будто их поймали на месте преступления. На этот раз «человек» не бросил трубку. Они встретились в тот же день. На протяжении двух недель Флора вела себя совсем иначе, чем до сих пор. Должно быть, ее измучили страдания, на которые она обрекла их обоих. Теперь она заранее назначала свидания, они ходили в кино и в кафе, их отношения стали гораздо более естественными. И несмотря на это Яся не покидало ощущение, будто он ходит по поверхности озера, затянутого очень тонким слоем льда.
Однажды, когда она была у него, зазвонил телефон.
— Почему ты не берешь трубку? — спросила Флора.
Ясь собирался это сделать, никаких секретов у него не было, как вдруг он заметил, что у нее внезапно изменилось лицо — стало напряженное, злое, сухое.
— Почему ты медлишь?
Ее подозрительность доставляла ему жестокое удовольствие. Он засмеялся.
— Недостаток доверия… — начал он, не пытаясь сдержать смех. Глаза ее стали еще более злыми.
— Тебя это забавляет, да? — она указала на неистово звонивший телефон. — Тебе это нравится? Ты, наверно, часто так поступаешь?..
Ее недоверчивость в сопоставлении с действительностью была настолько нелепой, что он не мог не смеяться, а смех усиливал ее ярость; они не понимали друг друга, и оба не могли вырваться из этого замкнутого круга.
— И часто ты так поступаешь? Развлекаешься? Тебе кажется, что это очень забавно?
Он не отвечал, сейчас любые слова оказались бы неуместными; ей нужно было прежде всего успокоиться.
— Послушай, такое отсутствие доверия… — начал он снова и не смог сдержать смех, хотя видел, что его смех еще больше убеждает ее в том, что он не берет трубку потому, что это ему почему-то неудобно. Он падал все ниже, но не мог сдержать смеха, слишком нелепы были ее обвинения, а кроме того, его мужское самолюбие было удовлетворено до предела.
— Послушай, — снова заговорил он, — отсутствие доверия убьет нас! — Фразу он закончил с подчеркнутым гневом в голосе и… опять расхохотался.
Флора было заколебалась, но после этого нового взрыва смеха окончательно поверила в обоснованность своих подозрений.
— Убьет нас? — повторила она. — А почему бы и не убить? Почему ты так боишься смерти? Почему ты хочешь жить? Так страстно хочешь жить? Чтобы пить кровь? Пить чужую кровь? — говоря это, она улыбалась, но в улыбке ее не было иронии, одна только горечь.
«Да она меня любит по-настоящему», — вдруг пришло ему на ум; при этой мысли он стал серьезнее, но только на миг и снова залился смехом.
— Отсутствие доверия убьет нас!
Он вновь повторил эту фразу, в ней была правда, спасительная и для него и для нее. Но и на ее и на свое горе он не мог не смеяться. Все поступки Флоры до сих пор были крайним доказательством того доверия, какое она могла ему оказать, дальше могло появиться только сомнение. И оно появилось.
— А почему ты думаешь, что не убьет? — твердила она одно и то же. — Ты так любишь свою милую жизнь, которую оплачивают другие, за которую платят все, за исключением тебя. Все те, о ком ты никогда не думаешь, о которых не подумаешь, даже сидя там, — она показала на ванную. — Ты так любишь жизнь? А ведь все-таки придется тебе расплачиваться! Ты так доволен собой, а я ненавижу самодовольных людей!..
Он знал и чувствовал, что должен немедленно подавить в себе это жалкое самодовольство, ничтожное самодовольство минуты, за которым она не видела долгих месяцев его тоски, голода одиноких ночей, голода, нарастающего во всех клеточках тела, разрушающего мозг, низводящего его до того состояния, когда он не может породить ничего, кроме самых мелких, животных мыслей; он знал, что прежде всего должен сдержать смех, потому что ему придется расплачиваться за него, он знал это, но не мог справиться с уродством минуты, с ограниченными возможностями тела. И чувствуя, что стоит в преддверии конца, который через минуту засосет его, он повторял свое единственное:
— Капля доверия! Капля доверия!
— Нет, у меня к тебе нет никакого доверия! — крикнула она и вскочила с тахты с тем злым спокойствием, которое по временам пугало его. Он поднял трубку, но ему никто уже не ответил. Потом, когда Флора захлопнула за собой дверь, он подумал: «Возвращается время пустоты».
Все же наутро она позвонила и предложила встретиться:
— Я могу быть в пять часов в «Клавдии», если хочешь, у меня будет свободный часок; мне надо поговорить с тобой.
— Может быть, ты придешь ко мне, как всегда, тебе не кажется, что так удобнее, лучше?
— Нет, не думаю, я только хочу поговорить, — засмеялась она.
— А дома нельзя?
— Ты ведь знаешь, что начнется, если я приду.
— Что?
— Я хочу с тобой поговорить, есть у меня одно дело.
— Но почему не дома?
В том, что она позвонила, было что-то обнадеживающее, но в словах «хочу поговорить» он вновь уловил все то же начало конца, о котором уже не первый день беспрерывно думал. Повесив трубку, он, как на экране, прочел где-то в темном углу комнаты все то, что вечером ему скажет Флора, но через минуту уже ничего не помнил, озарение прошло.
«Клавдия» помещалась в подвале. Она занимала несколько темных клетушек, в которых краснота кирпича, смешиваясь с сажей, создавала впечатление, будто проворные трубочисты только что выгребли отсюда уголь огромными лопатами, а потом уже позвали гостей. После того как выгребли уголь и гости устроились на твердых скамейках за низенькими столиками, художники, притворившись детьми, размалевали стены в красный, желтый и белый цвет. Здесь всегда было полутемно, на столиках стояли свечи, воткнутые в горлышко бутылок, дожидаясь часа, когда прекратится подача электроэнергии, что часто случалось зимними вечерами в часы большого напряжения. В полутьме Ясь с трудом отыскал Флору, забившуюся в уголок. На ней был полушубок, наброшенный поверх костюма, который он раньше не видел, да и лицо у нее было не такое, как обычно.
«Чужая, другая, похудевшая, — подумал он. — Может быть, поэтому она выбрала этот темный погреб?»
— Вот и ты, а я боялась, что ты не придешь.
Она была чем-то очень взволнована. Говорила рассеянно, не обращала внимания на окружающих, не читала ему нравоучений.
— Я кое-что хотела тебе сказать, — снова повторила она; она уже несколько раз начинала с этой фразы, но всякий раз отвлекалась.
— В чем дело, Флора?
— Флора, — она передразнила его голос. — Я хотела кое-что тебе сказать.
— Ну, скажи.
— Но я не знаю, будет ли тебе это интересно.
— Не шути.
— Я не шучу. Я хотела поговорить с тобой об одном человеке.
— Каком человеке? — Он почувствовал, как почва уходит у него из-под ног.
— Я хотела с тобой поговорить об одном человеке… о пане Памеле.
— Как ты сказала, пане…
— Пане Памеле, пане Памеле, пане Памеле.
Он не поверил своим ушам.
— Ты знаешь, о ком я говорю?
Она смеялась вымученным смехом, звучавшим словно из-под стеклянного колпака. Выражение лица у нее было еще более ребячливое, чем обычно. По временам Ясю казалось, будто он видит ее впервые.
Пан Памела… Он не мог бы с точностью сказать, откуда взялось это женское имя: из книги, из газет, с вывески, может быть, это была фамилия знакомых из далекого детства. Сколько он себя помнил, он всегда писал это имя на обложках книг, на тетрадях, на салфетках, это была квинтэссенция бессмыслицы, темноты. Когда впервые вместо Флоры к телефону подошел ее муж и спросил, кто нужен, Ясь, растерявшись, сказал: «Не могу ли я поговорить с паном Памелой». С тех пор он каждый раз задавал тот же вопрос; ему хотелось создать видимость, будто звонят по похожему номеру и поэтому так часто происходят ошибки.
— Пан Памела, — усмехнулась она.
Ясь услышал паузу на том конце телефонного провода, ту паузу, которая каждый раз предшествовала ответу: «Вы ошиблись, здесь нет пана Памелы…» Он снова услышал эту паузу, непроницаемо плотную.
— Пан Памела пишется через два «л» или через одно? — Ее губы скривила болезненная гримаса. — Он все знал с первой же минуты, у нас нет тайн друг от друга. Впрочем, ему все можно сказать, он ничему не удивляется и слишком много понимает. Он слишком много видел в своей жизни.
Она характерным движением подняла брови и поглядела куда-то в пространство, словно хотела оторваться от материального мира; гримаса сделала более резкими черты ее лица. Все это Ясю было знакомо, все это появлялось в те минуты, когда она начинала говорить о муже, которому с ним изменяла. Он почувствовал ревность. Он знал, что в такие мгновения, когда она далека от чувственного голода, все лучшее, что в ней было, «неподвластное телу», высказывалось в защиту обманутого мужа. Она прощала ему даже то, что по его милости ее зовут Флорой Гольдман. Она понимала обездоленность Гольдмана, он был ничтожным актеришкой, игравшим выходные роли и обреченным играть эти роли до конца жизни, человеком, которым все помыкают в их маленьком, тесном мирке, даже не помыкают, а попросту не замечают, не считаются с ним. В такие минуты Флора обнаруживала величие в слабости, величие в ничтожестве, величие этого чужого человека, который не переставал быть ей чужим, хотя был ее мужем. В такие минуты, говоря о муже, Флора давала оценку не только себе, но и Ясю. Ревность Яся была тем сильнее, что в душе он и сам восхищался Гольдманом, завидовал ему, ибо тот умел ничего не хотеть.
Однажды вечером она, как обычно, спросила его — трудно было понять, в шутку или всерьез, — что он думает об измене.
— Все говорят, что ты интеллигент, хотя и добавляют, что до твоего отца тебе далеко. Скажи мне, как ты думаешь, измена — это что-то серьезное?
— Какая измена? — спросил он.
Она не помнила себя от гнева.
— Все люди… — начал он.
— Что значит все? Кто это все?.. — Она не хотела больше слушать его. — Кстати, — заговорила она снова, немного погодя, — как они красиво это называют. Откуда только они берут такие красивые слова? Наверно, долго искали. Изменяешь не столько другому человеку, сколько себе, прежде всего себе. (А ты кому изменяешь? Может быть, подать тебе телефонную книгу?)
— Это ты о Памеле?.. — спросил он.
Она перебила его:
— О Памеле он сказал мне сразу…
«Значит, с первой минуты, — подумал он, — мы любили друг друга с его ведома? Так вот откуда берется постоянный панический страх в ее глазах, странности, которых я никак не мог понять?»
Она взяла его руку.
— У тебя красивая рука, — сказала она, — у тебя красивая форма головы, красивые глаза, у тебя все свое, родное! Ты весь тех же цветов, что и я. Такой же точно славянский тип.
Она так смотрела на него, словно хотела запечатлеть в памяти его черты. Он вспомнил, что вчера она так же всматривалась в него, даже зажгла свет; положила его голову себе на грудь, была как-то по-особенному ласкова.
— Ты не представляешь себе, какой покой затаен в родных цветах. Чужой цвет — это враг, это чужой, жестокий бог. Послушай, теперь я должна решиться, должна… — закончила она с отчаянием в голосе.
Несмотря на это, она продолжала смотреть на него с удивительной мягкостью в глазах. Ему хотелось спросить, почему все не может оставаться по-старому, но боялся, что такой вопрос вызовет ее гнев. Впрочем, он знал, почему все не может быть как прежде, слова Флоры были совершенно ясны, ее поведение все объясняло. Но некоторое время спустя он вдруг перестал понимать, о чем вообще идет речь и чего она на самом деле хочет. Ему показалось, будто он видит дорогу между деревьями, и хотя он был уверен, будто хорошо ее знает, приглядевшись, убедился, что, быть может, когда-то ее и знал, но дорога, на которой он оказался теперь, совсем другая, вовсе не та.
— Послушай, сейчас я должна принять решение. Сейчас мне нужно помочь, — сказала она тихо, совершенно беззвучно. И опять она усмехалась, словно из-под стеклянного колпака.
Он ясно слышал, как она еще раз повторила, что нуждается в его помощи. И снова через мгновение все понял, знал, как должен поступить, что должен ответить ее усталому личику, ее нежным глазам; он знал все, смотрел на нее с настоящим и сильным волнением, но молчал. В этом затянувшемся молчании все постепенно теряло яркость, благородство, становилось фальшивым.
Минуты тянулись, как годы. С удивлением он вдруг услышал, как Флора рассказывает ему о каких-то шляпах.
— Ты ведь знаешь Клару, ту самую, что всегда ходит в огромных шляпах, это я о ней говорю.
Сквозь эти шляпы, как сквозь темный, тесный коридор, он мысленно возвращался к предыдущему рассказу Флоры о какой-то ее подруге, тоже актрисе, муж которой, влюбленный в нее без памяти, вместе с любовником поехал ночью кататься на лодке; ни один из них не вернулся. Ясь даже не был уверен, рассказала ли ему это только что Флора, или он где-то об этом читал.
— Ты не знаешь Клары? Ты же знаешь ее! — Он снова увидел перед Собой рассерженные глаза Флоры и не понимал, почему она злится. Ему ужасно мешал табачный дым.
Флора постучала по крышке столика, появилась официантка. Флора полезла в сумочку — она никогда не позволяла платить за себя. Ясь смотрел на все это, как во сне. Официантка отошла.
— Интересно, да? — внезапно спросила она его.
— Что интересно?
— Ведь я рассказывала тебе интересные вещи… Ну, об этих… шляпах.
Она ушла, невзирая на его уговоры, ушла, оставив его, как в дурмане. Он просидел еще несколько минут один. Потом тоже ушел, бросив взгляд на бумажную салфетку и обнаружив там три слова, написанные им: Памела, и ниже: Смерть Памеле. Он всегда писал эти три загадочных слова в таком порядке.
Единственным местом, где он теперь мог видеть Флору, был театр. Она играла Миранду в «Буре» Шекспира. Когда-то, в самом начале, он сказал ей: «Раз ты такая нервная, старайся сдерживать себя, если ты дашь себе волю — получится истерика, если ты овладеешь собой, будешь потрясать зрителя». Глядя на нее сейчас, он чувствовал, что время от времени она вспоминала его советы, но, устав, давала волю природе, которая всегда оказывалась сильней ее. Вот и ее отношение к отцу, божественному Просперо, по-прежнему было чувственным, к нему примешивалось что-то сексуальное, дочь так не относится к отцу. Ясь и на это когда-то обратил внимание. Играя, Флора все-таки становилась похожей на большинство девушек. Анкета, проведенная в одной из провинциальных школ среди учениц старших классов, показала, что семьдесят пять процентов из них уже стали женщинами. В послевоенные годы чистота не пользовалась популярностью. На городских свалках валялся прекрасный и таинственный цветок природы — девственность. Девочки даже не знали, что можно быть в каких-то других отношениях с мужчиной. Немногочисленные моралисты что-то проповедовали тонкими, слабыми голосками, неуверенными и неубедительными; их заглушали проповедники грубой чувственности, они считали, что ветер дует в их сторону, и не помнили себя от спеси. Вот и Флора гладила руки отца так, будто это были руки любовника.
Однажды мартовским вечером он зашел в клуб, где не был с декабря; века отделяли его от того разговора с Флорой, при котором присутствовал Бернард. Ясь не любил клуб по многим причинам и редко приходил сюда. По понедельникам вечера здесь были особенно людные, театры не работали и свободные актеры начинали вечер в клубе, и уже отсюда отправлялись в дальнейшие странствия. Ясь не без колебания переступил порог клуба; сюда приходило довольно много людей, один вид которых был ему неприятен, — обычная история в своем узком кругу. С трудом он нашел свободный столик. Усевшись, с радостью обнаружил по соседству две родные души — молодого актера Миколая и Эмилию; они сидели напротив в большой компании и сразу же приветливо помахали ему.
Эмилия отняла у него несколько лет жизни, хотя ни он, ни она не любили друг друга, а потом она ушла из его жизни, как сквозь открытую дверь. Определение: «Они не любили друг друга» — никак не характеризует их отношений; им было хорошо вместе, по временам даже очень хорошо, они не ссорились, напротив, даже в последний день их отношения были точно такими же, как в первый. Но Ясь все время чувствовал, что ждет кого-то другого. Они много раз расставались и снова сходились, пока Флора надолго не разлучила их.
Глядя на Эмилию, можно было поклясться, что это ангел. Взгляд, лоб, рот, овал лица, манера поведения очаровывали своим сладостным покоем. Она держала себя, как принцесса, получила прекрасное воспитание, умела притворяться равнодушной, когда страсти сжигали ее, говорить на самые отвлеченные темы, когда ее снедало жгучее любопытство. Ее отношения с людьми ей совершенно безразличными могли служить образцом хорошего тона, такта, коварства и умения владеть собой. Но так она держала себя, только пока была трезва; в пьяном виде она безо всяких церемоний выкидывала такие номера, на которые не решилась бы ни одна девка. Ясь не сразу разобрался в ее характере. Царственное спокойствие, умение владеть собой, деликатность были результатом ее равнодушия ко всему. Она жила, подчиняясь одному богу — богу чувств. Она верила, что настоящая любовь основывается на физической тайне, в особенности у женщин, для которых важнее всего голос плоти. Сама Эмилия искала эту тайну у многих. Всегда зная, чего хочет, она была опасна для тех, кто принимал всерьез ее минутные чувства и пытался удержать ее — таких ей легко было сломить. Ясь оказался исключением, впрочем, он был сильнее ее, и она это знала. Как и все люди, которые ставят перед собой прямую цель, она без всякого труда наладила жизнь так, что окружающие считали ее образцовой женой и матерью. Сейчас ей было тридцать лет, и она нисколько не походила на тех попрыгуний, которые так любят развлекаться. Она была представительницей другого времени, на ней лежал отпечаток ослепительной женственности, характерный для мира, далекого от наших дней. Когда Ясь окончательно разобрался в характере Эмилии, он решил, будто все о ней знал с первого дня, будто все вычитал в ее ангельском личике, в ангельском мягком голосе, нежном, деликатном, слабом и безвольном, в ее мягком взгляде, в ее губах, в ее походке. Расставшись с ней, Ясь не испытывал ни малейшего сожаления, и она тоже — как ему казалось. С тех пор как он был с Флорой, встречи с Эмилией — они виделись несколько раз, впрочем так же случайно, как и сегодня, — доставляли ему особенное удовольствие, он любил изливать перед ней душу и внимательно выслушивать ее ответы и советы. По его мнению, женственность обладает своими тайнами, ключ к которым есть только у женщин, хотя Ясь и признавал их неполноценность: великолепно разбираясь в мужчинах, они не замечают женщин.
При виде Эмилии у него стало теплее на душе. С улыбкой он наблюдал за тем, как, заметив его, она стала вырываться из цепких рук своих друзей, которые, смеясь, пытались удержать ее. В конце концов она убежала от них и села рядом с Ясем. Вблизи, как и издалека, она выглядела совсем не так, как все вокруг; на ее лице оставили следы недели, проведенные под горным солнцем; люди, побывавшие под мартовским горным солнцем, всегда кажутся в городской толпе принадлежащими к другой расе.
— Ах, Ясь, — сказала она, как всегда тихо; она редко повышала голос, — там было безумно весело, такого оживления не припомнят и старики; все говорят, что подобного сезона Закопане еще не видывало. Мы тебя ждали. Почему ты не приехал? Мы ждали тебя каждый день.
— Я не мог.
— Безумие, везде толпы народу, на Каспровом, на Губалувке, на Крупувках, в кафе приходилось дожидаться столика; чтобы попасть в ночной ресторан, нужно было кому-то сунуть в лапу. Каждую ночь мы ложились в три, вставали в одиннадцать и хоть бы что, горы… Ну, а как твои дела?
Он не понял вопроса и не ответил. «А может, вернуться к Эмилии, — мелькнула у него мысль. — Почему, в самом деле, я ее оставил?»
Миколай, сидевший напротив, был такого же шоколадного цвета, как Эмилия; значит, они там были вместе. Эмилия не смотрела в его сторону, но Миколай не спускал с них глаз.
— Они тоже были там, — сказала она. Его удивила внезапная перемена в ее голосе. — Они были там вместе в начале, — повторила она; он не был уверен, что правильно понял, кого она имеет в виду, и чувствовал себя неловко. — Я тебе говорю, что они были вместе в «Промыке», а Ксаверий ждал тебя со дня на день; это он пустил слух, что ты должен приехать… Я тебе скажу — безумие! Каждый день что-нибудь новенькое, новые флирты, новая расстановка сил, а они… сидели у окна. За столиком у окна — одни. На дальнюю прогулку — одни, на Губалувку — одни… Перед самым обедом звенят колокольчики, они вылезают из санок, приехали с прекрасной прогулки. Он входит первый, она еще прихорашивается в холле и вбегает с улыбкой, садится у окна, ноготками гладит его руки. После еды они сразу же уходят к себе, не принимают участия ни в одном общем развлечении, в гостиной не показываются, влюбленные всегда одни на свете…
Он уже знал, о ком идет речь; теперь его только поразила суровость ее тона, суровость без тени злобы.
— Гольдманы переживали свой новый медовый месяц! Я не раз думала: привезу тебе трость-топорик на память, ты спас семью, примирил еще одних супругов…
И, однако, он понимал не все, что она говорила; он относил это за счет своей рассеянности; должно быть, он пропустил мимо ушей часть ее рассказа.
— Ясь, послушай, какая несчастливая была их любовь! Теперь все ясно, они хотели спастись! Она, особенно она! Но зачем я тебе все это рассказываю? Ведь ты все уже знаешь?
Он не прерывал ее, ждал.
— Когда он уехал, она собрала вещи и пошла на горную базу, и там… — она не договорила. Ясь невольно вздрогнул. — Однажды она ушла с базы и — не вернулась. И не вернулась до сих пор…
Она внимательно смотрела на него, а он — на нее; ему казалось, что она шутит, что сейчас она возьмет свои слова назад, рассмеется, тем более что легкая, едва заметная улыбка все время блуждала у нее на губах. Но хотя улыбка и не сходила с ее губ, она не рассмеялась.
— Не вернулась до сих пор. Это было десять дней назад, я приехала вчера… Никаких следов, ничего… ничего… Говорят… только в мае, когда стает снег. Я была там с Миколаем, ты спросишь его потом. Заведующий базой, тоже Миколай, рассказывал нам: она много раз ходила на лыжах в случайной компании. Держала себя совершенно просто, спокойно. В тот день на базе никого не было — какая тишина на этих пустынных базах! — она пошла одна, должно быть, часа в три, в половине четвертого, падал легкий снежок. Метель разгулялась только под вечер. И больше не вернулась…
— Как ты сказала?
— Ты что? Разве я первая тебе об этом рассказываю? Ты ничего не слышал? Не смейся надо мной…
Прошла, быть может, минута.
— Говорят, что весной, когда стает снег…
Снова молчание.
— Миколай, не этот, а другой, сказал, что она ушла уже с таким намерением. Она была слишком спокойна.
— Почему? — тихо спросил он.
— Миколай говорил, что она безумно хотела быть белой.
— Как это — белой?
— Она так говорила, я и сама не знаю, что это значит. Вероятно, она попросту хотела вести порядочную жизнь, иметь дом, мужа, которым могла бы гордиться. Она выросла в бедности, воспитывалась где-то на Люблинщине, с детства помнила запах дыма, сладковатый, тошнотворный запах, в соседнем лагере жгли узников. Она начисто забыла об этом. А когда вспомнила, то была уже пани Гольдман и — за тысячу километров отэтой своей белизны. Белизна — это ее слово. Она была от тебя беременна, это ты, конечно, знаешь? Впрочем, ты ведь все знаешь и я напрасно дурака валяю!.. Она хотела родить тебе ребенка. Гольдман был на все согласен. Но однажды она поняла, что на пути к своей белизне она увязла в чудовищной грязи, и она избавилась от ребенка и почувствовала себя еще грязней; какая-то одержимость!
Молчание.
— За несколько дней до того, как уйти на базу, она сказала Миколаю, что ей нужны высокие снега, чтобы обмыть себя… Она растворилась в снегу. Вышла навстречу снегам — и нет ее. Красиво.
Молчание.
— Ты знаешь, что она когда-то изрезала себя ножом? Ей тогда было шестнадцать лет, она влюбилась в одного парня. Потом она сказала себе: если я знаю, что в любой момент могу покончить с собой, то могу жить…
Молчание.
Первое время — до того как Флора начала приходить к нему. — Ясь был олицетворением жажды и ожидания, его можно было сравнить с домом, где открыты все двери и окна. Он долго боролся с собой, прежде чем заговорил. Быть может, целую минуту он не мог унять биения сердца, ему казалось, что он потеряет сознание у телефона. У него не было сил продолжать разговор, он с величайшим трудом произносил какие-то отдельные слова; счастье еще, что их разделяло расстояние. Когда наконец он выдавил из себя просьбу о встрече, то услышал отказ, смягченный фразой: «Позвоните как-нибудь в другой раз».
Спустя несколько дней под вечер он вышел из дому: был октябрьский вечер, теплый, свежий после дождя, в лужах отражались первые огоньки — он всегда любил ранние огни осенних вечеров. Впервые после знакомства с Флорой он почувствовал облегчение в душе; он начинал забывать, начинал мириться с поражением и почти перестал страдать. Часто так бывало: когда он уже опускался на самое дно и, казалось, никогда ему оттуда не подняться, вдруг без всякой видимой причины — для этого достаточно было теплого ветерка или клочка звездного неба — к нему возвращалась радость жизни, он чувствовал себя наново рожденным, счастливой частицей великой гармонии всей природы. В тот вечер, когда он увидел первые звезды на небе, первые огни витрин, отраженные в лужах на тротуаре, людей, двигающихся почти бесшумно, совсем не так, как всегда, он пережил нечто подобное. Он прошел не больше двухсот шагов и вдруг столкнулся с Флорой. Она стояла, разглядывая жалкую витрину частного сапожника, который поставил себе целью удовлетворить тоску по парижской моде в этом бесчеловечно разрушенном городе. Она созерцала коробку с одной-единственной парой дамских туфель на высоких каблуках; сама витрина была скорей рекламой стекла и света. Флора стояла, уткнувшись подбородком в воротник пальто, и не видела его. Он взял ее под руку. Подняв голову, она взглянула на него широко от крытыми глазами, которые потом всегда казались ему неиссякаемым источником слез, хотя он никогда не видел ее плачущей. Он чувствовал, что она дрожит. Бурные, почти черные тучи набегали на темнеющую синеву неба. Они свернули в неосвещенный переулок и стали целоваться. После этого безумного порыва каждый чуть более светлый отрезок улицы они проходили в сосредоточенном молчании.
После часовой прогулки они оказались возле ее обветшалого унылого дома, одного из немногочисленных домов, которые пережили две войны, освобождение и революцию. Остановившись на некотором расстоянии от дома, Флора вынула из сумки пудреницу и попыталась привести в порядок свои прекрасные медные волосы, выбивавшиеся из-под бархатного берета. Облизнула припухшие губы. Не подымая глаз, сказала: «Когда я прихожу домой с распухшими губами, он сразу догадывается».
«Шлюха», — подумал тогда Ясь…
— Быть может, ты сумел бы вернуть ей белизну, но свою белизну ты искал где-то в другом месте. Ты ведь тоже из тех, что гонятся за белизной. Только тебе не нужны высокие снега, чтобы обмыть себя, — горько рассмеялась Эмилия. — А я боялась, что вы подойдете друг другу! А я-то боялась, что вы подойдете друг другу!
Ее горький и злой смех все еще звучал.
Ясь увидел, как Миколай встает из-за столика с явным намерением подойти к ним. И прямо позади Миколая он увидел Флору — ту, какой она была в первый вечер у него в комнате.
1959
Составитель В. Борисов
Предисловие А. Марьямова
Редактор М. Конева
Художник Юрий Васильев
А. Рудницкий
ЧИСТОЕ ТЕЧЕНИЕ
Технический редактор В. И. Беклемищева
Корректор А. В. Шацкая
Сдано в производство 12/1II 1963 г. Подписано к печати 10/VI 1963 г. Бумага 84×1081/32= 6 бум. л. 19,7 печ. л. Уч. — изд. л. 19,9. Изд. № 12/1440 Цена 1 р. 15 к. Зак. № 160
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, 1-й Рижский пер., 2
Московская типография № 8 Управления полиграфической промышленности Мосгорсовнархоза Москва, 1-й Рижский пер., 2
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
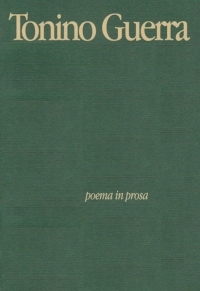





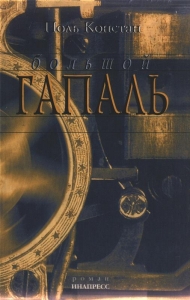
Комментарии к книге «Белая», Адольф Рудницкий
Всего 0 комментариев