Издательство благодарит Канадский совет по искусству и Министерство иностранных дел и внешней торговли Канады за помощь в издании этой книги.
Впервые в России выходит новая книга Нэнси Хьюстон, признанная критиками вершиной творчества знаменитой канадской писательницы, живущей во Франции. В этом виртуозно выстроенном романе, который сравнивают по психологической насыщенности с фильмами Ингмара Бергмана, одним из рассказчиков выступает сам Господь Бог.
Дольче агония
Моим друзьям, живым и мертвым
Тебе, Ё.Т., только что одолевшему бездну
Это обычный воздух, омывающий мир.
Уолт УитменДа будет, мой дружок, твоя агония сладка!
Печать неотвратимого уже доступна глазу!
Грег«В последний раз, — промолвил Бог, —
берись, ЛЮБОВЬ, за дело».
Крылом задергал ворон, зевнул, рыгнул —
и тут
Лихая человечья Голова, совсем одна,
без тела,
Проклюнулась из недр, в кровавой пене вся,
И, выпучив глаза, пошла нести невнятицу.
Тед ХьюзДа, я сделала Бога персонажем моего романа… Для меня Он подобен писателю, которому кажется, будто выдуманные им герои живут своей жизнью, не слушаясь его.
Нэнси ХьюстонГлава I. Пролог на небесах
Я всегда стараюсь держаться скромно, когда встречаю создателей других миров. Восхищаюсь красотой и сложностью их творений, не хвалясь совершенством своих… Но, что до меня, не могу не признать, что мое создание превосходит все прочие, ибо лишь мне одному удалось измыслить нечто столь непредсказуемое, как человек.
Что за порода! Когда я смотрю, как человеческие существа проходят свой земной путь, это подчас так меня увлекает, что я почти готов в них уверовать. Меня одолевает невероятный соблазн предположить у них свободу воли, независимость суждения, автономность. Я прекрасно знаю: это всего лишь иллюзия, несуразное наваждение. Свободен только я один! Каждый поворот, изгиб их судьбы заранее предначертан, мне ведомо всё: цель, к которой они стремятся, пути, что они выберут ради ее достижения, их самые потаенные страхи и надежды, их прирожденные свойства, интимнейшие механизмы их сознания… И все же, все же… они не перестают меня изумлять.
Ах, мои бесценные человеки… Как они топчутся на месте, как увязают в грязи — загляденье! Слепцы, слепцы… они всегда готовы надеяться, бредут на ощупь… Им только бы любой ценой поверить в мое милосердие, понять свою судьбу, угадать, каковы мои планы на их счет… Да, они, бедняги, никак не перестанут искать во всем этом смысл! Стоит мне только устроить им свиданьице с рождением или смертью, и они сразу воображают, будто уловили нечто. Всякий раз это для них встряска. Аж до мозга костей пронимает.
Взять хотя бы группку мужчин и женщин, что собрались в День Благодарения провести вечерок в гостях у Шона Фаррелла. Ничего выдающегося в них нет, даром что каждый мнит себя центром Вселенной (такова одна из умилительных причуд рода людского). Их не назовешь ни особо привлекательными, ни слишком странными, ни чокнутыми. Почти у всех в этой компании белая кожа, почти все уже не молоды, принадлежат к иудео-христианской культуре и балансируют между агностицизмом и атеизмом. Многие из них рождены в другой части света, но вот собрались на вечеринку в восточном конце той кочки на земном шарике, что вот уже не то два, не то три столетия зовется Соединенными Штатами Америки.
Почему я выбрал эту, а не какую-нибудь другую историю? Именно этих персонажей, это время и место? Ба! Пусть книга моих творений читана мной и перечитана без изъятий, вдоль и поперек — все же и у меня в земной человеческой истории тоже найдутся свои изюмины, особо милые сердцу эпизодики. Столетняя война, к примеру. Смерть Клеопатры. Обед у Шона Фаррелла в День Благодарения, circa 2000[1]… Здесь не стоит искать резонов. Могу сказать одно: уйма мелких совпадений и пустяковых неожиданностей, вместе взятых, превратили эту вечеринку в поэму. Красота внезапности. Внезапность драмы. Вспыхивающие, как порох, сердца, петарды смеха.
И вот, прежде чем занырнуть in medias res[2] в компанию незнакомцев, да будет мне позволено составить их краткий именник, чтобы определить первоначальные ориентиры.
Прежде всего: Шон Фаррелл. Родился в 1953 году в Ирландии, в графстве Корк. Поэт, преподаватель стихосложения в университете.
Основной кружок состоит из тех, кто знает и любит Шона. Двое — его коллеги с кафедры английской словесности: романист Хэл Хезерингтон (родился в Цинциннати в 1945-м) и Чарльз Джексон, поэт и эссеист (родился в 1960-м в Чикаго). Еще двое — бывшие любовницы: Патриция Мендино, секретарша (1965 года рождения, Южный Бостон), и Рэйчел, преподаватель философии (Манхэттен, 1955). Трое познакомились с Шоном на профессиональной почве и стали его более или менее близкими друзьями: его адвокат Брайан (родился в Лос-Анджелесе в 1953-м), Леонид Коротков, его домашний дизайнер (родился в 1933-м в Шудянах, Белоруссия), и его булочник Арон Жаботинский (1914, Одесса, Украина).
Гости, входящие во второй кружок, суть те, кто пришел к Шону праздновать День Благодарения в основном потому, что туда пригласили их мужей или жен. Такова Кэти, жена Леонида, она держит магазин кустарных изделий, родилась в Пенсильвании в 1948 году, то же касается Дерека, супруга Рэйчел и тоже преподавателя философии, уроженца Метьючена, что в Нью-Джерси, год рождения 1954-й; Бет Реймондсон — жена Брайана, врач, родилась в 1957 году в Хантсвилле, штат Алабама, Хлоя — новая жена Хэла, родом из Ванкувера, год 1977-й (о роде ее занятий я в нужный момент сообщу), с ними их одиннадцатимесячный сын Хэл-младший.
Итак, вот они собрались в этой истории, которую романист поведал бы в манере, что так любезна смертным: с конфликтами и эффектами, с кульминацией и развязкой, с трагическим либо счастливым финалом. Хотя, с моей точки зрения, ничто не бывает «завершено» никогда, нет ни концов, ни начал, а лишь подобие круговорота, пульсации, нескончаемого переплетения причин и следствий… Посему, и это вполне очевидно, повествовательные ухищрения не в моей натуре. Не по мне растягивать изложение событий, выпячивать одни детали и извлекать из их сердцевины другие, продлевать томительную неизвестность. Если принять за данность, что время изобрел я, то для меня все его моменты суть настоящее, они синхронны мне, и я могу единым взглядом обозреть вечность. Усвоить человеческое понятие времени для меня изнурительная задача: придется замедлять его, грубо тормозить, цедить слова по капле, одно за другим. Язык — до смешного неуклюжий инструмент…
И все же попробовать хочется.
Ладно.
Прольем, ежели вам угодно, некоторый свет.
Mehr Licht![3]
Fiat lux![4]
Глава II. Приготовления к ужину
Жарким несет по всей квартире, вот так пахнет боль. Ароматы доброй кухни, думает Шон, с тех пор как ушла Джоди, донимают меня еще пуще, они и всегда мучили меня, во всех домах, где бы ни жил, особенно мясо, бабушкино говяжье рагу в Гэлоуэе, мамин куриный бульон в Сомервилле, оссобуко[5] Джоди, дымок жареного мяса всякий раз растравляет страдания, прямо судороги тоски; вот войти в дом и умять мясное блюдо — это еще куда ни шло, но вдыхать его запах во все время стряпни — сущая пытка, и дело не в голоде, а в пронизывающей, до отчаяния доводящей ностальгии, она сто раз в самое нутро заберется, пока там индейка в собственном соку покрывается золотистой корочкой, извращенно манящие посулы тепла, доброты, счастья, простые радости очага, все то, чего не заполучить, чего никогда не имел, даже в детстве.
Здесь давным-давно никто не стряпал. Не делал того, что называется кухарничать. Запах опять, снова он, этот запах. Ах, как бы отвлечься, думать о чем-нибудь другом, Господи, только начало третьего, придется вытерпеть еще часа четыре, чертова птица огромна, двенадцать кило: «Весит, как трехлетний ребенок!» — это Патриция только что так сказала, горделиво взгромоздив ее на стол, раздвинула ей ляжки и полными пригоршнями заталкивала в нее фарш… Угощением для вечеринки занимаются Кэти и Патриция, а Шон все мыкается, томится, он не предвидел этой бесконечной адской проволочки с божественным ароматом индейки в стадии приготовления, эх, скорее бы стемнело…
Сосредоточимся на бархатистости, это мысль. Пойло должно быть бархатистым. Тут важно найти правильную дозу. Не отмерять, нет, он никогда и ничего больше не желает мерить, а просто держаться на хорошем уровне, не терять состояния бархатистости, ни в коем случае. На палец, два пальца, три, ага, вот так. Золотистая влага покоя. Сигарета славная, едкая. Отлично. Легкий вздох. Покашливанье. А теперь полистать «Нью-Йоркер». Одна из юмористических картинок заставляет его громко фыркнуть, и Пачуль, подбежав, трется мордой об его колено, дает почесать за ухом. Однажды Шон тоже придумал шутку, хотел послать в иллюстрированный журнальчик: «Вашу пиццу украсит горчица — лей, бах!» — там была игра слов, как бы реклама горчицы из Лейбаха, но Джоди его отговорила, сказала, что такой тупой каламбур никто проиллюстрировать не сможет. У них тогда уже шло к концу, в первые месяцы их совместной жизни она ни за что бы не употребила слово «тупой» по отношению к нему — и ни к чему из того, что он днем или ночью мог сказать, написать, почувствовать. Равным образом и он, когда близилась развязка, поставил ей фонарь под глазом за то, что обозвала его мать профессиональной мазохисткой (воспоминание, внезапно всплыв, заставило его передернуться от стыда: он в жизни никого не ударил, то был единственный раз, и ведь поднял руку на женщину; кошмар!). Ну, да с этим покончено, вот уж пять лет как все. Он даже не знает, на каком она теперь континенте.
Стакан уже пуст. Он отставляет его и принимается смотреть в окно на свинцово-серое небо, небо, какого ни один в мире поэт не попытался воспеть в стихах, ни один киношник не запечатлел в кадре, такое небо ускользает от определений, издевается над любой метафорой и убивает всякую надежду, злое небо ноября, до того серое, что заражает серостью деревья, ограду и сарай. Сарай из рая, думает Шон и усмехается снова, на сей раз тихонько спрашивая себя, не сгодится ли такая находка для стихотворения. «Никак», — отозвалось небо, назойливо затвердило: никак, пустой номер, и похоже, возразить некому, паскудная серятина. Уж лучше б чернота, вздыхает Шон. У черноты есть известные пределы. С ней можно так или иначе справиться. Когда зажигаешь лампы и за окном чернеет, что-то меняется. Тут возможны грелка на чайник, камин, утешение… Опять его донимает запах.
Возьмем быка за рога. Спокойным шагом он проследовал на кухню, размышляя о «рогоносце»: я же когда-то знал, откуда произошло это словцо, и вот забыл, мое почтение, Альцгеймер, весьма рад с вами познакомиться, ах, что вы говорите, так мы уже встречались? Надо же, совсем из головы вон, ха-ха, она теперь не более чем просторный выход, моя бедная головушка, ладно, но с чего бы все-таки обманутому мужу носить рога? Потому что они есть у месяца, а этот муж витает в облаках с ним рядом? Э, разумеется, нет. Не беспокойся, мамуля. Я не успею побить твой рекорд по части забывчивости.
На кухне он застает одну Патрицию — она к нему спиной, ленты фартука, завязанные хорошеньким бантом, охватывают стройную итальянскую талию, длинные черные волосы собраны над головой, чтоб ни один не попал в тарелку, узкая черная юбка позволяет оценить изгиб ее бедер; член пошевелился в брюках, и Шон легонько сжимает подвздошные косточки Патриции, позволив своим ладоням соскользнуть на ее живот. Он всегда утверждал, что многовековая история слабого пола не знала таких дивных подвздошных косточек, им нет равных, этим двум нежным выступам под черной тканью юбки. («Я и груди твои тоже люблю, хочешь верь, хочешь нет», — шепнул он ей однажды в ту пору, когда они были любовниками, сообразил, что женщины, кормившие грудью, могут быть особо чувствительны на этот счет, а у Патриции в то время уже имелось двое сыновей, правда, ни один из мальчиков не был от него, и дочки не было, никогда уже не будет, Джоди со всем этим покончила… «Бюст у тебя великолепен, но твои подвздошные косточки уникальны, воистину дар Божий».)
Она поелозила, прильнув, — тоже не прочь убедиться, что внизу еще затвердело, а Шон, куснув ее в затылок, прямо во влажные от кухонного пара волосы, заглянул ей через плечо в кастрюлю. Там была брусника с тертой апельсиновой цедрой. Ягоды как раз начинали лопаться. Словно попкорн, но мягче, влажнее, красочнее, почти неслышно. Когда они полопаются (Шону вспомнилось, как ему объясняла это Джоди во время одной из своих попыток приохотить его к поварскому искусству), огонь тушат, дают вареву остынуть, и тогда по непостижимой причине оно превращается в желе.
— М-м-м, как хорошо пахнет, — промурлыкал он, касаясь губами левой пушистой мочки Патриции.
— «Секрет из старинной книги», — продекламировала она. — Новые французские духи. Нравятся?
— Я имел в виду кушанье, — сказал он. — Пахнет вкусно.
— О-о! — заворчала Патриция. В притворной ярости она сделала вид, будто сейчас всадит каблучок-шпильку прямо ему в ступню. Высокие каблуки делают ее одного роста с ним, для мужчины он не больно-то рослый; она же, когда босиком, макушкой доставала ему до бровей. Он отдавал должное ее кружевным блузкам, ее узким юбкам, этой женственности иных времен — нынешние американки так не одеваются. Услышав, что Кэти в дальнем конце коридора спускает воду, он деликатность отодвинулся от Патриции, от ее все еще крепкого, молодого тела (хотя, само собой, уже не настолько юного и крепкого, как семь или восемь лет назад, когда ее только что взяли секретаршей на кафедру романских языков и Шон, проходя своей небрежной походкой мимо открытой двери приемной, вдруг круто притормозил в коридоре и, сделав три размашистых шага в обратном направлении, устремил на Патрицию свой неотразимый взор, сумрачный и меланхолический, она в то время была еще замужем, он — еще не женат, теперь она в разводе, он тоже один, и что тут еще скажешь, — и вот, в последний раз коснувшись ее ягодиц, он посылает своему бедному отростку приказ отправляться на покой, даже руку запускает в карман, чтобы жестом, обжалования не допускающим, в этом ему помочь.
— Все путем! — провозглашает Кэти, вплывая на кухню и на ходу заправляя в брюки свою не в меру фиолетовую блузку. Ее лицо под белой гривой морщинисто и багрово, как старая кожаная подушка. — Фарш в индейке, индейка в печи, печь в дому, дом в лесу… А теперь, — широким театральным жестом она ухватила коричневый бумажный пакет и извлекла оттуда тыкву, пожалуй, чуть сморщенную (мертвая, подумал Шон, что за дичь, мне сегодня все кажется мертвым), — вперед на борьбу за сладкий тыквенный пирог!
— Ты уверена, что бедняжка еще съедобна? — Уперев руки в свои округлые бедра, Патриция наклонилась понюхать этот глобус с оранжевыми полюсами.
— Да, само собой! Смотри, это шедевр моей внучки! Ты заметила шрам у нее на виске, какая зловещая гримаса, да? Великолепно, правда?
— Великолепие — одно дело, съедобность — совсем другое, — беззлобно упорствует Патриция.
— Я ее хранила в холодном погребе с самого Хэллоуина, — Кэти пожимает плечами, — сойдет, что ей сделается? Придется только соскрести с ее нутра налипший воск от свечки, потом я ее сварю, обдеру, растолку, еще потомлю на медленном огне, взобью, смешав с сахаром, и вот тогда выйдет десерт. Тут волшебное превращение, колдовство! Это все равно как поцеловать жабу. Мой бедный Лео… Я уж тридцать лет его целую, а он все не превращается в прекрасного юного принца!
Шон и Патриция смеются, но не настолько весело, чтобы Кэти поверила, будто ее шутку они слышат впервые.
Это и называется веселиться на вечеринке? — спрашивает себя Шон, но вдруг испытывает острое желание глотнуть винца, стакан в руке, золотистый ожог в глотке, мозг окутывает теплое облако…
— Эй, Шон! — окликает его Кэти. — А ты видел брусничную подливу Патриции?
— М-м-м, — Шон причмокивает. — Когда ты вошла, я как раз выражал свой восторг Патриции в целом и ее брусничной подливе в частности.
— Патриция, я сочиню оду в честь твоей подливы! — заявляет Кэти.
— Это обещание или угроза? — спрашивает Патриция.
— Нет, ты лучше посмотри сюда! — восклицает Кэти. — Кто, когда видел что-либо столь прекрасное? Подлива в хрустальной вазе, как расплавленный металл в тигле, поблескивает золотыми и оранжевыми крапинками, это россыпь влажных рубинов, мерцающих при свете, сомнительные драгоценности короны, добытые ценой крови. О, сумрачная алость граната Персефоны, плода, куда более греховного, чем бледное Евино яблоко! Ну же, Шон, признайся, ведь недурно?
Она откидывает назад свою седую гриву, заливается громким веселым хохотом. Потом хватает мясницкий топор и разрубает злосчастную тыкву надвое — Шон насилу удерживает крик, но нет, она пуста, там нет внутренностей, ничто не брызгает. Он удирает из кухни, спешит к своему стакану, своей бутылке, сигаретам, пепельнице — главнейшим и непременнейшим принадлежностям его бытия.
Когда спустя какое-то время он возвращается, Кэти подбирает ингредиенты для своего пирога. Она выпотрошила этажерку с пряностями: извлекла банки с корицей, мускатным орехом, имбирем, гвоздикой… На всех засаленные крышки, Тереза никогда и не думала такие вещи мыть, Шона поражает вид этих грязных крышек на банках с пряностями, со дня отъезда Джоди, блистательной, незабвенной кулинарки Джоди, ими никто больше не пользовался, сдается, они пылятся аж с Рождества Христова и уж наверняка меня переживут, я буду разлагаться, пожираемый червями, а эта нелепая этажерка с пряностями, купленная мамулей по каталогу и преподнесенная нам в качестве свадебного подарка, будет торчать здесь века, мол, не угодно ли петрушки, чесночных хлопьев, кардамона, дерьма собачьего.
— Черт! — вдруг кричит Кэти. — Я же хотела принести кленовый сироп, да забыла. У тебя нет, Шон?
— Хороший вопрос.
Он покладисто открывает дверцу холодильника. Патриция между тем просеивает муку, чтобы испечь кукурузный хлеб, нужна смесь белой муки и поленты, как только женщинам удается держать всю эту всячину в памяти? Не прячут ли они свои рецепты за корсаж, заглядывая в них, когда мы отвернемся?.. Что мамуля больше всего ценила в Америке, так это свободу по дешевке: у ее свободы был вкус быстрозамороженных рыбных котлет, тушеных овощей с мясом по-китайски в пакетиках, итальянского салатного соуса мгновенного приготовления, это экономило время, ну конечно, чтобы без помех жить подлинной жизнью, не так ли, мамуля? Что я ищу-то, черт, зачем я сюда полез, ах да, кленовый сироп: в самой глубине холодильного шкафа Шон замечает маленькую изящную баночку кленового сиропа из Вермонта, подарок той шикарной рыжей романистки — как ее, Лиззи? Зоэ? — точно, в ее имени было «з», она появилась в университете года два-три тому назад, прочла блестящую, такую же рыжую лекцию, потом пожелала встретиться с ним, привлеченная его именем, известностью, если не… ладно, проехали, она ему сделала волшебный минет при свечах, не позволив воздать ей каким бы то ни было способом, кто ее знает почему, может, у нее свои принципы или там дружок, как бы то ни было, на следующее утро она напекла ему блинов и возмутилась, не найдя во всем доме ни капли кленового сиропа. Он вытащил маленькую изящную баночку и наконец распрямился с побагровевшей физиономией, ведь добрых пять минут по-дурацки глазел, согнувшись, на содержимое холодильника, но женщины не заметили ни этой задержки, ни его смущения, они по уши в готовке, блаженствуют, рады-радешеньки повозиться на кухне, Кэти снова сияет, как только ей удается? Шон в недоумении, ну да, полюбуйтесь, она опять счастлива, с виду все та же, вечно шутит, заходится от хохота, играет с внуками, вертит задом, заправляет своей лавчонкой кустарных изделий и плодит кошмарные стихи, единственное осязаемое следствие того ужаса, что заставил ее голову поседеть в одночасье.
— А скажи-ка, Шон, — придирается Патриция, — с какой стати ты топчешься на кухне? Будто не видишь, что пугаешься у нас под ногами! Тебе больше делать нечего? Ступай займись каким-нибудь мужским делом, огонь, что ли, разведи!
Огонь, это слово и мелькнувшее вслед за ним зрительное представление жестов и поз, неразрывно связанных с растапливанием камина, будит в Шоне чувство легкого омерзения. Очаг пуст, дровяной ящик тоже, ничего в запасе, кроме щепок для растопки да двух-трех громадных поленьев, в углу сарая, вот дерьмо.
— Дерьмо, — бормочет он. И добавляет, дабы привнести стихотворный размер: — Дерьмо собачье! Забыл напомнить Дэниэлу, чтоб заказал еще дров. Он приходил во вторник, как раз бы кстати.
— Что такое? Дров нет? Как, совсем? — ужасается Кэти.
— Одни толстенные поленья.
— Ну, так иди и преврати их в тонкие полешки! — заявляет Патриция. — Разомнись, тебе полезно.
— Ну да, — кивает Кэти. — Такой работой и Толстой бы не погнушался…
Он глядит на их влажные, пышущие кухонным жаром лица, у него нет ни малейшего желания расстаться с ними, быть изгнанным прочь, в студеную, алую тусклость: ступай, Шон, иди помучайся, пострадай как мужчина, топай, поэтишка, обабившийся мерзляк, а они и рады, им смешно, он злобно накидывает на плечи штормовку, обида душит его.
— Возьми с собой Пачуля, — говорит Патриция. — Держу пари, что ты за весь день его ни разу не выгулял!
Уходя, он хлопает дверью, как мальчишка, а знает же, что они хихикают и бормочут «сущий ребенок», «славный Шон», «он никогда не изменится», «его надо любить таким, как он есть». Бубня ругательства, он идет к сараю, чувствует, как руки трясутся, это не от холода и не от виски, а именно потому, что нынче вечером он не хочет оставаться один, да еще в этом выстуженном сарае, махать тяжелым, непослушным топором, смотреть остановившимся взглядом на пыльную груду поленьев… Господи Иисусе! Проклятье ему и всем нам на голову!
«Славный Шон», — усмехается Кэти, очищая от жесткой шкуры тыквенные ломти, уже размягченные варкой.
Патриция, мурлыча песенку, размешивает тесто для кукурузного хлеба, ей приятно мять ладонями эту зернистую, комковатую желтую смесь, однако напевает она не без некоторого усилия воли, ведь психолог в клинике говорил, что она не должна поддаваться тревоге. «Ваша тревожность, мадам Мендино, не приносит добра никому, — сказал он ей. — Ни вам самой, ни вашему сыну. Улыбающаяся, жизнерадостная мама — вот что сейчас нужно Джино. Быть такой — самое лучшее, что вы можете сделать для его здоровья», — ну, вот она и напевает, помешивая тесто и изо всех сил принуждая себя думать о другом, об ощущении, которое она испытала в тот миг, когда ладони Шона сомкнулись на ее животе, потом охватили бедра, о прикосновении его горячего крепкого тела, когда он прижался к ней, — ах, как она была влюблена в это тело! просто обмирала! У нее были другие любовники и до него, и одновременно, но из всех мужчин, которых она знала, может быть, только Шон вправду умел ублажать женщин, занимаясь любовью. Другие мужчины орудуют своим членом, как дубиной, или кочергой, или кредитной картой, а Шон нет, Шон стенал при каждом медленном погружении, весь изгибался, судорога блаженства сводила его лицо, казалось, в тебе шевелится не какая-то малая часть его плоти, а он сам — и душа, и тело. Но при всем том они с самого начала знали, что у них никакая не великая страсть, скорее дружеское приключение: Патриция была слишком привязана к обыденной жизни, чтобы сносить бесчисленные капризы и брюзжанье Шона; он же, со своей стороны, находил несносными ее наивные восторги по поводу всего природного, что растет, щебечет или поблескивает. «Природа — это для деревенских пентюхов, — однажды брякнул он ей, — а у птичек — птичьи мозги». Или, скажем, она часами парилась на кухне, чтобы сготовить кушанье из баклажан, посыпанных сыром и обжаренных в сухарях, а когда наступало время обеда, Шон подваливал к столу, пошатываясь под грузом обветшалых воспоминаний, мертвецки пьяный и совершенно равнодушный к содержимому своей тарелки. И потом, он во сне храпел. Зато потрясающе пел под душем. Как он звучал, тот шлягер, псевдокантри, что он сочинил для нее? Там, помнится, были слова: «Я твой бзик, я твой сон, я бродяга из грез, к тебе в сердце пролез и брожу там привольно…»
— Как дела у Джино? — спрашивает Кэти, а сама терпеливо давит тыквенную мякоть вилкой, не заталкивает кусками в миксер, предпочитая не нарушать мирную тишину кухни его сверлящим мозги электрическим воем, хотя бы и всего на тридцать секунд.
— Рентгеновские снимки не слишком утешительные, — отвечает Патриция, не поднимая головы. — Опухоль размером с орех.
— О нет! — говорит Кэти.
— По крайней мере это не мозг, а голень, — произносит Патриция, ее лучшая подруга несколько лет назад умерла от рака мозга. — Ведь легче прожить, потеряв полноги, чем полмозга как по-твоему?
— Легче, да и веселее.
— Твоя правда. Ну вот, теперь ждем результатов биопсии.
С ее стороны было мило спросить об этом, говорит она себе. Кэти могла бы рассудить, что в сравнении со смертью ее мальчика проблема Джино ерунда, но, когда коснется детей, пустяков не бывает: всякая проблема — критическая, сравнения под запретом. В собственном сыне тебе все дорого, о чем речь, его ноги, икры — их ведь тоже любишь. Удивляешься, глядя, как они быстро растут. Смотришь, как они бронзовеют от загара, покрываются синяками или по летнему времени — волдырями от комариных укусов. Умиляешься, чувствуя их внезапно возросшую тяжесть, когда твое дитя, развалившись рядом на канапе перед телевизором, отключится и заснет посреди старого фильма.
— Должно быть, трудно переживать все это одной, — вздыхает Кэти, уверенная, что ей бы ни за что не вынести таких тревог, ее всегда поражает смелость, решительность, немыслимая душевная стойкость матерей-одиночек.
— О, я привыкла, — роняет Патриция. — К тому же на работе все относятся с пониманием, очень сочувственно. Я уж и не знаю, сколько раз отпрашивалась, с обеда уходила… (На память вдруг приходит сон, приснившийся утром: будто она вместо того, чтобы сажать в землю цветы и овощи, хоронила их. Чтобы жить, им нужна малая толика земли, думает она теперь, а когда ее слишком много, это их убивает. Все решает мера.) Как по-твоему, не пора ли мне снова сбрызнуть подливой нашу птичку?
Раскрыв духовку, Патриция наклоняется, осторожно выдвигает противень, принимается большой ложкой черпать горячий жир и обливать им индейку, чья кожа уже начинает золотиться и коробиться. («В конечном счете, — как гласит рецепт из «Joy of Cooking»[6], — после детального рассмотрения различных концепций жарения индейки вам придется, взявшись готовить какую бы то ни было птицу, неизбежно столкнуться с серьезной дилеммой». Сегодня утром, прочтя эту фразу, Патриция покатилась со смеху: вся дилемма в том, что белое мясо достигает готовности раньше, чем окорочка, — стало быть, к тому времени, когда они доходят до кондиции, белое пережарено! Вот такие дилеммы по мне, подумалось ей тогда. Можешь посылать мне их, милосердный Боже, в любом количестве!)
Откуда она берет силы? — поражается Кэти. И почему я такая слабая? Вот белорусские женщины сильные, одним приходится смотреть, как их мужья опухают или съеживаются у них на глазах, как они чернеют, истощаются и умирают, и у одних — выкидыш за выкидышем, другие больше не хотят заниматься любовью, боясь зачать мутанта, а иная, от любви не отказавшись, производит на свет монстра и окружает его нежной заботой, пока он не загнется годам к семи. Как им удается выдержать? Ей, Кэти, после смерти Дэвида муж становится чем дальше, тем все более необходим, без него тягостно даже здесь, у Шона, в трех километрах от собственного дома, хотя ей в точности известно, где супруг и чем сейчас занят (вставляет двойные рамы на зиму); с тех пор как Дэвида не стало, ей ежеминутно надо знать, где находится каждый из членов ее семьи, иначе с ним может случиться все, что угодно, — схватят, поколотят, убьет молнией, да, злые силы подстерегают всюду, они ярятся, брызгают ядовитой слюной, о, хоть бы Лео оказался здесь, рядом, сейчас же, она бы желала одним усилием свести на нет разделяющие их время и пространство, сделать так, чтобы часы уже показывали шесть вечера и на веранде послышались его шаги, она их узнала бы из тысячи, особенности веса и формы его тела при ходьбе, о, ходи, шагай и дальше, Лео, только бы этому никогда не пришел конец, возлюбленный мой, всего шестьдесят семь, еще не настоящая старость, у нас годы впереди, не так ли, мое сокровище? Долгие годы. Это первый День Благодарения, который они встречают без детей, двое из них живут своей семьей, один лежит в земле, младшая, Сильвия, и та укатила с дружком в Филадельфию… Кэти взбивает тыквенную мякоть, поката не становится ровным, густым кремом, потом опрокидывает его в сосуд для варки в водяной бане, добавляет сахар и специи, но я хочу, чтобы Лео был здесь, здесь, со мной, в этой комнате.
Внезапно ее прошибает пот, блузка становится влажной. К счастью, на кухне жарко, чуть заметно дергая плечом, говорит она себе, щеки у меня так и сяк были бы красными.
* * *
Да и Шон тоже взмок от пота. Он цепляет свою штормовку на деревянную вешалку за дверью сарая. Пальцы у него все еще дрожат, теперь руки до плеч и ноги тоже начинают трястись, а там и тело с головы до пят… Все это отвратительно: с какой стати его вынуждают разыгрывать сильного мужчину? Я слаб, признаю это, чего же вам еще, мои предки были из бедных поселян графства Корк, едоков картофеля с физиономиями цвета овсяной каши и томатной пастой в жилах, а вы хотите, чтобы я превратился в дюжего лесоруба из Новой Англии? Я зарабатываю достаточно, чтобы нанимать крепких парней для подобной работы. К тому же чего ради сборищу художественных натур с псевдодеревенскими вкусами, чтоб ему было пусто на том и на этом свете, понадобилось зажигать огонь в камине, если в доме центральное отопление!
Он несколько раз слабо тюкнул по полену без видимого результата, хотя ему почудилось, что он остервенело сражается с ним добрых десять минут. Никак не удавалось дважды попасть топором в одно и то же место. Лезвие ударялось о дерево и застревало; он, потея и задыхаясь, вытаскивал его, снова замахивался, поднимая топор над головой, шатаясь под его тяжестью, и дрожащими руками наносил удар, опять не туда. Вероятно, древесина хорошо просушена, ты бы сумел управиться с этим, а, папуля? Тебе доводилось рубить дрова, хотя бы разок за всю твою краткую жизнь одиночки-бедняка-грязной-скотины? Признайся, нет? И чего не хватало Толстому, какого черта его тянуло к мужикам? Может, дрова достаточно сухие, чтобы я смог их распилить? Где эта гребаная пила? (Он почти никогда и носа не совал в сарай. Инструменты здесь завалялись с черт-те каких времен, куда раньше, чем он двадцать четыре года назад купил этот дом, университет тогда — гордясь, что заполучил скороспелого гения, лауреата нескольких премий, — назначил его на преподавательскую должность, неслыханно молодого, двадцатитрехлетнего.) Такая уж у меня сноровка, папуля, «шпеть я вам рад, нашыпьте деныиат». Рубить дрова, поливать жиром индейку, создать семью — этого не просите; мое дело — писать стихи, если только допустить, что ты был бы в состоянии их прочесть. Как знать, старина? Может, мы бы могли с тобой пьянствовать и веселиться вместе, вдвоем, чего доброго, у тебя тоже была склонность к поэзии, мамуля ничего мне об этом не говорила, да мало ли что, — ты, верно, горланил в пабах хромоногие стишки под скрипочку, сладкие каденции старинной ирландской выделки, а, папуль?
(Папаша Шона от избытка чувств лупил его по щекам, у него была такая манера желать сыну доброго утра. И этот запах, сырой, угрюмый дух питейных заведений, откуда Шону приходилось вытаскивать его, чтобы отвести домой, когда наступала пора ужинать. «А, это ты, сынок, ну идем, ладно. Я и не заметил, как время прошло». Плелся, пошатываясь, и все бормотал: «Шон, мой малыш. Сыночек мой единственный». Они шли по темным мокрым улицам, Шон изо всех сил сжимал его руку. Мерцающий свет уличных фонарей. Скользкие блестящие плащи рыбаков, готовящихся выйти в море до рассвета. Запах рыбы. Сети заботливо разложенные на пляже рулонами, которые вскоре поднимут на палубу, распустят и вновь намотают на барабаны. Вонь застоявшейся мочи в коридоре дома, где они жили. Влажно-каштановый оттенок всех предметов. Странное прикосновение подрагивающих грудей матери, когда она обнимала сына, гордясь его школьными успехами или бойкой декламацией стихов из Библии на уроках закона Божьего. «Разве воробьев не продают по два за грош? А между тем ни один из них не упадет наземь без воли Отца вашего». Этот пассаж из святого Матфея ставил Шона в тупик: неужели он хочет сказать, что в смерти воробьев виноват Бог? Что он нарочно заставляет их падать? «Каждый волос на ваших головах сосчитан. Не бойтесь же: вы стоите больше, чем множество воробьев»[7]. Ну, благодарю тебя, Господи. Я и сам, что ни день, считаю их, мои волосы. Надеюсь, ты должным образом заботишься о тех из них, которые я потерял.)
«Аааах! Дерьмо, дерьмо и трижды три дерьма! Ах ты, милостивый Иисусе, ох, говенный Бог!» Пила, неловко и нервно дернувшись в правой руке, прошила зубьями нежную плоть большого пальца левой возле самого ногтя, брызнула сверкающая кровь. Шон прижимает раненую руку к груди, защищая, прикрывает ее другой, голова его клонится долу, колени подгибаются, и он, рыдая, валится на землю. Драгоценная безделица из граната. Цвета брусники. Тело изнутри. Я вернусь в дом, и женщины посмеются надо мной, мило снисходительно, беззлобно потешатся, тело изнутри — еде им понять?.. «Выглядит неважно, мистер Фаррелл", — две недели назад, в послеобеденный час, в клинике, слова врача, этакие круглые белые жемчужины, медлительно прокатились по воздуху, прежде чем разодрать сознание так же грубо, как пила вмиг располосовала его плоть… «Выглядит неважно, мистер Фаррелл. По правде сказать, весьма неважно». — «Я скоро умру, доктор?» — «Я не Бог, мистер Фаррелл». — «Ага, понятно». Волосы сосчитаны. Дни сочтены.
Едва он открыл дверь, аромат индейки, щедрый, смуглый, жирный, шибает его, как пинок ногой, в самую душу. Увидев горестно насупленную физиономию, женщины сообразили, что от смеха лучше воздержаться: они знали Шона, любили его и принимали; они по-матерински уврачевали его рану (да, подумал он, где-то, когда-то, в старину или, может, в волшебных сказках были такие матери), не задавая вопросов, ибо заранее угадали ответ: нынче вечером ни одно полено из сарая принесено не будет.
— Знаешь что? — воскликнула Кэти. — Позвоню-ка я Лео, скажу, пускай набьет багажник дровами — у нас их в гараже, рядом с машиной, целые тонны запасены.
Ее лицо под пышной шапкой седых волос раскраснелось от удовольствия и гормонального дисбаланса: есть повод позвонить Лео! Услышать его голос! О, радость!
Ее рука тянется к телефонной трубке. Шон вздыхает, глядя, как смыкаются на ней пальцы Кэти: ах! какой трепетной жизнью долгие годы жила эта трубка. Сколько ладоней касались ее, сжимали и теребили, оставляя свои отпечатки и запахи, которые потом, дважды в неделю, стирала тряпка Терезы. И рты, что в эту трубку дышали. И слова, что она вбирала: нежные шепоты, жалобы, упреки. Его собственный голос, просивший Джоди вернуться, умолявший ее снова и снова, пробиваясь сквозь дырки в сером графите микрофона изо всех сил, пока не сорвется: «Я не могу жить без тебя! Джоди! Джоди, я тебе клянусь! Меня на этой земле ничто не интересует, говорю тебе, ничто, даже моя работа, если тебя не будет рядом, если ты перестанешь делить ее со мной!» — «Да ну, Шон, прекрати. Пожалуйста, не надо мелодрам…»
— Прими стаканчик, дружок. — Голос Патриции. — Авось это послужит анестезией для твоего бедного пальчика.
Какое счастье, что Шон затеял этот ужин, говорит она себе. Мне везет. А то пришлось бы весь вечер лезть на стенку одной, пока Джино и Томас проводят бесконечный уик-энд у своего папаши. «Их папаша» — вот кем стал для нее Роберто.
(Девятнадцатилетний Роберто, выбирающий вместе с ней яйца на итальянском рынке в Хеймаркете, как он их взвешивал на ладони, у него длинные смуглые пальцы, красивые до невозможности. Его черные глаза, казалось, сулили ей такое, о чем она никогда и мечтать бы не могла! А как он целовал ее взасос, при всех, в церкви, она стояла между своим отцом и священником, остолбенела в подвенечном платье из белой тафты, разгоряченная, перепуганная, когда язык Роберто проник к ней в рот, была так поражена, что едва трусики не обмочила. А их медовый месяц, эти пробуждения по утрам, кудрявая голова Роберто, всей тяжестью давившая на ее голую грудь, его лицо, во сне совсем ребячье. И день, когда он впервые взял на руки Томаса, их новорожденного первенца, заглянул ему в глаза и расплакался. А как он подарил Джино к ею третьему дню рождения крошечную бейсбольную биту и учил малыша орудовать ею… Потом — увольнение, Патриция тогда застала его дома в три часа дня, он развалился перед телевизором и глушил пиво. И его ярость, когда она отхватила место секретарши в университете… Он не жалованью ее завидовал, а увлеченности. Рожденная в этом городишке, она знала всех его обитателей, все возможности: оказаться таким образом в центре кипучей жизни студентов и преподавателей, уметь мило и по-деловому отвечать на их, всегда, разумеется, чрезвычайно важные вопросы — вот что было упоительно, у нее просто голова кругом шла. Роберто так никогда ей этого и не простил. Он не удостаивал замечать, что она изменяет ему с Шоном, потом и с другими; равнодушный, более не приближался к ней, не касался ее… Принялся изводить сыновей нравоучениями, потом лупить, а там и ее стал поколачивать… пока она ему не заявила, что уже консультировалась с адвокатом. И однако, он все тот же. Его смуглые пальцы на фоне белых яиц, такие красивые…)
— Кто бы отказался? — говорит Шон, чей палец теперь отмыт, продезинфицирован и тщательно забинтован; итак, Патриция отправляется на поиски его бутылки и стакана, а вручив ему сие целительное средство, запечатлевает на благородном челе своего бедного, дорогого, раненого Шона, влажном и лысеющем, легкий поцелуй, быстрый, сухой и чистый, — такой, как он любит.
Выбившаяся из прически черная прядь скользит по его подбородку; завиток на ее конце, этакий вопросительный знак, штрих в манере Модильяни, с одной стороны прелестно обрамляет лицо, и Шон, прикрыв глаза, наконец-то загоняет рак легкого в дальний угол сознания, пусть громадный, но тем не менее всего лишь угол, а значит, можно испытать блаженство этого мгновенного прикосновения женских губ.
— Лео будет здесь к пяти часам, чтобы растопить камин, — возвещает Кэти, отворачиваясь от телефона с улыбкой до ушей, даже не пытается скрыть радости. — Ой, моя начинка!
Размашистым шагом пересекает кухню и, вооружась деревянной ложкой, принимается взбалтывать приправу. Тут как с гончарной глиной: нужная консистенция одна, единственно возможная. Слишком густо или слишком жидко — все, ни тебе горшка, ни пирога. Да и вращать надо как то, так и другое. (О, что за покой вселяют ей в душу эти вращательные движения рук, формующих серую скользкую массу. Серая масса, да, словно это ее собственный мозг, будто она разглаживает и вот так, пальцами, лепит свои мысли, старается сделать их круглыми, правильными, симметричными, между тем как ее правая нога бдительно поддерживает равномерную скорость вращения гончарного круга, а сама она, собранная, отрешенная, наклоняется вперед, самозабвенно вглядываясь в серую сырую глину, что поднимается, пенясь под ее пальцами, увлажняя ладони в точности так, как надо, чтобы масса оставалась податливой, такие вещи определяешь инстинктивно, тут нет надобности думать, руки сами все знают.)
Она вываливает начинку в пирог. Шон нынче вечером еще раздражительнее и непоседливей, чем обычно, думает она. Странно, почему он, человек без семьи, пригласил нас к себе именно в День Благодарения, выбрал самый семейный из всех праздников, какие только есть в году. У него же родни совсем нет, никого, с тех пор как прошлым летом умерла его мать. И детей тоже нет, никакой склонности к отцовству. Хотя… когда Джоди, ничего ему не сказав, сделала аборт, его это прямо сразило. Он тогда целыми часами плакал на плече у Лео. «Единственный шанс для мамы дождаться внука! Ей в жизни оставалась только эта мечта, одна последняя надежда и та пошла прахом!» Конечно, в нем очень сильна склонность к преувеличениям. Но верно и то, что свою мать он обожал. Мы-то никогда ее не видели, но он нас держал в курсе, мы знали, что она постепенно угасала. Что ее разум был подобен известняковой скале над морем — сперва мелкие камушки тихо соскальзывали по склону, поглощаемые волнами забвения. Потом стали срываться валуны, все крупнее, все чаще, унося с собой тяжкие оползни почвы, пока, наконец, не обрушилось все, осталось пустое место. Долгие вечера, черная меланхолия и джин с лимонным соком. Мэйзи, да так ее звали. Шон рассказывал о своем новом замысле: большой стихотворный цикл, где будет перечислено все, что забыла его мать. Лео предлагал название: «Затерянный мир Мэйзи". Нет, говорил Шон: «То, о чем Мэйзи больше не ведает». Первые стихотворения, полные обычных подробностей жизни престарелой дамы из бостонского предместья: место, куда она прятала ключи, день, когда она в последний раз мыла голову, в каком отделении сумочки она хранила кошелек. В следующих стихах цикла будут появляться все новые забытые детали, с каждым разом более волнующие и значительные: имена ее друзей, братьев и сестер, название страны, где она жила, год смерти ее мужа. А в последних стихотворениях, красочных, душераздирающих, оживут впечатления, по сути неизгладимые, те, что врезались в ее память глубже всего: воспоминания детства. Пожар на кухне — ей тогда было два года; грязный маленький паршивец-сосед, что полез к ней в штанишки, чтобы засунуть туда жабу; убитый протестант на улице Гэлоуэя — размозженный череп, кровь, смешанная с грязью и дождевой водой, стекает в водосточный желоб. Если бы он и впрямь когда-нибудь засел за такую работу, думает Кэти, могла бы получиться великолепная книга…
— Пирог я буду печь в микроволновке, — говорит она вслух, — иначе он может пропахнуть индейкой.
Шон кивает, не слушая. Нацепив бифокальные очки, он в свой черед склоняется над «Joy of Cooking»: готовит свой собственный вклад в пирушку, сверяется с перечнем ингредиентов. Свежий ананас (он купил консервированный), клубника свежесобранная (у него быстрозамороженная), пол-литра рома, пол-литра лимонного сока, триста граммов апельсинового, двести пятьдесят — гранатового сиропа, две бутылки коньяка и два литра сока канадского ранета. Ему хотелось, чтобы к концу вечеринки гости как следует нализались, все без исключения, даже Бет — добродетельная, стойкая Бет, — а ничто лучше, чем пунш, не способствует бессознательному потреблению больших доз алкоголя. Кассирша в супермаркете, которая высчитывала ему суммарную стоимость всего этого, — хорошенькая, ну пальчики оближешь. «Вы устраиваете прием, мистер Фаррелл?» — спросила она. «Это так же верно, как то, что ваш костюмчик — прямо розовая конфетка, Дженис, — отвечал он, прочитав (уже не в первый, да и не во второй раз) имя на ее значке. — Не соблазнитесь ли прийти?» Она прыснула со смеху, даже не потрудилась ответить. Разумеется, он пошутил. Не мог же он всерьез вообразить, что эта семнадцатилетняя шелковистая нимфетка явится, чтобы поваляться в простынях с такой облезлой, ветхой развалиной, как он. Ох! — вздохнул он, да какая теперь разница (междометие «ох» Шон неизменно произносил на русский манер).
Повернувшись спиной к обеим женщинам, чтобы им не взбрело в голову ему помочь, он с консервным ножом наперевес атакует банку с ананасом, хотя повязка на большом пальце левой руки усугубляет его обычную неуклюжесть. И почему это бабы так услужливы? — спрашивает он себя, когда Патриция с губкой бросается вытирать ананасовый сок, брызнувший на стол. Чего ради они вечно мечутся взад-вперед, спеша людям на помощь? Почему бы им не заниматься своим делом, вместо того чтобы постоянно улаживать, разглаживать, начищать да подправлять чужие? Ну, а где бы я-то был без моих щелочек? Люблю я скважинки, и баста! Мои стихи аж лопаются от этого. Скважинки — смысл моего бытия, глубинная моя отрада, высокое мое призвание. Я бы так себя и назвал — Шон Скважинка Фаррелл.
Встряхивает банку, кусочки ананаса соскальзывают в чашу с пуншем, он проклинает свои трясущиеся руки, как заметно, только бы забыть… Ох, мамуля, одолжи мне твою память. Я бы уж сумел с толком использовать ее черные дыры.
Патриция опять наклоняется, чтобы оросить мертвую птицу. Юбка у нее слегка задралась, обнажая ляжки настолько, чтобы вызвать у Шона воспоминание о некоторых не столь отталкивающих свойствах дамского сословия.
— Как думаешь, Пачуль будет есть кости индейки? — осведомляется она, но Шон ее не слышит, ведь она, так сказать, сунула голову в печь — совсем как та колдунья, которую, вспоминается ей, Гретель тут-то и затолкала внутрь. Может, все дети мечтают всунуть свою мать головой вперед в печку и зажарить до полной готовности?
— Прошу прощения? — отзывается Шон, сражаясь теперь уже с клубникой (в морозильнике она так окаменела, что из коробки не извлекается, теперь изволь ее оттуда выламывать, откалывая мелкими кусочками).
— Так что, ест Пачуль индюшачьи кости или нет? — повторяет Патриция, выпрямляясь и поворачиваясь к нему с улыбкой. Она прелестным движением подхватывает снова выпроставшуюся прядь, чтобы заправить обратно в прическу, откуда она тотчас выскальзывает опять.
— Понятия не имею, я в первый раз готовлю индейку, — говорит Шон, можно подумать, будто не они ее готовят. — А эти кости не могут расщепиться и застрять у него в глотке, так что он задохнется? — Образ расщепленных костей воскрешает в его памяти недавний отвратительный опыт с колкой дров.
— Ну, вряд ж, — отзывается Кэти. — С кошками да, так бывает. А для собаки птичьи кости не проблема, они их заглатывают, даже не жуя. У Пачуля будет такой пир, как никогда в жизни.
(Этой шутке, вернее сказать, этому мифу насчет Пачуля уже десятки лет. Когда в 1962 году умер отец Шона, а его мать под тем предлогом, что где-то неподалеку от Бостона у нее есть дальний родственник, решила попытать счастья в Америке, Пачуль впервые явился ему на корабле во время плавания. С тех пор он ни капельки не постарел, не изменился: все та же экспансивная, любвеобильная черно-белая дворняга, в безумной жажде привлечь к себе внимание склонная сметать все на своем пути и создавать в доме хаос. Шон посвятил псу уйму стихов. Он кормит его костями и объедками, дважды в день выгуливает в лесу и, садясь за письменный стол, восхваляет в стихах, тюкая по клавишам машинки. Никто из его друзей никогда не видел Пачуля, но все его уважают, потому что в него верит Шон.)
Глава III. Патриция
Ах, милые мои цветики. Бутоны и почки, те, что прыщут, прыщики мои, и обрящут цвет, те, что не вскрылись, и уже высохшие, всем вам суждено возвратиться в лоно своего творца…
Начнем, если вы не против, с Патриции Мендино. Будьте уверены, я отнюдь не намерен, по крайности до поры до времени, вмешиваться в дела ее сынка Джино. Он прекрасно выпутается сам. Хирурги удалят доброкачественную опухоль на его голени, тем все и кончится, он сможет вести нормальную жизнь. Он станет ювелиром, поселится в Нью-Мексико, женится и обзаведется сыном, которого в честь своего папаши назовет Роберто. Зато его брата Томаса я умыкну на тот свет в возрасте двадцати шести лет: это случится на кошмарной 128-й улице — окраинном бостонском бульваре, где столкнется разом полдесятка машин.
Когда Патриция узнает о смерти сына, ее организм отреагирует престранным образом: он начнет производить молоко. Ее пятидесятилетние груди болезненно набухнут. Это вселяет тревогу, да и неудобство ужасное. Поблизости не найдется сосунков, чтобы облегчить ее состояние, а обратиться в аптеку на углу заказать молокоотсос она, в ее-mo годы, постесняется. Холодные ванны, горячие компрессы, ничто не поможет… Ах, это ведь я проскользнул в нее. Отек через некоторое время рассосется, но ее прекрасная грудь станет той гостеприимно, как в хорошей лавке, распахнутой дверью, в которую войдет судьба, приняв форму новообразования. Патриция ничего не заметит Медленно, спокойно болезнь примется разрушать ее тело.
В шестьдесят лет она выйдет на пенсию и лишь тогда обретет свой истинный смысл жизни: кормить птиц. Она будет их прикармливать без устали. Будет петь для них и ворковать. Ей захочется давать им грудь. Грудь, уже причиняющую ей страдания. Она станет испытывать режущие боли, потом уже и в плечах, в подмышках, в руках, в ребрах, в спине. К врачу она не пойдет. Ни с кем больше не станет видеться. Ее волосы поседеют, поредеют. Темные глаза уменьшатся и наполнятся пугливой злобой. Она утратит контакт со всем, что ни есть реального, за исключением птиц — они же сотнями будут слетаться в ее садик и обжираться. Стоит ей выйти из дому, они, весело хлопая крыльями, будут садиться на нее, прыгать по голове, по плечам и рукам, задавая целые концерты бессвязного щебетанья. Она будет тяжким трудом добывать для них пищу. Разузнает, для кого приберегать раздавленных насекомых, для кого — зерна, апельсиновую цедру, маргарин. Станет тщательно, любовно готовить для них угощение, совсем как некогда ее бабушка стряпала на всю семью. С ними вместе она будет читать перед едой благодарственную молитву, петь им арии из опер и старинные сицилийские серенады. Забытый язык ее детских лет вернется к ней, и она, рассыпая вокруг зерна и хлебные крошки, будет стрекотать им по-итальянски: «Venite, carissimi miei, uccelli miei, beliissimi miei, mangiaie, mangiaie, buon appetiio…"[8]
Так будет продолжаться несколько лет. Для соседских детей Патриция станет «дамой с птицами», «психованной», «ведьмой». Стоит им подойти поближе, она будет огрызаться на них, боясь, что они распугают ее обожаемых птичек. Рак, распространившись еще шире, запустит когти в ее мозг, помрачит рассудок; вскоре она утратит даже способность вести свое домашнее хозяйство и стряпать; соседи, обеспокоенные зловонием, исходящим из ее жилища, позвонят куда положено, и энергичная сотрудница социальной службы явится к ней, дабы «оценить степень слабости». Заполнив вопросник, она тотчас придет к заключению, что слабости у Патриции вполне достаточно для незамедлительного помещения в приют; там ее подвергнут обычному медицинскому осмотру, результаты окажутся такими, что у врачей глаза на лоб полезут. Тут у Патриции начнется бред, она станет проводить часы напролет, громко молясь святому Франциску Ассизскому и понося всех прочих смертных; своим похабным сквернословием она будет приводить в оторопь видавших виды докторов, на чудовищной смеси английского с итальянским клеймя их с утра до вечера, и так вопить, что надорвет связки, это будет уже не голос, а скуление.
На исходе третьего дня ее пребывания в приюте когда она утратит последние остатки чувства реальности, доселе еще брезжившего в ней, я не смогу больше этого выносить. Да: если даже их судьбы заранее предопределил не кто иной, как я, мне случается испытывать жалость к своим созданиям. Сомневаться здесь не приходится: со мной Патриции будет лучше. Так и быть, ragazza[9]. Все хорошо. Ну, иди сюда.
Глава IV. Приветствия и объятия
Глянув в окно, Шон убедился с облегчением, что мрачная стальная серость ноябрьского небосклона уступила место черноте.
Кэти безмятежным шагом обошла помещение, зажигая лампы, создавая жаркие пересекающиеся круги охряного и золотистого света. Паркет заблестел, стало почти слышно, как удовлетворенно заурчали ковры, диванные подушки, многоцветные коврики, казалось, они напевают мелодии иных времен, тех дней, когда женщины долгими зимними вечерами сиживали в уголке у камина, шили, вздыхали и вполголоса поверяли друг дружке печальные тайны. Кэти посмотрела на пустой очаг, потом на часы. Уже около пяти. Всеми силами своего сердца она призывает Лео. Мысли ее мечутся, перескакивая от Элис к Сильвии, к Марти, потом к двум сыновьям Элис, а там и к внучке Шейле, дочке Марти, той самой, с которой они вместе ваяли тыкву и которая на следующий день после своего пятого дня рождения шепнула ей на ухо: «Знаешь, бабушка, это так тяжело, когда тебе пять лет. Люди столько всего от тебя хотят…» Кэти попыталась вспомнить, что она тогда сказала в ответ, но не вышло, ведь теперь там, на ее внутренней сцене, появился и Дэвид в джинсах, болтающихся на заду: если бы в камине горел огонь, стало бы легче, думает она, огонь дает возможность смотреть на что-то другое, не внутрь себя.
Шон, заметив, что двенадцать маленьких формочек с брусничным желе, поставленные в морозильник, чтобы «схватились», заняли там все место, унес чашу с пуншем наружу, на веранду.
— Ну так кто сегодня придет на вечеринку? — осведомилась Патриция, вооружась страшенным ножом, который принесла с собой, и размахивая им над плотной, сверкающей, разноцветной грудой громоздящихся на столе овощей: сладкого картофеля, кукурузных початков, красных и зеленых перцев, кабачков, бобов, лука, чеснока, петрушки. На кухне вся женская агрессивность выходит наружу, говорит себе Шон, жадно затягиваясь сигаретой. И верно, теперь Патриция принимается кромсать всю эту многоцветную плоть, обдирает их, и режет, и рубит, и мельчит на усредненные беспомощные кубики для жюльена.
— Сама увидишь, — отвечает он ей.
— Ты не хочешь мне сказать?
— Не люблю списков.
— Значит, это будет сюрприз?
— Допустим.
— Нас будет дюжина…
— Чертова дюжина.
— Чертова? Но ты же мне дал только двенадцать формочек. Ох, Шон, смотри! Я суеверная итальянка, моя mamma всегда твердила, что тринадцать человек за столом — к беде.
— За стол сядут только двенадцать. Тринадцатый гость мал, отправлю его спать на второй этаж.
— Мал? Как так?
— Очень мал. Ему и года нет.
— Ты что, пригласил в гости младенца?
— Нет, взрослого одиннадцати месяцев от роду.
— Чей же он?
— Увидишь.
Патриция вдруг вспоминает: однажды, когда Томасу было одиннадцать месяцев, он как раз учился ходить, потерял равновесие и упал ничком, ударился лбом о выступающий угол стены: глубокая рана, кровотечение, всеобщая паника, она хватает ревущее дитя на руки, со всех ног бросается с ним в ванную, вода, губка, кровяные брызги, бинты, промывание раны, компрессы, крепче держать ребенка, укачивать, о Господи, Господи Боже ты мой, а Томас все пуще надрывается, он писает кровью, а Роберто нет дома… В конце концов ей удалось передать малыша на попечение доктора, ему наложили два шва, еще и теперь у него посередине лба виднеется бледный серповидный шрамик, этот случай изгладился из памяти врача и Томаса и Роберто, но Патриция не забыла…
— А вот и Лео! — вскрикивает Кэти, изо всех сил стараясь, чтобы ее спринтерский рывок в сторону веранды выглядел обычной легкой рысцой.
— Шон, у тебя тачки не найдется?
Дрова втаскивают в комнату, кучей сваливают на полу, растапливают камин: стародавний мужественный ритуал, Шон даже не пытается сделать вид, будто принимает в нем участие, его раненый большой палец служит более чем достаточным оправданием, нет нужды кривляться, корчить саркастическую или снисходительную мину, нет, сегодня вечером надо быть просто добрым, радушным хозяином…
— Можно сюда?
— Садись.
Мужчины за бутылкой виски в гостиной, женщины на кухне возле кастрюль, если это банально, тем хуже, размышляет Шон, ведь, в сущности, это всем по душе. Звяканье двух столкнувшихся стаканов, беззвучная сшибка взгляда светло-карих глаз Шона с серыми Леонида, их стало теперь трудно встречать, прорываясь сквозь его старческий грим: очки, морщины, отвислые щеки, кустистые брови и все прочее; старость всегда смахивает на шутовской наряд, говорит себе Шон, так и кажется, что люди в конце концов рассмеются да и сбросят эти дурацкие маски со своих подлинных молодых лиц: именно так, одна лишь юность истинна, вот и Библия обещает, что, когда мы после Страшного суда воскреснем, каждый наш волос будет на прежнем месте — это и меня тоже касается, а, Господи? Все мои волосы, перечень коих хранится у тебя, отрастут снова, мои щеки опять станут гладкими, руки спокойными, а эти ноги резвыми шагами понесут меня туда и сюда. А смогу ли я снова писать хорошие стихи? Ох, вот ведь в чем вопрос.
— Твое здоровье!
Они больше молчат, слова им без надобности, таким давнишним друзьям, Шон уже в зрелых летах, Леонид мало-помалу клонится к старости — но это по-прежнему могучий, крепко сбитый мужчина, Шону никогда бы и в голову не пришло самому вставлять двойные рамы или шесть раз подряд взбегать по ступеням веранды с охапкой дров. Они мало говорят, потому что им хорошо вместе и, даже если один подзабудет какие-то подробности жизни другого, главное они знают: у кого сколько детей — есть, или было, или хотелось, чтобы было, и кто где рос, и как умерли родители.
(У Леонида это случилось на протяжении года, почти день в день: его отца не стало в 1984-м, матери — в 1985-м, и хотя отец скончался в своей постели, а последним ложем его жены стало речное дно, grosso modo[10] оба скончались так, как, верно, испокон века умирали старые белорусские крестьяне, да, как поколение за поколением уходили из мира их предки, обитатели Шудян, деревни, где они скоротали весь свой век, не ведая, что не пройдет и года, как радиоактивность тамошнего воздуха достигнет ста сорока девяти беккерелей и жители начнут подхватывать неизлечимые болезни оттого, что поели салата с собственной грядки или устроили пикничок на берегу Припяти. Леонид не поехал хоронить родителей: путешествие обошлось бы слишком дорого. Зато он съездил туда позже. Один раз.)
— Похоже, что пойдет снег.
— Да ну? — Шон оборачивается, бросает взгляд за окно. Делается это из вежливости: сегодня вечером он и носа не намерен высовывать на улицу, так что метеорологические прогнозы его не занимают. — Смотри-ка, надо же.
Леонид только что спровоцировал у себя приступ люмбаго: затаскивал двойные рамы наверх по приставной лестнице, едва не упал. Бог милостив — удержался, но боль как вступила, так и не проходит, знакомая, мерзкая, два года назад, когда с ним такое приключилось, врач объяснил, что произошла частичная инфильтрация nucleus pulposus в трещинку annulus’a[11], и теперь он думает: только бы не это, Господи, молю тебя, лишь бы не снова прострел, кортизон, оцепенение, полуобморок, боль всю душу выматывает, может, хоть Шонов Шива подлечит мой позвоночник.
— Как вкусно пахнет эта индейка! — говорит он.
— Меня от нее воротит, — откликается Шон.
Леонид звучно хохочет в смутной надежде, авось голосовая вибрация в грудной клетке сможет вызвать онемение поясницы.
— Зачем же ты празднуешь День Благодарения, если тебе не по вкусу индейка?
— Да нет, индейку как таковую я люблю, — говорит Шон, по какому-то смутному побуждению копируя певучий говор южан. — Видишь ли, чего я терпеть не выношу, так это запах индейки, пока ее готовят. Он на меня наводит такую грусть, прям с души воротит, и, когда я говорю душа, оно так в точности и есть, тоска берет о чем-то вроде родного очага, какого и не было отродясь, ты хоть улавливаешь, о чем я?
— Вполне, — Леонид кивает. — Со мной так же бывало, в детстве. Каждое воскресенье мы всем семейством отправлялись завтракать к бабушке, а как придешь, у нее вечно жарилась ветчина… Не то чтобы там бекон, я бы даже не сказал, что ростбиф… И правда, всякий раз, как войду к ней и почую этот ветчинный дух, я испытывал что-то…
— Немножко музыки?
Ставя свой стакан на низкий столик, Шон опрокидывает пепельницу: десяток окурков «Уинстона» и облачко пепла, вытряхнувшись, с разной скоростью достигают ковра.
— Черт возьми, Пач! — восклицает он. — Нельзя ли поосторожнее? Посмотри, что ты натворил! Собаки очень милы, — он обращается уже к Леониду, — во многих отношениях куда симпатичнее детей. Но если они набедокурят… их не приучишь за собой убирать.
Леонид снова смеется, на сей раз потише, коль скоро недавний зычный хохот не принес прострелу ни малейшего облегчения. Однако же он и не подумает встать, чтобы сходить за веником и совком; всякая самоотверженность имеет свои пределы. То, что он взялся тащить дрова, и так уже было несусветным идиотизмом. «Стервец Пачуль!» — бурчит он, пожимая плечами.
Шон голыми руками подбирает то, что может, из содержимого пепельницы, бросает в камин, потом вытирает пальцы о брюки и каблуком втаптывает в ковер остатки пепла. (Джоди возмущалась его беспрерывным курением; сама-то она бросила после единственного гипнотического сеанса в Манхэттене и хвалилась этим каждому, кто имел терпение слушать. «Это легко, Шон. Ты что, хочешь стать инвалидом лет через двадцать-тридцать, с утра до вечера кашлять и задыхаться? Если ты недостаточно любишь себя, чтобы бросить курить, — продолжала она, — сделай это для меня, ведь я тебя люблю». — «Ну да, — отвечал Шон. — Ты любишь меня при условии, что я подвергнусь гипнозу и психотерапии, буду ежедневно бегать трусцой и закончу продвинутые курсы теории феминизма, иначе говоря, при условии, что я перестану быть самим собой». Таков был один из их излюбленных споров, на эту почву они вступали добрых полсотни раз, истоптали ее вконец, потом Джоди ушла.)
— Так что поставим? Майлса?
— Отлично.
Лео подсовывает под спину подушку, надеясь умерить приступ, важно расслабиться, это лучше, чем напрягаться, задача в том, чтобы меньше ощущать боль, ведь если мускулы сведены от усилия противостоять ей, она от этого только обостряется. Направляясь сюда, он проглотил целую пригоршню таблеток аспирина, но от них и в прошлый раз не было никакого толку. «Вам больше нельзя поднимать тяжести, мистер Коротков», — говорил ему врач. (Странная штука: тело Дэвида в тот день ничего не весило — как перышко! — а он сам был наделен безмерной мощью, этакий Бог в Царствии своем небесном, он подхватил долговязое тело младшего сына и перекинул его через плечо, словно легчайший плащ из пуха; сила его не ведала пределов, да, в тот день.)
— М-м-м, как хорошо, — сказал Шон.
— Это, кажется, «Bitch’s Brew»?[12]
— Да-а. Вот, по крайней мере, вещь, которая во все времена будет прекрасной. Когда люди тридцать первого века оглянутся на наше столетие с его горами трупов, у нас хотя бы Майлс найдется во искупление. В крайнем случае можно сказать: но Майлса мы породили, это не пустяк! Род человеческий заслуживает спасения во имя Билли, и Чета, и Майлса, разве нет?.. Ты ведь нас помилуешь ради них, а, Господи?
— Ну что ты, что ты.
На несколько мгновений воцарилось молчание.
Когда они протекли, Леонид сказал:
— Мне как-то говорили, что, когда Майлс работает, а телефон в это время зазвонит, он снимает трубку, говорит что-нибудь вроде «У-лю-лю?!» и потом ее вешает. Даже и не поймешь, в каком измерении он пребывает.
— М-м-м, — снова протянул Шон, кивая с явным одобрением.
А у меня-то был ли хоть когда-нибудь подобного рода транс? — спрашивает себя Леонид. Нет… Даже пока я еще верил в свое призвание, когда только что приехал в Нью-Йорк и считал, что имею шанс добиться успеха, я охотно отвлекался. Друзья забегали без предупреждения, мне бы взбелениться, а я радовался. Поболтать с ними — это было всего желаннее. Выйти, пропустить стаканчик в компании, понюхать, чем пахнет: «Ну, что слышно новенького?» Они мне не мешали. Краски могли подождать, люди — нет. Стоило одной из близняшек заглянуть в комнату, где я вкалывал, и я откладывал палитру, спрашивал: «Как дела?» (После смерти Дэвида Леонид отложил палитру раз и навсегда; ничего, кроме чужих домов, он больше не рисует. Тут уж дело ясное: все, чего от него ждут, отличается определенностью — оно квадратно, четыре стены и потолок, крашенные маслом или водоэмульсионкой оконные прямоугольники, обои, выбор красок и смешивание их сообразно заказу, он знает, как это делается, со временем его умение совершенствуется, впрочем, он ведь и с Шоном так познакомился, перекрасив его дом лет пятнадцать назад, а то и больше, в доме понадобится снова все переиначить, наложить еще один слой краски — они все повторяли это, не ведая, когда все же действительно на это решатся.)
Шон привстал, вновь наполнил их стаканы и сел опять, ах, дело наконец-то идет на лад, теперь все почти что выносимо, он притерпелся к аромату индейки, и за окном уже не гаснущий день, а занимающаяся ночь, о ночи никто не скажет, что она занимается, но почему, собственно? Может быть, даже ночь способна разгораться, если она привносит в это что-то от себя… Заря ночи… Он чувствует, как проникает в мозг музыка Майлса с ее скачками и рывками: его мысли следуют ритму мелодии саксофона… Джоди, та любила только барокко, чего она только не делала, лишь бы обратить меня в свою веру, и Бог свидетель, я старался, целые часы за рулем проводил, слушая кассеты Монтеверди и Фрескобальди, чуть не засыпал на полной скорости, что ты хочешь, не люблю ничего гармоничного и симметричного, Скважинка имя мое, не взыщи…
— Хотел спросить у тебя, — произносит Леонид.
— Гм? — роняет Шон.
— Где это ты раздобыл такие носки?
— Что? Мои носки?
— Да… С виду они довольно добротны. Это в самом деле так?
— Они? Ну… до некоторой степени…
— Видишь ли, я уж и не знаю, что делать. Никак не привыкну к мысли, что носков хорошего качества больше не существует. Это наводит на меня уныние. Покупаешь пару, наденешь их два-три раза, смотришь, а твой большой палец уже вылез наружу. Я готов заплатить дороже, но с условием, чтобы они продержались больше недели.
— Надо полагать, это капиталистический заговор, — несколько рассеянно замечает Шон.
— Это выводит меня из себя! — настаивает Леонид. — Я иду в супермаркет, изучаю этикетки на носках, и знаешь, что я вижу? «Высокое содержание акрила». Это же трагично, Шон, неужели ты не отдаешь себе отчета? Они уж больше и не пытаются нас успокаивать, суля хлопок или лен: нет, «акрил с естественными добавками». Если это единственный ингредиент, наличие которого они осмеливаются признавать, спрашивается, чего еще туда подмешали!
Шон посмеивается. Раздается звонок, и он взглядывает на часы: без десяти шесть.
— Сто против одного, что это Дерек и Рэйчел, — говорит он.
— Ты узнал шум их автомобиля?
— Нет, но Рэйчел живет с десятиминутным опережением.
— В самом деле?
— Это меня прямо с ума сводило… когда-то.
Он встает, замирает, давая мозгу время приноровиться к положению стоя, затем направляется в кухню.
— Я вас здесь подожду. — Леонида страшит мгновение, когда ему придется выбираться из кресла.
— Да чего там, сиди.
(Про самого Шона не скажешь, будто он часто опаздывает, да и повода нет: поэтический семинар только раз в неделю, по средам, с четырнадцати до шестнадцати, поэтический семинар, все остальное время он волей-неволей выживает, как может… но Рэйчел зациклена на времени, он не выносил этой ее одержимости. Они были несовместимы. К примеру, собрались вдвоем в Бостон, влюбленно пошататься по улице Чарльза, и Рэйчел, увидев, как мигнул зеленый огонек для пешеходов, бросается через дорогу, тащит за собой Шона, только бы любой ценой перейти на ту сторону раньше, чем зажжется красный свет: «Эй! — протестует Шон. — Разве мы куда-то спешим?» — «Эх, — вздыхает Рэйчел, — если бы ты столько не дымил, мог бы и бегать». Хотя нет, это не Рэйчел, так говорила Джоди, одним прыжком преодолевая ступени крыльца, появляясь на веранде после часового утреннего бега по лесу трусцой, с сияющими глазами и блестящей кожей, чтобы застать мужа за пишущей машинкой в шестом утреннем кофейно-сигаретном заходе. Нет, Рэйчел никогда не придиралась к нему насчет курева. Я тебя обожаю, Рэйч, ей-ей, правда. Мы были несовместимы, только и всего…)
— Ах.
— Шон! — Кожа Рэйчел. «Шон», — повторяет она чуть слышно, в самое ухо; о дивная нежность ее щеки, мимолетное касание. Она краснеет, как всякий раз, когда они целуются в присутствии ее мужа.
— Привет, Шон, — роняет Дерек.
Мужчины обнимаются. (Шон не испытывает особого желания прижать Дерека к своей груди. Он бы не стал этого делать по собственному непосредственному побуждению, при другой сюжетной ситуации, но здесь выбора нет, если принять во внимание, что они с Дереком — так уж получилось — дважды были влюблены в одну и ту же женщину. Лин Ломонд, первая жена Дерека, Грешным делом, вдохновленная верой Шона в ее талант танцовщицы, укатила в Мексику, чтобы дать ход своей всемирной карьере, оставив на руках у Дерека двух малолетних дочек. А Рэйчел, ближайшая подруга Лин еще с лицейской поры, вместе с Шоном бурно оплакавшая ее уход в краткий миг их любви, выскочила замуж за Дерека, как только был оформлен его мексиканский развод. Шон так никогда и не смог взять в толк, что две такие исключительные женщины, как Лин и Рэйчел, могли найти в этом типичном университетском еврее-зубриле; тем не менее он притиснул к себе его большое туловище, облаченное в канадскую дубленку, и выждал должную паузу, отдавая дань их принудительной близости.)
— Ну и холодина! — ворчит Дерек, топая ногами, как если бы снег уже облепил его обувь. — Снегопада не миновать, это точно. — Шон выглядит больным, говорит он себе. Он скверно стареет. Глаза чересчур блестят. И видно, уже в подпитии. Рановато он принялся накачиваться, это дурной знак. О-хо-хо, только бы он нам не закатил сцену по своему обыкновению…
— Да и пора бы, — отзывается Рэйчел. — Редкий случай, чтобы ни одной метели до самого Дня Благодарения. Кэти, привет!
Следуют рукопожатия и поцелуи, затем Рэйчел развертывает свой шоколадный торт — единственный, какой, умеет готовить, но, надо признать, вкусный. Знаменитый в своем роде.
— Кто здесь за главного? — осведомляется она. — Куда мне это поставить?
— На веранду, — выносит решение Патриция. — Холодильник битком набит, вот-вот лопнет.
— Надеюсь, он там не обледенеет?
Она выходит, унося торт. Ей припоминается, что на этой веранде они как-то однажды занимались любовью, ни одеял, ни простынь, шероховатые половицы драли спину, и не раз они, бывало, плакали здесь в объятиях друг друга… У Патриции красные глаза, замечает она. Что-то не так? Спросить я не решусь: Тереза говорила, что у одного из ее мальчиков проблемы со здоровьем, и довольно серьезные. А может, это просто от контактных линз. Или оттого, что весь вечер провела у плиты…
— Я принесу чашу с пуншем?
— Да, — кивает Шон. — Ее время пришло.
Он отмечает, что в коротких волосах Рэйчел прибавилось седины — там все еще соль с перцем, однако соли стало больше, и кожа, как посмотришь вблизи, вся в тоненьких трещинах морщин, но легкий, острый рисунок ее лица все тот же: эта ее шаловливая хрупкость в духе Одри Хепберн… сколько же ей сравнялось, на два года меньше, чем мне, значит, сорок пять. («Я дотяну до пятидесяти, доктор?» — «Я не Бог, мистер Фаррелл». — «А, понятно».)
Рэйчел вносит в комнату большую хрустальную чашу, делая вид, будто шатается под ее тяжестью… А что, если… вышло бы забавно, нет, совсем не забавно, примерно так же забавно, как тогда, когда Шон выплеснул мне в лицо стакан виски, или в другой раз, когда он взболтал бутылку шампанского, потом зажал ее промеж ног, откупорил и окатил меня этой шипучей спермой… Позволял ли он себе такого рода шалости с другими своими любовницами, или мне досталась монополия на его черный юмор? Она поставила чашу с пуншем на стол, прошла через кухню и принялась по одному доставать из встроенного шкафа пуншевые стаканы.
Ни секунды не поколебалась, отметил Дерек. После стольких лет все еще помнит, где у Шона хранятся стаканы. А я, да, я все еще ревную. Устал ревновать. Шон превратился в руину. Все больше сутулится. И никогда не занимался зарядкой. Надо сохранять активность, я это всегда говорю Вайолет там, во Флориде. («Мама, ну почему ты целыми днями бродишь по комнатам? — твержу я ей. — Отчего бы тебе не пойти искупаться?» — «Мне? Купаться? Ты, видно, совсем мишугине, я всю мою жизнь прожила в Метьючене в Нью-Джерси, среди фабрик и шоссейных дорог, а теперь мой сын хочет, чтобы я вдруг превратилась в прекрасную купальщицу. Посмотри на меня: как я буду выглядеть в купальнике? Чучелом, вот как! Вроде этих жирных психопаток в бикини, этих полярных медведиц, которые среди зимы вылезают на пляж в Кони-Айленде и там резвятся, перебрасываясь большим кожаным мячом. Мне плавать? Нет, уволь. Он, мой сын, желает, чтобы я поплавала. А почему не полетала, с моим-то отвисшим брюхом? Ничего себе шутки. Но мне скучно. Музыку клезмер я в состоянии вынести раз в год, но не каждый же день». — «Тогда почему ты не попробуешь читать?» — «Читать? Мне, читать? Разве у меня когда-нибудь было время для чтения? Это ты у нас в семье читатель, литературный человек, твой отец отродясь не читал, он был слишком занят, ему надо было руководить своей фабрикой готового платья, чтобы ты мог поступить в университет, и получать свои дипломы, и читать сколько вздумается, и даже в симпозиуме участвовать в самый день его смерти. Значит, для тебя это хорошо, так ты и читай, читай! А меня избавь».)
— Привет, Чарльз, — слышится голос Шона.
Дерек до этой минуты держался особняком прислонясь к двери на веранду, глядя, как остальные наполняют пуншем свои стаканы, но не прислушиваясь к их болтовне, всецело погруженный в разговор с матерью, он мысленно пребывал во Флориде. Теперь же он проворно отскакивает от двери, пропуская следующего гостя.
Обнять этого человека Шон может от всего сердца: Чарльз Джексон, чернокожий лет сорока, морщинистый, элегантный, новичок на кафедре, сразу заслужил его симпатию тем, что хоть и был знаменит на всю страну благодаря сборнику блестящих эссе под названием «Черным по белому», а курс об афро-американской поэзии читать отказался. Настоял, что преподавать будет тех поэтов, которых любит, от Катулла до Цезария и от Уитмена до Уолкотта.
Чарльз обходит кухню, машинально пожимая гостям руки: «Добрый вечер… Весьма рад… Очень приятно…» С некоторыми он уже знаком, но мозг, только что сотрясенный яростным спором по телефону, ничего не воспринимает, ни имен, ни лиц, он слышит только голос своей жены Мирны, орущей ему из их чикагского дома, за который он до сих пор выплачивает: «Нет! И на Рождество тебе их тоже не видать, судья сказал — один летний месяц и все, подлец ты этакий Никаких уик-эндов, слышишь, подлец ты этакий!» Похоже, ее словарный запас грозит сузиться до этих трех слов. «Я привлеку тебя к суду!» — «Но, Мирна, в конце концов, если тебя послушать, можно подумать, что я совершил убийство!» — «Вот именно! Это — убийство! Ты меня убил, да, меня! Ты убил мою жизнь! Ты убил мою любовь к тебе! Она мертва! Все кончено, Чарли!" — «Не называй меня Чарли». — «Чарли, Чарли, Чарли! Все кончено, парень! Тебе хана! Ты сам этого хотел, это ты все пустил под откос! Я отправлю к тебе детей самолетом, но я никогда больше не желаю видеть тебя здесь, ты понял? Ноги твоей больше не будет в этом доме!..» (От сих до сих. От сих. один-единственный вечер, проведенный в гостиничном номере за углубленным исследованием аппетитного темно-коричневого тела Аниты Дарвен, молодой поэтессы из Южной Каролины, приглашенной в университет для занятий с поэтами-стажерами, — до сих: новое место на новом факультете за тысячу четыреста километров от своих сыновей Рэндала и Ральфа… и, главное, от дочки Тони, ее сливовых глазенок, драгоценного ее сердечка, она получила имя Тони, потому что Мирна в отличие от Чарльза обожает писательницу Тони Моррисон, малышке всего три года, она не запомнит ни меня, ни даже того, как мы когда-то жили вместе, я буду для нее далеким папой, подлецом этаким.) Почти год прошел, а он все не может оправиться от шока, так внезапно его оторвали от жены, от дома, от всех планов, от будущего… У него до сих пор земля из-под ног уходит.
Стоя в углу кухни, он заново переживает этот кошмарный спор, бессознательно опустошил два или три стакана пунша, никого не видит, ни с кем не говорит… потом замечает, что Дерек направляется прямиком к нему, с белыми это сплошь и рядом, стоит им углядеть черного на отшибе, сразу пугаются, как бы он не почувствовал себя в изоляции, ну вот, так и есть, подгребает со словами:
— Здравствуйте еще раз.
Если он спросит, как мне нравится на новом месте, думает Чарльз, не трудно ли было привыкнуть к университету, очень ли сильно он отличается от чикагского, я свалю отсюда к чертовой матери. И пусть он только попробует вякнуть хоть что-нибудь насчет пунша.
— Неприятности? — спросил Дерек. — Извините, я вас едва знаю, но… у вас такой вид…
— Да ладно! — буркнул Чарльз, захваченный его прямотой врасплох. — У меня проблемы с моими чадами.
— Большими или маленькими?
— Маленькими.
— Маленькие детки — большие бедки.
— У вас тоже?
— По правде говоря, да, и у меня с чадами не все ладно.
— Маленькими или большими? — полюбопытствовал Чарльз.
— Большими.
— Большие детки — большие бедки, — усмехнулся он.
Рассмеялся и Дерек.
— У меня две дочери, — продолжал он. — Одной восемнадцать, другой двадцать один. Старшая, Анджела, в Манхэттене… делает то же, что делают в Манхэттене тысячи молодых женщин.
— Мечтает стать актрисой, — подсказал Чарльз.
— Точно.
— А пока работает официанткой.
— Прямо в яблочко.
— А та, которой восемнадцать?
— Марина. Да, она-то меня и беспокоит. Она ничего не ест.
— Это в ней от матери? — спросил Чарльз, бросая взгляд в дальний угол комнаты на худенькую Рэйчел, а та в это время зажала губами разом две сигареты, обе зажгла и одну протянула Шону.
— Нет. — Дерек покачал головой. — Нет, Рэйчел не мать моих дочерей. Их мать уехала, когда они были совсем крошками.
— Вот оно что.
— Марина на днях потеряла сознание в классе, — продолжал Дерек. — Она учится в колледже Сары Лоуренс, в Бронксвиле. Специализируется на Холокосте.
— А-а-а. На Холокосте. Так это ее специальность.
— Хм. Хм.
— Кстати, вы не находите, что пора бы учредить здесь кафедру по рабству? Серьезно! И докторантуру по продвинутому рабству?
— Отличная идея, — сказал Дерек.
— А доводы вот такого рода: я тут хорошенько поднажал и набрал достаточно материалов для нескольких обязательных предметов, годных, чтобы учредить кафедру курса повышения специализации по пыткам, а через годик-другой это потянет и на докторантуру по геноциду.
Оба в один момент приканчивают свой пунш.
Дерек говорит себе: если он захочет поговорить со мной о своих детях, он это сделает… либо не сделает… Сейчас или позже. Или никогда.
Звонок верещит снова, это Бет и Брайан («Лохматые», как за глаза зовет их Шон, поскольку Брайан носит густую бороду, атрибут адвоката-левака, а Бет с тех еще пор, когда была шикарной куколкой, сохранила длинные завитые волосы) — и кухня разом оказалась переполнена: их толстые животы и зычные голоса, их принужденный смех заняли все пространство, меняя атмосферу, внося оживление… Ох, Бет, не испорти дела, думает Шон, все только начинает налаживаться. С собой в машине они привезли булочника Арона Жаботинского, славного высохшего старика, он плохо слышит и мало говорит, но его ярко-синие глаза блестят весьма красноречиво… Ему без малого восемьдесят, вспоминает Шон, да нет, далеко за восемьдесят, он же родился в Одессе еще до революции; весь город уважает Арона за превосходное качество его ржаного хлеба и бейглс, но этот пекарь равным образом и знаток поэзии — Бродского, Милоша и моей.
Возня с шарфами, пальто, перчатками. «Наступает самая настоящая стужа, — твердят все. — Будет снегопад, снегопада не миновать». Что было бы, спрашивает себя Шон, не будь погоды как темы для разговора? Однажды он затеял мимолетную интрижку с девушкой из Порт-о-Пренса, и, когда в их первом телефонном разговоре он ей сказал: «Мой дом окутан саваном тумана… А у тебя там какая погода?», она бесцеремонно осмеяла его: «Не обижайся, Шон, но смени пластинку. На Гаити погода всегда одинаковая — жаркая и ясная!» — «Так о чем же вы говорите, когда говорить не о чем?» — «О политических убийствах. Ты не видел, как только что на Солнечном берегу линчевали такого-то?» Имя политика, убитого в тот день, он уже запамятовал. Зато девушку звали красиво — Кларисса. То-то же, мамуля, я этого не забыл! Can’t take that away from me[13].
Бет принимается извлекать из больших сумок маленькие пакетики — ах да, все эти легкие закуски: хрустящий картофель nacho, guacamole, земляные орешки, крендельки с тмином, все со штампами «обезжиренные», «низкокалорийные», «без холестерина», «слабосоленые»… Искрящиеся насмешкой глаза Рэйчел встречаются со взглядом Шона… но тотчас обращаются к стенному шкафу в поисках мисок, куда бы рассовать эти ее пресные грешки, разбавленные опасности, допустимые излишества.
Бет пребывает во власти подавленности, умеряемой самоконтролем, и вожделения, не умеряемого ничем. О Боже правый, все эти яства, как же мне от них отказаться, где взять силы? Ее взгляд примечает на тумбе у мойки тыквенный пирог, чуткие ноздри улавливают аромат индейки и сладкого картофеля, Арон натащил свежего хлеба всех сортов, не говоря уж о шоколадном торте Рэйчел, который она углядела, проходя через веранду… До полуночи я успею вобрать в себя десять тысяч калорий и прибавить добрых пять кило, думает она, меня будет тошнить, я проникнусь бесповоротным омерзением к себе и ко всему съестному, Ванесса не пожелает, чтобы я навещала ее в пансионе, она говорит, что любит меня, но ей стыдно, она скрывает, что я ее мать, эх, не надо было принимать… приглашения, Шон Фаррелл неприятен мне во всех смыслах, никогда терпеть его не могла, алкоголизм и булимия слишком сходны между собой, но я, обожравшись, хотя бы злобной не делаюсь, всего лишь несчастной, мне хочется исчезнуть, кануть одной в темноту, на весь остаток жизни впасть в спячку в своей жировой пещере.
Патриция прощает Бет все ее недостатки, как физические, так и нравственные, ведь это к ней она бросилась, когда ее подругу Даниэлу настиг тот ужасный недуг, это ее она расспрашивает в последнее время обо всем, что касается опухоли Джино, — и всякий раз, когда им случается перекинуться несколькими фразами по телефону, в кафе или возле кассы в супермаркете, Бет умеет спокойно и точно объяснить Патриции, что происходит с организмом ее близких. В такие минуты человек не желает выслушивать банальности вроде «все уладится» или «нет смысла пороть горячку»: тебе нужно, чтобы кто-то, кто знает тебя и смыслит в таких вещах, принял твою проблему всерьез и вдумчиво ее проанализировал; ведь если это необходимо, надобно приготовиться к худшему.
Бедняжка Бет, думает Рэйчел. Она избегает чужих глаз, ее собственный взгляд виляет, зигзагом пробираясь от одной кастрюли к другой: я буду есть это! Неужели мне в самом деле предстоит все это есть? О, мне-то хорошо знаком ее ужас. Пусть даже она сама никогда бы этому не поверила, но из всех присутствующих женщин ни одна не поймет ее лучше, чем я. Голодать и обжираться — это две стороны одной и той же медали, здесь главное в постоянной непримиримой вражде между твоим телом и едой. В свои семнадцать мы с Лин соревновались, кто сумеет продержаться на меньшем количестве калорий. На первый завтрак — ничего. На второй — половинка яблока. На обед — йогурт. Владеть собой, не сдаваться. Хотелось уподобиться индийским йогам, чтобы, как они, проглотить конец длинной ленты, протолкнуть его сантиметр за сантиметром сквозь весь пищеварительный тракт, извергнуть снизу, а потом продергивать взад-вперед, чтобы вычистить из своего нутра всю скверну вплоть до самомалейших частиц. Да, стремишься к ясности и чистоте, к абсолютной власти духа над материей. И я, даром что больше не считаю калорий, все еще испытываю извращенное удовлетворение, беря в руки ее легкие закуски и сознавая, что мое тело не усвоит ни единого миллиграмма этой пищи.
Сосредоточенно раскладывая по мискам сии нечистые кушанья, Рэйчел замечает, что Дерек улизнул в гостиную. И думает: ему нестерпимо видеть, как мне все еще вольготно на этой кухне, как я автоматически протягиваю руку и беру с нужной полки нужный предмет. (Здесь до сих пор сохранились кое-какие вещи, которые она пятнадцать лет назад покупала вместе с Шоном, — большие бокалы цвета бирюзы из Рок-порта, черные тарелки из Сохо, напоминание о тех быстротечных неделях, когда они еще мнили, что смогут сделать друг друга счастливыми, наперекор очевидным доказательствам обратного, особенно же — тому факту, что оба с детских лет увязали в мрачном болоте меланхолии, имея мало шансов в одночасье обернуться бодрыми гедонистами, сколь бы ни горазд был Амур на разные ошеломляющие чудеса. «Амур», бог Любви — это синоним Господа, как говорилось в стихах Теда Хьюза, которые Шон читал ей в одну из ночей, из тех кошмарных черных ночей, когда они час за часом мешали джин с водкой и сперму со слезами, пока не начинало казаться, что вот-вот взорвутся не только мозги, но и душа и все твое существо, а Ворон, тупой ученик Господень, вместо того чтобы повторять «Любовь», только бился в конвульсиях, зевал да отрыгивал, уподобляясь таким образом Человеку. «Зевать, и рыгать, и ржать, и пинать…» Вусмерть упившись, Шон долго бубнил в ухо Рэйчел строки стихов, на все лады их шлифуя и коверкая… А мне завтра надо было встать на заре, чтобы прочесть лекцию об Аристотеле, у него никогда не возникало надобности утром рано вставать, но меня-то, если я… потом он уснул, как бревно, еще и захрапел.)
Она направилась в столовую с подносом, уставленным легкими закусками. Приостановясь перед Чарльзом и Патрицией, иронически присела в книксене и предложила им угоститься; те отведали; увидев, как они машинально слизывают соль со своих губ, она диковинным образом сама сделалась этой солью, но впечатление было столь беглым и невыразимым, что рассеялось прежде, чем Рэйчел успела его осознать.
— А вам? — Патриция обернулась к Брайану и Бет, наполнила их стаканы пуншем, двигаясь с профессиональной величавостью официантки в баре или священника в момент эвхаристии. — Где же ваши дети проводят этот вечер?
Брайан осушил свой пунш до дна, обтер усы и снова протянул ей стакан, между тем как Бет недоверчиво осведомилась:
— Там есть алкоголь?
— О, совсем чуть-чуть! — нагло соврала Патриция. И продолжила: — Так как же получилось, что вы празднуете День Благодарения без детей? Вы не в разводе, и даже с виду не похоже, что разобщены!
Что это она, пошутить хочет? — удивился Брайан. Не вижу ничего смешного. Опять опустошил стакан, вытер бороду. (Нынче вечером он решил нализаться поскорее в надежде, что хмельной шум в голове приглушит звон в правом ухе, это проклятое зудение, долгие годы донимающее его.) С одной стороны, она забывает, что я в самом деле разведен, что Чер, моей старшей дочери, уже тридцать лет от роду, она обитает в Пало-Альто и целых восемь лет не удостаивает меня ни единым словом; с другой стороны, Джордан снова в кутузке. Ладно, что ж, я могу ей это сообщить.
— Джордан опять в кутузке, — роняет он вслух.
— О! — восклицает Патриция, ее глаза мгновенно теплеют. — Мне ужасно жаль.
И в-третьих, Ванесса предпочла не сражаться в День Благодарения с материнской булимией и встретить его в Манхэттене у подруги.
— А Несса проводит уик-энд в гостях у одноклассницы, — добавляет он буднично, словно бы это самая что ни на есть обычная ситуация, как будто двести пятьдесят миллионов американцев не делают все возможное, чтобы быть в этот вечер рядом со своими родными, а не подальше от них.
Проходя по салону, Рэйчел протягивает поднос «Мудрому Старцу» Арону, расположившемуся в кресле-качалке Шона. Арон поднимает глаза, узнает ее и улыбается, отрицательно помотав головой. Рэйчел — одна из его самых постоянных клиенток. Каждое воскресенье, чуть только часы пробьют десять, она переступает порог его булочной под названием «Тински» (поскольку Арону давно надоело по буквам долдонить американцам: «Ж-а-б-о-т-и-н-с-к-и»), покупает три bagels и одну буханку ржаного и, ласково простившись, уходит. (Арон не признавался в том ни одному из обитателей этого города, равно как и этой страны и всего северного полушария, но пекарем он был не всегда, по правде сказать, он обучился своему нынешнему ремеслу не так уж давно, всего двадцать лет назад, когда, уйдя на пенсию с должности преподавателя социальной антропологии в Дурбане, в Южной Африке, он перебрался в Соединенные Штаты — сперва в Коннектикут, где жила его семья, потом сюда. «Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам…» Как мучают его эти строки Анны Ахматовой, день и ночь сжигая мозг, и все же он решается оживить в памяти картины полувековой давности, еще до первой эмиграции, когда в Одессе отец учил его готовить халу из плетеного теста на Пасху, лепить пухлые колечки для пончиков, опускать их в кипящую подсоленную воду и потом запекать в духовке, посыпать зернышками кунжута, мака или мелко рубленным луком, укладывать слоями яблоки, орехи, изюм и тесто для свадебных струделей… Ах, они и сейчас у него перед глазами, большие покрасневшие руки отца, он вынимает из духовки раскаленные противни, деревянной лопаточкой сбрасывает хлебцы в большую ивовую корзину, где им предстоит дожидаться благословения раввина… В 1931 году, когда Арону было шестнадцать, семье удалось бежать с Украины, дав кое-кому на лапу и воспользовавшись близостью Черного моря. Его отец в ту пору не имел ни малейшего понятия о Южной Африке, но Украина после реквизиций зерна страдала от столь серьезных экономических проблем, что речь уже шла просто-напросто о пустом желудке, так что он был счастлив, расквитавшись со всем этим, умыть руки и перекочевать с семейством в Преторию, где его брат уже владел большим часовым заводом.)
Как идут дела? — спрашивает Леонид, пробуя втянуть его в их с Шоном беседу у камина: но Арон сейчас ни о чем разговаривать не хочет. (Его родная Одесса не дальше от Леонидовых Шудян, чем Бостон от Детройта, это рождает между ними неизъяснимую близость, узы, что связывают всех тех, у кого за плечами напряженные, лживые, смертоносные годы, прожитые в тени Советского Союза; Арону известно, что Леонид не еврей, и он, памятуя о многолетних славных традициях белорусского антисемитизма, не слишком стремится расспрашивать его о юных годах, они никогда не пускаются в подробные воспоминания о былом, ибо знают, насколько неприятны могут быть известного рода детали, да и вообще Арон человек молчаливый и скрытный, Леонид даже удивился, увидев его здесь в этот вечер, — хотя, если подумать, что тут такого уж странного, ведь все давно знают, что Арон — ценитель поэзии: Леонид, бывая в «Тински», не раз замечал торчащий из кармана булочника сборник стихов Шона. Что до самого Леонида, он ничего не смыслит в литературе: ему нравятся стихи жены, потому что он любит ее, и точка.)
— Хорошо, все хорошо, — отвечает Арон.
Это правда, дела идут отлично, больше тут ничего не скажешь, а ему хочется одного: теперь, вступив в последнюю фазу своей жизни, отдохнуть, отказаться от пустословия, от всего поверхностного и лишнего, вроде, к примеру, этих легких закусок, что разносит Рэйчел. (Оставаясь атеистом, он, однако же, всегда считал, что есть нечто великолепное в том, как раввин благословляет кушанья, в их приготовлении сообразно священным законам, когда коров и баранов закалывают так-то, зерно размалывают так-то, дабы все пребывало в согласии с волей Всевышнего. Его жена Николь, по рождению католичка, увидевшая свет в Бретани, на острове Круа, а в пору своих занятий в Сорбонне усвоившая коммунистические идеи, никогда не понимала почтения, которое ее супруг питал к религиозным ритуалам. Она-то видела в них только мешанину и тарабарщину, хитрую уловку, призванную отвлечь бедняков от их реальных страданий. «Но что в этом дурного? — спрашивал Арон. — Не только угнетенным, всякой душе человеческой нужно время от времени отрешаться от действительности… Разве так необходимо отнимать у пролетария единственную отраду — возможность воспарить, почувствовать в своем существовании сакральный смысл?» Да ведь и самому Арону никогда не забыть тех волшебных мгновений, когда — каждую пятницу вечером — мать зажигала свечи, а он смотрел, смотрел…)
— Еще капельку пунша, Арон? — спрашивает Кэти, Но булочник даже не пригубил своего стакана, он только улыбается ей, не проронив ни слова, и Кэти удаляется.
— До чего ж гениальная идея, — Дерек, подойдя, присаживается на корточки возле кресла-качалки Арона, — нет, правда, это было гениально — открыть настоящую булочную штетл в городе трудолюбивых яппи. Пока здесь не появились вы, я и не знал, до какой степени мне не хватает истинных пончиков! Сказать по правде, просто не отдавал себе отчета! Позволял навязывать мне черт знает что. Ананасовые пончики, шоколадные пончики, низкокалорийные пончики… Наступает день, когда опускаешься так низко, что покупаешь даже пирожок с повидлом! А потом, когда тебе является Пончик, это так вкусно, аж слеза прошибает, воистину, Вещь В Себе. Я уж теперь и вообразить не в силах, способно ли что-либо, кроме перспективы завтрака с вкуснятиной из «Тински», выманить нас с Рэйчел из постели воскресным утром?
Арон одаривает его улыбкой. Он видит, как быстро утомило Дерека сидение на корточках; зулусы, даже самые старые и немощные, способны на долгие часы застывать в такой позе, а у белых она — признак юности, но Дерек уже не молод, повыпендриваться он может разве что минуту-другую, потом его бедренные мышцы затекают, пояс врезается в брюхо, и возникает острая нужда либо сесть на ковер, либо встать — все зависит от того, как Арон отреагирует на его комплименты, Арон же никак на них не отзывается, ограничившись улыбкой, он покачивается в своем кресле, будто постаревший мальчишка, получая несколько садистическое удовольствие при виде неудобства, коему подвергает себя присевший на корточки собеседник.
Наконец Дерек встает — с таким усилием, что Арону кажется, будто он слышит скрип его коленных суставов, — и повторяет: «Нет, серьезно, идея гениальная».
Старик еще более глух, чем я предполагал, говорит он себе, отворачиваясь от Арона. Или он забросил свой слуховой аппарат, чтобы всласть окунуться в тишину. Что ж, могу себе представить, он это заслужил, имеет право. Хотел бы я подарить своему отцу перед смертью несколько лет тишины. Один французский писатель — как его? Кено? или Киньяр? — сказал, что уши лишены век. Метко: глаза, если захочешь, можно и закрыть, а с ушами ничего не поделаешь. Уши нас делают уязвимыми, отдают во власть других, на милость их бесцеремонности и дурного вкуса. Бедняга Сидни. Если бы ты мог слышать что-то еще, кроме жужжания швейных машин с утра до вечера и Вайолет — с вечера до утра, что бы ты слушал? Музыку? Гм, это еще вопрос… Во всяком случае, не эту музыку. Джаза ты никогда не любил, находил его вульгарным. Смотри-ка, а у Шона его коллекция дисков — один сплошной джаз, их тут, похоже, добрая тысяча. Ирландцев ты тоже не очень жаловал, ведь так? Ты о них говорил, мол, шнорерс. «Ежели им охота день-деньской болтаться по пабам да песни орать, это их дело. А мне вкалывать надо». Впрочем, ты был прав, Шон и впрямь шнорер с головы до пят. Какое счастье, что он храпит по ночам, если б не это, у Рэйчел, может, и не хватило бы духу его бросить, а у меня бы не было второй жены. Она говорила, что готова была умереть за него, но только не слушать его храп в три часа ночи. Ужасная несправедливость, жаловалась она, полночи ссорились, потом он принимался храпеть, а она до утра не могла сомкнуть глаз. Продрав глаза, Шон был готов к примирению, а Рэйчел, измочаленная, разбитая, подумывала о самоубийстве.
— А тебе, Дерек? Тебе налить? — спрашивает Кэти.
С широкой ухмылкой он протягивает ей свой стакан.
— Как поживаешь, Кэти? У меня такое чувство, будто мы целый век не виделись… — И тотчас пугается: только бы не оказалось, что в последний раз они встречались на похоронах Дэвида. А и впрямь, когда это случилось? — спрашивает он себя. Уже давно, года два-три назад. (Дни над кампусом текут быстро, особенно с тех пор, как уехали дочки, их переход из класса в класс больше не задает ритм отсчета времени. Все годы на одно лицо, раз за разом то же календарное коловращение экзаменов и каникул, тупое, неумолимое, и сам двигаешься по кругу, будто хомяк в клетке; юные студенты накатывают, бушуя, волна за волной, они, что ни год, кажутся все белобрысее, все пресней, да, похоже, и бездумней, главное, все меньше расположены напрягаться, то есть понимать тексты. «В наши дни Спинозе пришлось бы отстаивать свое право на еврейство», — вот как они теперь говорят.)
— Да нет, — отзывается Кэти, — не так уж и давно. Помнишь, мы в прошлом году столкнулись на празднестве по случаю Четвертого июля?
— А, да, конечно, — бормочет Дерек.
— Ты даже со мной танцевал! — смеется Кэти.
Ну да, теперь вспомнил, но сколько бы он ни скалил зубы в улыбке, ни мотал головой, ему не совладать с приступом острой жалости к Коротковым. (Самая ужасная, худшая из всех возможных бед — опять она всплывает в сознании, эта фраза, Дэвид Коротков учился вместе с его дочерью Анжелой, в том же лицее, даже играл на скрипке для какого-то их танцевального выступления… а потом… потом он умер. Дерек узнал об этом одним из первых, Тереза, приходящая домашняя работница, рассказала ему на следующий день после того, как Лео и Кэти обнаружили тело — «Дэвид Коротков умер», — его сразили эти слова, весть была как удар кулаком в живот, все в нем возмутилось, он был ошеломлен, сбит с ног, потрясен, тогда-то и сказал себе: это, потеря ребенка, — самое худшее, что может случиться с человеком, с каждым… И тотчас же безрассудно экстраполировал это на своих собственных детей: что, если его девочки ширяются, вдруг Марина в это самое мгновение впрыскивает себе в вену героин… «Дэвид Коротков умер»… но по мере того как он повторял эту фразу, распространяя новость среди своих приятелей, Дерек, поражаясь, замечал, что его волнение мало-помалу утихает, будто сам факт пересказывания лишал эту историю реальности; он продолжал твердить о «самой ужасной, худшей из всех мыслимых бед», но ощущение истинности этой мысли таяло, через несколько часов страшное известие уже не трогало его. Он смотрел, как на лицах собеседников проступал ужас, как под воздействием внезапного шока менялись их черты, и завидовал силе их чувств, стыдясь проворства, с каким его душа улизнула от правды случившегося, спряталась за словами; разве так можно? Вот и сейчас, в этот вечер, он не находит в себе даже следа прежней боли, ничего, кроме жалости.)
Кэти между тем отошла к своему супругу, склонилась над ним, мужчиной ее жизни, запечатлела поцелуй на седоватых завитках, сквозь которые просвечивает его розовый затылок:
— А тебе, мой ангел? Хочешь стаканчик пунша? Ах нет, у вас тут виски, лучше не смешивать.
Леонид поднимает руку и, не оглядываясь, уверенно нащупывает голову жены, его пальцы сперва охватывают ее подбородок, потом дотягиваются до лба, он запускает их в ее седые волосы, гладит, будто хочет сказать: все в порядке, я здесь.
— Да, я уже и так довольно хорош, — это он говорит вслух. — Тут у меня все, что нужно: музыка, Шива, искрящееся остроумие Шона…
— Не искрящееся, а блестящее, — поправляет Кэти.
— А по-моему, оно именно искрится, как шампанское, — настаивает Леонид, всегда готовый дать отпор любому там, где речь заходит о его владении английским. — А кстати, который час? Я умираю с голоду. Все уже в сборе?
Его густой, красивый бас, разносясь по квартире, достигает кухни и, следовательно, слуха Патриции, которая протестующе восклицает:
— Нет-нет, еще не все! Ничего не готово! Даже стол не накрыт!
Глава V. Чарльз
Чарльзу суждено уйти последним. У него впереди четыре десятка долгих лет. Деньги, известность und so weiter[14]. Но его трое детей будут отходить от него все дальше и дальше, навещать отца только вынужденно, по возможности реже, при этих встречах всем будет не по себе, ведь у них уже не останется ни общего языка, ни общих понятий. Женится он еще дважды, но ребенка у него больше не будет. Живого ребенка, который делил бы с Чарльзом его кров, смеялся, плакал, играл, носился по лестницам, просыпался среди ночи с глазами, затуманенными жаром, уже не будет никогда… Быть может, для того, чтобы компенсировать эту обделенностъ, он опубликует несколько книг, великолепных книг об отношениях белых и черных, о возможности между ними любви, влечения и страсти, а не только сплошного насилия и господства, причем даже в минувшие века, даже под гнетом рабства. И станет доказывать, что кожа цвета кофе с молоком (как у его детей) порой может быть не залогом самоубийственной раздвоенности и ненависти к самому себе, а знаком наследственной одаренности двойным запасом любви.
В общем, несчастный человек.
Он ровным счетом ничего не успеет почувствовать. Всего за несколько секунд его третья жена станет вдовой, а наброски стихов, раскиданные по письменному столу, — посмертным сборником.
Большой шикарный дом в самом богатом квартале Нового Орлеана. (Да, вся штука в том, что факультет Тьюлейна в конце концов предложил ему весьма прибыльную работу.) Ах! Что ни говори, а он каждый день отнюдь не без приятности усаживался за письменный стол, готовился к лекциям, просматривал поэтические сборники и труды по истории, делал заметки, в раздумье глядя на маленькую хижинку, приют рабов, что виднелась в дальнем конце лужайки и не содержала более ничего, кроме садовой утвари… Смотрите, как все это славно: легкий ветерок, задувая в открытое окно, играет шторой, перебирает страницы книг на письменном столе… Изысканно-пышная зелень за окном еще трепещет и роняет капли после недавнего ливня… На веранде пара поношенных домашних туфель ждет, что Чарльз, вернувшись дамой, сунет в них ноги. Все осталось, как было, кроме одного: на сей раз он не вернется. Он лежит вниз лицом на раскаленном шоссе. Его очки отлетели на несколько метров от места столкновения, а мотоциклист, сбив прохожего, умчался, как вихрь. Ах, друг мой… что бы стоило не сходить с тротуара! Но его мозг даже не успел зарегистрировать происшедшее: вследствие внезапного выделения большого количества глютамата из памяти Чарльза бесследно испарились предыдущие десять минут, в течение которых он рассеянно уложил свой портфель и, завернув мимоходом в туалет, направился на улицу. Окажись там свидетели, они могли бы услышать, с каким треском раскололся его череп. Несколько туманных поэтических идей еще плавали там в ожидании, когда он займется ими вплотную и облечет в стихотворные строфы. Все это выплеснулось на горячий асфальт: образы его рожка для обуви, маминого пестрого фартука, желе из диких яблок, которое готовила бабушка, красная, в фантастических трещинах и складках, земля каньона Челли — образы, брошенные на произвол судьбы, испарились, растаяли в воздухе.
Глава VI. Опоздавшие
— Мы ждем еще Хэла и Хлою, — тотчас подхватил Шон.
— Хлоя? Кто это? — спросила Кэти. — О нет… Только не говори мне, что Хэл опять связался с нимфеткой!
— Я накрою на стол, — предложил Чарльз, ведь за десять лет их супружества Мирна приобщила его к радостям повседневной жизни: к хождению за покупками, стряпне… а главное, к заботам о маленьких детях, и все затем, чтобы отнять их у него, стоило ему один раз оступиться. — Скажите только, где тарелки. Мне будет приятно накрыть на стол. — Это напомнит ему прежние времена, ушедшую пору, когда у него еще была семья, которую он кормил, и любимая жена, и все то, что, как теперь стало понятно, он принимал бесконечно ближе к сердцу, чем свою должность, и цифры выручки от продажи своих книг, и свое имя в «Нью-Йорк таймс». К разговору он не прислушивался, поскольку не был знаком с Хэлом Хезерингтоном, так что любовные грешки последнего не могли его интересовать.
— То-то и оно, — хихикнул Шон, — то-то и оно, причем на сей раз он женился и наградил ее младенцем.
— Не может быть! — закричала Патриция. — Так это и есть тот малыш, о котором ты только что говорил? Ребенок Хэла Хезерингтона? Нет, я тебе не верю.
— Меня возмущает это выражение: «наградил ее младенцем», — сказала Бет. — Как будто младенец принадлежал ему и он передал эту собственность ей. Сначала поносил в себе, потом великодушно соблаговолил осчастливить жену…
— Сегодня — никаких споров, прелесть моя, — прервал Шон.
— Я не твоя прелесть. — Бет порозовела от гнева. — Я тебе запрещаю называть меня так!
— Вы там, оба-два, вы перестанете цапаться, наконец? — возмутилась Патриция. — Мы в самой сердцевине животрепещущей сплетни, и я горю желанием узнать больше. Ну, право же, Шон. Рассказывай!
— Он слишком стар, чтобы быть отцом, — проворчала Бет.
— Мне все это известно только в общих чертах, — сказал Шон. — Как вы помните, два года назад Хэл взял годичный отпуск и поехал в Ванкувер искать материал для нового романа. Ну вот, там-то судьба его и подстерегла, приняв, насколько я мог понять, обличье некоей обольстительной Хлои. Стало быть, он, испросив — и получив — от университета беспрецедентное продление отпуска, женился на ней и повез на Западное побережье в свадебное путешествие. Их сын появился на свет, кажется, в Санта-Барбаре.
— Ты еще не видел этой самой Хлои? — спросил Леонид.
— Э, нет. Он ее от меня прячет.
— Сколько ей лет? — полюбопытствовала Рэйчел.
— Двадцать три.
— Двадцать три года? — Бет всплеснула руками. — А Хэлу сколько, пятьдесят пять, кажется? Господи, он же ей в отцы годится!
— А я-то думал, он слишком стар, чтобы быть отцом, — съязвил Шон.
— Шел бы ты…! — еле слышно буркнула Бет.
Наступило недолгое молчание — все гости (за исключением Арона Жаботинского, который их не слышал, — он, сняв слуховой аппарат, загляделся на пламя в камине, вспоминая стихи Пушкина, которые ему читала мать, — он был малышом, она, присев у огня, качала его на коленях, напевая кошмарные пророчества так нежно, словно это была колыбельная:
О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! Сказал я, ведайте: моя душа полна Тоской и ужасом; мучительное бремя Тягчит меня. Идет, уж близко, близко время: Наш город пламени и ветрам обречен, Он в угли и золу вдруг будет обращен, И мы погибнем все, коль не успеем вскоре Обресть убежища; а где? О горе, горе![15] —значит, сказал себе Арон, она уже тогда знала, что бегства не миновать) пытались приноровиться, подготовиться к появлению юной особы. Смущенные, они спрашивали себя, как их воспримет эта Хлоя. И прекрасно знали ответ: как старичье. Даже Патриция, самая младшая в компании, в полтора раза старше новой супруги Хэла. А ведь на самом-то деле они, старики, таковыми не были, — здесь существовал своего рода молчаливый сговор. Из года в год каждый видел, как у других появляются морщины, жировые складки, круги и мешки под глазами, сутулость, двойные подбородки… но всякий раз, встречаясь, они великодушно игнорировали эти приметы, забывали, умудрялись проскальзывать мимо них или, точнее, под ними, сквозь них — к главному, к душе. И вот, оказывается, нынче вечером они осуждены поневоле выставить на суд свои тела — ничем не приукрашенные, объективно потрепанные. Черт побери, Шон. С твоей стороны не слишком красиво припасти для нас такой сюрприз.
(Но разве Шон мог не пригласить Хэла? Как один, так и другой принадлежали к числу самых заметных персон кампуса, двадцать лет они делили между собой и студентов, и литературные сборища, и роли в филологических дискуссиях, так что хрупкий, трепетный ирландский поэт-алкоголик и кипучий, дородный романист, уроженец Огайо, волей-неволей сделались большими друзьями. В глубине души каждый злился на другого, ибо за все эти годы собрату не раз случалось быть свидетелем его малодушия и пассивности, поскольку оба вместо того, чтобы жить подлинной жизнью, с открытым забралом принимая ее вызов, предпочитали прятаться, используя предоставленную факультетом шикарную синекуру, отсиживаться в своей норе. По временам тот или этот предпринимал отважную попытку заключить брачный союз, чтобы затем, потерпев прискорбное фиаско, возвратиться к своей писанине; впрочем, ни один из них не придавал особого значения творчеству другого: Шон находил романы Хэла многословными, напыщенными и безнадежно реалистическими, тогда как стихи Шона, на взгляд Хэла, являли собой нудную, чтобы не сказать болезненную невнятицу; еще того меньше впечатляли каждого из них любовные победы приятеля: Шон не мог без скуки смотреть на безмозглых блондинок, в которых систематически влюблялся Хэл, а на того наводили оторопь блистательные неврастенички, возбуждавшие интерес Шона… Тем не менее эти двое, пусть и с грехом пополам, оставались закадычными друзьями.)
Кэти со взмокшим от пота лбом уселась на ковер, прислонившись спиной к колену сидевшего Леонида, а тот гладил ее по волосам правой, шершавой и загрубелой рукой. Он знал, о чем она думает: двадцать три года — возраст нашей Элис, столько же было Дэвиду, когда он умер, будь он жив, ему сейчас стукнуло бы двадцать пять, но, погибнув, он на веки вечные остался двадцатитрехлетним, такова окончательная кривая его судьбы, от нуля до двадцати трех, коротенькая кривая, стиснутая длинными синусоидами жизненных путей его родителей, вместо того чтобы оплести их и вырваться за их пределы, как ей бы полагалось. И вот теперь сюда ворвется эта незнакомка, фальшивая нота в мелодии, так заботливо оркестрованной и направляемой дирижером — Шоном, пресловутая Хлоя с ее двадцатью тремя годами; ей одной не известно о нас ничего, она единственная понятия не имеет о том, что мать Шона прошлым летом скончалась от болезни Альцгеймера, что два года назад наркотики самым кошмарным образом отняли у нас сына, что дядья и тетки Рэйчел отравлены газом в Биркенау, что Джордан, приемный сын Брайана и Бет, сидит в тюрьме за кражу, что у Чарльза в разгаре бракоразводный процесс… А присутствие здесь юного, невинного созданья, полного надежд, неизбежно приведет к тому, что весь вечер придется поддерживать разговор на самом банальном уровне: погода, политика, да еще, на сладкое из области культуры, — парочка туманных замечаний по поводу фильмов. Ты совершил ошибку, Шон, думает Кэти, пригласив на вечеринку эту Хлою, или, вернее, ты ошибся, Хэл, что женился на ней и вздумал ввести ее в наш круг. Стоит ей войти в эту комнату, как женщины скукожатся и превратятся в стерв, а мужчины станут по-идиотски петушиться, наперебой стараясь ей понравиться… О Господи, прошу тебя, сделай так, чтобы она не пришла, к примеру, пусть их ребенок захворает и они будут вынуждены остаться дома — нет, никогда не следует желать болезни детям, тогда пошли им какую-нибудь неотложную заботу, скажем, умирает отец Хлои, им приходится мчаться на самолет до Ванкувера — нет, нельзя желать смерти родителям, ладно. Боже, ты ведь знаешь, что я хочу сказать, сделай как-нибудь так, чтобы эта куколка не пришла.
— Уже почти семь, — говорит Рэйчел, не взглянув на часы. — Может быть, все-таки пора садиться за стол?
— Да, иначе индейка рискует пережариться, — отзывается Патриция. — И белое мясо, и окорочка потерпят ущерб. (Она смеется одна, потому что никто, кроме нее, не в курсе дилеммы, оговоренной в Кулинарной книге.)
В это самое мгновение пучки света от фар обметают окна, и клаксон звучно выкрикивает свое: «Та, та-та ТА-ТА — ТА-ТА».
— А вот и Хэл! — говорит Кэти.
— Это, должно быть, они, — бормочет Чарльз, обращаясь скорее к самому себе. Он старается закрыться, оградить себя от мучительного волнения при одной мысли, что весь вечер придется видеть перед собой ребенка, в то время как его собственные дети так далеко, что отныне они будут расти и меняться без него, «подлеца этакого», а ведь он клялся, что никогда не уподобится своему собственному родителю, вечно отсутствующему, в отъезде, занятому, работающему во имя Дела, составляющему речи для Кинга, «не уезжай, папа, пожалуйста, поиграй со мной, ну пожалуйста, папа»… каждый час, проведенный с Ральфом и Рэндалом, был драгоценен, незаменим, он постоянно ощущал это, и робкие вопросы в час, когда пора ложиться спать, «папа, а ты боялся темноты, когда был маленьким?»… и смешки поутру за завтраком… Тони, сующая соску своему плюшевому дельфину… проблемы, возникающие внезапно, кажущиеся им неразрешимыми, но уже назавтра тающие, словно по волшебству… Настает день, когда ты даешь маху, когда все вдет прахом; и того дня уже не воротишь.
Шон встал, и мир накренился вправо, чтобы стабилизировать его, пришлось ухватиться за спинку Леонидова кресла, потом он покосился на бутылку виски, опустевшую на три пятых, недурно, я ее откупорил в два часа пополудни и пня не один, что-то я плоховато вижу, зрение определенно ухудшилось… «Фу! — прикрикнул он. — Замолчи, Пачуль! Разве так надобно встречать нашу новую подружку Хлою? Ты ее напугаешь до полусмерти, если будешь так лаять!»
Все смеются, довольные, что тягостное молчание нарушено: худо ли, хорошо ли, а вечеринка должна идти своим чередом.
Проходя через кухню (не спотыкаясь, не пошатываясь, стульев не опрокидывая, нет, еще не время, скорее, напротив, гордясь тем, что шествует по достаточно прямой линии), Шон замечает на буфете нож для резки овощей, это Патриция положила его туда, предварительно помыв. Поблескивает. Скальпель. «Понадобится сделать надрез на груди сбоку», — сказал ему врач. Да, на его теле произведут длинный дугообразный разрез, рассекут межреберные мышцы и раздвинут ребра, чтобы добраться до плевры, затем расчленят и удалят часть левого легкого. Или, может быть, все легкое целиком. «Там видно будет. Нам предстоит еще произвести некоторые исследования. Но первое, что необходимо сделать, мистер Фаррелл, это бросить курить. Покончить с курением, хотя бы это вы можете сделать для собственного блага? Бросьте курить». Проходя мимо буфета, Шон хватает нож и зажимает его ручку зубами. Так, в обличье пирата с оскаленным в дурацкой ухмылке ртом, он и выходит на веранду встречать опоздавших.
Начинается снегопад. Первые хлопья, редкие, холодные, кружатся в луче желтого света лампы у входа. И кого же видит Хлоя, подойдя с закутанным от стужи малышом на руках к дому, где ее ждет встреча с друзьями мужа на вечеринке в честь Дня Благодарения: какого-то психа, хихикающего, малость сгорбленного субъекта, который поспешает к ней с громадным ножом в зубах. Что за шутки, Хэл? Это у твоих друзей юмор такой? Она останавливается.
— Вы Шон? — тихо спрашивает она.
— М-м-м-да.
— Ага… Да-да… Понятно… А не вернуться ли нам домой?
Одна мысль об этой вечеринке и без того уже внушала ей отвращение. Ее страшила надобность быть представленной этим людям, знающим Хэла как облупленного со всеми слабостями, ведь у них перед глазами прошли одна за другой его прежние подружки. Думала, что придется лицом к лицу встретить их снисходительную иронию, завуалированную вежливостью: «Итак, вот пассия номер 21…» но это… нет, такого она не ожидала. Ока уже готова повернуться и твердым шагом двинуться обратно к машине, но тут раскатисто захохотал Хэл. Облапил Шона, придушил не в пример более хрупкого хозяина дома в своих объятиях и, давясь от хохота, прогудел: «Э, парень, брось эти фокусы, спятил ты, что ли? Хотя нет, вряд ли, но ты, видать, налакался еще до ужина? Ну же, Шон, соберись, я ведь хочу, чтобы Хлоя тебя полюбила, для меня это важно…» Он тараторит басом, с новым взрывом смеха оглядывается на жену и размашистым жестом подбадривает взойти на крыльцо веранды: «Входим, ну же, Хлоя, не дрейфь, это шутка, давай же, входи!» — и Хлоя неуверенно, опустив глаза, наконец поднимается по ступеням с ребенком на руках — его жена, его сын! О, неизреченная красота этих двоих! Представляя их, Хэл преисполняется ни с чем не сравнимой гордостью:
— Шон, это Хлоя! А вот наше чадо, Хэл Младший!
— Примите мои глубочайшие извинения. — Разом оставив пиратские ухватки, Шон с учтивостью принца берет обеими ладонями правую руку Хлои, склоняется, чтобы запечатлеть на ней галантный поцелуи. — Сам не знаю, что на меня нашло.
— Что это? Вы порезались ножом? — спрашивает Хлоя, в замешательстве глядя на перевязанный палец Шона.
— Ах, это? Нет, нет, — смущенно бормочет Шон, злясь на себя за недавнюю выходку: тут была необъяснимая связь с раком, но, кроме того, и другая, еще более туманная, с Филом Грином, его первым отчимом, когда он женился на Мэйзи, Шону было всего одиннадцать лет. Фил потрудился изгадить все праздники, которые они провели вместе (День Благодарения, Рождество, дни рождения): то он принимался поносить Мэйзи самыми площадными словами, то как следует врезал Шону по морде, а однажды дошел и до того, что вытащил из кармана револьвер и возвестил о своем намерении размозжить башку всем присутствующим, включая себя самого. Где ты теперь, Фил Грин? — думает Шон, касаясь губами нежной душистой кожи на правой Хлоиной ручке. Надеюсь, что ты гниешь в какой-нибудь тюряге, лучше всего в техасской, в камере смертников.
— Входите, прошу вас, — произносит он, глядя на Хлою так пристально, что ей не остается иного выбора, кроме как поднять на него глаза и уступить. — Всем гостям не терпится познакомиться с вами — отчасти потому, что вы жена Хэла, но также и потому, что они умирают от голода.
Хэлу кажется, что это мгновение он уже когда-то пережил. И не с другой женщиной, именно с Хлоей. Да, он вспоминает это, все в точности: они сбрасывают пальто и шарфы в коридоре Шона, и у него перехватывает горло при взгляде на красоту Хлои, такую нежную, в темно-алом платье до колен, плотно облегающем стан и открывающем шею, будто из кроваво-красного цветка ее тела выглядывает белый изящный пестик, увенчанный золотистой короной светлых коротких волос; и ее глаза, полные растерянности, неотрывно глядят на него, потом взгляд скользит вниз, к мягким складкам одеяльца, укрывающего дитя у нее на руках, да-да, все это с ним уже было, странное ощущение с каждой секундой усиливается, почти до боли, пока они не входят в гостиную, потом рассеивается без следа.
От внезапно нахлынувшего тепла, запахов и голосов малыш проснулся, заворочался в объятиях матери и тихонько, удивленно пискнул. Раздвинув пеленки, Хлоя высвободила наружу его большую светлую голову. Взрослые подступили ближе, образовали кольцо вокруг Хэла и Хлои, отталкивая друг друга локтями, чтобы получше рассмотреть крошку. Хэл Младший огляделся и, не обнаружив ничего знакомого, застыл, его глаза с длинными ресницами изумленно выпучились. Он повернулся к матери — Северному полюсу, потом, ободрившись, снова повернулся и стал созерцать остальной мир. Рот его приоткрылся с выражением такого бесконечного недоумения, что взрослые покатились со смеху. Напуганный этим грубым шумом, ребенок судорожно уцепился за мать, уткнувшись лицом ей в грудь, чем вызвал новый шквал хохота, заставивший его разреветься.
Он похож на человека так же, как на человека похож шимпанзе, сказал себе Шон. И поспешил проводить маленькое семейство на второй этаж, в комнату, где Тереза еще с утра приготовила крошечную постельку на уровне пола.
Это забывается, думает Патриция. Даже если тебе кажется, будто ты помнишь, все равно забывается, что это на самом деле такое — держать на коленях дитя, сжимать в объятиях, кормить, лелеять своего малыша. Ощущение, которое ни с чем не сравнить. (Самой-то ей не сладко приходилось на руках рассеянной, измученной матери. Она была младшей, последыш, постскриптум, и мать, имевшая уже восьмерых, изнуренная, не говоря о том, что она еще и в кормилицы нанялась, лишь бы свести концы с концами, никогда не находила для нее времени — ни времени, ни места, ни терпения, в доме царил полнейший кавардак… К счастью, у нее была пота[16], любившая ее — и Патриция об этом знала — больше всех… Это у бабушки она научилась готовить искусно, щедро и… «А еще? Ну-ка скажи, какая добавка в этом рецепте самая важная?» — «Соль?» — «Нет! Любовь! L’amore…», рубить лук, перец и чеснок очень мелко, взяв mezzaluna[17], понимать истинный смысл Иисусовой притчи: «Когда есть любовь, еды всегда вдоволь, это любовь умножает хлебы и рыбы, capito?»[18], отличать дрозда от воробья: «Venite, venite bellissimi, mangiate!»[19] и гибискус от бегонии: «Ма si[20] ты и с цветами можешь говорить, всеблагой Господь создал их такими же прекрасными, как ты!» Это ее nonna, рожденная в Агриженте, на Сицилии, научила ее, крошку, грезить о стране предков, о городке с мощеной церковной piazza[21], о старинных крепостях, где хорошо играть в прятки, о представлениях марионеток, о палящем зное, оливах и цикадах тех мест; и та же nonna приохотила ее к опере, это благодаря ей она всякий раз, занимаясь хозяйством, ставила пластинку Пуччини или Верди, во все горло подпевала Каллас, не выпуская из рук пылесоса. Для сыновей она тоже постоянно пела старые сицилийские песни, само собой, она на них покрикивала, но главное, она им пела, таким образом, мальчикам досталась mamma, во всех ее ипостасях: от доброй феи до злой колдуньи, что ж, тем хуже, a cosi[22], ах, но как же ты меня избаловала, моя бесценная nonna!)
Вот и Кэти тоже с тоской и завистью смотрит на дитя в материнских объятиях. Какое непревзойденное эротическое наслаждение дрожать! Все четыре раза оно повторялось, это ощущение собственной силы в мгновение, когда извергаешь из себя ребенка, невероятная радость — вот! — новое человеческое существо, выходящее из меня! — достаточно сильна, чтобы совершить такое! — а в последующие дни на тебя нисходит необычайный мир и покой, ведь такое огромное дело сделано, и потом, еще несколько дней спустя, когда выйдешь из больницы, какое потрясение — смотреть на улицы Манхэттена, где теснятся людские толпы, и думать: Господи, возможно ли, что и вправду, каждый из этих живых когда-то… РОДИЛСЯ!!!?
Моя Тони, думает Чарльз, куда миниатюрнее, чем это подобие лысого, белесого карлика. О шелковистая нежность ее светло-коричневой кожи и темно-каштановых кудрей! (Конечно, «Black is beautiful[23], — сказала ему однажды Мирна, их сыну Ральфу тогда едва годик исполнился, — но кофе с молоком вне сравнений!» — «Черным по белому», — проворковал Чарльз, накрывая ее своим телом, входя в нее, трудясь над нею с любовью и вдохновением. «Черным по белому», — шептал он ей, его жаркое дыхание касалось лица жены, и она смеялась, лизала ему шею, ее ноги скрещивались у него за спиной, ведь тогда это уже были не просто слова, а название его книги.)
В этом возрасте они еще симпатичны, говорит себе Леонид, а потом начинают пить скипидар, жевать твои кисти, а однажды в подражание тебе, изгваздают голубой гуашью диван в гостиной. Ах, все же я рад, что этот этап остался позади. (Нынче утром он позвонил Сельме, своей дочери от первого брака, и гомон детворы на заднем плане внезапно воскресил в памяти пору, когда он, молодой отец, боролся за то, чтобы обеспечить себе как живописцу признание в Южном Манхэттене. Слишком бедный, чтобы снимать мастерскую, он приглашал к себе домой более преуспевших художников, показывал им свои работы в туманной надежде через их посредничество выйти на контакт с галереей. Он варил им кофе в уголке гостиной, что служила ему мастерской, но не мог уследить за их разглагольствованиями о современном искусстве, поглощенный опасениями, как бы Сельма и Мелисса не опрокинули их чашки, не разбили себе голову о край стола или не полезли своими пыльными ручонками в сахарницу. «Те, кто презирает материальную жизнь, обречены погрузиться в нее с головой», — нравоучительно изрекала его тогдашняя супруга Биргит, то ли цитировала кого-то, то ли своим умом дошла? — и мало-помалу ему пришлось признать как очевидное, что он не подлинный художник, для такой самореализации ему не хватает ни жестокости, ни упорства, ни эгоизма; потребности семьи в его глазах всегда выглядели более важными или, как бы то ни было, более законными, чем его собственные. Вот и Сельме сегодня утром в продолжение их пятиминутного разговора пришлось как минимум раз семь бросать трубку, чтобы вникнуть в микроскопические, сугубо неотложные проблемы: «Он меня дернул за волосы!» «Осторожно!» «Не делай так!» «Она написала на пол!» «Эй! Не трогай этого!» Грохот, рев. «Сколько раз тебе повторять?» «Ты не можешь хоть три секунды посидеть спокойно?»)
— Кто будет разделывать индейку? — осведомляется он и наконец выпрастывается из кресла (предварительно удостоверившись, что Кэти далеко, на кухне, стало быть, она не увидит, как исказится его лицо, как рука непроизвольно дернется к спине), точно, так и знал: жгучее острие боли пронизывает поясницу.
Патриция зажигает свечи, вспоминая, как подростком воровала их в соборе, чтобы потом, уединившись у себя в комнате, испытывать свою стойкость, роняя капли раскаленного воска на голые груди и живот…
Час пиршества настал: блюда на столе, накрытом заботливо, с любовью… Рог изобилия! — про себя усмехается Шон, мимоходом припомнив свои недавние умствования насчет странного слова «рог». Ну да, всякий раз под рогом подразумевают трубу, ведь дуть в рог почти то же, что дуть в трубу, а обманутый муж и вылетает-то в трубу…
Теперь они расположились за столом, все двенадцать, они смотрят на золотистую блестящую кожу хорошо прожаренной птицы, кожу, из которой брызжет сок, стоит лишь ткнуть ее вилкой, зеленые листки салата, посыпанные натертыми чесноком гренками, — это безопасно, думает Леонид, глядя, как Кэти перемешивает салат, американский салат не заражен. В Соединенных Штатах, говорит себе Кэти, можно есть помидоры, и салат-латук, и огурцы, не боясь подцепить рак щитовидной железы или родить ребенка, похожего на мешок, зашитый наглухо, без единого отверстия. Хэл взмахивает ножом (не тем — овощным, Патриции, — а другим, разделочным электроножом, приобретенным Мэйзи по каталогу в честь тридцатилетнего юбилея Шона; до сегодняшнего вечера его ни разу не пускали в ход); он ловко рассекает нить, что стягивала окорочка индейки, широко раздвигает их и распиливает тушку надвое, потом гигантскими ложками вычерпывает из ее нутра фарш, где сроднились между собой, пропитавшись соком птичьего тела, все прочие ингредиенты — толченые сухари и лук, сельдерей и потроха, печенка, и орехи, и пряности. А формочки с брусничным желе сверкают подобно рубинам, переливаются обещаниями бесчисленных услад; Шон уже откупорил три бутылки отменного французского вина, принесенные Чарльзом, но есть и еще, там, на кухне, бутылок полным-полно; ржаной хлеб Арона и кукурузный Патриции порезаны ломтями, которые веерообразно разложены по корзинкам, и там же — вороха хрустящих хлебцев, обсыпанных зернышками тмина, и здесь же на столе расставлены чаши с многоцветными овощами: тут и фасоль, и кукуруза, и брюссельская капуста, и бататы в кленовом сиропе, и взбитое пюре, золотящееся от масла, — Боже ты мой, изнывая от блаженства и ужаса, думает Бет, неужто нам вправду нужна вся эта пища, похоже, ей и конца не будет? — а еще разные приправы: чатни[24] и горчица, на крошечных тарелочках свекла и огурцы в рассоле, дикий рис с миндалем, протертый и поджаренный, и соль, и перец.
— А мы что принесли? — шепотом спрашивает Хлоя у Хэла, видя, что каждый так или иначе внес свой вклад в это угощение; но Хэл, сжимая под столом ее колено, укрытое алым бархатом, отвечает:
— Мы принесли молодость, малышка. Мы принесли красоту.
Смущенная Хлоя потупила взгляд — и восточный узор скатерти тотчас поглотил ее мысли, совершенно так же, как бывало в раннем детстве, в ресторанах Ванкувера, куда ее мать иногда нанималась прислугой, а она, пяти- или шестилетняя, любила перерисовывать черными чернилами на бумажных салфетках рельефные узоры скатертей, эти цветы и раковины — белые по белому. Да, подумалось ей теперь, пока ее взгляд блуждал по набивному хлопку среди красных, оранжевых и зеленых пятен, погрузиться в это, так будет лучше. Затеряться, говорит она себе, спрятаться. И больше не высовываться.
Сидя между Дереком и Ароном, Рэйчел ощущает стреляющую боль в основании черепа: о нет, только не мигрень, Господи, прошу тебя, хотя бы в этот вечер. Она замечает, как Арон незаметно вынимает из кармана маленькую серебряную коробочку, извлекает оттуда три или четыре таблетки… Ага! — оживляется Дерек. Хорошо, напомнил… Прежде чем навалиться на такой роскошный обед, надо бы принять кальций, поберечь чувствительные стенки своего желудка… Еще кое-кто из гостей украдкой глотает свои дежурные лекарства… Какое счастье, что прозак принимают с утра, думает Рэйчел. (Шон терпеть не мог слова «прозак» — это, дескать, особая смесь, «прозаик» и «дурак» в равных долях, так он утверждал и часто добавлял, что подобное тянет к подобному. «Почем я знаю, кто сейчас со мной спорит — ты или твой прозак?» — заголосил он однажды. «А если и так, — заорала она в ответ, — откуда мне знать, это ты со мной говоришь или твой скотч?» — «Ты права, — заключил Шон неожиданно спокойно. — Главный вопрос, наверное, вот в чем: может ли твой прозак столковаться с моим скотчем?») Сейчас, поверх стола встретившись глазами с бывшим любовником, Рэйчел поднимает свой бокал в безмолвном тосте. Шон закуривает сигарету, предоставляя Патриции (она рядом, по левую руку) накладывать ему в тарелку уйму всевозможных закусок, между тем как он дымит, пьет и по очереди разглядывает гостей, сидящих вокруг стола, однако и бедра Патриции из виду не упускает, они у нее все еще на диво стройны, даже когда она сидит, не скрещивая ноги.
Странное дело, думает Шон. Когда тебе двадцать, у тебя целая толпа друзей, и ты уверен, что они будут рядом до гробовой доски, но это вздор, на самом деле никто из тех, кто сегодня здесь, не принадлежал к моей тогдашней кодле. Все ускользает, все течет, уплывает от нас, ты находишь и теряешь, но главное, что теряешь, снова и снова…
Что подают на ужин в День Благодарения в тюрьмах Бостона? — спрашивает себя Брайан. Чем нынче вечером накормят моего Джорди? Или, вернее, чем его уже накормили, ведь сейчас половина восьмого, у них там ужин, верно, давно кончился…
Кэти порывисто встает. Лицо ее пылает. Гормональный дисбаланс, робость, возбуждение — все разом.
Бедняги эти белые, думает Чарльз. Их кожа так выдает состояние духа, ничего не скроешь.
— Я бы только хотела… — запинаясь, выдавливает она из себя. — Ну… я знаю, здесь не все верующие, а если бы и так, Бог у всех разный. Но для меня очень важно… я хочу сказать, это была такая радость, что мы сегодня здесь соберемся, что я, когда об этом думала, сочинила что-то вроде… благодарственной молитвы… вы ведь не против? Не убивай меня, Шон.
Арон увеличивает громкость своего слухового аппарата.
— Привет Тебе, Господи, — начинает Кэти. — Мы пришли сюда, чтобы выразить нашу благодарность. Ты, верно, недоумеваешь, за что мы в нашем нынешнем состоянии еще можем благодарить Тебя. И то правда, путь был нелегким. Плакать хочется, как посмотришь, до чего несовершенными Ты нас создал. Толком и не поймешь, что здесь, на этом свете, творится. Стадо Твое во всех смыслах разбрелось кто куда, в головах у нас тоже изрядный разброд, о душах и говорить нечего. Но вот нынче вечером мы все-таки собрались здесь наперекор всему. И есть ли Ты среди нас или нет, любовь пребудет с нами.
— Спасибо, Кэти, — улыбается Арон. — Как молитва это очень симпатично. По существу, День Благодарения — единственный праздник, объединяющий всех американцев, ведь, кто бы к какой религии ни принадлежал, а покушать мы все любим.
— К тому же индейка для нас отнюдь не тотемное животное, — вставляет Дерек. — Ее умерщвление и употребление в пищу не представляют собой жертвоприношения. Никаких особых чувств по поводу индейки мы не испытываем, ни в каких легендах и мифах она не фигурирует.
— Нет, мы просто находим, что у ее мяса приятный вкус, — смеется Чарльз, — и впрыскиваем ей гормоны, чтобы он стал еще приятнее.
— Верно, — кивает Хэл. — Никак не скажешь, что индейка в глазах обитателей Соединенных Штатов Америки исполнена такого же значения, как агнец для иудеев или кошка для египтян.
— Ни даже как лягушка для французов, — вставляет Рэйчел не без лукавства.
— Может быть, она кое-что значит для индианок? — шутит Патриция.
— Слово оттуда и пошло, с Востока, — кивает Шон.
— Невероятно! — удивляется Бет.
— Именно, именно так! Оно происходит от цесарки, которую поставляли из тех краев.
— Откуда ты это взял? — интересуется Рэйчел.
— Из словаря.
— Я еще не кончила, — напоминает Кэти.
— Эй, прошу тишины! — гулко возглашает Леонид.
— Короче, милый Господи, я в этот вечер хотела сказать Тебе вот что… Ты… гм… благослови нас, если можешь. Благослови эту трапезу. Благослови дороги, что у нас впереди, и те, что за плечами. И, раз уж Ты здесь, благослови и все остальное.
— Прозит! — Леонид поднимает бокал.
— Amen, — заключает Патриция, и два или три голоса отзываются тихим послушным эхом:
— Amen.
Глава VII. Дерек
С их стороны трогательно время от времени включать меня в свою компанию, хотя есть у них склонность творить меня по своему образу и подобию. Они, к примеру, полагают, будто я их люблю. Вот уж недоразумение! Что может значить любовь для такого всеведущего и всемогущего существа, как я? Любовь может возникнуть лишь у тех, кто страдает от поражений, утрат, обделенности, подвержен слабостям, близорук. Это кажется очевидным, бросается в глаза, но вот поди ж ты: в нужный момент такая мысль у меня даже и не забрезжила, я не подумал, что, стоит понаделать созданий, несовершенных телом и духом, и у них появится тенденция к сплочению. Ими овладеет неутолимая потребность в единении, глупая неистребимая надежда достичь полноты за счет друг друга. Способностью любить отмечены только человеческие существа (и некоторые животные, ими прирученные). Возможно, именно это и рождает у меня поразительную иллюзию, будто они наделены свободой суждения, словно между ними происходит независимый от меня обмен чем-то таким, что они именуют любовью… Я угадываю это в их глазах… в их телесных соприкосновениях… в бессвязном гомоне их речей… Даже если на самом деле речь идет о простой химической реакции, которую можно воспроизвести в лабораторных условиях, меня захватывает возможность наблюдать за ними, лелея волнующую догадку, что существует, по крайней мере, нечто, ускользнувшее от моего контроля.
* * *
Но вернемся к нашим баранам…
Дереку, совсем как Чарльзу, посчастливится: он не узрит моего прихода. Как он был бы потрясен, если бы узнал, что жить ему осталось всего пять лет!
Той весной он примчится на Манхэттен, чтобы навестить своих дочерей Марину и Анджелу, но особенно — внука Габриэля, во второй раз встречающего день своего рождения. Отец малыша, имеющий пятерых отпрысков от законной супруги, в Габриэле будет видеть лишь прискорбное недоразумение, постыдный секрет, существо едва ли не призрачное. Он станет уделять ему не больше двух или трех дней в месяц, но и тогда, опасаясь, что его разоблачат и опозорят, ни единого раза не поведет ни к парк, ни в зоосад. Деду же этот ребенок, напротив, будет казаться восьмым чудом света. Да, на своем Габриэле Дерек совершенно помешается, он станет его баловать, портить, и ему всегда будет мало. То ли оттого, что его собственный родитель Сидни с утра до вечера не показывался дома, все контролировал производство и продажу женской одежды по недорогой цене, то ли потому, что у самого Дерека не было сына, но любовь к внуку охватит его с такой силой, что он будет немного ее стесняться и пытаться скрыть изо всех сил, то есть совершенно безуспешно.
В тот вечер, проведя большую часть послеобеденного времени в поисках подарка ко дню рождения, он наконец в игрушечном ряду магазина «Маси» наткнется на Большую Птицу в натуральную величину (Анджела недавно рассказала ему, что Габриэль без ума от ее старых кассет с записями «Улицы Сезам»). Ярко-желтое плюшевое существо, без малого двухметровое, обойдется в целое состояние и с завидным упорством воспротивится всем попыткам его упаковать; Дерек, отнюдь неуверен, что Анджела придет в восторг, когда он втащит в ее тесную квартирку на Юнион-Сквер столь громоздкую штуковину… зато он знает, что Габриэль вытаращит глаза и завопит от радости, когда его телевизионный любимец появится перед ним собственной персоной.
Так, с душой, взбаламученной противоречивыми чувствами — смущением и нетерпением, опасениями и любовью, — он на 34-й улице спустится в метро на линию "Р". Он сочтет, что в этот час (пять пополудни) такое зрелище, как седовласый профессор философии, поспешающий по Бродвею с Большой Птицей на руках, заставит повернуться около полутора тысяч голов… между тем как число вышло бы значительно меньшим, если бы он принял в расчет, что все там будут двигаться, а не стоять на месте. Не надо бы ему придавать такое значение тому, что подумают люди. Он слишком долго жил в провинции. Забыл, что ньюйоркцы народ пресыщенный, они навидались чудачеств всех сортов, чванятся тем, что глазом не моргнут, покажи им хоть самое эффектное безумство.
И вот волею случая, как принято говорить (хоть я, разумеется, заранее спланировал все эти события, чтобы ввести их в мое произведение, и то, что близорукому людскому взору может представиться нелепой ошибкой, если отступить на должное расстояние, оказывается важными деталями, многое определяющими в существовании моей вселенной), так вот случаю будет угодно, чтобы в этот прекрасный весенний вечер в пятом вагоне поезда метро на линии «Р» вспыхнула перестрелка между двумя сутенерами-соперниками. Сначала они примутся целиться друг в друга, топчась возле Дерека, скача и увертываясь, а он, как и все остальные пассажиры, уткнется в «Нью-Йорк таймс», делая вид, будто ничего не происходит.
И случай (как говорится) устроит так, что сердце Дерека внезапно оборвет свое биение, оказавшись на траектории одной из пуль, посланных из револьвера Котяры № 1 в голову Котяры № 2 — пуэрториканца-полукровки, недомерка ростом не больше метра шестидесяти. «Нет!» «Черт подери!» «Боже милостивый!» «Нет, нет!» «Это невозможно!» «Йезус-Мария и Святой Иосиф!» Вот некоторые из криков ужаса, которые будут испускать пассажиры, когда поезд, взвыв тормозами, остановится на Юнион-Сквер, двери, отворяясь, скользнут в стороны и сутенеры нырнут в толпу часа пик, а Дерек останется, где был; и вот его душа уже порхает со мной по Млечному Пути, а горячая кровь, струясь из его сердца, пятнает алыми звездами мягкий желтый мех синтетической Большой Птицы.
Глава VIII. Они угощаются
Они откашливаются, передвигают чаши, миски, столовые приборы, улыбаются друг другу, наполняют бокалы — ужин начинается.
— Спасибо за благодарственную молитву, Кэти, — говорит Патриция. Пожалуй, надо снова начать ходить в церковь, думается ей. Мне всего этого не хватает — витражей, отбрасывающих на стены трепетные разноцветные блики, мерцающего пламени свечей, что пересказывают умершим наши помыслы, священных гимнов, которые распевают во все горло, легкого перекусона на ранней заре… а главное, грез, которым так хорошо предаваться во время проповеди! В конце концов, совсем не обязательно отходить от церкви, если ты и сомневаешься в том, что наверху есть Некто.
— Ах! — восклицает Хэл, вгрызаясь в нежное мясо, отрезанное от левого бедра индейки. — Прожарено бесподобно!
Он констатирует это с некоторым облегчением, ибо только что обзавелся зубным протезом (два искусственных зуба слева и один справа) и теперь опасается любой жесткой пищи. Хлоя и та не в курсе, что у мужа протез: ведь можно же снимать его, мыть и водворять на прежнее место, когда ее нет поблизости. С какой стати ей это демонстрировать? — говорит он себе, волей-неволей припомнив жуткий анекдот о стареющей чете: в один прекрасный вечер, ложась в постель, жена говорит: «О, дорогой, мы уже так давно не занимались любовью, а ведь когда-то, помнишь, ты был таким страстным, ты меня кусал, царапал…» — «Оставь меня в покое, — ворчит супруг, — я устал». — «Ну же, милый, — настаивает женщина, — давай, я тебя очень прошу…» — «Ладно, — муж тяжело вздыхает. — Так уж и быть, дай сюда мои зубы!»
— Отменно прожарено, — повторяет Хэл. Покончив с куском бедра, он теперь набрасывается на индейкину спинку, кромсает ее ножом, вымещая злость, никак не идет из головы тот анекдотец.
Слышится одобрительное бормотание, нестройный хор похвал. «Овощной жюльен — объедение». «Арон, ваш хлеб и вправду великолепен». «Этот брусничный соус — прямо шедевр». Челюсти перемалывают, вкусовые сосочки ликуют, языки извиваются, надгортанные хрящи похрустывают, пищеводы непроизвольно поигрывают мускулами. Бет изо всех сил старается не заглатывать куски, как удав, а, напротив, пережевывать их медленно, тщательно, как ее учили в ту пору, когда она была членом Weight Watchers[25]. Арон сидит с отсутствующим видом, рассеянно теребя вилкой содержимое своей тарелки. Да и сам хозяин дома ест мало. Он часто вскакивает, незаметно подливает в рюмки гостей, стоит им опустеть наполовину. Ему хочется что-то подстегнуть… не терпится… придать вечеринке какой-то особый оборот…
Утолив первоначальный, самый нетерпеливый голод (впрочем, если выразиться точнее, речь шла лишь о гурманском любопытстве), сотрапезники принимаются подыскивать тему для беседы.
— Он прелесть, ваш малыш, — замечает Патриция.
— Спасибо, — удовлетворенно вздыхает Хэл, прикончив четыре кочанчика брюссельской капусты.
— Твоего изготовления бутуз? — вопрошает Бет.
— Вы из Ванкувера, да? — любопытствует Брайан.
— Сколько ему? — интересуется Бет.
— Я как-то целый год прожил в Ванкувере, — сообщает Брайан.
— Одиннадцать месяцев, — роняет Хлоя.
— Это приятный город, — продолжает Брайан. — Расположен замечательно… только там уж очень дождливо. Я туда в семьдесят первом рванул с ватагой приятелей, хотел удрать от Дядюшки Сэма.
— Вот оно что, — бормочет Хлоя.
— А все-таки они меня зацапали, сволочи… Двадцать пятого декабря, сами посудите! Я поехал к родителям в Лос-Анджелес встречать Рождество…
— Брайан, — вмешивается Бет, — она не знает, о чем ты толкуешь. Ее тогда еще и на свете не было.
— О Господи, и правда! Вы в то время еще не родились. До вас доходили толки о войне во Вьетнаме?
— Ну, еще бы. Само собой, — говорит Хлоя, и она не лжет, хотя ей было бы довольно затруднительно определить разницу между нападениями на Тэт и на Перл-Харбор.
— Вы там учились? — спрашивает Рэйчел. Она нащупывает общую почву, на которой они могли бы сойтись с Хлоей, этой пустоглазой девочкой-матерью, которая, по всей вероятности, забеременела, лишь только Хэл впервые на нее взглянул. Что за несправедливость: некоторым женщинам ничего не стоит понести, а матка Рэйчел упорно оставалась стерильной наперекор многолетним усилиям — подсчитыванию дат, вычерчиванию температурной кривой, гормональным вливаниям… Вот уже три года как они с Дереком отказались от замысла попытать счастья in vitro: ей уже сравнялось сорок два, и будущие мамаши в приемных у гинекологов поглядывали на нее с недоумением, наверняка предполагая, что она забежала проконсультироваться насчет предклимактерических проблем. «Что с ней, с твоей новой женой? — спросила однажды у Дерека Вайолет, ее свекровь, а Рэйчел находилась в соседней комнате. — Я была уверена, что она родит тебе сына, сына наконец-то родит, так хочется обзавестись внуком, время-то идет…» — «В нашем брачном контракте это не оговаривается, мама».
— Еще немножко сладкого картофеля, Арон? — предлагает она вполголоса.
— Прошу прощенья?
— Не хотите ли бататов?
— А, нет. Спасибо, не надо.
— Нет, — произносит Хлоя. — Я даже лицея не закончила. Не стану притворяться, говорит она себе. Одно из двух: или Хэл меня любит, или нет. Не желаю провести сначала этот вечер, а потом всю нашу жизнь в сплошном вранье. Если он меня стыдится, что ж, тем хуже… Нет, когда я встретилась с профессором Хезерингтоном, он мог убедиться, что я не корплю над докторской диссертацией. Даже если меня время от времени просили поиграть в доктора…
(Мать Хлои была свободной женщиной семидесятых годов — слишком свободной, слишком женщиной, зато недостаточно матерью; от двух разных отцов она очень быстро, так до конца и не осознав случившегося, заимела одного за другим двоих детей, мальчика и девочку, Колена и Хлою. И был Ванкувер, была бедность, жалкая тесная хибарка в Восточном Гастингсе, а это такое место, где, если приходится проводить там свои дни, перестаешь даже понимать, на что тут можно надеяться… Дети подрастали с ощущением, что они обитают в игрушечном домике, в двух картонных коробках, не слишком устойчиво поставленных одна на другую, ежеминутно готовых зашататься и рухнуть в пустоту, дешевая разностильная обстановка сего, с позволения сказать, жилища никак не могла убедить их, что оно вправду приспособлено, чтобы в нем жили. В этом доме потреблялось столько наркотиков и совершалось столько совокуплений, что голова шла кругом, но, видно, и этого было мало: когда Колену исполнилось девять лет, а Хлое восемь, их мамаша втюрилась в уличного торговца экстази и, желая доставить ему удовольствие, вместе с собственным телом предоставила в его распоряжение тела своих детей. Среди прочих разновидностей упомянутого выше удовольствия им пришлось подвергаться разнообразнейшим попыткам удушения. Такое положение вещей продержалось несколько лет и основательно подточило у ребят чувство реальности. Они пристрастились к игре, как можно чаще ища в ней убежища, — это могли быть карты, шашки, крестики-нолики, бильярд, все равно что, лишь бы в этой игре были определенные правила, четкая структура; наконец, достигнув соответственно тринадцати и четырнадцати лет, они набрались храбрости и донесли на свою мать в полицию, вследствие чего ее арестовали, а их отправили в приюты — два разных приюта в противоположных концах города, вследствие чего они сбежали, чтобы не расставаться, и тем самым пренебрегли школьным учением и рядом других обязанностей перед обществом, в частности надобностью возвращаться домой к ужину, вследствие чего их изловили вновь и водворили в совсем другие дома, вследствие чего, удрав вторично, они принялись воровать в супермаркетах и ночевать в парках, вследствие чего их арестовали и препроводили в иные приюты — на сей раз в те, что зовутся исправительными. В конце концов выйдя на свободу в солидном возрасте восемнадцати и семнадцати лет, они сняли вдвоем меблированную квартирку и отправились на панель продавать себя).
— Нет, я ей там ничего не преподавал, — с громким смехом вмешался Хэл, подоспев на выручку Хлое. — Я ее встретил, вот и все. Я случайно наткнулся на нее посреди Гомер-стрит и пал к ее ногам, умоляя, чтобы она меня потоптала.
— Хэл! Крайне недовольная этой метафорой, Хлоя нахмурила брови.
(Гомер-стрит, по сути дела, был кварталом веселых домов… но Колен и Хлоя, этакие близнецы-андрогины, персонажи шекспировских комедий, часто забавлялись, меняясь ролями, чтобы потом, ранним утром возвратившись к себе, за завтраком смеху ради пересказывать друг дружке самые забавные из ночных недоразумений. Эта болтовня и общее веселье были для них крошечным островком человечности, где они спасались от повседневного насилия, обступающего их все теснее. Задним числом, наперекор отчаянию, овладевавшему Хлоей по мере того, как она познавала однообразную азбуку людских извращений, особенно то немыслимое количество боли, какое люди, в прочих отношениях нормальные, готовы причинить или вынести, лишь бы облегчиться на ложку спермы, те годы казались ей счастливой порой, ведь тогда они с Коленом были вместе и держали в руках свою судьбу. Потом один клиент, утратив ощущение границы между реальностью и своими фантазмами, зарезал Колена, и Хлоя осталась совсем одна. Спасительный буфер их общего смеха и болтовни исчез вместе с братом, взамен пришлось прибегнуть сперва к виски, потом к кокаину. В двадцать один год она была готова стать законченной наркоманкой, тогда-то Хэл Хезерингтон, прочесывая улицы Ванкувера в основном с целью подостоверней описать место действия некоторых сцен своего романа о золотой лихорадке, высмотрел на Гомер-стрит ее худенькую, по-мальчишески порывистую фигурку, и тут же влюбился. Как обычно, едва успев воспользоваться телом девушки и оплатить услуги, он испытал острую потребность спасти ее душу. Не хочет ли она выйти за него замуж? переселиться к нему жить? стать матерью его детей? К его изумлению, Хлоя не в пример множеству юных проституток мальчикового склада, которым он на протяжении долгих лет делал подобные предложения, сказала «да».)
— Гомер-стрит! — возгласил Хэл. — Это не столь уж невероятно, а? Американский писатель встречает любовь своей жизни на улице Гомера в Ванкувере!
— Не обольщайся! — усмехнулась Рэйчел. — Там, вероятно, имелся в виду некий Рэндольф Гомер, тот, что в тысяча восемьсот шестьдесят втором году изобрел способ консервирования лосося.
— А вы, Бет? — из вежливости поинтересовался Чарльз, обращаясь к своей тучной сотрапезнице, сидящей напротив. — Чем занимаетесь вы?
— Общей хирургией, — отозвалась Бет. — Я врач.
— Ах, вот как? Это, наверное…
— Сейчас я работаю по ночам в больнице в Уэлхеме. В неотложке.
— А, — мямлит Чарльз. — Это, вероятно… (И вдруг проваливается в тот день прошлого лета: он в машине «скорой помощи» тащится по чикагскому центру, рядом мать — в диабетической коме. «Скорая» еле-еле прокладывает себе дорогу сквозь уличные пробки, у него холодеют руки, пот выступает на лбу: «Держись, мама, мы сейчас приедем, не покидай меня, мама, держись…» Он явственно, отчетливо видит перед собой каждую машину, что встречалась на том пути, каждое здание, мимо которого они проезжали, яркие, режущие глаз цветные одежды прохожих, их лица, мелькающие за стеклом «скорой», и на всех он читает одно мучительное: жизнь, жизнь… Все эти впечатления обрушиваются на него, сталкиваясь и мешаясь, так что крыша едет… но вот они, наконец, добираются до больничной палаты.)
— Да, тебе, наверное, иногда случается видеть весьма драматические вещи, — произносит Дерек. (Он вспоминает, какая неразбериха царила в манхэттенском госпитале Святого Луки, куда он однажды ночью угодил с переломом правого мизинца после смешной студенческой потасовки в дортуаре Колумбийского университета. Поскольку очередность попадания пациентов к врачу зависела от серьезности их состояния, ему пришлось прождать полночи. Со всех ног прибегали молодые чернокожие парни, обливаясь кровью из разбитых голов, других с искромсанным пулями плечом или рукой их товарищи волокли под мышки, были там скрюченные от боли старушонки, старики, кряхтевшие на носилках, детишки с мутными от жара глазами, бессильно висевшие на руках обезумевших от ужаса родителей… В четыре утра он, не в силах дальше терпеть, решил: «Да ладно, пойду домой, авось сумею как-нибудь сам наложить себе шины на палец».)
— Действительно… — начала Бет, но Брайан ее перебил, пользуясь тем, что у нее рот полон фарша.
— В Уэлхеме преступные нападения случаются не часто, — сказал он, — но на той неделе два фермера повздорили, один схватил вилы и — бемц! — всадил другому в лоб.
— Фу, гадость! — Кэти передернуло.
— В больницу его доставили уже мертвым, — сказала Бет. — Но рентген все же сделали, так положено.
— Диковинная штука. — Брайан еще подбавил жару. — Вилы буквально протаранили его череп. Четыре зубца прошили ему мозг насквозь.
— Снимок выглядел впечатляюще, — нежным голоском вставила Бет.
— Да уж! Блиц со скрежетом зубовным! — хмыкнул Брайан, чем испортил эффект ее последней реплики.
— Верно. — Бет, не разжевывая, заглотала новую порцию фарша и врезала мужу локтем в бок. — Само собой, по рентгеновскому снимку многое узнаешь. У того типа было семь или восемь пломб. Иначе говоря, он свое тело поддерживал в надлежащей форме. Изрядную сумму на это потратил. Хочется, чтобы твои зубы служили тебе долго. А потом в один прекрасный день нахамишь кому-нибудь сверх меры, тут тебя и…
— Кто-нибудь читал последнюю вещь Филиппа Рота? — спрашивает Хэл, ему не по себе от этой болтовни о зубах.
— Это мне напоминает одною субъекта, которого как-то раз довелось защищать, — снова встревает Брайан.
— Ах, Брайан, ты опять про свою историю с ножом! — перебивает Бет. — Она же всем давно известна.
— А вот я ее не знаю, — возражает Чарльз, которого недавняя телефонная баталия с Мирной сделала сверхчувствительным ко всему, более или менее напоминающему женскую спесь. — Что там случилось с ножом?
— Ну, тогда изложи сокращенную версию, — с тяжким вздохом соглашается Бет.
И Брайан с удовольствием пересказывает случай с одним коммивояжером, которому нервный клиент всадил нож в череп вертикально, от родничка до подбородка. Но клинок чудесным образом прошел меж двух полушарий мозга, и человек выжил без иных последствий, кроме легкого заиканья. Он притянул обидчика к суду на том основании, что, утратив бойкость речи, не мог больше работать по специальности.
Все смеются, за исключением Хлои, она же резко встает и выбегает из комнаты. Слышно, как она быстрым шагом взбегает по лестнице.
— Я что-то не так сказал? — спрашивает Брайан. Гул в правом ухе становится назойливей, так с ним всегда бывает в минуты смущения.
— О, не беспокойтесь, ей, наверное, просто захотелось поглядеть, как там бутуз, — отзывается Хэл.
Поскольку Хлоя никогда не рассказывала ему о своем брате, Хэл не может догадаться, каково ей слушать про ножи. А так как о своем пристрастии к кокаину она с ним тоже не говорила, у него и в мыслях нет, что его супруга сейчас готовит себе понюшку в ванной на втором этаже. В прошлом Хлои много есть такого, о чем она умолчала и не расскажет никогда ни Хэлу, ни кому бы то ни было другому.
— Но его было не слышно, он не звал! — замечает Патриция.
— Возможно, у нее чувствительный желудок, — говорит Рэйчел.
— Да, — кивает Дерек, — тут никогда не знаешь. Мозги, протыкаемые ножами и вилами, для Дня Благодарения, пожалуй, не самая подходящая тема.
— О’кей, — роняет Брайан. — Весьма сожалею. (Да, им бы лучше сменить пластинку. Он предпочитает думать о чем угодно, лишь бы не о досье, переполняющих его письменный стол и этажерки, об этой мрачной надобности осмыслять однообразную череду грабежей и неплатежей, убоев к мордобоев, изнасилований и делишек с наркотиками — Боже ты мой, травка, порошок, сплошные мокрые дела, вечная похабщина, истощенные больные лица, блуждающие взгляды, трясущиеся руки, злобные голоса, скамья подсудимых, судейский молоточек, «дамы и господа присяжные» — и его собственные усилия объяснить, растолковать, умерить неразбериху, положить предел страданиям, не дать смести все границы, оберегающие личность и собственность: вот это ваше, а то — нет, не трогайте, не врывайтесь, не режьте, не грабьте, а беда наперекор всем его заклинаниям остается глухой, она все растет, перехлестывает через край, и нет конца, запреты рушатся, барьеры ломаются, поруганные супружеские узы, расколотые черепа, взломанные замки, высаженные окна… Не далее как сегодня утром в комиссариате Роксбери судебно-медицинский эксперт показал ему хлопчатобумажный спортивный свитер с эмблемой «Харлей-Дэвидсон», кровавое пятно там, где сердце, еще было влажно: пуля прошила голову орла, вышитого на спине, жертве было шестнадцать лет, а его убийце, клиенту Брайана, семнадцать. «The Legend Lives On»[26], — провозглашал свитер: да, спору нет, легенда еще жива, только парень-то мертв, а у Брайана нет даже права скорбеть о нем, в такие моменты ему приходится шутить, иного не дано, только так и можно выжить, совершенно так же, как зубоскалят, сравнивая фотографии кровавых брызг, вставленные в рамочки и развешанные в коридоре, с «Кувшинками» Моне, или как хохмят, спрашивая служителей морга, какой породы нынче вывелись черви — прыгучие или ползучие?)
— Ах! Как это чудесно — иметь малыша! Завидую вам, — вздыхает Бет. — Я иногда в перекур возьму да и забегу в родильное отделение, только чтобы поглядеть на малышей. Это меня сразу успокаивает. Как бы сказать… ну, такое чувство, что каждый из них — совершенное чудо, сама надежда…
— Ты права, — отзывается Шон. — Диковинная это штука — наблюдать вечное обновление надежд. Как только людям удается не замечать, что их судьбы всегда принимают одну и ту же форму: подъем, вслед за ним упадок… Апогей в среднем приходится на… гм… годика этак на три?
— Ты положительно стремишься угодить в ад, не правда ли, Шон? — Бет дарит ему прелестнейшую из своих улыбок. — И утащить вслед за собой в бездну как можно больше народу. Ты ни во что не веришь.
— Ну конечно же верю. — Шон пожимает плечами. — Верую в Пачуля.
— Нет, я понимаю, что он хочет сказать, — спешит Рэйчел на помощь Шону. — Бывают дни, когда у меня тоже глаза бы не глядели на молодняк. Особенно на их скопления.
— Зависть берет, да? — спрашивает Кэти.
— Нет, — говорит Рэйчел, — не то. Все дело в их… наглости. Они готовы занять все места в кафе, в бистро, придешь, а они тут как тут со своими громкими, грубыми голосами, от них так и шибает тестостероном и готовыми понятиями: «Мир принадлежит нам!», а ведь сами-то ничего, ничегошеньки о нем не знают! — И мысленно продолжает: Шопенгауэр был прав. В том, что у Жизни своя власть, свои требования. Новое, как некий асфальтовый каток, приходит и в своей полной невинности весело давит старое. Так всегда было и всегда будет, какими бы упованиями и мнениями ни жила та или иная эпоха.
— И все-таки, — настаивает Кэти, — я уверена: по крайней мере отчасти досада на молодежь порождается тем, что собственная юность прошла. Стареть — ведь это ужасно. — А ты никогда не будешь старухой, мама, думает она про себя. Ты останешься молодой навсегда.
— Ужасно? Почему же? — вопрошает Шон. — Просто умираешь, и все.
— А мой сын боится старости, — в один голос с ним говорит Патриция.
— Ваш сын! — изумляется Чарльз. — Сколько же ему лет?
— Девять.
— Ему девять, и он боится постареть?
— Ну да. Он говорит, что не хочет переходить на двухзначное число лет. Что он и так уже достаточно вырос. Что предпочел бы на этом остановиться.
Брайан и Хэл прыскают со смеху.
— Мне было девять лет, когда умер мой отец, — заявляет Шон. — Я никому не позволю насмехаться над впечатлительностью девятилетнего ребенка.
— Он говорит, — продолжает Патриция, — что у него никак не получается поверить, будто это и есть его настоящая жизнь. Говорит, что всякая вещь, которую он видит, разрывает ему сердце, напоминая, как он смотрел на нее в другой раз, «когда был счастливым». Прошлым летом он отказался потрать в бадминтон в августе, потому что это ему будет напоминать игры в июле. «Счастья не получится, — сказал он, — выйдет путешествие туда, где было счастье». А на прошлой неделе, когда до него дошло, что ему уже не надо взбираться на табурет, чтобы достать из стенного шкафа стакан, он почувствовал себя опустошенным. Он говорит, что ему послышался тихий голос, который звучал в его голове и все твердил: «Больше никогда».
— Невероятно! — пробормотал Шон. — Чтобы прийти к этому, Эдгар По ухлопал тридцать шесть лет.
— Я тут на днях наткнулась на фотографию девятилетней Элис, — сказала Кэти. — Это наша старшая дочь, — пояснила она, глянув на Чарльза. — Фото на библиотечной карточке. Она там, как живая: волосы всклокочены, на зубах скобки, улыбка такая беззаботная… лицо существа, которого больше нет.
А я думал, они сына потеряли, сказал себе Чарльз. О трагедии Коротковых он знал понаслышке, из обрывков случайно услышанных разговоров.
(Бет, в свою очередь, вспоминает Ванессу в ее четыре года: шаловливую, ласковую девчушку с румяными щечками… о, в ту пору она меня любила безусловно и слепо, это точно, тогда она и впрямь была плотью от плоти моей… Потом все изменилось, но когда? В какой день и час ты взглянула на мое тело другими глазами, отстраненно, осуждающе, презрительно? Как подумаю, что это было за счастье — носить тебя во чреве, сколько наслаждения доставляло мне мое тело за девять чудесных месяцев беременности! Раз в жизни я смогла избавиться от чувства вины, дать полную волю своему аппетиту, ведь я ела, чтобы напитать тебя, чтобы ты лучше росла, плоть от плоти моей, я была как сама мать-земля, и, когда ты родилась, я не спешила похудеть, ведь я все еще оставалась твоей пищей, мои груди отяжелели, стали огромными, раздутыми, как бурдюки, переполненные молоком, и я радовалась, что так обильна для тебя, что тебе вдоволь… Помнишь, как ты, захлебываясь от смеха, прятала личико между моих грудей? Сколько лет тебе было тогда? Два? Три? Вот ужас, забыла. Мы с тобой катались по кровати, ты играла моими волосами, забиралась ко мне на живот… я была для тебя горой, мое сокровище, но всему пришел конец. Когда? И почему? Теперь бумажка с твоей диетой приклеена скотчем к холодильнику, это мне как пощечина всякий раз, чуть вздумаю слегка перекусить… Но когда я возвращаюсь из клиники, мне необходимо поесть, пойми же, после целой ночи дикого напряжения, когда каждые пять минут приходится сталкиваться с новым обличьем страдания, больные стонут, лежат без сил, беснуются в истерике… да хоть сегодня ночью, взять, к примеру, ту маленькую старушку, ее доставили со всем набором симптомов непроходимости кишечника: живот вздут, рези, рвота… Но когда я спросила, отходили у нее газы в течение дня или нет, она разрыдалась: «Меня за всю мою жизнь так не унижали!» Или тот водитель «скорой», что разорался в три часа ночи: «Я думал, речь идет о крохе, меня уверяли, что надо ехать за крохой» — «Да нет же, — твердила жена больного, — я говорила: кровью харкает, у него кровь пошла горлом, только это и было сказано!» — «Нет, вы хотели меня заставить поскорее приехать, вот и сказали «кроха», я голову дам на отсечение!» — «С какой стати я говорила бы о крохе, когда все дело в кровохарканье?» Они едва не дошли до рукоприкладства, а бедняга тем временем валялся на носилках, ждал, когда же им займутся, пока сознание не потерял… Или та маленькая девочка, что прошлым летом упала с шестого этажа… когда ее привезли, она еще дышала, но все кости были вдребезги… Мы делали все возможное и более того, только бы ее спасти, а мать все билась головой о стеклянную перегородку, снова и снова… И когда мы ее потеряли, уныние охватило весь персонал, много дней потом не могли смотреть в глаза друг другу… О, Ванесса! Каждую ночь я чувствую, как из глубины моего существа поднимается тяжкое смятение, и поутру, вернувшись домой, я должна побаловать себя хорошим завтраком… Ах! Я чувствую, как блаженство насыщения разливается по жилам, тоска мало-помалу отступает… Ты не хочешь даже попытаться меня понять?)
— Эта молодая женщина обворожительна, — ни с того ни с сего заявляет Арон.
— Кто? — вздрогнув, оборачивается Кэти.
— Хлоя.
— А вы когда-нибудь видели Хэла с дурнушкой? — любопытствует Бет.
— Нет, — признается Арон. — Но в ней, в этой Хлое, есть что-то особенное.
— Может, кто-нибудь с вами и поспорит, но только не я, — усмехается Хэл.
— Эй, Шон! — окликает приятеля Леонид. — Приберечь кости для Пачуля?
— Об этом мы уже договорились, — напоминает Кэти.
— Пачуль? Кто это? — спрашивает Хлоя, в эту самую минуту возникнув на пороге комнаты.
— Это пес, — говорит Хэл. — Любимец Шона. Как там малыш?
— Я не видела никакого пса… Значит, здесь есть собака? — Хлоя заметно встревожена.
— О, Пачуль и мухи не обидит, — заверяет Хэл, остальные покатываются со смеху.
— Но он здесь? В доме? — допытывается Хлоя.
— Он никогда еще никого не кусал, но как знать?.. — не удержавшись, вставляет Рэйчел.
— По крайней мере блондинок он не ест, — Патриция легонько хихикает.
— Перестаньте морочить ей голову! — укоряет Бет.
— Довольно! — Хэл, багровея, стучит по столу кулаком. — И передайте сюда кукурузу! — Но поскольку с кукурузой Бет успела покончить, ему приходится удовольствоваться сладким картофелем и брюссельской капустой.
— Стало быть, ты работаешь над романом о золотой лихорадке? — спрашивает Леонид. — Какая это, наверное, волнующая эпоха!
Тотчас воспламенясь, Хэл с полным ртом пускается в пространное описание Клондайка и его окрестностей в 1890-х, меж тем как Хлоя ускользает в свой укромный, свой совершенный мир, где ее все еще ждет брат Колен.
Полюбуйся на этих старых придурков, Кол, говорит она ему. Ты в толк не возьмешь, какого хрена я к ним сюда приперлась? Это друзья Хэла, но долго среди них отираться я не стану, уж будь уверен. И вот что я тебе скажу, Кол, они птицы высокого полета. У них все высокое: и ай-кью, и жалованье, и понятие о самих себе. Да только мы-то знаем, а? Правда, она не высокая, она низкая. Простая, как блин, и ниже травы, да? Или, еще вернее, она под землей, где ты. Нет, ты только посмотри на старикашку, вон того. Он-то здесь что забыл? Другие тоже старые, но этот — уже полнейшая рухлядь. Небось ему все сто лет. Сидит и рта не раскроет. Гляделки голубенькие, пустые, в мозгах тоже ни фига. Сто лет на земле прожил, и вот тебе весь его итог: пустота.
Ничего не зная о Шоне, Хлоя не может постичь логику, предопределившую его выбор: он пригласил всех своих здешних друзей, тех, для кого этот вечер с его обязательным весельем грозил обернуться часами горького одиночества.
Что до пустоты в мозгах Арона, тут она ошиблась: он размышлял, только думы его были далеко. (Как всегда, пораженный тем, какое количество пищи американцы способны умять всего за одну трапезу, он мысленно возвратился в Преторию, в тот знойный февральский день 1933 года, не больше полутора лет спустя после их приезда, когда они узнали, что на Украине опять голод — снова голод, всецело подготовленный советской властью, тщательно ею спланированный. Двоюродный дядя Арона, перебравшийся на жительство в Соединенные Штаты еще в 1905 году, после первой волны погромов, ненадолго съездив в Одессу на похороны матери, был просто сражен тем, что происходило в стране. Арону, в ту пору восемнадцатилетнему, суждено до конца своих дней помнить, каким потерянным он тогда увидел отца, как тот рыдал над письмом двоюродного брата. Ведь прежде он, будучи пекарем по профессии, постоянно имел дело с хлеборобами и, даже не представляя себе всех масштабов трагедии, ясно видел ее следствия, ощутимые и ужасающие: Советы почитай что без остатка реквизировали весь урожай года, убили или угнали на восток как «кулаков» сотни тысяч крестьян… а теперь, чтобы наказать этот край за его националистический уклон, за недостаток марксистско-ленинского энтузиазма и рвения в деле принудительной коллективизации, их оставили умирать, нет, подтолкнули, нет, обрекли шесть миллионов украинцев на голодную смерть… да, шесть миллионов, да, именно на смерть… Ах, думал Арон, ведь никого не интересуют эти шесть миллионов, весьма возможно, что они даже не упомянуты в энциклопедии Шона, вон той, на полке, в статье «Украина»… Это привело к тому, что в семье Жаботинских перестали говорить по-русски, даже дома: язык, бывший для одесских евреев символом поэзии и культуры, теперь стал наречием тех, кто был ответствен за голод и унижение Украины. Итак, в Южной Африке мать Арона перестала читать сыну стихи Пушкина и Ахматовой. Сбросив, как линяющий зверь, свой былой образ очаровательной молодой еврейки, поэтической и мечтательной, она превратилась в напористую белую госпожу, капиталистку и сионистку. Английский язык пробрался в их дом, прогрессивный и прагматичный, он вытеснил русский с его сумрачными ассоциациями, полными интимности и тайны…)
Рэйчел тоже не слушала разглагольствований Хэла, поскольку никогда не была охотницей до его романов и сомневалась, что вообще станет читать этот последний, когда он появится. (Склеротики и скелеты, говорит она себе, однокоренные слова — skeletos, skleros: жесткость, сухость! Человек с годами черствеет, сохнет. Как это получается, что начиная с определенного возраста у людей в спокойном состоянии, когда они не воодушевлены каким-нибудь особенным чувством, на лицах проступает печаль. Скорбь и горечь поражения. Это весть для молодых. Мол, берегитесь. Тяжелые, сонные веки Лео… рисунок его губ углами вниз, эта перевернутая улыбка, прорывшая на щеках две длинные складки. Насупленные брови Кэти, будто шторка вечной озабоченности морщится над ее глазами. Мое собственное лицо, помятое, обесцвеченное треволнениями. Глубокие горизонтальные борозды на лбу Дерека: наследие десятилетий, можно сказать, непрестанных тревог. И это тупое, почти дебильное выражение, что появляется у Арона, когда он забывается… Как подумаешь, никто из нас собой не хорош. Кроме Хлои, разумеется, но это не в счет: Хлоя красива только потому, что молода. Может статься, что, ежели вникнуть, люди в конце концов все безобразны. Красота человеческая, чего доброго, не более чем гормональная иллюзия, нужная для продолжения рода? На что должна быть похожа истинная красота, как по-твоему, Платон?)
А Кэти, сама того не желая, в который раз соскользнула во 2 августа 1998 года, роковой день, когда она почувствовала, что ее жизнь вот-вот рухнет. Она потом и рухнула. Навсегда. (Телефон Дэвида три дня упорно отзывался короткими гудками, это с ума сводящее «заняло» сперва удивило Леонида и Кэти, потом обеспокоило, потом лишило сна, довело до исступления, так что под конец, уже скрипя зубами от отчаяния, они принялись названивать в фирму, требуя объяснений: «Что происходит?» — «Весьма сожалеем, он, наверное, неправильно повесил трубку, мы ничем не может вам помочь»…. Кэти: «Тебе не кажется, что надо съездить в Бостон?» Леонид: «Он же сказал, чтобы мы оставили его в покое»… Леонид: «Может быть, все-таки смотаться в Бостон?» Кэти: «Он же запретил нам его беспокоить». Дэвид был всеобщим любимцем… вплоть до неожиданного появления на свет Сильвии, родившейся шестью годами позже. С фотографий в семейном альбоме смотрел щекастый малыш, жизнерадостный и полный задора… когда он стал другим? Где мы ошиблись? — спрашивает себя Кэти. Чувство вины питает ее скорбь, и все блюда, которые оно ей подсовывает, притравлены, любую крупицу воспоминания можно выудить и проанализировать под новым углом зрения, даже самые светлые минуты прошлого теперь заражены сомнением и больше не внушают доверия: что, если уже тогда следовало заподозрить прокравшуюся гниль, уловить душок разложения… может быть, погибельная тень в то время уже коснулась жизни Дэвида? Перед самой защитой диплома по музыковедению в знаменитом музыкальном колледже в Беркли Дэвид бросил занятия ради героина и принялся балдеть, запершись в крошечной грязной комнатенке на Пауэр-стрит, напротив галдящих торговых рядов вдоль многоярусной шоссейной развязки имени Генерала Пьюласки. «Мы так хотели бы тебе чем-нибудь помочь!» — «Единственное, что вы можете для меня сделать, это не мешать мне жить своей жизнью». — «Неужели мы действительно ничего не можем сделать, чтобы помочь тебе?» — «Я никогда не вырасту, если вы все время будете водить меня за ручку». Когда они сбились с правильного пути, как допустили, что в душе их младшего сына зародилась эта потребность в падении и самоуничтожении?)
— Чтобы узнать все это, тебе не обязательно было ездить в Ванкувер, — замечает Бет.
— То есть как? — Хэл недоволен, что его прервали, как раз когда он воспарил на крыльях своего красноречия.
— Достаточно походить по библиотекам, — говорит Бет. — Или пошарить в Интернете…
— Стоп, — твердым голосом обрывает Шон. — Благодарю покорно! Пока вы у меня, попрошу без Интернета. Не сегодня, уж сделайте милость.
— Ах, Шон, — вздыхает Бет, — помилосердствуй! Надеюсь, ты не собираешься в который раз обличать современность?
— Нет. Я только прошу, чтобы сегодня вечером вы воздержались от произнесения этого слова.
— Да что это с тобой? — Бет не уступает. — Тогда, может быть, ты будешь так добр и заранее нас предупредишь, какие еще слова у тебя сегодня под запретом?
— Есть другое предложение, — говорит Шон после секундного колебания. Он отталкивает от себя тарелку, зажигает сигарету, причем руки у него заметно дрожат. — Я предлагаю игру: для начала пусть каждый из нас назовет одно слово, которое он предпочел бы исключить из нашей беседы. Думайте.
Внезапная тишина выводит Арона из оцепенения. Он вздрагивает, озирается:
— Что? Что такое?
Рэйчел наклоняется к старику, говорит прямо ему в ухо:
— Выберите слово, которое вам меньше всего хотелось бы слышать.
— Нет-нет, я прекрасно слышу, — и он незаметно прицепляет на место свой слуховой аппарат.
— По слову на человека! — командует Шон. — Кэти?
— Клон, — отзывается она. — Никаких клонов, сегодня вечером — ни звука о клонировании, согласны?
— Великолепно! — провозглашает он. — Лео?
— Термояд, — вздыхает Леонид. — Если можно.
— Решено! — говорит Шон. — Обходимся без Интернета, клонирования и всего атомного. А другие что скажут? Патриция?
— Рак.
— Разве только в качестве зодиакального знака. Брайан?
— Палестина, — заявляет Брайан, и все хохочут в ответ.
— Если цензура запрещает Палестину, — говорит Арон, слух которого теперь в полном порядке, — Израиль тоже придется вычеркнуть.
— А как же! — восклицает Шон и осушает свою рюмку в восторге от того, что дело приняло подобный оборот. — А ты, Чарльз?
— Может быть, удалось бы упразднить всякое упоминание о разводе?
— Эх-хе-хе, вот это будет нелегко! — ухмыляется Брайан, который, как с ним всегда бывает во хмелю, похохатывает и потеет сверх всякой меры (лоб и нос у него уже багровы от смеха, очки запотели). — Но ведь можно называть его «словом на букву «Р»", правда? А ты, — примирительно хихикнув, он повернулся к жене, — ты тоже, Бет, имеешь право что-нибудь запретить.
— Это смешно, — отрезает Бет. И, покраснев, скрещивает руки на своем пышном бюсте. Ей ненавистна та роль, в жесткие пределы которой она попадала всякий раз, когда оказывалась в обществе Шона: роль туповатой, нетерпимой моралистки, между тем как, по существу, она совсем не считала себя такой.
— Ну же! — взмолился Брайан. — Ведь это всего лишь игра!
— Ладно, в таком случае… скажем… калории!
Новый взрыв смеха.
— Вуди Аллен! — предлагает Рэйчел.
— Саддам Хусейн! — сказал Дерек.
— Виагра! — крикнул Хэл, и кое-кто из присутствующих поддержал его, захлопав в ладоши. — А ты, Хлоя? — вопросил он нежно, обернувшись к своей молодой жене. — Есть какая-нибудь вещь, о которой ты предпочла бы не говорить?
— Да, сказала Хлоя.
— И что же это? — полюбопытствовала Рэйчел.
— Люцерна, — произнесла Хлоя с легкой вызывающей усмешкой, которой мгновенно и навсегда покорила сердце Шона. (Слово «люцерна» она узнала от одного из своих клиентов, поскольку всегда спрашивала у них, чем они в жизни занимаются, чтобы они воображали, будто она интересуется ими как личностями, так оно лучше, дело тогда идет побыстрее; все они прикидываются преуспевающими врачами, адвокатами или бизнесменами, а чем больше врут, тем сильней распаляются, но тот ей так и выложил, что, дескать, люцерну культивирует — чего-чего, а такого нарочно не придумаешь! — и коль скоро она после обеда успела выкурить несколько сигареток с дурью, то прямо взвыла от хохота при этом сообщении: «Зад-зад-задрипанная лю-лю-люцерна!» — лепетала она, неверными пальцами запихивая в сумочку пачку десятидолларовых бумажек, которые он ей дал. «А люцерна — это как?» К счастью, тот парень и не подумал возбухать, он ей объяснил, что люцерна — красивое кормовое растение с сиреневыми цветочками, у него ее полно, несколько сотен гектаров в провинции, что граничит с Альбертой, так-то, целые поля этих меленьких цветиков простираются, насколько хватает глаз, — при одной мысли об этой бескрайней сиреневой прелести Хлою охватило непривычное умиротворение.
Глава IX. Рэйчел
Какая участь ожидает Рэйчел? Что ж, все нормальные люди, повинуясь общему закону, с возрастом мало-помалу приходят в уныние, а состояние тех, кто и так уже был пришиблен, с годами становится еще прискорбнее. Рэйчел не станет исключением из этого правила.
Она с самого рождения пребывала в трауре. Сначала ей пришлось оплакивать своих удушенных в газовых камерах дядей и теток, не говоря о евреях всей Европы, потом детей, которых она не смогла зачать… потом Шона Фаррелла, человека, что был ей дороже всех на свете… потом Дерека, не только любимого ею, но и ставшего ее мужем. Наперекор всем этим скорбям и, по правде говоря, даже вопреки собственному желанию Рэйчел доживет до поистине глубокой старости. И, что самое поразительное, останется до конца в полном смысле слова выдающимся преподавателем философии. Она не утратит умения пробуждать энтузиазм своих студентов. Снова и снова будить в них жажду познания, а затем утолять ее… отчасти, дабы они острее ощутили, до какой степени неутолимой остается эта алчба духа. Она ведь умеет сделать так, чтобы ожили и пышно зацвели не только диалоги Платона, которые она по большей части помнит наизусть, но и на первый взгляд куда более опустыненные ментальные пейзажи Канта, Гегеля и Лейбница. Студенты ее благодарно чтят. Посвящают ей свои книги и диссертации. Возводят ее в ранг высокого образца доброты и ясности разума. Когда наступит ее шестидесятипятилетний юбилей, ни у кого не повернется язык даже заикнуться о пенсии. Она больше чем столп кафедры — она памятник национальной культуры. Ум ее по-прежнему остр, речь ловка, и десятилетия нимало не притупили ее черного юмора. В возрасте восьмидесяти трех лет она еще читает отменные лекции, и тогда в аудитории по-прежнему яблоку негде упасть.
Есть и еще одна причина, мешающая Рэйчел броситься в гостеприимно распахнутые объятия смерти, невзирая на слабые поползновения поддаться этому искушению. Даже две причины: Анджела и Марина, дочери Дерека и Лин. Они теперь все равно что круглые сироты, отец умер, а родная мать не подает признаков жизни уже двадцать, тридцать, сорок лет. Рэйчел убедила себя, что девочки — особенно Марина — нуждаются в ней. Она думает: вот один из редких отрадных сюрпризов, которые нам преподносит жизнь, — люди и в самом деле способны привязываться друг к другу. Марина в шестьдесят лет от роду страстно любит свою восьмидесятилетнюю мачеху, скептическую и красноречивую. Примерно каждые две недели они встречаются на Манхэттене, чтобы выпить по рюмочке, сходить в кино, на балет, в ресторан или музей…
Но в день, когда я за ней приду, Рэйчел будет дома. Совсем одна в большом старом особняке, который Дерек и Лин приобрели в семидесятых, вскоре после свадьбы. С тех пор как Рэйчел впервые увидела его, дом пережил многочисленные перемены. Лин долго использовала чердак для танцев. Анджела и Марина делали там свои первые шаги. После ухода Лин в его стенах поселилась Рэйчел. Упорхнули сперва Анджела, потом Марина. Затем скончался Дерек, и ее большой старый дом стал местом последнего прощания с ним. После чего Рэйчел долгие годы жила в нем одна. И вот сегодня она здесь умрет.
Она утонет во время купанья. Сбросит одежду, обнажив свое тощее, узловатое старческое тело, и примется осторожно залезать в ванну, придерживаясь за ее край. Ей вдруг вспомнится тот далекий день, когда после ее единственной серьезной попытки покончить счеты с жизнью (она тогда только что осознала, что объединение своих неврозов с неврозами Шона, пожалуй, не самый верный путь к счастью) Лин отмывала ее в ванне. Ах, как хорошо было принимать эту заботу из рук самой любимой подруги и ощущать, как струи горячей воды смывают с кожи блевотину и экскременты… И тут-то, столько лет спустя, быть может, именно под влиянием этого давнего воспоминания, так внезапно вспыхнувшего в мозгу, она теряет равновесие. Падает. Ударяется головой о кран холодной воды. От боли лишается чувств. И ускользает под воду, по поверхности которой плавают душистые пузыри.
Таков финал истории ее души. Но приключения тела Рэйчел еще не совсем закончились. У нее, видите ли, имеется соседка, милейшая особа по имени Сара. Она существенно моложе, чем Рэйчел, ей всего-навсего семьдесят, но она уже с катастрофической скоростью катится вниз по склону Альцгеймера. В тот вечер Сара принесла Рэйчел письмо, по ошибке доставленное ей. Она стучит в дверь — никакого ответа, она видит в окнах свет, стучит громче, зовет — ответа нет, толкает дверь, обнаруживает, что не заперто, «Рэйчел! Рэйчел!» — тишина, бродит по дому, заглядывая в комнаты — «Рэйчел?», наконец доходит черед до ванной, она видит труп, с криком ужаса бросается прочь, бежит домой, но по дороге все забывает. Муж ей говорит: — «Почему же ты не отдала Рэйчел ее письмо?» — «Ах да!» — лепечет Сара, краснея от смущения, — она знает, что ее память стала выкидывать с ней скверные шутки, и вот она берет себя в руки, идет обратно, застает дверь соседского дома открытой, входит в ванную, видит труп, испускает вопль, со всех ног мчится домой, по-прежнему с письмом в руке. «Не хочешь ли ты сказать, что снова забыла передать его ей?» — с терпеливой улыбкой спрашивает муж…
И так далее и так далее, еще раз пять-шесть она проделывает этот путь туда и обратно…
Надо полагать, Шон и Рэйчел лопнули бы со смеху, если бы могли присутствовать при этой сцене.
Глава X. А время идет
Вино и пунш начинают оказывать свое действие, сотрапезникам мало-помалу становится все вольготнее, их ауры растекаются вширь и непринужденно наползают друг на дружку. Шон не без гордости оценивает градус своего опьянения: то, что нужно, в самый раз, говорит он себе, раздавливая в пепельнице сигарету и тотчас зажигая новую, все именно так, как я хотел, этот внутренний жар, уже с полудня регулярно подпитываемый, а теперь разгоревшийся, словно на торфе, ровным, спокойным пламенем — без копоти здешних грязных котельных, которые, не правда ли, мамочка, вечно выходят из строя в самый разгар пурги, ты так никогда и не смогла привыкнуть к зимам Новой Англии…
— Ну надо же, прямо снежная буря! — замечает Хлоя, она будто в голову к нему забралась, мысли читает. — Снег валит мешками!
— Про снег нельзя говорить, что он валит мешками, — мягко поправляет ее Хэл. А присутствующим считает нужным пояснить: — Видите ли, в Ванкувере снегопадов почти не бывает. Можно было бы сказать, что снег… гм… даже не знаю… ну, например, что хлопья ростом с Моби Дика… или как будто с неба сыплются тюленьи детеныши…
Но Хлоя уже не слышит его. (Она отчалила, уплыла далеко, в июнь девяносто шестого года. Великолепный день в Ванкувере. Колен еще жив. Ему двадцать лет, ей девятнадцать, и они живут вместе, эту пору ей потом суждено вспоминать как счастливые времена. В тот день, как частенько случалось, они проспали до трех часов дня, каждый на своем диванчике. Но вот они просыпаются, встают, принимают душ — сперва Хлоя, потом Колен, надо очистить свои тела от скверны. Они набрасывают белые одежды — у нее летнее платьице, совсем простое, у него индийская рубаха и широкие хлопчатобумажные штаны. Затем из маленькой металлической коробочки они ложечкой черпают немного вожделенного и очень дорогого белого порошка, хранимого для особых случаев. Склонясь, они втягивают его ноздрями — сперва Хлоя, потом Колен: надо прочистить мозги. Теперь, незапятнанные, безупречные, они встают лицом к лицу, боги-двойняшки из далекой Индии, они берутся за руки и смотрят друг другу в глаза, вглядываются все глубже, меж тем как сила и чистота мало-помалу властно растут в них, и вот их руки приходят в движение, они медленно, с бесконечной нежностью ласкают друг другу плечи, шею, лицо и грудь, их чувства, за ночь оттесненные, упрятанные в заповедные телесные глубины, поднимаются на поверхность, выступают из пор, подобные расплавленному золоту, эти дети — и впрямь боги, да, боги-близнецы, и теперь с упоением небожителей они ласкают друг дружке бедра и спину, легчайшего касания уст довольно, чтобы довести их до обморока, экстаза, оргазма, влажность языка несказанно сладостна, тела напряжены и вместе с тем невесомы, сияние затопляет мозг, они кружатся в кокаиновом танце, извилистом и мудреном, они одни в целом свете, чета влюбленных божеств, наркотик — белоснежное сверкание и музыкальная дрожь их сердец, каждая нота этой мелодии чиста и трепетна, и, когда они помогают друг другу сбросить одежды, руки их невинны, член Колена бьется у живота Хлои, и это так же чисто, как его жест, когда он поднимает свою сестренку на руки, укладывает ее на кровать, и медленно, серьезно опускается на нее, и входит в нее, и взгляды их, неотрывно спаянные, изливают свет самой чистой, самой святой любви.)
Нет, нет, ни за что, говорит себе Бет. Я не стану требовать, чтобы Шон погасил свою сигарету. Я у него в гостях, я согласилась принять его приглашение, он у себя дома, здесь его желание закон… однако же он знает, что у меня астма и эмфизема легких, знает, что я ненавижу сигаретный дым, потому что он вонючий, я от него задыхаюсь, он отбивает у меня аппетит, нет, такого я не скажу, ему это будет слишком приятно, он получит повод зубоскалить насчет той огромной пользы, которую он мне приносит, лишая аппетита, ах, эту песню я уже от него слышала, все те же разглагольствования, дескать, каким вздором нас пичкает Лига борьбы с раком, утверждая, будто злоупотребление табаком ежегодно обходится стране в миллиарды долларов на лечение… как будто сам факт воздержания от курева гарантирует человеку смерть по дешевке! Как будто некурящие не умирают! Не стоят налогоплательщику ни гроша! (Джордан курит по две пачки в день; а когда он в тюрьме, и того больше, о, Джорди, мое дитя, мой мальчик темнокудрый… что с тобой случилось?)
— На прошлой неделе я тебя вспоминала, Хэл, — говорит Рэйчел. — Я как раз летела ночью в Ла-Гуардиа, рядом сидел человек, и он писал. Огромный такой тип в бейсбольной каскетке, в тенниске, джинсах, с бутылкой кока-колы. Испуская душераздирающие вздохи, он лихорадочно строчил в блокнотике из желтой бумаги… Я в жизни не видела, чтобы кто-нибудь писал с такой страстью. Наклонилась, чтобы глянуть, о чем хоть речь идет, но он поспешил заслониться. Я пыталась схитрить, делала вид, будто роюсь в кармане на спинке сиденья, а сама украдкой посматривала налево, но он всякий раз оттопыривал жирный локоть, чтобы спрятать от меня свою писанину… В конце концов это стало действовать мне на нервы.
— Ну разумеется! — усмехается Хэл. — Ему-то какое дело, что тебе угодно сунуть нос в его секреты!
Шон и Брайан хохочут, а Дереку не по себе. Эта сцена в самолете напоминает ему тот, восьмимесячной давности, роковой полет в Мэдисон. (Он согласился принять участие в университетском симпозиуме в Висконсине на тему «Эпикурейский идеал в мире постмодерна». Само по себе это не составляло проблемы, если бы не то обстоятельство, что его отец Сидни в то время находился в больнице, готовясь подвергнуться тройному шунтированию. «Все пройдет как по маслу, — заверил Дерека хирург. — Нет ни малейших причин для беспокойства». «Как ты можешь в такую минуту покинуть своего отца? — визгливо орала мать. — И меня бросить, чтобы я всем этим занималась совсем одна? Наслышана я об эгоизме, но столкнуться с эгоизмом настолько наглым, притом со стороны моего собственного сына… это выше моих сил». Дерек предпочел прислушаться к мнению врача и не стал отменять поездку. Накануне, зайдя навестить Сидни, он заметил, что рука у отца до странности вялая, лицо бескровное, почти серое в неоновом освещении палаты. Но, заговорив с ним в уверенном, ободряющем тоне, он мысленно не переставал разрабатывать новые положения своего доклада в Мэдисоне, посвященного утрате былых радостей, которую влечет за собой экономия времени: «В современной Америке человеческое общение облегчено и ускорено, но потеряло значительность». Или еще: «Никто больше не простаивает целыми днями у плиты, но наши трапезы безвкусны». «Что мы утратили? Искусство беседы, переписки, приготовления пищи и застольного общения… одним словом, искусство присутствия». «Папа, дорогой, мне пора идти». — «Ну иди, сынок», — хрипло буркнул Сидни и, отвернувшись от Дерека, стал смотреть в окно… Дерек заметил, что его голубые глаза увлажнились… Он плакал? Да нет, с чего бы ему плакать, глаза у него просто слезятся, вот и все, итак, Дерек сел в самолет до Мэдисона и во время полета все колотил, как сумасшедший, по клавишам своего ноутбука, приумножая заметки о современной утрате интенсивности общения, о потере истинного контакта, того острого переживания здесь и теперь, каковое и было самой сутью эпикурейства, ведь современные технологии позволяют нам мысленно пребывать и активно действовать в одном месте, телесно же находиться в другом, вот мы и входим в любое сообщество легко, как нож в масло, но становимся все безразличнее ко всему окружающему, ко всем, кто с нами рядом. Его сосед, бизнесмен-сикх, нелепо живописный со своей бородой и тюрбаном, бросал быстрые взгляды на экран его ноутбука, пытался выяснить, над чем он трудится. Это назойливое любопытство мешало Дереку сосредоточиться… так же, как загнанное в глубь сознания, но все же грызущее его ощущение противоречия между темой симпозиума и неотменимым фактом, что, пока он тут строчит, его родному отцу вскрывают грудную клетку… Ему и впрямь не суждено было больше увидеть Сидни. Телефонный звонок Вайолет прозвенел на следующее утро, незадолго до начала симпозиума, и, охваченный отчаянием, он понял, что не будет ему ни ножа, ни масла, что у него не остается права ни прочесть свою лекцию, ни присутствовать на погребении отца… ах, мать снова, в который раз, оказалась права!)
— В общем, — продолжила между тем Рэйчел, — я наконец пала духом и вернулась к своей книжке. Но потом… я услышала, как сосед стал похрапывать, смотрю, а он спит как убитый, блокнот соскользнул к нему на колени, но освещен, его лампа для чтения осталась включенной… Тогда я наклонилась, чтобы рассмотреть текст поближе…
— И что же там оказалось? — не утерпела Патриция.
— Ничего.
— Как так?
— Ни единого слова, даже ни одной узнаваемой буквы. Страница за страницей — письмена, не поддающиеся дешифровке. Ничего такого, что имело бы отношение к человеческому языку.
— И это тебе напомнило меня, — усмехается Хэл. — Весьма польщен.
— Вы уже освоились со здешней жизнью? — Дерек, обернувшись к Чарльзу, задает ему тот самый вопрос, которого он недавно ждал с таким отвращением. — Местные обитатели не блещут особым радушием.
— О, я на днях столкнулся с прелестным образчиком здешнего гостеприимства, — отзывается Чарльз. Я был на кухне. Раковина там расположена напротив окна, как и здесь, у Шона. Итак, я мою посуду, поднимаю глаза и вижу перед окном соседку из ближайшего дома, которая явно рвется ко мне.
(Патриция думает о своем родном подоконнике, где всегда полно вазонов с цветами, декоративными травами, а по летнему времени даже с карликовыми помидорами; до чего ж они бедны, эти кухни интеллектуалов! Какая унылая пустота царит в холодильнике Шона с тех пор, как ушла Джоди! И в саду ни одной кормушки для птиц…)
— Это женщина лет тридцати, продолжает Чарльз. — Курчавая блондинка, вечно в полуистерическом состоянии, раздерганная, непрестанно орущая на своего отпрыска, требуя, чтобы он упражнялся на пианино… Ну, короче, увидев, что она явилась по мою душу, я притворяюсь, будто чрезвычайно поглощен прочищением отверстий чесночного пресса с помощью зубочистки, но она так барабанит в стекло, что мне волей-неволей приходится идти открывать. «Извините», — так она приступила…
Безукоризненная точность, с которой он передразнивает специфический выговор бостонских яппи, вызывает всеобщий смех.
— «Извините… Привет, меня зовут Мэгги, я тут рядом живу». — «Да?» — «Ну вот, моя мать всегда говорила, что, когда появляются новые соседи, им надо принести на новоселье булочек к чаю. Так что я… гм… нет, я знаю, что вы уже полгода как здесь живете, да все никак не могу выкроить время, чтобы булочки вам испечь… В общем, я вам вот что хотела сказать: вы уж считайте себя условно обулоченным!»
— Ах! Бесподобно! — Хэл заходится от смеха, хлопая себя по ляжкам. — Ты мне разрешишь вставить это в роман?
— Ты уверен, что на Клондайке лакомились булочками? — с комической серьезностью осведомляется Бет.
— Э, ведь все бывает именно так! — В голосе Леонида проскальзывает тень славянского акцента, от которого ему не суждено избавиться никогда. — Собираешься, собираешься испечь булочки, а часы-то тикают, время уходит, и в один прекрасный день говоришь себе: да нет, поздно, уже незачем их печь.
— Вы могли бы быть моей внучкой, — ни с того ни с сего заявляет Арон, с улыбкой обращаясь к Хлое. — Отдаете ли вы себе отчет, что я гожусь вам в дедушки?
— Скорей уж в прадедушки, — не без основания уточняет Хлоя. — Но вы на него не похожи.
— Да-да, разумеется, — кивает он, спрашивая себя, что в ней особенного, в этой девочке, почему она кажется ему такой неотразимой. Может быть, его влечет сходство с женщиной, которую он знал когда-то или видел в кино, да нет, не было такого, вот оно что, точно» в том-то и штука, он никогда не видел подобной свежести, она «чиста, как первый снег», откуда это, из Шекспира? Даже ее младенец не столь свеж, как она, думает Арон, подавляя желание дотянуться и, минуя объемистое пузо Хэла, погладить ее левую руку, лежащую на краешке стола так грациозно, такую нежную и живую, эта лебединая белизна и рубин, поблескивающий на безымянном пальце… но ее, конечно, передернет от прикосновения моей ладони, желтой, как пергамент, шершавой… Нам, старикам, больше не полагается тянуться к нежной коже, прикосновения, ласки — все это уже не для нас… А может, она мне напомнила мою мать? (Она была тоже блондинкой, такой же длинношеей, тогда, в Одессе, в ту давнюю пору, до бегства, да, там, в другом мире… Аромат сирени, что исходил от нее, когда по вечерам она садилась ко мне на кровать… тень от ее рук плясала на обоях в мерцающем свете керосиновой лампы, превращаясь то в оскаленную волчью пасть, то в хлопающего крыльями ворона… а за стенами бушевала гражданская война. Столько потрясений, столько ужасов и неразберихи, столько вопросов, что рвались наружу, а в горле стоял комок, преграждая им путь: «Папа, что происходит?» — «Видишь ли, — отвечал ему отец, — в настоящее время на территории Украины действуют шесть различных армий»… Много десятилетий миновало с той поры, а он и сегодня может по пальцем пересчитать те враждующие армии: украинские националисты, большевики, белые, части Антанты, поляки, анархисты. «Каждая из них ненавидит все прочие, — продолжал отец, раскатывая скалкой тесто для хлеба. — Они сходятся только в одном: что надо истребить всех евреев». — «Но… — он так никогда и не задал этот вопрос, вечно тонувший в коме теста, вопрос без ответа, — …почему?»)
— Что тут говорить, мой-то прадед покончил с собой, — добавляет Хлоя словно бы про себя.
— Ах, вот как? — роняет Бет, а в памяти уже теснятся десятки самоубийств, состоявшихся и предотвращенных, она их навидалась в «Скорой помощи»: посиневшие лица, изрезанные запястья, вздутые животы… — Это ужасно.
— Нет, нисколько. То есть я хочу сказать, для меня ничего ужасного не было, ведь я-то его, своего прадеда, и не видела никогда. Мне мать про это рассказывала, только и всего. Как история оно мне даже нравилось, неплохо звучало. Он захандрил, потому что старый стал, за всю свою жизнь так ничего не достигнув, и однажды взял да и повесился в гараже. И главное, что занятно — оставил записочки, чтобы люди знали, как в доме разные штуки работают… Их потом всюду находили, одну он даже под дворники своего автомобиля подсунул: «Осторожно! Тормоз склонен заклиниваться!»
— Это было очень благородно с его стороны, — замечает Рэйчел совсем тихонько, спрашивая себя, хватило бы у нее предупредительности, чтобы, дойдя до последнего предела отчаяния, оставить на кухонной плитке записку: «Правая передняя горелка не работает». (Рэйчел всегда преследовало чувство, будто она попусту обременяет собой землю. Как она однажды объяснила психиатру, ее величайшая проблема состоит в том, что она родилась на свет. С самых ранних лет, какие она только могла припомнить, ее родители в Бруклине взирали на свою дочь с одним молчаливым вопросом: как ты посмела прийти в этот мир, когда столько более достойных мертвы? Ты должна была родиться мальчиком, мальчиком, мальчиком, тебе следовало мальчиком быть, быть мальчиком, как тебе не стыдно ходить без мужских признаков, без-пейсов-ермолки-обрезания? И, раз уж тебе не дано быть мальчиком, ты, по крайней мере, могла бы иметь одного, а лучше двоих, троих, четверых, пятерых сыновей, дабы пополнить опустошенные ряды нашего племени… так нет же, даже этого нет! Абсолютно бесполезная! Никчемная! И не мужчина, и, мало того, не вполне женщина! Недочеловек, вот она кто! Только полюбуйтесь: нахватала уйму показушных дипломов и проводит свое время в разглагольствованиях о философии, да притом греческой! Как будто не знает, что Бог открыл истину нам, раз и навсегда — нам и больше никому! Это называется «образованная женщина», ха! Ничего удивительного, что она так и не сумела родить ребенка! Сама можешь убедиться: где серое вещество в избытке, там недобор эстрогена! Да для тебя оно и лучше! Нормальной жене полагается покорятся своему супругу, служить ему, а не затевать с ним философские диспуты каждое утро за завтраком! О мужественные высокопарные умы ее дядей и дедов, преисполненные познаний и традиций, сведений и навыков, о тысячелетняя красота эрудиции, бесконечных комментариев Писания, узловатых рук, седых голов, белоснежных бород, глаз, излучающих мудрость… все это обращено в прах, в пыль на ветру, в ничто! И как ей, бедняжке, тощенькой темноволосой самочке, удалось до того обнаглеть, набраться такой дерзости, чтобы все-таки жить? Что до личного, непосредственного чувства, к хасидам, людям, маниакально блюдущим пищевые запреты, ни на йоту не отступающим от правил во всем, что касается коитуса и гигиены, одержимым страхом перед Богом, страхом перед женщинами, а в конечном счете тотальным страхом перед жизнью, Рэйчел не испытывала ничего, кроме острого раздражения… Но, будучи непререкаемо честной, она волей-неволей отдавала себе отчет в том, до какой степени сама на них похожа.)
Это принимает прямо-таки патологический оборот, думает Чарльз, вставая и отправляясь на кухню, чтобы принести оттуда три новых бутылки вина. Ноябрь — месяц смертей, сумеречный месяц, когда все клонится к упадку. Разговор столкнул Чарльза в его привычную колею размышлений о самоубийстве, он зол на сотрапезников, ведь эта дорожка неизбежно привела к воспоминанию о смерти его брата Мартина… именно в ноябре, вот уж сколько лет тому назад, ну да, пятнадцать, мне тогда было двадцать пять, а ему двадцать, черт возьми, совсем малыш! У него могла бы быть еще уйма времени для исправления, эх, Мартин, бедный издерганный парнишка, вечно взвинченный трепач, только и делал что глупости, его нарекли в честь Кинга, а он двух месяцев подряд не мог продержаться, чтобы не угодить в тюрьму, бесперечь позволял втянуть себя в дурацкие выходки, то возьмется дурью торговать, то машину угонит (может, все бы обернулось иначе, если бы Чарльз после того угона помог ему сделать ноги), Мартин, паршивая овца, пятнающая честь семьи, как приходилось краснеть за него их отцу, оратору, апостолу свободы, он превращал в посмешище отцовское красноречие, на чем свет понося белых, крича, что преступление правомерно в стране, где все основано на рабстве и геноциде… так все и тянулось вплоть до того дня, когда, впутавшись в очередную историю, ограбление со взломом, и услышав полицейских, топающих по лестнице дома на Седжвик-стрит (они там жили вдвоем с Чарльзом, выбравшим это место из-за его близости к университету, где он заканчивал работу над докторской по сравнительному литературоведению), Мартин достал револьвер, засунул дуло в рот и спустил курок, забрызгав своими мозгами кухонные стены — стены, которые потом, как только легавые составили протокол о самоубийстве и отправили труп в морг, Чарльз отмывал собственноручно. «Увы! Бедный Йорик! — сквозь зубы бормотал он, прополаскивая губку. — Где твои славные шутки? Где твои песенки и прыжки?» В каких кусочках серого вещества, рассеянного по плиточному покрытию кухни, таились детские воспоминания брата? его орфографические ошибки? его экзистенциальное отчаяние?
Чарльз, вернувшись, ставит на стол бутылки с вином, а между тем Леонид принялся рассказывать историю, она в самом разгаре. Все внимают с интересом, даже Кэти, она-то знает весь мужнин репертуар наизусть, но ей никогда не надоедает его слушать.
— …городской бассейн в Минске, — повествует Леонид. — Я едва умел плавать, но… там была одна девушка. И какая девушка! Валентина, так ее звали. Валентина Сагалович. Свет моих очей. Как бы вам ее описать? Чудесные светлые волосы, дивная загорелая кожа, очень красивая грудь в алом купальнике, все в ней было красиво, и ее постоянно окружали МУЖЧИНЫ, настоящие, которым уже восемнадцать. Они со своими увесистыми бицепсами и грубыми голосами то и дело заставляли ее хихикать, а я, пятнадцатилетний, с тощей безволосой грудью и спичечными ножками, с тоненьким блеющим голоском держался в сторонке, мне не удавалось даже подступиться к Валентине. Это меня убивало: издали смотреть, как она откидывает на спину свои золотистые волосы, поправляет бретельки красного купальника, хлопает ресницами и прыскает со смеху перед этими силачами. Валентина, Валентина Сагалович… Она снилась мне по ночам, я видел, как она прямо в купальнике входит в мою комнату и целует в губы, нежно, ах! с такой лаской…
— И..? — торопит Патриция.
— Ну вот, — продолжает он, — время, по своей зловредной привычке, шло да шло. Много его утекло, очень много. И однажды, в прошлом месяце, возникли проблемы с канализацией, я вызвал сантехника. Он пришел, сделал работу, и я вдруг вижу на бланке счета — сердце так и подпрыгнуло еще прежде, чем я успел прочесть фамилию мастера: Сагалович. «Сагалович! — вырвалось у меня. — Это вы, мистер Сагалович?» — «Да, что такое?» — «Ах, как глупо вышло… дело в том, что… когда я был маленьким… в Минске…» — «Как? Вы из Минска?» Ну, и пошло, и поехало, кончилось тем, что мы бросились друг другу на шею. Хотите верьте, хотите нет, этот тип оказался родным братом Валентины. «А ваша сестра? — спросил я. — Как она поживает? Что с ней сталось?» — «У нее все хорошо, — отвечал он. — Тоже здесь живет, замужем за американцем. Хотите, я дам вам ее телефон?» — «Почему бы и нет?» — говорю. А потом призадумался… можно ли меня узнать? И, что существеннее, на кого оно стала похожа, моя златовласая Валентина в алом купальнике? Прошло ведь не пять, не десять лет, а все пятьдесят три. Это же умора. Но я ничего не могу с собой поделать. Думаю о ней день и ночь. Я снова там, в минском бассейне, терзаюсь, глядя, как она флиртует с этими громилами. Кэти нервничает, я уже ее не слушаю, когда она читает мне свои стихи. В конце концов я решаюсь позвонить Валентине.
Повисает довольно продолжительная пауза.
— Я ей звоню. — Леонид вздыхает. — Разумеется, у нее не сохранилось ни малейшего воспоминания обо мне, она никогда и понятия не имела о моем существовании. Но ей приятно услышать родную речь. «У меня четверо детей», — сообщает она. «И что из этого? — спрашиваю. — У меня их шестеро». — «У меня даже внуки есть», — говорит она мне. «Это не шутки, — говорю. — Я и сам дедушка. Итак, мы увидимся?»
— Ошибка, — роняет Чарльз.
— Ваша правда, — отзывается Леонид.
— Навещать свое прошлое — всегда ошибка. — Чарльз сам не знает, зачем он это сказал; тут бы нужен какой-нибудь оригинальный пример, но ему ничего не приходит на ум.
— И что дальше? — спрашивает Патриция (она-то считает нежелательной докукой даже встречи с друзьями, потерянными из виду года два-три назад). — Как она?
— Что вам сказать? — Леонид снова не может удержаться от вздоха. — Рядом с Валентиной Сагалович… извини меня, Бет… в сравнении с ней Бет — просто манекенщица. Похоже, Валентина весит что-нибудь около двухсот кило. Ее тело со всех сторон буквально переливается через край. Единственное, что в ней не разжирело, это глаза. Они не лопаются от жира, но зато косят. То ли съехали на сторону во время переезда, то ли всегда были такими, это уж я не знаю. В Минске мне так и не довелось подойти к ней достаточно близко, чтобы заметить, что она косоглазая. Ну… ладно… что тут скажешь? Я и сам не Леонардо ди Каприо, я даже не Клинт Иствуд, но все-таки… как бы это выразить?
— Так о чем же вы с ней говорили? — подает голос Чарльз, найдя, что рассказ малость подзатянулся.
— Даже и не знаю. — Леонид пожимает плечами. — Помнится, я ограничился тем, что преподнес ей коробку шоколадных конфет и ретировался со всей мыслимой поспешностью.
— И какова мораль сей басни? — ухмыляется Шон. — Мотайте на ус, Хлоя, дорогая моя: нельзя стареть. — Он глядит на нее в упор, нежно, с восхищением, весь шарм, который еще отпущен ему, сосредоточился в этом взгляде.
Встретив его, Хлоя мгновенно опускает глаза, застывает, уставившись в свою тарелку. Он ничего обо мне не знает, думает она, не считая одного: что я жена его лучшего друга. А воображает, будто имеет право меня кадрить. Страх берет от этой его оценивающей манеры, как он меня изучает, урод бесстыжий, ишь, напустил облако дыма и пялится сквозь него, щурит гляделки…
«Ох…» — как всегда на русский манер про себя вздыхает Шон. Эту мне уже не поиметь. Как прежде, не выйдет, больше такому не бывать… Двадцать лет тому назад у Дерека на вечеринке я покорил Лин одним взглядом — глаза в глаза, да, любовные дела так и улаживались, прямо за столом — и посте, на кухне, я прибрал ее к рукам, просто-напросто погладив по щеке. Даром что раздеть ее мне не довелось ни разу, она отдалась мне целиком, я мог делать с ней все, что пожелаю… Такие вещи удаются, пока ты молод, уверен в своей способности лишить их равновесия и в падении подхватить… с этим покончено. Джоди и ту пришлось уламывать, обхаживать, я должен был заслужить ее; о том, чтобы она раздвинула ляжки, не прочтя моих стихов, не могло быть речи, как и о том, чтобы выйти за меня, предварительно не глянув в мое завещание. Вот что происходит, когда волосы редеют и пузцо дрябнет: приходится все это возмещать сердечностью и добротой, доказывать, что ты по природе оптимист и человек положительный. А пока все волосы при тебе, малая толика садизма совершенно не мешает, капелька нигилизма воспринимается как нельзя лучше. Ну и счастливчик этот Хэл. И какой смысл гадать, долговечна его нынешняя идиллия или нет; главное, что еще совсем недавно он познал радость обнимать прекрасную незнакомку, говоря себе, что вот-вот уложит ее в постель. Когда я в последний раз спознался с прекрасной незнакомкой — вольно, беззаботно бродя по пляжу, держась за руки, целуясь с диким наслаждением, мы сорвали друг с друга одежды, голыми кинулись в море, и наши тела слились, когда же это было? (Сказать по правде, он никогда не пускался в предприятия подобного рода, но ему хочется довести свою мысль до конца.) В наши дни никто больше не умеет заниматься любовью, все занимаются партнершей. СПИД, риск беременности, а главное, ее удовольствие; женщины больше не желают улетать с вами на седьмое небо, нет, они хотят, чтобы вы прошли полуторамесячные курсы клиторной стимуляции, после чего, проглядев и исправив ваш конспект и убедившись, что вы к экзамену готовы, сообщают вам, что больше всего им нравится это проделывать с женщиной. (Пережить подобное Шону тоже не случалось, но он, распаленный собственной риторикой, нимало тем не смущается.) Ах, Хэл. Везунчик. Это ж какая удача — найти себе в жены такую простую, такую ласковую девушку.
Глава XI. Хэл
Не кажется ли вам, что до сей поры я куда как великодушно обходился с этой компанией? Скольких уже я умудрился скосить так, что они этого даже не заметили. Однако боюсь, что нашему маленькому семейному треугольнику — Хэлу, Хлое и Хэлу-младшему — предстоит участь не такая легкая.
Двух недель не пройдет после вечеринки в День Благодарения, как Хэла Большого хватит инсульт. Но я его не заберу, еще не время. Сначала ему придется подвести итог своей жизни. (Здесь, пожалуй, будет кстати упомянуть, что его настоящее имя не Хэл, а Сэм; Хэлом он себя нарек, когда принял решение заняться писательством, ибо имена, содержащие аллитерацию, казались ему наделенными почти магическим обаянием: тому порукой Уолт Уитмен, его кумир. Да и впрямь нет сомнения, что «Хэл Хезерингтон» в памяти запечатлевается легче, нежели «Сэм Хезерингтон».)
Из клиники он возвратится очумелый, его будут донимать головокружения. Хлоя впадет в ступор. Где мужчина, еще так недавно казавшийся ей крепким, солидным, надежным? Тот, в ком она видела опору, защитника от безумства и насилия, которые до встречи с ним, собственно, и были ее хлебом насущным? Из покровителя, исполненного отеческой мощи, ее супруг разом превратился в одышливую старую развалину. Он ей отвратителен. Ужасен. Неузнаваем.
Она бросит его. Прихватив с собой Хэла-младшего и семь увесистых чемоданов, набитых нарядами, мехами и драгоценностями (всем, что успела приобрести за время замужества), она отправится в Лондон. Ей предоставлено право неограниченно распоряжаться состоянием своего мужа, поскольку их банковские счета оформлены на два имени и, согласно брачному контракту, имущество супругов (то есть богатство Хэла и ее нищета) объединено.
И Хэл остается один. Такое с ним происходило уже не раз, но никогда еще он не был настолько плох. Теперь же каждый день, от первого проблеска зари до последнего полуночного содрогания, становится для него нагромождением невообразимых мук. И хуже всего не удушье, не головокружения, не боль, не отупение, а чувство отчужденности. Он чужд самому себе. Не узнает ни своего тела, ни духа. Не только жена и ребенок бросили его, он сам покинул себя. Тот «я», с которым ему отныне приходится иметь дело, — субъект ленивый и угрюмый. Он целые дни проводит в постели, равнодушный к природе, поэзии, музыке, без единого желания. Время от времени, пронзенный воспоминанием о былой поре, иной жизни, он пробует встряхнуться. Carpe diem[27], — в изнуряющей тревоге шепчет ему его «я-минувших-дней». Ты должен что-то делать! Да что на тебя нашло? Тебе необходимо приняться за работу! А новое «я» только ворчит да поворачивается на другой бок. Его мозг сотрясают странные шумы, электрические прострелы отчаяния, более мучительные, чем все, что он переживал когда-либо раньше.
Он существует в замедленном темпе. Словно бы со стороны смотрит на себя, еле таскающего ноги, блуждая по дому, преодолевая сонливость, неуклюжесть, упорное нежелание своего тела подчиняться приказам разума. Ему требуется больше двух часов, чтобы завершить обычный утренний ритуал, с которым он еще недавно управлялся минут за тридцать. Вся эта некогда отлаженная, доведенная до автоматизма серия привычных движений (встать, побриться, одеться, позавтракать, убрать со стола) на каждом этапе оборачивается выматывающим усилием. Я как персонаж из романа Беккета, говорит он себе, только все это решительно не смешно. Он ужасно путается в рукавах собственной рубашки. Теряет крем для бритья. Забывает налить в кофеварку воды, так что горячий воздух раздувает молотый кофе, распыляя его по всей комнате, после чего приходится тратить еще полчаса на уборку. Он ползает по полу на коленях и, всхлипывая, подтирает кофейный порошок губкой. Потом валится с ног, как подкошенный. Ревет так, как не ревел с тех пор, как на глазах у него, пятилетнего, грузовик переехал его собаку.
И снова подходит к кровати, ложится. Зачем ему что-то делать? Какой в этом прок?
Однако безделье влечет за собой пытку нового рода. Под закрытыми веками клочьями проплывают сцены из его прошлого, эти хаотические воспоминания мало-помалу захлестывают больного с головой. Похоже, его мозг наподобие желудка тоже подзабыл, как переваривать, и вперемешку отрыгивает образы и впечатления, поглощенные за пятьдесят пять лет жизни.
Он заново пережевывает нескончаемо-церемониальные воскресные завтраки у бабушки в Коламбусе: ростбиф с зеленым горошком… засим несколько смертельно скучных партий в скраббл, где он всякий раз проигрывал. На нем вновь его любимые джинсы, продранные на левой коленке, с красной заплатой, которая в конце концов тоже протерлась. Ему тринадцать, мать неожиданно входит в комнату и застывает на пороге, потому что у него, как на грех, оргазм, он стонет… как бы теперь поскорей избавиться от липкой жижи, что выплеснулась ему в ладонь? А вот его мать сидит в скобяной лавке у выдвижного ящика-кассы, на голове у нее топорщатся бигуди, она листает женский журнал. Вечер, мать заходит к нему в комнату, треплет сына по волосам, целует и одним точным движением пальца стирает с его щеки красный след помады, оставленный прикосновением ее губ. Мать притаскивает из супермаркета пластиковые упаковки, полные бесцветного маргарина, а маленькому Сэму — это уже его работа — надо, нажимая на ярко-оранжевую капсулку, торчащую посреди пакета, выдавливать красящее вещество, потом месить руками тошнотворную белую массу до тех пор, пока она не станет равномерно-желтой, похожей на масло (впрочем, они и называют это «маслом», у них принято различать не «маргарин» и «масло», а «масло» и «настоящее масло», это последнее приберегают для торжественных случаев); затем ему надлежит срезать ножницами угол пакета и нажать, чтобы на тарелку выдавилась противная желтая спираль. Он вновь видит, как они вдвоем с одноклассником, отпрыском зажиточного семейства, выходят на парусной яхте из бухты Сандаски; каждая подробность того дня отпечаталась в его памяти так же четко, как белый треугольник паруса на кобальтовом фоне небосклона. Для литературного ремесла все это бесполезно, абсолютно ничего не дает. Он сует руку в ночной горшок, играет своими экскрементами, мать его лупит. Летний лагерь в Хокинг-Хиллзе, он там вместе с другими шестью скаутами, втыкает в жесткую землю колышки палатки, неловким ударом деревянного молотка прямо по ногтю калечит себе палец и краснеет от стыда, когда все хором покатываются со смеху. Он ненавидит эту команду, как и любую другую, и жаждет одного: удрать поскорей к себе в палатку, подальше от мошкары и вожатых, и забыться над книжкой Ивлина Во или Стивена Крейна, пишет свой первый роман, ночью, в Цинциннати, после того как целый день развозил пиццу; в конце концов от недосыпа у него начинаются галлюцинации, он решает вставить их в свое сочинение, но позже это приходится выкинуть по настоянию литературного агента…
Сцены из его писательской биографии в свой черед тоже оживают, среди прочей дребедени они блестят, неверным мерцающим светом. Его поездки за границу, успех, драгоценная его популярность… какие-то обрывки. Мост на канале в Лейдене, возле крохотной церквушки, в рассветном тумане: совершеннейший образ покоя и мира… Баран с перерезанной глоткой, подвешенный за задние ноги на Баальбекском мусульманском базаре в Ливане, его курдюк — чудовищный треугольник белого жира. Мрачная бальная зала гостиницы «Европейская» в Варшаве, в восьмидесятых: неоновые лампы, потрепанный оркестр, фальшивый мрамор колонн, подтекавшие фонтаны, искусственные цветы в кадках и постояльцы — мужчины и женщины в блеклых одеждах, танцующие так медлительно, так невыразимо печально, словно Вторая мировая война все еще длится… Юноши парижского квартала Маре субботним утром, их естественная, небрежная элегантность, хлопчатобумажные рубахи, кое-как заправленные в полотняные или вельветовые штаны, их волосы, еще спутанные после сна, он смотрит, как они покупают газету, проглядывают ее, пристроившись на террасе кафе, заказывают большую чашку кофе с молоком и круассаны, потом раскуривают «Голуаз»… Боже, как он вожделел к ним, к этим утренним субботним парням! А вот индийские танцоры в Кохине, поголовно мужчины, поглощенные долгими ритуальными приготовлениями к вечернему спектаклю кахакали, они вращают глазами, разминают запястья, толстым слоем наносят на лица кричаще-яркий грим, обертывают вокруг своих узких бедер десятки метров хлопчатобумажного крепона, потом принимаются бормотать молитвы под ритмические звуки таблы[28], мало-помалу позволяя мужским и женским божествам овладеть ими, войти, поселиться в их телах… И вновь предстал перед ним Герхард, молодой поэт-немец, с которым он свел знакомство на писательском форуме в Барселоне и зазвал его к себе в номер… но в тот раз ему, как всегда, не хватило храбрости. Опять длинной чередой прошли перед ним его студенты, за три десятилетия преподавательской деятельности вызвавшие у него столько томительных эрекций: один за другим они входили в его кабинет за индивидуальной консультацией, одетые так, как им мыслилась наружность литератора — в тесных джинсах и черных майках, они с жаром расписывали ему своих персонажей и сюжеты, часы творческих мук и вдохновений, а Хэл им улыбался, ободряюще кивал, следя, чтобы дыхание не слишком учащалось, давал обильные рекомендации касательно композиции, диалогов, символики, преодоления расплывчатости, без устали воображая, как они встают у него за спиной и пронзают его анус до самой души. Юные проститутки с внешностью андрогинов, которых он покупал в больших городах по всему свету, тоже явились ему, он мог внушать себе, что это мальчики, хотя с мальчиками у него так ни до чего и не дошло…
Все это не помогает, нм к чему существенному не приводит; память, работая бесперебойно, как бетономешалка, по-садистски швыряет ему в лицо комья его прошлого: вот она, твоя жизнь, вот как выглядело твое пребывание на этой земле, тем хуже, ничего уже не поделаешь, второго шанса у тебя не будет, вот к чему сводится весь твой опыт бытия в качестве человеческого существа… Не в силах больше выносить эту муку, почти готовый завыть, Хэл пробует грубым волевым рывком вынырнуть из водоворота образов людей, которых он знал и потерял, событий, ушедших в прошлое, он силится вернуться к настоящему, к hie et nunc[29] своей комнаты, к белому прямоугольнику кровати… Надо ее, в конце концов, застелить, пора все-таки встать! И вот он принимается разравнивать простыни, расправлять одеяла, накидывать и подтыкать покрывало… эта убийственно сложная задача отнимает у него добрых пятнадцать минут, после чего, вконец измочаленный, он снова ложится.
Тереза приходит два раза в неделю, готовит и убирает, как она (говорят) делает это для половины населения городка. Друзья забегают его навестить: Шон, Рэйчел, Дерек, Патриция, Кэти, Когда их нет рядом, он чувствует себя отчаянно, постыдно одиноким, но стоит им явиться, как его охватывает усталость и не терпится, чтобы они ушли. Они тащат ему цветы, диски, экзотические лакомства. Советуют набраться терпения. «Надо потерпеть, Хэл. Ты выздоровеешь, будь спокоен».
Никакого терпения у Хэла нет, но тем не менее он и впрямь выздоравливает. На это ему потребовалось около года. Он даже собирается вернуться к преподаванию, хотя университет уже состряпал роскошный сценарий его проводов на пенсию. Тут-то его и настигает второй инсульт.
А немного погодя третий.
Теперь он совершенно беспомощен. Поселяется в доме инвалидов. Приют населен больными, которые — отрицать это невозможно — с виду очень похожи на него. Но по существу, у них нет со мной ничего общего, твердит он себе. Большинство из них живут, как в тумане, только и знают, что жевать подслащенный желатин да требовать, чтобы их кресла-каталки выкатили в коридор, где можно, разинув рот, тупо пялиться на экран, где идет очередная телеигра. А поскольку они отвыкли пользоваться своими вставными челюстями, лица у них деформировались, провалившиеся рты придают им сходство с кошмарными человекоптицами Иеронима Босха. Хэл не может допустить мысли, что все эти субъекты некогда, подобно ему, лопались от избытка силы, а кое у кого из них, наперекор видимости, голова и поныне варит.
— Хэл Хезерингтон, — бормочет одна из сиделок, глянув на медицинскую карточку в изножье его кровати. — Хотела бы я знать, почему это имя мне вроде как знакомо.
— Судя по досье, — отозвалась другая, — он был писателем. Романы сочинял.
— Вон что! Романы, правда? — усмехается первая. При этом она наклоняется над ним и говорит, повысив голос, выделяя слова, будто хочет посвятить умственно отсталого марсианина в тонкости человеческого языка. А потом добавляет (на сей раз орет уже так, будто он глухой, и переглядывается с товаркой, усиленно подмигивая): — Да уж! Черт возьми, вам небось требуется уйма воображения, чтоб здесь находить что-нибудь забавное? Та еще задачка, я вам доложу!
Хэл все прекрасно слышит. И все понимает. Но ни говорить, ни шагу ступить он больше не может. И его охватывает жажда конца — от этого двойного унижения, когда с тобой обходятся, как с младенцем или слабоумным, а притом еще твое собственное тело не повинуется приказам воли.
Тут уж никто ничего не в силах изменить.
Кроме меня.
Ну, так я это и делаю.
Глава XII. Вторая перемена блюд
— Кто же она, подлинная Валентина Сагалович? — не унимается Леонид, печально покачивая головой.
— Я задаю себе тот же вопрос относительно Джордана, — произносит Бет. — Помню, однажды, когда ему было годика три, я его повела прогуляться на берег реки и мы увидели на мосту мертвую бабочку. Хотите верьте, хотите нет, но над ней вилась целая туча других бабочек, они махали крылышками, как веерами, будто пытались привести ее в чувство. Джорди был потрясен… В тот вечер, когда я укладывала его спать, он мне сказал: «Смерть — это когда ты падаешь на землю и свет гаснет». Просто с ума сойти, а? Ты помнишь, Брайан?
— Да-да, — тихонько подхватывает Патриция, сочувствуя Бет и пытаясь (но безуспешно) припомнить какую-то фразу о смерти, некогда изреченную ее маленьким Джино.
— Значит, очарование того мгновения было иллюзорным, — продолжает Бет, — раз оно ушло от нас так далеко и безвозвратно? Где теперь красота Валентины?
— Интересный вопрос, — говорит Рэйчел. — Есть ли в нашей жизни хотя бы один миг, когда человек вправе сказать: вот, сейчас я являюсь совершенно, в полной мере самим собой? Иными словами: не следует ли считать единственной правдой бытия каждого тот путь, что он проходит?
— Уточним: следовательно, правда о моем сыне Джордане — это его преступления? — распаляется Бет. Начав говорить, остановиться она уже не в состоянии, она делает вид, будто не замечает яростных, молящих взглядов Брайана, без слов заклинающего ее заткнуться, Христа ради, Бет, прекрати, не надо об этом, перестань полоскать наше грязное белье при всем народе, ну, прошу тебя… Тюрьма — вот и вся его правда? Какой он, истинный Джордан? Тот, которым он стал теперь, кипящий ненавистью и злобой, или тот, каким был раньше, когда увидел ту мертвую бабочку или когда собирал ракушки на морском берегу, приносил их мне и глаза у него сияли от радости?
Ща сдохну, томится Хлоя. Видно, что-то я проворонила. О чем они толкуют? Задохнуться впору, как в болоте. Ах, вот бы сейчас сползти со стула да и юркнуть под стол, как мы, бывало, прятались с Колом, когда были маленькими, а взрослые мордобой затевали. Все кажется не таким страшным, ежели смотреть на мир сквозь несчетные меленькие дырочки кружевной скатерти, они его дробят на крошечные фрагменты. Это как если танцуешь в кабаке, где свет пускают через стробоскоп и все люди кажутся раздробленными на блестящие, подрагивающие осколочки.
— Джордан — ваш сын? — спрашивает Чарльз. — Извините меня… я ведь не в курсе…
— Да, — отвечает Брайан. — Это наш сын. Чернокожий парнишка. Мы его усыновили, взяв из больницы в Роксбери, когда ему было от роду две недели. Мать еще ходила в колледж, она не могла оставить его у себя.
— Я не понимаю, — вздыхает Бет, покусывая костяшки пальцев.
— Что же вам непонятно? — роняет Чарльз, стараясь, чтобы его голос продолжал звучать на низких бархатных нотах, подчеркивая резкость слов. — Вы хотите сказать, что, поскольку вы его усыновили совсем маленьким и растили так, как если бы он был вашим собственным ребенком, внушая ему исключительно свои просвещенные, либеральные идеи, трудно постичь, как он мог опуститься до уровня своей примитивной, грубой негритянской природы?
— Нет, я имела в виду не это, — сказала Бет.
— Белым не следовало бы усыновлять черных, — заявляет Чарльз.
— Ну и ну! — Хэл поднял бокал. — Да здравствует сегрегация! Пускай белые и черные ходят в разные школы! Закрепить за ними разные места в автобусах! Учредить для них отдельные сортиры в общественных местах!
— Расовая ненависть не исчезает от того, что ее формально объявляют незаконной, — продолжает Чарльз, его голос по-прежнему нежен, как летний ветерок. — Во внешнем мире ваш Джордан сталкивался с ней ежедневно, нахлебается по горло, а вечером приходит домой, и вы хотите, чтобы он вел себя так, будто все идет как по маслу… Вам невдомек, до какой степени его загнали в тупик?
— Я бы съел еще немного рубленого мяса. — Леонид резко меняет тему.
— И кусочек индейки туда же? — подхватывает Хэл.
— Ладно… только, пожалуйста, небольшой.
— Еще кому-нибудь подложить индейки?
— Да… Мне тоже… Еще бы! — откликаются сотрапезники, и миски с овощами, передаваемые по кругу, снова обходят стол.
— А за что его упекли в тюрягу? — оживившись, вопрошает Хлоя.
— О, за пустяки, отвечает Брайан. — Грабил прохожих по мелочи, только и всего. Это его седьмой приговор за четыре года, и статья все та же. Мне надоело вносить за него залог. В первые разы он был еще несовершеннолетним, я мог сам его защищать. А теперь я ничего больше не в силах для него сделать. На сей раз он схлопотал полгода; надеюсь, это послужит ему уроком.
— Ну разумеется! — произносит Чарльз, перед глазами снова стены кухни, забрызганные мозгами брата Мартина, он стискивает зубы, прогоняя это видение. — В тюрьме чернокожие парни обучаются множеству захватывающих вещей!
— А кого он грабил? — любопытствует Хлоя.
— В основном старушек, — вздыхает Брайан. — Работенка для храбрецов. С корешем или двумя взять в кольцо бабулю, одиноко сидящую в городском саду на скамейке, малость ее потрясти, отобрать сумочку, да и смыться. Блеск, а? Воистину спорт отважных. Старушки черные, белые, латиноамериканки, никакой разницы — эти ребята не расисты.
— Может, ему нужны монеты? — предположила Хлоя.
— Вот-вот, монеты. — От гнева лицо Брайана багровеет, и тотчас стрекотание в ухе усиливается, достигая непереносимого уровня громкости. — Мы вносим за него квартирную плату и сверх того ежемесячно выдаем кругленькую сумму, но нет, ему этого мало. Нет, у него большие расходы, у нашего Джордана. На прошлой неделе я его навещал и как раз спросил, на какие столь важные нужды он тратит эти деньги. Хотите знать, что он ответил?
Молчание. Кэти и Леонид, заранее напрягшись, ждут слова «героин».
(Это случилось в воскресенье утром, вспоминает Кэти. В то утро они сели пить кофе после бессонной ночи, их взгляды встретились, никто не произнес ни слова, даже головой не кивнул, но решение ехать в Бостон было принято. Им было необходимо знать. Они не могли так больше. Все два часа пути прошли в полном молчании, Леонид сидел за рулем, Кэти застыла рядом, глядя прямо перед собой, сложив руки на коленях. Так как уже началась сильная жара, вскоре обещавшая стать изнурительной, они ехали, опустив все стекла; на полдороге в автомобиль залетела большая муха и принялась биться о ветровое стекло, она натыкалась на него снова и снова, первый раз, второй, пятнадцатый, но отказывалась сделать из этого выводы, тупо надеясь, что, может быть, на шестнадцатый твердое стекло внезапно сделается проницаемым и позволит ей вырваться на волю. В сознании Кэти повторяющееся прерывистое жужжание этой тупой мухи как-то связывалось с сигналом «занято», который она за последние три дня слышала сотни раз… не считая сонных наваждений, настигавших ее в редкие часы беспокойной дремоты. У развязки они припарковали машину под указателем на Дорчестер и, пройдя под эстакадой, наконец добрались до Пауэр-стрит. Вскарабкались на четвертый этаж маленького обветшалого дома с законопаченными окнами, дома, в который они никогда не заходили и где их сын был, похоже, единственным жильцом. В те минуты каждый шаг Кэти уже был глубоко осознан, полон решимости, обременен тяжестью трагедии. Ее взгляду, устремленному внутрь, истина уже открылась. Этот день перевернет твою жизнь, говорила она себе. Сейчас произойдет нечто огромное, такое, после чего тебе уж никогда не стать прежней, На сей раз случится большая катастрофа, из числа тех событий, о которых ты всегда напоминала себе, чтобы обрести равновесие перед лицом мелких невзгод. Плохие оценки Элис по математике, сломанная нога Марти, дерзости и вранье Сильвии, отказы журнальных редакций, которым ты предлагала напечатать твои стихи, споры с Лео по поводу счетов за электричество… Нечего кипятиться, вечно твердила ты себе, все это не более чем мелкие заботы. Не драмы. Не конец света. Зато сегодня все более чем серьезно. Нынче день, который всю жизнь разделит на До и После. Так что приготовься, голубушка.)
— Золотой зуб! — возвестил Брайан. — Вот зачем ему понадобилось столько денежек. Вот в чем они с приятелями видят свою жизненную цель. Они все буквально помирают от желания выдернуть у себя резец и вставить на его место золотой. Но поскольку один такой зуб стоит около тысячи двухсот долларов, а их четверо, им нужно примерно кусков пять… это, скажем, в пересчете на старушек выйдет порядочно.
— Еще кому-нибудь положить индейки? — решительно прерывает его Хэл. Неужели это так уж необходимо — без конца переводить разговор на зубы? Я думает он про себя. Они что, не в состоянии поговорить о чем-нибудь другом? («Ладно, так и быть, передай мне мою челюсть…») Хотя… постой… это мне, пожалуй, сгодится для моего романа, да, недурная идея, герой может стать серийным убийцей, уйму старателей укокошить, особенно ежели стариков, там, среди бескрайних ледяных и заснеженных просторов, где на горизонте не маячит ни один коп, а свидетели — только ездовые псы, это провернуть легче легкого, он мог бы их глушить топором и бросать подыхать на морозе, а потом щипцами вырывать у них золотые зубы, сбывать их, а самородки везти в Доусон-Сити, утверждая, будто нашел их в речной долине, да, таким манером он бы обзавелся состоянием, замысел просто гениальный, правда, тут есть проблема, как бы читатели-евреи не оказались слишком чувствительными, чего доброго, их это заденет — насчет зубов, вырванных у покойников, да ладно, не могут же они до скончания времен наложить запрет на эту тему, однако все же… гм… надо будет это обмозговать.
Все дружно мотают головами, нет, спасибо, индейки больше не надо, было очень вкусно, но ведь нужно оставить немного места и для десерта. Кэти и Патриция начинают убирать со стола грязные приборы, составлять стопками тарелки, и тут всеми овладевает легкое мимолетное замешательство: а дальше-то как все пойдет? Если теперь начать расспрашивать Бет и Брайана, как идут дела у Ванессы, потом придется демонстрировать интерес и к чадам всех прочих родителей, это ввергнет их в безысходную мешанину подробностей касательно внуков, учебных занятий и профессиональной ориентации, всего того, о чем они завтра же забудут.
Дерек, ощутив острую боль в области двенадцатиперстной кишки, торопливо глотает несколько таблеток (силикат магния и карбонат кальция) и направляется в сторону туалетных комнат, дабы обеспечить себе возможность вволю корчиться и гримасничать, пока они не подействуют. Он запирается на ключ, двумя руками вцепляется в дверную ручку и, откинув голову назад, раскрыв рот и выпучив глаза, беззвучно вопит. Испытывая муки мученические, он тем не менее замечает, что в уголке, у самого потолка, обои надорваны, вокруг водопроводной трубы образовалась дыра, потом ее грубо зашпаклевали, вероятно, там была течь, часть трубы пришлось заменить… Это напомнило ему об избирательной ваготомии, которую он перенес полгода назад… О, до чего же мы храбрые создания, говорит он себе, а из глаз струятся слезы, боль адская. Все что-то подчищаем, подклеиваем, без конца подправляем свои дома и свои тела, отчаянно боремся с порчей, что причиняет время, но тление неумолимо, его не остановишь, и наши волосы седеют, кожа покрывается морщинами, копится пыль и ржавчина, на узорчатых обоях проступают пятна и трещины, ступни деформируются, дерево коробится, суставы теряют гибкость… Через какое-то время убедившись, что боль наконец отступает, Дерек спускает воду и возвращается в столовую, намертво закрепив на лице улыбку.
— Не желает ли кто-нибудь сигару? — осведомляется Хэл. Встав из-за стола, он направляется в противоположный угол столовой. — Великолепно влияет на пищеварение. Я привез из Канады шесть коробок гаванских. — Сделав несколько шагов, он осознает, что уже порядком нализался, надо бы как-нибудь скрыть от Хлои, что он нетвердо держится на ногах. И тут его осеняет блестящая идея. — Черт возьми, Пачуль! — восклицает он, остановившись посреди комнаты на ковре и снимая левый ботинок. — Сколько можно! Ради Бога, Шон, когда ты наконец научишь это животное соблюдать чистоту?
Он распахивает входную дверь, чтобы вытереть ботинок об половичок; над столом тотчас проносится ледяной вихрь, и все возмущенно вскрикивают.
— Боже ты мой! — ужасается Хэл. — Да там уже не буря, а настоящий ураган!
— Что это за бред насчет Пачуля? — вопрошает взвинтившаяся до предела Хлоя.
— Я уже тебе объяснял, — усмехается Хэл. — Это песик Шона.
Он усаживается с ней рядом, обкусывает кончик своей сигары, выплевывает его, закуривает.
— Но где же он, собственно?
— Он здесь, в комнате, со всеми, кого я люблю, — говорит Шон. — Как и мой отец, мама…
— Так он что, надо понимать, умер? — наседает Хлоя.
— Нет… Он не умер, нет.
Вновь наступает молчание.
Когда же, спрашивает себя Шон, они успели пройти, настоящие испытания? Когда такие, как я, в самом деле проживают свою жизнь, вместо того чтобы смотреть на нее как на возможный источник будущих сочинений, видеть в ней их генеральную репетицию, слабое эхо, бледный черновик или пожухшие останки самой этой Штуковины? Куда утекла жизнь? Как она ускользает от нас?
— А вы, Арон? У вас есть дети? — Это Патриция, ей хочется сменить пластинку. — До меня только сейчас дошло, что я даже этого не знаю.
— Что, простите?
— У вас дети есть?
— А! Ну да. Да. Три дочери, — отвечает Арон. Ему любопытно, кто из них сейчас воскликнет, как за все эти годы многажды восклицали десятки других: «Надо же! Как у короля Лира!» Однако никто этого не говорит, потому что всеобщее внимание вдруг обращается на Кэти, которая возвращается из кухни, торжественно неся десерт: шоколадный торт Рэйчел в одной руке и тыквенный пирог в другой… Арон ощущает пустоту, возникшую на месте пропущенной ритуальной фразы, это ощущение настолько остро, что он в конце концов произносит ее сам, шепотом? — Надо же! Как у короля Лира!
— Сколько же им лет? — спрашивает Патриция… и тут же про себя ужасается: «Идиотка! Что я несу? Ведь его дочери наверняка взрослые, их небось давно по свету разбросало».
— Шестьдесят, пятьдесят четыре и пятьдесят два, — охотно отвечает Арон. — И не надейтесь, что вашим заботам придет конец на следующий день, после того как ваши дети покинут отчий дом. Родителем остаешься до самой смерти… Моя старшая дочь все еще доставляет мне столько тревог, что я ночей не сплю.
— Не может быть! В шестьдесят лет? — изумляется Дерек. И тотчас окорачивает себя: «Болван! А разве у Вайолет из-за меня не подскакивало давление?»
— Безусловно, — настаивает Арон. — Без конца задаешь себе вопрос, что надо было сделать по-другому. Так хочется встать между своими детьми и жизнью, заслонить, принимать удары на себя. Все их разочарования, крах иллюзий, развод… но это, конечно, невозможно.
Он говорит им это, но умалчивает о том, что его дочери выросли в Южной Африке. И никогда не расскажет, во-первых, потому, что взгляды американцев на эту страну его просто бесят (никаких полутонов, картина исключительно черно-белая, все белые черным-черны, все черные белым-белы), но еще и потому, что даже сам с собой предпочитает вспоминать тамошнюю жизнь по возможности реже. (Годами запертый в симпатичном белом городе вместе со своим симпатичным белым семейством, в окружении плюмерий и бугенвиллей симпатичного белого квартала Береа, убаюканного птичьими трелями и звуками пианино, получая недурственное белое жалованье за свои занятия, которые он давал в очень милом, почти что поголовно белом университете в Дурбан-Натале, посылая дочерей в лучшие частные школы и уписывая кушанья, приготовленные для него черными руками невидимой прислуги… он, пока был молод, худо-бедно успокаивал свою совесть, отдавая предпочтение духовному перед материальным, антропологии перед промышленностью, мучительной ясности сознания перед удобным ослеплением. Шокированный сначала прагматизмом среды, к которой примкнули его родичи, а потом расизмом своих профессоров в Претории — без пяти минут нацисты, для них «социальная антропология» означала обмер голов с целью доказать превосходство белых над кафрами, — он в 1939 году перебрался в Дурбан, где университет слыл не столь ретроградским. Там он и встретился с Николь, недавно приглашенной поработать на факультете современных языков… Но затем… итак, затем… приобретя виллу и основав семью, молодой чете волей-неволей пришлось приноравливаться, чтобы стиль жизни соответствовал занимаемому положению. Разумеется, они были чрезвычайно огорчены, когда в 1948-м апартеид стал официальной правительственной политикой; но именно в том году Николь забеременела третьим ребенком, а поскольку карьера предъявляла жесткие требования, они смирились и наняли для детей «черную маму». Проинтервьюировав и отвергнув добрую дюжину кандидаток, остановились на Куррии: истинное сокровище. Они тотчас пришли к единодушному решению выбрать ее. Такая веселая, энергичная! По годам она была ровесницей Николь, тоже тридцать пять, размер обуви такой же, да и по габаритам почти не отличалась… совпадение, удобное для всех. И сверх того Куррия тоже ждала ребенка! Женщины отлично поладили: в шесть утра принося им чай в постель, Куррия называла Николь «мадам», гордясь, что умеет ставить ударение на втором слоге, на французский манер. Когда система работает так гладко, нет ничего легче, чем предоставить ей функционировать дальше. Разумеется, Арон не упускал из виду современную ситуацию, был в курсе: например, без малого год спустя после рождения обоих младенцев прочел в газете, что в Като-Манор, прямо на задах университетского городка, вспыхнули жестокие стычки между африканцами и индийцами… но эти события никак не отразились на его повседневной жизни. Арона тогда не в пример больше интересовали работы, связанные с расширением университета, в частности с сооружением Мемориала Тауэр, призванного вместить библиотеку на пяти уровнях. Университет так же, как их вилла, победно высился на вершине холма, фасадом к морю, повернувшись спиной к северным кварталам с их кровавыми передрягами… Таким образом, жертвы Като-Манор при всей их многочисленности никоим образом не повлияли на расписание его лекций и библиотечных занятий. У Куррии также имелось свое расписание. Она вставала в пять утра и работала до темноты: ей надо было кормить грудью крошку Анну, готовить еду на всех, натирать полы, стирать и гладить, петь песенки и рассказывать сказки Черри и Флор, после чего она отправлялась спать к себе в «кайю», крошечную каморку, прилегающую к гаражу, снабженную душем с холодной водой и клозетом с дырой-очком в полу. Она трудилась по восемьдесят часов в неделю, и Жаботинские платили ей жалованье выше среднего: двадцать рэндов ежемесячно вместо обычных пятнадцати. Поскольку для того, чтобы пешком и в переполненных автобусах одолеть расстояние от Куа-Машу до Береа, требовалось больше двух часов, к себе домой Куррия ездила только по субботам; ее собственных детей растила ее мать. В дни Рождества, когда на побережье царила удушающая жара, Жаботинские предоставляли ей двухнедельный отпуск и уезжали на праздники в Преторию, там, в горах, было свежо. Все их коллеги жили так, перекладывая заботы о своем домашнем очаге на плечи черных отважных теней, хлопотливо снующих, тихонько мурлыкающих свои песенки. Это не вызывало никакого протеста. Обе стороны чистосердечно держались друг за друга. Когда в 1960-м Куррия лишилась племянника, погибшего в шарпевильской бойне, Арон отпустил ее на целую неделю, даже сунул немного денег в карман ее платья — на похоронные расходы. Он знал, какую чрезвычайную важность зулусы придают церемонии погребения. Читал об этом в книгах. Однажды он даже прочел курс лекций о нравственной философии зулусов, это было на новом факультете африкановедения…)
— Она в разводе? — из вежливости полюбопытствовала Рэйчел.
— Кто?
— Ваша старшая дочь.
— А, да, — сказал Арон. — Совсем недавно. Всего два-три месяца прошло. Это нелегко, особенно в ее годы.
(Дочки подрастали, мало-помалу отдалялись, Черри вдруг выскочила замуж и совсем пропала из виду… Но Куррия оставалась с ними бессменно: она все держала в своих руках, вела хозяйство, донашивала старые платья Николь, ласково бранила Анну, когда та забывала вовремя поесть… Арон и Николь сочли бы неприличным сказать, что она для них «почти член семьи»: она им была, и все, и точка. По крайней мере, они так думали. А потом… внезапный удар судьбы. В 1964 году у Николь и Куррии самым нелепым образом возникли одни и те же симптомы: одышка, сердечная слабость, воспаление лимфоузлов. Арон повез обеих — Николь рядом с собой, Куррию на заднем сиденье — в клинику Эдуарда VIII, где им был поставлен одинаковый диагноз: лейкемия костномозговая. Вследствие этого каждой предстояло лечение, соответствующее медицинским традициям ее народа. Арон отлично знал, что это означает, но ничего не сделал, не воспротивился. Он отвез Куррию домой, в Куа-Машу, опять, как всегда, на заднем сиденье; тогда-то впервые в жизни он переступил порог бантустанского жилища — это был шок: стены, обшитые фанерой, две убогие комнатки, украшенные кичевыми безделушками, вот где она прожила столько лет, «член его семьи». Он знал, что муж Куррии потащит ее прямиком к «сангоме», то бишь колдуну, что ее будут пичкать «тхакатхой» — снадобьем на основе человеческих ногтей и волос. Николь же в это самое время с пользой проходила в парижской клинике длительный и дорогостоящий курс химиотерапии. Через полгода Куррия умерла, а Николь выздоровела. Ей предстояло прожить еще четырнадцать прекрасных, полноценных лет, срок достаточно долгий, чтобы увидеть, как Анна станет воинственной поборницей АНК[30] и примет участие в стачечном движении 1973 года в Дурбане, настолько долгий, чтобы порадоваться семерым внукам и внучкам, которых ей подарят Черри и Флор…)
— Да ведь в наши дни все разводятся, — замечает Дерек, грустно качая головой.
— Эй! — сердито обрывает Чарльз. — Это мое запретное слово, черт возьми!
— Ах! Простите! — хором вскрикивают Рэйчел и Дерек, прикрывая рты ладонями.
— Что подойдет в качестве штрафа? — Чарльз вопросительно оглядывается на Шона.
— К примеру, — предлагает Шон, — ты мог бы рассказать историю, в которой Вуди Аллен снимает фильм про Саддама Хусейна.
— Извините, — вмешивается Арон, — это все началось с меня.
— Тогда пусть он снимает его в Израиле, — ухмыляется Шон.
— А вы знаете этот анекдот про девяностолетнюю парочку, которая является к адвокату по поводу того самого слова на «Р»? — спрашивает Леонид.
— Обожаю эту историю! — подхватывает Кэти.
— Адвокат им говорит: «Вы уверены? Я хочу сказать, вы прожили вместе такую большую жизнь, стоит ли теперь все разрушать?» А они ему: «Послушайте, мы хотели это сделать уже полвека назад, но все нам твердили, что надо сохранить семью ради детей. Худо ли, хорошо ли, но теперь все наши дети поумирали…»
Многие сотрапезники смеются, Брайан хохочет во все горло, Чарльз усмехается сквозь стиснутые зубы.
— Это ужасная шутка! — ворчит Бет. Ей вспоминается, как подростком она лелеяла тайную мечту, что ее отец разведется с матерью и женится на ней.
(Она совершенно так же, как теперь ее собственная дочь Ванесса, всегда стыдилась своей матери. Но уж во всяком случае, по другой причине: не материнское тело ее отталкивало, а душа: это ее тупоумие, грубость речи, неотесанность манер. Ее отец Марк Реймондсон был доктором медицины, в то время как мать, Джесси Скайкс, была дочкой крестьянина, свинаря с Аппалачей, которого он лечил от подагры. Как их угораздило?.. Всякий раз, когда она пыталась об этом расспросить, родительские ответы оказывались туманными до бессмысленности. Так или иначе, однажды вечером, оставшись дома одни — прочие члены семейства ушли — куда? к вечерне, что ли? — респектабельный врач-холостяк из Хантсвилла и почти безграмотная семнадцатилетняя писюшка зачали ее, Бет. Случайность. Нет, хуже — ошибка. Но дело было в 1957-м, аборт еще считался преступлением, а роды у незамужней девушки — позором, так что доктор Реймондсон принял достойное решение: он женился на Джесси Скайкс и приобрел домик на окраине Хантсвилла, обосновавшись там с женой и будущим дитятей. Сказать по правде, добрейший доктор не придавал большого значения личной жизни и радостям очага… У него была лишь одна страсть: наука, новейшие медицинские открытия касательно микробов и генов, нервов и некрозов, раковых опухолей и колик. Еще совсем крошкой Бет смекнула, что единственный способ привлечь внимание отца — проявить интерес к его работе. Так и вышло, что к семи годам она выучила наизусть таблицу химических элементов, в десять умела разобрать и снова собрать макет человеческого скелета, каждую косточку к месту пристроить, а в четырнадцать была способна поддержать беседу относительно любой статьи, опубликованной в журнале «Американская медицина». Больше всего на свете она любила засиживаться допоздна в отцовском кабинете за каким-нибудь ученым разговором, зная, что мать давно уже домыла посуду и завалилась спать. Не то чтобы Джесси была противной, нет, она была мила, даже очень, но и глупа не меньше. Ее тело было крепким и стройным, да только она не имела ни малейшего понятия о таких материях, как наряды, прически, макияж. С утра до вечера она разгуливала в одном и том же бесформенном одеянии из набивного хлопка. И, будучи непревзойденной кулинаркой, в отличие от всех других матерей, никогда не прилагала усилий, чтобы как-либо облагородить свой «интерьер». Хуже всего, в глазах Бет, было то, что она не имела ровным счетом никакого честолюбия. Не стремилась стать культурнее, читать книги, понять этот мир. Целые дни она проводила, копаясь в огороде или хлопоча в курятнике. Согнувшись в три погибели, ворча, с налитым кровью лицом, втискивала в почву колышки, прореживала ряды овощей, гонялась за курами, чтобы свернуть им шеи, а потом усаживалась на табурет их ощипывать, бесстыдно расставив ноги, с широкой бессмысленной ухмылкой на лице. Бет никогда не приглашала к себе друзей, боялась, что они станут смеяться, если увидят ее мать во всей красе… или, войдя в дом, обнаружат там пластиковые занавески, старый линолеум «под мрамор» и мойки с накладками из пластика. Она страстно жаждала культуры. Хороших манер. Знаний. Достоинства. Рвалась в мир библиотек, университетов, музеев, исследовательских лабораторий. В глубине души она отказывалась верить, что реально, биологически является дочерью своей мамаши — нет уж, ни за что: этакая Афина, чудесным образом явившаяся на свет из головы отца.)
Тем временем она с ужасом, с наслаждением примечает, что десертные тарелки уже расставлены: перед каждым сотрапезником по одной.
Глава XIII. Хлоя
В Лондоне Хлоя несколько лет будет проживать авторские права своего покойного супруга, известного романиста, потом бросит на ринг полотенце. Склонясь над мостовой, об которую — шлеп! — расплющилось ее тело, я подберу тридцатилетнюю душу и уведу ее к себе домой. Своего-то собственного настоящего дома ей, бедной малышке, так никогда и не суждено было иметь. Можно было бы счесть такой поступок безответственным со стороны матери — выпрыгнуть с восемнадцатого этажа четырехзвездочного отеля, где она жила с восьмилетним сыном, предоставив последнему выпутываться в этой жизни, как может. Но, как мы видели, жизнь самой Хлои раскололась надвое, когда ей было восемь, а человеческое подсознание падко на иронические повторы подобного рода, у него свое эхо.
Она думала, что благодаря мужу у нее будет дом. Инсульт Хэла подтвердил ее худшие страхи: да, этот мир — не что иное, как зыбучие пески, в нем нет ничего, кроме поруганных надежд и жестоких предательств, любой кров, где она захочет приютиться, обернется или торжищем, или страшной ловушкой, домом, где половицы ускользают у тебя из-под ног или проваливаются, стены рушатся, двери, распахиваясь, бьют по лицу, зеркала заменяют коридоры, а крыши дырявы, как сито. Спасовав перед беспомощностью Хэла, она только и смогла, что схватить в охапку своего младенца да и навострить лыжи.
Но потом… что предпринять, как наладить свою жизнь, если жить-то и не умеешь? Быть богатой — это еще не все. Хлоя — никто, она не личность. Детство у нее безвозвратно отняли, как же ей было так вдруг стать матерью? Живя вдвоем с Хэлом Младшим, она, вместо того чтобы растить его, открывала для себя, каким должно быть детство. По мере того как ее малыш учился ходить, потом говорить, бегать, познавать мир, играть с белками в Гайд-парке, когда он верещал от восторга, катаясь на лодке, балдел от кукольных представлений, выкрикивал считалки, играя с ребятишками в детском саду, Хлоя всюду следовала за ним по пятам, с каждым шагом все яснее отдавая себе отчет в том, насколько она была обделена. Так, без руля и ветрил, странствуя по различным эпохам своей жизни, она мало-помалу утрачивала и без того зыбкую связь с реальностью. И вот настал день, когда она, перекинув через перила балкона сперва одну, а потом и другую ногу, разделалась с этой реальностью раз и навсегда.
Глава XIV. Десерт
Арон огляделся вокруг, стараясь испытующе заглянуть поочередно в эти одиннадцать пар глаз, почти каждая из которых пряталась под очками, а в большинстве они были еще и потуплены. Людям не по себе, это очевидно, даже если они сами не вполне понимают почему; они вроде рыболовов с удочками, всем хочется выудить во-от такую тему для разговора, наловить уйму лакомых историй, годных для рассказа. Это тягостное молчание… Вот зулусы, те никогда не ломают голову, о чем бы поговорить. Они трещат без умолку, напевают, без конца собачатся: происходит ли дело в бистро, на кладбище или на политической демонстрации, слова льются у них из уст так же естественно, как вода из родника. Да, Арон говорит себе, что там, в Куазулу-Натале, он ни разу не видел, чтобы над компанией африканцев нависло такое безмолвие.
А здесь, смотри-ка, даже Чарльз Джексон научился вести себя, словно белый, он тоже взвешивает слова… Верно: слова белого человека похожи на камни, подчас драгоценные, но тяжелые.
В кишечнике у него вдруг забродило, забурчало: ощущение, которое за последнее время стало ему более чем знакомо. Извинившись, он торопливо устремился по коридору в направлении туалетных комнат, заперся на ключ и вступил в борьбу с поясной пряжкой — ах, будь они неладны, эти новомодные пряжки, прежние работали как нельзя лучше, для чего понадобилось их менять, Боже мой, неужели я опять обмараю себе кальсоны, наконец-то удалось расстегнуться и спустить брюки, как раз вовремя.
— Надо же, — вздыхает Хэл, когда Арон вновь появляется в столовой. — Надо же… — повторяет он и, затушив сигарету, подносит ко рту изрядный кус насаженного на вилку шоколадного торта. — Я слышал про твою мать, Шон. Печально. Под конец это, должно быть, очень тяжело.
(Хэл был знаком с Мэйзи, ведь Шон множество раз просил его помощи при «переездах» своей матери. Мэйзи только и делала, что «переезжала», но не из одного жилища в другое, а внутри все того же дома, который, по словам Хэла, был самым захламленным домом на этом захламленном континенте. Его всегда так и подмывало вставить в какой-нибудь свой роман персонаж, списанный с мамаши Шона, но он все не решался, опасаясь, как бы тот не разозлился. По правде говоря, он уже давно спрашивал себя, все ли еще Шон читает его романы; комментарии приятеля, даром что восторженные, становились чем дальше, тем туманнее: «На сей раз ты превзошел себя, друг мой… Подумать только, шестьсот страниц!» или: «Это просто великолепно, что за иллюстрация на обложке! Где ты ее раздобыл?» А Хэл слишком горд, чтобы допытываться, как ему показались, в частности, такая-то сцена, такой-то персонаж… Но право же, в роман о Клондайке, наверное, можно было бы вставить действующее лицо наподобие Мэйзи, он ее забросит на Западное побережье, сделает скорее плотной, чем тощей, а все прочее Шон может приписать вольной игре воображения… «всем прочим» было помешательство Мэйзи, теперь, когда ее больше нет на свете, можно называть вещи своими именами, даже придумать для этой патологии специальный термин, скажем, «мания накопительства». Мэйзи Фаррелл жила одна на первом этаже скромного дома в Сомервилле, и ее квартира была загромождена мебелью, коробками, бутылями, сумками, кипами журналов, одеждой, книгами, консервами и всевозможным старьем до такой степени, что ее гостям не только негде было присесть, но и нечем дышать. Тощая, да, «тощая как гвоздь», иного описания для Мэйзи не придумаешь, пожалуй, надо будет спровадить ее на Западное побережье, а толстухой не делать, ведь, не будь она такой тщедушной, ей бы никак не удалось шнырять между своими телевизорами, холодильниками, стиральными машинами и диванами, приобретенными по случаю, протискиваться среди шкафов и кресел с откидными спинками, которыми была до отказа заполнена ее гостиная, она же кабинет и столовая. «Вы просто поставьте это вон туда, спасибо, вы очень любезны, — говорила она, к примеру, Хэлу, только что втащившему, взгромоздив на левое плечо, какую-нибудь новоприобретенную фиговину. — Вам, по крайней мере, не тяжело?» Неизменно слащавая, вкрадчивая, она навязывала свои затеи так, что казалось, будто это тебе, а вовсе не ей приспичило ввязаться в очередное предприятие. От нее можно было опупеть, в ее присутствии он становился неуклюжим, впадал в уныние. Это смахивало на кораблекрушение: человеческое существо захлебывалось, ухнув с головой в пучину своих материальных приобретений, предметы множились с тупой неуклонностью раковых метастазов, как у Ионеско в «Стульях». Однажды, затеряв чек на двадцать девять центов за бутылку салатного соуса с рокфором, она потратила целое утро на его поиски, роясь в бесчисленных ящичках… чтобы в конце концов прийти к заключению, что надо бы привести их содержимое в порядок… но тут она обнаружила целый ворох старых пожелтевших бумаг — писем, накладных, выписок из счетов — и, не зная, куда бы их сунуть, принялась листать каталоги больших магазинов в поисках нового комода по сниженной цене. Чтобы заказать его, она прождала полчаса у телефона, нервически выстукивая ритм ногой, так как поп-музыка в трубке терзала ей барабанную перепонку. Бессчетное множество раз она принималась жаловаться на груды «корреспонденции» — всего-навсего рекламных изданий и проспектов, которые якобы исподтишка, украдкой, стоит ей отвернуться, скапливаются у нее на столе. Подчас Хэлу стоило труда сдержаться, не вспылить: «Да бросьте, в конце концов! Ведь вам достаточно просто аннулировать свои абонементы!» или: «Так позвольте мне смести все это дерьмо в мусорную корзину!» Но ему удалось сохранить самообладание перед лицом родительницы Шона, он все твердил себе, что это не его проблема и даже не проблема его матери, что ради друга вполне можно потерпеть, пожертвовать несколько часов из своей скучной жизни, чтобы внести хоть малую толику порядка в еще более нудное существование Мэйзи Фаррелл. Но вот, заметив, что время завтрака стремительно приближается, Мэйзи оторвалась от телефона, чтобы учинить смотр содержимому своего чудовищного холодильника; она открывала и закрывала десятки пластиковых контейнеров, обнюхивала всевозможные объедки и выбрасывала, что протухло, пока не наткнулась на искомое — томатный суп трехсуточной давности, после чего провела остаток дня в поисках некоего пятновыводителя, нужного, чтобы избавиться от оранжевой кляксы, оставленной супом на ее безупречно белых брюках. «Чашечку кофе — что вы на это скажете, Хэл?» — осведомилась она уже в другой раз, в одиннадцать утра услышав, что они входят в дом, а она до сих пор не одета, все возится у себя в спальне, сама в пеньюаре, на голове бигуди, обдумывая наряд на сегодня. «Он у меня готовый в холодильнике, я сию минуту вам его разогрею!» — «Спасибо, с удовольствием!» — чистосердечно, непосредственно отозвался Хэл, но Шон тотчас пречувствительно лягнул его ногой в лодыжку. И правильно: коль скоро у Мэйзи возникла необходимость сервировать для него кофе, перед ней мгновенно развернулся новый веер ошеломляющих проблем: какую чашку выбрать? где греть, в микроволновке или на водяной бане? сахар класть белый или желтый? и как быть со сливками, если, конечно, они уже не скисли… Тогда Хэл поспешил добавить: «Лучше оставьте его, как есть, миссис Фаррелл. Я обожаю холодный кофе!» Тогда она налила ему чашечку, он поднес к губам эту темно-коричневую жидкость и насилу удержался, чтобы не выблевать ее назад, извергнув тысячи мельчайших капелек на груды «корреспонденции», поскольку там был отнюдь не кофе, а говяжий бульон — сюрприз отвратительный, если принять во внимание время суток. Едва хозяйка отвернулась, он выплеснул его в слив, лелея надежду, что угадал правильно, ибо водоочистительное устройство, установленное здесь, предоставляло на выбор ужасающее число труб… однако день еще только начинался, и Мэйзи, чуть позже обнаружив в холодильнике настоящий кофе, смекнула, что Хэл утаил от нее ее промах, и дулась на него добрых полчаса. «Подумать только, — вздохнул Шон, когда на исходе дня они с Хэлом, измочаленные вконец, сели в машину, намереваясь рвануть в один из кембриджских пабов, тут же, по соседству, — ведь когда-то она была юной ирландской красоткой, такой, знаешь, нарядной, кокетливой. Рыжей, с зелеными глазами. И заметь, при всем том набожной. Воскресную мессу никогда не пропускала. Ее тонкие руки, сложенные для молитвы… духовные гимны, которые она пела, а голос был ангельски нежный… Ну правда же, она все равно замечательная?» — «Конечно, замечательная, — согласился Хэл, поднимая над столом кружку «Джеймсона», чтобы чокнуться с Шоном. — Она просто малость… с приветом, только и всего». — «В прошлом году, на Пасху, — продолжал Шон, в мрачном раздумье созерцая льдинки на дне своего опустевшего стакана, — я ей предложил свозить ее в церковь, чтобы она могла там попеть старые гимны, но она отказалась, сославшись на то, что у нее не хватит времени подготовиться. Хотя разговор об этом зашел еще в Страстную пятницу, а речь шла о воскресенье».)
— Гм, — буркнул Шон, дождавшись, когда Хэл заглотает свой кусок шоколадного торга. — Ее поселили в некоем «доме», кажется, именно так принято называть заведения подобного рода. Совсем близко отсюда. Я приходил навещать ее каждый день… или почти что каждый. Но она утратила все ориентиры, как только лишилась своего… э-э-э… материального достояния, если здесь можно употребить эвфемизм. Мне сдается, что ее память осталась там, в Сомервилле; Армии спасения надо было забрать ее вместе со всем барахлом. Она представляет интересные литературные возможности, эта болезнь Альцгеймера, если посмотреть на нее под углом зрения школы Гертруды Стайн. «За весь тот период Меланча постоянно время от времени была с Джемом Ричардсом», в таком примерно духе. Но в конце концов наступил момент, когда ушло даже это, у нее остались в распоряжении всего две фразы, она их без конца повторяла: «Что я здесь делаю?» и «Где выход?» Особенно: «Что я здесь делаю?»
— Хороший вопрос, — обронил Хэл.
— Точно. Я тоже ей это говорил. «Хороший вопрос, мам. Я и сам частенько его себе задаю». Тогда она спрашивала: «Где выход?»
— И вы указали ей его? — подала голос Хлоя.
— Я, к примеру, предлагал: «Не прогуляться ли нам по саду?», и она приходила в восторг: «О да!» Но за то время, пока я помогал ей надеть пальто, идея прогулки успевала исчезнуть у нее из памяти, ей уже казалось, будто мы уезжаем всерьез, так что она принималась обходить комнату, со слезами на глазах прощаясь со всем и всеми: «До будущего года… быть может!» — «О нет, — испуганно бормотали ей в ответ, — мы увидимся куда скорее, непременно!» — «Да уж не знаю, — вздыхала мама, и я видел, как ею овладевало неимоверное умственное напряжение. — Нелегко нам будет повстречаться, вы поймите, я ведь живу… я живу… ах да, это называется Клонакилти». В Клонакилти она не жила с сорок пятого года. И все ее слушали, уставившись в упор, изо всех сил стараясь уловить в ее речах хотя бы крупицу смысла.
(Шон не мог без содрогания смотреть, как ее распадающийся разум вязнет, словно в трясине, как она бестолково роется в памяти в поисках имен и дат, с интервалом в несколько секунд повторяет с тем же пылом те же самые фразы… «Когда же мы вернемся домой?» — «Теперь твой дом здесь, мамочка». — «Можно мне сигаретку?» — «Никто нынче уже не курит, старина». — «А как поживают дети?» — «У них у самих давно появились дети, мама». — «Какие дивные цветы! Кажется, они называются…» — «Гладиолусы, я тебе уже говорил». — «А по существу, чем я занимаюсь, какая у меня профессия?» — «Ну, сейчас ты на пенсии, а прежде работала инженером». — «Инженером? Ты уверен? А по-моему, я издатель». — «Нет, папуля, это я связан с издательским делом». — «Ты? В самом деле? Но я могла бы поклясться, что была издателем…» «А как поживают дети?» «Какие дивные цветы!» «Можно мне сигарету?»… Что было сил пытаться вырваться из этого ада чистой сиюминутности — и неизменно терпеть поражение. Оплакивать их общее бессилие, дороги, ведущие в тупик, лабиринт немых рыданий. Бороться, чтобы сохранить хоть какую-то, самую малую связь. Надо было цепляться за любую фразу, сказанную ею или кем-то другим, следовать за ней от начала до конца, а затем, что еще труднее, не дать содержащемуся в ней смыслу раствориться без следа. В тревожных взглядах сына и матери застыло напряженное выражение, тщетное безысходное усилие.)
— Нет, — настойчиво повторяет Хлоя. — Я про настоящий выход, вы ей его указали?
Поскольку действие кокаина начинает ослабевать и ее слегка подташнивает, она старается думать о запахе бензина. (Это ее любимый запах, она его часто использует, борясь с тошнотой. Ее приводит в восторг не только дух, но и самый вид бензина, как он поблескивает на асфальте у бензонасоса, этот холодный цвет с радужными разводами, словно оперение у голубя. Хлою всегда привлекали четкие контуры бензозаправочных станций, ровные ряды машин, открытые автостоянки; ей нравился высокий прямоугольный силуэт из стальной проволоки, украшенный множеством пластиковых треугольников, сверкающих и бьющихся на ветру. И сами автомобили, она от них без ума. Водить машину… Навязчивая идея куда-нибудь махнуть. Конечно, блажь, не более того. Все равно, как ни гони, не домчишься до цели, ау, Кол… Это вроде как мираж — видишь воду яснее ясного, она там, у тебя на дороге, всегда впереди, а ни в жизнь не добраться. Но так тому и быть, рвешься туда, приходится.)
Ах, молодежь, думает Шон. Вечно они исходят из романтического постулата, будто умирающие жаждут покинуть этот мир как можно скорее.
— Она не хотела умирать, — произносит он вслух. — Ей хотелось выбраться из того чертова дома, вот и все. Не было ничего проще. И невозможнее. (Он помалкивает о своем последнем посещении Мэйзи, когда она уже в самом деле была при смерти и, может быть, это сознавала… Повернувшись к Шону, преклонившему колени у ее изголовья, и глядя ему прямо в глаза, она протянула свою исхудавшую руку, погладила его по голове и бесконечно нежно, как бы удивленно прошептала: «Ты такой красивый!» — слова, пронзившие его до самых кишок, наполнившие сердце болью, а глаза — слезами. «Ты тоже, мама, тоже, — сказал он тогда, — ты прекрасна». И, глядя на ее костлявое тело, на седые растрепанные волосы, на провалившиеся глаза и руки, покореженные артрозом, он осознал, что никогда еще не произносил более правдивых слов: «Ты тоже, ты прекрасна…»)
— Кэти, — грубовато проворчал он, — ты уж прости нас, будь добра, за недавние злостные инсинуации насчет твоей тыквы: это один из самых упоительных тортов, когда-либо спускавшихся по моему пищеводу. Хэл, ты не мог бы передать взбитые сливки сюда поближе?
Бет перехватывает мисочку по дороге, зачерпывает из нее добрую ложку густых сливок и смазывает ими свой торт, говоря себе: «Вот, больше я до конца декабря ни крошки в рот не возьму, это самое последнее, клянусь, да, именно так, присягаю, как перед Брайановым судом, и да будет мне свидетелем Господь, ах, только пусть Он же мне хоть малость поможет!»
Рэйчел видит ее жест и угадывает, чуть ли не слышит следующую за ним мысль. Бедняжка Бет, думает она. Вроде бы даже песня такая есть, «Бедная Бет», или я ошибаюсь? А, понятно, я ее спутала с «Mad Bess»[31], песней Пёрселла…
Тут на арену выступает Брайан, он жаждет разрядить атмосферу:
— А это, Рэйчел, не что иное, как платонистская Форма шоколадного торта! — провозглашает он. — Квинтэссенция! "Вещь в себе!»
Рэйчел награждает его улыбкой, но Брайан уже досадует, зачем произнес эту фразу, поскольку не так давно он уже говорил то же самое, но в другом контексте, по поводу не шоколадного торта, a prosciutto con melone[32], и теперь чувствует, что повторение опошлило шутку. (Это было в Оттаве, в июне, там проходил симпозиум Ассоциации гражданских свобод: на исходе долгого рабочего дня Селия Торрингтон, темноволосая черноглазая адвокатесса из Канады, подошла к нему на верхней лестничной площадке здания суда, чтобы подискутировать насчет эмбарго против Кубы; потом она предложила разделить с ней холодный ужин, с этой целью заглянув в гости — в дом, где ее супруг временно, однако же весьма своевременно отсутствовал. Они поставили стол в саду и, снуя взад-вперед, принося свечи, бокалы, молодое белое вино и grassini[33], дыню и копченый окорок — «Ах, Селия! Это самая что ни на есть платонистская Форма prosciutto con melone!» — Брайан чувствовал, что ему с каждой минутой все грустнее. Как-то он будет вспоминать все это? Его душу переполняла горькая печаль, ибо, слушая, как летний ветер стонет в сосновых ветвях, глядя, как белое платье Селии полощется у ее худеньких колен и облегает плоский живот, он сознавал, что они проведут вместе ночь, празднество нагой плоти, а потом наступит утро, они обнимутся и разойдутся, чтобы никогда больше не встретиться?.. Станет ли он вспоминать эту единственную трапезу с Селией Торрингтон, перебирать, как четки, те мгновения, что слаще дыни, или не сохранит в памяти ничего, кроме слов? Prosciutto con melone, grassini, сосны, белое платье, узкие коленки… слова, которые он выбрал и в первое время смаковал, поскольку им было дано воскрешать в его мозгу те впечатления, но теперь они начинают утрачивать былые права… О, что такое наша память?)
— Моя мать тоже потеряла память, — подает голос Леонид. — Это началось сразу после смерти отца. Я к тому времени уже уехал, мамин закат прошел без меня, но сестра мне писала, держала в курсе. Все выглядело так, будто она приняла сознательное решение освободиться от груза воспоминаний.
— Да! — с жаром подхватывает Кэти, даром что никогда в глаза не видела своей свекрови. — Она в известном смысле сама избавилась от памяти. Как альпинист, когда в слишком знойный день он мало-помалу сбрасывает одну за другой одежки, ставшие ему обузой.
— Судя по описаниям моей сестры, — продолжает Леонид, — перед друзьями, когда они заходили ее навестить, она умела притвориться, будто все еще в полном рассудке. Понимаете, она из вежливости делала вид, будто их узнает… а между тем уже не могла отличить корову от соседки. И, что всего диковиннее, сестра утверждала, будто потеря памяти делала ее… гм… более радостной, легкой. Она позабыла все разочарования, что посылала ей судьба. Дети больше не могли причинять ей обиды, ведь теперь она не знала их даже по именам. В течение нескольких месяцев ей еще помнилось, как умер муж, потом и это ушло. По мере того как она отбрасывала прочь свои воспоминания, с ними вместе испарялись горечь и вражда. Ее глаза наполнились светом, улыбка с каждым днем становилась все ослепительнее.
Не вижу смысла навязывать ему медицинское объяснение такой эйфории, думает Бет. Поскольку дегенерация клеток мозга лишила ее способности ориентироваться во времени, его мать избавилась от страха перед будущим.
— И наконец, — осипшим от волнения голосом заключает Леонид, — на исходе одного прекрасного октябрьского дня, никого не предупредив, она отправилась прогуляться вдоль Березины, бросая по пути свои одежки, как Мальчик-с-пальчик камушки… Потому и смогли напасть на ее след… Ее нашли на речном берегу среди палой листвы, совсем нагую, с детской улыбкой на губах.
— Какая необыкновенная картина, правда? — вздыхает Кэти, ее-то собственная мать умерла не столь романтично, от рака ободочной кишки, дочери в ту пору было всего тринадцать. — Получилось, как будто она… не знаю… ну… отлетела. Я так и вижу: она становилась все воздушнее, прозрачнее… потом — пуф! — и все…
«А меня там не было, — говорит себе Леонид. — Меня никогда не было рядом». (Да, он так ни разу и не съездил на родину, покуда не стало слишком поздно. Покидая Белоруссию, он мечтал стать в будущем великим художником, был уверен: если только удастся добраться до Нью-Йорка, он непременно попадет в число тех, кто задает тон в мире искусства… И вот ныне он, давно разменяв шестой десяток, ломает голову, какую краску выбрать для кухни миссис Фостер из Велхэма: охру желтую или оранжевую… значит, так ему суждено задавать тон! Когда он объявил своим друзьям из Академии художеств Минска о своем намерении покинуть страну нелегально, причем произносить сие наречие вслух было излишне, это подразумевалось, они «одолжили» ему денег, чтобы легче было начать новую жизнь… Он выехал из Белоруссии, спрятавшись в кузове грузовика с боеприпасами: дал водителю на лапу, чтобы тот переправил его за польскую границу. Затем он пробрался на пароход в Свиноуйсьце, зайцем доплыл до Мальмё, оттуда автостопом до Стокгольма. Едва попав в столицу, он принялся бродить по старинному кварталу Гамла Стан с таким голодным и вместе с тем вдохновенным видом, что милая продавщица из книжного магазина, блондинка по имени Биргит, прониклась жалостью и в результате вышла за него замуж. Когда в 1960 году супружеская пара ступила на асфальт Нью-Йорка, ему было двадцать семь лет и он все еще страстно верил в свою мечту. Но жесткие законы американской жизни привели его в замешательство: пришлось учить язык, платить за квартиру и, что всего труднее, наперекор домашней суете не терять веры в свое призвание живописца. Ведь он почитай что оглянуться не успел, как Биргит уже произвела на свет близнецов — Сельму и Мелиссу… Через пять лет их брак развалился, и Леониду стало чем дальше, тем труднее сводить концы с концами… Время шло, и он часто со щемящим чувством вины вспоминал близких, оставленных в Белоруссии, для которых повседневные тяготы существования после его отъезда сделались еще горше. Да, он прекрасно знал, что там преследуют тех, у кого есть родственники за границей, их подвергают усиленному надзору, еще более урезают их свободу, и без того ограниченную, они лишены всякой надежды улучшить свой общественный статус, добиться привилегий. Шли годы, и он с болью ощущал, как между ними углубляется пропасть отчуждения. Его сестренка Юля стала взрослой, вышла замуж за инженера по имени Григорий, родила девочку Светлану. Родители мало-помалу старились, теряли былую силу, здоровье. Вести, приходящие оттуда, не оставляли его равнодушным, совсем наоборот, но он все не мог отважиться на возвращение, даже на краткий визит к ним. С одной стороны, это было рискованно: власти могли его задержать, чего доброго, надолго, а то и сгноить в тюрьме — это было кошмаром всех его сновидений. Но дело не только в этом. Было и другое… что ж, он ведь больше не мог уехать налегке, куда вздумается, в Соединенных Штатах его удерживала тяжкая ответственность: в 1968 году на одной из манифестаций SDS[34] он свел знакомство с Кэти, порывистой юной идеалисткой с длинными черными волосами, и воспылал так, как не пылал со времен Валентины Сагалович, наяды Минского муниципального бассейна, с той разницей, что на сей раз любовь была реальной и взаимной. Несмотря на разницу в возрасте (пятнадцать лет), они весело устремились навстречу семейной жизни, а там и родительским заботам, так что ныне, учитывая двух дочерей Биргит и четверых отпрысков Кэти, Леониду приходилось кормить ни много ни мало шесть ртов! Да уж, многовато, никто не смог бы этого отрицать, даже Юлия, которой он звонит дважды в году, в день ее рождения и на Новый год. Конечно, он ей признавался по телефону — попутно подмечая, как туго выдавливает из себя каждое белорусское слово и как оно странно звучит для его слуха, — разумеется, не скрыл, что все еще не смог утвердить себя как художник. Проникнуть в артистические круги Сохо оказалось труднее, чем он предполагал. Он был вынужден пойти на некоторые компромиссы, и, по правде говоря, в настоящий момент малярные работы занимают все его время без остатка. Тем не менее… дай срок, еще увидим… и однако, что ж, американцем он таки стал. Ладно, допустим, пока не гражданином в полном смысле слова, ему еще приходится ежегодно обновлять свою грин-карту, но это не более чем подробность, а суть в том, что он чувствует себя американцем, держится как американец; кстати, его жена и дети говорят только по-английски и никогда носа не высовывали за границу. Вместе с Соединенными Штатами он пережил все: Кеннеди, Никсона, вьетнамскую войну, хиппи, Уотергейт, Картера, яппи, Рейгана… Его дети здесь родились, они каждой своей клеточкой принадлежат Америке, в их жизни от школы до спортивных увлечений и видеоигр все американское… как он после этого мог вернуться «домой»? Чем больше проходило времени, тем сильнее пугало его такое путешествие: не потому, что многое там могло измениться с тех пор, а потому, что не все: изменилось. Его родители по-прежнему жили в том доме, где он появился на свет… Друзья, узнав его, раскроют ему объятия и захотят собраться, как встарь, чтобы отпраздновать встречу… И тогда десятилетия, прожитые им в Соединенных Штатах, начнут таять, как снег под солнцем, Кэти, ребята — все станет клочками забытого сновидения, бесчисленные перипетии его американской поры будут смыты, сметены, превратятся в ничто. Поэтому, когда Юлия год за годом описывала ему, как неумолимо клонится к упадку здоровье их родителей, он безнадежно пытался утешить ее, убедить, что все не так плохо, хотя сам чувствовал, насколько фальшиво звучат его фразы. Потом наступил день, когда родителям стало не под силу управляться самим: Юлии и Григорию, скрепя сердце, пришлось покориться неизбежному — оставить Минск, перебраться в Шудяны, где Григорий нашел работу на центральном ядерном реакторе, совсем близко от дома.)
— Тебе повезло, сказал ему Брайан. — Твоя мать — исключение. А вот мой родитель — правило. Все его недостатки к старости усиливались. Он превратился в отвратительного болтливого параноика. Вбив себе в голову, что его все время пытаются надуть, он последние пять лет своей жизни только и делал, что рычал на мою мать. Рычал, представляешь? Он и раньше-то не лучился обаянием, но… то, как он вел себя под конец, изгадило все добрые воспоминания, какие у меня о нем оставались. («Каждое утро я вижу в зеркале, что со вчерашнего дня стал еще немножко больше смахивать на него, — добавляет он про себя. — Меня от этого жуть берет».)
Тяжелый купол молчания опять навис над столом, меж тем как сотрапезники мысленно наносили визиты своим дорогим и не столь дорогим усопшим.
— Это мне напоминает Толстого, — сказал Хэл.
— А мне — мою мать, — отозвался Арон.
— Ваша мать была такой? — спросила Рэйчел.
— Она и есть такая.
— Как это? — Хлоя не скрывает недоверия. — Ваша мать все еще жива?
— Гм, да! — вздыхает Арон. — Когда я родился, ей было всего семнадцать, а в ваши годы она уже была матерью четверых детей! Сейчас ей сто два года, и, к несчастью, не похоже, что это скоро кончится. Живет она в Иерусалиме. Причем дома, а не в доме. В приют переселиться отказывается. Четыре человека трудятся не покладая рук, чтобы поддерживать ее, так сказать, в рабочем состоянии: кухарка, уборщица, сиделка и секретарша. Но, коль скоро она не сидит без гроша, все это может продолжаться.
— Боже мой! — изумляется Бет. — Вы хоть навещаете ее иногда?
— Я не видел ее двадцать лет, — усмехается Арон. — Зато мы раз в неделю спорим по телефону.
— О чем? — недоумевает Дерек.
— Само собой, о политике. — Арон сохраняет невозмутимость. — К счастью, я стал туг на ухо, поэтому ее суждения раздражают меня меньше, чем раньше. (Мадам Жаботинская уехала из Претории в Иерусалим после кончины своего мужа, прихватив с собой весьма значительную прибыль его часового завода. С тех пор она тратила едва ли не все свое время и деньги на разжигание израильского экспансионизма, на поддержку самых реакционных партий страны, на военную оккупацию Палестины, на всю эту безысходную хуцпу[35]. Арон добрую тысячу раз спорил с ней по поводу ее трат, но в бесконечных трансатлантических дискуссиях ни одному не удалось хотя бы на йоту поколебать мнения другого). Нет, она еще довольно резва. Не дружок скончался в прошлом году, но, по-видимому, это ее не сломило.
— Ее… дружок? — не поверил ушам Дерек.
— Да. От инфаркта.
— А ему было сколько лет? — не выдержала Рэйчел.
— Да что-то около шестидесяти. Он годился ей во внуки, но мою мать никогда не заботило, «что люди скажут».
— По-моему, это восхитительно, — заметила Бет.
— Ах, так? — обронил Арон.
— Ну еще бы! Вечно только и слышишь о пожилых мужчинах, которые крутят с молоденькими женщинами, но чтобы наоборот — никогда.
— В самом деле. — Арон кивнул. — Когда она стала появляться в обществе этого человека, я сказал себе, что все отлично, почему бы и нет? По крайней мере, ей не придется заботиться о контрацептивах.
— Вы хотите сказать, что они?.. — пролепетала Рэйчел.
— Сказать по правде, я ничего об этом не знаю. Предпочел не задаваться такими вопросами.
— У моей мамы в прошлом месяце тоже случился инфаркт, — подает голос Патриция, до того долго молчавшая. — Она не способна расслабиться. Ее потрясает любое событие из жизни своих детей и внуков, она из всего делает психодраму. Годами страдала гипертонией, но инфаркт, это уже… Меня это пугает.
— Я тебя понимаю, — отзывается Бет. — Сердце — важный орган.
— Сердце — важный орган, — как исполненное сарказма эхо, повторяет Шон. — Признайся, Бет, ты никогда не колеблешься, прежде чем изречь подобную банальность?
— Что ты имеешь против банальностей, Шон? — Кэти бросается на выручку Бет. — Повторение общих мест — один из древнейших и наиболее утешительных ритуалов рода людского. Что бы с нами стало без наших клише? — Ко всему прочему, это правда, думает она про себя, с благодарностью припомнив банальности, которые в течение многих лет пускали в ход ее друзья. «Не беспокойся, приступы ярости у двухлетнего ребенка — это классика»; «Подростковый бунт — что может быть естественнее?»; «Из чего только не складывается жизнь»; «Ты не теряешь дочь, а приобретаешь зятя»; «Наши родители становятся нашими детьми»… Так оно продолжается веками, говорит она себе, и я надеюсь, что это никогда не прервется! Клише — это волшебные палочки, превращающие наши личные страхи в вечные истины.
— Сердце — важный орган, — сквозь зубы отчеканивает Бет, — для всех, за исключением Шона Фаррелла, который такого органа не имеет и, похоже, в нем не нуждается. Впрочем, — добавляет она, ужасаясь количеству пищи, поглощенной его за последние три часа, — мне кажется знаменательным, что Шон не пригласил на эту вечеринку ни одной женщины-литератора.
— Ах, прошу тебя, — шепчет ей Брайан, — не начинай…
— Неужели здесь никто, кроме меня, не находит эту подробность примечательной? — упорствует Бет. Она чувствует, как багровеет ее лицо, голос становится пронзительным, но ей все равно не терпится вставить ему шпильку. — За этим столом трое писателей, все мужчины… это что, случайное совпадение? А ведь талантливых писательниц полно, прямо кишат.
Сердце у нее колотится все сильнее, дыхание вырывается из груди со свистом… О Господи, говорит она себе, только бы не приступ астмы, здесь, у всех на глазах… (Настоящего приступа у нее не было с двенадцати лет, с того давнего впечатления, в котором смешалось все: запахи плесени и мужского пота, торопливое басовитое бормотанье ее молодого дяди Джимми, он нашептывал ей прямо в ухо, они в тот день оказались вдвоем в подвале дома ее бабушки в Декатуре, штат Алабама, его плохо выбритая щека, как наждак, терла ей шею, и та краснела, саму ее бросало в жар, а он тем временем расстегнул ширинку, извлек свой инструмент и, уперши в подол ее пасхального платьица, принялся водить им по желтой ткани, тереть сперва медленно, потом все быстрее, а сам прижал свои трясущиеся губы к ее губам, глядел на нее робкими, блестящими глазами, и, когда промозглый дух заплесневелой подвальной стены смешался с жарким дыханием Джимми, опалявшим ее щеки, он залепетал: «Ты ведь никому не расскажешь, а, Бет, не надо говорить, что я могу сделать, если ты такая милая», его грубый голос, ладони, жадно прилипшие к ее едва наметившимся грудям, и эта кочерыжка, что теперь так сильно тычется в желтую прозрачную ткань ее дешевенького платья, — как странно, что она такая большая, такая темная и волосатая, ей-то до сих пор случалось видеть только крошечную белую штучку своего малютки-племянника, — и когда он закричал «О-о-о, Боже мой, о-о-о!», а потом сполз с нее на землю, обессилев, почти что смеясь, она стала гладить — его по голове и гладила, пока его сердце не забилось ровнее и дыхание не успокоилось. В тот вечер на Бет впервые напал приступ астмы, ужаснув ее бабушку воющими вскриками, тошнотой и судорожными усилиями втянуть в легкие хотя бы малый клочок воздуха… с того дня, согласно медицинскому предписанию, она никогда не выходила из дому без ингалятора.)
— Обрыдли они мне, эти женские романы, — со скверной усмешечкой заявил Шон. — В девятнадцатом веке они все толковали о садах да о брачных узах, а по нынешним временам в один голос рассказывают историю молодой женщины, которой в детстве злоупотребил ее папаша, но потом после множества превратностей, включая аборт, она наконец обретает счастье в объятиях другой женщины… предпочтительно принадлежащей к какому-нибудь из расовых меньшинств.
— Ты вусмерть пьян, мой дорогой, — проворковала Рэйчел, наклонясь к нему. — Не пойти ли тебе сварить кофе для всех?
Шон закашлялся: сперва из дипломатических побуждений, но потом уже не смог остановиться. Наконец, кое-как отдышавшись, он вытащил из кармана носовой платок, поднес к губам и с необыкновенным достоинством сплюнул туда мокроту.
— Брайан! — Бет решительно поднялась с места. — Я полагаю, что нам пора уходить.
Кэти глянула на часы. (Ах! Не счесть, сколько раз ей приходилось посматривать на них, когда дети были маленькими, чтобы потом сказать: «Надо идти, Лео, уже поздно, а мы еще должны отвезти домой няню», отменный предлог, чтобы удалиться, но теперь у них больше нет ни няни, ни младенцев: их младшей дочери Сильвии и той девятнадцать, девочка уже грызет удила, после смерти Дэвида она осталась в лицее на второй год, так что все еще живет с родителями, но в настоящий момент она заполняет вступительные анкеты для университетов Орегона, Колорадо, Флориды… И почему так получается, горестно недоумевает Кэти, что в этой проклятой стране все стремятся к одиночеству?)
У Брайана такое ощущение, что они с Бет уже далеко не впервые оказываются в такой ситуации: она стоит, а он сидит, ей не терпится уйти, он жаждет остаться… Если и на этот раз ее феминистская вспышка испортит вечеринку, говорит он себе, я ей этого не прощу. Дамы и господа присяжные — он оглядывает присутствующих, сознавая, что порядком набрался и уже не в состоянии достаточно логично связать свои мысли, — вы пришли к согласию или же нам следует издать постановление о прекращении дела? Смотрите-ка, сегодня вечером нас именно двенадцать, как настоящих присяжных, собравшихся, чтобы судить… но какое преступление? Или может быть, мы двенадцать апостолов и это тайная вечеря, но если так, где же Христос? Пачуль, чего доброго? Или Хэл Младший, там, наверху? О-ля-ля, мне что-то нехорошо.
— Я сожалею, Бет, — произносит Шон. — Беру назад все, что только что сказал. Наверное, это было очень пошло. Сядь же, я тебя прошу… Никто не должен уйти прежде, чем мы проясним это дело.
— Какое дело? — Леонид вздрагивает. — Я что-то прослушал? — Ему больно, больно, его поясница причиняет ему жуткие мучения, клонит книзу. «Когда страдаешь, — думает он, — это не боль-в-себе, совсем наоборот, ты — в боли», — а сам не в силах оторвать жадных глаз от мягкого кресла у камина. — О чем идет речь, Шон?
— До меня тоже не дошло, — признается Кэти.
— В том-то и вопрос, — с таинственным видом усмехается Шон. — О чем идет речь?
Приведенная в замешательство раскаянием Шона, Бет снова садится, но в то же мгновение Брайан стремительно вскакивает с места.
— Извините! — бросает он. — Мне необходимо подышать свежим воздухом. Я на минутку. (Он прекрасно знает, какое преступление они сейчас судят, эти присяжные и все присяжные на свете, да, он снова в джунглях, двадцать восемь лет назад, ему девятнадцать, он в Южном Вьетнаме, обследует излучины реки Сатхай. Жестокие молнии раздробленного света то тут, то там прорываются сквозь зеленые своды, но воздух тяжел, густ, все здесь тяжко и влажно — их каски, их заплечные мешки, их оружие, сапоги… да и сердца тоже: страх и усталость тянут их к земле. В патруле семеро — четверо негров и трое белых, да еще гигантская немецкая овчарка по кличке Джек, они целый день кружат по этим хлюпающим оврагам, словно в цветистом и смертоносном кошмаре. За полгода, что миновали с тех пор, как Брайан прибыл в эти края, все происходящее становилось частью того же кошмара зелени и насилия: дождь, приказной лай командиров, грязь, кишащая микробами, бешеная гонка, понос, мошкара, марихуана. Он и думать забыл о тонком анализе политической ситуации, которым щеголял в бистро Ванкувера, среди приятелей, таких же беззаботных, как он, за столиками, уставленными коричневыми бутылками пива «Мольсон». Ныне цепкие лианы заполонили его мозг, внутренее зрение помутилось в мельтешне густых бамбуковых стеблей, нос заложило от болотной вони, запахов грязи и крови. Во время таких, как в тот раз, погонь за вьетконговцами все, что угодно, могло привести его в состояние слепого ужаса: змеи, извилистые пятна света, похожие на змей, и эти сволочные вьетконговцы, ведущие себя тоже по-змеиному, таясь и угрожая, пряча в земле мины, превращавшие его товарищей в красное дрожащее месиво. Политика его государства абсолютно перестала занимать Брайана; единственное, что его интересовало, — как бы узнать, вернут ли его домой целиком или же по кускам…) В животе и в мозгу все взбухло, стало вращаться, в правом ухе зазвенело так, что его чуть не вырвало, и он быстрыми нетвердыми шагами устремился на кухню.
Внезапно с верхнего этажа послышался рев.
— Правильно, браво, малыш! — вскричал Хэл, глянув на часы. — Полночь, самое время перекусить.
Прошуршав юбкой, Хлоя легко взбежала вверх по лестнице, и остальные встали с мест, провожая ее глазами. Плач проголодавшегося ребенка — звук, которого многим из них не доводилось слышать уже много лет. Разговор прерывается, все навостряют уши, напряженно внимают этой откровенной, бесстыдной, недвусмысленной декларации, этому требовательному воплю. «Приди, я прошу тебя! — заодно с криком сосунка умоляет сердце каждого… — Мама, приди! Приди, утешение! Приди, млеко, мед, безмятежность! Явись, своим присутствием изгоняющая всякую нужду, заполняющая всякую брешь, бинтующая любую рану, врачующая всякую боль, исправляющая всякую ошибку, сейчас и навсегда — приди!»
Плач резко оборвался, и волшебница Хлоя снова возникла на верхней площадке лестницы. Вот она, длинная, светловолосая, тонкая, рдеющая и сливочно-белая, спускается по ступенькам с младенцем на руках, у груди, да, она обнажила одну из своих округлых белоснежных грудей, губы ребенка накрепко впились и сосут… да! смотри! его всепоглощающая потребность утоляется прямо на глазах! Хлоя осторожно усаживается в угол канапе, и прочие сотрапезники, растроганные, зачарованные, почтительно окружают ее.
Даже Бет забывает, что совсем было собралась уйти.
И тут в комнату вдруг опять вваливается Брайан, очки у него запотели, борода облеплена хлопьями тающего снега.
— Подумать только! — кричит он, притопывая ногами. — Снега навалило сантиметров пятьдесят или около того, и не похоже, что дело на этом кончится. Под ним уже и машин не видно. И знаете что, друзья? Мы здесь застряли на всю ночь.
Глава XV. Хэл Младший
Как некогда маленькая Хлоя, Хэл Младший тоже будет «пристроен». Но ему в отличие от матери повезет: он попадет в семью добросердечных и любящих опекунов — нежноголосая шведка, по роду занятий дипломат, и ее супруг в конце концов усыновят его. (Никто никогда не заметит этого совпадения, однако приемным отцом Хэла окажется не кто иной, как троюродный брат Биргит, первой жены Леонида.)
Это не избавит Хэла от желания пойти в артисты. Он выучится и станет великим актером, одним из самых знаменитых и обожаемых публикой Соединенного Королевства. Однако к середине XXI столетия он начнет забывать свои реплики, путать аксессуары, а потом и смешивать разные роли… Ну да, всему виной Альцгеймер, опять он. Но медлительное сползание былого кумира к растительному состоянию в возрасте шестидесяти лет будет прервано скоротечным раком простаты. Я его приберу за считанные недели, таким образом избавив публику от удручающею зрелища — Макбета, впавшего в амнезию.
Глава XVI. Снег и песни
Хэл Младший все еще у материнской груди, но теперь он не столько тянет из нее молоко, сколько шалит, теребя языком и губами левый сосок Хлои. Мать поддерживает головку сына ладонью, но ее взгляд блуждает где-то далеко, и она не улыбается. Они опорожняют нас, говорит она себе. Все они нас жрут, высасывают до последней капли. Сосуды нежности — вот как они нас называют. Молоко и человеческая ласка. Чушь собачья. Они нас опустошают, вот и все. Детки. Прожорливые сосунки, толстые, злые, волосатые, хнычущие. Высеки меня, мама. Сделай мне больно, мама. Накажи меня, мама. Обними меня, поцелуй меня, дай мне, дай, дай. Будь вся только моей. Я заплатил, чтобы тебя получить, и теперь ты принадлежишь мне. Тебе не улизнуть. Я тебя свяжу. Привяжу тебя к стулу, к столу, к кровати. Заткну тебе рот. Так-то, ха-ха-ха, теперь попробуй походи. Попробуй поговори. Руки связаны, ноги скручены, рот забит. Как индейка. Забудь об этом, он мне твердит, Хэл. Надо только мысленно нарисовать большой черный прямоугольник, накрыть им все эти годы, и долой! В подвал! Какие годы, Хэл? Где она, твердая почва? Делаешь шаг — перед тобой скрытый люк. Еще шаг — снова люк. Неудивительно, что мне осточертело идти, я бы лучше поплыла, полетела… Ах ты, мой малыш. Мой мальчуган. А она, наша мать… неужели она нас кормила грудью? Ты как считаешь, Кол? Нет, я не верю. Быть не может. Тогда как же она нас вообще кормила? Представь-ка ее с бутылочкой и соской, ну скажи, разве не бред? Как же мы выжили? И главное, зачем? Ладно, понимаю, ты-то не выжил. Ты его быстренько отыскал, тот Большой Люк на веки вечные… Еще месяц придется потерпеть. Хэл вбил себе в голову, что мне нужно кормить его грудью до года. Он утверждает, будто бы тогда у него не будет рака. Статистика, он говорит, это доказала почти наверняка, мол, ради такого стоит потрудиться, разве нет? Каких-то несчастных двенадцать месяцев у материнской груди, и наш сын на всю жизнь будет защищен… Как будто рак — единственная проблема, которая может подстеречь его на пути.
Ручонка Хэла Младшего тянется к другой груди Хлои, гладит ее, нежно пощипывает сосок. Ах, вздыхает про себя Кэти, припоминаю это ощущение. Маленькая головка, круглая и пушистая, жмется к твоей груди, глаза ищут твоего взгляда, а крошечная ручка ласково теребит грудь, из которой малыш не пил, будто хочет утешить ее, чтобы не завидовала.
А у меня вечно не хватало молока, вспоминает Патриция. (На память приходит день, когда Томас, до капельки опустошив ее груди, продолжал с жадностью впиваться в них, потом, наконец оторвавшись от соска, обозленный, с покрасневшим от ярости личиком, разразился негодующими воплями, будто хотел сказать: «И это называется мать? Матери положено досыта кормить своего ребенка! Безобразие! Возмутительно!» А Роберто куда-то отлучился, она дома одна с месячным младенцем, он же сейчас умрет, не от голода, от апоплексии, его лицо уже багрово от злости, а она, мечась в тревоге, принуждена ждать, пока простерилизуются соски… Вопли Томаса мало-помалу становились все протяжнее, мальчик уже не успевал сделать очередной вдох и вот умолк, задрыгался без воздуха в легких… В панике Патриция воззвала к Иисусу, Марии и всем святым, моля помочь ее сыну — пусть глотнет новую дозу кислорода, даже если за этим последует очередной взрыв нескончаемых воплей… Вспомнилась ей и последняя бутылочка с соской, та, из которой она четыре года спустя кормила своего младшего, Джино, а четыре года — это много, хотя, как только оставишь их позади, кажется, будто прошло всего ничего (материнство — череда маленьких утрат): погружаешь мерный ковшик в коробку с порошковым молоком, стряхиваешь лишнее, если захватила с верхом, высыпаешь порошок в воду, натягиваешь соску, встряхиваешь бутылочку, мне уж никогда больше не придется взбалтывать бутылочку, Джино, мое сокровище, твое раннее детство ушло, я больше никогда не буду матерью новорожденного, и к тому языку жестов мне возврата нет, с ним покончено. Ах, как же я любила все это! Не понимаю нынешних юных мамаш: стоит посмотреть, как они выходят из детского сада, одной рукой таща за собой карапуза, а другой — сжимая мобильник, в который самозабвенно стрекочут. Они целый день не видели ребенка, и все еще не хотят его увидеть?!)
— Ох, нет, это немыслимо! — ужасается Бет. — Не можем же мы просидеть здесь всю ночь!
Мужчины — все, кроме Арона, — поднимаются со своих мест; преодолев некоторое колебание, они покидают гостиную, набрасывают плащи и выходят на веранду, чтобы оценить положение. Вот то, что подобает делать мужчинам, думает Шон. Они рассматривают ситуацию вплотную, они определяют масштабы проблемы, они принимают решение и ставят точку. И что бы там ни говорили, решать так-таки им.
— Видали? — Брайан широким жестом обводит сад, где уже смазаны снегопадом все детали пейзажа, включая каменный каркас ограды, играющий роль горизонта. — Если часа два махать лопатой, мы, может быть, и сумели бы откопать свои автомобили… но одному Богу известно, когда пришлют снегоочиститель! Лично я не имею ни малейшего желания проделать пятидесятикилометровый путь по такой дороге, да еще и в том состоянии, в котором я сейчас нахожусь.
— Я тоже, — подхватывает Леонид. — Меня бы не устроили и три километра пути. Даже в другом состоянии. И снег расчищать у меня нет ни малейшей охоты: спина болит.
— А у меня палец, — жалуется Шон.
— Но ведь это всего-навсего левая рука, — замечает Хэл.
— А тебе случалось работать лопатой, пользуясь одной рукой? — язвительно спрашивает Шон.
— Случалось ли тебе работать лопатой? — с усмешкой повторяет Чарльз. — Да ну же, брось, Шон. Открой нам правду! Когда ты в последний раз чистил снег?
— О, — теперь ухмыляется и Шон, — сдается мне, что нечто подобное имело место годиков двадцать назад.
— Кажется, я никогда не видел, чтобы в ноябре месяце выпало столько снега, — замечает Хэл.
— Это мне напоминает Джойса, — говорит Шон. — Помните, последнюю фразу этой его новеллы «Мертвые», что в «Дублинцах»… Лучшей из всех, написанных по-английски. «Снег, мягко ниспадавший с высот, лежащих за гранью этого мира, ниспадал мягко, словно театральный занавес в финале, укрывая и живых, и мертвых».
Ему никогда не удавалось убедить своих студентов в гениальности этой концовки. Они считали, что со стороны Джойса было явной неловкостью употребить в пределах одной фразы «мягко ниспадавший» и «ниспадал мягко». Их учили избегать такого рода излишеств… а между тем фраза Джойса своим ритмом, своими повторами стремится передать именно это: как летят и летят снежные хлопья, одинаковые и неповторимые, поглощая все и вся.
— А мне это приводит на ум рассказ Толстого «Хозяин и работник», — замечает Хэл.
— Великолепный рассказ, — кивает Чарльз. — Незабываемый.
— Я этого не нахожу, — сквозь зубы цедит Шон.
Дерек помалкивает, а про себя думает о рассказе Исаака Башевиса Зингера, там в конце тоже воспоминание о снеге, который, падая «умиротворенно, не столь обильно, словно бы сам загляделся на свое падение», превращает Сентрал-парк в просторное молчаливое кладбище, но заговорить об этом он не решается, так как не может припомнить название… Это история одного престарелого господина и пожилой дамы, которые живут по соседству с писателем, в том же доме; впервые повстречавшись у него, они невзлюбили друг друга, но в конце концов поженились, и когда старик умер…
— Бесподобно, — говорит Чарльз. — Ах! Вы только послушайте, как тихо.
Застыв в неподвижности, они смотрят, как белые хлопья, кружась, пролетают в золотистом свете лампы, наполняя воздух ласкающей свежестью.
Шон закуривает сигарету, кашляет и, прокашлявшись, не говорит ничего.
— Было время, когда снег наводил на меня жуть, — признается Брайан. — Я же рос в Калифорнии, там его почти никогда не бывает… И вот в первую зиму, которую я провел здесь, на Восточном побережье… — И вдруг умолкает, не договорив, не зная, как выразить тот страх, как объяснить его природу словами, особенно этим людям, столь поднаторевшим по части слов… Снег всегда казался ему чем-то обманчивым, предательским, снежинки, каждая из которых — крошечная поблескивающая звездочка, воплощенная легкость и нежность, вмиг готовая растаять у вас на лбу или на языке, а между тем их медлительное падение исполнено смертоносной мощи, способной пускать под обледеневший откос машины, валить своей тяжестью деревья, проламывать крыши; да, снег останавливает любое движение, заваливает все дороги, не дает двигаться вперед, мешает близким людям соединиться… Совсем как время, внезапно говорит он себе. Каждое мгновение само по себе невесомо, неощутимо, крохотная хрустальная искорка, тающая на языке, а между тем их постепенное накопление несет гибель, годы ложатся бременем на ваши плечи, поглощают все, размывают все различия… Что же делать, Господи, как перешагнуть через гигантские сугробы Времени? Кидаешься на них с яростным упорством, хочешь отодвинуть, смести на обочину, а снегопад тем временем и саму дорогу превращает в лед, грозя катастрофой, провоцируя столкновения, толкает людей на гибель… а ведь начиналось-то все так невинно, мгновение таяло вслед за мгновением… Боже мой, думает он, как я безобразно надрался.
— Что до меня, — заявляет Дерек, — я ничего не имею против расчистки снега. Но тогда мне бы потребовались сапоги.
— Какой размер ты носишь? — спрашивает Шон, без особого удовольствия представляя, как Дерек напялит на себя его сапоги. Этот тип суется в мою Рэйчел, говорит он себе, не желаю, чтобы он и в сапоги ко мне залез.
— Сорок четвертый, — отвечает Дерек.
— Не пойдет. — Шон пожимает плечами. — У меня сороковой.
Хоть бы все так и продолжалось, думает Чарльз. Пусть бы этому не было конца, чтобы снег заполонил весь мир, накрыл бы наши мерзкие города и наши изуродованные пейзажи… Новый ледниковый период, вот! А мы бы пускай застыли в своих гротескных позах, каждый бы заледенел, где стоял, подобно жителям Помпеи, окаменевшим в лаве, и пусть бы люди иной цивилизации, откопав нас пару тысячелетий спустя, подивились нашим нелепым ужимкам, нашим идиотским заботам, нашим варварским распрям… (Эту череду воображаемых картин, заполонивших его ум, внезапно сменяет другая: он вспоминает, как ныли и куксились Рэндал и Ральф, когда пять лет тому назад, еще до рождения Тони, они поехали взглянуть на каньон Челли. Они все вчетвером спустились на самое дно каньона… и там, вдали от лотков, торгующих серебряными украшениями сомнительного качества и псевдоископаемыми безделушками, увидели небольшую группу индейцев-навахо: усевшись в кружок, они грели руки у походного костра и вполголоса переговаривались. Среди них выделялась кряжистая престарелая скво, закутанная в шаль, ее седые волосы были заплетены в косу, достававшую ей до колен: очарованная ее невообразимо морщинистым лицом, Мирна потянулась было к фотоаппарату, но старуха, вдруг вскинув на них глаза, недвусмысленно выразила свое несогласие. Одно то, что вы явились сюда, — это уже чересчур, сказал ее взгляд, ваше появление оскорбляет наших богов. Тут-то снег и начал тихонько падать им на волосы, а Чарльз, ощутив головокружение, осознал, до какой степени незаконно их присутствие среди этих потаенных провалов, коричневых и золотистых щелей земной коры: его предки, некогда оторванные от родных селений на западном побережье Африки, с ногами, закованными в железные кандалы, были увезены в Северную Америку, праотцы Мирны, по зову надежды или в силу предельного отчаяния покинули Шотландию и Швецию, и вот, спустя двенадцать поколении, они, усвоив обычаи современного туризма, вместе со своими отпрысками вскочили в самолет до Феникса, спустились в этот каньон и теперь глазеют на индейцев, которые веками пасли здесь своих овец, выращивали люцерну, поддерживали огонь в походных костерках и тихо беседовали. Чарльз почувствовал обжигающий стыд. Он молча нес в душе этот стыд, между тем как его домочадцы хлопотливо взбирались по тропкам, ведущим прочь из каньона, а мальчики хныкали и жаловались на снегопад «Я думал, папа, мы приехали в Аризону, чтобы убежать от зимы!» У выхода из национального парка Мирна купила в сувенирной лавке кассету с музыкой для флейты племени навахо на синтезаторе… и вот, вздохнув с облегчением, они покатили на север, слушая эти воздушные, эоловы мелодии, перекликающиеся с диковинной геометрией красных скал в кружевном снежном уборе. Но для Чарльза день был испорчен. Даже потом, спустя несколько часов, при виде Долины Памятников с ее прущими из земли каменными столбами немыслимых форм, на фоне которых разворачивалось действие стольких прославленных вестернов вроде «Адской погони» или «Пленницы пустыни», он не стал заодно с Мирной подогревать энтузиазм своих чад. Уклонился. Они были еще малы для таких фильмов… Это еще претворится в стихи, Чарльз лишь теперь понимает: так надо. Сомнения нет, там сокрыта поэма. Об их общей родословной. Походный костер, смуглые узловатые руки, протянутые к жаркому пламени. Фотоаппарат, висящий на шее у Мирны: металл, пластик, щелк-щелк, наводка на резкость, фотопленка, объектив — агрессивные вещественные приметы передовой цивилизации. И хищная непреклонность старой индеанки, когда она подняла взгляд и вперилась в них, скрестив руки на груди. Нет. Никаких фото. И как эти несколько индейцев сбились в кучку вокруг нее, оберегая, придвинулись вплотную. Нет.)
— Нет, — сказал Дерек, — не годится.
Он потер большим пальцем подбородок… преподавательский тик, который его студенты иной раз, забавляясь, передразнивали у него за спиной. (Одного они не знали: под самым подбородком у Дерека было нечто: шрам, это его он тер большим пальцем, — след того далекого дня в Кэтскилле, когда он, одиннадцатилетний мальчишка, в первый раз не послушался своей матери. Презрев указания Вайолет, он еще с одним мальчиком — Джессом, да, так его звали — пошел кататься на санках с крутого склона. Ему запомнился азарт возбуждающей скорости, свист ветра в ушах, скрежет полозьев на наледях, чистая, высокая, светлая эйфория, но посреди склона торчал бугорок, они на него налетели, и тут Дереку не повезло так, будто Вайолет прокляла его: он вылетел из санок, пролетел по воздуху и, падая, ударился подбородком об острый камень, шок был такой, будто у него череп разлетелся, сверкающие брызги алой крови на белом снегу. «Моя кровь!» — ошарашенный, сказал он себе… и только потом по лицу Джесса понял, что дело нешуточное. Всю дорогу в такси, везя его к врачу, Вайолет Дерека пилила: «Как ты мог устроить мне такой сюрприз? Мне был рекомендован покой, а ты не нашел ничего лучшего, чем довести меня до сердечного приступа?..» Потом были стерильный бинт, докторское «тихо-тихо!», наложение шва и клятва, да, в тот самый момент, когда игла вонзилась в его кожу, Дерек поклялся никогда не обращаться так со своими детьми, а только всегда любить их, лелеять, защищать, чтобы они понимали, до какой степени дороги ему… и почему это оказалось невозможно? Марина, любовь моя, почему у тебя нет желания жить? Лишаешься чувств в классе… заигрываешь с хаосом… зачитываешься рассказами о еврейской катастрофе… забиваешь голову словами о смерти, жадно поглощаешь слова о крови… почему? Все только оттого, что твоя мать покинула тебя, когда тебе было три года? Ничья любовь вовеки не заполнит воронку, оставленную в твоей душе этим отречением?)
— Не годится, — повторил он вслух.
Мысли проплывали в их головах, такие же комковатые и беспорядочно кружащиеся, как снежные хлопья, и шестеро мужчин отказались от замысла среди ночи расчищать снег.
Хэл спустился по ступенькам веранды, попытался пройти несколько шагов и по колено увяз в рыхлом сугробе, выросшем у самого крыльца. Наклонившись, он погрузил обе руки в эту густую белизну, и морозное покалывание в пальцах пробудило в нем чувство радостного узнавания. Бездумно, машинально он слепил снежок и обернулся, ища, куда бы его бросить. Девчонкам по заднице, мальчишкам по башке… снежок угодил Брайану в голову, врезал ему прямо по уху, по правому больному уху, тому самому, в котором звенело, — сотрясение мозга, перед глазами поплыло красное, вспыхнули звезды, багровые звезды.
— Ну, ты, ублюдок затраханный! — проревел Брайан. Обезумев от ярости, молотя по воздуху кулаками, он метнулся к неповоротливому увальню-романисту, налетел, осыпая ударами, повалил — бух! — ничком в снег.
— Эй! — возмутился Хэл. — Ты что? Я пошутил.
Оскальзываясь в своих городских штиблетах, дрожа от холода в легоньких свитерах, Чарльз, Леонид и Дерек ринулись в ту же кучу малу. Захватывали полные пригоршни снега, совали друг другу за шиворот, раскраснелись, хохотали во всю глотку, шалея от этого иллюзорного возврата то ли в детство, то ли в иную, но в любом случае, это уж точно, более счастливую пору своей жизни; будто внезапно проснувшись, вырвавшись из оцепенелости — следствия возлияний, сытного мясного угощения и этого длинного разговора при свечах у горящего камина, они взыграли, кровь закипела в ответ на обжигающее прикосновение ледяной влаги, размахивая руками, задыхаясь, они почуяли охотничий азарт, атавистический иррациональный зов своих пращуров, воинов севера, облаченных в медвежьи шкуры, или свирепых африканцев в шкурах леопардов, они тузили друг друга, пихали лицом в снег, барахтаясь в сугробах, в общей потасовке, где нет запрещенных ударов, все позволено, как в пресловутых схватках из тех вестернов, печатью которых было отмечено детство любого из них: тр-рах! — и стул расшибает зеркало над стойкой бара, оно взрывается осколками, бум! — стол, взлетев, сносит на своем пути ряды бутылок, бац! — человек, головой вперед проскользив по стойке, расплющивается в лепешку, вмазавшись в кассовый аппарат, игральные карты разлетаются по воздуху, а Шон, так и не переступивший порога веранды, с безопасного расстояния созерцает, качая головой, сей взрыв американской мужественности.
Это не может продолжаться долго. Еще прежде, чем Шон в последний раз выпустил дым, докуривая сигарету, они угомонились: опустошенные, изнуренные, даже очумевшие, все почувствовали себя довольно паршиво. Спину Леонида пронизывает жгучая боль; Чарльз едва сдерживает слезы, глядя на разодранную рубаху, новенькую, из черного шелка, подарок Мирны ко дню его сорокалетия; Хэл никак не может отдышаться и растерянно прислушивается к стуку сердца, молотом бьющегося о ребра, звон в Брайановом ухе малость притих, зато сам он, пытаясь положить Хэла на лопатки, растянул себе связки на плече… Один за другим они выходят из игры. С трудом поднимаются на ноги. Обмениваются угрюмыми взглядами и стыдливыми усмешками. Плетутся на веранду, потирая свои ноющие члены. Стряхивая со своих брюк налипший снег, чувствуют, как ежится их усталая кожа от соприкосновения с влажной тканью.
— Вот болваны-то, — сквозь зубы бормочет Шон, пока все прочие, прихрамывая и сопя, как буйволы, взбираются по лестнице. — Что нам сейчас требуется, так это добрый, по-настоящему горячий кофе с сахаром, виски и сливками. Пойду попрошу Рэйчел, чтобы сварила нам его.
Но жизнь в доме отнюдь не замерла на время отсутствия мужчин: когда они возвратились в гостиную, там уже царила совсем другая атмосфера. Они услышали звуки музыки, и их взорам предстала картина эпохи Возрождения «Мадонна с младенцем и музицирующими ангелами». Бет обнаружила в одном из углов комнаты гитару и, наигрывая на ней, глубоким трепетным голосом запела «Where Have All the Flowers Gone?»[36]; Кэти, Патриция и Рэйчел тоже что-то подмурлыкивали, приблизительно созвучное основной гармонической линии, Хэл Младший, сжав кулачки, спал на алом бархате, прикрывающем колени его матери; что до Арона, он опять убавил громкость своего слухового аппарата и покачивался в кресле-качалке, не отводя взгляда от рук Хлои.
У мадонн Беллини такие руки, говорит он себе. (Вечерами, когда девочки уходили спать, а Куррия отправлялась к себе в «кайю», они с Николь в своем доме на Береа, там, в Дурбане, часто проводили часок-другой, листая книги по искусству. «Нет, ты обратил внимание на руки!» — спросила однажды Николь, когда они вместе любовались Беллиниевыми Непорочными Девами, и он, глянув раз, уже не мог от них оторваться. За свою жизнь Беллини сотни раз делал наброски рук Богоматери, рисовал их и писал: руки с сильными длинными пальцами, отмеченные печатью мудрости и благоговения, всегда сомкнутые на теле Иисуса, то пухлого новорожденного, то изувеченного мертвеца. Руки мадонны, руки Матери Скорбящей. Изгибы этих перстов выражали радость и нежность, муку и горе. Кто будет держать в объятиях мое мертвое тело? — спрашивает себя Арон. Тело своего отца держал он сам, они были рядом в тот миг, когда жизнь покинула его, а мать молилась и плакала в соседней комнате. Сладостная и грозная тайна этого мгновения, память о котором каленым железом выжжена в его сознании, ибо даже когда при этом присутствуешь, смотришь, не отрывая глаз, всеми силами души ловишь каждый вздох, что вырывается из груди умирающего, даже тогда не можешь постигнуть. Человек в его уникальности. Массивное, крепкое тело, чья мощь всегда была твоей опорой, на которую ты так привык полагаться, становится совершенно инертным, оно отвергает жизнь или само ею отвергнуто, то, что осталось, — не более чем кусок дряблой плоти, которую надо вымыть и одеть, голый труп, лежащий на кровати, его тяжело ворочать. Только что он был здесь, мгновение — и его больше нет. Потрясение от его отсутствия, а ведь ты был предупрежден, ты воображал, будто готов к этому. И безумный всплеск жизненной энергии, внезапно переполняющей тебя, как будто сила умершего, покинув отца, отхлынула к сыну. Дикарская жажда бежать куда-то, кричать, есть, пить, говорить — и потребность в молитве. О Кадиш! «Мой отец мертв». Больше тридцати лет минуло, а его все еще ошеломляет эта фраза. По ночам бездыханное тело отца часто является ему в сновидениях; в те же потемки Арон прячет осязаемо внятное сознание своей собственной бренности.)
— Long time lasting[37], — поют женщины.
— Это еще что за бардак? — рявкает Шон, входя.
Песня обрывается, женщины, пораженные, оборачиваются к нему. Арон, который ни звука не слышит, продолжает качаться, уставившись на руки Хлои.
— Эта песня была дерьмом и тогда, когда ее исполнял Дилан, — продолжает Шон, — а теперь того хуже, говно разогретое…
— Ты что, свихнулся? — яростно вскидывается Бет. — По какому праву ты всеми командуешь? Значит, если ты не любишь Дилана, никто не должен петь? Ты с самого начала этой вечеринки всеми здесь манипулируешь… хватит, в конце концов!
— Бет… — бормочет Брайан.
— Нет, серьезно… Если Шону заранее известен текст пьесы, пусть он сейчас же раздаст нам роли…
— Дело в том, — Шон раскуривает новую сигарету, во взгляде — сплошная чернота, что эта гитара не принадлежит ни тебе, ни мне. И тот факт, что я тебя пригласил, сам по себе еще не дает тебе права… хватать все, что под руку попадется, и… свободно распоряжаться вещами, которые…
— Это гитара Джоди, — шепчет Рэйчел, наклонясь к Бет, и та заметно меняется в лице.
— Извини. Мне очень жаль, Шон, — произносит она и прикусывает язык, чтобы не прибавить: я не знала, что это священная реликвия. Поневоле краснея, она заталкивает инструмент обратно в футляр, захлопнув его с сухим щелчком.
— О, это всего-навсего старая гитара, — кислым голосом роняет Шон, сосредоточенно выпуская из ноздрей две дымные струйки и разглядывая бутылку с виски, проверяя, не понизился ли там уровень жидкости с тех пор, как он в последний раз, уже несколько часов назад, к ней прикладывался. — Новую гитару она забрала, уезжая… ту самую, что стоила мне моего трехмесячного жалованья.
Изумленное молчание — единственный ответ на эту очередную вопиющую бестактность.
— Ладно, — говорит наконец Чарльз. — По-моему, пришла пора откупорить шампанское.
— Шампанское! — хором восклицают Леонид и Кэти. — Отличная мысль!
Шон плюхается в кресло, наливает себе стакан виски до краев и принимается мрачно созерцать забинтованный большой палец своей левой руки. (Гитару, только что оскверненную Бет, Джоди держала в руках, когда он впервые положил на нее глаз. В ту ночь пальцы женщины в белом, пощипывая струны, извлекали оттуда не пошлые песенки во вкусе хиппи про цветочки, солдат и девчонок, а Баха, чистого, божественного Баха. Джоди была волшебным видением, нежданно попавшим под луч прожектора в уголке бистро, куда Шон забрел случайно. Каждая ее черта, любой жест рождали в нем экстаз. «Ты — средоточие всего, о чем я когда-либо мечтал, — он говорил ей это и повторял, шалея от восторга, глаз с нее не сводя. — Ты преобразишь мою жизнь, я это знаю, чувствую. Мы созданы друг для друга…" Джоди было двадцать пять, ему — сорок. Джоди умела все: готовить, шить, мастерить разные поделки, садовничать, танцевать, играть на гитаре, Шон же не умел ничего, кроме двух вещей — марать бумагу и пить. Было нужно, чтобы она принадлежала ему. Необходимо завоевать ее сердце и заполучить ее в жены. Он был уверен: Джоди научит его жить, ее безмятежность станет бальзамом для его кровоточащей, ободранной души. Рядом с Джоди он станет меньше пить и курить, с ней он и Нобелевку отхватит. Чтобы наконец создать то, ради чего он рожден, ему не хватало только ее. Его друзья взирали на это без энтузиазма. Отметая все их опасения одним взмахом руки, он обхаживал Джоди Робинсон, пуская в ход цветы, стихи, шелковые шали, французские рестораны и диски — самые лучшие записи музыки барокко. Он стал ее знатоком, проводил часы в магазинах Бостона и Кембриджа, выбирая диски для Джоди. Он слагал оды, сонеты, вилланеллы, воспевающие ее красоту. Он представил ее своей матери. Познакомил с Рэйчел. С Хэлом. Он женился на ней, Хэл и Рэйчел были свидетелями… и все лишь затем, чтобы тотчас после свадьбы погрузиться в черную саморазрушительную меланхолию. «Ты должна помочь мне, Джоди!» — дойдя до ручки, чуть не рыдая, воззвал он к ней однажды, глядя, как недосягаемо она возвышается над ним во всей своей чистоте; она же в это время сидела на их кровати в позе лотоса, ее ночная рубашка сияла белизной, глаза закрыты, не считая того третьего, незримого, что посреди лба, руки на бедрах, ладони обращены вверх, дабы улавливать вибрации сфер. «Прежде всего ты сам себе должен помочь, Шон, — отвечала она, сложив губы в эту буддийскую полуулыбочку, которая приводила Шона в бешенство, прямо хотелось ей голову оторвать и закатить куда подальше. — Знаешь, я ведь тоже не родилась такой», — прибавила она, потрясая перед ним своим духовным превосходством, словно мечом. А затем она приступила к дыхательным упражнениям, из-за чего ее речь распалась на коротенькие плавающие «коаны»: «Невозможно просто — щелкнуть вот так пальцами — и перестроиться, Шон, — надо трудиться — да, вести работу над собой — вот я занялась йогой — осознанным дыханием — медитацией — тому уже семь лет — это овладение техникой — тренировка, дисциплина, смирение — так обеспечивается самосовершенствование — если ты действительно чего-то хочешь, Шон, — это единственный способ получить желаемое». — «Стихи получаются другим способом», — угрюмо буркнул Шон. «Да? — сказала Джоди, возвращаясь к нормальному дыханию. — И как же?» — «Надо погрузиться в грязь по самые уши. Выдуть полпинты виски. Надышаться смрадом помойки. Грызть драный линолеум. Обнимать мертвецов. Выблевать сентиментальность. Жизнь — на случай, если ты этого не заметила, — нечто иное, чем простая альфа-волна, разгуливающая по космосу. Ты не от мира сего, Джоди. Ты совершенно выключена из мира». — «А ты, Шон? К чему ты подключен?» — «Перестань называть меня Шоном всякий раз, как только рот откроешь!» — «Как ты хочешь, чтобы я тебя называла?» — «За исключением тебя, я здесь в комнате один. Как бы я ни был пьян, я еще способен допереть, к кому ты обращаешься». — «Хорошо. Итак, к чему ты подключен?» — повторила Джоди, вытягивая свои белые руки высоко над головой и наклоняясь вправо, влево, описывая своим телом безупречную дугу, медленно выгибаясь и замирая, так что ее пальцы касались пола возле кровати. «Боже драный, дерьмо собачье, — взорвался Шон, — неужели нельзя поговорить, не демонстрируя свое доброе здравие так назойливо?» — «Я думала, что ты тоже стремишься поправить свое здоровье, возразила Джоди полным достоинства тоном, выпрямляясь и открывая глаза. — Ты сам мне об этом говорил, когда просил выйти за тебя». — «Что ж, значит, я врал». — «Ты не хочешь стать здоровым?» — «Не-а». — «И не стремишься снова обрести цельность?» — «He-а. Цельные люди ужасны. Что я люблю, так это маленькие кусочки разбитых вдребезги людишек, которые перескакивают то туда, то сюда, как на пружинах. Разрозненные части. Вывихнутое время». — «Я тебя слушаю, Шон, а что тебе ответить, не знаю, ведь пройдет часа два, ты придешь извиняться и будешь говорить все прямо противоположное. Чего ты от меня хочешь? Поразмысли об этом, Шон. Поразмысли, а потом скажи мне, чего ты хочешь от меня». Он тогда просто взбесился, особенно от фразы «Поразмысли об этом, Шон». «Я твоя жена в горе и в радости, Шон, — говорила еще Джоди, — но растлевать мой разум я никому не позволю. В нашем брачном контракте такое право не предусмотрено». Все еще оставаясь в ночной сорочке, она взяла гитару и заиграла пресловутую «Утреннюю рагу», которую выучила в Раджастане. Через два часа Шон пришел просить прощения. И весь день до вечера они предавались любви на широкой кровати — то была любовь до слез, до полусмерти, до того, что они перестали различать верх и низ, слив воедино свои тела и свои стоны. Шли месяцы, и этот синдром повторялся: вверх — вниз, вверх — вниз, словно разноцветные зигзаги на шарфе, который Мэйзи связала для своей невестки к Рождеству, а Джоди отказалась его носить под предлогом, будто грубая шерсть раздражает ей кожу на шее. Потом она забеременела. Когда она сообщила ему эту новость, выражение ее лица являло собой чистейшее «ом мани падме хум», совершенное «самадхи». И Шон дал себе слово, что такое дело раз и навсегда все изменит. Ради этого он сумеет отказаться от бутылки, ведь теперь наконец в его жизни появится нечто объективно значительное, подлинный смысл бытия… а также и будущее… частица его самого, которая, оторвавшись от него, устремится далеко вперед, в новое столетие… кровь его отца, возрожденная… а для Мэйзи-то какая радость, какая радость! Потом ему позвонил Хэл, чтобы поделиться своими новыми огорчениями — его только что бросила очередная белобрысая проституточка, в четвертый, кажется, раз за последние два года, — намереваясь утешить друга, Шон заглянул в бистро, где обычно сиживал Хэл, а домой вернулся на следующее утро в половине седьмого, поскольку был арестован за вождение в нетрезвом виде и остаток ночи провел в участке, где обрел родственную душу в лице полисмена-постового, желторотого ирландца, знавшего превосходнейшие застольные песни на гэльском языке — он их почерпнул от своих родителей, уроженцев Коннемары. «Бах просто засранец!» — провозгласил Шон, появившись в то утро на пороге и увидев Джоди, которая, привстав на кровати, устремила на него свой невыносимо спокойный, снисходительный взгляд. «У Баха не стоит!» — завопил он, уже выбравшись из душа, и продолжал выкрикивать это вперемешку с похабными куплетами, которым научил его полицейский. Тогда Джоди, не утратив ни грана присущей ей рассудительности и самообладания, убила их дитя, развелась с Шоном, сославшись на его психологическое изуверство, и исчезла из его жизни, забрав с собой гитару неимоверной стоимости, которую он ей только что подарил.)
— Психологическое изуверство, — процедил он, отставляя пустой стакан. — Ну, за ваше!
Остальные подняли свои фужеры с шампанским.
— За приход зимы!
— За Хэла Младшего!
— За ваше здоровье!
— В гробу я видал здоровье! — брякнул Шон.
— Вот как? Шону все еще хочется подуться? — вопросила Рэйчел.
— Так и есть, — отвечает Шон. — Это именно то, что я желаю сделать. Скрестить руки, поникнуть головой и как следует надуть губы. Я, знаете ли, талантлив по этой части, у меня это наследственный дар. Все мои предки имели громадную нижнюю губу, отвисшую и мягкую. У моего деда она была просто колоссальной: он мог дотянуться ею до кончика носа, невозможно было поверить, что это у него губа, а не язык, так что, если вы позволите, я еще немножко подуюсь, спасибо большое, вы ж понимаете, тут нужна каждодневная тренировка.
— Как там снег? — спрашивает Рэйчел.
— Со снегом все в порядке, — отзывается Хэл. — Но про состояние дорог и транспортных средств этого отнюдь не скажешь.
— Что такое, мой ангел? — тревожно вскидывается Кэти, заметив, с какими предосторожностями ее муж усаживается в кожаное кресло. — Спина разболелась?
— Нет-нет, все в порядке. Еще бокал шампанского, и я уже совсем перестану что-либо чувствовать. Знаете анекдот про даму с ревматизмом?
— Ах да, этот! Он смешной! — подхватывает Кэти. — Расскажи!
— Ну, такая здоровенная дама семидесяти пяти лет, и вот врач ей сообщает, что у нее ревматизм, а она возмущается: «Но, доктор, этого не может быть, у меня всегда было крепкое здоровье, никто никогда мне не говорил, что у меня ревматизм!» — «Вот оно что! — отвечает врач. — А в каком возрасте мадам сочтет уместным обзавестись собственным ревматизмом?»
Хэл и Рэйчел — вот кто на сей раз смеется громче всех.
Глава XVII. Арон
Что касается Арона Жаботинского, я ему уготовал смерть от огня — ему, которого огонь в любых видах всегда пленял, начиная от золотистых язычков, что плясали в их домашней пекарне в Одессе двадцатых годов, когда его родитель задвигал хлеб в печь и крупные капли пота скатывались в глубоких морщинах старческого лба, и кончая тем, пыточным, к какому прибегали в Йоханнесбурге чернокожие воины восьмидесятых, казня других чернокожих воинов, признанных изменниками Правого Дела (когда на шею жертвы надевают автопокрышку, облитую мазутом, и поджигают).
Ему в ту пору сравнялось девяносто девять. Он надеется продержаться до ста трех, чтобы побить рекорд своей матери (та скончалась в сто два с половиной). Конечно, это довольно-таки ребяческий вызов, принимая во внимание, что мать уже не сможет взбелениться, удостоверившись в своем поражении; как бы то ни было, представление о таком посмертном торжестве над ней веселит его сердце, и ради этой цели он фанатически печется о своем организме.
Но все обернется иначе.
За Ароном Жаботинским я пришел так.
Он снимал второй этаж скромного дома на Саммер-стрит, поблизости от той булочной на Мейн-стрит, которой он долгое время распоряжался один (и которая по-прежнему называется «Тински»). В mom вечер у молодой пары, обитающей на первом этаже, вспыхивает семейная сцена на гастрономической почве. Жена только что откупорила банку консервированных бобов со свиным жиром. Муж, пьяный и злой на весь свет, корит супругу за ее полнейшую кулинарную бездарность (его предки были родом из Квебека, и ему казалось, будто он припоминает, что бобы со свиным жиром некогда служили основой жалкого рациона «поселенцев»). «Это смердит! — разоряется он. — Я не стану жрать такое дерьмо! Говорю тебе, от него воняет!» — «Иди в задницу! — возражает его благоверная и, подкрепляя свой аргумент, в несвойственном ей обычно феминистском порыве добавляет: — Тогда сам готовь себе жратву!» Сопровождая слово делом, она срывает с себя фартук и, хлопнув дверью, выбегает из дому. Муж бросается в погоню, в свой черед шарахнув дверью, но его супруга крепко взяла ноги в руки, а коль скоро этим ногам всего девятнадцать лет, вперед она продвигается весьма проворно. А он, даром что немногим старше, заядлый курильщик, так что ему приходится пробежать больше километра, прежде чем ее изловить, впрочем, и тогда это ему удается лишь потому, что молодая женщина, видя, как упорно муж гонится за ней (а она и сама перед тем успела принять изрядную порцию пива), останавливается, хохоча и плача одновременно. Супруги бросаются друг другу на шею, обливаясь слезами и пуская слюни, потом чувствуют, что самое время себя потешить, и ныряют в лесок, а домой возвращаются поздно вечером, чтобы обнаружить, что дома-то у них больше и нет.
Арон тем временем преспокойно отдыхает в своей квартире на втором этаже, покачивается в кресле-качалке, читает старый роман Ричарда Форда, который он бессознательно выбрал за то, что в его названии фигурирует слово «огонь»; он ни звука не слышит из всей этой суматохи на первом этаже, поскольку с годами стал глух, как пень. Когда фартук, брошенный женщиной прямо на газовую горелку, вспыхивает, когда пламя стремительно перекидывается сперва на занавески, потом на ковры и мебель, он ничего не замечает, ибо успел погрузиться в грезы об огне и все это кажется ему в порядке вещей; он кашляет, задыхается, но осознать происходящее не в состоянии, все еще весь в чтении, в своих фантазиях, и ощущения, связанные с дымом и пламенем — треск, ожоги, полыхание, — словно бы часть того пожара, что в книге, в грезах, в самом дальнем уголке его души, где таится слепящая, неистовая страсть, которой он никогда не осмеливался дать волю, он снова в Африке, в Куа-Машу, где жила Куррия, там загорелась груда рваного тряпья и превратилась в огромный огненный шар, с бешеной скоростью несущийся по бантустану, один за другим поджигая дома; целые семьи сгорали заживо, и вот Арон там, смотрит на эту сцену издали, но в то же время он сам и есть этот пылающий шар, что катится, жжет, пожирает и заглатывает, уничтожая все на своем пути…
Глава XVIII. Опьянение
— Это правда, что нет никакой возможности уехать? — снова спрашивает Бет.
— Не тревожься об этом, — говорит Брайан. — Все идет, как надо: Джордан в камере, там тепло, Ванесса уютно устроилась в самом опасном городе планеты… вот и мы тут все вместе, веселые, как птички.
— Ты абсолютно пьян. — Бет пожимает плечами. — Веселые, как птички, еще не хватало.
(Это ее раздражает, потому что именно такого рода банальности обожала ее мать. «Такова жизнь», — изрекла Джесси Скайкс, к примеру, 26 июня 1975 года, узнав, что доктор Реймондсон, задержавшись на медицинском коллоквиуме во Франкфурте, не сможет присутствовать на церемонии по случаю окончания его дочерью курса в хантсвиллском лицее. «Что тут поделать, взрослая моя, — не слишком горячо извинялся по телефону отец; Если бы я находился где бы то ни было в Соединенных Штатах, с удовольствием приехал бы, но подвергнуть свой метаболизм двум перелетам через Атлантику в течение двух суток никак не могу». «Такова жизнь», — сказала Джесси. Бет отправилась на церемонию одна, сославшись на то, что должна явиться туда на полчаса раньше, что было враньем; она просто не могла вынести мысли, что придется показаться в лицее рядом с женщиной в полосатом розовеньком платье с расклешенной юбкой, с голыми волосатыми ногами, тяжелые ступни которых втиснуты в белые лодочки (единственная «приличная» пара обуви, которая имелась у матери, была куплена ею к свадьбе в 1957 году). Таким образом, Джесси в свой срок пришла туда одна и уселась в глубине амфитеатра. Выпускники в черных мантиях устремлялись к эстраде; там тянулись чередой речи, дипломы, поздравления с аплодисментами, парад фразерства и позерства; наконец дело дошло до особо отличившихся. Бет была лучшей ученицей. Чтобы доказать, что достойна интеллектуального общения со своим отцом, она на выпускных экзаменах продемонстрировала блестящие знания, побив все академические рекорды в истории хантсвиллского лицея; и вот ее, звезду выпуска, украшение всего вечера, приглашают вновь подняться на подиум, чтобы получить высшую награду. Овация буквально подняла ее с места и вынесла на эстраду. Директор энергично потряс ей руку и преподнес приз: бронзовую медаль, на которой было выгравировано ее имя. Затем, с широкой улыбкой повернувшись к микрофону, он возгласил: «Элизабет Реймондсон, примите наши поздравления! Все преподаватели и ученики хантсвиллского лицея гордятся вами, да будет вам известно! Кто знает, быть может, именно благодаря вам наш маленький город появится когда-нибудь на больших картах! Ваши родители пришли сюда, чтобы в день вашей славы разделить ее с вами?» — «Нет! — слово вырвалось само. — Я хочу сказать, что они, к сожалению, не смогли прийти, — пробормотала Бет, краснея, как пион, и теребя свою медаль. — Но в этом нет ничего страшного!» — «Само собой, — закивал директор, — конечно. Просто жаль, что они не смогли присутствовать сегодня здесь. Как бы то ни было, примите еще раз наши самые искренние поздравления. Поприветствуем мисс Реймондсон, леди и джентльмены!» О, как забыть лицо Джесси в тот вечер, когда Бет вернулась домой… И ее молчание… Но у нее хватило великодушия, чтобы не проронить мужу ни словечка о том оскорблении, что нанесла ей дочь. Ах, мама, прости, думает Бет, вспоминая об этом теперь. Ты была лучшей в мире кулинаркой. Хоть ты и сидела, расставив ноги, когда ощипывала птицу, зато твоя курица в горшочке была истинным шедевром. Прости меня, мама. Спасибо за вкусные вафли с черникой, которые ты в пору летних каникул готовила для меня каждое воскресенье. И крошечные морковинки в свежесбитом масле… Нет, мамочка, я ничего не забыла, прости меня… Той же осенью Бет укатила на север, в Редклифф, где приступила к изучению медицины; год спустя, когда ее отец погиб в автокатастрофе, она съездила в Алабаму на его похороны; с тех пор навестила мать не то три, не то четыре раза за все двадцать лет. Она предоставила Джесси Скайкс Реймондсон одной выпутываться из беды, поскольку родичи, деревенские пентюхи, давно от нее отвернулись, не простив красивого дома в предместье, зазнайки-дочки, да и этой ее духовной спячки. Своих внуков Джесси едва знала… ох, мама, я непременно съезжу навестить тебя на Рождество, я тебе клянусь!)
— Иди сюда, — сказал Брайан, притягивая ее к себе и усаживая с собой рядом на канапе. — Так или иначе, выбора у нас нет…
— А если немножко Ширли Хорн? Что вы на это скажете? — предлагает Чарльз, роясь в груде компакт-дисков Шона.
— Еще бы! — отзывается Патриция, возвращаясь из кухни, где она только что выбросила в мусорное ведро все, что оставалось на тарелках: кости от индейки, черствые хлебные корки, остывшие и привядшие овощи. — Я без ума от Ширли Хорн! — Она пускается вальсировать по комнате, не жалея туфелек, и, проделав несколько пируэтов, восклицает: — Я всех вас люблю! Всех! С вами мне куда вольготнее, чем с моими детьми!
— Как это? — удивляется Дерек. — Что ты такое говоришь? Ты же просто обожаешь своих мальчиков!
— Ну да, — не докончив седьмого пируэта, Патриция теряет равновесие и валится на лежащую прямо на полу подушку, — я их обожаю, но я жё их и задергала. Иногда мне кажется, что я похожа на маму, а моя мама — это, я вам доложу!.. Я все спрашиваю себя: а что, если они на меня смотрят также, как я смотрела на нее, вечно вздрюченную, суетливую, по уши в хлопотах…
— Да ничего подобного! — протестует Кэти. — Я видела, как Томас и Джино обращаются с тобой. Они тебя боготворят. Твои миндальные бисквиты славятся во всей округе. Ты умеешь даже пришивать заплатки к их джинсам.
— Лично я, — встревает Хэл, — всегда предпочитал, чтобы на моих джинсах зияли дыры. Я даже нарочно обдирал с них заплатки.
— Но я кричу на них, — признается Патриция.
— Не огорчайся, — улыбается Рэйчел. — Дети любят, чтобы на них время от времени кричали.
— Неправда, — вздыхает Патриция. — Мать орала на меня, и я это ненавидела.
— Тогда зачем ты это делаешь? — спрашивает Чарльз. (В детстве его всегда задевала словесная грубость, на которую были горазды мамаши его друзей. Он не мог забыть их грязной ругани и угроз. Злобных придирок к сыновьям за домашним столом. Привычка выкрикивать во всю глотку имена детей, когда надо было заставить их вернуться под семейный кров с бейсбольной площадки или из сквера… ведь его-то мать никогда не бранила, ни разу, даже если ему случалось порвать свою одежду или опрокинуть молоко. Когда Мирна купила «Кролика Жанно», это приобретение стало поводом для одной из худших семейных ссор за все время их супружества: Чарльз не желал навязывать своим детям слащавое морализаторство Беатрис Поттер.)
— Ах! Да я их ругаю за все что угодно и ни за что. За то, что они не в духе, черт возьми. Когда они куксятся, меня это выводит из терпения! Или за то, что без спросу взяли мой ластик. Или потому, что у меня не получается приготовить майонез. Или оттого, что у Джино опухоль на лодыжке… Да я их и поколачиваю, — словно бы между прочим добавляет она.
— Ну вот еще, что за чушь! — отмахивается Кэти.
— Да, да, бью! — настаивает Патриция. — Не то чтобы каждый день, но…
— Перестань хвастаться. — Хэл посмеивается. — Хлоя, чего доброго, в самом деле подумает…
— Да нет же, я правду говорю, — не унимается Патриция. — Я плохая мать. Материнство нарушило то душевное равновесие, которого я не без труда сумела достигнуть, когда повзрослела. Думала, будто умудрилась превратиться в этакую спокойную, рассудительную особу… но как только я стала матерью, во мне снова забродило мое собственное детство… весь этот бред… крики…
— Крикливость — природное свойство итальянских матерей, — замечает Хэл. — Это неотъемлемая часть их имиджа. «Mangia! Mangia!»[38] Ты смотрела «Амаркорд»?
— И еще одно, — горестно признается Патриция. — У меня никогда не возникает желания поиграть с ними. Приходится себя заставлять.
— Если вдуматься, это странно, — ко всеобщему удивлению вдруг произносит Арон. (Ему приходят на память бесчисленные вечера, которые он сам и Николь проводили за игрой с дочками в «монополию» и «скраббл» на великолепном дубовом столе в их гостиной, в Дурбане. Потом они всегда предусмотрительно засовывали игры в самый дальний ящик буфета, чтобы Куррия не заинтересовалась их таинственными деталями: крошечными домами и отелями, фальшивыми долларами, грудой пластиковых писем). — Сначала родители играют с детьми, чтобы их порадовать, думая про себя, что это напрасная трата времени; потом дети играют с родителями, чтобы доставить им удовольствие, сетуя в душе, что приходится терять время даром.
— Вот! — восклицает Хэл. — Видишь, Патриция? На самом деле никто не любит играть!.. особенно со своими родителями!
— Ладно, — решает Патриция, — сменим тему. — Можно стрельнуть у тебя одну, Шон?
Не дожидаясь разрешения, она закуривает «Уинстон». (Присущая ему смесь щедрости и скупердяйства раз и навсегда привела ее в недоумение еще в ту пору, когда она встречалась с ним. Он мог выложить в ресторане сто долларов за бифштекс и омаров, а потом, возвратясь домой, расхныкаться из-за того, что она сделала пару затяжек из его сигареты или пригубила его ликер. И не любил, когда она подсмеивалась над ним за это: «Я просто-напросто желаю знать, сколько в точности алкоголя и табака я потребляю, надеюсь, такая просьба с моей стороны не слишком обременительна».)
— Если я напомню, что у меня эмфизема, вас это не смутит? — вполголоса цедит Бет.
Не пойму, как она ухитряется так петь, эта Ширли Хорн! — восклицает Рэйчел.
Голос чернокожей певицы будит в ней острое желание сбросить одежду и остаться нагой. Да: стоит только услышать, как в горле Ширли рождаются первые воркующие звуки, и уже грезится томная, сладострастная, развратная ночь, Рэйчел видит себя раскинувшейся в постели с мужчиной, она облизывает его кожу, поет ему песни, стонет и трепещет от наслаждения, смеясь с ним вместе грудным приглушенным смехом сообщницы, даром что в жизни действительной она никогда себя так не вела. (Два-три месяца назад Кэти под воздействием бутылки мюскаде проговорилась Рэйчел, что в последние годы Леонид в постели стал уже далеко не так силен; по мере того как белое молодое вино лилось ей в горло, она разбалтывалась все откровеннее. «Но ведь их все равно продолжаешь любить, правда? — вздохнула она под конец, грустновато качая головой. — Я хочу сказать, что все это еще остается, и жар, и нежность, и так далее, но… у меня таки есть слабость к хорошему траханью!» Расхохотавшись, Рэйчел поперхнулась глотком вина и прыснула на столешницу множеством мелких капелек мюскаде. Но, по правде говоря, ее-то любовный акт сам по себе никогда не интересовал — разве что с Шоном, он-то и здесь ухитрялся потакать ее темным наклонностям… С ним соитие подчас становилось затяжным, странным и пугающим, как детский кошмар: «Оргазм — это для сельских простушек!» — заявил он ей однажды, чтобы рассмешить после нескольких часов телесной любви-ненависти. Нет, Рэйчел без проблем приноровилась к томно-угасающему либидо Дерека.)
— Понимаешь, Бет, дело совсем не в том, что твой голос нехорош, — поясняет Шон примирительно. — Голос у тебя великолепный.
Пораженная тем, что Шон уже второй раз за вечер приносит извинения, Бет недоверчиво вскидывает на него глаза и видит, что он искренен, а еще видит, что губы у него почти совсем серые… тут ей по нелепейшей ассоциации вспоминаются лошади с фермы ее деда: это странное ощущение, когда их серые толстые губы елозили по ее ладони в поисках кусочка сахара или пучка травы, которые она, сама шалея от собственной дерзости и страха, протягивала им на самых кончиках пальцев…
— Я читал в «Праттлере», что ты прошлым летом провел в Лос-Анджелесском Калифорнийском университете спецкурс по творчеству. — Брайан обращается к Хэлу, ему не терпится сменить тему разговора. — И что, хорошо прошло? Как поживает мой добрый старый факультет?
Он умышленно оставляет собеседнику выбор, чтобы не вынуждать его распространяться о своих занятиях, если нет желания, даже если ему самому, Брайану, хочется послушать именно об этом в надежде почерпнуть какие-нибудь перлы премудрости. (Он всегда обалдевал от одного вида писателя, по правде говоря, он и сегодня взволнован оттого, что оказался на этой вечеринке, в окружении знаменитых авторов. В тот день, лет пять тому назад, когда Шон Фаррелл собственной персоной пригласил его в свой кабинет и спросил, не займется ли тот его бракоразводным процессом, Брайан едва не лишился дара речи. «Для меня это было бы честью, мистер Фаррелл», — насилу пролепетал он, и звон в его правом ухе стал еще пронзительней оттого, что пульс участился. С того дня он, не считая развода, еще несколько раз брался улаживать для Шона кое-какие деликатные правовые вопросы, в том числе — совсем недавно — составлял для него завещание, очень печальный документ: «Мне очень жаль, Шон, — сказал он ему тогда, — но ты не можешь оставить все Пачулю, суд этого не примет…» Тогда Шон решил завещать свой дом городу, великодушно предоставлявшему ему ипотечные льготы, а свой архив — университету, который так долго платил ему жалованье. Эти двое, может быть, и стали бы друзьями, но из-за взаимной неприязни, мгновенно возникшей между Шоном и Бет, они встречались редко, только и удавалось, что в каком-нибудь баре в центре города по-мужски пропустить стаканчик-другой. И вот, благодаря метеорологической случайности задержавшись этим вечером в компании небожителей, Брайан хочет использовать свой шанс; он боится, как бы эти драгоценные часы не растратились на пустую болтовню. В его глазах призвание литератора — высочайшее из всех возможных: было время, оно трепетало и в нему когда он, прыщавый подросток, воспитанник лицея, расположенного в северной части Лос-Анджелеса, проглотив всю американскую классику от Мелвилла до Карвера, уверовал, что однажды превзойдет их всех… И кто знает? — с горечью думает он теперь. Возможно, я бы и преуспел, если бы война не измочалила мое честолюбие… Ветераны Вьетнама стали антигероями, презираемыми и отверженными своим поколением. Возвратившись в «мир», Брайан пережил годы безнадежной растерянности, он в ту пору колесил на джипе от Калифорнии до Юкатана и однажды подобрал на дороге невзрачную хиппи, очумевшую от марихуаны. Начал покуривать за компанию с ней и, глупейшим образом обрюхатив ее в кишащем тараканами мотеле в Чихуахуа, смирился было с мыслью, что женится на ней и остаток жизни проведет в Мексике. Потом, когда финансы, а с ними и наркотики подошли к концу, перестал балдеть и, заново обдумав положение, отряхнул прах от ног — сбежал, бросив молодую жену, притом беременную и без гроша. Оттого ли, что желал очиститься в собственных глазах, или еще почему, но только он налег на занятия юриспруденцией и, получив в Гарварде степень доктора, сделался адвокатом для бедных под покровительством Американского союза защиты гражданских свобод… К несчастью, в глазах его поруганной супруги всего этого оказалось недостаточно для искупления вины: несколько лет спустя, напав на его след, она потащила Брайана в суд, настоятельно требуя не только развода, но и алиментов, и принудила его содержать их нежеланное чадо, девочку, награжденную дурацким именем Чер. Он ее ни разу не видел нигде, кроме моментальных фотографий на казенных документах, знал только по школьным табелям и, главное, по астрономическим счетам: за услуги ортодонта, за уроки танцев, за самые шикарные частные школы Западного побережья, вплоть до получения ею магистерской степени в Стенфордском университете. С тех пор — ни слуху ни духу.)
— Ну, вот, — бубнит Хэл, почесывая пузо, — заплатили они мне пятнадцать тысяч долларов, это как нельзя кстати, учитывая, что мы как раз собирались пристроить к дому крыло, к моему дому, для малыша.
— Неужели правда, что можно научить людей писать? — спрашивает Бет.
— Нет, — говорит Чарльз. — Но научить их, как писать не надо, можно, это уже кое-что.
— Само собой, нельзя, — одновременно с ним, но громче отзывается и Хэл, — однако пятнадцать тысяч монет за трехнедельный курс — от такого не отказываются!
— К нему туда, на эти занятия, таскался один псих, — протяжным голосом сообщает Хлоя.
— Ха! — веселится Хэл. — Да уж, я вам доложу, это было нечто. Он меня выбил из колеи привычной рутины.
— Что же произошло? — Брайан сгорает от нетерпения, он как на иголках.
— Ах… этот тип… — И Хэл принимается рассказывать при Хлое историю, которую она слышит сегодня в девятнадцатый раз, — про молодого человека, который, когда настал его черед представить на суд группы рассказ собственного сочинения, извлек из своего атташе-кейса револьвер и, потрясая им, прошелестел: «Предупреждаю вас, что в этом рассказе речь пойдет о моей матери, и если кто-нибудь вздумает насмехаться…»
— Не может быть! — изумляется Патриция.
— Еще как может. — Хэл доволен. — Литература — профессия повышенного риска, вы не думайте!
— Но о чем же там говорилось, в его рассказе? — спрашивает Патриция. — Что он такого открыл насчет своей матери?
— Ах, да я уж толком и не помню, — отмахивается Хэл. — Как он рылся у нее в ящиках, когда был маленьким, запахи розы и лаванды, в таком духе писанина.
Патриция на миг уплывает в свои собственные воспоминания, как шарила в материнских ящиках: когда ей было что-то около семи, да, именно тогда она нашла там гигиенический тампон и лихорадочно городила всевозможные гипотезы относительно его возможного применения. Позже, когда она уже выяснила его истинное назначение, девчонки из колледжа Небесных Врат, давясь от смеха, спрашивали друг дружку: «Как ты думаешь, если ты девственница, эта штука лишит тебя невинности?» Еще позже, при встрече со своим духовником, которому надлежало исповедовать ее перед бракосочетанием — «Остались ли вы чистой, дочь моя?» — картина дефлорации посредством тампакса, мелькнув в воображении, вызвала у Патриции неподобающую усмешку, неблагоприятно истолкованную и неблагосклонно принятую святым отцом. Чтобы наказать ее, он пустился в разглагольствования, столь же нескончаемые, сколь туманные, о том пути, каковой по милости мистического таинства брака ведет через обладание к очищению…
Когда Патриция возвратилась к реальности настоящего, Хэл как раз завершил свою историю, и все гости, кроме Хлои, разразились громким смехом.
— Надо же, подумать только! — бормочет Брайан, весь под впечатлением.
— Ну да! Литература — профессия повышенного риска, — повторяет Хэл. Ему досадно, можно ведь было и подрастянуть рассказ, он упустил возможность еще немножко понежиться в огнях рампы… Но Чарльз уже перехватил его место.
— Мне в моих аудиториях никогда не приходилось видеть огнестрельного оружия, — говорит он. — Но однажды, это было в Чикаго, трое студентов устроили форменный погром у меня в кабинете.
— А почему? — спрашивает Брайан.
— Им не пришлась по вкусу моя реакция на их стихи, — поясняет Чарльз. — Вот они и разбили мой компьютер, вывалили на пол содержимое моих ящиков, книжные полки опрокинули…
— Боже правый! — ужасается Кэти.
— Видишь? Поэзия — она тоже чего-то стоит! — резюмирует Шон, ни к кому в отдельности не обращаясь, разве что к Пачулю.
— Эти юнцы принадлежали к группе фанатов Фаррахана, — продолжает Чарльз. — В целом их стихи сводились к жесткому рэпу — они там расправлялись с «грязными белыми», все в таком роде. Я им сказал, что в английском языке больше семнадцати слов и не мешало бы сначала его хоть сколько-нибудь подучить, а уж потом подаваться в поэты. На свете есть Болдуин, говорил я им. Есть Шекспир. Есть Шоинка. Читайте их. Прежде чем писать, подождите, пока в голове что-нибудь образуется! У меня в тот день было неважное настроение, — поясняет он.
(Говоря по правде, настроение было просто убийственное, поскольку его матери только что объявили, что у нее тяжелый диабет, и он все утро провисел на телефоне, бурно препираясь со своим врачом и страховой компанией, возмущаясь их некомпетентностью и сходя с ума от страха. Потом, перед самым началом занятий, чтобы собраться с мыслями, зашел выпить кофе в «Данкин Донатс», но там сломалась электронная касса, а чернокожая кассирша, не способная без помощи машины вычесть полтора доллара из пяти, довела его до белого каления. «Да что же это, в конце концов? Хоть начальную-то школу вы закончили?» — выкрикнул Чарльз прямо ей в лицо, и по тому, как испуганно отшатнулась молодая женщина, догадался, что повел себя, как любой чернокожий мужчина, обозленный и задерганный, — отец, братья, родичи, приятели, все они так орут ей в лицо с самого дня ее рождения; впрочем, и его собственный родитель был подвержен таким же вспышкам, да, как в то Рождество, когда, поспорив с женой из-за пустяка, он большими шагами пересек гостиную и на глазах своих четверых оторопевших детей опрокинул на пол большую, пышно украшенную праздничную елку, — тогда Чарльз покинул «Данкин Донатс», принеся извинения кассирше и оставив три с половиной доллара сдачи ей на чай. «Это научит ее считать!» — пробурчал он себе под нос, садясь в машину… А десять минут спустя, оказавшись лицом к лицу с виршами, состоявшими из «надувай твою мать» и «негры тебя замочат», он снова сошел с катушек.)
Но разве это не добрый знак, спрашивает себя Брайан, что эти стихоплеты в стиле gangsta rap все-таки не сидят за решеткой, а учатся в университете?
— Хочешь, я отнесу малыша обратно? — спрашивает Хэл, которого начинает тревожить затянувшееся молчание Хлои.
— Ладно, — равнодушно роняет она.
Хэл берет спящего сына на руки и поднимается с ним по лестнице.
— Ну, дружок, — бормочет он, опускаясь на корточки, чтобы уложить его на матрац, расстеленный прямо на полу. — Ну, Хэл Хезерингтон Младший, я надеюсь, что ты будешь с гордостью носить это имя. Когда я получил его в наследство, фамилия Хезерингтон не значила ровным счетом ничего. Скобяная лавка на улице Верк — вот к чему сводилось ее значение. Да-да! Мой отец торговал гвоздями, клейкой лентой и медной проволокой, а моя мать проводила дни за кассой, покрывая ногти лаком, а на голову намотав платок, чтобы спрятать бигуди. Ты не узнаешь своего деда и бабку, малыш, они сошли со сцены до твоего рождения, но, по крайности, теперь фамилия Хезерингтон кое-что собой представляет. Тебе не придется, как мне, начинать с нуля. Лучшие университеты страны будут бороться за честь иметь тебя в числе своих студентов; у тебя никогда не будет нужды разносить пиццу или продавать бензин, чтобы было чем заплатить за кусок хлеба насущного. Нет уж, мой сын. Черта с два, дружок. Для тебя — только все самое лучшее.
Встав с корточек и распрямившись, Хэл чувствует, что его сердце снова заколотилось: не так бешено, как недавно после баталии в снежки, но все же не в меру ощутимо.
«Вот увидишь, — беззвучно обещает он сыну. — Мы с тобой вместе, ты и я, объедем весь свет. Каждое лето — новое Чудо, согласен? Великая Китайская стена… Тадж-Махал… пирамиды… Надо быть честолюбивым, мой мальчик. Если ты не сожрешь этот мир, он сожрет тебя. Аппетит нужно иметь. Как Уолт Уитмен. Вот кого я бы назвал мужчиной. Гигант! Как только ты научишься говорить, я начну читать тебе «Листья травы». Наш срок на этой земле отмерен, парень. Его надо использовать, вырваться на арену. Большинство людей живет, как маленькие мышки, они даже и не стремятся посмотреть, что находится за пределами их картонной коробки; они говорят себе: да ладно, такой уж он, этот мир, вот мой квартал, вот моя церковь, вот моя скобяная лавка со своими стеллажами… так и проходят мимо жизни! Каждый вечер заводят свой будильник, раз в неделю ходят за покупками в супермаркет, шлют к Рождеству открытки с пожеланиями, и, прежде чем они успевают что-либо понять, бьет их час, и они, сдвинув ноги вместе, прыгают в гроб. Но ты, мой Младший, ты научишься жить. Carpe diem. Ты будешь смаковать каждое мгновение, осушать его до донышка».
Глава XIX. Брайан
Брайану, когда он уйдет ко мне, будет шестьдесят два года. Стало быть, на то, чтобы осуществить свои мечты, ему остается всего десяток лет: куда менее продолжительный отрезок времени, чем он думает, он-то рассчитывает на большее… хотя, если бы некто взял на себя труд поинтересоваться (да только никому не любопытно), в чем состоят его нынешние мечты, ему нелегко было бы на это ответить. Одно из его желаний, которое он сам считает скромным, но уже с незапамятных времен перестал надеяться на его исполнение, — это чтобы гудение в его правом ухе когда-нибудь умолкло. Тут он не добился и краткой передышки. Испробовал единственное средство, предложенное врачом: выбить клин клином, то есть и в другое ухо вставить гудящий аппаратик, громкость которого можно регулироватъ; этот добровольно допущенный контролируемый звон, как предполагалось, может заставить его мозг "забыть» о звоне бесконтрольном.
Бедный Брайан. Он до того измучен, где ему почувствовать, как я следую за ним по пятам — в тот день, в Париже, и вот он заходит в магазинчик почтовых открыток. Они с Бет приехали сюда, чтобы провести отпуск вдвоем, но Бет сегодня решила устроить сиесту — забралась в кровать и свернулась клубочком, а ему захотелось прогуляться по улице Риволи. Случайно наткнувшись на этот прелестный бутик на улице Сен-Мартен, он принялся выискивать какую-нибудь старинную открытку, чтобы послать ее Ванессе. (Она недавно вышла замуж, живет с мужем-звукоинженером в Де-Мойне, штат Айова, и ждет своего первого ребенка; Джордан вот уже несколько лет не подает признаков жизни; что до Чер, дочери Брайана от первого брака, ему удалось почти забыть о ее существовании с тех пор у как она перестала выколачивать из него деньги; но свою Ванессу он любит до безумия…) И вот, склонясь над коробками старых почтовых открыток (они там разложены по рубрикам: «Строения» — Мулен-Руж, дворец Трокадеро, Сакре-Кёр; «Провинции» — Лангедок-Руссильон, Шарант-Маритим, Рона-Альпы; «Другие страны» — Соединенные Штаты, Япония, Испания и «Темы» — цветы, дети, животные), он лихорадочно ищет открытку, при виде которой глаза Ванессы заблестятI сердце забьется быстрее, а на губах проступит ласковая улыбка при мысли о ее старом папочке с седоватой бородой. Но все открытки кажутся ему глупыми, не подходящими к случаю или слишком пейзажными, а если нет, тогда они снабжены надписями, в которых он ни слова не понимает… и вот пока он таким манером наклоняется вперед, обливаясь потом, задыхаясь, с возрастающим нетерпением роется в коробках, крошечные тромбоциты без его ведома скапливаются в одной из артерий, поскольку дорогу им преграждает атерома; кровь внезапно перестает циркулировать и, даже напрягая все свои силы, не может прорвать затор; лицо Брайана бледнеет, будто он только что узнал прескверную новость, да новость и впрямь не из лучших, но узнать ее он не успевает; он бел, как полотно, его лицевые мышцы разом одрябли, его мозг бурно протестует против нехватки кислорода и кричит, как полицейский: «Эй! Что тут происходит? Циркулируйте, циркулируйте! Живо разойтись!» — но его воля подобна регулировщику уличного движения, размахивающему своим жезлом в Каллагэнском туннеле в час пик: никто на него не обращает внимания и никому не прорваться, даже «скорой помощи» с панически ревущей сиреной и красным вертящимся фонарем, — нет уж! — путь закрыт раз и навсегда, закупорка окончательная. Брайан валится на коробки с почтовыми открытками, и столик, на котором они расставлены, ломается под тяжестью его тела. Сталкиваясь и скользя, груда падающих коробок заставляет его опрокинуться на спину, и вот он умирает, раскинув руки крестом между собором Нотр-Дам и монастырем Мон-Сен-Мишель, резвящимися пестрыми гейшами и серпантином Великой Китайской стены, старыми бруклинскими мостами в черно-белом изображении и смешным чопорным пуделем с помпоном на хвосте. «Черт!» — хлопая себя по лбу, кричит владелец магазинчика и бросается оценивать степень причиненного ущерба, высчитывать, сколько драгоценного времени теперь придется убить — "Черт! Черт!» — сперва на то, чтобы убрать крупногабаритный труп этого туриста, а потом на разборку и новую расстановку тысяч открыток, которые он умудрился-таки разметать во все стороны.
Глава XX. Бредни
Гордый своей маленькой речью, Хэл спускается в гостиную и с удивлением обнаруживает, что Хлоя исчезла. На миг его посещает дикая мысль, что она решилась вернуться домой пешком и в эту самую минуту, уподобившись одному персонажу из его романа, отважно борется с яростным ветром и слепящим снегопадом. Потом, настроившись на более рассудительный лад, он спрашивает себя, не в туалете ли она. И наконец замечает ее светловолосую макушку в дальнем конце комнаты: присев на низенький табурет подле кресла-качалки Арона, она с пустыми глазами вежливо кивает головой, а старик подробнейшим образом описывает ей руки Беллиниевой Мадонны.
Да что, собственно, на этого типа нашло? Что наехало? — недоумевает она. Можно подумать, он хочет клин ко мне подбить. Невероятно. Противный какой, руки корявые, кожа пятнистая, шея складчатая, как у ощипанного петуха, волосенки седые и до того редкие, аж розовый череп просвечивает. Никогда не любила снимать клиентов старше пятидесяти, чертову прорву времени потеряешь» пока добьешься, чтобы у них встал. С Хэлом-то все иначе. Когда он меня в постели обрабатывает, выходит вполне терпимо, ну, понятно, если зажмуриться, пока он раздевается. Он такой нежный… и потом, все остальное время он так со мной нянчится, почти как мать… Не наша настоящая родительница, Кол, а помнишь, такая, какую мы с тобой любили вместе придумывать. Такая, чтобы по вечерам читала нам вслух и устраивала для нас пикники на пляже.
— Привет, моя прелесть.
При виде Хэла Хлоя проворно вскакивает, радуясь возможности быстренько положить конец бредовым разглагольствованиям Арона о красоте ее рук. На свете нет ничего красивого, говорит она себе, все человеческие тела некрасивы, кроме тела моего брата. (Был такой случай, один клиент предложил ей пятьсот долларов только за то, чтобы она пошла с ним в кино и держала его, пока они будут смотреть фильм. «Я тебя не трону, клянусь», — сказал он. «О’кей», — согласилась Хлоя равнодушно. Ей случалось и раньше смотреть порнофильмы, но обычно на кассетах в гостиничных номерах. «Это подлинная история, — предупредил ее клиент. — И хочешь верь, хочешь нет, а героиня — из Ванкувера!» Стало быть, она оказалась там, единственная женщина в полупустом зале, где зрители — сплошь мужчины, все поодиночке, и уставилась на экран, стараясь расфокусировать взгляд и, мысленно задернув изображение туманной пеленой, спроецировать на нее свой собственный фильм, меж тем как ванкуверская служанка предавалась вихрю страстей из «Плейбоя»; когда фильм пошел к концу, клиент приказал: «Глаза держи открытыми!» — и, сжав пальцы Хлои на своем раздутом члене, стал водить ее руку вверх и вниз, другие мужчины в зале тоже расстегнули ширинки и, вытащив свои пенисы, принялись надраивать их до странности синхронно (как в симфоническом оркестре по телику, подумала Хлоя, когда смычки у скрипачей поднимаются и опускаются все разом), а клиент между тем не спускал глаз с Хлои, смотревшей на сцену, которую он знал наизусть: в страдании, исказившем ее черты, он, как в зеркале, видел образ хорошенькой служанки, привязанной к механизму, все туже сдавливающему металлическими хомутами ее конечности с каждым толчком пениса насильника, тогда как режущие лезвия все глубже врезались в ее плоть. Это все нарочно, снова и снова твердила себе Хлоя, она не взаправду умирает (и была права: все это, разумеется, являлось не более чем видимостью, студийной имитацией; фильм принадлежал к числу классических образцов «жесткого» порно, и только, — будь это snuff, его бы не демонстрировали в обычном кинозале в центре Ванкувера); тем не менее сцена выглядела реальной, вот в чем дело, и, когда женщина на экране начала с изнурительной постепенностью тонуть в собственной крови, в зале раздались первые эякуляционные похрюкивания, теперь уж безо всякой синхронности, разрозненные, непредсказуемые, как последние вспышки отсыревших петард на том празднике 24 мая, когда Хлоя была маленькой…
Тогдашний опыт осквернил ее руки, отныне бесповоротно испорченные. Постепенно, частями, все ее тело подверглось такой же порче — обезболенное, онемевшее. Вся беда именно в этой оцепенелости, не в стыде, как думает Хэл, не в позоре. Единственно позорным было то, что Хлоя, в отличие от Колена, от этого не умерла. Что ее тело еще продолжает функционировать: может ходить, говорить, улыбаться, сжимать руки, одеваться и раздеваться, заниматься любовью, даже зачать ребенка, родить, кормить грудью… это и впрямь непристойно теперь, когда для нее все не в счет, ничто ее не трогает, так мало в ней осталось живого.)
— Все в порядке? — шепчет ей Хэл, когда она подходит к нему. Хлоя пожимает плечами, кивает, но возводит глаза к потолку, как бы говоря: ах, этот старый недоумок… — Ты, наверно, устала, — говорит Хэл голосом, полным любви и отеческой заботливости. — Главное, не принуждай себя оставаться здесь через силу. Ты можешь уйти спать, когда пожелаешь. Никто тебя за это не осудит. Каждому понятно, что кормящая мать…
Хлоя вновь пожимает плечами, на сей раз досадливо, лишь бы отделаться от него. Она опять забивается в угол дивана и погружает взгляд в разноцветные кольчатые переплетения коврового узора.
А выглядит она все-таки усталой, думает Хэл; и верно, лицо Хлои бледно, черты заострились, под глазами круги. Тяжело плюхнувшись рядом, он обнимает ее за плечи жестом доброго медведя-защитника, но она снова отталкивает его.
— Это альбом с фотографиями? — спрашивает Чарльз, беря с палочки под крышкой низенького стола толстую папку. — Можно посмотреть?
Он никогда не мог устоять перед такими альбомами, хотя знал, что фотографии лгут. (Например, от их путешествия в Долину Памятников осталось фото, изображающее его стоящим перед знаменитой скалой Рукавицы: под каждой рукой по сыну, на физиономии ослепительная ухмылка… Щелк-щелк.)
— Валяй, — говорит Шон. — Это старье, шестидесятые годы. Я его раскопал, когда маму отвезли в тот… «дом», подумал, может, это подстегнет ее память.
— И как, получилось?
— Да нет. Она в своем пути вспять тогда уже дошла до сороковых.
Само собой, думает Бет. Ведь микроскопические кровоизлияния, характерные для болезни Альцгеймера, наступают в обратном порядке по отношению к миелинизации нервной системы. Сначала они поражают риненцефалон, потом лимбическую систему и, наконец, кору головного мозга, в то время как у растущего ребенка сперва развивается кора, потом лимбическая система и в последнюю очередь риненцефалон. Ты так и не узнал всего этого, папа, говорит она себе. Когда ты умер, медицина делала лишь самые первые шаги в изучении природы старческого слабоумия… Ах! Как бы ты упивался этими новыми открытиями! Какие волнующие разговоры у нас были бы! Тебя всегда привлекали, будоражили те области, где граница между телом и душой размыта… И в самом деле, что может быть увлекательнее, чем разрушение личности бета-амилоидными бляшками?
— Кто это? — спрашивает Чарльз.
— А, это… мой… гм… полагаю, что это мой третий отчим. Мортимер, да, так его звали. Шелковистые усы, толстые мягкие губы… Он все докучал мне поцелуями, чтобы снискать благосклонность мамы. К тому же он просто невообразимо портил воздух. Настоящий воинский перд, достойный сержанта-инструктора. Каждое утро после завтрака: тра-та-та-та, смир-рно!
— Ха-ха. А здесь тебе сколько, лет десять?
— Нет… Это, кажется, в шестьдесят шестом? Мне сравнялось тринадцать. Какой я хиляк, а?
Пока мужчины разглядывают фотографии маленького Шона и его юной родительницы, Кэти созерцает их склоненные головы. У всех, за исключением Чарльза, волосы сивые, если не сплошь седые, или редкие, лбы испещрены пятнышками, вены на руках вздуты… Боже мой, у Шона даже старческие веснушки уже проступают! И как у него руки дрожат, когда он переворачивает страницы… Ах, Дэвид, мой дорогой, эти фотоальбомы…
(Что я заметила сначала, спрашивает она себя, шум или запах? Думаю, что шум. Моему мозгу наверняка удалось заблокироваться, не воспринять запаха до того мгновения, пока он не хлынул в коридор, в нескольких шагах от двери комнаты Дэвида. Но не воспринять лая Клеопатры не было никакой возможности. Собаку красивого рыжего лабрадора — они подарили Дэвиду много лет назад, когда прибыли в Новую Англию. Теперь уже старая, полуслепая, Клео явно была вне себя, ее неистовый, яростный лай ужаснул Кэти. Но вместе с ужасом шевельнулось другое чувство… то, в чем невозможно признаться, — облегчение. Да, шагая вверх по лестнице, она не переставала наблюдать за собой изнутри; она с предельной ясностью замечала щели и трещины каждой деревянной ступеньки, видела свои собственные ноги в сандалиях и то, что на ногте большого пальца правой ноги отшелушился кусочек лака, а про себя твердила: «Вот и все. Вот и все». Сердце колотилось, и она заметила ритмическое расхождение между его ударами и неумолкающим лаем Клеопатры, их темп не был одинаковым, но они регулярно совпадали… словно «тик-так» двух будильников в одной комнате, давно, в те времена, когда Кэти была маленькой, а будильники еще тикали… Потом к этим двум ритмам подметался третий, более стремительный: это Лео стучал в дверь. Но Кэти уже твердо знала: он может сколько угодно стучать, колотить в дверь ногами, дубасить изо всех сил, Дэвид не выйдет, чтобы им открыть. Ей хотелось сказать мужу: «Он мертв, мой ангел», — голос ее прозвучал бы убедительно и трезво… но она не смела произнести эти слова, боялась потрясти его, увидеть, как он побледнеет, пошатнется, безудержно зарыдает. Он мертв, мой ангел, — теперь, зная это, она хотела уберечь Лео от такого знания. Для него это будет страшным ударом, говорила она себе. Но сама она испытывала… что же это было? да, непонятное, не поддающееся описанию, но безусловное облегчение. Что-то вроде освобождения. Этому конец, говорила она себе, между тем как Леонид, перестав барабанить в дверь, стал толкать ее плечом. Теперь всё позади, думала она, а дешевый замок отскочил, дверь внезапно распахнулась внутрь, Клеопатра запрыгала вокруг них с истошным лаем, как безумная. «Все хорошо, моя милая, все хорошо», — бормотала Кэти. Она погладила собаку, чтобы ее успокоить, а сама торжественно внушала себе: «Сейчас ты должна повернуться и посмотреть на кровать, и тогда твои глаза увидят безжизненное тело твоего сына» — все это в одно мгновение, — но прежде чем она успела додумать мысль, Леонид издал гортанный вопль, рывком вытолкнул ее из комнаты и притиснул к грязной желтовато-коричневой стене коридора; он дрожал всем телом, потом отвернулся, и его вырвало. Собака, на шатких лапах топчась возле них, больше не лаяла, но как-то по-заячьи верещала да поскуливала, путаясь в ногах, мешая двигаться вперед, даже если они отныне перестали понимать, что значит это слово — «вперед», куда им двигаться начиная с сегодняшнего дня, к чему, зачем.)
— Гляди-ка, твоя мама недурно смотрелась в бикини!
Какое ослепительное чудо, думает Патриция. Ей, загипнотизированной танцем световых бликов на бокалах с шампанским, опять вспомнились церковные витражи. Я всегда, даже ребенком, любила все, что блестит и переливается, вроде тех маленьких разноцветных мельничек, можно купить такую на ярмарке, и она потом будет крутиться на ветру, и мажоретки мне нравились, их тросточки, вертятся с такой скоростью, что виден только туманный круг, и цирковые акробаты, их невесомые тела рассекают воздух, превращаясь в звезды, в цифры, в чисто геометрические фигуры… А еще бриллиантовые диадемы, мерцающие жемчужины, драгоценные камни, искрящиеся сланцы. И сами эти слова тоже люблю — «блестеть», «сверкать». И слово «блеск».
— Ну, вот. Эти сделаны в то лето, которое мы провели в Вермонте, изображая нормальную американскую семью, по всем статьям здоровую. Нас туда затащил Джек, мой второй отчим. До крайности нервный субъект, Джек этот. Ногти так грыз, что догрызал до крови. Из кожи вон лез, силился научить меня рыбачить, охотиться и ругаться, любой ценой хотел сделать из меня мужчину. Его выводило из себя, что я читаю, да к тому же поэзию. Полнейший псих.
— Это заметно, — обронил Чарльз. — У него сумасшедший блеск в глазах.
— В самом деле? Ты умеешь это определять, а?
Странно, что он сказал про «блеск» в тот самый момент, когда я о нем подумала, про себя удивляется Патриция. Возможно, что это телепатия. Мне очень нравится Чарльз. Если бы только он был немножко менее напыщенным…
— Еще как! — отзывается Чарльз.
Точно такой же блеск был во взгляде его лицейского тренера по бейсболу. Мистер Родес, Бог ты мой, я еще помню, как звали этого болвана. Целую вечность о нем не вспоминал. Он все норовил меня этак по заду потрепать в раздевалке, как бы невзначай, хе-хе. Настаивал, чтобы я получил стипендию по легкой атлетике для поступления в Чикагский университет. «Нет, мистер Родес, я хочу заниматься литературой». А он мне и говорит: «Оставь Шекспира белым». Да, так в точности и брякнул: «Оставь Шекспира белым». Мой родитель думал приблизительно то же, но резоны имел другие. Мы с тобой его разочаровали, а, Мартин? Ты преступник, я литератор: оба отказались подхватить из его рук знамя Правого Дела… Но я потому и нырнул в книги, что папина одержимость политикой побудила меня к бегству. Я не желал провести свой век, без конца доказывая, что имею право жить. Я хотел… всего, папа. Всего, что мир мог мне дать. Чтобы и ногами на земле, и головой в облаках. Иметь право думать о разных вещах, не только о черных и белых. О Новой Англии, к примеру, раз я теперь живу здесь, а стало быть, она принадлежит и мне тоже: ее дремучие леса, глубокие сугробы, дикие звери, «пусто в полях, вены кюветов, смерчики снега, как пряди волос на ветру…».
— Почему же Мэйзи его не видела? — задумчиво произносит Шон. — Эх! Ведь недурная форель попалась, а? И вид у меня такой гордый! А все равно представить не можете, что это был за кошмар — тот день! Джек разжег костер, чтобы испечь форель на древесных угольях, но дрова отсырели, горело плохо, и он разбушевался. Стал грубо придираться к маме, а она сидела в шезлонге и дулась все сильнее. К тому времени, когда форель наконец испеклась, все уже были слишком подавлены, чтобы есть, и Джек вышвырнул ее в озеро, а нас повез в Сомервилль, гоня по лесным дорогам на совершенно убийственной скорости, а мы с мамой тряслись на заднем сиденье, цепляясь друг за друга.
— Нормальный финал веселых каникул, — усмехнулся Чарльз.
— Я всю жизнь потом спрашивал себя, какое впечатление на других рыб произвело внезапное появление той печеной форели.
«А в Припяти, где мы с отцом, бывало, рыбачили, рыба уже никогда не станет съедобной», — думает Леонид. (Его отец скончался первым, за ним, обнаженная, невесомая, беспамятная, ушла мать, а он не поехал в Белоруссию даже на их похороны. Чтобы он наконец вернулся, примчался домой, потребовались Чернобыль, непоправимое заражение рек, полей и лесов, милых его сердцу… и еще смерть Григория, безумное отчаяние Юлии, рак щитовидной железы у маленькой Светланы… Да, он прилетел на погребение Григория, но никому не позволили приблизиться к телу. Гроб и тот был радиоактивен, его обложили стальными листами, поверх них свинцовыми и, поместив все это внутрь огромного бетонного саркофага, закопали на кладбище в Митино, поодаль от прочих. Отныне на родине Леонида даже мертвые стали бояться мертвых.)
— Психотерапия — это полная противоположность, — изрекает Брайан, поглаживая бороду, — жест, хорошо знакомый Бет и означающий, что супруг готов пуститься в пространные разглагольствования
— О чем ты толкуешь? — хмурится она. — Чему она противоположна?
— Фотоальбомам. В них жизнь припомажена, сусальна, а в сфере психотерапии все трагично; таким образом, истина находится где-то посередине между этими двумя полюсами. Однажды я повез Нессу в Нью-Хемпшир покататься на санках. Сколько ей тогда было, не помнишь, Бет, три или четыре?
Бет вздыхает: эту историю она успела выучить наизусть и знает, что на нее хватило бы одной минуты. В этом отношении Брайан начинает смахивать на своего отца, даром что эта его черта была одной из тех, которые сын особенно в нем презирал и высмеивал: в старости Брайанов родитель изводил собеседников байками без начала и конца, но с массой доводящих до отчаяния отступлений… Брайан пока еще не теряет нити своих рассказов, но с каждым годом они становятся все более аморфными и растянутыми… И это, может быть, только начало, думает Бет, пройдет еще лет двадцать, и он, чего доброго, докатится до такого же недержания речи, как у его папаши, а других вообще перестанет слушать, даже знать не пожелает, в первый раз он это рассказывает или им давно надоел его сюжет… Такая перспектива ее по-настоящему пугает, про себя Бет уже решила, что она в таком случае сбежит. (В Майами.)
— Это было во время рождественских каникул, — начинает Брайан. — Бет была на дежурстве в больнице, а Несса мне и говорит: «Смотри, папа, снег пошел! Не покататься ли нам на санках?» Ну, я повел ее на холм Монаднок, и мы провели всю вторую половину дня, барахтаясь в снегу, как сумасшедшие…
(Бет поедает жареную свинину с картонной тарелочки. Она облизывает пальцы, покатываясь со смеху, пропускает добрый глоток пива… Уже перевалило за полночь, а она сидит с Федерико за раскладным столиком в суетливом кубинском квартале Майами: дым завитками курится над жаровнями, из радиоприемника несется ритмичная буйная музыка, вокруг них то и дело раздаются восклицания по-испански и смех, Федерико ласкает белые босые ступни Бет, лежащие на его голых черных ляжках.)
— Что-то около половины пятого Несса начала уставать, и я ей обещал, что мы спустимся на подвесной канатной дороге. Но мы подоспели как раз к закрытию. «Мне очень жаль, — заявил нам этот тип, — но мы работаем только до захода солнца». Итак, мы застряли на вершине горы. Делать нечего, оставалось спуститься на санках.
(Бет в номере отеля «Гайэтт» в Майами. Она готовится провести вечер с Федерико. Глядит на свое отражение в зеркале ванной, и ей нравится это тело, потому что Федерико находит ее красивой, раз в жизни собственные формы кажутся ей не жирными, а щедрыми, и волосы в крутых завитках — не столько раздражающими, сколько сексапильными. Неужели она вправду станет крутить любовь с этим незнакомцем, возможно ли такое, да, она знает, что это произойдет, она встретила его позавчера, когда спускалась к пляжу после долгого дня в душном помещении, на медицинском симпозиуме, по дороге ей на глаза попалась тележка мороженщика, и она не смогла устоять перед искушением. Протягивая ей рожок с тремя шариками ванильного, Федерико воскликнул: «Ах, как бы я хотел сейчас быть на месте этого мороженого!» — и Бет прыснула, захваченная врасплох таким дурацким комплиментом. Через минуту они уже откровенно флиртовали, и она с изумлением чувствовала, что питает к этому незнакомцу абсолютное доверие и была бы готова, чтобы не сказать счастлива, отдать свое тело в его руки. Раньше они никогда не изменяла Брайану. Собственное поведение казалось ей необъяснимым, но от этого она только воспламенялась еще жарче.)
— Снег больше не шел, но начинало темнеть и похолодало… Я усадил Нессу между колен, и мы тронулись… Но снежная пыль летела ей прямо в лицо, так что через несколько минут она принялась хныкать. Тогда я, как известно, будучи гением, остановил санки и поменялся с ней местами. Таким образом, она оказалась, как за каменной стеной, упрятана за большую теплую спину своего папы, и теперь снег бил в физиономию уже не ей, а мне.
— И впрямь гениально, — говорит Патриция. Она спрашивает себя, как некоторые люди умудряются рассказывать такие зубодробительно скучные истории. Ей самой на вечеринках вроде этой редко случается произнести три фразы кряду, так она боится надоесть своим собеседникам.
(А теперь они занимаются любовью на белых отутюженных простынях огромной кровати Бет в отеле «Гайэтт», овеваемые свежим ветерком, идущим от кондиционера, а за оконным стеклом колышутся пальмы, мерцает синее море, все усладительные штампы Флориды тут как тут, собрались, чтобы отпраздновать их соединение.)
— Когда мы вернулись домой, — продолжает Брайан, — Несса бросилась к Бет со словами: «Мы ехали на санках, снег бил меня в лицо, это было ужасно!» Я запротестовал: «Эй! Минуточку! История на этом не кончилась!» И потом каждый раз, стоило ей вспомнить наш спуск, она принималась ужасаться своим страданиям, которые продолжались всего одну десятую часть пути, и совершенно позабывала о героической самоотверженности родителя, хотя она растянулась на остальные девять десятых.
(Четыре часа утра, по радио передают ностальгический вальс, и Бет танцует с Федерико на балконе своего гостиничного номера. Она гладит седоватые колечки волос на его впалых висках. Она засыпает в его объятиях. Они вместе принимают душ, по губам Федерико струится теплая вода, смешиваясь со слюной, живот у него округлый и мягкий, как у нее самой, его коричневая кожа гладка и туго натянута, а грудь безволоса. Брайан, тот весь в шерсти, с головы до пят. Она и забыла, насколько различными в сексуальном отношении могут быть мужские тела: за долгие годы она впервые так близко видит настоящего мужика, голого, живого, чье тело не требует от нее принятия неотложных медицинских мер.)
— Я хочу сказать, — не унимается Брайан, он слегка возвышает голосу чувствуя, что теперь кое-кто из сотрапезников и впрямь его слушает, — что люди бегают к психоаналитикам, вываливают им все свои горести, сетуют на судьбу, выпрашивая жалость, скулят, рассказывая, как плохо обращались с ними их родители… и нет никого, кто бы потрудился томности ради сделать простенький расчет: «Эй! А как обстоит с остальными девятью десятыми спуска? А то блестящее решение, которое нашел твой папа, чтобы снег не бил тебя в лицо?» Да, мне сдается, что надо бы реформировать теорию психоанализа в той ее части, где…
— Чихал я на психоанализ, — перебивает Шон, протягивая ему бутылку шампанского. — Ох, Брайан, да твой бокал пуст! Позволь мне его наполнить.
(Бет с Федерико в лифте, уже девять утра, и это ее последний день в Майами; облаченная, как это принято в подобных случаях, в небесно-голубой брючный костюм, с часами на браслете и бляхой с ее именем, она отправляется на последнее заседание своего симпозиума. Пока лифт, битком набитый врачами, спускается на первый этаж, где должно состояться это заседание, Федерико безудержно хихикает при виде их именных блях: «Элизабет В. Реймондсон (Бет)», «Джозеф Л. Блэк (Джо)», «Дорис Р. Дарлингтон (Дорри)», «Нэнси Г. Савицки (Нэн)»… Когда лифт останавливается, доктор Савицки пропускает их к выходу первыми, и Федерико, проходя, шепчет ей на ухо: «Спасибо, Нэн». Она так и подскочила, потом, смутившись, бросила ему вслед сдержанное: «Не за что!» — но они уже выскочили вдвоем в холл, задыхаясь от безумного хохота и безумной любви. У входа, на верхней ступени гостиничного крыльца, ослепленные утренним, но уже вовсю пылающим солнцем, любовники сплелись в долгом прощальном поцелуе… потом Бет повернулась. Пошатываясь, вошла обратно в сумрачную свежесть вестибюля.
Услышав «какой стыд!» и вздрогнув, она уверила себя, что нет, ошиблась, эта фраза конечно же не могла быть обращена к ней, но так оно и было — вон Дорис Дарлингтон со злобным видом сверлит ее глазами. Бет мгновенно соображает: ах да, поцелуй! Доктор Дарлингтон шокирована нашим прилюдным объятием, страстным, чувственным, межрасовым. На исходе дня она садится в самолет до Бостона и никогда больше не услышит ни слова о Федерико, но две недели спустя, узнав, что беременна, окажется не в силах уберечься от навязчивой мысли, столь же кошмарной, сколь неистребимой, что ребенок от него, своей темной кожей он ее изобличит и Брайан, когда он родится, будет рыдать в отчаянии или холодно отвернется от нее…)
Ужасно, если разобраться, без всякой связи с чем бы то ни было думает Хэл. Возможности нашего мозга так огромны, а мы требуем от него столь малого. Он подобен орлу, с которым обращаются, как с канарейкой: его заперли в тесную клетку, он обречен прыгать, вместо того чтобы парить, рассекая воздух.
— Брайан не так уж не прав! — говорит Рэйчел. — То же самое можно было бы сказать о литературе. Она мрачнее, чем реальность, потому что писатели одержимы интересом к мукам и конфликтам…
— Мрачнее, чем реальность? — изумляется Шон. — Ты шутишь?
Кое-кто из присутствующих смеется.
— Нет, в самом деле, — гнет свое Брайан. — То место, что страдания занимают в нашей памяти, несоизмеримо с тем, которое приходится на них в действительности. Воспоминания типа «ни то ни се» отправляются коту под хвост, а ведь в большинстве они именно таковы.
Все отправляется коту под хвост, дурачина ты этакий, думает Шон. Все рассеивается и без следа исчезает, именно поэтому оно так прекрасно. В том тексте, где Ионеско обращается к своей смерти… ну, написал-то он его чуть раньше, ибо даже великому мэтру абсурда не дано посылать нам факсы с того берега… Посмотрите на милые бедные руки моей жены, говорит он, руки, в которые я некогда влюбился, такие тонкие, изысканные и нежные, посмотрите на них теперь, пятнистые от старости, искривленные от мук… В сущности, утверждает он, конец является целью всего сущего: в школу ходишь, чтобы перестать в нее ходить, принимаешься за обед, чтобы его доесть, и живешь, чтобы не жить больше. Но он ошибался, мысленно продолжает Шон, вскрывая новую пачку «Уинстона», он был не прав, дражайший румынский носорог, потому что все это тем не менее для чего-то служит, вопрос для чего, так вот, именно для этого: люди в этой комнате и множестве других комнат, все, что они говорят и делают, сложная, с бесчисленными взаимными переплетениями хореография их судеб, мечтаний, которые они лелеют и разделяют, выигранных и проигранных пари, узнанных и позабытых фактов, книг прочитанных и написанных, — я обожаю все это. Я обожаю, обожаю, обожаю такую жизнь — бесценную, волшебную! — у меня нет ни малейшего желания с ней расстаться.
— Мне понравилась твоя история, — говорит Хэл, и Брайан уже зарделся, гордый, что сумел рассказать так энергично и связно, донести свою мысль, чем-то заинтересовать романиста, которым он восхищается, — ты не будешь против, если я ее использую в своем новом романе?
— Ты в самом деле думаешь, что на Клондайке имелись подвесные канатные дороги? — без улыбки вопрошает насмешница Бет.
— Нет-нет, разумеется, все подробности у меня будут другие. Я сохраню только структуру рассказа. Его глобальный смысл, понимаешь, что я имею в виду?
— Для меня это было бы величайшей честью, — заверяет Брайан, а сам уже видит свое имя напечатанным в конце книги, среди тех, кому автор выражает свою признательность.
Глава XXI. Бет
Узнав о кончине Брайана, Бет понимает, что колокол прозвонил и по ней. Она выходит из полицейского участка, возвращается в номер гостиницы, окна которого глядят на шумную улицу Риволи, и там, сотрясаемая спазмами, начинает задыхаться, вращая глазами. Это самый доподлинный приступ астмы: первый со времен Декатура, той далекой Пасхи, желтого платьица, подвала, пропахшего плесенью. И сколько бы она ни трясла свой ингалятор, дыхание никак не восстанавливается; если бы не юный полицейский, который проводил ее от участка до самого номера (потому что Бет пышностью телосложения и волосами, крашенными хной, смутно напоминала его мать) и, увидев, что приступ нарастает, проявил достаточное присутствие духа — вызвал по мобильнику «скорую», Бет, возможно, отошла бы ко мне в тот же день.
Однако у меня были другие планы на ее счет. Нет, мне с моей неподражаемой склонностью к произволу вздумалось сорвать этот цветок необычайно бережно и с особой сноровкой.
Итак, много лет спустя, став шарообразной, дородной, тучной, бойкой и невообразимо престарелой особой, имеющей семерых внуков (двоих от Ванессы и… пятерых от Джордана!) и семнадцать правнуков (обойдемся без подробностей), которых она любит с улыбками и подмигиваньями угощать добрыми советами и старыми байками XX века, Бет однажды вечером уляжется в кровать в прелестной маленькой гостинице Рокпорта, штат Массачусетс, заботливо выбранной Ванессой для их совместного отдыха, и примется за чтение второго тома «Исповеди» Жан-Жака Руссо. Погасив лампу у изголовья, сонная и довольная, она глубоко вздохнет… это и будет миг, избранный мною, чтобы явиться и погасить ее самое. Моя рука, как нож в масло, пройдет сквозь ее сиреневую ночную сорочку, сквозь вялую морщинистую кожу, объемистый бюст и кости грудной клетки, чтобы овладеть сердцем.
Бет легонько вскрикнет от удивления, ее сердце взволнуется на миг, встрепенется три-четыре раза, да и затихнет. И не кто иной, как Ванесса, зайдя назавтра поутру посмотреть, проснулась ли мама, нежно закроет навсегда ее большие голубые глаза.
Глава XXII. Немного уныния
Люди не представляют себе, сколько адского труда требуется для написания романа, брюзжит про себя Хэл, опустошая третий фужер шампанского и тотчас наливая четвертый. Они воображают, что достаточно просто брать да и переносить на бумагу разные пережитые разности, и баста. А ведь это., парни, та еще работенка! Все равно что возводить какую-нибудь гадскую пирамиду! Шампанское, бродящее у него в мозгу, пропитывает этот образ, не прочь поиграть с ним. Я черный раб, говорит он себе, босоногий, полуголый, я тащу каменные плиты через бескрайние пространства раскаленных песков. Я мумифицированное тело фараона, запрятанное в нутро священного камня, дабы его дух мог отправиться в царство вечной жизни. Я архитектор и старший мастер, надзирающий за работами, в моем ведении сокровища и пот, пропитание и палящее солнце, пустыня и тайна. Гм! А ведь недурно, усмехается он, чувствуя, как божественное дыхание вдохновения распирает его грудь. Пожалуй, можно будет ввернуть это в какую-нибудь главку…
Хлоя нежно приваливается к нему, ее глаза закрыты, руки уронены на колени, лежат ладонями вверх на алой ткани платья, поза безмерного детского доверия. Ей можно дать четырнадцать лет, думает Хэл. Что за прелесть. Какое счастье, что я успел вытащить эту малышку из канавы, пока ее душа еще не затронута.
(На самом-то деле Хлоя не спит. Ей не по себе, она как будто больна. Сама того не желая, она возвратилась в тот незабываемый день, когда они с Коленом… Они там вместе, брат и сестра, растянулись рядышком на постели. Поскольку на улице жарко, они оставили окно открытым, и сейчас легкий ветерок, касаясь их обнаженной кожи, отливающей алмазным блеском, привносит свою долю в опьянение их любви. И тут в распахнутое окно влетает птица. Брат и сестра вскакивают, смеясь. Они голы, белы, высоки и огромны — кокаин продолжает действовать, они все еще боги. Какой породы эта птичка? Они не имеют об этом ни малейшего понятия, отродясь не интересовались орнитологией, однако это воробей. «Провидение бдит надо всем, вплоть до падения воробушка, — как говаривал принц Гамлет, даром что они и Шекспира никогда не читали, — вся суть в том, чтобы быть готовым». Они загоняют птичку в угол на кухне, и Колен исхитряется накрыть ее полотенцем. Хохоча от всей души, он несет свою добычу к столу и усаживается за него. Пальцы его правой руки кольцом охватывают дрожащую тоненькую шейку воробья, и Хлоя завороженно наблюдает панический ужас птицы. Какой смысл бороться, чтобы остаться в живых? — спрашивает она себя. Нет в этом никакого проку. Тут они перестают смеяться и принимают суровый вид… совершенно так же, как десять лет назад дружок их матери строго хмурился, приказывая им спустить штанишки. Их сияющие глаза становятся весьма сосредоточенными. Пальцы Колена крепче сжимают птичью шею. Воробей отчаянно бьет крылышками, и электрический ток возбуждения сотрясает нагих богов с головы до пят. Трепет наслаждения, более мрачного, чем то недавнее, светоносное, что пронизывало их золотистые тела на белоснежных простынях, снова влечет их друг к другу. Неудержимо. Хлоя берет свою шкатулку для шитья и достает иглу. Усевшись рядышком с братом, она медленно вонзает ее в правый глаз птицы. «Не втыкай слишком глубоко, — бормочет Колен. — До мозга чтоб не достало, а? Не надо его убивать». — «Ладно», — шепчет Хлоя. Пальцы их босых ног подрагивают под столом, отзываясь на судороги птицы. Хлоя вынимает иглу из правого глаза и погружает острие в левый. Это вправду не шутки? — спрашивает она себя ныне, четыре с половиной года спустя, сидя на канапе Шона Фаррелла, мертвенно-бледная, тошнотворно обмирающая, с зажмуренными глазами вспоминая ту сцену. Потом они ощипывали птичку. Выдирали у нее перья одно за другим, а крошечное создание пищало и мучительно корчилось в лапах этих громадных божеств. Как, когда оно испустило дух? И как они после этого поступили с его маленьким тельцем? Она уж и забыла, но только когда потемки прирезали день, они оба были словно в накидках из кровавой кисеи. Ей припоминается нож… да, точно: Колен, все время напоминая ей, что надо подольше сохранить воробушка живым, отрезал ему перочинным ножиком крылья. Когда он впервые отключился, Колен даже попросил Хлою побрызгать ему прохладной водой на головку… и воробей ожил, чтобы еще почувствовать, как ему вспорют живот кончиком перочинного ножа… Ах, покончим с этим, хватит, Хлоя ничего больше не помнит…)
Она открывает глаза.
— Ты уснула, — говорит Рэйчел, растроганно посмеиваясь.
— Когда кормишь грудью, очень устаешь, — замечает Бет.
— Не хочешь подняться наверх и вздремнуть? — спрашивает Хэл все тем же, что и раньше, ласковым тоном.
— Оставь меня в покое! — яростным шепотом осаживает она его.
— Какая ты счастливая, что можешь вот так задремать! — говорит Рэйчел. — У тебя был такой умиротворенный вид…
— Рэйчел буквально одержима бессонницей, — поясняет хозяин дома.
«Обязательно всем знать, что ты спал с ней», — про себя отмечает Дерек.
— Когда-то у меня тоже были проблемы с бессонницей, вставляет Арон, — и мне частенько помогало радио — послушаю его и успокоюсь. (В последние годы своей жизни на юге Африки он, ложась спать, включал музыку как можно громче, потому что боялся услышать во сне крики молодого парня, которого на его глазах изуверски умерщвляли в Йоханнесбурге: все то время, пока алые, зеленые и белые всполохи от его волос подбирались к автопокрышке, облитой мазутом, и его глаза лопались, кожа таяла, а язык начинал запекаться, жертва кричала пронзительным, нечеловеческим криком… невыносимым… незабываемым…)
— Хо-хо! — говорит Дерек. — Не забывайте, что с ней рядом в кровати присутствует муж!
«Обязательно всем знать, что ты с ней спишь», — про себя брюзжит Шон.
— Разумеется, — говорит Арон, — но она, вероятно, могла бы надевать наушники?
— А Канта почитать не пробовала? — спрашивает Чарльз.
— Очень смешно! — Рэйчел пожимает плечами.
— Прошу прощения, — усмехается Чарльз.
— Может, тебе стоит посчитать баранов? — предлагает Патриция.
— От них никакого толку, — вздыхает Рэйчел. — Каждый раз, когда я пытаюсь считать баранов, густое руно одного из них непременно цепляется за ограду загона. Чем больше этот баран мечется, тем сильнее запутывается, и не успеешь оглянуться, как он уже весь обмотан колючей проволокой. Прибежавший пастух находит лишь содрогающуюся на земле бесформенную массу окровавленной плоти и, желая положить конец его страданиям, со всего маху бьет его кувалдой по голове… И вы хотите, чтобы я после этого заснула?
Почти все смеются, но Чарльз поражен словами Рэйчел. Ничего удивительного, если у дочки Дерека нелады с психикой, говорит он себе, поднимаясь с места, чтобы поставить новый диск: «Лучшие медленные фокстроты». Затем Чарльз отходит к окну и, осознав, что он в ярости, однако же здраво оценивая количество алкоголя, бродящего в его жилах, твердо решает сохранять самоконтроль, не кипятиться, не позволить себе взорваться так, как сделал бы его родитель, а лучше продолжить спор между двумя оппонентами мысленно, избавив от этого остальных присутствующих…
(Для начала он задает Рэйчел вопрос, почему евреи так самодовольны в своих страданиях, потом без особой логики переходит к обличению еврейского произвола, царящего в Голливуде, каковой, по его мнению, и порождает неистребимые расистские настроения в умах американских белых; он спрашивает у нее, почему в первой трети XX века президенты США, проповедовавшие расовую ненависть, возведенную в систему, не подверглись столь же радикальному остракизму, как Сталин за ненависть классовую; в завершение он рукой мастера обрисовывает старинное соперничество между евреями и черными: первые — народ Книги, чья самобытность неуничтожимо закреплена в памяти, вторые — носители устной культуры, само воспоминание о которой уничтожено… А проблема компенсации потомкам рабов, у которых украли все? А горечь как единственное наследство наших детей? Уф! Не прошло и пяти минут, как он, с блеском очертив круг этих вопросов и одержав над Рэйчел сокрушительную победу, почувствовал себя лучше. Ему удалось, никого не задев, излить свою желчь. Это Мирна его научила такому приему: люди никогда не меняют своих мнений во время разговора, утверждала она. Подобные перемены могут происходить только в тишине и одиночестве, благодаря чтению или уединенным размышлениям где-нибудь в укромном уголке… «Вот почему то, что ты пишешь, очень важно», — сказала она тогда, страстно сжимая его в объятиях. Никто больше никогда не говорил ему, что его писания так важны…)
Когда он вернулся на свое место, разговор шел о литературе. Поди пойми, как им удалось от истребляемых баранов перейти к изящной словесности: как бы то ни было, теперь Хэл напыщенно толкует о Толстом — о дикой непропорциональности его человеческих и писательских масштабов.
— Повествователь в нем выше, чем моралист, — вещает Хэл, — а моралист значительнее человека. Пережив приступ мистицизма, Толстой становился чем дальше, тем более нервным и несносным. Он выходил из себя оттого, что был не в силах отказаться от хрустальных бокалов и задирания ног в постели с Софьей, вот и стал проводить дни в проповедях сексуального воздержания, бичуя пристрастие к материальным благам. Он даже хотел помешать своим дочерям выйти замуж! В свои восемьдесят это был настоящий негодяй: черствый, злобный, нетерпимый.
Откуда такая жесткость, Мирна? — думает Чарльз. (Свою диссертацию он посвятил ревности: на шести сотнях страниц сопоставлял двух великих «женоубийц» западной литературы: шекспировского «Отелло» и «Крейцерову сонату» Толстого… В этой диссертации, чья сильно сокращенная версия вошла как одна из глав в его книгу «Черным по белому», он выдвигал на первый план следующее противоречие: в то время как большинство комментаторов связывают смертоносное умопомрачение Отелло с цветом его кожи — «торжеством его африканской сути, агрессивной и низменной, над его цивилизованной, христианской видимостью мнимого европейца», — но не нашлось ни одного, кто бы вздумал утверждать, что Позднышев поддался убийственному безумию из-за своей белой кожи. А почему? Потому что его белизна не цвет, не определяющий признак: невменяемость Позднышева возводится до «трагизма человеческой природы». О Мирна! Ты, белая, обманутая ради черной, ты тоже убила меня… из ревности! «К ней же самой испытанной, ею самой порожденной…» А между тем разве я не отдал тебе все, что имел? Чем могло угрожать тебе мгновение моей слабости? Неужели ты хоть одну секунду считала меня способным пустить в распыл наше счастье и жить припеваючи с Анитой Дарвен в Южной Каролине? Ах! Приступ бешенства, обоснованный или нет, справедливый или несправедливый, и вот Дез-де-Мирна покарала Отелло за интрижку в отеле!)
— Да ну! — ухмыляется Леонид. — Не очень-то серьезно призывать к сексуальному воздержанию, уже настрогав полтора десятка детишек.
Кэти смеется, по голосу мужа поняв, что он пошутил. Но разговора она не слушала, все ее помыслы сосредоточены там, в комнате на Пауэр-стрит.
(И тут их затопила волна зловония — запах мочи, экскрементов, разлагающейся плоти. То была плоть от их плоти в состоянии гнилостного брожения. «Не беспокойся, мой ангел, — пробормотала она Леониду, доставая платок, чтобы обтереть с его лица пот и остатки блевотины. — Все хорошо, все пройдет, не беспокойся». Так они простояли в коридоре с минуту, уцепившись друг за друга; потом, взявшись за руки, вернулись в комнату Дэвида. И увидели. На полу. Голый, без простынь, матрац. Трубку радиотелефона. А дальше — распластанное, недвижное, безжизненное тело своего младшего сына. Или то, что от него осталось. Поскольку Клеопатра, запертая один на один с трупом своего хозяина (Сколько дней так прошло? Возможно, что не три, а куда больше, семь или восемь. Когда они с ним говорили в последний раз? Кэти силилась подсчитать в уме: он звонил 24 июля, в день рождения Элис, стало быть, это выходит…), отгрызла ему левое плечо, большой кусок правой руки и часть лица. О, это к лучшему, снова и снова твердит себе Кэти. По крайней мере, ему больше не придется страдать. Тебе хорошо теперь, не правда ли, любовь моя? — мысленно обращается она к Дэвиду. Наклонясь над изможденным разлагающимся телом, Леонид поднял его, словно оно ничего не весило, и перекинул через плечо так, что голова и руки свесились спереди, а ноги болтались сзади, у него за спиной. И Кэти, идущая за ними вслед до двери, потом по коридору, видела, как джинсы Дэвида спустились с его тощих бедер, обнажив верхнюю часть ягодиц… От этого все в ней переворачивалось, хотелось подтянуть ему штаны, как она делала столько раз, когда он был маленьким, но она не осмелилась по такому пустому поводу потревожить Леонида просьбой опустить тело на землю… Так и шла за ним по лестнице, шепча про себя: «Все хорошо, мой ангел, теперь все будет хорошо…» На волне этой эйфории она продержалась все время похорон, соболезнующих визитов и последовавшие за этим недели хлопот, связанных с ликвидацией остатков внезапно оборвавшейся жизни их сына; лишь пол года спустя, однажды зимней ночью, в no man’s land[39] между бодрствованием и сном Кэти наконец постигла огромность своей утраты. Облившись холодным потом, она резко выпрямилась в кровати и на долгие часы застыла перед разверзшейся пустотой. Назавтра, принеся ей завтрак в постель, Леонид чуть не уронил поднос: волосы его жены, вчера еще черные как смоль, за одну ночь побелели.)
— В прошлом месяце я прочла потрясающий русский роман, — сообщает Бет. — Это называлось… как он назывался, Брайан?
— Понятия не имею! — Брайан легонько пожимает плечами, он больше не прислушивается к разговору, думать о нем забыл, он снова блуждает в пойме реки Сатхай.
(День уже клонился к закату, пожар заходящего солнца понемногу разгорался на вершинах гор, и тут вдруг, сверх всех ожиданий, Джек взял след. Наконец хоть что-то. Что именно, не важно. Событие. Надежда, к которой можно пришвартовать их мысли, затуманенные страхом. Не то чтобы нам так уж хотелось их изловить, этих вьетконговцев, вспоминает Брайан, но… будь что будет… лишь бы побыстрей скоротать этот день. Сто восемьдесят дней миновало, изволь отмотать еще его восемьдесят пять. Вот лейтенант Дуг Джонсон, черный верзила из Оклахомы, держащий на поводке собаку: он делает остальным знак «есть», и сразу каждый нерв их тел напрягается так, что готов лопнуть, градус внимания и бдительности максимальный. Потом — и это, как всякий раз, уму непостижимо — грохочет ружейный выстрел. Очумев, они озираются вокруг, ища, в кого попало на этот раз, кто валяется с развороченным брюхом… Но нет. Это Джек. Пес ранен. Не смертельно. Озверев от боли, он кидается туда, откуда стрельнули, изо всей силы рвет поводок. Дуг спускает его. Собака яростно бросается в сторону бамбуковых зарослей; две пули одновременно поражают ее прямо в грудь, и она оседает бесформенным комом. И тут происходит невозможное. Женщина. Женщина выходит из зарослей. Длинные черные волосы. Рубашка с короткими рукавами цвета хаки, такие же шорты. Полуголые руки и ноги изодраны колючим кустарником. Она бросила к их ногам свой пустой автомат, и они замерли, ошеломленно переглядываясь. Женщина-вьетнамка и семеро американских мужчин. Застывшие, неподвижные, как зной. Во взгляде женщины Брайан не смог прочесть ничего. Ни страха, ни отваги, ни заигрывания, ни бравады, ни отчаяния, ни вызова… ничего. Как он успел понять за эти шесть последних месяцев, такая невозможность расшифровать лицо врага портит тебя как человеческое существо, зато укрепляет как солдата. Потом женщина бросилась наутек, и они молча погнались за ней, топча землю вольным, мощным бегом: все то, что так тяжело давило их, вдруг стало легким, как горячий воздух. Несмотря на данную ей фору, они знали, что ее настигнут — сомневаться не приходилось, ноги-то у них вдвое длиннее, чем у нее, и вправду — за одну-две минуты дело было сделано. Они обступили ее, схватили, бросили наземь, в один голос издав дикарское рычание. Нежданный трофей. Вознаграждение за пережитый изнурительный день. Все, что последовало за этим, в памяти Брайана подернулось дымкой нереальности: он ничего не забыл, никогда не забудет, но во веки веков ни словечка об этом никому не проронит. Потому что… нет слов, чтобы такое выразить. Этакий древний обряд, достояние не индивида, но рода. Действо разворачивается в благоговейном молчании. Последовательность определяется воинской иерархией: Дуг пойдет первым, Брайан — последним. Свет дня умирает, и, пока джунгли мало-помалу утрачивают свои краски и очертания, Брайан чувствует, как желание все сильнее захлестывает его. Каждый его вздох переполнен желанием, в сердце его трепещет экстаз, во Вселенной нет ничего за пределами этого заколдованного круга черных и белых мужчин с желтокожей девушкой в центре… В то мгновение, когда первый проникает в нее, она вскрикивает, у нее кровь, и Дуг, чей бритый череп лоснится от пота, выплевывает сквозь зубы ругательство, удивленный, что она оказалась девственницей; потом все уста вновь немеют, нет больше ничего, кроме движений. Без спешки, без единого слова мужчины позволяют самым темным силам рода людского пронизывать их существо, чтобы потом излиться в тело женщины. О женщина, любимая, ненавидимая, вот, прими мое семя жизни, прими его и умри! Когда наконец приходит черед Брайана, он уже настолько вымотан этой мессой подлинной плоти и крови, что все происходит очень быстро: не успел он войти в девушку, как наслаждение, воистину подобное молнии, обжигает его, превращая в электрический провод под током, его мысль и личность начисто исчезают, на какую-то долю секунды он даже лишается сознания. Придя в себя, он встает, подтягивает штаны, шатаясь, едва держась на ногах, совершенно оглушенный, а другие, глумливо хохоча, толкая его и тряся, спрашивают, зачем он поцеловал жмурика. Не понимая, он опускает глаза, и Дуг, продолжая ржать, всаживает в голову женщины всю обойму своего автомата. Теперь ночной мрак уже стал непроглядным, они уверены, что с этим днем покончено, но тут они просчитались. Им еще остается кое-что пережить. Взрыв гранаты, брошенной вьетнамцем, который пробирался по берегу Сатхай, — та девушка служила ему проводником и, устранив собаку, сумела-таки уберечь его, заранее зная, какой ценой. Трое Джи-Ай убиты на месте, Дугу оторвало обе ноги, однако Брайан… что ж, Брайана даже не оцарапало. Он отделался безо всяких последствий, если не считать этого легкого дребезжания в правом ухе…)
— Да нет же, нет, я тебе говорила! — настаивает Бет. — Книга называлась… ммм… «Дети Медузы», или что-то в этом роде.
— Ты уверена, что речь не идет о «Смехе Медузы» Элен Сиксу? — спрашивает Патриция, которая наделала множество ксерокопий этого текста для преподавателей современной французской литературы.
— Ничего подобного. Говорю же тебе, это русская книга.
— Бет, если ты не в состоянии вспомнить ни имени автора, ни названия романа, Я замечает Брайан, изнемогая от раздражения, — мы будем без толку ломать головы…
— «Дети Медеи», вот! Не «Дети Медузы», а «Дети Медеи»!
— Медея убила своих детей, — напоминает Рэйчел.
— Я знаю, — говорит Бет, — но там про другую Медею, героиня обыкновенная женщина, она живет в Крыму, ее зовут Медеей, и к тому же детей у нее нет…
— Надо же! — перебивает ее Леонид. — Ведь и в самом деле… я когда-то знавал одну Медею… в Шудянах.
(Когда он прибыл на похороны Григория, его сестра там, на кладбище в Митино, устремила на него пустой взгляд и не сказала ничего. Ни слова. Но ее подруга Наташа, библиотекарша на пенсии, морщинистая толстушка, которую Леонид еще смог припомнить, хоть и смутно, а когда-то в пионерском лагере, пол столетия тому назад, ее лукавые черные глаза волновали его, — итак, на обратном пути Наташа отвела его в сторонку и рассказала, каким был конец сестрина мужа. Твой свояк испытал муки мученические, сказала она… и описала, как заживо разлагалось тело Григория, отнюдь не стремясь избавить его от подробностей. Юлии приходилось вводить мужу внутривенно неразбавленную водку, чтобы он мог хоть малость передохнуть, отключиться. Вся страна купается в водке, сказала ему Наташа. Служители морга, навидавшиеся на своем веку всяких ужасов, и те всегда требуют водки, когда приезжают забирать чернобыльцев. Пожарникам, приехавшим издалека для дезактивации региона, дано официальное предписание пить как можно больше под предлогом, что только водка помогает преодолевать последствия облучения… Стало быть, эти несчастные парни бродят по деревням, оглушенные алкоголем, разоряя все на своем пути, пристреливая собак и зарывая их в ямы скотомогильников, опустошая погреба селян, срезая слоями дерн и наворачивая его рулонами, убивая миллионы насекомых, хороня землю в земле. Ты уезжал из страны бреда, в нее же ты и вернулся, Леонид, сказала Наташа. Разумеется, Леонид не был лично ответствен за чернобыльскую катастрофу — Кэти тысячу раз твердила ему об этом, когда, воротясь в Соединенные Штаты, он каждую ночь рыдал в ее объятиях. И все же… Если бы он постарался, был бы хорошим сыном, он бы горы своротил, чтобы вытащить своих стариков родителей в Америку или, по крайности, устроил их в Минский геронтологический центр, тогда бы все обернулось иначе. Григорию и Юлии не пришлось бы переезжать на юг, Григорий уцелел бы, Светлана не потеряла бы отца, а Юлия не сходила бы с ума от тревоги за здоровье дочери и внуков, и так далее на всем протяжении четырнадцати миллиардов лет — срока, нужного для полураспада тория.)
— В самом деле, дорогой? — спрашивает Кэти, и разговор вдруг уходит в песок без толку, отправляется коту под хвост, Бет так и не суждено поведать собравшимся о том огромном счастье, которое она испытала, погрузившись в роман Людмилы Улицкой, чья героиня-поселянка, печальная и щедрая душой женщина, снедаемая давней потаенной скорбью, весь отпущенный ей век провела, расточая материнские заботы своим племянникам, племянницам, сестрам и кузенам.
— Не огорчайся, Бет, — говорит ей Дерек. — С нами это происходит то и дело, и со мной, и с Рэйчел. Наши разговоры чем дальше, тем больше смахивают на магнитофонные записи Уотергейта, только вместо ругательств смазаны имена собственные. Помнишь тот фильм, что мы смотрели, ну, б-и-и-п, да ты знаешь, его снял б-и-и-п, там еще б-и-и-п в главной роли, постой, постой, сейчас вспомню…
— А что, по-вашему, не забудется? — спрашивает Шон.
Глава XXIII. Леонид и Кэти
Смерть четы Коротковых будет не столь гармонична и опрятна, как та, что выпадет на долю Бет, но, по крайней мере, они уйдут вместе. Право же, для такой любящей пары, как эти двое, то, что я им припас, — конфетка, а не смерть. Ведь каждому из них тяжко было бы остаться на земле без другого. Стало быть, вот он, лучший исход: авиакатастрофа. Через шесть быстротечных лет.
По правде говоря, их затея слетать в Киев выглядела сущим безумием; деньги на билеты им пришлось занимать, однако повод у этого вояжа, как они считали, имелся достаточно веский, чтобы оправдать такие расходы: Светлана, юная племянница Леонида, собралась замуж! Ясно без слов, что Вадим, ее счастливый избранник, был тоже из «засвеченных», как там называют жертв облучения.
Когда случилась катастрофа, Светлана была совсем маленькой. Григорий, ее отец, работал в Чернобыле, там же семья и жила, совсем близко. Таким образом, когда загорелся четвертый реактор, он позвал свою жену Юлию, подхватил на руки Светлану, они все втроем вышли на балкон и стали смотреть. Зрелище-то и впрямь грандиозное! Это было ослепительнее, чем Четвертое июля на Манхэттене, завораживало сильнее, чем северное сияние за Полярным кругом. Фантастическое мерцание, раскаленный, слепящий малиновый свет. Чтобы поглядеть на это, люди сбегались со всей округи в радиусе нескольких километров, спешили туда на автомобилях, на велосипедах и пешком. Столпившись на балконах, они вовсю работали локтями, чтобы протолкнуться вперед, рассмотреть получше, и не уходили оттуда часами, застывали, широко раскрыв глаза и рты, глотая черную пыль и не обращая на это внимания. «Смотри! — шепнул Григорий на ухо дочурке. — Хорошенько смотри! Когда-нибудь ты будешь это вспоминать».
О, в тот день я развернулся на славу. Так дохнул, что всем и каждому просквозило шею, учинил знатный разгром в их хромосомах. За один вечер я устранил несколько миллионов потенциальных жителей Белоруссии и Украины. Назавтра Григория призвали на работы по рытью туннеля под реактором. Очень симпатичный малый этот Григорий. Я был доволен, что он и не подумал уклониться. Да уж, ликвидаторами я занялся, не откладывая это дело в долгий ящик. Что до прочих, им я дал возможность поползать по земле еще немного, исключительно ради новизны положения, желая посмотреть, что вытворит сотворенная мною радиоактивность с людской природой — тоже моим творением. Обожаю эксперименты подобного рода.
Светлана вскорости совсем облысела, ее пришлось положить в больницу; остаток своего детства она проводила попеременно то дома, то в клинике, но больше в клинике… Но, дожив до двадцати, решила выйти за Вадима и завести с ним детей, несмотря на всю рискованность этой затеи…
Так, стало быть, Кэти и Леонид Коротковы оказались на борту DC-10, в воздухе между Прагой и Киевом. В тот самый момент, когда старый тряский самолет приближается к Восточным Карпатам (он летает еще со времен чехословацкой «бархатной» революции, той давней поры, когда «Чехословакия» еще существовала), в его электросети происходит короткое замыкание, кабину пилота охватывает огонь, дым начинает медленно просачиваться в салон, самолет уже швыряет. А денек великолепный, солнечный, видимость превосходная, и значит, пассажиры получают возможность в полной мере осознать, что самолету не набрать достаточной высоты, чтобы перелететь через эту гряду Восточных Карпат. Внизу — сплошной сосновый лес: ничего похожего на посадочную площадку, годную для экстренного приземления. Сознание в таких случаях мечется в поисках спасительного выхода. Но спасения нет, это конец игры, как выразился бы Сэмюэль Беккет. М-м-м, да уж, отныне все эти человеческие особи у меня здесь, в ладони. Большинство из них, повскакав со своих мест, принимаются орать на несчастных, остолбеневших от ужаса стюардесс. Все в конце концов валятся на колени, просто потому, что слабеет мускулатура их ног, но едва дело доходит до коленопреклонения, как они, повинуясь рефлексу, тут же начинают молиться, извергая мне в уши бессвязный лепет, выпрашивая у меня чудо, которое вызволило бы их из этой скверной ситуации. Э, нет! Весьма сожалею! Этот самолет разобьется, друзья мои. Врежется в отвесный склон горы, к которой он неуклонно приближается. Если бы волосы Кэти уже не были седыми, сейчас им было бы отчего мгновенно побелеть. Но Коротковы не принимают никакого участия в окружающей суматохе. Они расстегнули свои пояса безопасности, повернулись друг к другу и крепко обнялись. Закрыв глаза, они переговариваются тихими голосами. Их слова предсказуемы и однообразны, но в них, по крайности, нет ничего истерического. «Я люблю тебя, Катя», — произносит Леонид. Он вспоминает, как ей нравилось заниматься любовью, когда она была беременна, она это просто обожала. Думает о каждой из ее четырех беременностей, Марти — Элис — Дэвид — Сильвия, в ту пору лишь крошечных безымянных головастиках, что плавали в заповедных глубинах ее тела, он прижимает к груди свою жену, припоминая все многочисленные позы, которые они тогда изобретали, сплетаясь в объятиях, ведь нельзя же было всей тяжестью наваливаться на это чрево, хранящее в себе жизнь… а Кэти, какую позицию ни выбери, обмирала от наслаждения, снова и снова радуясь плодоносности их любви. А сейчас она, прижимаясь к нему, вспоминает разные истории, которые муж так любил рассказывать в компании, она за без малого четыре десятилетия совместной жизни прослушала их все несчетное число раз, знает их наизусть, но ей никогда не надоедало слушать его. «Я люблю тебя, Лео, люблю тебя», — она твердит это сперва тихонько, потом все громче, громче, потому что шум и жара вокруг резко нарастают, стекла иллюминаторов там и сям начинают лопаться, самолет стонет, он больше не в силах удерживать в воздухе свой груз… Так на полпути между городами Тыргу-Муреш и Пьатро-Нямц эта парочка, уже, понятное дело, не слишком резвая, но умиляющая своей взаимной привязанностью, в клубах дыма отлетела ко мне, слившись в поцелуе; их мозг от недостатка кислорода отключился прежде, чем жар растопил их тела.
Глава XXIV. Воспоминания
— Что не забудется, как вы полагаете? — вопрошает Шон.
— Разве нам дано выбирать? — Дерек пожимает плечами.
— Я хочу сказать: считаете ли вы, что запоминается самое важное или мозг производит селекцию более или менее… гм… произвольную?
— Как я всегда говорю своим студентам, если хочешь писать, надобно смириться с погрешностями памяти, — изрекает Хэл.
— А я забываю своих студентов! — говорит Рэйчел. Порядком захмелевшая, она скидывает туфли и соскальзывает с кресла на ковер, усаживается между Шоном и Дереком — двумя мужчинами, которых любит. — Я забываю все, что касается их. Не только имена, лица, но и наши встречи, беседы, решительно все. Встретившись со мной несколько месяцев спустя, они ко мне разлетаются: «Послушайте, у меня возникла грандиозная идея для книги относительно Штукена Дурка на основе вашей лекции по поводу Штукена Дырка!» — а я даже не знаю, о чем они толкуют!
Чарльз смеется от всей души. Только что мысленно раздавив Рэйчел в лепешку, он теперь не испытывает к ней ничего, кроме самой искренней доброжелательности.
— Я, — признается он, — забывал дни рождения собственных детей. Прежде, когда мы еще жили вместе. Теперь-то я только о них и думаю. (До чего же ему хочется поиграть со своими мальчиками в бейсбол. Он судорожно сцепляет ладони, они так и чешутся от желания снова взять биту, ощутить удар по мячу — бац! — да, он и не глядя чувствует, что не промахнулся, все идет хорошо, просто отлично… И эта радость быстрого, долгого бега, когда он был мальчишкой, стремительная легкость его ног, взмахи локтей, такие резкие, что клапаны куртки подпрыгивали на боках, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, а дыхание оставалось ровным, неутомимым…)
— Я спрашивал не о том, что забудется, — настаивает Шон, — а о том, что, по-вашему, можно — или должно — не забыть никогда.
— Мне, — говорит Хэл, — запомнился один летний вечер в городе Бате. В Англии, — поясняет он, обращаясь к Хлое. — Тому уж, верно, лет тридцать, но это воспоминание, поди знай почему, неизгладимо отпечаталось в моей памяти. Ласточки кружили в темнеющем небе… За аббатством одинокий скрипач наигрывал ирландские мелодии, но звучали они замедленно, спотыкаясь, словно опьяненные печалью. Я так и вижу нежно-сиреневый небосвод, белые каменные стены аббатства, все явственнее принимавшие оттенок охры по мере наступления сумерек, и… несказанный покой, исходящий от всего этого.
— Вы поведали об этом в одном из ваших романов, — напоминает Брайан. — Разве нет? Там, где дело происходит в римских банях, встречаются двое пакистанских юношей… Как же это называлось?
— «Банный день», — ворчит Хэл, отчасти сконфуженный, отчасти польщенный.
— Точно! — восклицает Брайан. — Вы, наверное, потому и запомнили все так отчетливо, что написали об этом.
Присев на канапе, Патриция поджимает под себя ноги в нейлоновых чулках, открыв глазу еще несколько сантиметров прелестного бедра.
— Мне запомнилось, как я болела и бабушка приготовила мне горячую смесь лимонного сока с медом. Я уселась за кухонный стол и блаженствовала при мысли, что она это сделала для меня одной! Я смотрела, как она снует по кухне — дородная, легкая на ногу женщина, она готовила горячее питье для своей внучки, которая заболела ангиной, и было яснее ясного: ни за что на свете она бы не пожелала оказаться где-то в другом месте, заниматься чем-либо иным…
— Да, — сказал Дерек. — Мгновения — вот что нам остается. Я помню тот день, когда мне открылось понятие момента. Это был день моего рождения, мне исполнилось, должно быть, лет четырнадцать или пятнадцать, и родители повезли меня на ярмарку в Стейтен-Айленд. Была суббота, но отцу по известной ему одному причине после обеда пришлось отправиться к себе на завод что-то там проверять. Мы с матерью провожали его на паром и долго стояли на пирсе, махали ему. В толпе, окружавшей нас, все кому-нибудь из отплывающих махали, и я вдруг почувствовал: мы переживаем некое мгновение. Стоим здесь с поднятыми руками, мотаем ими в воздухе туда-сюда, хотим сказать: «Мы тебя любим! Мы еще с тобой! Тебя еще видно!» Паром отходил от пристани, потом разворачивался, набирал скорость, но мы всё махали. На отце в тот день был красный свитер, он выделялся среди пассажиров на борту, его можно было различить издали, он тоже махал своей маленькой красной рукой, а паром удалялся, и я смотрел, как отец становился все меньше… Мгновение длилось, тянулось… и вот ему пришел конец. Руки опустились; народ стал расходиться. Люди на пирсе сначала один за другим отворачивались от уходящего парома, потом отправлялись восвояси; те, что толпились на палубе, усаживались, разворачивали, как положено, газеты… Все было кончено. Тот момент нашего бытия, когда мы восемнадцатого августа тысяча девятьсот шестьдесят девятого года провожали отца на пирсе Стейтен-Айленда, отошел в прошлое.
Наступает долгое молчание; между тем диск «Лучших медленных фокстротов» подходит к концу, и Чарльз решает, что с него довольно, не станет он больше разыгрывать диск-жокея в угоду этим белым. Пусть выбирают себе музыку сами!
— С того дня… — продолжает Дерек, но для Кэти завершающая часть его повествования тонет в нежном мареве весеннего утра 1960-го… Небольшой городишко на западе Пенсильвании, ей тринадцать лет, она стоит посреди кладбища, рядом отец, он твердой рукой сжимает ей локоть, в самом буквальном смысле поддерживает ее; в настоящий момент они внимают молитве пастора, но вскоре придется приблизиться к могиле, им надо подойти первыми, остальные родственники и друзья последуют за ними, они пройдут перед могилой ее матери в ритме органной музыки, которую только что слушали в церкви, каждый поочередно остановится у ее гроба, наклонится, положит цветы, Кэти чувствует, как надвигается эта минута, по интонации пастора она догадывается, что проповедь близка к завершению, и после краткой паузы момент наступает, она идет к гробу с цветами в руках, пока цветы у нее, мама умерла еще не совсем, но вот она склоняется, протягивает руку, и в это самое мгновение, когда она вдыхает запах цветов и смотрит, как радужно переливаются от слез их краски, немыслимое совершается: ее пальцы, разжавшись, выпускают букет, их движение нежно, беззвучно, но его нельзя продлить, а как только цветы уронены, надо выпрямиться, отступить на шаг, отойти прочь от могилы, да, это она и делает сейчас, между тем как отец еще крепче сжимает ей локоть, шаг, второй, третий: ее мать мертва.
— Это было, когда я заканчивала лицей, — после новой паузы раздается голос Бет. — В те времена по радио часто передавали «Когда весна цвела», и, помню, я всякий раз слушала, как загипнотизированная. Дело в том… понимаете, я ведь думала, что еще не вошла в ту пору жизни, о которой говорится в песне. Мне казалось, я стою на пороге богемной свободы, о которой мне потом еще придется затосковать, и я тщетно старалась понять, откуда эта ирония в голосе певицы… Ты уж извини меня, Шон. — И она запела: — «Когда весна цвела, А мы не знали зла, Как сладко было ждать грядущих дней, Мы верили мечтам, И звонко пелось нам, Твоя рука была в руке моей!» Я поклялась себе, что меня-mo не поймать в ловушку, не дамся, я предупреждена и сумею использовать свою молодость на все сто… а потом… что ж… похоже, это «старое доброе времечко» так никогда и не наступило! Не припомню никакой поры восторгов, обольщений и танцев до упаду… А, Брайан? Ну, разве что промелькнуло… Мне и теперь случается, бродя по супермаркету, услышать мелодию той песни на синтезаторе, и… знаете, меня это просто убивает.
— Да, — обронила Рэйчел.
— А мне, — заявил Брайан, теперь уже опьяневший настолько, что речь его звучит не совсем внятно, — мне вспоминается день, когда я развел костерок в гараже. Мой родитель снял ремень и отхлестал меня по голому заду, я потом целую неделю сесть не мог… Еще помню, как сдох мой хомяк: я расплакался, а папаша залепил мне пощечину и обозвал мокрой курицей…
— Ну, как всем известно, — усмехается Шон, — воспоминания негативного плана занимают в нашей памяти непропорционально большое место…
— Я помню ужас, который пережил, когда меня отправили в лагерь, — вставляет Чарльз.
Как всегда при этом слове, Рэйчел приходится, внутренне содрогнувшись, напомнить себе, что речь идет не о концентрационном лагере, нет, никто и в мыслях не имел ничего подобного; лагерь, куда попал Чарльз, был не из тех, где миллионам европейских евреев выжигали татуировки на предплечье, брили головы, нещадно избивали, морили голодом и душили газом, вешали и расстреливали; здесь, в Соединенных Штатах, лагеря предназначены исключительно для каникулярного досуга, развлечений, укрепления здоровья и занятий спортом, призванных развивать у юношества мускулатуру и чувство локтя; они с Шоном испытывали известное недоверие к мероприятиям подобного рода — Рэйчел потому, что они ей напоминали пропагандистские фильмы нацистов, где так и кишели молодые, полные сил арийские тела, рвущиеся покорять все вершины, выигрывать все эстафетные гонки, истреблять всех евреев; для Шона же все это служило лишним подтверждением его подозрения, что американцы склонны лелеять свою дикарскую суть: гордятся собой, перемалывая крепкими зубами кровавые бифштексы и сырые овощи, рыская пешком по лесам, кишащим голодными медведями и ядовитыми змеями, ночуя на голой земле наперекор полярной стуже или тучам мошкары, общаясь между собой посредством односложного рявканья… а ведь сколько уже воды утекло с тех пор, как человечество изобрело мягкие постели, автомобили, кулинарные изыски и утонченную поэзию! «Почему, — однажды спросил он Рэйчел, с озадаченным видом качая головой, — наши яппи на каникулах превращаются в пещерных людей?»
— Я хотел одного, — продолжает Чарльз, провести каникулы дома, болтаясь с приятелями где вздумается и объедаясь комиксами… Вместо этого меня под предлогом, будто мне нужны свежий воздух, физические упражнения и уж не знаю, что еще, загнали к черту на кулички коротать лето в компании совершенно незнакомых ребят.
— Со мной та же история, — вздыхает Хэл. — Эх, как же я ненавидел эти лагеря!
Летние лагеря, говорит себе Рэйчел. Не концентрационные, а просто летние.
— А я, — произносит Арон, — вспоминаю, какая грусть на меня напала, когда родилась моя первая дочь. Черри… Я вернулся из клиники, утром это было, послушал баховский «Магнификат», солнечный свет потоками врывался в дом…
— С чего ж вы тогда загрустили? — перебивает Хлоя, которая слушает разговор урывками, то и дело задремывая и связывая как придется мелькающие в полусне спутанные образы — какой-то перс или пирс, супермаркет, хомяки…
— Все было так прекрасно… и я вдруг осознал, что лучше не бывает, отныне все может только ухудшаться.
(Он еще припоминает летний день 1939 года, когда они с Николь, его в ту пору совсем еще новоиспеченной супругой, зачали Черри. Николь настояла, чтобы он отправился с ней в Бретань знакомиться с ее родителями: изнурительное свадебное путешествие, занявшее полтора месяца из-за транспортных ограничений, маниакальной бдительности пограничной охраны, обысков, допросов. В облаке счастья проплывая по миру, замершему на пороге Страшного Суда, они на пароходе, идущем из Лорьяна, причалили к дикому, скалистому острову Круа. Время перевалило за полдень; о, немыслимая красота мгновений нашего прибытия! Берег серой скалой врезался в море под серым небом, и чайка, стремглав снова и снова налетала на нас, оседлав ветер, то взмывая вверх, то камнем устремляясь вниз, этот ее полет, чудо бездумного инстинкта, меня аж до самых кишок пронял. Николь-то просто радовалась возвращению домой, но я… я был оглушен, этот пейзаж меня изумил, потряс… солнце, которое, пробиваясь сквозь нагромождения облаков, придавало напластованиям кристаллического сланца оттенок старого золота… а там, вдали, мириады звезд, вспыхивающих на колеблемой ветром морской глади… и такая замысловатая, упоительная для глаза и ума геометрия рыбьих скелетиков и перьев чаек, которые я собирал на пляже… Да, неутомимые, гениальные усилия жизни, жаждущей обновления, ее беспощадная формальная изобретательность, ее великолепное равнодушие к охраняемым территориям и перекраиваемым границам, шлагбаумам и колючке, к ручным пулеметам и личным досмотрам, к свободным и оккупированным зонам… Вскоре после этого обитатели Круа приступили к сооружению ужасного цементного бункера под той самой скалой, где мы стояли с Николь… но в тот день красота облекла нас и затопила: едва различимая линия горизонта, запах рыбы, крики чаек, улепетывающие через поляны зайцы, пьянящий дух вереска и жимолости, подмешанный к ароматам клевера, папоротника и дикорастущей шелковицы, и машинерия наших собственных тел, что стучала, разоргевалась и умащалась, пока мы шагали, обнявшись, на ветру, вздымавшем наши волосы и сердца, а после соскальзывали наземь, чтобы предаться любви посреди пустоши, где, насколько хватал глаз, вздувались и опадали заросли ярко-желтых ромашек.)
— Ну, а мне, — заявил Шон, — не забыть, как я провел шесть часов в аэропорту Сан-Диего, ожидая пересадки.
— Это кошмар, время убитое впустую, — с живостью подхватывает Рэйчел.
— Ох, — Шон вздыхает, — но ведь приходится его где-то убивать.
— Кэти! — восклицает Леонид. — Помнишь автостоянку аэропорта Дорваль, мы тогда отправились погостить к Элис? Место Си-пятьдесят два, я не ошибаюсь?
— Да разве это можно забыть! — отзывается Кэти. — А помнишь тот волшебный наклонный выезд над восемьдесят четвертом шоссе, ну, тот, когда едешь на Манхэттен и надо попасть на шестьсот восемьдесят четвертую автостраду?
— О несравненный наклонный выезд! — смеется Леонид. — Да-да, впервые мы его одолели в семьдесят втором году, потом в восемьдесят пятом, а начиная с девяностого приходилось иметь с ним дело не реже чем раз в год… А тот коридор, помнишь, в Центральной бостонской больнице… О-хо-хо, этот старый добрый коридор с его стенами цвета рыжей блевотины, где мы прождали больше четырех часов, это было, когда Марти защемил себе палец вафельницей?
— Ну да! — кивает Кэти. — А станция обслуживания… ты не забыл ту маленькую хорошенькую станцию Эксон на полпути между Метьюченом и Ньюарком?
— Надо же, я ее тоже знаю! — вставляет Дерек.
— Дорогой, а помнишь тот день, когда ты сел на семьдесят девятый автобус? — продолжает Кэти. — По-моему, это было в конце шестидесятых, мы жили возле остановки «Амстердам», а работал ты на Третьей авеню?
— Собственно… гм… не знаю, какой день ты имеешь в виду. — Леонид пожимает плечами. Ведь я одиннадцать лет ежедневно пользовался одним и тем же автобусом.
— Нет ты не мог забыть! — горячится Кэти. — Это было в июне месяце, в час пик, автобус застрял в пробке, пассажиры, измученные, потные, толкались и наступали друг другу на ноги…
— Само собой, — ворчит Леонид, — припоминаю, я мог бы насчитать этак с полсотни подобных дней, так что продолжай…
— Ну, как тебе еще напомнить… Ах да, знаю! На обед я в тот вечер приготовила рыбные биточки!
— Ага, да, верно! Теперь у меня забрезжило… Ну да, ну да… Биточки с кетчупом, правильно?
— Точно! И я их подала с хлебцем «Вондер» и маргарином, вспоминаешь?
— Вспомнил! Уф… так это ж тот самый вечер, когда Элис обрезала себе ногти на больших пальцах ног, я не ошибся?
— Совершенно верно! — торжествуя, кричит Кэти.
— А зона отдыха? — спрашивает Леонид. — Эта дивная зона отдыха возле автострады два-А, ты ведь понимаешь, о чем я толкую? Мы там остановились с Марти, чтобы он пописал, ему тогда было года три.
— Не уверена, — бормочет Кэти. Она снова, в который раз, чувствует, как ее затопляет волна жара, подступая к шее, потом медленно, неумолимо поднимается, обдавая лицо… О, только бы другие подумали, что она краснеет от стыда за свою слабую память.
— Как же ты могла позабыть зону отдыха? Это в двух милях от «Бургер Кинга»… Помнишь? Чуть-чуть не доезжая магазина «Эймс»…
— Ах, этот «Эймс»! — восклицает Хэл, не желая оставаться в стороне. — Мы говорим об одном и том же «Эймсе», не правда ли? Там еще автомат с жевательной резинкой у самой кассы, верно? Когда попаду в рай, я рассчитываю приобретать себе трусы не иначе как в «Эймсе»!
— А я помню запястья Даниэлы Денарио, — севшим от вина голосом произносит Патриция. — А вы-то, вы помните, какие у нее были запястья?
— Ну конечно, — откликаются разом несколько голосов, — да-да, разумеется. С тех пор прошло уже… сколько?..
(Даниэла ей приснилась на днях, все же невероятно, как она, профессор, преподаватель классической итальянской литературы, уроженка Лукки, смогла вдруг заинтересоваться Патрицией, простой секретаршей кафедры, правда, отпрыском итальянского семейства, но американкой в третьем поколении, выросшей в бедном квартале Южного Бостона. Даниэла без устали расспрашивала Патрицию о ее житье, пригласила ее в «Стар-букс», где подавали скверную подделку под капучино, потом повела к себе домой, чтобы угостить капучино настоящим… Одним словом, она ее выбрала в подруги. Два года они виделись по нескольку раз в неделю: чирикали по-итальянски, дымили сигаретами, шили занавески, обменивались сплетнями и байками… а еще случился между ними однажды неловкий, но незабываемый, долгий, трепетный поцелуй. Даниэле, ей одной, Патриция призналась, что она подростком воровала деньги из церковной кружки для пожертвований, месяцами выуживала оттуда по нескольку медяков в неделю, и как потом, скопив внушительную сумму — пятнадцать долларов, — субботним вечером втихую ускользнула из дому, чтобы повидаться с Кончитой, своей закадычной подружкой из колледжа Небесных Врат. Девушки отправились на ближайшую дискотеку и там, взбудораженные оглушающей музыкой и ритмичным миганием стробоскопа, тряслись до зари не хуже самого Траволты. «Я так никогда и не осмелилась сознаться в этом священнику», — вздохнула Патриция. «Но это же сущие пустяки! — воскликнула Даниэла. — А уж в сравнении с моим преступлением это просто-напросто милый маленький грешок! Однажды, когда в честь дня Успения Богородицы по улицам Лукки носили статую Пресвятой Девы, я стянула несколько купюр по десять тысяч лир из тех, что были пришпилены к ее одеянию. Я притворялась, будто прикрепляю туда новые купюры, а сама вместо этого нагло обжуливала Богородицу, понимаешь?» Как это может быть, что ее больше нет? — спрашивает себя Патриция. Рак мозга. Под конец она уже не могла ориентироваться даже в собственном квартале… а потом потеряла зрение. О, Даниэла… Возможно ли, что ты умерла уже так давно? Что я помню, что мне осталось от тебя? Нежная кожа. Прихотливые, шикарные ухватки… До невозможности изысканная хрупкость запястий… Манера причесываться, стягивая волосы на затылке. И твоя любовь ко мне. Спасибо, Даниэла.)
Бедная Патриция, думает Шон. Похоже, Даниэла была для тебя одной из первых больших утрат. Она даже не подозревает, что ее еще ждет. Не знает, каково жить в окружении фантомов, смотреть, как твои родные и близкие один за другим на твоих глазах соскальзывают в бездну, а самому оставаться здесь, в бессильной оторопи… И тебе туда же? О нет, нет). Всякий раз чувствуешь, что горе будет слишком огромным, что Земля перестанет вращаться или по меньшей мере ты сам спятишь… Но нет, все и дальше идет, как шло. От потерь опоминаешься, как от ударов ногой в живот: дыхание перехватывает, но пошевелиться не смеешь, вот и живешь дальше, занимаясь своими делами, стыдясь, что так сильна инерция, побуждающая продолжать жить, хотя ушли все те, чья любовь, как ты считал, только и удерживала тебя на этом свете…
— Я запомнила последние слова моего отца, — говорит Рэйчел. — Мне было тринадцать. Мы с матерью пришли в больницу проведать его, и он нам сказал: «Как там котельная, нормально работает?» Он пролежал четыре дня в коме, а когда очнулся, это была его первая мысль — хорошо ли работает котельная? Была середина зимы, на улице около минус пятнадцати, и в подвале только что установили новый котел. Тогда мать погладила его по волосам, вот так, и говорит: «Да, Борух. Тепло, просто чудесно». — «Ладно, — отвечает отец, — значит, все в порядке. Я хочу, чтобы вы никогда не мерзли». Тут я забеспокоилась, родители беседовали слишком ласково. Обычно-то они бранились с утра до ночи, чтобы затеять грызню, годился любой предлог, от Ясира Арафата до того, как лучше готовить яичницу-глазунью. Потом отец снова впал в кому. И когда назавтра мы снова пришли, его уже не было. Я взяла его руки в свои, они были как лед. (Поняли они или нет? — спрашивает себя Рэйчел. Я им разжевывать не стану… Он не хотел, чтобы мы мерзли, а потом сам…)
— А ты, Хлоя? — утомленный, Шон с тяжким вздохом оборачивается к ней. — Есть у тебя воспоминания, которые стоило бы хранить?
— Не бог весть что, — роняет Хлоя мечтательно. — Но я, помню, однажды переспала со своим старшим братом.
— С родным братом? — ошеломленно переспрашивает Хэл.
— О Господи! — выдохнула Бет. Ее истомленной душе в который раз представляется сцена в подвале с дядей Джимми, вспоминается одновременно и собственное желание выйти замуж за своего отца, и она ко всеобщему изумлению вдруг разражается слезами. Лицо ее мгновенно распухло, перекосилось, она икает…
С недобрым, хоть и без злого умысла, любопытством Рэйчел примечает, с какой поразительной быстротой плач обезобразил Бет: всего за несколько секунд побагровел нос, на щеках проступили пятна, в судорожно сведенных чертах изобразилась отталкивающая маска отчаяния.
Брайан в бессознательном порыве бросается ее утешать… но тут она, пытаясь встать, своим объемистым бедром задевает низенький стол, и тот опрокидывается: пошатнувшись, скользят и, разлетаясь со звонким стеклянным грохотом, рушатся на пол пепельницы, бутылки, фужеры.
— Ай-яй-яй-яй-яй! — восклицает Чарльз.
— Ах ты, черт! — не выдерживает Патриция, ее белый кружевной корсаж весь в частых брызгах шампанского. Не надевая туфель, она мчится на кухню за веником и совком.
— У меня складывается впечатление, что эта вечеринка подходит к концу, — замечает Рэйчел.
— Это неприятная случайность, — произносит Арон, не покидая кресла-качалки. — Я видел, как все произошло. Не было никакой преднамеренности, просто маленькая катастрофа.
Бет все еще плачет горючими слезами, уронив голову на плечо мужа, а Брайан тихонько баюкает ее, гладит по волосам, будто свою дочку.
— Я пошутила, — шепчет Хлоя Хэлу: он отвел ее в сторонку, под лестницу, и, заставляя смотреть ему в глаза, крепко держит за остренький подбородок, зажав его между большим пальцем и указательным.
— Так у тебя не было никакого брата? — допрашивает он.
— Ну само собой, не было. Мне просто захотелось их малость встряхнуть.
— Ладно, если ты этого добивалась, тут ты преуспела! — заключает Хэл со смешком, в котором слышится облегчение, но можно догадаться, что он еще и восхищен.
И в то время как Патриция сметает на совок окурки и осколки стекла, а Кэти, вооружась рулоном туалетной бумаги, с превеликим тщанием осушает пропитанный шампанским ковер, Шон закуривает свою последнюю на сегодня сигарету.
— Не пойти ли нам вздремнуть? — вопрошает Дерек.
— А все-таки, Шон, это был славный праздник, — говорит Патриция, снова влезая в свои лодочки. (Когда она приняла свое первое причастие, мать в кои-то веки купила ей те самые башмачки, о которых она мечтала: лакированные, из черной кожи, до того блестящие, что в них можно было смотреться, будто в зеркало; всякий раз, опуская глаза, она чувствовала прилив радости оттого, что они такие шикарные, ремешки и пряжки замечательно оттеняли белизну стопы в подъеме.) — Мы хорошо повеселились… даже если и перебрали малость.
— Давай-ка, приятель, обращается к Шону Чарльз, — ступай спать. Самое время отправиться баиньки. — И хлопает его по плечу, совершенно так же, как, бывало, трепал за плечо своего младшего брата Мартина, прежде, когда они оба были подростками и худшими бедами, что могли с ними приключиться, были плохая отметка по математике, проигрыш в бейсбольном матче или отказ родителей отпустить их в кино.
— Держите, — предлагает Рэйчел. Она выходила и теперь вернулась со стопкой одеял, подушек и спальных мешков, извлеченных ею из бельевого шкафа Шона. — Пусть каждый отхватит себе по одеялу и подыщет уголок, где можно поспать час-другой.
Но никто не спешит тотчас исполнить это, все на какое-то время застывают на прежних местах, недвижные, разобщенные, близкие лишь по видимости. Наступившее молчание продолжительнее, чем все паузы этого вечера. Их взгляды блуждают по ковру или останавливаются, зацепившись за какой-нибудь из окружающих предметов, между тем как мысли, слова, образы и воспоминания теснятся, перемешиваются в извилинах мозга… Три часа ночи, и они чувствуют, как гнетут их тяжесть съеденного, дрема, алкоголь и бремя лет…
Друзья — это все, что у нас есть, говорит себе Дерек. С ними проживаешь жизнь, вроде как в семье, надо их принимать, как есть, со всеми достоинствами и недостатками, даже если со временем у недостатков появляется тенденция к обострению, а достоинства только и делают, что смазываются. Гм… по-моему, это довольно глубокая мысль… хотя завтра утром я наверняка посмотрю на нее другими глазами. Просветления — вещь хорошая, но беда в том, что они мимолетны. Согласно писаниям буддистов, учителю достаточно пробормотать мантру, чтобы с глаз его ученика спала пелена. Но никто же не говорит о том, как обстоят дела с этими глазами назавтра или, допустим, год спустя. Что до меня, с моих-то гляделок пелена спадала уж и не знаю сколько раз… Я зряч, потом слепну, потом ненадолго прозреваю снова.
Бог создал человека, ни с того ни с сего думает Хэл, тот создал Бога, который создал человека, и так далее, ad infinitum.
Косули этой осенью стали настоящим бедствием, думает Кэти, мысленно сочиняя письмо своей покойной матери. Они опустошают сады… объедают кору молодых деревьев…
Когда был мальчишкой, никогда и вообразить бы не мог, до какой степени тяжелая у взрослою жизнь, думает Чарльз. Боже праведный, Марти, у тебя даже не было времени осознать это! Ты возвратил свой билет в восемьдесят пятом! Твое фото отпечаталось у меня в мозгах, я таскаюсь с ним, годы проходят, а оно застыло, не меняется: знаешь ли ты, приятель, что начинаешь становиться смешным? Тебе давно бы пора избавиться от этой афропрически! Таких уже никто не носит! Ты сущий младенец, Марти! Черт возьми, когда ты, наконец, соблаговолишь повзрослеть?
Во всей этой литературе, которую преподают студентам, во всем, что написано, не хватает самого важного, говорит себе Рэйчел. Среди массы книг так редки те, что повествуют об угасании желаний. О том, как красота становится уродством, о нашей уязвимости, о страхах. О перехватывающей горло скорби.
Какое пронзительное озарение обжигает тебя, раздумывает Леонид, когда ты наконец начинаешь постигать правила игры. Видишь, как слабеют и умирают твои родители, как твои дети стремительно набираются сил и дерзости, и понимаешь: да, теперь их черед краснеть, хихикать, затевать шашни…
Шон, в молчании уставившись на необратимо пустую бутылку «Шива Ригэл», задает себе вопрос, на что похожа смерть. Мысленно он обходит по кругу всех тех, с кем ему сейчас нужно примириться. Извини, пап. И ты, мам, прости. Прости, Патриция. Прости, Джоди. Прости, Рэйч. Прости, Дерек. Прости, Лео. Прости, Кларисса. Прости, Кэти. Прости, Зоэ, если тебя вправду так звали. Прости, Хлоя. Прости, Чарльз. Прости, Арон. Простите, мои милые студенты, такие усидчивые и прилежные. Простите, мои славные коллеги и сограждане. Прости, Пач… Но, ох, все ж таки я сочинил несколько хороших стихотворений!
Глава XXV. Шон
Шон Фаррелл покинет сей мир не так безотлагательно, как вы могли бы предположить. У него впереди еще добрых два года. Впрочем, так только говорится — «добрых». В общем-то годы будут не того сорта, чтобы кому бы то ни было захотелось иметь их впереди. Подобные годы решительно всякий предпочел бы оставить позади, и притом как можно дальше…
Итак, Шон. Ему, совсем как Светлане, суждено напрочь лишиться волос, — впрочем, он еще раньше успел потерять немалую их часть, а потому его внезапное облысение не так сильно поразит тех, кому он дорог. Друзья не преминут поддержать его… в той манере, как утомленные стрессами американцы начала XXI века имеют обыкновение поддерживать друг друга, то есть чуточку рассеянно. Так что когда он ляжет в больницу, ему будут чаще звонить по телефону, чем навещать, а когда выпишется, с ним станут больше шутить, чем расспрашивать всерьез. Единственным исключением окажется Рэйчел, она останется с ним до конца, совсем как сестра, которую Шон всегда мечтал иметь.
В последние месяцы своей жизни он будет подолгу предаваться размышлениям. Для начала — о своем родителе. Он так и не сможет привыкнуть к мысли, что ему уже теперь куда больше лет, чем отцу, когда тот умер. (Этот славный малый явился ко мне совсем желтым, желтым с головы до пят, не исключая белков глаз. Цирроз печени в сорок четыре года.) Всякий раз, стоит ему вспомнить о папуле, Шон опять становится мальчиком: он видит себя в пабах Клонакилти, Кинсейла и Кортмекшерри, цепляется своей ручонкой за громадную отцовскую лапу, робко поднимает на него глаза, слушает его хохот, пение, пылкие разглагольствования с корешами насчет политики, восторгается, как ловко подвешен у папули язык. Один раз отец сводил его в замок Блерни и велел приложиться губами к тому легендарному камню, который, по преданию, наделяет даром красноречия всякого, кто поцелует его. Почему, спрашивает себя Шон, смысл слова «бларни» со временем так исказился, что оно стало означать всего лишь «заговаривать зубы», «городить вздор»?[40] Отчего с некоторых пор предполагается, будто дар слова только затем и нужен, чтобы охмурять девиц? Вот уж с чем никогда не соглашусь, как и ты, пап, ты бы этого тоже ни за что не признал…
Сверх того, он станет подолгу плакать. Не знаю, замечали вы это или нет, но люди, преждевременно лишившиеся отца, весьма часто склонны к слезливости. В течение целого года день за днем проводя в помыслах обо мне, он под конец дойдет до того, что любой пустяк сможет вызвать у него слезы. Воробышек, клюющий на подоконнике хлебные крошки. «The Thrill Is Gone»[41] в исполнении Чета Бейкера, парня с девичьим голоском, таким нежным, таким меланхоличным. Обручальное колечко, дешевенькое и крикливое, на пальце Дженис, кассирши из супермаркета, напомнившее ему, что у нее-mo есть будущее, а у него нет. Вид садовника Дэниэла, когда он занимаясь обрезкой деревьев, отшвыривает прочь тяжелые ветви и, даром что на десять лет старше, как ни в чем не бывало таскает увесистые камни для укрепления оградки, в то время как ему, Шону, дурно от малейшего усилия: стоит нагнуться, чтобы завязать шнурки или сорвать маргаритку, как кровь обжигающей волной бросается в лицо, сердце так и норовит застрять в горле, он торопливо выпрямляется, испытывая потребность сесть, садится — и плачет. Или еще сон, в котором к нему возвращается мать, юная, снова полная жизни; она оживленно говорит с ним, жестикулируя, улыбаясь, а он не в силах понять, о чем она толкует: губы у нее шевелятся, но он тщетно напрягает слух — сновидение абсолютно беззвучно. Может, это и есть смерть? — спрашивает он себя, просыпаясь, и разражается рыданиями…
Размышления и плач — вполне предсказуемые занятия для тех, кого в ближайшем будущем ждет встреча со мной. Но Шон Фаррелл, являясь тем, что он есть, сверх того будет писать стихи. После кончины автора их соберут и выпустят небольшим сборничком под названием «Dolce agonia», который станет продаваться лучше, чем все прочие его книги, и даже обеспечит ему несколько премий, присужденных посмертно.
Однако мне не пристало забегать вперед.
В последний месяц его жизни Рэйчел уже не покидала Шона. Однажды он позвал ее навестить с ним вместе могилу его матери. (Рэйчел, как мы помним, питает слабость ко всему, что ни есть мрачного, и никогда не упустит повода послать привет своим друзьям и знакомым, успевшим перебраться на тот свет). И вот они стоят там рядышком, погруженные в свои мысли. Потом Шон, обняв острые худенькие плечи Рэйчел, произносит:
— Мой папа когда-то, помнится, рассказывал мне про Колокол премудрости.
— Колокол премудрости?
— Да… это большой бронзовый церковный колокол, очень массивный, в том селении графства Керри, где он родился. Ежели кого мучил какой-нибудь вопрос, он шел к церкви и задавал его колоколу, а у того всегда находился в запасе добрый совет. «Как долго, Колокол, мне ждать конца невзгод?» — «Год!» — отвечал Колокол. «Что нам поможет, Колокол, покончить спор добром?» — «Ром», — говорил Колокол. Ну, и так далее. Мы с папой иногда проводили целые вечера, выдумывая эти вопросы-ответы. Спрашивали, например, о кюре, исповедовавшем монашек местного монастыря: «Что видит он в мечтах, когда идет назад?»
Рэйчел фыркает.
— Позже, — продолжает Шон, — я смекнул, что сей Колокол премудрости не просто игра в ребяческое рифмоплетство, а отличная метафора Бога. Человек выкрикивает свои вопросы, слышит эхо собственных воплей и, преисполнившись благодарности, следует советам, таким манером полученным.
Покачав головой, Рэйчел молча ждет продолжения.
— Так вот, — поясняет Шон, — я только что задал Колоколу полезный вопрос: «Откуда эта хворь? Ты можешь дать ответ?» А он отвечает: «Нет».
Рэйчел смеется, потом затихает, и оба погружаются в молчанье. Так они и стоят, не двигаясь, устремив взгляд на простую гранитную плиту, где выбита надпись: «Мэйзи Фаррелл, урожденная Мак-Дауэлл».
— Я бы с радостью ей что-нибудь спела, — наконец произносит Рэйчел, — но не знаю что.
Они принимаются искать подходящую песню, быстро отвергают сперва Молли Мэлоун, потом «Лэй-Леди-Лэй», чтобы в конце концов сойтись на «I’ve Grown Accustromed to Her Face»[42]. Они принимаются петь ее с величайшей серьезностью, стоя у могилы Мэйзи, и стараются не встречаться глазами, чтобы не прыснуть со смеху… Когда песня подходит к концу, у Рэйчел создается впечатление, что рука Шона, лежащая у нее на плече, хоть и отяжелела, но больше от усталости, чем от скорби.
На обратном пути он, не переставая глядеть себе под ноги, тихо говорит:
— Я умру через полгода.
— Не болтай чепуху, — отрезает она.
— Спорим?
— Ладно. — Рэйчел кивает. — Только… не вздумай мошенничать, договорились?
— Идет. Все по-честному.
— Обещаешь?
— Да что уж там… обещаю. Значит, по рукам?
— По рукам, дружище.
Ему удаляют левое легкое, а несколько месяцев спустя на правом обнаруживается новый узелок. Он звонит Рэйчел, чтобы сообщить ей об этом.
— Так это же может быть… ну, не знаю, просто уплотнение, — говорит она. — Что-то вроде обыкновенного маленького желвака. Или угря.
— У меня никогда не бывало угрей, — вздыхает Шон.
— Что ж, — после долгого молчания задумчиво предлагает Рэйчел, — возможно, мы с тобой могли бы помолиться друг за друга.
— Ого, какая прекрасная идея, — хмыкает Шон. — Так о чем будем просить?
— Ну, я попрошу, чтобы твой новый узелок оказался доброкачественным, а ты попроси, чтобы издательство Гарвардского университета одобрило мою книгу о Канте.
— Заметано.
Но я останусь глух как к той, так и к другой молитве.
За три недели до того, как я его приберу, Шон пригласит Рэйчел пообедать с ним. Она не была у него дома с того достопамятного ужина в День Благодарения два года назад, а с глазу на глаз они там не встречались уж больше десятка лет. Между двумя приступами жестокого кашля Шон поджаривает отбивные из мяса молодого барашка… Рэйчел накрывает на стол… Шон откупоривает бутылку калифорнийского каберне… Рэйчел готовит салат… и они усаживаются за стол. Рэйчел ест и пьет, смакуя каждый кусок, упиваясь каждым глотком.
— Чудесное вино, — говорит она, поднимая бокал, и неотрывно глядит в глаза Шону, даже не пытается скрыть свое желание запечатлеть в памяти суровую красоту его горящего угрюмого взгляда, сохранить его в себе навсегда. — Чудесное мясо, — говорит она, сознавая, что это мое присутствие в комнате делает трапезу такой лакомой. — Все абсолютно великолепно.
— Для полного счастья не хватает только одного, — замечает Шон.
— А именно?
— Сигареты.
Потом он ее провожает, проходит с нею часть пути, шагая очень медленно. На Мейн-стрит они заходят в цветочный магазин, и Шон покупает дюжину черных и лиловых анютиных глазок в крошенных пластиковых горшочках. Рэйчел всегда была без ума от сумрачных цветов. Этим суждено пережить своего дарителя. Целуя Шона, Рэйчел на миг ощущает в его дыхании мой запах.
Через неделю он звонит ей из больницы. Голос у него чужой, искаженный.
— У меня нутро прогнило, Рэйч, — говорит он. — Рэйч, у меня душа гниет.
— Это, наверное, от химиотерапии, — бормочет Рэйчел.
— Нет. Они еще даже не начинали химию. Господи Иисусе, что со мной творится?
На этот вопрос у нее ответа нет, и потому Рэйчел молчит.
— Один тип в моей палате вчера вечером умер, — говорит Шон. — Жена сидела у его изголовья, смотрела по телевизору старину Зайнфельда.
— А какой эпизод? — любопытствует Рэйчел.
— Тот, где он пытается всех уверить, будто он вовсе не ковырял в носу, а только его почесал.
— Ах да, это и вправду очень здорово! Одна из моих любимых сценок!
— Однако же, что бы там ни было, тип в это время как раз Богу душу отдавал. Глаза у него закатились, голова отвалилась назад, я слышал его хрип, а супруга все не переставала спрашивать: «Тебе хорошо слышно у дорогой? Хочешь, я сделаю погромче?» Мне крышка, Рэйч! — внезапно вопит Шон. — Мне крышка!
Она затихает у телефона, молча, терпеливо оставаясь с ним на том конце провода. После долгой паузы он вешает трубку.
Назавтра у него развивается эмболия левого полушария мозга. Утрата речи. Утрата правой, пишущей руки.
Рэйчел сидит у его кровати и смотрит, как он левой рукой неловко царапает в записной книжке. Там появляются очертания сердца, оно перекошено, однако узнать можно, а внутри — четыре начальные буквы их имен.
— Ты меня любишь? — спрашивает Рэйчел.
Шон кивает.
— Я тоже. Я люблю тебя.
Потом он рисует цепочку других букв: T-H-R-I–L-L, выписывает с мучительным трудом, потом яростно зачеркивает.
— Не понимаю, — говорит Рэйчел.
Шон изображает две музыкальные ноты.
— The Thrill Is Gone?
Он утвердительно кивает… и, вконец изнуренный, откидывается на подушку.
Той же ночью, очень поздно, уже под утро, я прихожу, чтобы освободить его. Это, как подумаешь, весьма похоже на рождение, только наоборот.
Раз уж я здесь, прихватываю заодно и Пачуля.
Глава XXVI. Сонные грезы
Но вот все обрывается, конец тревожному заглядыванию в космические глубины собственных душ. Все разом приходят в себя и принимаются в замешательстве озираться… Через мгновение на них накатывает тяжкий вал усталости: желание отрешиться от всего, погрузиться в сон, да, наконец без памяти раствориться в нем, им ничего больше не нужно, только бы рухнуть в бездну сна, и все.
— Гм… и где же, по-твоему..? — вопрошает Леонид, оглядываясь на хозяина дома в надежде, что у того имеются какие-либо идеи насчет подходящих мест отдыха для гостей… но Шона в это мгновение настигает новый отчаянный приступ кашля. Скрючившись, он дышит со свистом, так заходясь в кашле, что уже и слезы выступают на глазах, а кашель все не прекращается, так что в конце концов он машет рукой женщинам, что означает: не угодно ли вам этим заняться? Постельные принадлежности, распределение кроватей — все это женская забота…
— Послушай, а кашель-то у тебя скверный, — замечает Чарльз, похлопывая Шона по сгорбленной спине… но Шон только мотает головой и кашляет снова. — Что до меня, — продолжает Чарльз, обращаясь к остальным, — мне кровать не нужна. Я чувствую первые содрогания стиха… Забьюсь-ка лучше на кухню, посмотрю, не соблаговолит ли он, выпав на этот лист, родиться к завтрашнему утру… оно к тому же, видимо, не за горами. Который час?
— Половина четвертого; — сообщает Патриция. — До восхода солнца, заметь, еще добрых пять часов. Ты уверен, что твое стихотворение будет содрогаться так долго?
— О, я могу уснуть где угодно, — говорит Чарльз. (Это правда: подростком он наловчился спать с открытыми глазами во время церковных проповедей; да и позже, если малышке Тони случалось прихворнуть, он засыпал у нее в комнате, прислонясь лбом к металлической спинке ее кроватки.)
— Давай я хоть расчищу тебе угол стола, — предлагает Патриция. (Встарь ее «бабуся» всегда освобождала ей уголок стола, чтобы девочка могла готовить уроки, а сама рядом шинковала лук и помидоры для ужина.)
— Не стоит труда. — Чарльз направляется в сторону кухни. — Я сам вымою часть посуды, мне это поможет привести мысли в порядок. — И он исчезает.
Разочарованная Патриция смотрит ему вслед. Я так люблю, когда за мной ухаживают, думает она. Ну почему никому больше не хочется, чтобы за ним поухаживали?
Кэти силится преодолеть сумбур, царящий у нее в голове, и организовать превращение жилища Шона в дортуар.
— Комната для гостей — это вам, — говорит она Хэлу и Хлое. — Само собой, ведь там уже спит маленький Хэл.
— Мы можем спать и на полу, — к вящей досаде Брайана заявляет Бет. — Достаточно подстелить несколько одеял. Это напомнит нам нашу юность, славно мы тогда похипповали.
— Мне так вообще ничего не понадобится, — подает голос Арон, — если только кто-нибудь, дождавшись, что я отвернусь, не слямзит мое кресло-качалку…
И он направляется к туалетам, готовясь дать последний бой демону по имени Диарея.
— Это канапе раскладное, — произносит Шон, который наконец отдышался и, пошатываясь, поднимается с места.
— Вот вы и займите его, — предлагает Рэйчел Кэти и Леониду.
— Лучше вы с Дереком, — возражает та.
— Нет, вы, — настаивает Рэйчел. — Оно удобнее, чем две узкие кровати в кабинете Шона, а у Лео болит спина.
— С чего ты взяла? — возмущенно вскидывается Леонид.
— Мудрено этого не заметить, ты же весь вечер сидишь, скрючившись, — насмешливо парирует Рэйчел.
— А я, где мне приткнуться? — спрашивает Патриция, она уже снова разулась, косточка на ноге болит. Вот и у моей «бабуси» тоже была косточка, вспоминает она про себя.
— Вам, дорогая моя, — усмехается Шон, — придется приткнуться в самом подходящем для вас месте: будете почивать в моих объятиях.
— О Шон! — Патриция в восхищении бросается ему на шею. — Именно это я и надеялась от тебя услышать. Обещаю вести себя благоразумно.
— Нет, — вздыхает Шон, — это я буду благоразумным.
Доброй ночи, доброй ночи, доброй ночи, доброй ночи…
Вот все и улажено. Шестеро гостей забираются на второй этаж, другие шестеро остаются на первом, и все мало-помалу начинают готовиться ко сну. Сброшены пояса, расстегнуты лифчики, сняты ботинки и очки; носы высморканы, лекарства проглочены, ступни растерты, мочевые пузыри опорожнены, но макияж и нижнее белье остаются на своих местах, зубы, как натуральные, так и вставные, обходятся без чистки, ни единая молитва не прочитана.
= Я мечтал об этом с начала вечера, — говорит Шон, сквозь белый шелк комбинации медлительно обцеловывая подвздошные косточки Патриции. — Может, грудь у тебя за последние годы слегка изменила форму, но подвздошные косточки все те же.
— Ты уверен насчет груди? — сонно бормочет она и, обхватив ладонями голову Шона, ласково притягивает ее повыше, чтобы запечатлеть поцелуй на плешивой макушке. Он поворачивает лицо налево, потом направо, легонько покусывает соски, выступающие под тканью, и тут на него нападает кашель. — Я принесла тебе стакан воды, на всякий случай, — мурлычет Патриция. Протянув руку, она ухватывает стакан на столике у изголовья, подает ему.
— Спасибо.
Шон отхлебывает большой глоток, потом гасит лампу и, укладывается, свернувшись калачиком, спиной к Патриции. Она прижимается к нему, просовывает ногу между его ног, как делала когда-то, в пору их любви. На несколько секунд она, девочка, оказывается за спиной своей матери, поднимается вслед за ней по театральной лестнице, дело происходит в опере, через мгновение все наоборот, это она всходит по лестнице первой, а мать следует за ней; но ни в том, ни в другом случае мать ее не замечает, она, по обыкновению, вся в спешке, ополоумевшая, на грани истерики, спектакль вот-вот начнется, нет, уже начался, до них доносятся обрывки арии, гортанное контральто, «calvo dentello, calvo dentello», — поет голос. Как красиво! — про себя восхищается Патриция. Это, кажется, означает «кружевная накидка», или я что-то путаю? Ох, думает Шон, если бы вода могла меня исцелить! Вот бы славно, если бы для этого хватило стакана воды. Плавание. Кругом вода… бесконечные пространства пьянящей, живой, бушующей воды… сначала у тебя умирает папа, потом ты его бросаешь, может быть, если бы ты не покинул его, он бы не умер, как ты мог сделать такое, допустить, чтобы пространства хмельной, живой, бушующей воды пролегли между ним и тобой, в день его похорон лило как из ведра, струи дождя низвергались в разверстую могилу, превращая землю в грязь, погребальный кортеж вымок до нитки, крупные капли стекали со шляпок дам и носов господ, поди разбери, плачут они или нет, когда все настолько отсырело, башмаки хлюпают, земля размякшая, коричневая, будто говно, плюх, плюх, лопаты грязи шлепаются на крышку гроба, как тот навоз, что лопатами таскал в Шудянах отец Леонида, ах, какие мощные у него бицепсы! до чего густые, клочковатые усы! На исходе дня он весь в поту, лицо и затылок багровеют, он ведь в поле работал, на самом солнцепеке, тогда мать Леонида усаживает его на крыльцо, приносит миску с водой, макает в нее тряпку, потом ласково освежает ею пылающий лоб и затылок мужа, вода стекает по голым плечам и груди… Она смеется, да, мать Леонида покатывается со смеху, обмывая своего супруга после трудового дня, на дворе изнуряющая жара, Земля поворачивается вокруг своей оси, трещит мороз, завывает вьюга, занося дом снегом, сугробы растут, достигают низа оконной рамы, и Чарльз рассеянно созерцает их, сидя за кухонным столом, смотрит невидящим взглядом, потом вновь склоняется над страницей, ах, как мне хочется подглядеть, какой будет следующая строфа, да, вот оно: «Немота человека который спит / Когда день умирает играя / Чтоб ланью кануть в тень чащобы / Опустошенной как лицо…» Разве ты не знаешь, что я люблю тебя, Мирна, неужели ты не понимаешь этого, тебе в самом деле желанна смерть мавра? «Жестокая! Пусть проклят я / Неистребимо ты любима / И если позабыть смогу / Весь мир поглотит Хаос снова». «Ветка надломится если одна / Когтями цепляясь за снежные хлопья», это недурно, когти в некотором смысле одушевляют ветку, превращают в живое существо, «В снегу людской и волчий след / Столкнутся, как и все другое». Нет, «все другое» слабовато, особенно для концовки. Надо придумать что-нибудь, если не все… хм… другое. Ха-ха-ха. «Прожилки канав и завалы снегов» — это ладно, можно оставить, а вот насчет «летят, как волосы на ветру», тут я не столь уверен, метафора так себе, убогая, ничего она не несет. «Не увидишь сам — не поверишь», как я всегда говорю своим студентам… Впрочем, кому они принадлежат, эти волосы, которые вздымаются на ветру? Только не мне. Мои даже при хорошем канзасском торнадо вздыматься и не подумают. В школах Южной Африки по этому признаку отличают черных от белых, это называется «тест на карандаш». Берется прядь волос за ухом и плотно наматывается на карандаш: если карандаш падает на пол, ребенок считается белым, если остается висеть в волосах — значит, он черный. Однажды Анна возвратилась из школы в слезах, вспоминает Арон, тихонько покачиваясь в кресле у гаснущего огня, ее лучшую подругу Хетти только что отчислили; до той поры никому и в голову не приходило, что она негритянка, но учительница (местная уроженка, из буров) подвергла ее карандашному тесту: в первый раз перед классом, во второй, злорадно торжествуя, перед родителями Хетти, директором школы и комитетом муниципальных служащих… и — карандаш неопровержимым образом застревал в ее прядке, из чего следовало, что мать Хетти виновна в омерзительном преступлении, а отец девочки не являлся ее отцом, в каком же году это произошло? — пытается припомнить Арон. Кажется, в 1957-м: Анне тогда сравнялось восемь, и может статься, именно в тот день были посеяны первые семена ее бунта, всходы которых разрослись потом и ощетинились колючими марксистскими клише… Ведь его малышка Анна стала революционеркой, экстремисткой, неуступчивой и нетерпимой особой, закованной в броню догматов, столь же жесткой и беспощадной, как те, кто полвека назад вынудил родителей Арона спасаться бегством из Одессы, снова те же словеса, те же идеи, исполненные ненависти, те же казни и насилие во имя вашего же блага, ну да, для блага страны, народа, освободительного движения, снова мелкие бессильные бунты, пытки, убийства, концентрационные лагеря, в которых верховодит АНК, этому конца не видно, говорит себе Арон, легонько покачиваясь, а снежные хлопья все еще кружатся за окном: круговорот надежды и отчаяния, разрушения во имя догмы и вдохновенного восстановления, Боже правый, что только делается на свете? Он был в палестинском селении, там улицы загромождены обломками и всяким хламом, израильские солдаты с «узи» на изготовку и в черных очках задерживали прохожих для проверки документов, зной стоял удушающий, и везде заграждения, мешки с песком, колючая проволока, битое стекло, чтобы двигаться вперед, нужно чуть не на четвереньках перебираться через груды строительного мусора, это тяжело, говорит себе Арон, трудно в моем-то возрасте, что же мне делать, как пройти, равномерное поскрипыванье его кресла мешает Бет уснуть, она поневоле прислушивается, это скрипит подъемник, везущий ее на вершину немыслимо крутого холма, что за бред, он почти отвесный, так не бывает, голова Бет запрокидывается, ее лыжи рассекают воздух где-то вверху, но вот она достигла вершины, страшная, нескончаемая пауза, потом неведомая сила толкает ее вниз, она несется вперед головой, что делать, как притормозить? Согнуть ноги или лучше держать их прямо? Она ничего уже не знает и судорожно вцепляется в руку Брайана, который, повернувшись во сне, бессознательно обнимает жену, привлекает ее к себе, о плоть, это милое, такое родное телесное тепло, он выгнул спину, как мог, скорчился, пол слишком жесткий, а они давно не хиппи, которые болтаются по Мексике, живя на пиве и марихуане, готовые завалиться на ночевку где придется, будь то пляж, лес, zocalo[43] или городской сад, городской суд: «Дамы и господа присяжные… Разрешите мне для начала сказать несколько слов непосредственно судье». Он поворачивается к судье и, ошеломленный, узнает в нем своего собственного отца, огромного и царственного в своей черной судейской мантии. Как же я его сразу не узнал? — изумляется Брайан. «Приступай! — рычит его отец. — Что ты имеешь сказать в свою защиту?» Изрядно перепуганный, Брайан принимается искать конспект своей речи, роясь в ворохе бумаг, которые держит в охапке. Куда же он мог подеваться? — с каждой секундой Брайан паникует все сильнее. Как мне вести защиту в собственном процессе, если я не могу найти бумагу? «Итак? — гремит его родитель. — Ты соберешься сегодня или прикажешь ждать до завтра?» Потом зал суда исчезает, они с отцом в саду перед их домом в Лос-Анджелесе, Брайан пытается установить барбекю, бумажная кипа в его руках превращается в книжицу-руководство, но не хватает нескольких металлических деталей, и он не может понять, как эта штука работает. «Ради всего святого, — шипит отец вне себя от раздражения, — ты вправду решительно ничего не способен сделать так, как следует? Ну же, шевелись!» Тут Брайан принимается хныкать, а отец набрасывается на него: «Маменькин сынок! Весь в мамашу! Плакса! Мокрая курица! Педик!..» И чем горше плачет Брайан, тем сильнее, злобно, по-садистски ярится его отец: он приплясывает вокруг мальчика, хлещет его мокрой тряпкой, бьет, щиплет, донимает по-всякому… «Бедный крошка! Он не в состоянии установить барбекю, а?! Это для него слишком сложно! Вот недоумок! Ни к чему не пригоден!» В конце концов он хватает Брайана за плечи и что было сил толкает, заставляя грохнуться прямо на злополучное барбекю, которое разваливается с металлическим лязгом. Но это всего лишь звякнула кастрюля, которую Чарльз, желая заварить себе чайку, пытается извлечь из вороха посуды, нагроможденного на сушилке. Он, в общем, доволен тем, как продвигается его стихотворение, однако «немота человека который спит» звучит довольно плоско. Слишком очевидно. А надо найти способ заставить услышать молчание зимнего ландшафта. А ритм, напротив, хорош: «не-мо-ТА че-ло-ВЕ-ка ко-ТО-рый СПИТ». Слова дышат в его мозгу, обретают жизнь, взваливают на себя груз предельной ясности, полнятся смыслом, как бывает всякий раз, когда ему удается так вот раствориться в работе, в самом сердце ночи, на кухне, пока Мирна и дети безмятежно спят совсем рядом, в двух шагах; «немота» (это «не-мо» звенит, простирается перед тобой, как дорога, убегающая за горизонт), «человека» (рука, доверчиво протянутая ладонью вверх), «который» — эти три слога звучат убаюкивающе, как «ту-ту-ту» идущего поезда, «спит» — та же рука, сжатая в кулак, Патриция стучит кулаком по столу. «Я больше не могу! — орет она, и Джино с Томасом вскидывают на нее испуганные глаза. — Зачем вы намалевали на полу?» — «Потому что эта васильковая краска такая красивая», — дрожащим голосом лепечет Джино. «Не беспокойся, мама, — говорит Томас, — это же всего-навсего линолеум, все смоется». И маленькая девчушка тоже здесь, на заднем плане, но Патриция различает ее смутно, только уголком глаза. «Почему ты никогда меня не видишь?» — спрашивает девочка. «Ну разумеется, я вижу тебя, дорогая!» — потрясенная, возражает Патриция. «Нет, — настаивает ребенок. — Ты даже сейчас не хочешь посмотреть на меня!» Патриция разражается рыданиями, роняет голову на стол, Джино и Томас бросаются ее утешать. «Все хорошо, мама, все в порядке», — твердят они, гладя ее по голове, по плечам, но их слова распадаются на щебет и чириканье, их руки превращаются в птиц, кружащихся и порхающих подле своей матери. Все птицы уснули, они крепко спят, и вьюга утихла, теперь снежные хлопья опускаются на землю медленно, все реже, неравномерней, они словно устали, и вокруг воцаряется безмолвие смерти, но на самом деле дом живет, наполненный сонным бормотанием своих обитателей, Хэл Младший испускает струйку мочи и наслаждается ощущением влажного тепла, в мозгу у него теснятся бессвязные образы, краски и побуждения, толчки удовольствия, разрозненные звуки, «ма-ма-Хэл-ба-бо,» ласковые фрагменты возможностей английской речи, для него они столь же конкретны и чувственно осязаемы, как яблочный сок или овсяная каша. Прямая, жесткая и бессонная, Рэйчел вытягивается на своей узкой кровати… «Как миссис Дэллоуэй», — говорит она себе. Приподнявшись на локте, она глотает вторую таблетку снотворного, и ее разум наконец отпускает себя на волю, расслабляется, тревога, привычно терзающая свою добычу — ее душу, на время разжимает когти… однако ей ведь пора читать лекцию, время позднее, как же вышло, что уже так поздно, она бросается к университету, бежит, но под ноги все время подворачиваются горбы снега, предательски скользкие, они мешают ей двигаться к цели, она перебирается через них на четвереньках, но, поскольку на ней узкая юбка, нейлоновые колготки и туфли на высоких каблуках, она бесперечь оскальзывается на льду, ее колени в ссадинах, нервы на пределе, она готова расплакаться: в таком состоянии я никак не смогу читать лекцию! — говорит она себе и, достав из сумочки тюбик с транквилизатором, глотает целую пригоршню… Нет, это слишком, это меня доконает, превратит в зомби… я не смогу собраться с мыслями… и тут она принимается срыгивать таблетки… выплевывать их в снег, пытаясь высчитать, сколько надо оставить, чтобы обрести спокойствие, но не одуреть… Она так мечется, что просыпается Дерек, спящий на такой же узкой, неудобной кровати в другом углу комнаты. Закаленный в испытаниях, он навостряет уши, вглядывается в темноту… Что такое, случилось что-нибудь?.. Нет, похоже, все спокойно… но ему здорово не по себе. Голова тяжелая. В животе острая боль. Это все шампанское, не надо было пить его так много, особенно после вина, не говоря уж о пунше. Господи, как не хочется второй раз ложиться на операционный стол… «И что ты все жалуешься? — говорит Вайолет, его мамаша. — Твой отец умер, на тебя это так подействовало, что ты даже не соизволил приехать проститься с ним, твоя мать страдает флебитом, ревматизмом, гипертонией и подагрой, а у тебя чуть только немножко заноет в животе, и ты сразу хнычешь. Старость? Идиоты! Я даже не пойму, о чем это ты толкуешь. Вот исполнится тебе семьдесят пять, тогда и приходи, поговорим о тяготах преклонного возраста». — «Это не получится». — «Почему?» — спрашивает мать, и он не осмеливается сказать ей, что, когда ему стукнет семьдесят пять, она будет лежать в могиле. «Не сердись, Вайолет, — говорит он ей. — Все устроится, я зайду повидаться с тобой, как только выберусь, мне непременно надо закончить эту статью, и я тебе сразу позвоню, обещаю». И он пускается в дорогу к дому, где его ждет работа. «Обещаешь, как же! Знаю я твои обещания!» — жужжит в ушах злобный голос матери, а он между тем с мучительным трудом одолевает склон холма в этом городе, знакомом и все-таки чуждом, с его мощеными улицами и старыми обветшалыми кирпичными строениями. Кэти тоже здесь, в этом чужом городе, но она понятия не имеет, как сюда попала: села с дочкой Элис в автобус номер 79, но автобус остановился посреди квартала, где она ни разу не была, водитель преспокойно покинул свое место, пошел и уселся на террасе кафе: «Мне здесь очень по душе», — заявил он вместо объяснения. И впрямь, место до того красивое, аж дыхание перехватывает… да сверх того здесь еще разыгрывается что-то вроде карнавала. Шофер прав, говорит себе Кэти, чего ради нам стремиться дальше? Она блаженствует оттого, что Элис делит с ней ее радость: взявшись под руки, они идут к цыганскому табору, и… о чудо… с ними мать Кэти! «Мама! — ликует Кэти. — Я думала, ты умерла!» — «Вовсе нет, — отвечает мать и звонко хохочет. — Мне просто не хотелось тебя стеснять, вот и все. Здесь чудесно, не правда ли?» Кэти улыбается во сне, ее улыбка мягко проплывает в воздухе туда, где тело Бет раскинулось на полу, в объятиях спящего рядом Брайана. Улыбка на мгновение зависает над головой Бет, не в силах ослабить узел тягостного напряжения, сморщившего лоб, ведь мозг Бет, дремлющий там, в своей костяной раковине, не прекращает своей деятельности, Бет подвергается сейчас серьезному хирургическому вмешательству. Она разом и пациентка, без чувств распростертая на операционном столе, и врач, приказывающий сестрам по мере надобности подавать нужные инструменты. Ее брюшная полость вскрыта, там внутри какой-то чужеродный предмет, она силится разглядеть, что это, но там мелькает столько рук медицинского персонала, они мешают его распознать, довольно объемистая штука, свернулась между желудком и печенью… и она там дергается… Что же это может быть? Рыба. Им надо как угодно исхитриться, но извлечь ее, это совершенно необходимо. Рыба, которая трепещет, там… под искрящейся поверхностью реки Припяти… Да! Попалась! Леонид поймал ее! Без ума от радости, он взбирается на камень, а отец, стоя сзади, держит его за бока, чтобы он не свалился, вытаскивая форель… Бог ты мой, да она огромная!.. Она бьется, колотит хвостом по воде… Что за фантастическое ощущение — эти панические метания рыбы, сперва передаваемые через леску и удилище, потом угнездившиеся прямо здесь, в его тощеньких мальчишеских руках… Да, это здорово! Леонид таки вытащил ее! То-то же! То-то! Солнце начинает клониться к закату, день на исходе, но мгновение так совершенно, что ему боязно услышать голос отца, который вот-вот скажет, что пора возвращаться. «Когда день умирает играя», пишет Чарльз. Ладно, это хорошо, уж тут-то я уверен. «Умирает играя»… этот ассонанс, отзвук, эхо «ра», словно горестное предвестье, да, великолепно… «Чтоб ланью кануть в тень чащобы / Опустошенной как лицо». Можно ли увидеть бегущую лань, как если бы это было лицо человека? Однако же я знаю, что хочу сказать. Когда в лесной глуши вдруг столкнешься с ланью… эта встреча взглядов, людского и звериного, это внезапное узнавание, затаишь дыхание, а потом… ах! убежала. Вот только слово «опустошенное» явственно тяготеет к слову «лицо»: куда естественнее сказать так о лице, чем о чащобе. Может быть, так: «Лань канет / Как лицо в лесу опустошенном»… Пожалуй, так лучше. Боже мой, как он сильно кашляет, бедный Шон. Возможно, мне бы стоило отнести ему чашку чая. Но я не хочу портить ему ночь с Патрицией. Милашка эта Патриция. До невозможности симпатичная. Этажом ниже, на миг вынырнув из сна, Патриция просовывает руку под темно-синюю майку Шона, гладит его по спине. «Послушай-ка, — шепчет она, улучив минутку между двумя приступами, — этот твой кашель, он меня беспокоит. Ты не хочешь сходить к врачу?» Ей вдруг вспоминается недавний сон про оперу: «calvo dentello», кружевная накидка… да нет, говорит она себе, «calvo» это не накидка, это лысый. Лысое кружево… чушь какая-то. «Уже был», — говорит Шон. «Тебе прописали какое-нибудь лекарство?» Но ответ Шона заглушает новый припадок вулканического кашля, и, по мере того как Патриция позволяет себе соскользнуть в забытье, кашель оборачивается собачьим лаем. Она подходит к собору своего детства, или, вернее, это не собор, а стена, с четырех сторон ограждающая красивый сад, где мужчины и женщины, одетые, как для мессы, вооружась заступами, весело разрывают гряду холмиков. «Что вы делаете?» — спрашивает Патриция, а пес между тем продолжает без умолку лаять. «Это могилы наших предков, — объясняют они ей. — Надо снова сделать кладбище местом богослужения». И действительно, она видит человека, который быстро рисует на одной из стен витраж, что был здесь встарь. «Это гениально!» — восклицает она, объятая восторгом. Подняв глаза, она видит, что херувимы, изваянные на капители, ожили, они медленно двигаются, сплетаясь между собой, а усики каменных цветов щекочут их головы и тела. «Это гениально!» — в экстазе твердит Патриция, а собака все лает, и снегопад кончился, к тому же в дальнем конце коридора, в комнате для гостей, Хлое снится лето. Да, солнечный денек, свет блистает ослепительно и грозно, как лезвие ножа, а она с Хэлом Младшим приехала в Лос-Анджелес, ей надо там кого-то повидать. Она ставит на газон переносную корзинку-колыбель — ребенок меньше, чем в действительности, немыслимо мал и хрупок; корзинка потихоньку-полегоньку накреняется, и дитя выпадает на траву… а потом, хотя ничего, похожего на выстрел, не было слышно, с неба валятся два громадных черных ворона, мертвые, в крови, их тела искромсаны пулями: один плюхается на крыльцо, другой… на ребенка. Мертвая птица накрывает живое дитя. Вздрогнув, Хлоя пробуждается, растерянно смотрит вокруг: где я, где я, где я? Вместо стен вокруг сплошные полки с книгами… А, ну да, мы в гостях у Шона Фаррелла, на что им столько книг, эти люди, они думают, что книги защитят их от мира, но это чушь, а, Кол? Нет никакой защиты, никакой поддержки, книги хотят превратить жизнь в истории, да только блажь все это… Помнишь черепашек, Кол? Где мы их тогда раздобыли, уж и не знаю… Помнишь, как это было занятно: берешь их за панцирь и чувствуешь, как они у тебя в руках ножками сучат, будто сказать хотят: «Эй! Куда земля подевалась?!» А когда их перевернешь, они снизу такие миленькие, желтовато-коричневые, прямо не ожидаешь, верх-то у них темно-серый… Мы еще черепашьи бега устраивали, помнишь? Каждый брал по черепахе, держал их у газонного бортика — «На старт, внимание, марш!» — и отпускали. Но они вместо того, чтобы бежать по прямой, принимались бродить по газону, как придется. Так оно и в жизни, правда, Кол? Люди притворяются, что участвуют в бегах, как будто если по прямой, то придешь к какому-то финишу, но на самом деле они всего-навсего сборище безмозглых черепах. Не знают, куда идут, не понимают, где финишная прямая, да если кто ее и найдет, победитель все равно никакого приза не получит. Ты все еще не понял этого, Хэл? Что они тебе дали, все твои годы учения, если ты даже этого не усвоил? Повернувшись в постели, она, желая укрыться получше, натягивает на себя теплое одеяло таким образом, что все большое тело ее мужа внезапно оказывается открыто, а в комнате царит холод (экономя на отоплении, Шон так отрегулировал термостат, чтобы в ночное время он автоматически снижал температуру с двадцати градусов до пятнадцати). Трясясь от стужи, Хэл быстренько ускользает в сновидение, которое он впоследствии вставит в свой роман о Клондайке: сон, где несколько эскимосов находят окоченевший труп старателя, размораживают его, разделывают на части и готовят из них рагу. Надеюсь, эскимосы не будут на меня в обиде, думает Хэл, когда холод снова будит его. Посветив себе крошечным электрическим фонариком, чтобы не потревожить покой жены и сына, он записывает сон в блокнот, который всегда оставляет возле своей кровати. Инуиты, вот кто это был. Надеюсь, инуиты не обидятся. А если вздумают протестовать, я им скажу, что это всего лишь сон: в 1890 году представления белых оставались таковы, что все, у кого не белая кожа, в их глазах выглядели дикарями и каннибалами. Это кошмар расиста, вот, а совсем не личная авторская точка зрения. Боже милостивый, да здесь околеть можно! Он поворачивается к Хлое и осторожно тянет одеяло к себе, пока снова не оказывается укрыт. «В снегу людской и волчий след», — в семьдесят пятый раз за последние полчаса тихим голосом повторяет Чарльз, но теперь слова уже размываются перед его глазами, и он засыпает, уронив голову на исписанный, во всех направлениях исчерканный лист. Между тем гаснет огонь в очаге, возле которого стоит кресло-качалка, руки и ноги Арона коченеют от холода, и мать растирает их, читая ему пушкинского «Странника»; дойдя до строк, где говорится об огне: «Наш город пламени и ветрам обречен», она начинает согревать ему руки своим дыханием, потом прячет их к себе под мышки, там они задевают ее грудь: резкая дрожь наслаждения и брезгливости пронизывает тело Арона. Потом мать зажимает его ноги между своими коленями, хохоча: «Попался! Ты мой пленник!» Он хочет вырваться от нее любой ценой, но чем отчаянней он сопротивляется, пытаясь освободиться из материнских тисков, тем крепче она его держит, и, наконец, перепуганный, скулящий, он дергается изо всей мочи и вырывается на волю. Мать отпускает его так внезапно, что он падает навзничь и просыпается, задыхаясь в своем кресле-качалке; мирное, равномерное похрапыванье Леонида, спящего на канапе, Брайана, растянувшегося на полу, и Чарльза, прикорнувшего на кухне, возвращает его к реальности… Ну ладно, ладно. Теперь он прячет руки промеж своих собственных колен и там, согревая, растирает их друг о дружку, пока новое сновидение не уводит его отсюда.
Настало утро, но еще совсем рано, все друзья спят, веки у них плотно сомкнуты, что не мешает их жизни продолжаться, а Земле вращаться вокруг своей оси, так что она скоро, очень скоро подставит косым бесцветным лучам зимнего солнца ту часть североамериканского континента, где приютился этот домик; снегопад кончился, облака белеют там и сям, прозрачные, беззаботные, заря начинает брезжить, это утро дня, именуемого пятницей, месяца, что зовется ноябрем, года, к которому тоже привесили опознавательный знак в виде номера… но друзья спят, ни один из них не узрит, как величавая колесница Аполлона, вся в золотистом сиянии, выкатится из-за горизонта.
Открыв глаза чуть позже этого момента, Кэти увидит, что сквозь шторы в гостиную сочится бледный, неверный свет. Тяжелая рука Леонида, лежащая у нее на груди, не дает ей шевельнуться. Она поворачивает голову, в медленно редеющем полумраке вглядывается в спящее лицо мужа, пока его черты не проступают отчетливо: сперва крупный нос, потом толстоватые губы, обвислые щеки, седые клочковатые брови… Она чувствует, как забегали по телу горячие мурашки, жар огнем обжигает лицо, и Кэти взволнованно припоминает тот день, когда они тринадцать лет назад, проснувшись в Шудянах наутро после похорон Григория, занимались любовью на диване в гостиной. Она почувствовала, как муж наваливается на нее, потом входит в нее, и, горячо сжимая его в объятиях, баюкая, как могла бесшумнее, все то время, пока долгая волна их желания поднималась, чтобы выплеснуться через край, она плакала от радости при мысли, что принимает его семя: да, ты, любовь моя, ты, здесь, по существу, на твоей родине, в краю, где твои корни, на земле твоих предков, где умерли твои родители, где живут твои сестра и племянница, о, Лео, спасибо, что ты есть, всей земле спасибо за то, что носит тебя, я так хочу продолжить тебя, любимый, в своем теле и посредством его… То не было желанием зачать еще одного ребенка; их совокупление в то утро обостренно воспринималось как один из аккордов великой симфонии продолжения рода, оно стало аккордом, в котором они по свободному выбору и произволу удачи слились с теми, кто жил прежде них, и теми, кто придет после… даром что в Шудянах эта цепь оборвалась на веки вечные, пусть даже никто еще не удосужился до конца осознать размеры бедствия… И вот нынче утром мы в гостях у Шона, размышляет она, утирая пот, бисеринками поблескивающий у нее на лбу, и снова обращая взгляд к небу, которое тем временем успело стать бледно-голубым, мы живы, с нашими сердцами теплокровных тварей, бьющимися под теплой кожей поношенных тел, в тишине одинокого дома, погребенного под снежными завалами, среди грохота необузданной цивилизации, на этом континенте, у порога нового тысячелетия…
А в это время этажом выше еще в одном мозгу начинает брезжить свет сознания: там проснулся Хэл Младший. Ни одна фраза еще не успела застрять в извилинах его мозга, ни одно неизгладимое воспоминание не запечатлено там; душа его — обширное пространство, всецело открытое восприятию, образы и ощущения отпечатываются и вновь исчезают в нем, собираются воедино и дробятся. Проснувшись в незнакомом месте, ребенок озирается, с каждым мгновением все более беспокойно и удивленно. Он уже готов разразиться криком тревоги, но запах родителей, коснувшись его ноздрей, успокаивает мальчика. Он бесшумно подгибает коленки к животу, неуклюже встает и вцепляется ручонками в простыню, свисающую с большой кровати. Наконец, энергично поболтав ножками в пустоте и повертев крепеньким задом, утяжеленным мокрым подгузником, ему удается вскарабкаться на кровать. Эврика! Вот же они, оба тут! Он совсем было собрался наскочить на них, чтобы проснулись, взяли его на руки, приласкали и накормили, чтобы понежиться в остром родном запахе их тел, окунуться в теплые вибрации их голосов, один как бархат, другой как песок, но вдруг… его взгляд цепляется за что-то ослепительное, какой-то свет.
Он поворачивает голову… а там, за стеклом… О, что это? Что там? Перебравшись через две тяжко сопящие груды — тела родителей, он обеими руками хватается за подоконник и, весь вытянувшись, смотрит в окно… Что это… что это там? все белое… что? белое, о, белое, что-то белое, о! такая белизна и такая красота… вытаращив глаза, широко раскрыв слюнявый, почти беззубый рот, он, пораженный, смотрит, смотрит, смотрит на мир, который так радикально и необъяснимо изменился с тех пор, как он его видел в последний раз, и который там… о, что же это? нет ничего, кроме пышной белизны, сколько хватает глаз, все бело… чисто, дивно, ослепительно… да, там… безмолвно искрится на солнце… белая страница… нетронутая… безупречная… новая.
* * *
Lux fit.[44]Автор благодарит
Названием книги я обязана моему другу скульптору Пуччи Де Росси, хотя он сам подумывает воспользоваться им для сборника рассказов, но великодушно поделился своей находкой со мной.
Идея книги, озаглавленной «Черным по белому» (о расовых конфликтах в США), принадлежит гаитянскому драматургу и поэту Жаку Рею Шарлье.
Пассажи о Чернобыле навеяны книгой очерков Светланы Алексиевич.
Описание состояния Хэла Хезерингтона после инсульта во многом позаимствовано из книги Мэй Сартон «После удара».
Цитата Гертруды Стайн взята из ее книги «Три жизни».
Рассказ И. Б. Зингера, упомянутый в книге, называется «Мои соседи» и напечатан в сборнике «Очаровательный господин из Кракова» во французском переводе Мари-Пьер Бэй (Stock, 1985).
Порнографический фильм, который смотрела Хлоя, называется «Стар-80».
Историю о бьющем в лицо снеге рассказал мне немецкий писатель Петер Шнайдер.
Рассуждения Ионеско о смерти были опубликованы в «Фигаро литтерер» 1 октября 1993 года.
Песня «Время цветов» («Those Were the Days») принадлежит Джину Рескину, автор французского текста Эдди Марией © 1962 и 1968 Essex Music, Inc., New York.
Эпизод на реке Сатхай дан (под другим углом зрения) в романе Бао Ниня «Невзгоды войны».
Стихотворение, которое читает Арон, — «Странник» Пушкина (1835).
Всем тем, о ком здесь рассказано, и множеству других, кто долгие годы делился со мной своими впечатлениями, приношу глубокую сердечную благодарность.
Примечания
1
Около 2000 года (лат.). (Здесь и далее примеч. переводчиков.).
(обратно)2
Здесь: в гущу событий (лат.).
(обратно)3
Больше света! (нем.) По преданию, таковы были последние слова умирающего Гете.
(обратно)4
Да будет свет! (лат.).
(обратно)5
Рулька с мозговой костью и рисом в томатном соусе.
(обратно)6
«Готовим с удовольствием» (англ.).
(обратно)7
Ср.: Мф. 10, 29–30.
(обратно)8
Идите сюда, мои драгоценные, мои пташки, хорошенькие мои, кушайте, кушайте, приятного аппетита… (ит.).
(обратно)9
Девочка (ит.).
(обратно)10
В общем и целом (ит.).
(обратно)11
Медицинские термины: внутриклеточная субстанция, межпозвонковый диск (лат.).
(обратно)12
Сучье варево (англ.).
(обратно)13
Этого у меня не отнять (англ.).
(обратно)14
И так далее (нем.).
(обратно)15
В оригинале стихи даны по-русски.
(обратно)16
Бабушка (ит.).
(обратно)17
Кривой нож, сечка (ит.).
(обратно)18
Понятно? (ит.).
(обратно)19
Сюда, сюда, мои раскрасавицы, ешьте! (ит.).
(обратно)20
Ну, да (ит.).
(обратно)21
Площадь (ит.).
(обратно)22
И таким образом (ит.).
(обратно)23
Черное красиво (англ.).
(обратно)24
Кисло-сладкая фруктовая приправа к мясу.
(обратно)25
Ассоциация «Контроль веса» (англ.).
(обратно)26
Здесь живет легенда (англ.).
(обратно)27
Лови день — строка из оды Горация (I, 11) (лат.).
(обратно)28
Ударный музыкальный инструмент из Бенгалии; по нему похлопывают правой рукой.
(обратно)29
Здесь и теперь (лат.).
(обратно)30
Африканский национальный конгресс.
(обратно)31
Безумная Бесс (англ.).
(обратно)32
Окорок с дыней (ит.).
(обратно)33
Печенье-соломка (ит.).
(обратно)34
«Students for a Democratic Society» (англ.) — «Студенты за демократическое общество», довольно значительная группа молодых радикалов, образовавшаяся в Соединенных Штатах в конце шестидесятых годов, в основном организовывала многочисленные манифестации против войны во Вьетнаме. (Примеч. автора.).
(обратно)35
Дерзость, отчаянность (иврит).
(обратно)36
«Куда ж подевались все цветы?» (англ.) — антивоенная песня середины XX века.
(обратно)37
Годы стойкости (англ.).
(обратно)38
Ешь! (ит.).
(обратно)39
На ничейной земле (англ.).
(обратно)40
Слово «blarney» означало «лесть», «славословие».
(обратно)41
Трепет ушел (англ.).
(обратно)42
«Я привык к ее лицу» (англ.).
(обратно)43
Здесь: площадь (исп.).
(обратно)44
И стал свет (лат.).
(обратно)


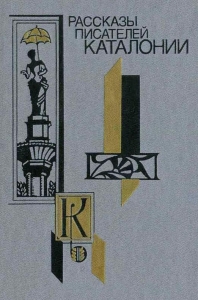




Комментарии к книге «Дольче агония», Нэнси Хьюстон
Всего 0 комментариев