Пролог
Край, где обитал людоед, был разорен войной. Война выгнала людей из домов, по лесам и долам скитались толпы маленьких сирот, и людоеду не приходилось долго искать добычу: в какую бы сторону он ни двинулся наугад, вскоре, пробираясь через поля сражений и разграбленные деревни, находил, кем полакомиться. Бездомные, потерявшие родителей и неведомо куда бредущие дети были на удивление вкусными.
Война шла повсюду. Она началась так давно, что никто уже не помнил, из-за чего это случилось. Никто никогда не одерживал в ней полной победы, никто не терпел сокрушительного поражения. Люди сражались, истребляли друг друга, волки довершали дело. Убивать сделалось привычным.
Сначала в кровожадных убийц превратились отцы и сыновья, но понемногу женщины и дети стали не менее жестокими, чем мужчины. Горе тому, кто столкнется с шайкой вооруженных детей или попадет в руки вдов и сирот!
Каждый рано или поздно принимал участие в резне, и каждый в конце концов становился жертвой какого-нибудь мерзкого преступления.
Однажды людоед встретил в глухом лесу безнадежно заблудившихся мальчика и девочку. У них никого на свете не осталось, родители погибли, деревня сгорела. Склонившись над ними, людоед сладким голосом спросил, не нуждаются ли они в помощи, а затем, зажав их ручонки в своих огромных лапищах, поволок по одной из тех тропинок, которые никуда не ведут.
Он еще не слишком проголодался, но уже предвкушал, с каким удовольствием съест живыми девочку и ее младшею братишку. Ему приятно было думать о том, как они станут корчиться в его руках.
Тропинка оборвалась на поляне, где среди высоких трав и цветов лежал выдолбленный ствол, а по нему текла чистая ключевая вода. Детям хотелось пить, и людоед подпустил их к воде, но все время, пока они пили, держал за руки, опасаясь, как бы обед от него не улизнул, хотя дети все равно далеко бы не ушли — они засыпали на ходу. Внезапно людоед оттащил их от родника, сам припал к колоде и мгновенно осушил ее. Потом, решив, что немного устал и ему не мешает вздремнуть, удобно устроился, привалившись к дереву. Поспит, отдохнет, а потом со свежими силами и оттого с тем большим удовольствием съест малышей. Дети крепко спали, но людоед для верности, чтобы они уж точно не убежали, обхватил их покрепче за шеи и притянул к своей груди.
Он надежно удерживал мальчика в тисках правой руки, девочку — в тисках левой и во сне все сдавливал и сдавливал, все душил и душил их. А когда проснулся, оба тельца лежали у него на животе безжизненные и обмякшие.
Раздосадованный людоед изо всех сил тряс и лупил детей, дул им в ноздри, но ему так и не удалось вернуть их к жизни.
Разочарование его было беспредельным: он любил только живых, крепких детишек, ему нравилось ощущать, как они извиваются в его руках, нравилось слушать затихающие стоны, а эта вялая плоть его совершенно не прельщала. Все, аппетит пропал! И до темноты ему точно не встретить других заблудившихся детей.
И тут он увидел, что у родника сидит неизвестно откуда появившаяся девушка — словно из воды вынырнула.
Людоед уставился на нее, разинув рот. Конечно, она уже не ребенок, и речи не может быть о том, чтобы ее съесть, но до чего хороша!
— Если хочешь, я могу вернуть их к жизни, — предложила она, указав на трупики.
— Правда? — переспросил людоед, готовый поверить чему угодно.
— Да, это нетрудно, мне только надо подольше на них посмотреть и постараться кое-что увидеть.
— Но что именно? И как ты это сделаешь?
— Мне надо посмотреть на них вот через этот осколок хрусталя, — ответила она, приблизив к глазу прозрачный голубоватый камень.
— И что тогда?
— Если, всматриваясь в них через этот кусок хрусталя, я сумею отчетливо разглядеть всю их жизнь, не только рождение и детство, но и то, какими они стали бы, если бы ты не свалял дурака, что ж — тогда они оживут.
— Сделай это, — взмолился людоед.
— Не так все просто. Мне надо будет увидеть преступления, которые они могли бы совершить, зло, которое могли бы причинить, или, напротив, те великодушные поступки, на какие оказались бы способны. Если картинка получится отчетливой, они будут жить.
— Их сердца забьются?
— Да.
— Грудь станет подниматься и опускаться?
— Да.
— И надо всего-навсего глядеть сквозь этот камень?
— Да.
— И я смогу?..
— Все, что захочешь.
— Тогда скорее посмотри на них. Разгляди все, что тебе надо разглядеть. Поторапливайся, барышня!
Девушка снова улыбнулась, медленно приблизила к глазу кусок хрусталя и попросила людоеда, подняв детей, держать их совершенно неподвижно. Она надолго остановила взгляд на девочке, потом перевела его на мальчика. Людоед видел непомерно увеличенный глаз девушки и не решался шелохнуться, стараясь как можно удобнее подставить ее взгляду детские тела.
Лицо девушки поминутно меняло выражение. Она хмурила брови, морщила нос, кривилась, вздрагивала от отвращения, в ужасе открывала рот, но не отрывалась от своего хрустального обломка.
Людоед забеспокоился, у него разболелась спина, онемели руки. Девушка все морщила лоб, и вскоре людоед увидел, что морщины ее углубляются, расходятся по всему лицу, спускаются к губам.
Какая же это девушка! На волшебный кристалл упали седые пряди, и держала хрустальный обломок теперь дрожащая старушечья рука, все быстрее переводившая ею с девочки на мальчика, с мальчика на девочку.
Внезапно людоеду показалось, что его жертвы снова задышали, что их сердца слабо забились. Потом их глаза раскрылись, и людоед ослабил хватку. Теплые, неумные, трепещущие дети зашевелились, приподнялись. Старуха опустила руку. Вид ее был ужасен: по глубоким морщинам струились слезы, в раскрытом, перекошенном рту виднелись больные десны и остатки почерневших зубов. Глаза налились кровью, волосы совсем побелели, кожа обтянула кости.
Людоед с удивлением смотрел на детей. Ему уже совсем не хотелось свежего мяса. Впервые запах детской плоти вызывал у него тошноту.
Он пристально всмотрелся в сидящую у родника старуху и увидел перед собой ведьму с пустыми глазами.
И тогда людоед расхохотался. Эхо подхватило его неудержимый, оглушительный смех, разнесло по всей поляне. Дерево, к которому прислонился людоед, зашаталось от этого смеха. Дети, улучив минутку, вырвались из ослабевших объятий, робко шагнули в сторону, а людоед, полулежа на земле, закатывался все громче и громче.
Вырвав из земли охапку цветов, он затолкал ее в рот и принялся жевать, за цветами последовали трава и даже мох — людоед, не переставая хохотать, давился всей этой растительностью. Он уже начал задыхаться.
Старуха исчезла. Дети медленно углубились в лес. Теперь под сводами ветвей снова раздавались крики и грохот войны. Людоед продолжал заливаться смехом.
На каменистой, заросшей мхом дороге детям встретился рыцарь в доспехах. Должно быть, он скакал уже давно. Взгляд у него был строгий и вместе с тем мечтательный. У ног его коня бежала собака. За ним следовали Смерть и Дьявол. Смерть оседлала старую клячу, а Дьявол… он и выглядел как дьявол! Рыцарь проскакал мимо, очень прямо держась в седле. Смерть потянула носом, принюхиваясь к детям, Дьявол слабо улыбнулся. И вскоре тьма поглотила все.
ЧАСТЬ I
ПРОГУЛКА К ЧЕРНОМУ ОЗЕРУ (Германия, лето 1963 года)
Мне только что исполнилось шестнадцать. Стояло лето. Я оказался один в купе поезда, увозившего меня в Германию, в маленький городок Кельштайн, где мне предстояло прожить несколько недель «по обмену», при котором ничего не менялось.
Когда я мысленно возвращаюсь в те дни моей молодости (должно быть, они меня притягивают), в памяти неизменно встает одна и та же картина: лесная дорога, ведущая сквозь частый ельник к просторной залитой светом поляне с маленьким озером, в котором отражаются летящие по небу облака.
Но до поляны с озером еще надо добраться — миновав окраинные дома Кельштайна, стены которых расписаны поучительными фресками, лезть по крутой тропке, петляющей по голому склону, к опушке леса — только тогда перед тобой открывался длинный зеленый коридор, и в конце его светилось золотистое пятно выхода. В сыром полумраке невольно ускоряешь шаг, тебе не терпится снова выбраться к дневному свету, снова увидеть небо. И вот наконец перед тобой в темно-зеленом ларце поблескивает спокойная черная гладь озера, и ты смутно догадываешься, что дальше двигаться нельзя.
С возрастом я понял, что эта лесная дорога прошла через мою жизнь, стала осью, и вокруг нее медленно-медленно вращается все, что со мной произошло. Потайной ход, соединяющий детство и зрелость, войну, которой я не знал, и мир, который не умел ценить.
Начало шестидесятых, я — французский мальчик, приехавший в Германию погостить с тем, чтобы усовершенствовать свой немецкий — я учил его в лицее. Пока такие поездки редкость. Мое путешествие было долгим, я торжественно пересек несколько границ и в конце концов оказался в семье, которую нашел для меня благоволивший ко мне преподаватель. Новости из Франции добираются до меня в письмах матери несколько дней. Мирная жизнь длится немногим дольше, чем вся моя, и я впервые предоставлен сам себе!
В Германии память о разгроме тягостна, но никто не говорит об этом вслух. Тени прошлого витают в мнимой безмятежности послевоенного времени над все еще заметными следами жестокой войны, над развалинами. Дымка невысказанного окутывает человеческую доброжелательность, туманит невинный облик вещей.
Парня, к которому я приехал, зовут Томас. Белобрысый, жизнерадостный, переполненный энергией, он делит все свое время между спортом и девушками. Славный малый, которому мое присутствие и так-то ни к чему, а тут еще его мать настаивает, чтобы он отвечал по-французски на мой убогий немецкий лепет. Я не могу всерьез с ним соперничать, но он опасается, что я отобью у него подружек. Разговоры между нами быстро сошли на нет. Нам не о чем говорить!
Я — крайне сдержанный брюнет — тоже полон энергии, Но вся она без остатка изливается на страницы толстых альбомов — с ними я никогда не расстаюсь. Я извел немало карандашей, пока Томас плавает, лазает по горам, флиртует, играет в теннис, пьет пиво и нашептывает девушкам на ушко смешные истории, в которых я ни единого слова не понимаю. Чаще всего он застает меня склонившимся над белой безразличной страницей. Я ловлю доносящиеся до меня незнакомые звуки, чужой говор, запахи дерева, камня и цветов, в изобилии свешивавшихся с балконов.
— Ну, что новенького сегодня выдумал, mein Franzose[1]?
(Томас никогда не называет меня «Поль»!)
Семнадцать лет назад тысячетонные бомбежки, обрушившиеся на большую часть немецких городов, пощадили Кельштайн и его желтые, розовые, светло-зеленые деревянные домики, словно из набора детских кубиков, рассыпанные вокруг средневековой крепости и трех барочных церквей в приветливой долине среди поросших лесом гор.
Сажусь на кровать в комнате, куда меня поселили, и рисую совсем не то, что у меня перед глазами: родники, липы или старые дома. Я даю волю карандашу и наслаждаюсь, чувствуя в пальцах легкий цилиндрик, глядя, как блуждает по бумаге грифель, а из-под него выходят фантастические, безумные, истощенные лица или причудливые тела с руками, словно ветки. Целые блокноты заполнены неумелыми почеркушками с поправками и подчистками, легкими линиями и сплошной штриховкой, фальшиво-сказочный и тщательно-подробный мир.
Томас, как и вся его семья, с уважением относится к моим занятиям. Он оберегает мой покой и развлекается без меня. Я остаюсь в полном одиночестве, особенно по вечерам, когда рисую на деревянном балконе, окутанный приторным запахом гераней, или еще позже, когда солнце разом ныряет за гору, в комнате при свете лампы.
На мое счастье, я приехал в Германию до начала школьных каникул. По утрам я вместе с Томасом отправлялся в лицей и успел перезнакомиться с его многочисленными друзьями. Для них я тоже «der Franzose[2]» или «рисовальщик»: человек с некоторыми художественными наклонностями, капризный и неопределенный, то есть опять же — истинный француз! Заинтересовавшись моими рисунками, они, выворачивая шеи и сдвигая брови, пытаются разобраться, что на них изображено, затем, покачивая головой, отступают, приговаривая: «Ja, ja… Schön! Aber, was ist das?»[3]
Дни идут, и в одно из воскресений мне объявляют, что мы наконец-то отправляемся на прогулку к Черному озеру, уверяя, что в такую жару искупаться в нем — одно удовольствие. Судя по описаниям, берега этого маленького высокогорного оазиса были настоящим райским уголком. Послевоенное воскресенье в Германии…
С рассвета чуть ли не все население Кельштайна — мужчины, женщины, дети, даже несколько стариков — карабкается вверх по каменистым склонам. Молодые парни двигаются быстро, теряя друг друга из виду на извилистых тропках и то и дело перекликаясь. Их родители идут бодрым походным шагом. На мужчинах украшенные перышками шляпы, на женщинах — легкие платья, а на некоторых — и традиционный Dirndl, блузка с рукавами-фонариками и кружевным воротничком под черным корсажем. А как мне нравятся обвивающие девичьи шеи бархотки с серебряными подвесками!
Тирольские заплечные мешки битком набиты хлебом, колбасой и бутылками с пивом. У меня тоже за спиной рюкзак с припасами и альбомами для рисования.
Идущие первыми уже добрались до леса, обернувшись, помахали нам и скрылись в тени исполинских елей. Молодые парни поют радостным и слаженным хором. Во Франции я привык к другому: там чаще можно услышать, как банда самцов ревет непристойные песни.
Оттого что кругом царит сельская идиллия без малейшего изъяна, мне очень не по себе, и я нарочно отстаю от других — не столько для того, чтобы полюбоваться окрестностями, сколько для того, чтобы попытаться скрыть необъяснимое замешательство.
Перед тем как войти в лес, я в последний раз оборачиваюсь, и передо мной открывается сказочный вид, какой бывает в стеклянных шарах. Все выглядит, как в фантазии ребенка. Луга, раскрашенные цветными карандашами. Часовни, похожие на новенькие игрушки. Даже деревянные лавки и родники безупречно красивы, завораживающе красивы. Красивы до тошноты.
Девушки, ускорив шаг, нагоняют меня, окликая по имени: «Па-оль», — так они его произносят, а говорят со мной медленно, отчетливо, стараясь выложить побольше сведений о природе, которую я так плохо знаю. А меня расспрашивают о парижской жизни.
Внезапно песни стихают в полумраке лесной тропы. Разговоры делаются тише, а потом и совсем смолкают. На лицах окружающих меня немцев появляется странное выражение, и мной овладевает беспокойство. Сердце непонятно почему сжимается, опять начинает подташнивать. Что происходит? Надо ли и дальше продвигаться под этот темный свод? Но другого пути к Черному озеру нет. Девушки оставили меня одного. Я слышу шумное дыхание стариков, отдающееся гулким эхом, словно в церкви. Примерно на середине пути мне становится совсем нехорошо и почти холодно.
Я прихожу в себя, только выбравшись снова на солнечный свет. И немного успокаиваюсь, глядя на девичьи тела, обрисовывающиеся против света под летними платьями. А потом с облегчением вижу перед собой поляну и озеро.
Над темной водой среди брызг мелькают красное пятно мяча, головы, руки, торсы. Парни быстро и без стеснения раздеваются под низкими ветвями, девушки поочередно заходят в серебристо-серую деревянную кабинку и вскоре появляются снова, пышущие здоровьем, готовые к купанию, с волосами, упрятанными под резиновые шапочки, укладываются на большие разноцветные полотенца.
Похоже, все, кроме меня, забыли о том, какое беспокойство охватило нас на лесной дороге, и только моей тревоги эта мирная картина не рассеяла. Невозможно отдаться слащавой безмятежности в обществе людей, воображающих, будто отныне им ничто не угрожает. Война закончилась семнадцать лет назад. И что же, теперь моя жизнь, вся моя жизнь будет протекать в таком вот мире и покое? Тяжелый, непроницаемый мир. Мир, утративший память. Где прячутся прежние страхи, пока люди пьют, смеются и мечтают, лежа на траве? Неужели я один здесь ощущаю неопределенную угрозу, опасность? Один боюсь недоброго взгляда кого-то, прячущегося в подлеске?
Что за ужас терзает тех, чьи измученные лица, подобно призракам, появляются в моих альбомах? Что за ярость в них живет? Какое чувство или предчувствие овладело мной на той лесной тропе, когда смолкли все голоса?
Вместе с Томасом и его друзьями устраиваюсь неподалеку от берега, у родника. Холодная вода щедро наполняет выдолбленный ствол огромного дерева, легкий ветерок разбрызгивает блестящие капельки. Томас радостно сообщает мне, что хочет есть и что пиво уже охлаждается. Он заигрывает с девушками, громко хохочет и прыгает в воду с понтона. Неудержимая радость…
Вскоре мы садимся перекусить. Я улавливаю лишь отдельные слова из того, что говорится по-немецки вокруг меня, но принуждаю себя веселиться наравне с моими мокрыми загорелыми товарищами, чтобы позабыть изрисованные страницы своего альбома, чтобы погрузиться в это облако блаженства и умиротворяющей нормальности.
Во Франции меня учили, что сразу после еды нельзя окунаться в холодную воду. Но немцы этого не боятся! Некоторые ныряют с набитым ртом, плещутся, рыча от радости. И внезапно все головы поворачиваются к тому месту, где тропинка выходит из леса. Все в один голос кричат: «Клара! Клара!» Кто эта девушка в черном, появившаяся на поляне настолько позже других? Похоже, все ее знают, и мои спутники от нее просто без ума.
Ее имя перелетает из уст в уста, с нее не сводят глаз, а она спокойно приближается к озеру. Парни ее окликают. Она, наклонившись, что-то говорит им и сворачивает в нашу сторону. Томас, внезапно страшно возбудившись и вскочив на ноги, орет:
— Клара! Клара! Иди к нам!
И смешно размахивает руками.
Я все лучше различаю черты ее лица и одежду, так сильно отличающуюся от того, что носят другие кельштайнские девушки. У Клары черные-пречерные очень коротко остриженные волосы, которые кажутся неуместными среди всех этих длинных светлых, почти белых кос. Она двигается гибко, словно кошечка, и осторожно, как лисичка. На ней черная рубашка, черные брюки чуть ниже колена и черные туфельки без каблуков. Даже издали заметно, что она чувствует себя вполне непринужденно, и вместе с тем кажется, будто она только что прибыла из других краев, из дальнего города. Или сошла со страниц странной книги.
Она приближается, и я вижу, что тяжелая кожаная сумка в такт шагам бьет ее по бедру. Потом Клара замирает, тонкая и черная, возвышаясь над нашими расслабленными телами. Меня сразу же поражают ее прозрачные ярко-синие глаза, глядящие на нас весело и дерзко. Она с улыбкой уворачивается от хватающих ее рук. Томас придуривается, и Клара ласково дергает его за волосы. Поглаживает по щеке то одну, то другую девушку, утаскивает у нас из-под носа несколько кружков колбасы и жадно жует, потом, ответив на приглашение остаться с нами вежливым отказом, в одиночестве удаляется, выбирает на берегу более уединенное место, дикий уголок, заросший тростником и осокой. И тут, к величайшему моему удивлению, она раздевается догола (все целомудренно отводят взоры), кидает в тростники штаны и рубашку, совершенно нагая входит в озеро, сильными и быстрыми толчками плывет, уплывает далеко-далеко, ее белая кожа вскоре становится неразличима среди ярких отблесков воды. Я стараюсь не смотреть туда, но не могу отвести взгляд от светлого пятна, плывущего над бездной.
Да кто она такая, эта Клара?
Позже, ближе к вечеру, телами, укрощенными холодной водой, овладевает неодолимая летняя дремота. Каждый выпил немало пива. Жарко. Я ухожу в сторонку, чтобы рисовать, устраиваюсь у ствола с неустанно журчащим родником. И снова с силой надавливаю на грифель, растираю его по бумаге, намечая контуры чудовищного тела. Рисую человеко-дерево-птицу с когтями, клювом, ластами, с большими пустыми глазами, обросшую черной штриховкой, потом лодку, которую в конце концов превращаю в плавучий гроб.
Внезапно среди журчания воды, которая текла здесь до войны, текла, быстрая и прозрачная, всю войну и долго еще будет течь после моего отъезда из Кельштайна, различаю механический звук. Поднимаю голову — и вижу перед собой эту девицу по имени Клара: она сидит у самого родника, на выдолбленном стволе, служащем ему чашей. Подкралась неслышно и нацелила на меня объектив маленькой стрекочущей камеры. Глаз не видно, они скрыты этой металлической маской. Белозубая улыбка под тусклым глазом видоискателя.
Клара продолжает меня снимать. Что ей от меня надо? Так, значит, в этой кожаной сумке у нее лежала восьмимиллиметровая камера. Покачиваю карандашом, робко пытаясь запретить охотиться за моим изображением, но барышня не обращает на это ни малейшего внимания. Мало того, она встает и, не переставая снимать, подходит ко мне вплотную. Теперь ей, кажется, захотелось сделать крупный план лодки, которую я рисую. Сейчас она украдет мой рисунок. Увидит моих чудовищ.
Убрав, наконец, от лица эту импровизированную маску, Клара впивается в меня глазами — до того синими, что я теряюсь под ее взглядом. Весело смеется, как будто удачно пошутила, непринужденно усаживается рядом и, к величайшему моему удивлению, обращается ко мне на отличном французском с прелестным легким акцентом. Она так свободно держится, что и мне удается расслабиться. Мне бы хотелось, чтобы купальщики, устроившиеся на берегу этого сказочного озера, на сотню лет погрузились в волшебный сон. Течет родниковая вода. Плывут облака. Клара, прижимая к себе камеру, тихонько говорит:
— Прости, милый француз, но я все время снимаю… я снимаю всех… и все, что вижу!
У нее мягкий, чуть глуховатый голос, иногда с легкой хрипотцой. Она наклоняется над моим рисунком, и я вижу, как колышется ее грудь в вырезе черной рубашки.
— Меня зовут Поль Марло, и я живу у…
— …Томаса, я знаю. И знаю, что ты все время рисуешь!
Она поднимает вверх свою маленькую светло-серую камеру с блестящим ключом, которым заводится механизм.
— Моя камера всегда со мной, — объясняет Клара, — она видит то, чего не видят мои глаза. Это «Agfa Movex», мне ее папа подарил…
Я странно чувствую себя под взглядом Клары: как будто из глубины этой ясной синевы, с той стороны зеркала без амальгамы, на меня смотрит кто-то другой, очень старый и очень серьезный. И тут я замечаю на лице этой странной девушки, под самым правым глазом, крохотную, совершенно черную родинку — как третий глаз, змеиный глазок или объектив малюсенькой камеры, скрытой под гладкой кожей.
Она убирает свою «агфу» в кожаный чехол, изнутри выстланный красным бархатом, защелкивает металлическую застежку, а потом с такой непосредственностью берется за мой альбом, что все мое смущение пропадает.
— Можно посмотреть, Поль? — она тоже обращается ко мне «Па-оль»…
И я с готовностью показываю ей рисунки. Мы сидим плечо к плечу, в тишине, которую лишь подчеркивает журчание родника, и она с серьезным и внимательным лицом перелистывает плотные страницы. При взгляде на некоторых персонажей его выражение делается суровым, словно ясное небо внезапно затягивают тучи. Но она не произносит ни слова!
Клара без всякого удивления изучает путаницу линий и штрихов, потом внезапно вскакивает и решительно протягивает мне руку.
— Если хочешь, заходи как-нибудь на днях со своими рисунками, я их поснимаю…
И убегает так быстро, что я не успеваю ответить. Только смотрю вслед легкой черной фигурке с камерой через плечо, удаляющейся вдоль берега озера, вода в котором теперь стала свинцовой.
В голосе родника звучат трагические нотки. Солнце скрылось. Поднимается ветер. Одиночество меня гнетет. Мои рисунки бессильны против ощущения чуждости, несоответствия. Что сказать? И кому? Я плохо понимаю то, что говорится вокруг меня, а то, что сам я могу выразить по-немецки, удручает своей примитивностью. Мне хочется как можно скорее уйти с этой поляны, вернуться в свою комнату, но я боюсь повторить путь через лес. Кое-кто из купальщиков еще здесь, у озера. А вот и Томас, сидит на краю понтона с какой-то девушкой в купальнике, обнимает ее и лезет целоваться. Пожалуй, я даже и не завидую его способности получать удовольствие.
— До вечера, Томас.
— Ты уже не рисуешь, mein Franzose?
— Пойду домой. До скорого, а может, и до завтра.
Он перестал ворковать, и я понял, что он чем-то обеспокоен.
— Я видел, как красотка Клара тебя снимала. Ты только не воображай, будто она тобой интересуется… Она всех нас снимает.
Он говорит о Кларе неравнодушно и с досадой, при этом крепко обнимая за плечи белокурую подругу.
— Клара! — вздыхает он. — Вот такая она у нас, эта Клара! Ты с ней раньше не встречался? Она отшельница: гуляет одна или сидит одна дома со своей киношной техникой. Она снимает все подряд, что попало, кого попало… А ее отец — доктор Лафонтен, он весь Кельштайн лечит.
Томас произносит эту фамилию очень смешно, с сильным акцентом.
— Лафонтен? — удивляюсь я. — Они что — французы?
— Да нет же! — замотал головой Томас. — Они не имеют никакого отношения к вашему Лафонтену! «Волк и ягненок», «Заяц»… «Ворон»… мы учили несколько басен на уроках французского. У них и фамилия по-другому пишется. Они настоящие немцы, только французского происхождения… Их семью когда-то давно во Франции преследовали. Evangelisch… как это по-вашему называется — протестанты? Но у нас здесь их немного, в Кельштайне больше католиков. Лафонтены из протестантов, но они даже и в храм не ходят… Понимаешь?
Нет, я не очень хорошо понимаю, и мне не терпится поскорее уйти с этой поляны. Я предоставляю парочке обниматься дальше, а сам направляюсь к опушке леса.
Лесная дорога, над которой на доброй сотне метров горизонтально льется золотой свет, напоминает святилище, выстроенное с таким расчетом, чтобы в него проникали лучи заходящего солнца, и выглядит совсем не так мрачно, как я думал.
Я углубляюсь в чащу. Мне совсем нетрудно было бы догнать одну из идущих впереди компаний, но я, напротив, замедляю шаг, как будто опасаюсь, что волнение, пробудившееся во мне при виде девушки с камерой, в их присутствии уляжется. Золотистый свет уже начинает угасать, спускаются сумерки, и внезапно мое внимание привлекает едва заметный проход между деревьями справа от тропинки. Куда он ведет?
Утром, когда мы здесь шли, я ничего не заметил, и все же именно на этом месте мне было особенно не по себе. И именно здесь все до единого умолкли.
Тайна притягивает меня словно магнитом. Я без раздумий сворачиваю направо и дальше иду узенькой тропкой. Глаза не сразу привыкают к темноте, и продвигаюсь я осторожно, но совершенно уверен, что тропка меня куда-нибудь да приведет.
Очень скоро, буквально через несколько шагов, я оказываюсь на крохотной, безупречно круглой полянке, невидимой с лесной дороги. Зеленая часовня. Тупик. И здесь чувствуется опасность.
Стою неподвижно, но сердце отчаянно колотится. В тени что-то блеснуло. Не двигаясь с места, всматриваюсь и вижу фарфоровую вазу, накрепко прикрученную проволокой к стволу огромной ели на высоте двух метров от устилающего землю мха. Нарядная ваза, бело-голубая с золотом, а в ней стоит букет роскошных роз!
У меня такое чувство, словно я вломился в святилище, нечаянно забрел в логово тайного общества. Зачем здесь эти розы в такой красивой вазе, почему все это оказалось в глухом лесу? И ведь розы не увядшие, высохшие, забытые — нет, цветы срезаны недавно. А ваза, которая куда уместнее выглядела бы на камине или на рояле в гостиной, несомненно, наполнена чистой водой. Кто мог принести сюда этот букет, чья рука его здесь оставила?
Тайное приношение среди сырой тишины. Я подхожу ближе и спотыкаюсь о груду старых, увядших букетов: здесь целое кладбище роз, ворох выцветших лепестков и колючие стебли, лежащие на моховой подстилке, как скелеты. У меня мурашки по коже поползли от прикосновения к этой мертвой когтистой груде и от мощного запаха еще живых роз. Мне чудится, кто-то за мной наблюдает, кто-то там, за черными колоннами стволов, шепотом переговаривается.
Все так далеко от меня. Безнадежно далеко! Я чувствую, что не просто оказался вдали от Франции, от знакомых мест, от родного языка, от матери, — нет, здесь, оставшись в одиночестве на тайной поляне посреди немецкого леса, я почувствовал, как далек от всего вообще и что это надолго. Нет больше ни Парижа, ни Лиона, где я жил ребенком. Теперь я обречен прозябать в трезвомыслящей Германии.
Я бегу прочь через сгущающуюся тьму, спотыкаясь об узловатые корни, и не останавливаюсь до тех пор, пока внизу не открывается наконец кельштайнская долина в нежных сиреневых сумерках. Один за другим загораются первые огоньки. Я сбегаю по склону, обогнав на каменистой тропинке припозднившихся путников, — скорее, скорее запереться у себя в комнате, пусть эти литры тревоги, накопившиеся во мне, выльются на бумагу через стержень карандаша. Рисовать — это как сделать кровопускание. Дурная желчь вытечет через грифель. Страницы, заполненные гримасничающими лицами с вытаращенными глазами. Целые альбомы уже не принадлежащих мне воспоминаний.
Вот я и снова на улицах Кельштайна, но, должно быть, я немало времени потерял, потому что у ратуши нос к носу сталкиваюсь с Томасом, его новой подружкой и тремя или четырьмя его одноклассниками — я-то думал, что оставил их далеко позади! Как же им удалось меня обогнать? Сколько я пробыл в этом уединенном святилище, у подножия импровизированного алтаря, этого опутанного проволокой памятника, созерцая букет роз в фарфоровой вазе?
Чувствую, что они настроены враждебно. Девушка, прижавшись к Томасу, что-то шепчет ему на ухо. Он кивает несколько раз. Притворяясь, будто не замечают меня, они быстро-быстро говорят между собой по-немецки. Я подбираю слова, чтобы объяснить, что хочу вернуться домой: «устал», «рисовать», «написать маме»… Они поворачиваются ко мне спиной. Сжимаю кулаки, борясь с желанием скинуть рюкзак, поставить его на землю, подскочить к Томасу или вот этому толстяку — однажды я видел, как он пнул ногой свою собаку, — и набить обоим их мерзкие рожи. Но Томас почти ласково кладет руку мне на плечо и с улыбкой говорит:
— Ах, mein Franzose… слишком много ты хочешь здесь увидеть. Но здесь есть очень нехорошие вещи, и не надо видеть все. И знать всего не надо. Надо было тебе от озера прямиком идти домой…
Та самая его неукротимая энергия и помогает ему овладеть собой, сменить глухой гнев на заразительную жизнерадостность. Дружески похлопав меня по спине и подергав лямку моего рюкзака, он прибавляет:
— Хотя ведь Клара тебя снимала! Ты попал в ее камеру! Значит, ты теперь немножко кельштайнец…
УБИЙСТВА (Украина, лето 1941 года)
— Хотя бы до леса прогуляемся!
Как и каждый вечер, на пороге стоит лейтенант Мориц. Его крупная, тяжелая фигура отчетливо вырисовывается на фоне прямоугольника света, протянувшегося теперь и по полу. В пустом классе школы, превращенной в полевой госпиталь, темно, и Мориц, как ни всматривается, скорее угадывает, чем видит, доктора Лафонтена.
— Почему бы и нет? — не оборачиваясь, откликается тот.
Еще немного поскрипев пером по бумаге, он надевает на авторучку колпачок, захлопывает блокнот в кожаной обложке, прячет его во внутренний карман офицерской куртки и только после этого встает и направляется к двери.
— И как вы только можете писать в такой темноте? — удивляется лейтенант.
— Больше света! Больше света! — горько усмехается доктор. — Хорошо, лейтенант, давайте прогуляемся до леса. К тому же и стрелять, кажется, перестали. С казнями покончено! По крайней мере, на сегодня…
— Странно, но я перестал обращать на это внимание.
— А ведь они неделю как расстреливают! Хотя вы-то привыкли к выстрелам — это ваша профессия, старина.
— Вы прекрасно знаете, что моя рота не имеет отношения к расстрелам, это делают войска СС! Подобную работу выполняют специальные группы.
Доктор Лафонтен осторожно ощупывает ткань над внутренним карманом, словно проверяя, на месте ли его драгоценный блокнот. Потом протирает белым платком запотевшие стекла очков в стальной оправе, набивает и раскуривает трубку и бормочет из облака синего дыма сквозь зажатый в зубах чубук:
— Паршивая работенка, лейтенант.
— Наши подразделения никак не связаны ни с этими группами, ни с частями СС. Они пришли следом за нами и расположились в брошенных коммунистами казармах. Они отлавливают шпионов и большевиков, которые все еще где-то здесь прячутся. Здесь очень много партизан.
— Шпионов? Большевиков? Да вы же прекрасно знаете, что убивают они евреев! Всех евреев. Люди наперебой бросаются показывать еврейские дома украинской милиции, чтобы те сдали жителей этих домов частям СС.
— Не думал, что здесь так много евреев…
— Украинцы их ненавидят: обвиняют и в том, что здесь был голод, и в теперешних трудностях, говорят, будто евреи прячут у себя еду… С нашим приходом у них появилась возможность отомстить.
— Евреи в самом деле во всем этом виноваты?
— А разве не все зло на этой земле от них, лейтенант?
Доктор, поджарый двадцатисемилетний красавец, жгучий брюнет, шагает вперед и оказывается в ярком прямоугольнике рядом с лейтенантом Морицем, здоровенным парнем со светлыми, почти белыми волосами, туго натянутой кожей, лоснящимися щеками, огромными ручищами.
Залитый солнцем школьный двор забит военно-санитарными машинами, между которыми пробираются солдаты на костылях. Доктор, поправив и без того безупречный галстук, устало спрашивает:
— А что, приказ продолжать наступление все еще не пришел?
Лейтенант растерянно улыбается и яростно скребет затылок. В эту минуту он похож на мальчишку, раздосадованного тем, что его окликнули в разгар жаркой спортивной схватки.
— Пока что нет! Надо скоординировать передвижения наших войск. Знаете, мои люди плохо переносят бездействие, да еще эта жара их изводит.
Неделей раньше несколько полков вермахта на удивление легко вошли в Краманецк. Тучи пыли. Бескрайние равнины. Пустые деревни. К северу отсюда войска продвигались с жестокими боями, русских военнопленных было не счесть, а этот армейский корпус мгновенно прорвал оборону противника: дело обошлось несколькими легкими стычками и немногочисленными ранеными, которых теперь лечит доктор Лафонтен.
— А что, лейтенант, известно, где сейчас войска коммунистов?
— Сведения поступают противоречивые. Одни говорят, что коммунисты побеждены. Другие — что они собираются вокруг Москвы, эшелон за эшелоном. Еще говорят, что они внезапно зайдут на нас с тыла. Как бы там ни было, по официальным сведениям, в ближайшее время наступление начнется. Попомните мои слова, Лафонтен: к сентябрю мы будем в Москве.
— Да. Пусть даже расстояния здесь устрашающие!
Доктор только что записал в своем блокноте: «Что-то изменилось… мы теперь в России. Неужели я один замечаю тревогу, овладевшую нашими солдатами, могучими солдатами Рейха, странную тоску, которой сменилась первоначальная эйфория, словно все мы, продвигаясь по России, туманно ощущаем, что не мы передвигаемся в пространстве, но сам этот русский простор надвигается на нас. Меня пугает российская необъятность. Бескрайнее пространство берет свое начало где-то очень далеко, за горизонтом. Я ясно понимаю, что оно погасит любой энтузиазм, разобьет иллюзии, красно-черные знамена здесь вылиняют, утратят цвет. Но в отличие от сильного ветра напавшее на нас пространство не сметает предметы и не хлещет тела: оно попросту делает их крохотными. Здешняя безмерность — это чудовищный смех. Сквозь скрежет гусениц наших танков я слышу, как хохочет русский простор. Это нечто другое, чем война! Но кому я это скажу? С кем мне поговорить?»
Доктор и лейтенант пробираются под палящим зноем сквозь толпу вооруженных людей, заполнивших главную улицу Краманецка. Солнце клонится к закату, теперь земля и камни отдают накопленное тепло. У доктора снова запотели очки, по щекам лейтенанта струится пот.
Дома в центре города реквизированы вермахтом. Военные грузовики стоят впритык один к другому с разинутыми капотами, словно измученные жаждой чудища из снов. Везде, где можно укрыться в тени, кучками собрались солдаты. Они повытаскивали из домов столы, кресла, диваны и теперь играют в карты посреди улицы или крепко спят, раскрыв рты, под сенью сорванных с окон тяжелых штор. Лежащие и сидящие скучающие солдаты ловят малейшие сквознячки, стараются укрыться от жары в тенистых переулках или подворотнях. Кто-то вытащил из дома рояль, и теперь он, заваленный пустыми бутылками, торчит посреди площади. Почти все люди по пояс голые. Их выдубленные солнцем лица кажутся вырезанными из картона. Солдаты ждут приказа продолжать наступление.
Они и не глядят на лейтенанта Морица и доктора Лафонтена, решивших в этом безрадостном затишье прогуляться до леса. В нос шибают запахи бензина, горелой резины, разогретой отработанной смазки, прокисшего супа.
Дружба между молодым врачом Артуром Лафонтеном и Вальтером Морицем зародилась несколько месяцев назад, во Франции. Оба были родом из маленького городка Кельштайна и, друг друга смутно припомнив, заговорили о родных краях и тамошних людях. Мориц вспоминал Кельштайн с простодушным удовольствием, Лафонтен — отрешенно, как человек, не желающий иметь никаких корней. Они во всем совершенно разные: Лафонтен, потомок старинного гугенотского рода, скорее гордится своей явственно французской фамилией и мечтает обосноваться в Мюнхене, где война застигла его студентом медицинского факультета, Мориц до того, как его мобилизовали и отправили во Францию, собирался взять в свои руки управление отцовской лесопилкой в Кельштайне.
Двух этих совершенно непохожих людей связывала сдержанная, но крепкая дружба — на войне, где порой чувствуешь беспредельное одиночество и опустошенность, между людьми, которые в мирное время ни за что не стали бы встречаться, проявляется более глубокое, незаметное на первый взгляд родство. Военная дружба. Мужская тесная дружба. Эти странные отношения, непонятные женщинам и тем, кто не был на войне, не имеют ничего общего с «братством по оружию». Эту связь рождают молчаливое уважение и воспоминания о том, какими люди увидели друг друга, когда смерть была близка. Лицо и тело человека в минуту, когда его вот-вот могли убить, когда сам он готовился убивать, когда другие умирали у него на глазах — такое не забывается. Когда-то позже все же забывается, но дружба остается. Неприкрашенное и исключительно мужское одиночество. Мгновения, о которых невозможно рассказать, они не имеют ничего общего с бархатной мягкостью повседневной жизни, счастливой жизни, оставшейся позади, вечно манящей и навеки утраченной, — пусть даже потом, когда худшее останется позади, ты, уцелевший, станешь притворяться, будто вернулся туда же, откуда ушел, и все с тем же наслаждением ласкаешь этот облысевший, вытертый бархат.
Сейчас два друга идут по Краманецку, Кельштайн далеко. Им незачем вспоминать о родной долине и поросших лесом горах, незачем говорить о снежных зимах и уж тем более — о традиционных походах к Черному озеру летними воскресными днями, когда жара становится нестерпимой. Однако этим душным русским вечером они не могут не думать о Черном озере. Каждый видит перед собой крутую тропинку, по которой надо взбираться пешком, с рюкзаком на спине, чтобы ступить потом на сумрачную лесную дорогу, выйти на поляну к роднику с чистой, прохладной водой, заполняющей выдолбленный ствол… Но идут-то они сейчас по России, и кругом война!
Город невелик, и вскоре они выходят на окраину с низенькими бедными домами — какими же непрочными кажутся эти мазанки рядом с танками! Один из танкистов уснул в тени башни. Усталый патруль бредет в расположение части, солдаты, которым нечем заняться, дремлют где придется.
Навстречу идут, согнувшись, тяжело нагруженные женщины. Их мужья прячутся, а может быть, убиты. Лишь несколько оборванных русских мальчишек осмелились приблизиться к двум немцам в военной форме, хотя и не вплотную, и теперь на некотором расстоянии следуют за ними. Внезапно городок Краманецк заканчивается, сразу за ним начинается лес, а дальше лежит бескрайняя степь.
Оба молчат. Лафонтен изредка останавливается, чтобы раскурить погасшую трубку, и тогда лейтенант оборачивается и ждет его, почесывая затылок и щурясь на низкое солнце. Потом они идут дальше, а впереди ползут длинные тени. Когда друзья поравнялись с казармами, внезапно прогремели выстрелы. Они замерли на месте. Все стихло. Они продолжают вслушиваться — и вот он, новый оглушительный залп.
— Похоже, опять расстреливают, — говорит доктор. — Обычно эти ваши особые отряды к вечеру заканчивают свою… работу…
— Пожалуйста, не надо говорить «ваши» отряды.
Дети встрепенулись, стали показывать двум военным на вход в казармы. Совершавшаяся совсем рядом казнь взбудоражила ребят, они принимаются складывать из пальцев подобие оружия: указательный и средний пальцы вытянуты, безымянный и мизинец подогнуты, большой палец торчит наподобие предохранителя револьвера — и, надувая и отпуская щеки, пытаются изображать выстрелы. Жалкое подражание. Некоторые притворяются убитыми. И все смеются, разевая беззубые рты.
С каждым выстрелом доктор зажмуривается и стискивает челюсти. Два каменных здания скрывают от глаз место казни, но страшное видение все равно отогнать не удается. Пуля впивается в грудь или в голову, человеческое тело рушится на землю. Искаженное лицо залито кровью. Тело содрогается. Сколько раз он это видел раньше…
Здесь пошла уже вторая неделя массовых расстрелов.
У входа в казарму сидят трое бородатых украинцев, рядом свалено нечищеное оружие и груды пустых бутылок. Они не стали прогонять вцепившихся в ограду детей, но при виде двух немецких офицеров поднялись на ноги и лениво отдали честь, а потом открыли ворота, чтобы немцы могли полюбоваться казнью.
Явно заинтересованный лейтенант Мориц входит первым, а доктор еще немного постоял, выбил погасшую трубку о каблук и только после этого нерешительно последовал за спутником. Полицаи, пошатываясь и хихикая, отпихивают ногами раскатившиеся бутылки.
Войдя во двор, Лафонтен оборачивается и смотрит на детские лица, прижатые к ржавым прутьям.
И тут всего в каких-то несколько метрах от него появляется странная процессия. Из дома вереницей потянулись бледные, истощенные женщины. Они идут словно заведенные, мелкими быстрыми шажками, головы у всех опущены. Женщины двигаются цепочкой, и каждая держит руки на плечах впереди идущей. На них нет никакой одежды, если не считать лохмотьев, похожих на прилипшие к скелету лоскутья грязнейшей кожи. Серые от страха лица, огромные поблекшие глаза. Женщины выглядят такими маленькими среди перетянутых ремнями и обутых в сапоги орущих солдат, конвоирующих их по бокам. Между отрывистыми приказами слышен лишь шорох босых ног, ступающих по земле. Лафонтену бросилась в глаза женщина без одной руки, все-таки тянущая плохо зашитую лиловую культю к плечу идущей впереди узницы. Жалкое зрелище. Пустота на месте локтя. Призрак ладони.
Неспешно приближается еще один отряд СС. Они закончили свою работу и теперь с полнейшим равнодушием идут наперерез колонне смертельно напуганных женщин. Потные, багровые, у некоторых мундиры забрызганы кровью. При виде немцев машинально вскидывают руку в приветствии.
— Пошевеливайтесь, если сегодня еще собираетесь пострелять, — орет один из них, особенно краснолицый.
В огромном дворе ждут несколько подразделений. Заходящее, но все еще жгучее солнце накаляет металлические детали оружия. Впереди, вдоль стены, тянется ров. Над этим страшным провалом торчат вскинутые руки, вывернутые ноги — сваленные в кучу человеческие тела перемешались, превратились в месиво, кашу из бело-розовой плоти, окровавленных тряпок, слипшихся волос. Это сточная канава смерти, окаменевший поток расстрелянных в черных затвердевших берегах.
Колонна замирает, растянувшись вдоль рва, женщин пинают и подталкивают прикладами, заставляя опуститься на колени. Хриплые выкрики эсэсовцев лишь подчеркивают безмолвие и покорность жертв. Некоторые женщины теряют сознание. Их поднимают, они падают снова, головой вперед, уже сползая в ожидающую их яму.
Ни единого стона. Только глухой ужас.
Одни обхватывают себя руками, другие дрожат всем телом или бьются в конвульсиях, но все они уже по ту сторону крика — они уже мертвы.
За спиной у каждой женщины по эсэсовцу. Все отлажено.
— Feuer![6] — Стреляют в упор, головы разлетаются на части, хлещет кровь.
— Feuer! — Некоторые эсэсовцы делают по два-три выстрела женщинам в затылок. Потом солдаты методично сгребают трупы, спихивают в уже доверху заполненную канаву. Если где-то высовывается рука или торчит макушка, подталкивают, утаптывают сапогами.
Расстрельная команда тем временем проверяет и перезаряжает винтовки. Возятся с оружием устало, словно землекопы на обочине проселочной дороги под вечер, когда солнце уже низко и рабочий день окончен.
Офицер СС здоровается с Морицем, объясняет ему, что это последние оставшиеся еврейки, их мужья и отцы уже все расстреляны, а женщины — и дети, само собой, — остались, разбирайся теперь с ними, надо было расстреливать всех вместе, но приказ есть приказ, хоть и дурацкий, и теперь вот казармы битком набиты малышней, мальчишками и девчонками, а милиция что ни день находит все новых и новых, ну да, еврейских женщин, и девушек, и детей, они сидят в подвалах или прячутся в лесах, в кустах, распластываются по полю, но со всеми этими евреями надо покончить, чтобы до начала наступления все было чисто, говорит он, ну да, работа нелегкая, только разве власти это понимают, они-то отсюда далеко… Словом, офицер СС жалуется на свою долю. Потом умолкает, на лице его написано разочарование, он щелкает каблуками, разворачивается и снова выкрикивает свое: «Feuer!»
Лафонтен пятится, отступает в тень, к стене.
Мориц остается один. Только теперь он замечает, что расстреливают не только эсэсовцы: здесь и солдаты вермахта, от нечего делать явившиеся поглазеть на зрелище. Но они не только смотрели, раз теперь застегивают кобуру, похлопывая по черной коже. Лафонтен смотрит на идущего к нему друга. Лицо Морица искажено, он кривится, сжимает губы так, словно еле удерживается от распирающего его смеха или у него живот скрутило. Лейтенант хотел было вмешаться, но не узнал среди карателей ни одного из своих солдат. Вот оно что: парни из особого отряда предлагают скучающим, одуревшим от адского пекла и жужжания тысяч мух солдатам поразвлечься, приняв участие в казни.
— Им здесь нечего делать! — кричит он.
Лафонтен машинально прижимает руку к груди, нащупывает твердый, плоский блокнот, в котором только вчера записал: «Теперь уже все чувствуют, что война будет долгой. Восточный фронт. Ужас терпелив. Он выжидает. Он под стать этим просторам. Ужас прячется за линией горизонта. По ту сторону зноя. Беспредельный и неудержимо распирающий ужас».
Лафонтену хочется как можно дольше сохранить это убежище записей. Блокнот, его дневник — словно хрупкая раковина, оберегающая последние остатки человеческой нежности, веру хоть во что-то человеческое. Воображаемый тайник, где ребенок, тот ребенок, которым он был когда-то, может укрыться. Шалаш, чердак, лес.
Каждый день писать хотя бы несколько строк. Все видеть, ничего не бояться, самому себе нашептывать главное, эти короткие записи помогут ему выдержать страшные удары — вот так можно устоять, когда на тебя обрушиваются огромные волны и не могут опрокинуть, потому что ты зарылся ступнями в песок. «Если я все же уцелею на этой войне, если… и даже если я вернусь, сумею ли я сохранить хоть частичку себя, обрывок прошлого, надежду на будущее, каплю человеческого достоинства, крохи сознания?»
Он целыми днями обдумывает и по ночам торопливо записывает эти слова. Но долго ли можно укрываться за словами? На самом деле больше всего он боится потерять не блокнот, а всякое желание в нем писать, написать хотя бы еще одну строчку, еще одно слово, самое последнее слово. Он думает о том времени, когда от его дневника останется лишь мертвый блокнот. Ненужный, мешающий предмет, который без сожаления выбросишь в ров, в канаву.
Стоящего напротив него лейтенанта, похоже, терзают сомнения. «Мориц производит впечатление мужественного и несгибаемого человека, но теперь я вижу, насколько он вместе с тем беззащитен. Он был готов только к тому, чтобы воевать. Был готов к войне. К сражениям. Ужас сломит его трогательную убежденность. Он готов к страданиям. Он не готов к тому, чтобы перестать понимать. Бедный старина Мориц! Счастливчик Мориц!»
Друзья, не сговариваясь, одновременно направляются к двери того здания, откуда вышли женщины. Пьяные полицаи и эсэсовские часовые беспрепятственно пропускают их внутрь. Нестерпимая вонь. Запах дерьма, блевотины, страха, грязи и агонии. Удушливый смрад. Растворенная в воздухе субстанция, крепкая и едкая одновременно, проникает внутрь не только через рот и нос, но и через кожу. У подножия широкой лестницы, по которой вонь стекает, словно поток экскрементов, они останавливаются, охваченные желанием сбежать, но доктор по опыту знает, что к этому привыкаешь. Он распрямляется, вытаскивает платок, прикрывает рот и нос, поднимается по ступенькам на второй этаж.
Лейтенант идет за ним. Они продвигаются осторожно. Все двери вдоль длинного коридора распахнуты настежь. Ставни в комнатах закрыты, в полумраке еле различимы сбившиеся в кучки неподвижные дети и исхудавшие женщины.
Совсем молоденькая девушка со слипшимися от пота волосами склонилась над двумя голыми синюшными младенцами, рты у них раскрыты, они уже умерли или вот-вот умрут. Другие девочки, совершенно потерянные, поджав колени к груди, медленно раскачиваются, не издавая ни единого стона. Здесь же и старухи, сидят, припав головой к исцарапанной их ногтями стене. И так в каждой комнате: кучки истощенных, измученных, растерянных детей. Везде одна и та же картина. Посиневшие губы, впалые щеки, глаза, облепленные мухами. Дети в этих стенах мгновенно стареют. Некоторые, самые крепкие, все еще бездумно играют обломками штукатурки и обрывками тряпок, не обращая ни малейшего внимания на лежащие вокруг тела. Среди них бродит молодой украинец с обритой головой, время от времени палкой приподнимает чей-нибудь подбородок и тотчас отпускает. Здесь же одноглазый помешанный еврей, глубокий старик, безостановочно опорожняет горшки с нечистотами.
Если когда-нибудь здесь и раздавались крики отчаяния или протеста, они смолкли давным-давно. Сил нет застонать, слышен только общий хрип, глухой кашель, раздирающий горло и грудь.
Лафонтен машинально наклоняется над женщиной, баюкающей бледного до синевы ребенка. Прижимает два пальца к сонной артерии и распрямляется — у него недостает мужества отнять ребенка у матери, и та, отвернувшись, снова принимается его качать.
Убедившись в том, что верхний этаж точно так же забит людьми, Мориц и Лафонтен сбегают по лестнице и, выскочив во двор, жадно глотают пропахший порохом воздух, словно хотят промыть им горло и бронхи. Но глаза от этих адских видений отмыть невозможно!
Полицаев у ворот столпилось теперь еще больше, и все они пьяны в стельку. Солнце тем временем зашло. Русские дети, невидимые в темноте, выкрикивают непристойности.
Доктор и лейтенант молча возвращаются в центр Краманецка. Они ни словом не упомянули о том, что видели, каждый погружен в собственные раздумья о смерти.
Лафонтен: «Какого черта! Дети, младенцы, вся эта несчастная мелюзга! Они умирают на помойке!»
Мориц: «Ненавижу эти особые отряды. Эсэсовцы думают, будто им все позволено! Я не хочу, чтобы мои люди имели к этому отношение. Только не солдаты вермахта. Верховное командование наверняка не в курсе».
Лафонтен: «…санитарные условия чудовищны. Очень скоро начнутся эпидемии! Я же врач… Надо что-то делать».
Мориц: «Эти женщины и дети — никакие не военнопленные! Расстрелы не имеют никакого отношения к вооруженным действиям. Я солдат. А эти особые отряды воюют с женщинами, детьми, младенцами!»
Лафонтен: «Они, конечно, нам скажут, что это всего-навсего евреи. Что приказы идут сверху. Что здесь, как и везде, евреи представляют серьезную угрозу… Что же — независимо от возраста?»
Мориц: «Сколько среди моих солдат отцов семейства? Они и так уже с трудом переносят наше вынужденное бездействие. Если же они узнают об этих расстрелах, их боевой дух совсем…»
Лафонтен: «…надо сообщить командованию. Ну и пусть эсэсовцы разозлятся!»
Мориц: «Недопустимо, чтобы они убивали просто от скуки. Предельная распущенность! Надо что-то делать. Немедленно доложить наверх…»
Оба, не сговариваясь, но движимые одним и тем же намерением, двинулись мимо колонны танков, словно поднимаясь против течения хмурой могучей силы, против хода всех этих бронированных, механизированных войск, почему-то застывших на месте.
Миновав грязные бараки, они приближаются к каменным зданиям. Серые стены, черные окна. А окна первого этажа освещены, там собрались офицеры, оттуда слышна музыка, звуки аккордеона, поющие голоса. Между танками потрескивает костерок.
А вот и гостиница, от застекленных дверей и высоких окон на темную траву парка ложатся прямоугольники света.
— Я зайду в штаб, — говорит Мориц.
— Я с вами, Вальтер.
— Спасибо, Артур.
Они со времен французской кампании не называли друг друга по имени, обычно сдержанно и насмешливо говорят «доктор» и «лейтенант», а иногда — Лафонтен и Мориц.
Вокруг них, на каменных ступенях, толпятся люди в мундирах.
Около полуночи потерявший терпение Ortcom-mandant — комендант городка — велит им не вмешиваться в то, что творится в казармах.
— Это работа войск СС! — твердит он, нервно затягиваясь. — Секретная операция! Особые отряды! Они обеспечивают безопасность наших тылов.
Мориц не унимается. Бледный от гнева, он глухим голосом повторяет:
— Да о какой секретности вы говорите, когда кто угодно может туда заявиться и присоединиться к расстреливающим! Убивать женщин от нечего делать! Полное отсутствие дисциплины, это недопустимо!
К нему присоединяется и Лафонтен, он говорит более спокойно и определенно:
— Господин комендант, там отсутствует какая бы то ни было гигиена, это создает серьезную угрозу возникновения инфекционных болезней, в том числе — и для наших людей! И что будет со всеми этими детьми, с младенцами? Их ведь не расстреляют, как взрослых?
Комендант, чтобы отвязаться от них, обещает поговорить об этом с офицером СС, который находится здесь же, в гостинице. Мориц с Лафонтеном отвечают, что подождут.
Морицу этот разговор дается нелегко, он совершенно измучен. Он не был готов к такой ситуации и впервые утратил почву под ногами, почувствовал, насколько он далеко от дома. Так далеко от Кельштайна, от родных краев, от привычных ощущений. Раньше ему достаточно было закрыть глаза — и тут же вспоминался особенный запах отцовской лесопилки, сложный запах, усиливавшийся по мере приближения к ней: в нем смешивались дух старых побелевших стволов, сложенных у обочины, и сохнущих под навесом досок, и теплого сырого дерева у сушильни, запахи коры и стружек, и особенно сильный — опилок, усыпавших все кругом, словно нежно-розовым снегом. Да, раньше ему легко было вызвать в памяти это благоухание, неразрывно связанное с визгом пилы. Морицу тягостно, беспокойно, он не может справиться с впервые испытанным неприятным чувством.
Лафонтен, опустив голову и наморщив лоб, покусывает чубук трубки, которую ему никак не удается раскурить, и носком сапога ворошит гравий.
Время идет. Они ждут. Около часа ночи из кабинета коменданта вылетает взбешенный командир взвода Waffen S.S. и, хлопнув дверью, удаляется.
Он только что подтвердил приказ немедленно уничтожить всех евреев, в том числе — женщин и детей. Приказ отдан на самом верху, и нечего тут обсуждать. Возмущенному Лафонтену комендант велит сейчас же вернуться в лазарет.
Но Мориц уперся. Он наделен чисто кельштайнским упрямством: если уж у него в голове засела какая-то мысль, она держится там крепко, как лишайник цепляется за камень. Он без передышки повторяет, что надо поддерживать боевой дух его солдат, а при виде подобных действий он может лишь слабеть. С простодушием, доходящим до глупости, он требует, чтобы фельдмаршалу был отправлен рапорт и чтобы завтра же на рассвете к детям, брошенным без всякого присмотра, отправили пастора. Комендант сдается и соглашается в последний раз вступиться за детей.
Поздним утром, когда Лафонтен в лазарете занимается тяжелоранеными из отряда, угодившего в советскую партизанскую засаду, а Мориц делает смотр своей роты, наконец приходят распоряжения.
Выслушав отчет пастора Юнга, посетившего зловонные казармы, офицеры вермахта переругались с эсэсовцами, да еще капитан из разведки, подчинявшийся напрямую Берлину, подлил масла в огонь.
Морица на это собрание не допустили, но после, в конце концов, сообщили, что ему поручено лично следить за тем, чтобы солдаты не покидали расположения части. Нарушивший приказ должен подвергнуться аресту.
— А что насчет детей, комендант?
На этот вопрос офицер, непонятно почему смутившись, отвечает Морицу, что добился от эсэсовцев разрешения отправить в казармы санитаров. Ребят младше двенадцати лет отделят от женщин. Заниматься этим поручено доктору Лафонтену. После того как детей соберут вместе и окажут им первую помощь, за ними прибудут грузовики.
— А за евреек хлопотать бесполезно! Добудьте грузовики, лейтенант, возьмите несколько человек из своего подразделения и отвезите детей туда, куда скажут. Выполняйте!
Когда закончились эти изнурительные ночь и день, Лафонтен, которому очень хотелось верить, что их ходатайство имело успех, сбросил халат, словно изношенную кожу. Школа, превращенная им в лазарет, заполнилась за несколько часов и мгновенно пропахла карболовой кислотой, пропиталась сладковатым душком запекшейся крови и едкой рвотной вонью.
— А где Клара? — спрашивает Лафонтен, когда раненые украинские полицаи окликают его на своем языке.
Но крохотная, с головы до ног одетая в черное женщина неопределенного возраста, приставленная к нему переводчицей, уже два дня не появляется. Доктор разводит руками, показывая, что ничего не понимает, отодвигает ногой таз, наполненный грязными повязками, и выходит. Он зовет с собой троих санитаров, отбирает медикаменты, которые могут понадобиться ему для того, чтобы лечить детей. Во дворе ждет окутанный дымом грузовик.
Быстро ощупав ткань на груди, Лафонтен убеждается, что блокнот на месте. «Похожее, сейчас мы переживаем какой-то роковой момент: тот странный миг, когда воды судьбы, еще не разделившись, несут вместе в мутном потоке уже несуществующее прошлое и будущее, которое изначально было здесь же… Я не сегодня начал опасаться худшего. Целая жизнь, которую придется убить. И смерть, которую придется пережить. Мои руки машинально проделывают все, что полагается делать врачу, жалкие действия человека, носящего мое имя, но я прекрасно понимаю, что в самом лучшем случае он может только выжить. Или умереть… Хотя это почти одно и то же.»
Дети там, наверху, уже ничего не ждут — не ждут, что их будут лечить, выхаживать, кормить.
Они отупели, выпали из времени. К яме подводят все новые колонны женщин. Никто уже не обращает внимания на залпы.
Лафонтен направляется к грузовику. В кузове, под навесом, укрываются от солнца санитары. У них с собой лекарства, вода, суточный паек. Лейтенант Мориц носится по всему Краманецку, старается раздобыть три грузовика, чтобы посадить туда детей. Он отвезет их туда, куда прикажут.
Все движется, все дрожит в напряжении. Вот-вот возобновится бой.
ТЕМНАЯ КОМНАТА (Германия, лето 1963 года)
Следующая неделя после похода на Черное озеро — тягучая и унылая. В Кельштайне каждый день идет дождь. Стопка рисунков растет, и, поскольку мне то и дело приходится отвечать на чьи-то расспросы, немецкий мой постепенно улучшается. Здесь, в долине, когда льет дождь, кажется, будто темень из леса среди бела дня стекает по склонам гор, пробирается между домами, обвивается вокруг верхушек колоколен и башен крепости.
Городок уже не выглядит нарядным. Фасады выцвели, стекла помутнели, медь потускнела. Все поблекло, пахнет отсыревшим деревом. От земли и стен веет древней дикостью. Над фонтанами поднимается странная дымка, а грязь вскоре становится похожей на кровь. Льет дождь. Люди ходят крадучись, вжав голову в плечи, смотрят хмуро, исподлобья. Сырость выманила из раковин прежние мысли, они ползут, оставляя за собой липкие следы.
Когда вот так льет, начинаешь понимать, что к чему. Я смутно догадываюсь, что местным жителям необходимо солнце. Для тех, кто только о том и думает, как бы уничтожить следы, яркое солнце — сообщник. Краски — приманка. Солнце — рисованная улыбка обманчивого «как всегда». Мне-то дождь не мешает, мне, напротив, кажется, что он все делает более отчетливым. Сижу у себя в комнате и смотрю, как за окном льется с крыш вода, размывая картинку, смотрю, как идет время.
Кельштайнская молодежь летом в теплую погоду обычно часам к шести вечера собирается у теннисных кортов, в жару — поближе к мороженщику, а если идет дождь — в боулинге. Сегодня идет дождь, и потому под вечер я, рассовав по карманам куртки блокноты и карандаши, отправляюсь в боулинг. Томас с приятелями и подружками уже здесь, они расселись за столиками на площадке, возвышающейся над дорожками.
Я присоединяюсь ко всем этим ложным друзьям, приятно улыбаюсь, как человек, который не все понимает, хотя и старается, но делаю это только в надежде, что рано или поздно здесь появится Клара. Вспоминаю ее черную одежду, ее голое тело, виденное издалека, ее грудь, тонкую талию, синие глаза и родинку под глазом. Даже ее камера кажется мне частью ее самой. В боулинге шумно: шары катятся с глухим постукиванием, с грохотом сталкиваются, гремят падающие кегли, — да еще играет противная слащавая музыка, и говорят все слишком громко и слишком быстро для меня, но я, как могу, стараюсь удивить или позабавить, словом, остаюсь в своей роли чудаковатого француза, немного чокнутого, но обаятельного. Мне нравится нравиться девушкам. Клары все нет, и я развлекаюсь, катая шары.
Во Франции эта игра пока не очень прижилась, и я удивился, обнаружив в Кельштайне, городке, делающем вид, будто нисколько за последние сто лет не изменился, такой современный зал с «американской» атмосферой.
Я начинаю получать удовольствие от того, что всовываю пальцы в углубления на шаре, приподнимаю его, напрягая мышцы, размахиваюсь, изо всех сил запускаю, и он катится к кеглям, ударяется о них и сшибает, а они валятся с глухим стуком — вот это и есть самое приятное. Бабах! Как бы мне хотелось и в жизни вот так же сшибать наглые кегли. Бабах!
Когда я возвращаюсь к заставленному пивными кружками столу, девушки жалуются на дождь. В воскресенье городской праздник, только бы погода была хорошая… Почти все население Кельштайна принимает участие в этих празднествах. Оказывается, каждый тут владеет каким-нибудь музыкальным инструментом, так что во время большого цехового парада (столяры, сапожники, кузнецы…) все они будут играть в оркестре. Как раньше, как всегда! Кругом цветы, и пиво, и шнапс льются рекой!
Девушки обсуждают наряды, в которых они появятся. Днем они будут в народных костюмах, а вечером, к балу, который устраивают на плацу внутри крепостных стен, переоденутся в выходные платья. Они заранее ерзают на скамейках, восторженно закатывают глаза, обнимаются и затягивают ритмичную мелодию. Они даже не спрашивают, умею ли, а только — люблю ли я танцевать? Потом подзывают еще двух девушек, постарше нас. Я замечаю, что уже никто не стесняется говорить обо мне в моем же присутствии, но меня, кажется, хвалят. И внезапно у меня зарождается смутная надежда, что на празднике, до которого осталось совсем немного, меня ждут какие-то чувственные потрясения.
Обе девицы, которым рассказали, что я непрерывно рисую, стараются раскрыть блокнот, я прижимаю обложку ладонями, в шутку сопротивляюсь, позволяю им приподнимать и сгибать по одному мои пальцы, потом щекотать меня, чтобы заставить сдаться. Я затягиваю игру, отхлебываю пиво у них из кружек, возбуждение мое нарастает, и я делаюсь все легкомысленнее. В шумном боулинге, рядом с этими девушками, меня внезапно охватывает желание отдаться какому-нибудь грубоватому чувству, так и тянет погрузиться в бездумное наслаждение.
Томас возвращается к столу, глаза у него блестят, он смотрит на меня насмешливо. И тут мне приходится самому себе признаться, что в чем-то я похож на этого немецкого парня, пусть даже именно от этих свойств я и стараюсь избавиться. Слегка хмельной, я глуповато ему улыбаюсь, переполненный новым ощущением сообщничества, — я, кажется, только что понял, каким способом он сжигает избыток энергии. Путь наименьшего сопротивления! Как же, должно быть, приятно плыть по течению, наслаждаться безмятежным покоем невинности. За спиной у тебя ничего нет — ничего не произошло! А впереди — тысяча возможностей для удовольствия. Мир принадлежит нам! И ко всему еще солнце светит. Логика душевного спокойствия. Счастливая логика. Нет больше темного леса. Нет больше лесной дороги. И букета кроваво-красных свежих роз. Только надежда, молодость и чудесная беззаботность…
В конце концов, что может быть лучше: мне шестнадцать лет, я живу в Европе в начале шестидесятых. Я предчувствую, что совсем немного надо для того, чтобы развить во мне способность быть счастливым. Карандаши заброшены. Страницы остались нетронутыми. Альбомы закрыты. Часы одиночества наконец позади. Скорее бы воскресенье!
И в эту минуту, когда меня уже слегка повело, входит Клара. Вижу, как она поднимается по ступенькам, а за спиной у нее идет побоище, падают убитые кегли. Мне показалось, что сумка с камерой приоткрыта. Она вполне способна потихоньку запечатлеть на пленку наши жалкие развлечения. С какой целью? Задумавшись об этом, я протрезвел от невнятного стыда, но Клара легко вписалась в обстановку: пиво, смех и ожидание праздника.
Томас схватил ее голую руку, куснул ее, потом нагло и вместе с тем смущенно привлек девушку к себе. Я снова его возненавидел. Но Клара, улыбаясь, влепила ему пощечину и мягко, но решительно высвободилась.
И здесь, в боулинге, как раньше на берегу озера, присутствие девушки в черном, во всем непохожей на своих сверстниц, действует на меня, как зов некой загадки, хотя ничего такого уж значительного от Клары не исходит. Вот она, вся на виду. Проходит мимо. Ничего не понимаю…
Позабыв все, что собирался сказать при встрече, я притворяюсь, будто и не заметил ее. Не заговариваю с ней.
А перед тем как уйти — так же легко, как пришла, — она сама, прелестно наклонив голову, заглядывает мне в глаза и напоминает о своем предложении поснимать мои рисунки. Как-нибудь на днях… у нее дома.
— В любом случае мы увидимся на празднике… Я приду вечером.
Я так устал, катая шары, что крепко уснул, даже не раздевшись, подмяв под себя листки с портретами, заштрихованными так плотно, что лица на них больше напоминают камни из учебника геологии.
В воскресенье просыпаюсь на рассвете — оттого, что вдали в горах, на еще погруженных во тьму лесных дорогах, трубит рог, потом отзывается труба. Всего несколько нот, потонувших в глубокой тишине. Затем, уже смелее, коротенькая веселая мелодия. И снова тишина. Музыканты сходятся из соседних деревень, они двигаются к Кельштайну, встречаются, духовые инструменты радостно переговариваются, и дальше все идут вместе.
Где-то совсем рядом заиграл аккордеон, кто-то запел, потом раздалась барабанная дробь, послышались шаги, что-то проскрипело, застучал молоток.
Открыв глаза, вижу в прорезях ставней голубые небесные сердечки. Золотой луч упирается мне в грудь, в нем уже пляшут пылинки. Погода чудесная!
Солнце свое дело знает: расцвечивает картинки, сглаживает углы, и тревога тает в его лучах. В доме необычное оживление — я догадываюсь об этом по еле слышным шорохам. Перешептываются, суетятся, тихонько поднимаются и спускаются по лестнице. Скрипят двери.
Вхожу в кухню и застаю всю семью Томаса в сборе: отец, мать, бабушка и сестры в праздничных нарядах. Национальные костюмы выглядят на удивление новыми, хотя почти не переделаны. Местный колорит, воплощенный в коже, роге и черном бархате. Зеленое и красное. Ослепительно белые передники с вышивкой. Кружева. Серебряные серьги. К благоуханию кофе и сдобных булочек примешиваются запахи одеколона и гуталина.
Я еще нечесаный, взъерошенный, глаза заспанные, и все с простодушной гордостью смеются над моим удивлением. Домочадцы (да и все, думаю, в Кельштайне) сегодня добродушны и покладисты. И мне среди этих занавесок в красно-белую клеточку и вышивок на стенах кажется, будто я оказался в хижине добрых медведей, и сейчас они поведут меня навстречу Златовласке.
В будни я очень редко вижу родителей Томаса, они вечно заняты своими делами, какое-то строительство, цемент, леса, толком не знаю, отец — серый костюм, очки в золотой оправе, «Мерседес» срывается с места, не успеваю разглядеть, мать — крупная толстуха, безупречный французский; они работают вместе и всегда спешат. Но сегодня, в это праздничное воскресенье, они похожи на те наивные рисунки, которыми разукрашены городские фасады. Словом, сегодня в Кельштайне праздник, все веселятся, и я тоже намерен получать удовольствие!
Меня ждут. Я быстро натягиваю полотняные штаны и заурядную современную светлую рубашку. И начинается наш «семейный выход», мы раскланиваемся направо и налево с соседями и друзьями, все они тоже в национальных костюмах. Томас великолепен, рядом со мной он особенно роскошно выглядит в своих коротких кожаных штанах и расшитой серебром черной куртке с блестящими пуговицами. На планке, соединяющей подтяжки, красуется пышный цветок эдельвейса. Томас тащит огромный черный футляр с аккордеоном, его отец несет тромбон, у сестер на гладко причесанных головках венки, а я иду рядом с ними, сунув руки в карманы.
Улицы уже забиты толпой, похоже на репетицию оперетты, галдеж стоит, как в каком-то фантастическом курятнике, все друг друга поздравляют, трещат без умолку. Навстречу попадаются те две девушки из боулинга, на них широкие голубые юбки, черные корсажи, блузки с пышными рукавами… Краснолицый дядька в шляпе с пером выстраивает их для шествия. Меня, непосвященного, здесь терпят: одни притворяются, будто не замечают, другие с гордостью разъясняют смысл всех этих пестрых уборов.
Возбуждение нарастает. Последние репетиции духового оркестра. Тарелки гремят еще не в полную силу. Людей расставляют по местам. Каждый знает, что он должен делать. Странно, но я готов поклясться, что за одну ночь лица здешних жителей обрели фольклорные черты, стали ярче и резче — типичные физиономии с пшеничными усами.
Они приближаются! Равномерный грохот тарелок. Они уже здесь! Всеобщее ликование. А я сам, скорее, оглушен, сбит с толку, мне вдруг становится неловко от их уверенности. Почему их так радует соблюдение традиции, пришедшей из глубины веков, лежащий вне Истории, вне Времени? Позволить себе хоть намек на иронию, смутиться, растеряться или держаться в сторонке было бы все равно что заляпать чернилами белоснежную блузку одной из девушек. Мне тоже хочется получать удовольствие, и я стараюсь не отставать от других. Укрывшись в тени липы, смотрю, как, дрожа и расплываясь, текут мимо меня краски шествия, люди стараются идти в ногу, и в голову мне с двух сторон ударяют солнца медных тарелок.
Проходит немало времени, когда я снова вижу Томаса, он что-то жует на ходу, воротник расстегнут, он обливается потом в своей толстой черной куртке, его окружают девушки в голубых юбках и растрепавшихся, обвисших венках. Некоторые из них кажутся мне похожими на ожившие игрушки. Куклы в человеческий рост — так и вижу их уложенными в прозрачные коробки. Они настолько захвачены общим настроением, что сегодня им до меня почти и дела нет. Таскаюсь за ними от прилавка к прилавку, из одного трактира в другой до самой ночи, от которой я, как это ни глупо, жду маленького открытия.
Спутники мои слишком пьяны для того, чтобы лезть на шест за призом. И все-таки пробуют, но соскальзывают и падают. Я жду их, облокотившись на перила моста, засмотревшись на реку внизу. И думаю, что чистая вода из родника у Черного озера впадает в эти зеленоватые клокочущие струи, сливается с ними, и вместе они убегают под мост и теряются где-то вдали.
Мы идем гулять за город. Внезапно Томас хлопает меня по плечу и показывает на сурового вида дом с узкими окнами. В отличие от соседних, он скрывается за довольно высокой изгородью, а все окрестные жилища гордо являют взорам сад, зеленую лужайку, всякие украшения и штучки, да и внутрь взгляд с наступлением темноты проникает беспрепятственно.
— Смотри, это дом доктора Лафонтена, — шепчет Томас. — Клара живет здесь… К ней редко кто заходит, потому что ее мать немного того… (Томас крутит пальцем у виска.) Сам доктор никогда на празднике не появляется, даже в такой день, как сегодня, он вполне способен отправиться навещать своих больных где-нибудь в горах. Вот такой он человек! Его и звать не надо, он сам ходит к больным до тех пор, пока они не выздоровеют… Ну, понятно, или не умрут!
Я смотрю на застекленную балконную дверь с белыми занавесками. Это комната Клары?
— Клара часто ходит с нами, — продолжает Томас. — Но она и одна любит гулять. Я тебе уже говорил, что она снимает все подряд и что попало. Тебе повезло, mein Franzose, она пригласила тебя в гости, чтобы поснимать твои рисунки. Но знаешь, на самом деле никогда толком не поймешь, чего она хочет, эта Клара.
Взгляд у Томаса начинает блуждать, делается почти тревожным. Тик, которого я раньше у него не замечал, кривит его губы. «Да, Клара, она не такая, как все…» — еле слышно, словно сам с собой разговаривая, прибавляет он, и я чувствую его досаду, тайную печаль.
— Ну, пошли, бал вот-вот начнется, — Томас хватает меня за руку и увлекает за собой в шумный центр Кельштайна. И мне чудится, будто за его хмельным смятением промелькнул намек на мужскую солидарность, пьяное дружелюбие.
Потоки света, музыки и криков, хлынувшие из трактирных дверей, катятся по ступеням. Огромные деревянные столы выдвинуты на середину улицы. Горы колбас, звон пивных кружек. Пробегает хорошенькая буфетчица с бочонком шнапса на ремне через плечо.
Я осознаю, что и сам выпил немало пива. Но на самочувствие не жалуюсь. Напротив, желание отдаться тому, что на меня надвигается, стало сильнее, чем когда-либо, словно праздник заставил меня отбросить сдержанность и осторожность. Вся долина погружена в чудесные синие сумерки, а крепость кажется огромной черной сукой, рухнувшей наземь посреди города. Старая тварь тяжело дышит и вот-вот издохнет, завалившись набок и подмяв под себя колокольни, дома и всех празднично разодетых горожан, которые пока что распевают во все горло и ни о чем не догадываются. На крепостных стенах запылали факелы: там сейчас начнется бал. Чтобы попасть на бывший плацдарм, где до рассвета будет играть оркестр, надо лезть в гору по крутым переулкам, потом карабкаться по ступенькам и перейти через подъемный мост.
Из темноты появляется Клара. Весь день она нигде не показывалась, а теперь терпеливо ждет нас, сидит, свесив ноги, на невысокой стенке. Замечаю, что камеры при ней нет. Мы перебрасываемся несколькими словами в тени укреплений и шорохе плюща, потом входим в ворота.
Сейчас произойдет один из самых забавных случаев, какие были в моей молодости, смешная и трогательная история, от которой веет свежестью тех лет.
Мы уже направляемся к площади, где начинается бал, но внезапно Томас замирает на месте и с заговорщическим видом предлагает:
— А что, если пройти через подземелье?
— Какое еще подземелье?
— Здесь есть потайной ход! Пещера ужасов! — восклицает он, строя уморительные рожи, которые самому ему кажутся устрашающими.
Клара непонятно — то ли насмешливо, то ли согласно — машет рукой и сворачивает туда, где виднеется груда камней.
Мы проникаем в подземелье через незаметную, скрытую высокой травой щель между каменными глыбами. Внутри, несмотря на пробивающийся свет мерцающих вдали фонарей, царит непроглядная темень. Томас совершенно счастлив. За мгновение перед тем, как влезть между камнями, я заметил, как блеснули его зубы. Спускаясь по обвалившейся лестнице, мы то и дело спотыкаемся, потом под нашими неуверенными шагами вновь оказывается ровная поверхность.
Даже к такой темноте глаза в конце концов привыкают. Сквозь щели и отверстия сочится слабый свет. Солнце так нагрело каменные своды, что под землей на удивление тепло. Мы ощупью продвигаемся вперед, все трое в ряд. Наши плечи соприкасаются, мы украдкой беремся за руки, хватаем друг друга за локти… Выход светится впереди, словно подвешенная в этой чернильной тьме золотая капля.
Неделю назад, в лесу, я испытывал тревогу, зато сейчас мне уютно и все понятно. На дороге, ведущей к Черному озеру, я смутно догадался: «Именно здесь, на этом самом месте, таятся ужас и тайна… Я ничего не понимаю, но это здесь». А в этом нестрашном подземелье у меня мелькнула странная мысль: «Вот именно в таком месте мне надо поселиться в будущем, да, спрятаться в совершенно чужой утробе, в старом подвале, забраться в складку мира… Здесь мне хорошо, вместе с ними — этим неподходящим для меня парнем и девушкой „не как все“!»
Позже всякий раз, как я случайно окажусь в гостиничном номере, затерянном в чужом бетонном городе, или в ночном поезде разговорюсь с незнакомыми людьми, я вновь буду испытывать то же легкое возбуждение, что и в кельштайнском подземелье, удовольствие чувствовать себя «не дома», удовольствие оттого, что я нигде, проездом, ни к чему не привязан.
У меня в жизни будут случаться и другие мелкие катастрофы, про которые до поры до времени я буду твердо уверен, что все идет хорошо. Но в шестнадцать лет еще не знаешь, насколько подобные мгновения кристаллизуются и превращаются в способ восприятия.
Мы с Кларой и Томасом продолжаем двигаться вперед, но мы здесь не одни: в темноте слышны чье-то затаенное дыхание, шепот, шелест тканей. Совсем рядом со мной стонет какая-то женщина, другая подавляет смешок, что-то ворчат и бормочут мужчины. У меня стучит в висках, я взволнован, но произнести ничего не решаюсь. В конце концов, эта подпольная чувственность вполне сочетается с приятным ощущением, будто я невесомо плыву в темноте.
Вот тогда-то, когда я полностью погружен в это болезненное блаженство, и происходит смешной эпизод: случайно задев Клару, я внезапно обхватываю ее талию. Сердце у меня колотится, в животе все напряглось. Не могу опомниться: я прикоснулся к ее бедру, почувствовал ладонью его плавный изгиб, а она не только не высвободилась — напротив, кажется, она теснее прижалась ко мне плечом, ее рука вопреки всем ожиданиям обнимает меня за пояс, и вот так, в обнимку, мы и продвигаемся теперь к выходу из подземелья.
Для меня, тогда совсем еще мальчишки, эти последние метры превратились в долгое триумфальное шествие в потемках. Я знаю: когда утроба огромной суки меня вытолкнет, я выйду из нее другим. Я осмелился. И все получилось! Я чувствую дыхание Клары у своих губ. Подземелье уже заканчивается. Мы выходим на свет. И тут я с изумлением вижу, что, пока я обнимал Клару, Томас делал то же самое, нежно обвивая ее шею. Это невыносимо! А хуже всего то, что Клара с полнейшей невинностью сама обнимала Томаса за талию. Происшествие, может, и смешное, но смеяться над такими вещами можно лишь годы спустя, а в шестнадцать лет тебя охватывает ледяная ярость, сильнейшая и недобрая досада.
Наши с Томасом удивленные взгляды встречаются позади Клариной головы, а девушка продолжает спокойно идти вперед между нами. Ревность или разочарование могли бы заставить меня сдаться, отпустить ее тонкую талию, отстраниться от ее тепла, но вместо этого я цепляюсь еще крепче, бросая вызов другому самцу. Страшно смущенные, мы меряем друг друга взглядами, а Клара как ни в чем не бывало продолжает обнимать нас обоих.
И тут мне кажется, будто во взгляде Томаса, в его воинственно выдвинутом подбородке и поджатых губах читается утверждение непонятного превосходства («Отпусти ее немедленно, паршивый французишка! Эта девушка — на моей территории!»). Что дает мне отвагу не сдаваться? Должно быть, то самое мимолетное и совсем еще свежее ощущение свободы, не-принадлежности. Я храбро прижимаю Клару к себе.
Но и Томас уперся и перехватывает ее покрепче. Вцепившись с двух сторон в свою добычу, мы делаем несколько шагов по направлению к танцующим. Клара, равнодушная к порожденному ею непримиримому конфликту, похоже, совершенно заворожена блеском праздника. Мы ее держим. Мы сражаемся. Это битва. Нелепая мужская ссора, которая плохо закончится. И вдруг Клара с обескураживающей непринужденностью высвобождается и бежит вперед, бросив нас обоих, а мы, два обольщенных дурака, остаемся торчать на месте. Та, из-за которой мы воевали, только что заметила рядом с танцевальной площадкой знакомых парней. Кольцо размыкается, они принимают, втягивают, окружают, поглощают ее. Они ее заполучили!
Мы с Томасом, обреченные на худой мир, молча стоим по щиколотку в траве, свесив руки — два нелепых паяца.
Намного позже мы, хмурые и сильно уставшие, нос к носу сталкиваемся с веселой и, кажется, начисто обо всем позабывшей Кларой. Перед тем как исчезнуть, она бросает, обращаясь ко мне одному:
— Поль, если хочешь, приходи ко мне завтра после обеда, покажу тебе несколько фильмов, которые я сняла, они связаны с кельштайнскими событиями… И рисунки свои не забудь… Спокойной ночи, мальчики!
Назавтра я без труда нахожу дорогу к дому Лафонтена. Едва выйдя за окраину Кельштайна, сразу за мостом сворачиваю с дороги, поднимаюсь по тропинке, потом иду вдоль ограды, открываю неприметную калитку и оказываюсь в буйно цветущем саду. В отличие от прочих садов в городке, здесь растениям словно предоставлена продуманная свобода, их чуть-чуть многовато. Цветы растут так тесно, что все их венчики соприкасаются, сливаясь в разноцветные благоухающие грозди. Я мало что в этом понимаю, но меня поражает разнообразие видов. Пышные кусты мелких белых розочек, темно-желтые розы с кровавыми подтеками на лепестках, розы бесчисленных оттенков розового и высокие красные розы с шипами, похожими на кинжалы, и одуряющим запахом. Готов спорить — те самые, которые я видел в лесу. Не могу удержаться и подхожу ближе, меня притягивает этот глубокий, театральный, почти черный цвет. Лепестки сомкнуты, словно оберегают тайну. Тысячи смеженных век, сжатых, суровых, чувственных губ. Сад овдовевших, осиротевших, ничьих роз…
Что здесь происходит? Входная дверь открыта, я зову Клару, но дом остается глухим к моему голосу, до меня в ответ долетают лишь звуки музыки. Ясные, исполненные несколько однообразного веселья, строгой радости. И тогда, ориентируясь на эту мелодию, я поднимаюсь по довольно-таки крутой лестнице, покрытой домотканой дорожкой, которая заглушает мои шаги.
Клара стоит на площадке второго этажа, облокотившись на некрашеные деревянные перила, подперев кулаком подбородок, и насмешливо смотрит на меня. Потом делает мне знак идти за ней, толкает дверь — и ноты вырываются на свободу, словно пытаются убежать, мимоходом задевая наши уши, они бесконечным потоком струятся из своего гроба, но потом так и бегут на месте, не покидая горизонтальной лесенки с черными и белыми ступеньками.
Женщина сидит за пианино спиной к нам. Она играет живо и с какой-то безрадостной увлеченностью, в такт покачивая головой и плечами. Фуга бежит вперед, но предметы и растения замерли неподвижно.
— Мама, это француз, который гостит у Томаса, мы пойдем смотреть фильмы, — кричит ей Клара.
Я подхожу поближе, хочу поздороваться с ее матерью, но Клара машет мне рукой, чтобы я не мешал поглощенной игрой пианистке, и тащит меня в свою комнату. В конце концов, мне только и надо остаться с Кларой наедине. Заметив у меня под мышкой папку с рисунками, Клара меня от нее освобождает и бросает ее на кровать. Все в комнате белое: стены, занавески, ковер, маленькое кресло, держащее в объятиях гитару. Вернее, черно-белое: стены завешаны вырезанными из журналов фотографиями, словно мир с его зрелищами пропитал светлые стены, а теперь проступает на них серыми каплями и стекает тысячами снимков. Если подойти поближе, я смогу разглядеть тела, лица, скелеты, колючую проволоку, ружья, ограды, животных, солдат, танки, толпы, улыбки, детей, облака… И на одной из немногочисленных цветных фотографий — красное пятно платья с глубоким вырезом и улыбка сочной блондинки. Наклоняюсь поближе.
— Знаешь, она в прошлом году покончила с собой? — говорит Клара. — Это Мэрилин Монро! Посмотри на ее тело, ее кожу, ее волосы. По ее улыбке видно, как она несчастна. Говорят, она наглоталась таблеток…
Какой контраст между кошачьим, скупо очерченным силуэтом Клары и этой голливудской куклой из плоти, едва прикрытой алой тряпочкой. И все же между этими двумя существами, от которых я внезапно почувствовал себя бесконечно далеким, существует таинственное сходство.
В комнате, куда более просторной, чем все те, в каких я жил с детства, вижу белый прямоугольник экрана, подвешенного на металлическом треножнике, и, немного в стороне, одинокий и сверкающий проектор с его пассиками и бобинами. На столе — все необходимое для монтажа и целая гора пленки.
Клара без всякого стеснения усаживается на ковер, прислонившись к кровати, развязывает черные шнурки на моей папке с рисунками и говорит:
— Мама целыми днями играет на пианино… Она мечтает, все время витает в облаках…
— Она музыкантша?
— До войны, когда была совсем еще молодая, давала уроки музыки. Но давно уже уроков не дает, играет только дома, сама для себя… Папа говорит — пусть играет, сколько хочет. Ей лучше становится от музыки. Но и очень больно тоже! Она играет одно и тоже: сплошной Бах!
Но, поскольку Клара произносит «Вагг…», я морщу лоб, а она хохочет:
— Ну да… Bak! Bak! Вы ведь так это произносите по-французски!
— А сад? Все эти розы?
— Розы — это все папа. Когда он не ходит к больным, то ухаживает за своими розами, подрезает их, возится в саду до темноты.
— А ты, Клара?
Она улыбается, дружески кладет мне руку на колено.
— Ну, я… это другое дело, — отвечает Клара, открывая папку с рисунками.
— Ты снимаешь кино…
— Сейчас — да. Я ищу. Ты, наверное, тоже, когда рисуешь?
Меня немного задело то, с какой скоростью она перебирает рисунки, которые я вымучивал долгими часами, — словно тасует колоду карт. Мелькают деревья с ветками, похожими на когти, и корой, из которой смотрят странные глаза, изуродованные головы со склизкими тварями, насекомыми или другими головами вместо волос, разбитые памятники с растущими из камней корнями, наброски со случайных предметов, совращенных и переученных, движимых диковинными намерениями.
Вижу, что Клара задержала взгляд на лодке, которую я рисовал на берегу Черного озера в то самое время, когда она меня снимала.
— Сейчас увидишь, — внезапно произносит она.
И Клара, отложив в сторону мои рисунки, задергивает занавески и насаживает на проектор бобину с пленкой. Проектор начинает жужжать, и на светящемся в полумраке прямоугольнике появляется эта странная лодка, снятая таким крупным планом, что карандашные штрихи превращаются в веревки, а мои пальцы — в снующих взад и вперед чудищ, опутывающих ими утлый челнок. Потом на воде среди тростников закачалась настоящая лодка. Затем появились узнаваемые фрагменты спящих тел: уши, пальцы ног, ноздри, ляжки, но больше всего сомкнутых век и неподвижных губ. Залитая солнцем сияющая нагота, сверкающие капли воды на нагой плоти, словно в сказке, скованной сном. И снова настоящая лодка, она наполняется водой и начинает погружаться. Эти планы чередуются с закрытыми глазами и мечтательными улыбками. И, наконец, картина гибели. На мгновение появляется моя лодка-гроб — и дальше ничего. Маленькая бобина крутится вхолостую, коротенький пленочный хвостик трепещет в пропахшем нагретой пылью воздухе.
Фильм странный, но Клара, не дожидаясь, пока я что-нибудь скажу, снова заряжает проектор. Кельштайн, снятый с верхней точки в дождливый туманный день. Колокольни, домики, крепостная башня окутываются дымкой, тонут в темноте. Рухнувшая стена. Крупным планом — пустые глазницы бойниц. Крупным планом — раны трещин. Ржавый металл ворот, погнутые прутья ограды, страшные крючья, торчащие из зарослей. Потом быстро сменяют друг друга нарисованные на фасадах домов улыбающиеся люди с серпами или виноградными гроздьями в руках. Светлые косы, букеты цветов, все расплывается в белизне. Камера внезапно опускается, крепость с нижней точки, смутная угроза. На экране мелькают жители Кельштайна, Кларина камера переходит на замедленную съемку: они едва успевают махнуть рукой и смущенно улыбнуться, прежде чем обратиться в тени, призраков, а потом мы видим засовы, оконные решетки, железные кольца. Экран темнеет, но мне кажется, что я различаю на нем длинный коридор дороги в лесу. Пятнышко света, как в перевернутом бинокле. И вдруг камера останавливается, объектив медлит, нацелившись на большой дом с запертыми дверями и ставнями посреди заросшего сорняками сада. Вскрытый почтовый ящик. Веревки от качелей свешиваются в пустоту… И железная дорога — камера по рельсам и шпалам добирается до черного входа в туннель.
Экран пуст, но я не свожу с него глаз. То, что я увидел, оставило после себя ощущение удушья и тайны. Молча сижу на корточках в комнате, где пахнет нагретой пылью и обуглившимися насекомыми. Клара тоже молчит, и я первым нарушаю молчание:
— Этот заброшенный дом — он в Кельштайне?
— Да, в этом доме жила одна здешняя семья, обычная семья, но ее не стало в один день! Отец, двое детей, мать — не осталось ничего. Теперь никто и слышать об этой истории не хочет… Теперь никто не решается к этому месту приблизиться. Но трава, как ты видел, растет.
— Это случилось давно, во время войны?
— Нет, всего два года назад. Но ты угадал — отчасти это последствия войны. Ты, Поль, возможно, понимаешь, что, хоть мир и вернулся, война не закончилась. Как это называется по-французски? Знаешь, такие бомбы, которые не сразу взрываются…
Когда Клара, уже прекрасно владеющая моим родным языком, что-нибудь мне рассказывает, она листает словарь, чтобы найти нужное слово, как только оно ей потребуется. И сейчас она, торжествуя, вскидывает голову и кричит:
— …замедленного действия! Вот оно — беда замедленного действия!
— Я понимаю, Клара.
Но она даже и не догадывается, до какой степени… Я еще не рассказал ей о смерти моего отца, об убийстве, да, о загадочном убийстве, никто, даже моя мать, не знает, связано ли оно с его участием в Сопротивлении или его деятельностью во время алжирских событий…
Так что мне все известно про тихие бомбы и про несчастье, которое пробивает себе путь под покровом безмятежных дней, словно ручей под снегом. У меня такое чувство, словно передо мной и Кларой внезапно оказалась пропасть, и мы должны прыгнуть вместе, взявшись за руки. И не для того ли, чтобы укрепить это зарождающееся сообщничество, я неожиданно для себя самого говорю ей:
— А те красные розы в вазе, Клара, которые я видел в лесу у Черного озера, они, конечно, из вашего сада…
— Да, из папиного сада… У него там десятки видов роз. Но ты еще не знаешь, какая связь существует между этими цветами в лесу и заброшенным домом, который я снимала. Это все та же история, история Кельштайна, история Германии. Но никто не хочет ее слушать.
— Но почему?
— Это история смерти и безумия. Я расскажу тебе, Поль, ты все узнаешь…
Наступает такая тишина, что звуки пианино, проскользнув под дверью, муравьиной цепочкой подбираются к нам, притащив с собой раскрошенный напев.
Я затаил дыхание. Клара начинает рассказ. Мы прыгаем в пропасть…
— Два года назад у подножия того дерева, к которому проволокой прикручена ваза, один человек — наш, из Кельштайна — сошел с ума. Это было воскресным летним днем. Было ясно и очень жарко, и люди целыми семьями поднимались к озеру. В долине стало так душно, что даже мой отец пришел на поляну, даже моя мать отошла от пианино. Этого человека звали Вальтер Мориц. Он был сыном владельца лесопилки и другом моего отца. Во время войны он был лейтенантом, а мой отец — военным врачом. Через несколько лет после возвращения из России Вальтер женился на кельштайнской девушке, у них родились двое детей, мальчик и девочка.
В то воскресенье женщины шли первыми по дороге, ведущей к озеру. Среди них были жена Морица, ее сестра и подруги. Они прихватили с собой корзины и собирали землянику. Вальтер Мориц немного отстал от них. Он вел за руки маленьких сына и дочку. Все видели, как они свернули на темную тропинку. Но они так и не пришли следом за женщинами к озеру. Время шло. Люди забеспокоились. Пошли назад, выкрикивая «Вальтер!» и имена детей. Купальщики удивлялись. Молодежь обшаривала кусты. Жена Морица плакала, женщины столпились вокруг нее.
Помню, едва услышав, что Вальтер пропал вместе с детьми, мой отец страшно побледнел. Он был не в купальном костюме и даже обут в те самые башмаки, в которых ходил к больным. Ни слова не сказав, он бросил нас с мамой одних и направился к подлеску, откуда доносились голоса.
К тому времени, как нашли Морица и его детей, давно стемнело. Мужчины принесли фонари. Мой отец продирался через кусты, весь исцарапался, пока искал друга, но Морица на крохотной, невидимой с тропинки поляне нашел не он.
Вальтер сидел под деревом, глаза у него были открыты, взгляд блуждал, на губах замерла странная усмешка. Детей он держал за шею. Девочку зажал в сгибе локтя правой руки, мальчика — левой. Казалось, дети спят, прикорнув у отца на груди. Как это по-французски?.. Sich schmiegen… — Вот: прильнув, — они прильнули к нему, как будто боялись темноты. Но они не спали — они были мертвы. Сразу было видно, что Мориц их задушил. Или, может быть, так крепко сжал, что они задохнулись.
Все фонари теперь освещали этого неподвижного человека, громко сипевшего раскрытым ртом. Все ясно видели, что он помешался. В лучах света тенью среди других теней мелькнул мой отец. Потом я узнала, что только он один смог разжать тиски рук, сдавивших детские шеи, только ему удалось поднять друга с земли, а перед тем он что-то долго-долго шептал ему на ухо. Внизу нас ждал весь Кельштайн. Мама, измученная и взволнованная, ушла домой, но я осталась ждать вместе с женщинами, окружавшими жену Морица, и старым хозяином лесопилки, приковылявшим на костылях. Наконец наверху, на тропинке показались темные фигуры. Процессия медленно спускалась, направив лучи фонарей к земле, и мы поняли, что они их нашли, но, поскольку никто не махал руками, чтобы нас успокоить, мы поняли и то, что произошла трагедия. Они приближались бесконечно медленно. Несколько человек поддерживали Морица, который шатался и выглядел совершенно потерянным. Другие несли на руках мертвых детей. В тишине слышалось только шарканье подошв. Мой отец шел далеко позади.
Прямо у меня над ухом завыла жена Морица, я вздрогнула. А потом все сразу закричали, заплакали, поднялся шум, все перепуталось. Кто-то хотел связать Морица, кто-то начал его бить. Я увидела тела детей на трактирном столе, но их тут же накрыли одеялом. Увидела, как жена Морица бежит к реке…
Кельштайн провел страшную ночь! Всем занимался мой отец. Назавтра Морица увезли в психиатрическую лечебницу, очень далеко отсюда. Его жена не утопилась, ее удержали, но через несколько дней она сбежала, и больше никто ее никогда не видел. Да, в общем, никто ее и не искал по-настоящему, через несколько недель никому не хотелось говорить об этой смерти и об этом помешательстве. Кельштайн глухо замолчал, и каждый постарался вернуться к прежней жизни. Трактирщики наливали пиво, молодые парни гоняли на велосипедах, плотники ставили срубы…
Большой дом с закрытыми ставнями и заросшим садом, который ты видел в моем фильме, построил недалеко от лесопилки старик Мориц. Он строил его, пока сын воевал в России, как будто это должно было помочь ему вернуться живым… Можно считать, что помогло, потому что после долгих мучении и Мориц, и мой отец вернулись в Кельштайн и зажили как будто снова. Отец лечил, Мориц работал на лесопилке. Но видишь ли, Поль, эта беда… замедленного действия, да? Она еще подстерегала.
— Клара, так, значит, это твой отец ставит цветы в вазу там, в лесу? Наверное, для него это очень тяжело…
— Понимаешь, Поль, на самом деле я не так уж хорошо знаю своего отца. Хотя он много мной занимался. Мать, вечно погруженная в свою музыку, для меня тоже осталась незнакомкой… Когда-нибудь я тебе обо всем этом расскажу…
Мне бы тоже хотелось рассказать Кларе, что, когда мне было двенадцать лет, моего отца убили посреди Парижа, в Люксембургском саду. Но у меня уже не было сил барахтаться в трясине трагедий. Я вскочил, распахнул дверь и выбежал на балкон. Вечер. Лето. Еще светло. Делаю глубокий вдох. До меня долетает аромат роз, смешанный с запахом тины, наверное, с реки тянет, она совсем рядом.
Клара тем временем ставит на проигрыватель пластинку на 45 оборотов, выбрав один из рассыпанных по полу конвертов, и, когда она, свежая и свободная, как будто ничего страшного сказано не было, выходит на балкон, в комнате взрывается оглушительный рок-н-ролл: звенят гитары, беснуются ударные, и этот голос дикого ангела, единственный в мире! После тишины, почти не нарушаемой звуками материнского пианино, эта мощная эйфорическая музыка, включенная Кларой на полную громкость, все сметает, опрокидывает, затопляет. Рок-н-ролл! Клара стоит рядом, прислонившись к балюстраде над сотнями розовых кустов. Она ритмично покачивает головой, поводит плечами, отбивает такт ладонью на деревянных перилах. Рок-н-ролл! Я стою лицом к лицу с этой удивительной девушкой, почти касаясь ее грудью, и близко-близко вижу черную родинку у нее под правым глазом.
— Ты это слышал у себя во Франции? Это Элвис! Мой защитник! Он отгоняет ноты Иоганна Себастьяна! Его электрическая гитара ограждает меня от хорошо темперированного клавира… Я включаю музыку так громко для того, чтобы мама перестала играть и, наконец, отдохнула. И еще я слушаю рок-н-ролл, когда монтирую свои фильмы. У меня и другие пластинки есть. Мне это нравится.
— И мне тоже!
В то время во Франции оптимизм молодых поддерживали именно звуки рок-н-ролла, и многие мои лицейские друзья мечтали создать группу с вокалистом, ритм, соло, бас-гитарой и ударником. Меня, само собой, влекли ударные: бить в большой барабан, стучать по малым… Но я никогда не бывал в клубах, где выступали первые рок-группы, и плохо знал имена американских певцов.
Мне передалось настроение Клары, я тоже загорелся, и мне всерьез захотелось, чтобы между нами что-нибудь произошло.
С воскресного праздника меня одолевали новые желания. Я испытывал потребность расстаться со своей сумрачной сдержанностью, со своей вежливой скромностью, свернуть шею собственной робости!
Как растратить свою энергию? Я ощутил нечто такое, что можно было бы назвать наслаждением жизнью, но пока это ощущение было смутным. Надо мне на что-нибудь решиться.
Вот здесь, на земле Кельштайна, я и начинаю меняться. Мне хотелось бы… хотелось бы продолжать рисовать, изображать чудо-чудищ, читать, писать, узнавать! Мне хотелось бы… взять на себя ответственность за прошлое с его драмами, его ужасами, его тайнами. И танцевать рок! А почему бы и нет? Играть на ударных! И создавать новые произведения искусства, и снимать фильмы, и распахнуть объятия меняющимся временам… И еще… да, мне хотелось бы заключить в объятия Клару!
Теперь мы соприкасаемся животами, музыка окутывает и возбуждает нас. Вот-вот мы начнем танцевать, или нет, мы уже танцуем, не сходя с места, в полном согласии. Сердце у меня колотится так, будто я вот-вот умру, и какое блаженство знать, что не умру.
Но в то самое мгновение, когда пластинка со скрипом замирает, я вижу через плечо Клары идущего по садовой аллее дражайшего Томаса с велосипедом.
— Так и знал, что найду тебя здесь, mein Franzose! Я искал тебя! Привет, Клара! Можно войти?
Томас сразу оказался неуместным. Он осквернил эту девичью светелку своим грубым голосом и запахом пота. Он говорит Кларе по-немецки что-то непонятное, а мне все больше становится не по себе. Яростно стискиваю в кармане карандаш и зачерствевший ластик. С досады крошу ластик и ломаю карандаш пополам. Пытаюсь сосредоточиться на боли от впившихся в ладонь заноз. Вытаскиваю из кармана руку с зажатыми в ней обломками карандаша, между пальцами сочится кровь, я так и стою столбом на этом дурацком балконе, сжимая кулак, а эти двое, похоже, о чем-то спорят и уже ни малейшего внимания на меня не обращают.
Да, именно в Кельштайне появился новый шифр, а тот, что сложился прежде, спутался. Эта кровь, эти красные розы в лесу, рок-н-ролл, подземелье, задушенные дети, нарисованные на стенах улыбки, смерть, безумие, фуги Баха, поляна и эта лодка, тонущая в черной воде, и над всем этим — глаза Клары… так много знаков, рассыпанных по новой решетке.
Когда, наконец, начинает темнеть, мне ничего не остается, кроме как потихоньку убраться, прихватив все мои рисунки, забытые в углу комнаты. В темном саду встречаю мужчину. Худой, с короткими седыми волосами, в руке чемоданчик, выглядит измученным, но при виде меня распрямляется. Мы здороваемся. Должно быть, доктор Лафонтен?
Я знаю, что скоро вернусь во Францию. Родник на поляне у Черного озера будет течь по-прежнему. Все будет и дальше течь, как вода по камням, как песок сквозь пальцы.
Я сижу в лодке и не знаю, тонет ли она или скоро сядет на мель, а может, уже тихо скользит дальше.
ТОЛЬКО НЕ ДЕТЕЙ! (Украина, июль 1941 года)
Голова доктора Лафонтена, сидящего рядом с водителем в кабине грохочущего грузовика, который катит к казармам, в конце концов стукается о металлическую стойку рамы открытого окна. Он провел без сна два дня и две ночи. Машину трясет, вибрация отдается в голове, но он на несколько минут впадает в оцепенение, обхватив себя руками, не в силах поднять свинцовые веки. Перед отъездом он не спеша, старательно побрился. В подвешенном к оконной раме зеркале отразились его печальные, как будто обведенные черным контуром глаза, провалившиеся в посмертную маску белой пены.
Мотор рычит, машина несется вперед, вцепившийся в руль шофер, презрительно взглянув на Лафонтена, сплевывает за окно. Кабина заполнена раскаленным воздухом, рядом с огромными черными шинами, в тучах пыли и облаках дыма бегут мальчишки.
Лафонтен смертельно устал, но он не спит. Он не может уснуть, хотя на несколько минут позволяет себе забыться, с легкостью в теле и тяжестью на сердце, чувствуя себя ничтожной добычей в челюстях тигра войны. Провалившись в забытье, он видит перед собой истощенных, больных и умерших детей, сейчас он соберет и будет лечить тех, кого еще можно лечить. Но скольких из них удастся спасти? Перед его мысленным взором тянется и вереница женщин, бредущих к своей гибели. Он снова видит ров, груды тел, замершие движения, увязшие в кровавой грязи.
К его тревоге за детей примешивается и необъяснимое беспокойство от того, что Клара, его малышка-переводчица, уже два дня как не появлялась. Среди серьезных детских лиц ему видится ее беззубая морщинистая физиономия. Лафонтена терзает предчувствие. Что случилось с Кларой? Он в конце концов полюбил общество этой маленькой женщины, почти карлицы; ей могло быть лет сорок, но детский рост лишал ее возраста. Бледненькая, тщедушная — ей могло быть двенадцать, а могло и сто. Ей так много пришлось послужить, что она преждевременно износилась. Ее рот, где многих зубов недоставало, а остальные были испорчены, разучился улыбаться. Неожиданно густые черные волосы, торчащие над белым, от усердия собранным в складки лбом. Лафонтен, морщась от боли в висках, думает об этой незаметной спутнице. Где она прячется? Что они с ней сделали? Бедная маленькая Клара!
С того дня, как ее привели в лазарет, она оставалась в тени Лафонтена, буквально держалась за полу его халата. Проворная, неброская, она ни на шаг от него не отходила, но никогда не мешала. Лафонтен говорил не спеша, а Клара переводила его слова раненым украинским полицаям или русским санитарам, громко, с испуганной поспешностью их выкрикивала, хмурясь и размахивая руками в знойном воздухе.
Машина подкатила к воротам. Лафонтен знает, что сейчас ему придется стряхнуть оцепенение, взять себя в руки, но он все еще перебирает в памяти те ужасы, о которых Клара рассказывала ему вечерами и ночами, между процедурами, между обходами, когда они уединялись в бывшем школьном классе. Он втискивался за парту, выложив свой блокнот на облупившуюся крышку. Она, съежившись, пристраивалась под окном, за которым медленно-медленно спускалась темнота, наступала душная ночь.
Клара непременно хотела быть все время рядом с ним. В первый вечер она даже улеглась спать на полу, в уголке, свернувшись калачиком, и уверяла, что дотянет так до рассвета. Лафонтену не спалось, и он постарался ее разговорить, а потом ночь за ночью слушал. Клара рассказывала ему свою жизнь. Торопливые, загнанные слова, и что-то детское в ее немецком языке. Об ужасах и зверствах она говорила тем же тоном, с той же внешней бесстрастностью, с какой упоминала о самых незначительных подробностях. Долгий невозмутимый кошмар…
Когда-то, рассказывала Клара, она приехала в Краманецк с отцом, немецким стариком торговцем, который разъезжал между Украиной, Польшей и Германией и продавал часы, украшения и прочее барахло на рынках, ярмарках, постоялых дворах и вообще везде, где ему только позволяли разложить свой мелкий скарб.
Наверное, это было в самом начале века, думал Лафонтен. Старик, повсюду таскавший за собой девочку, вот эту самую крохотную Клару, у которой на всем свете никого не было, кроме отца — жизнерадостного пройдохи, вруна и краснобая. По крайней мере, так Лафонтен ее понял — вернее, так ему представлялось. От старика пахло вином и табаком. А на голову всегда была нахлобучена черная шляпа. Ближе к вечеру Клара забивалась в уголок трактирного номера, потому что внизу начинали громко орать и глушить водку. Замирала, съежившись, и всматривалась в темноту, дожидаясь, пока вернется пьяный отец, а может, и не один вернется, приведет с собой какую-нибудь хохочущую толстуху.
И вот однажды утром — году, должно быть, примерно в 1910-м — отец, посреди ночи завалившийся спать одетым поперек кровати, так и не проснулся. Клара тормошила его за небритые щеки, дергала за жилет. Старик лежал с открытыми глазами и открытым ртом, как будто собирался что-то сказать. Он был мертв. А Кларе предстояло на всю свою собачью жизнь остаться в этом безвестном городишке, Краманецке. Сирота. Одичавший ребенок. Тощая замарашка, старающаяся всем угодить. Измученная, затравленная. Очень быстро она стала одинаково или почти одинаково хорошо говорить на двух языках. Потом вышла замуж за русского старика, драчливого пьяницу, но и тот вскоре умер. Его маленькая жена снова осталась сиротой, только теперь она была и сиротой, и вдовой. Вскоре начались годы революционных потрясений, Клара пошла по рукам, несколько раз рожала мертвых детей, затем был голод, о котором у нее сохранились навязчивые воспоминания.
Клара по-прежнему выглядит спокойной, но в ее голосе, в ее отсутствующем взгляде навеки запечатлены сцены, которые теперь врезаются и в память Лафонтена, ближе к рассвету склонного верить в худшее… Она рассказывает про голодомор. Восемь или десять лет назад советское государство отбирало у украинских крестьян все до последнего зернышка. Реквизиции. Безжалостные обыски. Клара рассказывает доктору обо всем, что видела. На своем сохранившемся от детства немецком она описывает истощенных, побирающихся и ворующих мальчишек, которые били тех, кто послабее, чтобы отнять у них жалкие крохи еды. Каждый сам за себя! Везде, на сотнях тысяч километров царила жестокость, так было по всей Украине. Рядом с кладбищами находили скелеты, с которых мясо было соскоблено, как будто они побывали в руках мясника. Жители соседних деревень, сбившись в шайки, подстерегали сирот, оглушали их ударами и утаскивали к себе. Одичавшие дети казались толстыми, потому что пухли от голода, но это был ложный жир, отравленная плоть. Да, Клара видела все своими глазами, здесь всем пришлось такое пережить. Голод на Украине.
Вооруженные люди, крестьяне из революционных комитетов и комсомольцы, повсюду выискивали тайники, разбирали крыши, вспарывали постели. Они не оставляли ничего. За три зернышка, зашитых за подкладку, — пуля в голову! Несомненно, за этим стоял какой-то чудовищный план. А когда существует план — с людьми не считаются. Особенно в тех случаях, когда план задуман где-то очень далеко, очень высоко.
Еще Клара рассказывает о том, что один из ее тогдашних «мужей» работал могильщиком. У него водилось немножко деньжат — при условии, что он ежедневно бросал в общую яму свою норму трупов, ну, или умирающих, какая разница?.. «Мужа» этого расстреляли. Говорили, будто он торговал человечиной. Варил и продавал. Клара тоже ее ела. «Ешь», — говорил он, и она ела. Иначе она бы не выжила. Потом о ней заботился другой человек, вернее, он взял ее к себе, чтобы она ему прислуживала. Клара все вытерпела без жалоб. Она всякого насмотрелась.
Сцены, которые она описывала, ошеломляли Лафонтена. К рассвету у него начинала болеть голова. Он был совершенно уверен, что Клара говорит правду, но страдал оттого, что не в силах был представить себе человеческую жестокость в таком масштабе. Можно поочередно представлять себе муки одного человека за другим, но не всех сразу. Массовые страдания становятся абстрактными. Человек вообще, человек, истребляемый массово, сочувствия у нас не вызывает. Доктор запишет в своем дневнике: «Почему при столкновении с непомерным злом наша способность чувствовать оказывается бессильной? Точно так же, как наше сознание не воспринимает слишком малых впечатлений, мы неспособны и представить себе зло, когда оно чрезмерно… Воображение немощно! Воображение мертво! И мы испытываем безграничное отвращение к самим себе. Мерзости блекнут в цифрах — столько-то раненых, столько-то убитых — и датах…»
Грузовик въехал в ворота казармы. На этот раз двор забит эсэсовцами. Чувствуется предельное напряжение нервов. Даже не входя в дом, Лафонтен сразу ощущает смрад агонии. Полковник СС, которому совершенно не хочется видеть врача здесь, где держат в заточении и казнят, бесконечно долго изучает командировочное удостоверение, выданное на самом верху. Но Лафонтен твердо намерен войти, подняться на второй этаж, провести дезинфекцию, обеспечить детям медицинскую помощь, накормить их и напоить. Выхватив бумагу из рук офицера, он требует, чтобы его санитарам помогли выгрузить ящики и фляги с водой.
Как ни странно, сейчас вонь не так шибает в нос, как в первый раз. Он обходит все комнаты, перешагивая через тела, гниющие в загустевших, запекшихся лужах. Начинает сортировать: мертвые, умирающие, безнадежные. Прикидывает, кого куда, велит открыть окна и как следует вымыть большой зал, чтобы разместить там детей.
И все-таки придется ему отделить девушек, которые уже считаются взрослыми, от девчонок, которым на вид меньше двенадцати. Никуда не денешься, доктор Лафонтен, надо решать. Мальчиков, если не считать младенцев, почти нет. Ему предстоит делить и объединять по группам только девочек! И только по внешности выносить приговор, решать, кого считать ребенком. Провести роковую черту между всеми этими маленькими существами. Исхудавшее лицо и малый рост — единственное, на что он может ориентироваться, разлучая не только мать с дочерью, но и двух сестер. Одну отведут к «малолетним», другую сунут в колонну женщин, обреченных на убой.
При виде Лафонтена и санитаров они стряхнули с себя оцепенение, послышались слабые стоны, мольбы, хрипы, со всех сторон потянулись руки. Медлить нельзя, посоветоваться не с кем, и Лафонтен решительно и лунатически указывает санитарам то на одного, то на другого ребенка. «Это для их же блага, их будут лечить», — твердит он сам себе. Наклоняется, выслушивает.
— Эту оставляем и… вот эту тоже! Нет, не эту девушку: она рахитичная, но ей не меньше пятнадцати! Забирайте ее побыстрее!
Холодный, клинический взгляд среди панической спешки. Ему даже иногда приходится самому разжимать руки матери, из последних сил отчаянно вцепившейся в дочь. Палец за пальцем, потом всю кисть — Лафонтен распутывает последние семейные узы, разрывает последние объятия, ему не по силам эта ответственность, но он испытывает почти облегчение, когда грубый, бесчувственный украинец хватает в охапку перепуганную женщину, отрывает от пола и уносит, как мешок, а отнятый у нее ребенок остается.
Тем временем в соседней комнате все убрали, вымыли пол, открыли заколоченные прежде окна. Самых маленьких укладывают на расстеленные одеяла. Сюда же приводят тех, кого доктор данной ему властью объявил детьми.
Лафонтену не терпится начать лечить, кормить, перевязывать, но с особым нетерпением он ждет грузовиков. Жалкое божество с запавшими глазами, поверившее, будто может продлить эти едва теплящиеся жизни. «Вот эту! Вот ту!» В его голове эти замученные дети смешиваются с теми украинскими скелетиками, о которых рассказывала Клара. Огромные пустые глаза. Грязь. Бессильные жесты. Он твердит себе, что он — врач, что его долг, если нельзя спасти, по крайней мере, облегчать страдания, оберегать детей.
Как только он окажет им первую помощь, надо, чтобы Мориц не тянул, потому что солдаты из особых отрядов не потерпят, чтобы у них отнимали добычу. Они настороже. Конечно, соглашение ненадежное. Лафонтен старается не плутовать, не оставлять детей, про которых можно сказать, что им больше двенадцати лет. Можно подумать, если он будет в точности повиноваться указаниям, это гарантирует лучшую участь стайке несчастных детишек. Он ясно чувствует, что это конец. В Краманецк уже должен был прийти приказ продолжать наступление. Расстрельная команда работает в ускоренном режиме.
Пока Лафонтен в этой импровизированной процедурной прикладывает стетоскоп к чахлой грудной клетке или нащупывает пульс на запястье-прутике, с лестницы доносятся шорох женских шагов, удары и плач. Потом невнятный стон сменяется тишиной.
Лафонтен в своем длинном, прикрывающем сапоги халате, распрямляется: горестный ангел, заставляющий себя поверить в то, что еще способен заслонить своими крыльями несколько крохотных душ.
Дети до странности спокойны. Пока матерей уводят, врач и санитары над ними хлопочут. Врывающийся в открытое окно пропахший порохом воздух прогоняет миазмы.
И тут происходит немыслимое. Лафонтен, и без того уже измученный недосыпанием и отвратительным заданием, которое ему приходится выполнять, совершает открытие, от которого ему делается совсем уже не по себе: маленькая девочка среди замершей кучки детей, только что вскинувшая голову ему навстречу, никакая не девочка — это Клара! Огромные глаза на опухшем лице уставились на доктора, с которым она так долго говорила ночами. Теперь Клара нема и каменно неподвижна, как и все, кто ее окружают. Некоторые из этих грязных, покрытых нечистотами детей выглядят чуть ли не старше ее. Как ей удалось остаться? Это он проглядел? Должно быть, на нее безобидное, незаметное, потрепанное жизнью создание — донесли, и ее схватили как еврейку.
Лафонтен, расталкивая сапогами тела, двинулся к своей недавней переводчице. Овладевшее им крайнее замешательство понемногу сменяется глухим гневом. Только-только немного успокоился, оставшись с выбранными им детьми, — и надо же, эта чертова баба внесла в группу непростительный беспорядок.
Ее присутствие здесь неуместно, недопустимо. Они ее заметят! И подумают, что доктор попытался спрятать среди детей взрослую еврейку, да к тому же еще свою переводчицу! Она, не мигая, смотрит в его усталое и возмущенное лицо. По коридору идут эсэсовцы. Санитары пока ничего не заметили.
Лафонтен, все так же молча, заставляет Клару подняться на ноги. Подхватив ее под мышками, выдергивает, легкую, словно перышко, из кучки детей, в которой она старалась затеряться. Крепко стискивает. Она морщится, но не издает ни звука. У него в руках комок страха, обмякший и превратившийся в обрывок черной тряпки. Лафонтен подталкивает Клару к открытой двери, все еще поддерживая, заставляет идти — можно подумать, будто из-за этого инородного тела едва не рухнул план спасения, которым он был так поглощен.
Эсэсовцы смотрят, как он спускается по лестнице вместе с Кларой, как ставит ее в строй обреченных на смерть женщин. Вид у него сосредоточенный, словно у архивиста, закончившего разбор документов, с которыми пришлось повозиться. Клара слишком мала ростом, она едва дотягивается руками до плеч стоящей впереди узницы. Лафонтену снова попадается на глаза однорукая женщина, он смотрит на ее протянутую культю и возвращается к детям. Пусть эти дети уже уйдут отсюда, и поскорее! Уведите их!
Детей заталкивают в грузовики и увозят. Оставшись в одиночестве на втором этаже каменного здания, Лафонтен падает на стул среди почти не пригодившихся дешевых медицинских средств и смятых подстилок, на которых уже никто не лежит. За открытым окном дышащее зноем небо. Слышно, как внизу строятся войска, чуть подальше грохочут и скрежещут гусеницами тронувшиеся с места танки. Чихают, потом заводятся моторы. Раздраженно трещат мотоциклы.
Доктору следовало бы вернуться на рабочее место, переоборудовать лазарет с учетом движения войск, но он не в силах пошевелиться. Куда Мориц мог увезти всех этих детей? Вернее, жалкую кучку оставшихся, тех, кто еще держался на ногах, тощих, больных девчушек — призрачных мамочек с неподвижными младенцами на руках.
Лафонтен сдергивает халат и бросает его на пол посреди зала. Обжигающий ветер несет с собой запах падали и бензина. Совсем рядом трогается с места немецкая армия. Наступление возобновляется. Жалкое продвижение в сравнении с русскими просторами, и страшно подумать, сколько будет жертв.
Когда прибыл Мориц с тремя пустыми грузовиками, пришлось немедленно вывести всех детей, не считаясь с тем, в каком они были состоянии. Особый отряд предоставил солдатам полную свободу действий. Лафонтена раздирали противоречивые желания: ему хотелось, чтобы все побыстрее убрались, ему не терпелось уйти отсюда самому, и его не оставляла безотчетная потребность продолжать лечить, чтобы ни о чем не думать.
Лафонтен съежился на стуле, закрыл лицо руками. Ему смутно припомнилось, что, пока грузовики наполнялись, Мориц выглядел странно и отводил взгляд. «Клара могла быть среди них, — подумал он. — Кто бы ее заметил? А потом? Кто знает, что могло бы случиться? Кто знает, что еще могла бы выдумать эта неугомонная тетка?» Солдаты увели бы ее вместе с детьми…
Сейчас ее, наверное, уже расстреляли. Залпов больше не слышно. Хватило ли у нее сил разжать челюсти, выговорить последнее слово? Русское? Украинское? Немецкое? Лафонтен вспомнил, как яростно выдернул ее, легкую и покорную, а потом выгнал, словно синичку, ненароком залетевшую в комнату, минутку подержал на руке — и бросил на произвол ее синичьей судьбы, выкинул в лес, где полным-полно охотников.
Он видел через окно, как солдаты обращались с детьми. Совсем молодые парни. Некоторые уже женатые отцы семейств, о чем Мориц твердил коменданту. Заброшенные так далеко от дома, они, несмотря на грубую спешность задания, не обижали этих маленьких украинских евреев. То, что они делали, конечно, было жестоко, и все же было видно, что они привыкли держать детей на руках. Солдаты растерянно, сами почти по-детски смотрели на эти усталые лица. Один из них даже не пожалел нескольких секунд на то, чтобы поправить кому-то сбившуюся повязку. Мелкий родительский жест, затерянный в недобром множестве солдатских ухватов…
Лафонтен ни во что не вмешивается. Сидит, согнувшись пополам на стуле, ощущая блокнот в нагрудном кармане. Он понимает: только что все изменилось, начинается — уже началось — то, чего он боялся. Да, теперь ему нестерпима даже сама мысль о том, чтобы делать записи в этом дневнике. Слова, фразы, белые страницы. Писать — идиотское занятие. Его понемногу охватывает печаль.
Когда он выпрямляется, перед ним стоит высокий худой человек с гривой седых волос. Могучий, поблескивающий при ярком свете нос, широкий лоб, живые глаза и странная улыбка — словно он различает в том, что рядом, в жаркой смрадной пустоте, что-то другое, далекое.
— О, Herr Pfarrer[7], вы были здесь, — очнувшись от забытья, бормочет Лафонтен.
Он не сразу узнал пастора Юнга. Этот человек написал отчет о положении в Краманецке, поддержал Морица и Лафонтена, подтвердил, что дети в ужасном состоянии, а солдаты в растерянности. Лафонтен недолюбливает пастора, который смотрит на людей с презрением и жалостью и к каждому обращается с немного усталой строгостью, так, словно сам он, Юнг, раз и навсегда непонятно откуда почерпнувший уверенность, превосходно знает, на что способен человек. Лафонтен убежден, что пастор испытывает мрачное удовольствие, видя, как люди совершают все более ужасные поступки, все ниже падают, все глубже погрязают в мерзости. Должно быть, это укрепляет его в собственном ироническом отношении к Злу и в том, что он называет своей верой. И это вдохновляет его на великолепные проповеди.
«По крайней мере, то, что я писал, — думает Лафонтен, — нисколько не претендовало на то, чтобы считаться истиной. Фразы могли противоречить одна другой. Обличать одна другую. Я именно за то и любил дневник, что такой маленький блокнот мог вместить такую двойственность!»
Он пока еще не знает о том, что несколько минут назад сделалось известным Юнгу. Пастор разглядел в этой военной суете, что грузовики с детьми направлялись вовсе не в тыл — они двинулись в сторону леса. Он понял, какое готовится преступление. Вот потому на лице у него эта странная улыбка, проникнутая отчаянием — не его собственным, но тем, через которое, по его мнению, должно пройти человечество. Во искупление чего? Ради какого спасения?
Юнг хотел было положить руку доктору на плечо, но спохватился и опустил ее на спинку стула.
— Вы плохо себя чувствуете, Herr Doktor[8], — произносит он сухо, но голос помимо его воли и сейчас старается пленить собеседника. — Вы совершенно измучены. Нам пришлось увидеть очень неприятные вещи, но помните: испытания, которые посылает нам, и в особенности нам, немцам, Господь, выбраны Им одним!
Юнг отходит к окну. Его белые волосы словно вбирают в себя весь свет. Он, должно быть, видит сейчас покидающие Краманецк серо-зеленые солдатские колонны, всех этих людей, уходящих на восток, навстречу смерти. По привычке ли проповедовать или стараясь подготовить Лафонтена к худшему, он начинает вещать:
— Ах, Herr Doktor, вам следует знать, что Господь не может в полную силу проявиться в нас, перед тем нас не разрушив! Вот это и есть Крест! Истинное страдание, истинная мука! Внутреннее разрушение… Наш великий Мартин Лютер объясняет это лучше, чем я… Он говорит в проповеди, что мы все настолько глупы и настолько самодовольны, что не желаем принимать никаких страданий, кроме тех, какие выбрали сами. И обличает нашу дерзость! Мы все равно что предписываем Господу меру Его деяний. А ведь Господь желает действовать в нас, лишь нас поражая. Понимаете, Herr Doktor? Спасение станет возможным лишь тогда, когда будут сломлены наша дерзость и наш ум. Подумайте об этом, Herr Doktor!
Внезапный порыв угас, и Юнг медленно поворачивается. Лафонтен успевает заметить отвратительную самодовольную улыбку и жест заговорщика, обращенный не иначе, как к Богу. Он снова напрягается. До чего же ему хочется выбросить этого святого человека за окно! Контраст между тем, что он только что услышал, и тем, что сам пытался записывать ночь за ночью, был настолько резким, что он смог бы еще какое-то время любить свой дневник.
Как можно при таких обстоятельствах говорить о Боге? Лафонтен давным-давно жил с убежденностью, с почти физическим ощущением его отсутствия. Если бы непременно надо было что-то о Боге сказать — что бы он, Лафонтен, сказал? И тут ему вспомнились слова одного тяжелораненого, истекавшего кровью среди других умирающих: «Знаете, доктор, — прошептал он, — вот если бы я был всемогущим Богом, бессмертным Богом, мне попросту было бы стыдно — достаточно было бы увидеть, что происходит с людьми вроде меня и все остальное. Думаю, я вернулся бы в свое Творение, я весь бы съежился, я бы совсем исчез, да, я сдох бы от стыда!» Отличный урок теологии.
Лафонтен знает, что, если бы ему пришлось вернуться к своему дневнику, он написал бы нечто близкое к этому яростному Символу веры: «Да, мир — всего лишь усилие, которое Бог, ужаснувшийся собственному творению, совершает, стремясь уничтожить себя самою… Мир со всем, что в нем делается, — лишь самоубийственная судорога Бога, который старается еще больше испортить свое мерзкое произведение, разрушить свою божественность. Всю эту грязь развел Господь, пытаясь со всем покончить. Но конца нет! Вот что я думаю. Если бы Господу, несмотря ни на что, удалось бы уничтожить самого себя, мрак не воцарился бы. От вещей, от существ, от мыслей продолжал бы исходить странный свет. Повсюду вспыхивали бы дрожащие, ненужные проблески. Повсюду были бы равноценные и неясные вещи».
Лафонтен наконец встает со стула. Перед тем как в последний раз спуститься по опустевшей лестнице, он оборачивается и спрашивает у пастора Юнга:
— Они, конечно, увезли детей, чтобы их убить? Я угадал, верно?
ГРОЗА (Германия, лето 1963 года)
Вот-вот настанет день, когда мне придется покинуть Кельштайн, оторваться от этой долины. Сука-крепость так и не рухнула на горожан с их секретами. Родник на поляне не перестал бить, и загадка никуда не делась, по-прежнему легкой дымкой окутывает все вокруг.
Именно здесь, в этих краях, мне пришлось стремительно, за одно лето, повзрослеть. Именно здесь я полюбил отдаленность, отсутствие всего привычного, здесь мне понравилось быть чужим, а значит — всегда настороже.
Скучаю ли я по маме, которая осталась одна во Франции? Трудно сказать… Теперь мне достаточно о ней думать. Я могу довольствоваться тем, что представляю себе ее в маленькой книжной лавке, где она работает с тех пор, как мы, после убийства моего отца, перебрались из Лиона в Париж.
Она от меня далеко, но я отчетливо вижу, как каждое утро, одинокая и незаметная, она пешком идет из дома до улицы Казимира Делавиня, идет быстрым шагом в сером утреннем свете. Иногда мама представляется мне маленькой хрупкой девочкой, которую жизнь не щадит, иногда — красивой, элегантной и спокойной женщиной. И я не забываю о том, какую стойкость ей пришлось проявить во времена оккупации, когда она участвовала в Сопротивлении. Мне достаточно этих неярких образов печальной и счастливой матери, несдавшейся и несмирившейся. Открытой навстречу всем и всему.
Под конец лета мной овладевает такая жажда свободы, что я готов вскочить в первый попавшийся поезд. Уехать на восток, на юг, на север… Повсюду есть дороги, формы, люди и чудесные источники смятения, побуждающего действовать.
Скучаю ли я по Парижу? Для меня это всего лишь большой город, куда я впервые попал двенадцатилетним и по которому мне нравится бродить до тех пор, пока не свалюсь от усталости. Но я часто мечтаю и обо всех прочих больших городах мира, где когда-нибудь затеряюсь…
Перед отъездом мне захотелось напоследок взглянуть на Черное озеро. Снова увидеть родник. Сопоставить рассказ Клары с тем, что увижу сам, с тем, что услышу, с шорохом ветвей и плотностью молчания. Снова пройти лесной тропинкой. Я твердо решил отправиться туда в одиночку, но предупредил Томаса о своем намерении, глядя ему прямо в глаза, с легким вызовом в голосе, словно хотел защититься от возможных насмешек.
— Отличная идея, mein Franzose! — обрадовался Томас. — Пойдем вместе. Если хочешь, прямо завтра и пойдем. Можем и Клару с собой позвать…
Предложение было настолько неожиданным, что я не посмел отказаться, и назавтра мы — Клара, Томас и я — встречаемся на окраине городка, там, где начинается тропинка.
Едва мы двинулись по склону вверх, небо угрожающе потемнело, поднялся сильный ветер, заклубилась пыль. Клара быстро, как всегда, и с вызывающим видом идет впереди. Через плечо у нее переброшен ремень от чехла фотоаппарата, словно она не может выйти из дома без этого дополнительного глаза. Мне бы хотелось, чтобы она обернулась, чтобы она улыбнулась мне, но она на меня и не глядит — тоненькая, равнодушная черная ведьма.
Томас хмурится и бормочет что-то непонятное, а вершины между тем скрываются за черными тучами, и дневной свет стремительно угасает. Пейзаж делается странно унылым. У меня пересыхает во рту. Замечаю, что и Томасу не по себе. Небо вдали прочертили несколько белых беззвучных молний, потом неясно зарокотал гром, словно где-то там, наверху, шагает невидимое войско. Временами в зеленоватом свете появляются куски леса, черные сосны, затем все снова окутывает пугающая темень. Небеса совсем потемнели, порывы ветра выворачивают наизнанку кусты лесной малины вдоль дороги, внезапно показывая белый испод листьев.
Томас, растрепанный, во вздувшейся пузырем рубахе, орет, стараясь перекричать ветер:
— Будет очень сильная гроза! Надо возвращаться! Видишь, mein Franzose, Черное озеро не хочет тебя видеть!
И еще:
— Клара! Клара! Поворачивай, идем домой!
Он разворачивается и бежит вниз по тропинке, в сторону Кельштайна, к домикам, скрытым вихрями пыли. Гроза, которой он на самом деле не так уж и испугался, дает ему повод отменить нашу прогулку, на которую он согласился, только чтобы мне досадить. Я, не раздумывая, зашагал было за ним, но его насмешливое предположение меня разозлило, и я тотчас остановился, уверенный, что Клара тоже повернула назад и вот-вот со мной поравняется. Но эта девушка «не как все», равнодушная к разгулу стихий, продолжает подниматься по склону. Я мог бы ее окликнуть, но она уже далеко, и ветер заглушил бы мой голос.
Пошел дождь. Крупные, тяжелые капли застучали по сухим камням.
Внизу вместо сказочной, залитой светом долины я вижу теперь сумрачный ров, полный смутных безымянных страхов.
И тогда я без промедления кидаюсь вдогонку за Кларой, я хочу, несмотря на непогоду и зловещие предзнаменования, дойти вместе с ней до озера. Я бегу за ней, а дождь хлещет, сверкают бесчисленные молнии, и гром не смолкает.
Добежав до того места, где тропинка ныряет в лес, вижу Клару. Она ждет меня, укрывшись от дождя в подлеске. Вода струится по ее лбу, щекам, шее и груди. Синие глаза странно блестят. Она мимолетно и одобрительно улыбается и, не сказав ни слова, даже не поманив меня за собой, уходит вглубь, в лиственную тьму, которую время от времени прорезают молнии, и тогда вокруг нас встают причудливые тени. Мы инстинктивно держимся рядом. Ветер проникает повсюду, в нем слышится то детский плач, то крик раненого зверя.
Клара прижимает фотоаппарат к груди. Мы оба знаем, что вот-вот дойдем до незаметной развилки, прохода, ведущего к вазе с красными розами, но не замедляем шага. Мне снова захотелось отсюда выбраться, увидеть, наконец, озеро, пусть даже и в эту страшную грозу.
Размытый дневной свет. Мутная вода, по которой барабанит дождь. Тысячи ударов. По поляне перекатываются высокие волны. Пройдя еще немного, вижу, что родниковая вода перелилась через край и вокруг выдолбленного ствола образовалось болото. К озеру бегут ручейки, серебристые потоки.
Пару минут пережидаем ливень под елкой, по лицам у нас течет вода, одежда заляпана грязью.
И тут Клара кивком показывает мне на бревенчатую хижину, где по воскресеньям, в погожие дни, девушки обычно переодеваются в купальники. До нее несколько сотен метров. Вобрав голову в плечи, согнувшись, прикрывая собственным телом футляр с фотоаппаратом, будто найденное в дремучем лесу сокровище, Клара бросается к укрытию. Я шлепаю за ней по мокрой траве. Но не успеваем мы добежать до хижины, как на нас обрушивается град, ледышки больно лупят по телу, словно злобные гномы, спрятавшись в кустах, кидают в нас камнями. Последние метры мы бежим под сплошным обстрелом: руки, плечи, спины — мы изранены с головы до ног. Наконец, продрогшие и избитые, мы вваливаемся в хижину. Клара по-собачьи отряхивается. Град оглушительно стучит по крыше, он уже усыпал землю, круглые льдинки через открытую дверь подскакивают к самым нашим ногам.
Черная кожа озера покрыта миллиардами ран, из них хлещет серебряная кровь. Стою у двери и, завороженный, смотрю, как бушует стихия, с наслаждением вслушиваюсь в завывания и свист ветра, яростный стук, треск веток, раскаты грома, беспорядочный обстрел этого идиллического уголка, где еще так недавно голые люди, прикрыв глаза, подставляли тела мирному солнцу. Мне хотелось бы, чтобы град так и продолжал сыпаться, чтобы он взял в кольцо нашу хижину, чтобы мы вдруг оказались за стеклом, внутри тяжелого прозрачного шара, покоящегося в моей памяти. Личный ледниковый период, замерший во времени.
Град прекращается так же внезапно, как и начался. Ветер немного стихает. Гром и молнии удаляются. В тяжелой тишине слышится лишь журчание воды и странное потрескивание толстого слоя градин.
Войдя в хижину, где пахнет смолой, веревками, мхом и плесенью, вижу, что Клара сидит на неровных досках пола, завернувшись в большое рыжее одеяло, наружу торчат только длинные белые руки. Она выкручивает склизкие черные тряпки, с которых ручьями течет вода. Потом, разложив всю свою одежду сушиться на стоящей рядом поломанной лавке, долго и любовно вытирает краем одеяла чехол фотоаппарата…
Стою перед ней в мокрой одежде, руки праздно болтаются. Клара смотрит на меня совершенно спокойно. В полумраке светятся синие глаза. Мне хочется найти взглядом черную родинку, этот устремленный на меня третий глазок, но у меня туманится взор. Я знаю, что Клара голая под этим похожим на звериную шкуру одеялом, среди этих темных складок. И тут она протягивает мне руку — так открыто, так просто, так решительно, что нахлынувшая на меня беспредельная нежность побеждает сковавшую меня робость. Дрожа, беру обеими влажными руками ее горячую ладошку и опускаюсь рядом с ней на колени, а она чуть приоткрывает свой волшебный плащ и впускает меня в тепло плоти и шерсти.
Я еще так молод! Но с некоторых пор мне смутно кажется, что мое детство осыпается у меня за спиной, словно рыхлый песчаный обрыв. Мое счастливое, немного задумчивое детство, оборванное необъяснимым убийством отца, отчаянием матери, внезапным расставанием с родным городом. Я еще так молод!
Под этим чуть попахивающим плесенью, но уютным, словно дупло, одеялом, оказались не двое детей, застигнутых грозой, не два детских тела, но путаница, невнятица робких жестов, удивленной нежности, разрозненных ощущений, смелости и неловкости. Но главное — сильный и безотчетный порыв.
Когда заканчивается эта чудесная гроза, мы с Кларой внешне вновь становимся прежними. Долго сидим молча и неподвижно, оберегая общее тепло, окруженные запахами коры, сырой земли, мокрых листьев. Каждый плывет по волнам собственных тайных грез.
Полусорванная дверь хижины так и осталась открытой, через нее видно, как озаряется долина, а вместе со светом возвращается и тепло.
Что со мной произошло? Что со мной происходит? Впервые после смерти отца тревога не сдавливает мне грудь: раньше я ощущал ее как тесные доспехи, которые в то же время и защищали меня от некоторых страхов, готовых в любую минуту на меня наброситься. Больше ничто на меня не давит! Все мое существо расширяется и растворяется в бескрайней неподвижной пустоте. А драгоценное присутствие Клары рядом со мной лишь подчеркивает это новое, зыбкое, благотворное одиночество. Все представляется мне точным и созвучным. Мое медленное, глубокое дыхание смешивается с текущими, струящимися вокруг нас светом и временем.
Внезапно Клара вскакивает, натягивает еще непросохшую одежду и уходит по дороге, ведущей к озеру. Сидя по-турецки у входа в хижину, безразличный ко всему, что может случиться, смотрю ей вслед, а она шлепает босыми ногами по грязи, пробираясь среди высокой, прибитой грозой травы, сорванных листьев, сломанных веток и последних нерастаявших градин. То наклоняется над темной водой, то запрокидывает голову к небу. Время от времени Клара резко, как делают животные, останавливается. Солнце уже светит вовсю, слепит глаза, и все равно я вижу, как поблескивает перед лицом Клары металл ее фотоаппарата. Еще немного — и она скрывается в лесу, уходит по тропинке.
Позже, когда солнце внезапно проваливается за ели, блаженное состояние меня покидает, и я тоже возвращаюсь в Кельштайн, стараясь не вспоминать страшный рассказ Клары. Добравшись до роковой развилки, я пускаюсь бежать со всех ног, чтобы не догнали лесные призраки, я боюсь встретить потерявшихся детей, задушенных брата и сестру, бывших солдат, ставших безумными и преступными отцами, или странствующего рыцаря с его псом.
ПАМЯТЬ РУК (Украина, 1941 год)
Простояв в городе несколько недель, немецкая армия, наконец, покидает Краманецк. Быстроходные приземистые танки уже далеко. Они устремляются к горизонту, к возможному бою — говорят, враг готовит контрудар. За ними идут тяжелые грузовики с людьми и противотанковым оборудованием. Мотоциклы проворными насекомыми носятся взад и вперед между этим передовым отрядом и тылами.
Затем город покидают пехотинцы. Они прожили несколько мгновений, зависнув посреди войны и пространства. Теперь им предстоят долгие трудные переходы — пехота должна поддержать танковую атаку. Наконец, с места трогается большой обоз, лошади едва не падают под грузом продовольствия, от них идет сильный запах пота и навоза, поднимается странный, неприятный, желтоватый пар.
Доктор Лафонтен с заднего сиденья машины, помеченной огромным красным крестом, смотрит на идущих в бой людей. Шофер ведет машину слишком быстро, ее то и дело заносит, и все же они обгоняют эти нескончаемые колонны. Здоровые, крепкие, загорелые парни, вооруженные до зубов. Кто из них сегодня к вечеру или завтра останется лежать бездыханным? От кого останется лишь истерзанная плоть, глубокие раны и боль?..
На рассвете они выглядят сильными и решительными. Несколько выстрелов — и они превратятся в детей. Сломленные существа с непонимающим взглядом. Лафонтен это знает. А пока солдаты маршируют. Грохот бесчисленных пар сапог по твердой, утоптанной земле, металлический звон тысяч касок, подвешенных к поясу и колотящихся о чехол противогаза. Они не поют. Маршируют молча.
Небо у горизонта почернело. Что это — уже дым сражения или надвигающаяся гроза? Поднимается ветер. Русская пыль, проникая через окна машины, запорашивает глаза, забивается в ноздри. Лафонтен прикрывает рот белым носовым платком, то и дело протирает очки. Съежившись, ждет, что будет дальше.
Он так больше и не видел Морица, должно быть, тот ушел далеко вперед, может быть, уже встретился с врагом. Но Лафонтен выяснил, что случилось с детьми. Он узнал, что их убили по приказу эсэсовцев, что грузовики Морица увезли их в лес совсем рядом с Краманецком и передали в руки украинских полицаев, дожидавшихся маленьких смертников у наскоро выкопанной ямы.
Морицу пришлось подчиниться приказу, полученному перед самым уходом. Последний расстрел, быстрый и незаметный: солдат, молодых парней и отцов семейств, оставили в неведении, ничего им не сообщили об этой операции, дали возможность поверить — если им этого хотелось, — что детей пощадили.
У Лафонтена горечь во рту не только от пыли. Лежащий в нагрудном кармане блокнот совсем легкий — до чего же он невесомый в сравнении с тем узлом из стальных тросов, который теперь заменяет ему сердце. Но больше всего сегодня утром ему мешают его собственные руки, он не знает, куда их девать. Они отяжелели, его руки, и словно изуродованы воспоминанием о тех движениях, которые им пришлось проделать, когда он схватил и приподнял Клару. Да, эти грязные лапы фальшивого врача подхватили ее легкое тельце под мышки, под хрупкие крылышки перепуганной птички, вытолкнули ее из зала, заставили встать среди идущих на смерть женщин. Да, руки Лафонтена проделали все эти жесты убийцы по доверенности. А у рук есть своя память! Цепкая, плотная, грубая память, зудящая на поверхности кожи, въевшаяся в плоть ладоней, дергающая каждый нерв, каждую жилку, расползающаяся вдоль потных линий жизни, забивающаяся под каждый ноготь грязными воспоминаниями. Надо постоянно чем-нибудь занимать эти руки, слишком хорошо помнящие о совершенных преступлениях. Находить для них какие-нибудь мелкие дела, например, почесать макушку или затылок, поиграть трубкой или коробком спичек, побарабанить по чему-нибудь железному. Если мы, на беду свою, позволим нашим раскрытым и праздным рукам подняться перед лицом и начнем разглядывать свои десять пальцев, едва пошевеливающих уличающими фалангами, мы сразу поймем, что леденящие душу воспоминания хранятся вовсе не в голове у нас, они — в непристойной плоти этих рук. Каждый отпечаток пальца — словно печать, удостоверяющая, что зло совершилось.
Лафонтен, такой одинокий за спиной молчаливого шофера, боится этих сверхпамятливых зверей, неприметно вспухающих ниже запястий. Он трет ладони одну о другую, словно хочет стереть грязь или согреть, потом, несмотря на жару, натягивает форменные перчатки. «Вот этот разрыв, — сказал бы сейчас пастор Юнг, — и есть великое и таинственное испытание для вашей души!» А Лафонтен ответил бы ему: «Вся моя душа уместилась в моих руках!»
Если бои уже идут, вскоре этим рукам найдется занятие, они будут копаться в окровавленных органах, пилить кости. А потом, когда наступит зима, они займутся обморожениями, мелкими незаживающими ранками, онемениями. Но сколько ни занимай их, не давая им ни минуты покоя, — они вспомнят. Они сохранят отпечаток незаметного и страшного жеста, их липкая память останется на каждом предмете, какого они коснутся.
Лафонтен не знает, что в эту минуту и лейтенанту Морицу тоже мешают его чудовищные руки. Трясясь в грузовике, нагруженном пулеметами, гаубицами, противотанковыми минометами, он с нетерпением ждет первых боев. Его руки крепко-крепко сжимают пряжку пояса — до боли, до крови. Стискивают кобуру пистолета и чувствуют холод металла. Им не терпится подняться к темному небу, чтобы дать приказ открыть огонь. Не терпится убивать, чтобы забыть о нескольких маленьких мертвецах.
Что произошло? Когда грузовики с детьми отъезжали от казарм, знал обо всем только Мориц. Внезапно он приказал водителям свернуть к лесу. Его люди не посмели открыто удивиться. Настроение было беспокойное, лихорадочное.
Это был светлый трепещущий лес. Большой лес, нарушающий однообразие равнин, с обеих сторон обхвативший Краманецк. Город словно цеплялся за эту жалкую растительную вертикальность, гордился окружавшими и украшавшими его березами и соснами.
Операция, задуманная эсэсовцами, командирами особых отрядов, и проходившая под надзором высшего руководства, была подготовлена наспех. Мориц, выполняя полученный приказ, велел грузовикам на первом же повороте уйти с шоссе влево, на лесную дорогу. Грубо взревели моторы, шоферы переключили скорость, а вскоре начались рытвины. Машины продвигались с трудом, дети валились друг на друга. Дорога все больше сужалась. Моторы работали с перегрузкой. Нижние ветки хлестали по серо-зеленым крышам кабин. Казалось, стихии вступили в заговор, как бывает в сказках, чтобы сделать лес непроходимым, помешать совершиться преступлению. Как ни ревели, как ни старались грузовики — они не могли сдвинуться с места.
У Морица сдали нервы. Не переставая отчаянно скрести голову, он вылез из кабины и подошел к первой машине, чтобы объяснить шоферу, что надо делать. Велел уложить поверх песка сломанные ветки. Мориц пыхтел и потел: его, простодушно исполнительного, тяготило это трудное и подлое задание, он поймал себя на том, что испытывает странное удовольствие оттого, что столкнулся с непредвиденными трудностями. Его смущало это злобное удовольствие, и оттого он еще сильнее обливался потом.
Нет, до этой поляны добраться решительно невозможно! Ему захотелось развернуться и вместе со всеми детьми вернуться в Краманецк. Взять да и привезти туда детей — в жалком состоянии, но живых!
Ладно, посмотрим. Вообще-то сейчас все старшие офицеры охвачены предотъездной лихорадкой, а командиры готовятся к наступлению. Кому сейчас есть дело до этих измученных детишек? «Да, но они — евреи!» — внушал себе Мориц, опасаясь, как бы его не обвинили в том, что он не исполнил приказа по причинам более личным, чем эта чертова физическая невозможность: нельзя проехать по дороге, нельзя добраться до поляны. Он в самом деле не испытывает ничего, кроме презрения и отвращения к этим неопрятным полицаям, нетерпеливо — скорее бы покончить с делом! — топчущимся на краю вырытой ими ямы. Ждут, наверное, сейчас в тишине — только пение птиц, жужжание насекомых и шепот листьев на березах.
Мориц все еще в нерешительности. Бывают такие мгновения неустойчивого равновесия, когда чаши весов могут склониться и в ту и в другую сторону, достаточно пустяка — вздоха или пылинки, достаточно произнести один-единственный слог и сглотнуть слюну. И в это прозрачное мгновение верные доводы, главные принципы, глубокие убеждения и самые лучшие намерения словно засыпают, заглушенные толстой оболочкой плоти, прячутся в ледяных складках и закоулках мозга.
Мориц замер на месте, стиснутый кольцом деревьев. Только что он споткнулся о корень, подвернул ногу, ушиб колено. Его тело будто расслоилось на волокна. Все то, чем он был, все то, чем он себе казался, расползлось на пугающее множество мелких волокнистых стремлений, они со страшной скоростью ветвились, сплетались, соединялись и разъединялись и в конце концов выдали решение.
— Стой! — неожиданно для себя взревел Мориц. — Выведите всех детей — до поляны дойдем пешком!
Жребий брошен. Где-то там, в толще Морицевой плоти, победу одержали некие дисциплинированные струны. А струны сострадания умолкли навсегда.
Морщась и прихрамывая, он прошел вдоль трех грузовиков, остановленных лесным колдовством — лес не пустил их дальше. Солдаты вывели детей. Люди в военной форме передавали друг другу самых маленьких, сбрасывали младенцев на руки самым крепким из мальчиков. А потом погнали это слабое, покорное стадо по неровной дороге. Шаг, еще шаг. Крики, удары, кто-то падает. Когда в кузовах не остается никого, солдаты берут на руки самых слабых.
По лицу Морица катятся крупные капли пота. Этот лес — кошмарное наваждение, как же далеко его занесло от кельштайнских гор! Он не столько ведет эту больную свору, сколько тащится вместе с ней, оскальзываясь сапогами на песке.
И тут Мориц, шаря глазами среди лучей и теней леса в надежде отыскать наконец выход на поляну, замечает, что к нему приближаются двое детей, мальчик и девочка. Подойдя, они сами вкладывают свои ладошки в его, как делают потерявшиеся, уставшие дети, когда доверчиво и беспомощно отдаются первому попавшемуся навстречу взрослому. Мальчик берет Морица за левую руку. Девочка — за правую. Они цепляются за его кисти, как, должно быть, цеплялись за отцовские, когда шли вместе по дороге где-нибудь неподалеку от Краманецка или отправлялись в лес за хворостом. Они поступают так, как поступают все дети, когда у них совсем не остается сил или когда им снится плохой сон. Если только эта кроткая просьба чуть-чуть побыть отцом не была тайным способом отвести взрослого растерянного человека в какое-то мысленное место, где с незапамятных времен ждет его детство. Ждет целую вечность…
Мориц, потрясенный прикосновением к этим зверушкам, забившимся в пещеры его ладоней, вместо того чтобы оттолкнуть детей, только крепче сжимает их руки. Он идет во главе странной процессии, стараясь не думать ни о том, что сейчас произойдет, ни о том, что уже случилось, стараясь не слышать, как поскрипывает песок под копытами Дьявола и коня Смерти. Могло показаться даже, что малыши немного успокоились, что их короткие шажки, под которые Морицу приходится подлаживаться, стали тверже, словно тепло, исходившее от могучего лейтенанта, пробудило в них непонятное доверие.
И вдруг он видит полицаев с ружьями. Их больше, чем он предполагал. Смуглые, темноволосые, суетливые. Видит и разверстую яму, в которую сбросят трупы. Видит небо над поляной и птиц, спешащих прочь. Проходит еще немного, не отпуская детей, потом, в нескольких метрах от палачей, разжимает руки и очень осторожно подталкивает вперед мальчика и девочку, и в последний раз видит их тоненькие шейки и пушок на затылках.
А потом все происходит очень быстро. Мориц перекидывается несколькими словами с главарем этой шайки, здоровенным парнем с перекрещенными на груди патронташами, увешанным золотыми и костяными побрякушками, и в это время слышит за спиной лязганье затворов: украинцы, ворча, заряжают винтовки. Эти звуки внезапным ливнем обрушиваются на броню, в которую одето его сердце, звонкий влажный стук, предвещающий грозу, которая все унесет с мутным зеленоватым потоком.
«Да как же наш вермахт, — думает Мориц, — может, хотя бы и для самой грязной работы, нанимать этих мерзких предателей?» Ему хочется завыть, стать чудовищно тупым. Он знает, что сейчас от него осталась одна видимость солдата, только на то и годная, чтобы исполнять приказы. Теперь это лишь пустая оболочка, внутри которой затаился съежившийся зверь. Людоед, который в сумерках раздавит детские руки в своих, а потом перемелет челюстями их прекрасные лица.
Мориц, не медля больше, уводит своих людей с поляны.
— Ускоренным шагом марш!
Еще не дойдя до грузовиков, они слышат грохот выстрелов, чуть приглушенный слабым заслоном из берез и сосен. Красное видение на красном фоне — падающие дети. Лес гудит. Солдаты опускают головы.
Каждый увяз в собственном страхе. Каждый солдат погружен в собственное молчание, Мориц пыхтит и потеет, у каждого своя внутренняя война, в свою очередь, затерявшаяся в наводящей ужас беспредельности общей войны.
Вдоль боков Морица свисают непропорционально огромные руки. Куда бы он ни пошел, ему придется везде таскать с собой эти руки. Едва вернувшись в Краманецк, лейтенант в суматохе трогающейся с места армии получит приказ немедленно отправиться на восток.
Никто у него не спрашивает, что стало с еврейскими детьми.
Два дня спустя черные тучи, которые приползли из-за горизонта, с неожиданной силой пролились дождем над первыми боями. Несмотря на потоки воды, танки горят, и дым смешивается с темным небом.
Долгое затишье ожидания сменилось жестокими битвами и грозами. Впервые после летней засухи земля превратилась в густую грязь, поглощающую кровь.
В бою Мориц выплескивает сверхчеловеческую энергию. Тяжелой рукой, той самой непристойной рукой, в которой держал тогда в лесу детскую ладошку, он указывает своим артиллеристам на расположенную всего в каких-то шестистах метрах от них линию, которую немецкие гаубицы должны засыпать снарядами, чтобы преградить путь проклятым Иванам, которые валом валят, расстреливая первые ряды.
— Огонь! Одиночный огонь!
Лейтенант, похоже, успокаивается лишь в разгаре боя. Он интуитивно понимает, как подстегнуть людей. Он двигается легко и свободно. Рядом с насильственной смертью он делается точным, безжалостным и почти красивым. А когда враг подходит слишком близко, Морицу ошеломляющим образом представляется, кажется, будто он наделен дьявольской неуязвимостью. Его черный пистолет плюется свинцом сквозь дождевые струи.
— Огонь! — ревет Мориц.
Такая резня необходима для того, чтобы армия могла двигаться вперед. И в конце концов наступление отбито.
Идут дни, похожие на ночи. А ночи — бессонные. Иногда солдатам начинает казаться, что проклятые Иваны, окопавшиеся здесь, нарочно пропускают все дальше немецкие войска, заманивают вермахт в полные ловушек края, где почва делается болотистой, пружинящей. Реки внезапно выходят из берегов. Танки, люди, кони, орудия быстро начинают вязнуть в трясине. А за осенними проливными дождями надвигается ранняя и долгая зима. Извечная русская история!
А до Москвы еще километров семьсот или восемьсот… Нескольких жмущихся одна к другой жалких избенок достаточно, чтобы создать иллюзию, можно поверить, что куда-то пришли, но в конце концов понимаешь, что позади тебя и вокруг тебя — пустота.
Когда танки с грохотом и пламенем устремляются вперед, всегда кажется, что наконец-то начинается решающее сражение: об этом судишь по количеству врагов, ярости их отчаянных атак и появлению всех этих бункеров, вырастающих за одну ночь подобно ядовитым грибам. А потом осознаешь, что это всего-навсего очередная мелкая стычка, и русская земля способна поглотить, как червей, сотни стальных гусениц.
После того как возобновилось наступление, после душных вечеров в Краманецке, после того как увезли детей, два друга, Лафонтен и Мориц, вместе уже не бывали. Они были не очень далеко друг от друга, но каждый занимался своим делом. Мориц сражался, Лафонтен заботился о телах после сражений.
Из-за боевой тревоги солдаты даже на ночь не снимали промокшую форму. Ноги пухли в полных воды сапогах. Веки были изъедены комарами, кишки опустошены дизентерией.
Лафонтен в своем полевом лазарете, который каждый раз устраивал заново по мере того, как армия продвигалась вперед, не успевал справляться с пневмониями и лихорадками.
Победные сводки следовали одна за другой, но смутное предчувствие катастрофы его не покидало. Войска продвигались без боев. По вечерам, после десяти, все собирались вокруг радиоприемника, который унтер-офицеры выставляли перед своей палаткой, и пели «Лили Марлен».
Через несколько недель задул ледяной ветер. Первые рассветы в инее. Первые замерзшие лужи и, наконец, первый снег. Поначалу снег радовал, настоящее блаженство, белые бабочки былых весен сыпались с прежнего неба, садились на тела. Но снег не переставал идти, его становилось слишком много. Хлопья отяжелели, валили густо и неумолимо. До тех пор пока снег не иссяк и все вокруг не сковала белизна.
Лафонтен и Мориц, каждый на своем месте, сожалели о том, что зимняя форма вермахта так долго добирается до фронта, в то время как у Иванов все в полном порядке. Когда Лафонтен на собранном из подручных материалов операционном столе разрезал на раненом мундир, потом приходилось еще раздирать толстый слой газет, которыми бедолага обмотал торс. Иногда врач находил даже прилипшие к груди исписанные листки — письма от женщины. У каждого свой дневник-амулет, у каждого свой талисман.
Зима была страшная. Минус тридцать. Продвижение снова остановилось. Линия Сталина — словно огромная стена, на которую с разбега натолкнулась немецкая армия. Несмотря на изматывающие прорывы обороны противника и ложные победы, каждый раз приходилось отступать и, теряя последние силы, топтаться на месте.
Боевой дух немцев не выдержал столкновения с легендарными просторами, он ослабевал неуклонно и сверху донизу. Слишком много потерь! И слишком большое расстояние еще оставалось пройти.
Иногда Мориц ронял отяжелевшие, занемевшие руки. Обойма пуста, память переполнена. Так действует война на славного парня. Мориц патетически мечтает выплеснуть пустоту. А Лафонтен мечтает о том, чтобы истрепаться до дыр, довести себя до полного уничтожения, зашивая, прижигая, ампутируя, спасая во что бы то ни стало остаток жизни.
Однажды ночью, в старом доме с закопченными окнами, заваленном обломками и трупами, несгибаемый Лафонтен в белом халате внезапно бросил оперировать. Его уже который день трясло, пальцы дрожали все сильнее.
Предоставив ассистентам продолжать, он уходит по длинному пустому коридору. У него как-то странно кружится голова, он держится за стены, из-под пальцев осыпается штукатурка, за спиной слышен шум страданий и агоний. Наугад толкнув одну из дверей, он видит ряд писсуаров и ряд грязных, вонючих унитазов. Дверь со скрипом затворяется за ним. На него накатывает тошнота, он сгибается пополам, вот он уже стоит в одиночестве на коленях перед белой эмалированной чашей, разинув рот над дырой, забитой давним, совершенно смерзшимся русским дерьмом.
Его выворачивает наизнанку, он не перестает извергать черную, горькую, смрадную массу, сам себя выблевывает в муках, потом наконец успокаивается, замирает и больше не двигается.
Стоя в этой молитвенной позе — склонив голову, до боли упираясь руками, он — словно его мозг охвачен вместе с жаром и подлинно русским «идиотизмом» — замечает, что поднятое деревянное сиденье, разъеденное мочой, стоит у него над головой странным ореолом, смехотворным нимбом. В висках у него стучит. Лафонтен в образе русского Идиота! В этом мерзейшем закоулке разрушенного города на него снисходит нелепое озарение. Ему представляется, что он станет кем-то вроде святого. Идиот и святой новых времен! Потом его снова рвет, он цепляется за унитаз, потом медленно встает над обледенелым дерьмом обледеневшего мира и идет длинным темным коридором в операционную, где он еще нужен.
Начиная с этого места, для того чтобы описать продолжение и конец русской войны, понадобились бы грязные, холодные слова. Для того чтобы описать выстрелы, черную кровь, вмятые в снег тела, атаки, панический страх, — когда страшно до того, что кишки крутит, выколотые глаза, провалы ртов с выбитыми зубами, черный дым, от которого рвет, обезображенных мертвецов вперемешку с искореженным, обгоревшим металлом, невозможность дышать, оторванные конечности, и снова кровь, ножевые раны и перерезанное горло часового.
В этой свалке мы едва не потеряли доктора Лафонтена и лейтенанта Морица. Первый упорно спасает жизни, второй идет навстречу опасности и никак не может погибнуть в бою. Они, конечно, не в Сталинграде, но на долю каждого выпал не один мелкий мерзкий Сталинградик. Их не убили. Их не взяли в плен.
Получив тяжелые ранения, они окажутся в числе офицеров, эвакуированных с фронта последними перед полным разгромом, безоговорочной капитуляцией. Долгое время пробывшие без сознания, но чудесным образом вновь соединенные друзья вытерпят еще немало мук и проведут долгие месяцы сначала во временных лагерях и полевых лазаретах в Польше, потом в госпитале военного лагеря в Берлине под непрекращающимися бомбежками.
И когда-нибудь, после долгих странствий по разоренной Германии, они доберутся до Кельштайна, где их, конечно, уже никто не ждет. И ни тот ни другой больше никогда не почувствует, что «вернулся домой».
МЕДЛЕННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ (Германия — Франция, лето 1963 года)
Мои последние дни в Кельштайне плывут и тают в неопределенном, вялом беспокойстве. Я прекрасно вижу, что Клара старается не оставаться со мной наедине. Не уверен, что мне хочется снова оказаться в ее обществе, но бешусь, видя ее с другими. Словом, я опять втиснулся в жесткие рамки тревоги и стараюсь себя убедить, что Клара, окажись она в хижине во время грозы с другим парнем, вела бы себя точно так же. Да вот хотя бы с этим верзилой, который ржет, а не смеется! Или с толстым коротышкой, у которого щеки багровеют, стоит ему отхлебнуть пива! Или, само собой, с Томасом! Стискиваю зубы и снова до изнеможения рисую перекрученные фигуры, а потом узловатое дерево, на котором вызревают наполненные слезами и мухами глаза.
И вот, когда я накануне моего отъезда слоняюсь по главной улице Кельштайна, Клара кладет мне руку на плечо и с обезоруживающей непосредственностью подставляет щеку. Она не случайно оказалась у меня на пути, опять ее ведьминские штучки! Мы идем рядом. Я молчу.
— Ну вот, Поль, скоро ты вернешься в свою страну! Здесь ты был временно. Знаешь, может быть, мы когда-нибудь еще увидимся, потому что я хочу поехать во Францию, в Париж. Мне этого очень хочется. Я тебе напишу.
Моя ярость без остатка растворяется в нахлынувшей волне нежности, но я чувствую, что Клара собирается сказать мне что-то еще.
— Знаешь, Поль, я не останусь жить в Кельштайне! Я не могу здесь жить. И даже в Германии! Я тоже здесь как будто «проездом». Конечно, я не чувствую себя чужой, но я не могу быть… как же это называется? Ах, да: верной! Я не могу быть верной тому, что имеет значение для местных. Верной тому, что важно для немцев.
Клара остановилась. По-детски серьезно наморщила лоб.
— Ты не можешь понять, Поль, но я такая: «неверная». (Она выговаривает немецкое слово, подчеркнуто, почти агрессивно раскатывая «p».) Die Treue, верность, здесь это очень прочно. Верность не только людям, но и всему «немецкому», немецкому духу. Должно быть, именно этого нравственного качества немцы особенно строго от себя требуют. А меня эта верность пугает.
Клара почти разгневана:
— Я не могу, Поль, не могу! Если я рассказала тебе эту историю про Морица и его детей, про моего отца с его букетами роз, то только потому, что говорила по-французски. Понимаешь? По-немецки я бы не смогла. Но мне еще надо узнать некоторые вещи, о которых мой отец говорил, когда мы зимой вместе ходили к больным…
Кажется, она вот-вот расплачется. Я почувствовал бы себя глупо, если бы сказал, что прекрасно ее понимаю. Но вместо того чтобы разрыдаться, Клара заливается смехом, чистым и сильным, как вода, бегущая по уступам, и, чуть наклонив голову, обольстительно и несерьезно заявляет:
— Да и вы, французы, говорят, верностью не отличаетесь! Так ведь, Поль? И не только по отношению к женщинам. Для вас неверность — не проблема.
Я приготовился вяло возразить, сказать ей: «Ты, Клара Лафонтен, стало быть, тоже немного француженка!» — но она уже отстранилась, повернулась ко мне спиной и волшебным образом исчезла под липами.
Пришло время прощаться. Мне надо завтра рано-рано сесть в автобус, который доставит меня в Мюнхен, потом разные поезда повезут в сторону границы, в Мец, а оттуда — в Париж.
Томас — сонный, встрепанный, с помятым после вчерашней гулянки лицом — захотел проводить меня до пустынной площади. Открываются двери трактира. Парень в зеленом переднике подметает террасу. Трепещут листья лип. Наконец в розоватом рассветном тумане показывается автобус с зажженными фарами. Я засовываю свои чемоданы в багажное отделение и собираюсь лезть в автобус.
Не очень-то все у нас с Томасом шло гладко. Отношения складывались трудно. Но, как ни странно, теперь, когда я расстаюсь с этим жизнерадостным и энергичным парнем — какие-то таинственные его стороны от меня, несомненно, ускользнули, — я испытываю прилив дружеских чувств, догадываясь, что больше никогда его не увижу.
К величайшему моему удивлению, он вытаскивает из кармана складной нож с узорной ручкой и протягивает мне, стараясь отчетливо выговорить по-французски слово «souvenir»[9]. И тогда я без раздумий отдаю ему свой последний альбом, тот, в котором рисовал деревья со странными глазами, и Томас вежливо притворяется, будто оценил этот жест.
Мотор автобуса тихонько урчит в сонном городе. Пассажиры торопятся и безрадостно поглядывают на водителя, который курит трубку, устроившись на своем месте. Высунув руку в открытое окно, выбивает чашечку о зеркальце. Свежий ветерок уносит золу.
Усевшись прямо за спиной у шофера и глядя, как Томас, пятясь через площадь, машет мне рукой, я внезапно замечаю, что рядом со мной в проходе стоит чуть запыхавшаяся Клара. Она целует меня в лоб и глаза, протягивает конверт и поспешно выскакивает. Мотор ревет, автобус трогается.
Кручу головой во все стороны, но Клары нигде не видно, а за стеклами проплывают фрески, церкви с куполами, потом домики, заболоченные берега реки, лес на склонах, отходящие от дороги тропинки.
Держа в левой руке загадочный конверт, в правой — подаренный Томасом нож, я как можно дольше оттягиваю минуту, когда вскрою первым второй и прочту, наконец, Кларино послание.
Через некоторое время мой поезд медленно-медленно покидает Мюнхен. Пасмурно. Высоко в небе плывут тяжелые тучи, похожие на безмолвную гусиную стаю или табун призрачных коней. Ветер гонит по перрону газетные листы — ветхие татуированные крылья, сброшенные ангелами перед тем, как отправиться в последний путь. Прижавшись лбом к стеклу, я смотрю, как рвется в клочья, бесконечно долго расползается на нити материя города.
Кажется, что локомотив мучительно отыскивает выход среди новеньких построек и груд обломков. Мюнхен в этом году еще пахнет войной, несмотря на лишенных памяти траву и полевые цветы. Вдоль железной дороги нелепо торчат вылинявшие от дождей фасады с оспинами от выстрелов и обуглившимися дырами на месте окон. Я не могу оторвать взгляда от этих следов войны.
Едва проклюнувшийся мир, возбужденный мир старается установить в хаосе нарядные границы. Яркие изгороди, современные перегородки, стены, оклеенные афишами, легкие металлические барьеры — все это для того, чтобы развалины не смешивались с новостройками. Но там, за выкрашенными в красный, желтый, белый цвета заборами тянутся неровные линии обрушившихся зданий и ямы, заполненные темной водой. На том, что разрушено, буйно растет серая шерстка, пыльный плющ, какие-то лохмотья цепляются за колючки на кустах, а современные, гладкие и блестящие здания выглядят слегка неуместными, неприличными.
Еще немного — и поезд уже катит через невнятные поля, пересеченные косыми дрожащими струйками предосеннего дождя. А потом у меня в глазах все затуманивается. Я так еще и не распечатал Кларин конверт. В Мюнхене на вокзале было слишком много народа, а мне надо было среди этого столпотворения разобраться в направлениях, часах и минутах, номерах поездов, путей и платформ. Я весь взмок, и мне не терпелось вырваться из Германии.
Немного успокоившись и отдавшись наконец покачиванию вагона и глухому перестуку колес, я, не обращая ни малейшего внимания на теплое и шумное присутствие пассажиров в купе, вытаскиваю конверт из кармана и ставлю его вертикально, прислонив к мокрому пейзажу. Сжав в руке подаренный Томасом нож, выжидаю еще несколько минут, а потом, вытащив новенькое лезвие, разрезаю бумагу.
Из конверта выпадает очень странная фотография — загубленный негатив, плохая печать. Разочарование мое беспредельно. Зачем Клара в последнюю минуту принесла мне то, что и картинкой-то не назовешь? Черная блестящая поверхность усеяна белыми крапинками. Нечеткие темные формы испещрены мелкими серыми точками и черточками. Я разозлился: сейчас разорву ее в клочья!
Поднял глаза: мутный пейзаж за пыльным стеклом, по которому ползут капли дождя. У меня в руках Кларина фотография, похожая на ночь, усыпанную кремообразными звездами, — тьма, полная комет и снега.
И одновременно с этим я чувствую, как Германия глянцевой бумагой выскальзывает из-под меня, уходит, исчезает, размолотая сталью колес и рельсов.
Уезжаю, уезжаю! Поезд уже набрал скорость, когда внезапно, после долгого и горестного созерцания бессмысленного снимка, на меня снизошло откровение! Я увидел! Я узнал! Фотография была сделана на берегу Черного озера! Ну, конечно, там — это его берега, его вода, его отражения. И одновременно с этим я понимаю, что пейзаж был снят через очень плотную сетку воды, разметанную ветром. Да, ни малейшего сомнения: даже камыш видно, даже тину, а на самом дальнем плане — черная полоса елей и маленький кусочек нашей хижины с ее крышей из коры! Все здесь, черным по белому. И еще я совершенно уверен в том, что эти белесые черточки, эти брызги, эти обманчиво лишние пятнышки — струя родниковой воды, позади которой Кларе захотелось поместить свой фотоаппарат.
Сердце у меня колотится. Уныние сменилось тревожным и благодарным подъемом. Я распрямляюсь. Пассажиры в моем купе читают, покашливая и что-то жуя. И я, вцепившись в снимок, словно в волшебный камень-талисман, надпись на котором мне удалось расшифровать, улыбаюсь никому. Поезд разгоняется еще сильнее, и я, против всех ожиданий, блаженно ощущаю, как затягивает меня продолжение моей истории, просторное и пленительное будущее.
И еще я чувствую отчаянное желание рисовать, да, вытащить блокнот, карандаши, ластик, чиркать и тереть черным грифелем до тех пор, пока не проступят формы. А когда-нибудь, может, и писать красками. Цвет, плотная материя — почему бы и нет? Руки чешутся. Я счастлив. Предчувствую удовольствие от того, что буду выдумывать все новые и новые формы… Но сижу без движения. Подождать, удержать… Я открываю доступ потоку воображения, даю мыслям возможность влиться в мед мгновения. Я прекрасно знаю, что зло существует. Я знаю, какая мерзость скрывается в любом пейзаже и какие ужасы и печали нас подстерегают впереди. Я неизменно чувствую все ту же смутную угрозу, давние загадки еще выплывут нежданно на поверхность, но сейчас, в этом унылом купе, мной овладевает мощный восторг. Яростная, горячая молодость, на которую я вскакиваю без седла. Стремительный порыв. Грядущее.
Я резко вскакиваю и, топча сброшенные ботинки, задевая чьи-то колени, протискиваюсь в коридор. Я сунул Кларину фотографию в карман, слегка помяв ее, но пока оттягиваю минуту, когда изорву ее на мелкие клочки и спущу в унитаз, хотя уже представляю себе, как клокочущая в глубине пустота втянет их, а потом выплюнет и разбросает по балласту. Последние брызги Черного озера!
Стою один в коридоре, облокотившись о медный поручень, и не могу отогнать от себя мысли о Кларе, о ее детстве, о том, что ее ждет. Понятия не имею, увижу ли когда-нибудь снова эту странную девушку, но знаю, что она, вместе с ее фотоаппаратом, ее выходками, ее появлениями и исчезновениями, ее желанием уехать, ее зорким взглядом, ее родинкой под глазом и ее ошеломляющей независимостью, уже движется по пути, который не может время от времени не пересекать мой собственный.
Мне кажется, в грохоте встречных поездов я все еще слышу ее незабываемый приглушенный голос, она говорит как бы мимоходом: «Знаешь, Поль, к двенадцати годам я уже много раз видела, как рождаются и умирают…»
В этом поезде, мчащемся на запад, к моему личному маленькому будущему, я пока располагаю лишь несколькими видениями этого детства. Я почти ничего не знаю о Германии, а доктора Лафонтена и его жену Магду в Кельштайне видел лишь мельком, но все же их судьба меня волнует.
Когда-нибудь я попытаюсь вообразить целые глыбы прошлого, темные глыбы с режущими краями, глыбы, плывущие во Времени. Это надолго.
Подъезжая к Парижу, я испытываю тягостное чувство, мне кажется, будто я уехал отсюда только вчера, будто никогда и не уезжал. Все мои немецкие впечатления внезапно съежились. Воспоминания про запас. Едва теплящиеся ощущения.
Мама встречает меня на Восточном вокзале, ждет на краю перрона. Я заметил ее, прямо стоящую в светлом платье, за несколько секунд до того, как сама она различила меня в толпе путешественников, которая устремилась ей навстречу, обтекла ее и прошла мимо.
Она подняла голову от толстой книги, которой зачиталась, дожидаясь меня, заложила страницу пальцем. Как всегда, пришла заранее, вечно ее беспокойство подгоняет.
Мы целуемся и крепко прижимаемся друг к другу, как и положено после первой разлуки. Она касается ладонью моего лица, трогает щеку, поглаживает затылок, утыкается носом мне в шею, словно убеждая себя в том, что это по-прежнему ее милый мальчик, ее сын, которого она способна узнать из тысячи, надо только до него дотронуться, может быть, принюхаться к нему. Материнский ритуал, смутно животное проявление. Она улыбается мне, слегка успокоившись при виде этого возвратившегося из Германии парня, не совсем совпадающего с тем более давним, более нежным обликом, какой хранился у нее в памяти.
Я понимаю, что она скучала по мне больше, чем я по ней. Когда-нибудь я узнаю, что так и должно быть. Мне немного неловко вновь оказаться на месте осиротевшего сына, мальчика, лишившегося отца, в городе, где мы чувствуем себя лишь проездом, я стал кем-то другим — там, на другой территории, не имеющей точного географического обозначения.
Мы разговариваем так, словно нам надо много-много друг другу рассказать. Заканчивается долгое лето.
ЛИЧНЫЕ БИТВЫ (Кельштайн, 1944…/…1957)
«Знаешь, Поль, к двенадцати годам я уже много раз видела, как рождаются и умирают!»
Сколько раз эти слова, однажды произнесенные Кларой в Кельштайне и чуть позже повторенные в Париже, сами собой всплывали потом в моей памяти? Я потянул за эту фразу, словно за конец серой ниточки, и понемногу развернулся весь рассказ:
«…Да, Поль, к двенадцати годам я уже видела, как рождаются и умирают! Благодаря моему отцу. И из-за моей матери. Конечно, можно сказать и наоборот… Когда я была маленькая, отец часто целыми днями, а часто и ночами не бывал дома, потому что пациентов у него было много. И я оставалась одна. Мать из дома не выходила, но и она на свой лад отсутствовала.
Однажды отец твердо заявил, что больше не желает, чтобы я была предоставлена самой себе, особенно в те дни, когда не хожу в школу. Мама смотрела сокрушенно и улыбалась чуть устало. „Делать нечего, — сказал отец. — Буду брать Клару с собой к больным!“ За несколько лет до того, после болезни матери, из-за которой она перестала выходить из дому, нам доставили из Мюнхена в грузовике огромный черный рояль. Мне стало стыдно, неудобно, не знаю, как поточнее объяснить, при виде желтого грузовика, привлекавшего к нам внимание, и еще того больше — при виде этого черного блестящего инструмента, куда больше подходившего для большой квартиры или концертного зала, чем для домика вроде нашего. Казалось, все деревянные предметы, какие у нас были, с негодованием отвергают непрошеного гостя. Светлое дерево, некрашеное дерево, неструганое дерево, темное и узловатое дерево, стулья, столы, шкафы — всех оскорбил этот нарядный предмет с его ослепительным зеркальным блеском, этот чужак, насмехающийся над всем, что в нем отражалось. Как только его настроили, мама стала играть. Она не то чтобы выздоровела, но изменилась. Она достала из ящика партитуры, которых я никогда раньше не видела, от них пахло плесенью и рисовой пудрой.
Я с первой минуты возненавидела миллионы черных нот, выбегавших из этой приоткрытой коробки, словно вредные насекомые, паразиты, тараканы, ядовитые муравьи. Я ненавидела звуки рояля, ненавидела тень музыки, которая дотягивалась до моей комнаты. Мать играла. Я затыкала уши и разглядывала фотографии, которые вырезала из журналов и наклеивала в тетради. Я пыталась уйти в картинки: море, пампасы, автострада, Эйфелева башня, Нью-Йорк, Китай, плавучие льды… А потом я впервые ускользнула из дома. Я пристрастилась уходить одна, как можно дальше, куда глаза глядят. Улицы заканчивались, начинались дороги. Дождь, стекающий по лицу. Звук собственных шагов на пустой дороге. Яростный ливень, шорох в подлеске. Мама продолжала играть, ей дела не было до моих скитаний. Соседи поговорили с отцом, и он решил брать меня с собой… Сначала я была недовольна, лишившись едва обретенного одиночества. Улицы Кельштайна, берега реки, дорога через лес. Сидя на склоне горы, я смотрела, как поднимается ко мне снизу белый дым из труб, и представляла себе одноклассников за семейным столом. Никто не знал, где я. Я кусала яблоко. Темнело. Мне было хорошо.
Но я сразу же поняла, что отец, большей частью молчащий, моего уединения нисколько не нарушает. Он вел машину, я сидела справа от него и мечтала, прислонившись головой к окну. Случалось, он произносил какие-то загадочные слова. Мне казалось, он обращается ко мне, но он разговаривал сам с собой.
Думаю, для его пациентов я была чем-то вроде фетиша. Ребенок-талисман. Зимой меня поили горячим шоколадом. Летом угощали хлебом и сыром, наливали холодной воды. Я никогда подолгу не сидела на стуле, выходила побродить вокруг дома, и каждая деталь отпечатывалась в моей памяти. Я проскальзывала везде незаметно и легко, как кошка, и обо мне в конце концов забывали. А меня завораживало то, что я видела.
Помню женщину лет сорока, очень красивую, я видела, как она плясала в Кельштайне на празднике. Она была замужней, с детьми, ее совершенно черные и очень густые волосы зачесаны назад, чуть насмешливая и чувственная улыбка и большие руки, созданные для того, чтобы обдирать кроликов, ласкать детей и прогонять мужчин. А потом я увидела ее умирающей. Отец произносил темные, губительные слова, которые путались у меня одно с другим: лейкемия, пневмония, эмболия… Дверь осталась приоткрытой, и я видела красавицу лежащей, вытянувшей руки вдоль тела. Пахло эфиром. И все заглушал грозный шум ее горячего, прерывистого дыхания. Ее муж, и без того щуплый и весь съежившийся от горя, поглаживал лоб жены. Отец присел на край постели. Сделать уже ничего было нельзя, ожидание тянулось бесконечно, но я хотела видеть и знать. Отец не обращал на меня внимания. Он ждал вместе с остальными. Потом она захрипела — как будто рвалась очень прочная ткань. И внезапно в ночи сделалось тихо. Непристойно тихо. Женщина перестала дышать. Я видела черную пропасть ее открытого рта, заострившийся нос, восковую кожу. Сердце у меня выскакивало из груди, но где-то внутри у меня голосок нашептывал: „Эта женщина была живая, а теперь она мертвая. Я вижу настоящую покойницу. Я видела, как умирают!“ Мне непременно хотелось узнать то, чего не знали другие дети, но смотреть было не на что, и разочарование растворялось в беспредельном ужасе. Я попятилась к двери, но уйти не могла. Отец приложил стетоскоп к белой груди. В этом окаменевшем теле осталось еще немного жизни? Муж целовал ее пальцы, но не смел наклониться к восковому лицу. „Кончено!“ — проговорил отец. Мне было плохо. Красавица будто смотрела куда-то вдаль, прямо перед собой. Отец указательным и средним пальцами опустил ей веки. С тех пор всякий раз, как я слышу, что кому-то „закрыли глаза“, я вижу это точное, умелое движение. Я вижу посиневшую кожу вокруг глаз умершей и нелепый циферблат наручных часов на ее запястье.
Но это было еще не все. Внезапно ее грудь с ужасным шумом приподнялась, наполнилась, ожила, и воздух с неслыханной силой вырвался через рот. Люди, стоявшие вокруг кровати, закричали. У меня подкосились ноги. Но отец уже всех успокоил, аккуратно сложив руки усопшей у нее на груди и тем самым подтвердив реальность смерти.
Позже, в машине, скользящей в непроглядной ночи, когда меня лихорадило и зубы выстукивали дробь, отец после долгого молчания сказал: „Знаешь, Клара, случается, у только что умершего человека из груди выходит воздух. Иногда даже через некоторое время. Но это не остаток жизни. Это механический процесс, из тела выходят последние оставшиеся в нем газы. Это последний, самый последний выдох“.
Тон, каким он произнес эти слова, настолько не соответствовал его научному объяснению, что я разрыдалась. Он дал мне выплакаться, а потом прибавил, глядя на темную дорогу: „Но это не человеческий вздох“.
Я видела и как рождаются дети. И не раз. И помню, в какую растерянность меня приводила неумеренная радость бабушек и прочих женщин в доме, когда они, завладев липким новорожденным, заворачивали его в кипяченые белые пеленки и восторгались этой красной, словно ободранной, зверюшкой. Рождение приводило меня в ужас: кровь, вся эта густая слизь, вопли потной матери, ее багровое неузнаваемое лицо с деревянной ложкой в зубах: когда она тужилась, по-собачьи завывая, ей кричали, чтобы она кусала эту ложку. Это было страшно, даже если ее накрывали большой простыней, простыня тоже была в крови, и отец, неизменно спокойный и решительный, возился там, под этой простыней, а мне издали казалось, что он всю руку погружает в тело женщины. У меня самой живот обжигала боль, когда я на все это смотрела, сжавшись в комок в углу, и однажды я дала себе клятву: никогда, никогда у меня не будет никаких детей! Никогда!
У меня сохранились и очень приятные воспоминания об этих поездках с отцом, о труднодоступных местах, где требовался врач. Самое приятное воспоминание — это снег. Деревья гнулись под белой пеленой, насыпавшейся за одну ночь. Небо низко нависало, белели горы, все звуки делались приглушенными, и машина бесшумно двигалась по узкой и скользкой нерасчищенной дороге. От шин на этом белом войлоке оставался след. Колеса все чаще буксовали, и дальше приходилось идти пешком. Помню тишину и легкие хлопья, которые ветерок сдувал с елей. Отец вытаскивал деревянные снегоступы с кожаными креплениями и длинные-предлинные палки, слишком длинные для моего роста. И мы шли. Мне казалось, что мы отправились в экспедицию, отвечая на чей-то призыв. Где-то кто-то в нас нуждается. Может быть, чья-то жизнь зависит от того, дойдем ли мы к нему по этому снегу, по этой дороге, над которой ветви держат прозрачный голубоватый свод.
Тишину нарушали только шум нашего дыхания, вырывавшегося из губ облачками пара, скрип глубокого снега и треск наста под нашими палками. Что мы застанем, когда дойдем? Мне была жарко. Я была горда. Я была почти благодарна людям, дающим нам такую прекрасную возможность им помочь. Не так уж долго мы шли по этому кружевному тоннелю с просветами неба, но тот чудесный поход еще и теперь длится в моих снах. Путешествие так и не закончилось. Со временем все наши поездки слились в одно тайное приключение. Отец, дочь, смерть и снег. Сказка. Старая выцветшая гравюра. Ночная песнь.
Вернувшись домой, — немного усталые, но сблизившиеся, — мы заставали маму, все еще сидящую за роялем или совершенно измученную, лежащую ничком поперек постели. Я обнимала, согревала ее, она отвечала легкой улыбкой, от которой у меня кровь стыла, и едва приметным движением руки и плеча отталкивала меня так, словно моя энергия, которую она называла моей непоседливостью, еще больше ее утомляла. Отец же, если ему больше никуда не надо было идти и к нему не приходили больные, возвращался к своим розам.
И все же я должна рассказать об одной из последних наших поездок. В доме, стоявшем довольно далеко от Кельштайна, умирала молодая девушка. Настоящий ангел. Бледное правильное лицо, удивительно тонкие светлые волосы, рассыпавшиеся по безупречным плечам, нежная кожа. При взгляде на нее, лежащую в залитой сиянием комнате, казалось, что смерть уводит ее ласково, без мук, без сопротивления. Девушка встречала смерть, как надежду, с безмятежной улыбкой. Отец не мешал этой тихой агонии, он почти неподвижно сидел рядом, время от времени знаком показывая, что все идет, как должно быть. Но он явно чего-то ждал.
Стояло лето, день был знойный, ставни закрыли, и по полу протянулся огромный солнечный крест. Внезапно — ничто не предвещало этого припадка — девушку стало рвать чем-то ужасным. Ее рот выбрасывал густой черный поток. Смрад не человеческий — и не звериный. Смрад, вытолкнутый из мерзких глубин. И эта тягучая жижа лилась по ее животу и ногам, по простыне, по кружевной ночной сорочке. Она стекала с постели, расползалась по полу темной лужей, затягивавшей ослепительный крест.
Вскоре смерть унесла эту девушку. На обратном пути отец остановил машину в лесу, чтобы дать мне успокаивающую микстуру. Мне не надо было успокоительного, но я выпила, чтобы спокойнее было ему, а главное — я обожала ее вкус, вкус спиртовой настойки на цветочных лепестках и меду. Когда он поднес мне ложку, я широко раскрыла рот. Я слышала, как он бормотал что-то насчет „рвотных масс“, упоминал о чем-то „бледном“ и „ужасном“. Он говорил об этой девушке, но, как ни странно, мне казалось, что он говорил и о Германии.
И, наконец, настал день, когда отец без всяких объяснений перестал брать меня с собой. Он ни за что больше не хотел, чтобы я ездила с ним. Я выросла».
Конечно, Клара никогда не рассказывала мне таким образом о своем детстве. Некоторые подробности тех лет я узнал лишь намного позже. Обрывки ее немецких воспоминаний? Чистейшее порождение моего воображения? Воздействие моего желания? Я уже и сам не знаю…
А потом я принялся думать о ее матери, Магде. Я видел ее лишь мельком. Со спины. За роялем. Но матери — это секрет дочерей. И тогда в моей голове развернулся новый рассказ. Скорее — созданное мной изображение, чем точное воспроизведение, потому что и Клара, когда мне случалось ее расспрашивать об этом, мало что могла рассказать о молодости матери. Она почти ничего не знала — ей самой приходилось додумывать и представлять. Иногда ее осаждали зыбкие и путающие видения.
Магда — до того, как она произвела на свет Клару? Я так и вижу ее, как раз перед началом лета 1945 года.
Она бежала из Мюнхена и приехала в Кельштайн, где у нее осталась хоть какая-то семья, Фишеры, дальние родственники. Бомбардировки пощадили городок, и там еще можно было найти какую-нибудь еду. Магда покинула большой разрушенный город, груды развалин, ямы. По пути она не обращала ни малейшего внимания ни на поля, вытоптанные войсками или беженцами, ни на обуглившиеся заводы. В двадцать три года Магда вынырнула из кошмара. У нее было красивое ясное лицо с высокими скулами и завитые щипцами золотые волосы, выбивающиеся из-под забавной черной бархатной шляпки. Жителям Кельштайна она сразу показалась странной, а главное — они сочли, что она со своими напудренными щеками и неумеренно красными губами слишком сильно красится. Она и всегда была тоненькая, а от лишений похудела еще больше, и оттого ее грудь выглядела более округлой под тоже чересчур нарядным, хотя и поношенным, лоснящимся на бедрах платьем.
Малознакомые люди из Мюнхена, тоже бежавшие от жизни в подвалах, согласились за небольшие деньги довезти ее до Кельштайна. Навстречу шли толпы других беженцев, которых гнали назад, потому что им некуда было пойти, и они скитались по всей Баварии.
До того как явиться к Фишерам, Магда решила первую ночь провести в лучшем номере гостиницы «Олень», играя роль таинственной путешественницы или, скорее, гастролирующей певицы. Напустив на себя важный вид, она возмутилась тем, что в ее комнате не оказалось букета цветов, и отправилась собирать ромашки на откосе у гостиницы. И, когда она шла через скромный вестибюль, прижимая к себе охапку белых цветов, и напевала, мечтательно глядя в никуда голубыми глазами, хозяйка удрученно покачала головой.
Магда вот так вот напевала с тех пор, как уехала из Мюнхена, вернее, у нее в горле, за сомкнутыми губами, сама собой жила мелодия, робкая музыкальная вибрация, запертые в ее душе давние напевы, заплесневелые воспоминания о сонатах, которые она играла на рояле до бедствия. Бедняжка Магда, нарядная, одинокая и прямая, как те статуи королев или Пресвятой Девы, которые находят целехонькими среди развалин, или пощаженные бомбами каменные ангелы, куда более пугающие, чем повисшие над выпотрошенными зданиями ванны, сияющие белой эмалью.
И она, эта юная Магда, будущая удивленная мать непоседливой темноволосой Клары, тоже за одну ночь превратилась в развалину. Вечером в Мюнхене, когда она, прижимая к себе локтем набитый нотами кожаный портфель, возвращалась после урока, который давала на другом конце города, в свой еще не тронутый бомбежками квартал, охваченная паникой толпа затащила ее в какой-то случайный подпол. Долгие часы в зловонном подземелье при слабеньком свете фонариков. Пропахшая мерзким запахом войны одежда горожан, по-скотски топчущихся, сбившись в кучу. Крики, совсем близкий грохот, раскаты грома и призрачные лица, в полумраке поднятые к потолку, как будто можно сквозь толщу камня увидеть, как падает на тебя смерть. Стоя в закоулке этого подвала, Магда думала, что уже, должно быть, настала ночь. Но какая может быть ночь, когда небо пылает? Она уснула с открытым ртом. Проснувшись, услышала последние взрывы, потом навалилась тяжелая тишина. Прикрываясь портфелем, словно щитом, она выбралась на дымный свет этого ненастоящего завтрашнего дня и попыталась вернуться в свой квартал, где должна была ждать ее семья. Снова крики, продрогшие сирены, топот и шарканье подошв: одни, как Магда, возвращались по домам, другие разбегались, окровавленные и засыпанные штукатуркой.
Часть города, и немалая, словно ушла под землю, на месте красивых зданий, так хорошо ей знакомых, зияли прогалины с дымящимися развалинами, дома ее детства растворились в неясной серой дымке, в нелепой пустоте. Нигде не осталось стоящих стен, только серые холмы, на которых копошились крохотные тени. Магда продолжала двигаться сквозь толпу отупевших людей, которые приподнимали кирпичи, плитки, куски, обломки каких-то предметов, не решаясь уже даже выкрикивать имена тех, кто — они это знали — погребен под огромными глыбами камня.
Магда была уверена в том, что стоит в точности на том месте, где был их дом, большая квартира, где жила ее семья, где должны были ждать ее мама с папой, любимая сестра и бабушка с дедушкой… Все это было так странно… И она, упав на колени, взвыла: «Мой рояль! Мой рояль!»
Она думала о своем великолепном «Бехштейне», утопавшем ножками в толстом ковре на полу гостиной, о том, какой у него был диапазон, как чутко он отзывался на ее прикосновение, какой мощный был у него звук, как верно он отвечал на ласку или удар пальцев, о том, как звенели чистые ноты утром в солнечном луче, когда крышка поднята, душа нараспашку, струны сверкают… Магда представляла себе свой растерзанный «Бехштейн» погребенным под тоннами камня. Вся раздавленная, убитая музыка погребена в его черном лаковом ящике. «Мой рояль! — стонала она. — Мой рояль!» Мысль о том, что ее близкие могли остаться под завалами, еще не дошла до ее сознания.
Только потом, измученная, потерянная, она стала шептать, глядя, как уносят вытащенные из-под обломков тела: «Мама… Папа… Анна… Бабуся…»
Среди всего этого хаоса она даже не пыталась приподнять какой-нибудь камень, боясь ободрать колени и сломать красные ногти. Она медленно брела между развалин.
Она не сопротивлялась, когда санитары или полицейские увезли ее вместе с другими женщинами в большой барочный монастырь на западной окраине города. Люди кружили по часовне, крытой галерее и трапезной. Никто никого не слушал. Монахини выбивались из сил. Среди позолоты, поддельного мрамора, ярко-розовых и фисташковых фресок бродили люди, которых бомбы лишили разума. Магда прикасалась к руке незнакомца: «Знаете, все мои родные умерли, все погибли, и мой рояль лежит там, раздавленный, засыпанный, мой рояль…»
Вскоре она начала напевать. Бессильная мелодия, которую она разучивала с учениками. Иногда она внезапно кивала, сонно отмечая смену темпа.
В конце концов ее отыскал друг семьи, в прошлом — старший офицер вермахта. Этот человек со снежно-белыми усами, казалось, был создан для того, чтобы проходить через катастрофы. Он и убедил ее ехать в Кельштайн. Он и пристроил ее людям, которые как раз туда собирались. Он и дал им денег. Вот как вышло, что Магда появилась в гостинице «Олень», глядя пустыми голубыми глазами, непрестанно напевая и требуя цветов.
На следующий день ее принимали в домике Фишеров. Все были здесь: дядя Оскар, тетя Маргарете, дети, соседи… Когда все соболезнования были высказаны и все сочувственные слова произнесены, наступила бесконечная неловкость, смутно враждебная растерянность. Что им делать с этой племянницей и кузиной, которую они давным-давно потеряли из виду? Тетя Маргарете все терла красные руки передником, дядя Оскар, сидя у печи, пыхтел длинной фарфоровой трубкой.
Конечно, им не понравилась городская элегантность Магды, ее артистический облик, но дело было не только в этом: они видели симптомы поражения, пропитавшие ее тело, симптомы немецкой болезни, добравшейся до их городка, который война до тех пор щадила. Она согласились на время ее приютить, родня все-таки. Но потом… Все обязательно должно стать «как было». На несколько дней, сказал дядя Оскар, всего на несколько дней.
Магда чувствовала устремленные на нее взгляды. Все кружилось. Ей было плохо. Ее отвели на самый верх, в крохотную мансарду под крышей. Вдоль лестницы были развешаны по стенам убогие охотничьи трофеи, спортивные грамоты Гитлерюгенда, вышивки со свастиками, старый аккордеон. Магда дрожала, как осиновый листок, она все сильнее тряслась и стучала зубами.
— Да она же больна, эта девочка! — воскликнула Маргарете. — Если она ко всему еще тут у нас сляжет…
Дядя Оскар стоял у подножия лестницы, запрокинув голову и не выпуская трубки из зубов.
— Это что же, еще и доктору платить придется? — проворчал он.
Но Магда на глазах бледнела и слабела. Глаза запали. Ее сжигал жар.
И тогда им пришло в голову позвать сына старого Лафонтена. Странный парень — они каждый день видели, как он слоняется в одиночестве и задумчивости, покуривая трубку. Но они знали, что до того он был военным врачом… А другой врач, единственный, какой остался в городке во время войны, был слишком стар для того, чтобы ходить к больным, и брал слишком дорого. «Ну так надо его позвать! Пусть хоть что-нибудь полезное сделает вместо того, чтобы шататься вокруг города!»
Прошло несколько месяцев с тех пор, как они с сыном старого Морица вместе вернулись домой. Выглядели оба хуже некуда. Все думали, что они погибли в России, хоть и знали, что в Сталинграде они не воевали. Или попали в плен. Или пропали без вести. Утонули в снегах и крови. И вдруг они появились. Непонятным образом уцелевшие, едва оправившиеся от тяжелых ран, но живые. Чудесным образом выжившие, но измученные, постаревшие. Они не рассказывали о том, что происходило на Восточном фронте, и никто их об этом не расспрашивал.
Лафонтен знал о смерти отца, но к тому времени, как до него дошла весть, того уже похоронили.
Вальтер Мориц, вернувшись на отцовскую лесопилку, вел себя так, будто его загипнотизировали. Если не спал, то молчал. Это приписали лекарствам, которыми его поили в военном госпитале в Берлине. Потом он с неожиданной яростью накинулся на работу, снова покорившись власти старого Морица, который и слышать не хотел ни о болезни, ни о войне, ни о ранении, ни о разгроме. Старик только и знал, что рубка леса, сушка леса и торговля лесом, и что ему за дело до того, что в голове у его сына Вальтера грохочут выстрелы, скрежещут гусеницы танков, не смолкают крики и теснятся неотвязные видения? К счастью, механические пилы тоже ревели, и это никому не давало думать.
А Лафонтен вообще ничего не делал, он целыми днями бродил в одиночестве, глядя в пустоту. Встретившие его кельштайнцы здоровались. Некоторые называли Артуром, потому что помнили его ребенком. Другие почтительно говорили: «Здравствуйте, доктор». Но его одиночества не нарушали. Сам он был со всеми любезен, но молчалив и неприступен.
В тот день его разыскали на берегу реки. К тому времени, как Лафонтен появился у Фишеров, уже стемнело. Он поднялся по ступенькам мимо вышивок и косульих голов и вошел в комнату, где была Магда. Женщины сняли с нее нарядное платье и туфли на высоких каблуках. Ее шляпка лежала рядом с кувшином и эмалированным тазом. Шея и затылок торчали над воротом чудовищного халата, одолженного тетушкой. Оробевшая Магда отказалась лечь в постель. Она стояла, повернувшись к узкому окну, спиной к вошедшему, маленькая, худенькая, ледяная, пылающая, обхватив себя обеими руками.
Лафонтен тоже замер неподвижно в дверном проеме. Девушка медленно повернулась, розовый свет скользнул по ее щеке, несколько мгновений помедлил на растрепанных волосах, и он был потрясен бледностью ее губ, синевой под глазами, красотой ее испуганного и покорного лица.
Ему сообщили, что ее зовут Магда. Глядя на нее, он внезапно понял, что все его скитания вокруг Кельштайна были всего лишь ожиданием вот этой самой минуты. Магда! Еще не приблизившись к ней, не коснувшись ее, он знал, что она станет его женой.
В этой тесной комнате, при угасающем свете, в тишине все стало на удивление простым. Он попросил ее снять халат, взял за руку и, нахмурившись, стал считать пульс. «Вдохните… Выдохните…» — говорил он, и прекрасная грудь поднималась, опускалась, поднималась. Он осторожно пробегал пальцами по шее Магды, приподнимал ей веки, долго прижимал ухо к ее спине и крепко выстукивал, попросив широко открыть рот и покашлять, а когда она несмело высунула язык, он ощутил ее дыхание, дрожь и слабость ее тела.
Где-то в глубине его души голос, доносившийся с другой стороны развалин, кричал: «Да, это она, да, теперь, навсегда!..»
Магда, дрожа в ознобе, тоже прислушивалась к собственному безмолвному крику: «Да, заберите меня, да, подальше отсюда, навсегда…»
Пока Фишеры ждали внизу, здесь, под крышей, у серого прямоугольника окна мансарды, Магда с Лафонтеном сочетались браком. Дыхание навстречу дыханию, кожа рядом с кожей, без единого слова, предельно целомудренно.
— Ничего страшного! Это не заболевание легких! — сказал он, спустившись. — Всего лишь бесконечная усталость. Ей надо пить и есть. Суп, хлеб, все, что найдется. И покой, полный покой. Я зайду завтра.
Дядя Оскар покачал головой.
— Хорошо, что это не болезнь, но все-таки лишний рот кормить придется!
На всех подействовала серьезность Лафонтена. Он впивался ожившими глазами в тело каждого, словно хотел найти у него болезнь, о которой тот и не подозревал. Он смутно ощущал их опасения, но думал только о Магде. Он нашел у нее не только усталость, но изнуряющее отчаяние, бескрайнее и нигде не сосредоточенное отчаяние — заледеневшая равнина, пустые развалины, безграничная скорбь.
Магде он тоже сказал, что придет завтра.
Несколько недель спустя, когда все только и говорили, что о проигранной войне, о бездомных, о городах, разрушенных бомбежками, о нищете, о голоде, о прибывающих французских солдатах, об американских солдатах, которые устраивались здесь жить, оккупировали страну, устанавливали свои порядки, доктор Лафонтен скромно и незаметно обвенчался с Магдой. Через год родилась девочка. Клара. Ее отец, к тому времени работавший в Кельштайне врачом, казалось, был счастлив, он преобразился, он дни и ночи посвящал больным, ослабленным эпидемиями детям, раненым, вернувшимся с войны. Люди ничего не знали о недавнем прошлом Лафонтена, но испытывали к нему суеверное чувство, безотчетно ему доверяли. В другое время его сочли бы святым, но теперь уже никто не мог верить в святость. Магда, погруженная в туман, пену печали, под которой скрывалось неисцелимое отчаяние, не справлялась с полной сил девочкой, у которой были материнские светлые глаза и черные, как у отца, волосы.
Жизнь делала вид, будто идет себе дальше, обыденная, повседневная, «как прежде»…
Из огромной глыбы возможного, из хаоса чужого, почти утраченного прошлого я извлек эти хрупкие фигуры Магды и Клары, вывел на свет эти линии жизни, проведенные с пугающей уверенностью. Вот так.
ЧАСТЬ II
КОРОЛЕВА БАТИЛЬДА (Париж, весна 1964 года)
После долгих бесцельных блужданий по улицам Парижа вхожу в ворота Люксембургского сада, ныряю под свод старых каштанов и вскоре оказываюсь на аллее Королев, которая тянется вдоль большого водоема. Дети, столпившись у бассейна, отталкивают от берега белые парусники, а концентрические волны, порожденные струей фонтана, неутомимо гонят кораблики обратно. Воспоминание о книжках с картинками. Застывшее время. Свет и радостные возгласы. У детства есть чудесные солнечные карусели. Молодость строит себе куда более мрачные.
Как бы далеко я ни забрел, всегда в конце концов прихожу к каменной балюстраде. Стою, не двигаясь, скрестив руки под грудью, навалившись на перила, и подбородком упираюсь в грудь. Стою подолгу. Именно на этом месте и именно в таком положении нашли моего отца, потерявшего всю кровь, бледного и словно окаменевшего.
Поднимаю голову: вокруг меня невинная толпа праздношатающихся, мечтателей, влюбленных и одиночек. Люксембургский сад — большая поляна посреди Парижа. Все, кому удалось сбежать от шума, замедляют шаг по мере того, как удаляются вглубь от ворот. На время поддаются этой медлительности, так подходящей для возвращения давней печали или расцвета совсем новенького счастья.
Стою, оперевшись на балюстраду. Перила хранят скрытую от всех тайну. У воды терпеливые матери. Чуть подальше — хорошо одетые господа, пристроив у ног кожаные портфели, жмурятся, подставив лицо солнцу, и их степенность понемногу испаряется.
Ранним осенним утром садовник, подметая опавшие листья, нашел тело моего отца. Он привык к городским несчастьям и к предутренней усталости, но его удивила столь долгая неподвижность на довольно ощутимом холоде, и он для начала помахал своей метлой у самых ног этого бесчувственного типа.
— Мсье? Мсье, с вами все в порядке?
Достаточно было коснуться плеча, чтобы труп повалился. Бледное лицо, пустые глаза, крови мало — фатальное внутреннее кровотечение. Должно быть, лезвие убийцы было особенно остро заточено. Смертельно раненный отец, вероятно, сделал еще несколько шагов, может быть, попытался удержаться за этот последний парапет перед тем, как умереть здесь в одиночестве, в полумраке, предшествующем закрытию сада, а потом всю ночь простоять в этой обманчивой позе.
Все еще опираясь на каменные люксембургские перила, я думаю о кинжале, вспоровшем живот. Я сейчас вижу то, что видели в последнее мгновение глаза моего отца: серые грядки, светлые пятна на балюстраде, скучно поблескивающий гравий, последние тающие в сумерках пальто.
Мне было двенадцать лет, и я не то играл, не то мечтал в нашей лионской квартире, когда телефонным звонком из Парижа нас известили о бессмысленном убийстве отца. Мать, чье лицо мгновенно стало неузнаваемым, смотрела на меня. Я смотрел на нее. В страшной тишине из криво положенной трубки доносились пронзительные гудки. Я и теперь не перестал тосковать, но, как ни странно, в последнее время, и особенно после моей поездки в Германию, какая-то новая энергия подталкивает меня к продолжению, я пребываю в зыбком ожидании откровения. Та же энергия струится в моих руках, когда я тру и скребу краски на своих рисунках. И все ту же энергию я сжигаю в бесконечных блужданиях по Парижу после занятий в лицее, а иногда и вместо них.
Опираясь на парапет, я никаких планов мести не вынашиваю. Кому мстить? Но я уверен, что рано или поздно раскрою эту тайну! Когда-нибудь я пойму! Смерть отца перестанет быть огромным камнем, который давит мне на затылок. Я буду знать.
Когда я впервые оказался в трагическом углу, образованном балюстрадой на аллее Королев, на том месте, которое полицейские назвали «местом преступления», я крепко-крепко сжимал ледяную под тонкой черной перчаткой руку матери. Мы спешно приехали из Лиона, я помню бесконечное путешествие, наше полнейшее безмолвие, вкус бутербродов с колбасой, завернутых в коричневую бумагу, несчастное и серьезное лицо матери, словно обращенное внутрь, лицо, на котором не показались еще ни отчаяние, ни страх. Ни единая слезинка. Один только раз приласкала меня, и жалкие остатки неверия растаяли. Она сидела напротив, очень прямо, глядя в пустоту. В поезде было жарко. Мать казалась мне скорбным атлетом, сосредоточившимся перед решающим состязанием.
Встретивший нас на Лионском вокзале инспектор полиции сказал, как-то странно на нас посмотрев:
— Мадам Марло, ваш муж, несомненно, стал жертвой бродяги. Убийство с целью ограбления. Денег не осталось: пропал не только его бумажник, но и часы. К счастью, в кармане пиджака у него лежал конверт с вашим адресом, и нам удалось его опознать. Владелец типографии в Лионе… так ведь, верно? Но зачем он приехал в Париж? И почему в тот вечер оказался в Люксембургском саду? Вот в этом вы можете помочь нам разобраться. Да, стало быть, речь идет о нападении! Знаете, есть воры, способные на все. Он, наверное, пытался защищаться.
Весь недолгий путь до института судебной медицины мать упорно молчала, и инспектор в конце концов тоже умолк, но потом заговорил снова:
— Но, может быть, вам известно, что у него были враги? Или что он встречался с подозрительными людьми? Мне сказали… да, у полиции много сведений… что он много занимался политикой. Да, я знаю о его героическом поведении во время войны — Сопротивление, подполье… но он и после того не успокоился, ну, скажем, был близок к… определенным кругам. Так что…
Дядя Эдуард ждал нас у морга, где маме и ему предстояло опознать тело. Меня внезапно сдали на попечение полицейского в форме, молодого парня, который совершенно не знал, что со мной делать, поминутно прочищал горло, да так ничего мне и не сказал.
Выйдя оттуда, дядя театральным жестом заключил сестру в объятия, потом погладил меня по голове и при этом, не умолкая, твердил:
— Бедные мои! Бедненькие мои!
Я знал, что отец недолюбливал своего краснолицего шурина с его мощной челюстью, безупречными двубортными костюмами, булавками для галстука, броским перстнем с печаткой и неизменными банкнотами наготове.
После того как были выполнены все требующиеся для кремации формальности, дядя повез нас в отель «Три льва», с давних времен ему принадлежавший. Роскошная гостиница занимала все здание позади Ботанического сада. Сам дядя называл ее своей базой, своим логовом и своим замком — у него было много более или менее таинственных занятий.
— Прежде всего я — деловой человек, говорил он. — А к этому надо иметь способности. Способных сразу видно — у них бугор выпирает.
Он хлопал себя по карману, оттопыренному бумажником:
— Вот он, мой бугор!
И начинал хохотать. Мне от этого громкого смеха делалось не по себе, а отец просто слышать его не мог.
В тот трагический день, напоминавший каникулы, я повсюду сопровождал мать и делал скорбное лицо, но еще не понимал, что больше никогда не увижу отца. Я устал от поездки и от тех усилий, которые предпринимал, стараясь наконец испытать горе, и мне не терпелось вернуться в Лион, чтобы все ему рассказать. Я войду в типографию, увижу его стоящим среди грохочущих машин и почувствую знакомый запах краски, машинного масла, свинца и клея. Заметив меня среди рулонов бумаги, он все бросит, не торопясь выслушает, поднимет на лоб очки с толстыми стеклами и, призывая в свидетели мсье Луи, давнего соратника и сообщника, от души посмеется.
Хватит с меня этой комедии, мне надоело быть одному с матерью, когда мы встречаемся с дядей Эдуардом, со служащими похоронного бюро или с полицейскими, я устал беспричинно дрожать. Я хочу, чтобы мы сели в обратный поезд! Хочу, чтобы вышли на вокзале Перраш и пешком вернулись домой. В скорби, в трагической ситуации мне, как и всем детям, казалось, будто я по вине взрослых попал в бедственное, но временное положение. Да, гроза закончится, и все снова станет «как раньше»!
Вот потому дядины причитания — «Бедненькие мои!» — для меня не имели ни малейшего отношения к каким бы то ни было «никогда больше». Сколько ни твердил дядя: «Поль, милый, я прекрасно знаю, что дядя не может заменить отца, но для меня отныне мой племянник все равно что сын!» — я ничего не понимал.
— Матильда, тебе надо быть сильной и трезво смотреть на вещи, — нашептывал он сестре. — Вам нужен мужчина, кто-то, кто будет о вас заботиться. Если ты согласишься переехать в Париж, я буду рядом, рядом с тобой, рядом с мальчиком. Подумай…
Но мама молчала.
Гуляющие кружат и кружат по Люксембургскому саду, а я не могу стряхнуть с себя тревожное и привычное оцепенение. Посреди поляны бьет белая струя воды, она высоко-высоко поднимается в золотистом свете дня и широким движением опадает в чашу, заполненную белыми парусами и окруженную детьми.
И Париж тоже кружится, медленно-медленно кружится вокруг места преступления, этого затерянного уголка Люксембургского сада, куда я то и дело возвращаюсь, иногда подолгу стою, облокотившись на парапет, иногда рисую, устроившись в железном кресле у ног королевы Батильды. Париж — медленно вращающийся круг, неспешный посредник. Париж, где я теперь живу, но где ничто меня не держит, ничто по-настоящему не удерживает.
Мне кажется, именно тайное намерение приблизиться к этому месту и подтолкнуло мою мать сдаться в конце концов на уговоры брата и поселиться в Париже. Она продала квартиру, потом продала и «Новейшую типографию» мсье Луи. Записала меня в знаменитый лицей, которого я был недостоин. Нашла работу в книжном магазине рядом с театром «Одеон». А ее брат бесплатно уступил нам маленькую пустующую квартирку над номерами «Трех львов».
Мой отец обращен в пепел, у него нет места на кладбище! И для того, чтобы вспоминать, для того, чтобы думать, у меня есть только этот уголок в саду, где бродят серые призраки. Я довольствуюсь этим мертвым углом посреди Парижа. Не раз, подходя со стороны бульвара, я, как мне казалось, различал мелькнувшую фигуру удаляющейся матери. Должно быть, и она иногда заставала меня сторожащим пустоту.
Когда я прихожу туда, мне всегда бывает странно увидеть незнакомую девушку, сидящую, свесив ноги, на перилах преступления. Или даму, кропящую землю хлебными крошками для голубей, — а те расхаживают вперевалочку, раскачиваются и отпихивают друг друга от корма. Иногда художник-любитель раскладывает свой этюдник на том самом месте, где мой отец подох как собака. Высунув язык от усердия, он покрывает холст мелкими мазками, стараясь передать все оттенки неба и блики на воде, но я прекрасно вижу, что его кисть старательно обходит призрачную фигуру, которая не желает покидать картину и в конце концов проявляется — проемом, пустотой.
От дядиной заботы мне делалось не по себе. Меня возмущало его властно-покровительственное обхождение с матерью, но нравилась наша тесная квартирка над гостиницей, и ничего, что каждый раз, пересекая вестибюль, чтобы подняться к нам, приходилось здороваться с Леоном, портье. Наши три комнаты беззвучно парили над свинцовым морем крыш. Друг друга мы не стесняли. Мама, хотя ее и огорчали мои слабые успехи в школе и недостаток прилежания, предоставляла мне полную свободу. По утрам она выходила вместе со мной, но по дороге в лицей мы расставались, она спешила выпить чашку кофе перед тем, как открыть свою книжную лавку. Шел день за днем. Гостиница «Три льва» никогда не пустовала. Появлялись путешественники, иностранцы, незаконные парочки. Мы чувствовали себя так, будто и сами в Париже были проездом.
Гостиница обязана своим названием трем бронзовым львиным головам старого парижского фонтана, расположенного справа от ее дверей. Три льва день и ночь щедро льют воду над чугунной решеткой, вделанной прямо в тротуар. Эти черногривые звери с медными трубочками, торчащими у каждого из пасти, словно навеки прикованы к позорному столбу, обречены вечно здесь скучать. Я всегда любил этих львов, лишенных их собственной ярости, их собственной мощи. Ни разу не было, чтобы я, идя в лицей, не похлопал их дружески по мордам, не погладил сочувственно металлическую гриву. Славные львы! Несчастные бронзовые изваяния!
Вообще-то я всегда любил статуи. В этих садах меня волнуют и притягивают величественные французские королевы, неподвижно стоящие на постаментах. Я думаю о том, что эти каменные женщины были здесь, когда умер мой отец. Они все видели! Стоят, конечно, бесстрастные, но они знают, кто убийца. А самая моя любимая — Батильда, она ближе всех к тому углу балюстрады, где он умирал.
Милая Батильда, как мне нравится твое непроницаемое лицо под резной короной. Непрозрачность твоего взгляда. Твоя открытая шея со шнурком, на котором висит крест. Мне нравятся твои белизна и стройность. Твоя правая рука, придерживающая, чуть приподняв, край плаща. Твои уложенные на затылке косы. Меня в дрожь бросает от твоего молчания, милая Батильда. Прочту ли я когда-нибудь, что таит в себе манускрипт, который ты держишь, прижав к левой груди?
Я очень мало знаю о своей каменной подруге. Молодая рабыня, ставшая женой некоего Хлодвига II, затем его вдовой, удалилась впоследствии в один из основанных ею монастырей. Теперь она безмолвна, но задумчива. Жертва судьбы и мастерица чар. Она продолжает жить на поляне, так мне кажется, и когда-нибудь мне все расскажет. Когда-нибудь я узнаю. Камень заговорит. Но пока, если я сижу у ног Батильды, то лишь потому, что мне необходим тихий уголок, где я мог бы перечитать открытку, которую только что, после нескольких месяцев молчания, получил от Клары.
Еще сегодня утром, когда портье Леон протянул мне конверт, — как далека была Германия! И Кельштайн, и Черное озеро, и сама Клара. И вдруг она мне пишет!
«Полю Марло,
гостиница „Три льва“,
улица… Париже, Франция»
Я узнаю ее мелкий, цепкий почерк, и при виде этих неуместных следов от коготков неистовые чувства прошлого лета тотчас вспыхивают с новой силой. Я думал, что давно с ними расстался, сбросил, как старую шкуру после линьки, но они живы, несмотря на то что Клара так небрежно отвечала на мои письма, тоже с каждым разом становившиеся все короче и холоднее.
Еще сегодня утром кельштайнские приключения были всего лишь сказкой, ничего общего не имеющей с моей сегодняшней жизнью. Последняя страница перевернута, книга закрыта и поставлена на полку в темном коридоре, соединяющем детство с юностью. И вот Клара сообщает, что через несколько дней приедет в Париж. Адреса не дает. Называет имя. Жанна. Она заранее радуется поездке, пишет, что свяжется со мной, как только приедет, и мы, наконец, увидимся. Это все.
Поднимаю глаза на Батильду, она тоже читала, заглядывая мне через плечо. Жду, что мраморные губы дрогнут в насмешливой улыбке. Но ничего не происходит.
В ожидании приезда Клары я остаюсь посредственным учеником выпускного класса. Мне физически нестерпимо сидеть взаперти в жарких комнатах, пропитанных запахами пота и мела, и очень трудно разделять увлечения одноклассников, чьи отцы и деды учились в этом же лицее. Так и кажется, что будущее принадлежит им, и дорога перед ними прямая: они пополнят ряды ученой буржуазии.
Единственное, что доставляет мне удовольствие, это уроки Макса Кунца, молодого преподавателя философии. Ему чуть за тридцать, и с ним в мрачную атмосферу лицея врывается свежий бодрящий воздух. Особенно когда он говорит о самых обычных вещах: есть в нем что-то вызывающее и раскованное, зовущее к свободе. Я не присоединяюсь к ученикам, которые беспредельно им восхищаются, — некоторые увлечены им до такой степени, что по субботам после обеда ходят к нему домой, — но я внимательно слушаю его лекции, не все понимаю, но воспринимаю музыку смысла, удивительно глубокую и родную мелодию, до странности подходящую к моим скитаниям парижского крестьянина или к тем рисункам, которыми я покрываю страницы своих тетрадей и поля учебников. Я неспособен серьезно философствовать, но предаюсь бесконечному созерцанию слоев и разрывов.
Что мне сразу понравилось у Кунца — это его манера представлять нам великих философов как людей, которые, врубаясь в невидимую и хаотичную породу, высекали из нее куски, неожиданно освещающие реальность: системы представлений, четкие формулировки, новые теории. Гераклит, Эмпедокл, Протагор, Спиноза, Кант, Ницше… Кунц произносил эти имена насмешливо и вместе с тем почтительно, и в портретах, которые он перед нами набрасывал, заменял их лица каким-нибудь особенным вопросом. Красота вопросов! Породить на свет вопрос и самому стать этим вопросом — единственная стоящая задача для философа, но, разумеется, и для художника тоже, и для каждого, кто ищет. А потом шлифовать этот вопрос, как шлифуют линзы.
— Но обратите внимание! — подчеркивал Кунц. — Это не имеет ничего общего с топтанием на месте в сомнениях! Великий вопрос всегда содержит в себе нечто утвердительное. И если б вы знали, как меня бесит старость молодых Эдипов! Давайте будем предпочитать им Сфинксов! Они ведь лишены возраста, а главное — какое счастье! — у них нет комплексов!
Весь класс считает своей обязанностью хихикнуть, но на самом-то деле благодаря Кунцу в темных коридорах почтенного лицея, в нескольких минутах ходьбы от Люксембургского сада веет ветер парадоксов. Плотный невысокий Кунц неизменно одет в черную водолазку, хотя его коллеги и почти все ученики носят галстуки. Он курит во время уроков маисовые «Boyard», и иногда кажется, что он втягивает через хрупкую желтоватую трубочку неощутимую субстанцию для размышлений, медленно ее вбирает, но может и резко выдохнуть далеко перед собой, в нашу сторону, равнодушный к тем истолкованиям, которые мы дадим мимолетным очертаниям серо-голубого облака.
Сидя в глубине класса, в тумане зыбкого вслушивания, я разглядываю бритый, шишковатый, блестящий череп, горящие черные глаза, тонкие губы, выговаривающие слова, смысл которых от меня ускользает, и крупные руки, которые двигаются в воздухе так, словно лепят мысль. Кунц совсем недавно начал преподавать философию в этом лицее, но уже стал заметной личностью. И, хотя он кажется куда ближе к ученикам, чем к своим коллегам, о нем уже ходят всевозможные легенды.
Дни идут. А от Клары никаких вестей. Предупредит ли она меня о своем приезде? Да и вообще — подаст ли знак, когда будет в Париже?
Чтобы убить время, соглашаюсь в субботу после обеда сходить к Максу Кунцу. Мне сказали, что он называет меня «рисовальщиком» и хорошо ко мне относится. Что-то не верится. Максим — очень образованный и язвительный парень, и это мне в нем нравится — предложил мне прийти вместе с ним в дом в южном пригороде, где собираются люди, одурманенные диалектикой, жаждущие словесных ниспровержений и убежденные в том, что именно за пределами школы Кунц, который, однако, и не пытается играть роль мудреца или гуру, откроет им их истинную суть. Последняя иллюзия отрочества. Последняя вспышка желания иметь наставника. Но Кунц учит и не доверять никаким наставникам. Имеющий уши да услышит!
— Ну, пошли с нами! Ты не будешь разочарован, старина Филип!
Дело в том, что Максим, высокий, болезненно тощий, упорно держащийся в сторонке от остальных, не менее упорно называет меня Филипом из-за моей фамилии. Именно ему, разумеется, я обязан знакомством и со всеми детективными романами, героем которых был один мой «однофамилец»[10], и с елизаветинскими драмами, автором которых был другой[11]. И именно благодаря Максиму я погружался в эти сочинения с ощущением, будто мне открывается скрытая сторона меня самого. «Юность», «Сердце тьмы», «Прощай, моя красотка», «Глубокий сон»[12]… Так что, когда меня окликают издалека: «Эй, Марло!» — мне чудится, будто во мне есть что-то от мужественного сыщика, авантюриста, моряка или крутого парня, которого на кривой козе не объедешь. Мне нравится, когда по моему лицу и по всем поступкам скользят тени этих книжных героев.
Макс Кунц живет в маленьком домике, еле видном среди зарослей плюща, сирени и жимолости. Домик стоит в заброшенном саду на тихой улице рядом с железнодорожными путями пригородной ветки. Подергав за шнурок дребезжащего колокольчика, толкаешь железную калитку, потом поднимаешься по ступенькам — и оказываешься в мире, захваченном книгами. Библиотека Кунца раскинулась на сколоченных из подручных средств полках — плохо обструганные доски и шаткие кирпичи, на сундуках, стульях и умывальниках, в ящиках, коробках и стенных шкафах. Стопки книг лежат вдоль всего длинного коридора, во всех тесных комнатках первого этажа — даже в кухне, на ступеньках узкой лестницы, которая ведет наверх. Они сплошь покрывают разношерстную мебель, поглощают предметы.
Мои одноклассники, в метро всю дорогу важно, наслаждаясь звуками собственных голосов, обсуждавшие главные на сегодняшний день проблемы, умолкли, войдя в дом, где нас встретила женщина неопределенного возраста, с серебряными прядями в черных волосах, слишком молодая для того, чтобы быть матерью Кунца, и слишком, на наш взгляд, старая для того, чтобы быть его любовницей или женой. Мы пошли следом за этой таинственной экономкой, которую Максим, с его страстью всем давать прозвища, называл Диотимой[13]. Кунца он называл «Господин К.»…
Кунц еще не появился. Каждая из комнат представляла собой нечто среднее между студией, чуланом и каютой. На волнах этого океана книг качаются человеческий череп, зеркало, пистолет, кинжал, эротическая гравюра, черная статуэтка с приклеенными перьями, патронная сумка, колода карт таро, бутылка виски — следы какой-то другой, неведомой жизни Кунца, человека еще молодого, но, как нам казалось в наши семнадцать, обладавшего тайным опытом.
И вот подающие надежды философы, закурив кто трубку, кто сигарету, крутятся и наклоняются в попытках отыскать книгу, о которой ничего не знают, но которая волшебным образом ответит на их вопросы.
Наконец появляется Кунц. Никогда еще я не видел его так близко. Гусиные лапки у глаз, ранние тонкие морщинки в углах губ, но движения — быстрые, и выражение лица — мальчишеское, особенно когда он улыбается во весь рот. Он включается в восторженные и удивленные разговоры младших, не указывая им на их наивность. Он растолковывает, объясняет. Дым его маисовой «Boyard» смешивается с нашим сигаретным и трубочным. Но ему удается внести истинно философскую веселость в серьезнейшую тягу его учеников к знаниям. Наконец он плюхается в старое, потертое кожаное кресло, барабанит по подлокотникам с пожелтевшими ногтями пальцами и зажатой папиросой, запрокидывает голову и говорит очень просто, как будто рассуждает сам с собой. И ученики, только того и ждавшие, молча к нему подтягиваются. Обрывки мыслей. Короткие наглядные рассказы — окружающая обстановка, автор или образ. Потом долгие сентенции, настолько убедительные, что и не замечаешь, насколько они отвлеченные. Даже самые обычные вещи в его устах внезапно делаются выразительными и словно до бесконечности разветвляются.
— Вот смотрите — весна! — говорит Кунц. — Все растет. Трава, листья… Но весна — это желание, желание в чистом виде! Стало быть, не о чем тут и говорить, нечего истолковывать. Многое, что в нас есть, подобно весне, лучше это испытать, чем истолковать. Знаете, желание — это очень простая вещь, все равно что ложиться спать, ходить по улице или, может быть, влюбляться…
«Ходить по улицам…» — сказал Кунц. В тот же вечер, когда мы с Максимом возвращались по домам, эти слова всплыли в моей памяти, и я почувствовал удовлетворение. Да, именно так. Рост. Желание. Простое движение — как ходьба.
— Вот видишь, старина Филип! Я же говорил, что тебе понравится. Странный тип этот Господин К. Хотел бы я знать, почему он позволяет нам рыться в своих бумагах. Как-то он сказал нам, что, если хочешь хорошенько спрятать — надо показывать, много показывать. Кунц показывает. И мы о нем не знаем ничего.
Максим расхохотался во все горло, оглушительное ржание перешло в кудахтание цесарки и заглохло. Уже поздно. Мне пора возвращаться в «Три льва». Не знаю, как проведет ночь Максим. Где же его семья? И где, собственно, он живет? В нем есть что-то от сироты и от бездомного бродяги. У него тоже есть свои секреты. Ребята из нашего класса относятся к нему с уважением, потому что не раз видели его в баре, где он пил и веселился с женщинами старше себя и довольно вульгарными.
Когда я вхожу в гостиницу, Леон уже спит за стойкой среди ключей и реестров. Я безжалостно его расталкиваю, он, морщась, потягивается, машинально приглаживает торчащие вихры и удивляется, что в такой поздний час я спрашиваю, нет ли мне писем. Наконец утром, когда я стараюсь пройти мимо него с равнодушным видом, он окликает меня:
— Мсье Поль, это оставили для вас!
Тонкий конверт, на котором нацарапаны мое имя и фамилия. Внутри листок — из блокнота на спирали, если судить по зубчатому краю клетчатой странички, на которой Клара написала чужое имя и номер телефона.
Выйдя на улицу и суеверно похлопав по мордам бронзовых львов, вхожу в телефонную будку и бросаю в щель монетки. После нескончаемых гудков они со звоном падают на дно аппарата. Далекий голос. Я бормочу «Клара Лафонтен» и какие-то извинения. Пауза. А потом — голос, такой знакомый, глуховатый, еще более приглушенный по телефону, чем в Кельштайне. Дежурные слова о поездке, о том, как далеко от центра она поселилась. Но, когда дело доходит до того, чтобы назначить свидание, я, застигнутый врасплох, неожиданно для самого себя говорю:
— В Люксембургском саду…
Сговариваемся о времени и, после недолгих колебаний, я прибавляю:
— У большого бассейна!
Я решаю в очередной раз прогулять уроки и появиться там намного раньше, чтобы молча свидеться с моей королевой Батильдой. Но она непривычно холодна и, похоже, равнодушна ко мне, прячет голову в листья, смотрит пустым взглядом. Я не настаиваю. Я уже не сомневаюсь в том, что Клара опоздает, да и вообще неспособен поверить в то, что она здесь появится. И внезапно вижу ее у ворот, выходящих на улицу д'Ассас! Сначала я узнаю ее походку, потом — лицо, черные волосы, все так же коротко стриженные. На ней темно-красная юбка и черная водолазка. Смотрю, как она идет вдали, между цветниками. С ней идет клошар, еще молодой, бородатый, в потрепанной куртке. Он везет коляску, нагруженную каким-то неразличимым барахлом, тихонько покачивая ее на ходу, словно баюкает младенца. Они оживленно разговаривают. Я не решаюсь окликнуть Клару, подойти к ней. Замираю на месте.
Она садится на скамейку. Он, немного поколебавшись, пристраивается рядом, сворачивает самокрутку и протягивает ее Кларе. Она опускает лицо между дрожащими руками клошара, оберегающими огонек, закуривает и продолжает болтать. Я прекрасно знаю, что за листвой и на таком расстоянии меня не разглядеть, но внезапно покрываюсь испариной. Замечаю, что у Клары, как в Кельштайне, на плече висит сумочка, она вытаскивает оттуда фотоаппарат, показывает клошару. Он с любопытством наклоняется над ним, и тогда Клара предлагает ему взять в руки эту блестящую игрушку и посмотреть в видоискатель. Криво улыбнувшись, клошар нацеливает объектив точно в направлении куста, с которым я стараюсь слиться, как на картинке-загадке. Его палец зависает в нерешительности, потом нажимает на кнопку. И он делает снимок, на котором должен быть я — зверь, съежившийся в страхе, но невидимый охотнику. Окаменевший и пойманный.
Убегаю, твердо решив не являться на это первое свидание, но, когда оказываюсь у большого бассейна, самым жалким образом позволяю себе хоть разок его обойти. Штормит, огромные волны перехлестывают через палубу скорлупки, на которой безрассудно отплыл Филип Марло. Паруса намокли. Мачта вот-вот переломится. Корпус трещит. Делаю еще один круг, потом еще один, все замедляя шаг. Дует ветер. Кораблекрушение неизбежно. И внезапно я вижу прямо перед собой Клару, она чарующе на меня смотрит, чуть наклонив голову, и протягивает мне обе руки. Вблизи ее лицо кажется мне более взрослым, более женским. Стою как вкопанный, опустив плечи, на песке, забрызганном волнами детского шторма. Клара с обезоруживающей непосредственностью кидается мне на шею.
— Поль, я здесь. Вот видишь, я приехала в Париж.
И она сбивчиво рассказывает о том, как добиралась, о девушке, у которой поселилась, об уроках, которые намерена давать. Французский у нее теперь безупречный, и я начинаю жалеть о почти совсем пропавшем акценте.
Вскоре мы уже идем бок о бок среди исполинских декоративных подставок, ожидающих какого-то чудовищного яйца, снесенного уткой судьбы, но я стараюсь не приближаться к величественным каменным королевам, а вот они-то глаз с нас не сводят.
— А что у тебя, Поль?
Ну, конечно, Клара не изменилась, я узнаю эту ее манеру явственно присутствовать, быть обращенной к собеседнику, открытой и в то же время далекой, недоступной. Что же теперь будет?
Я чувствую ее тепло, силу путешественницы, чужестранки, а ее пальцы уже легли на мою руку.
— Куда пойдем?
Темнеет. Мы уходим из Люксембургского сада, и я сквозь все более плотную толпу и яркие огни увлекаю Клару к набережным Сены.
Вскоре ее присутствие в Париже становится тяжким испытанием для моих нервов. Мне надо готовиться к экзаменам, до них остается всего ничего, но голова у меня занята совершенно не тем. Клара назначает мне свидания и в последнюю минуту их отменяет, оставляя у портье «Трех львов» записки, в которых предлагает встретиться в другой раз, в таком месте и в такое время, что мне придется пропускать занятия, в том числе и лекции Кунца, вымогать у матери ложные оправдательные документы или выслушивать в лицее нотации и подвергаться наказаниям.
Клара прочитала кучу книг о Париже и путеводителей. Ее знание столицы не имеет ничего общего с моей беспорядочной разведкой. Она выбирает нелепые и в то же время банальные места: у такого-то памятника на кладбище Пер-Лашез, в таком-то зале Лувра, на лестнице, ведущей к Сакре-Кер или у такого-то кинотеатра на Больших бульварах. Но, когда я наконец ее вижу, мы ничего особенного друг другу не говорим. Я устаю, главным образом, от ее непонятного поведения. То она весела и почти нежна со мной, то внезапно хмурится. Когда мы идем рядом и я обнимаю ее за плечи или беру за руку, она ловко высвобождается, грациозно крутанувшись волчком, ускоряет шаг, делает три прыжка или замирает, даже не дослушав начатой мной фразы, и вскидывает фотоаппарат, чтобы снять совершенно заурядную сценку или подробность: женщину в окне, мужчину на скамейке, обнявшуюся парочку, порванную афишу, неровные камни мостовой. И вот она уже смотрит на часы и с огорченным видом ласково похлопывает меня по руке:
— Ой, Поль, совсем забыла, мне надо идти… До завтра, до завтра — или до другого раза… Потом скажу.
Недовольный и раздосадованный возвращаюсь в свою комнату и принимаюсь исступленно рисовать все более и более сложные формы, все более и более темные, перегруженные штриховкой мотивы. Мама много работает и много читает. Я не задаюсь вопросами ни о ее одиночестве, ни о причинах ее ко мне снисходительности. Зато без всяких видимых причин задумываюсь о дяде, которого только что встретил в вестибюле гостиницы. Как всегда, когда мне не удается от него увернуться, он хватает меня за руку и сует бумажку в карман куртки.
— Ну, бери, Поль, бери-бери. Не стесняйся. Ты молод, я знаю, что это значит. И еще я как-то заметил тут черненькую девушку с письмом для тебя. Что, зоркий у меня глаз? Знал бы ты, что я в твои годы…
Он посмеивается и кашляет, раскуривая внушительную гаванскую сигару, потом, глянув на часы на тяжелом золотом браслете, прибавляет:
— Ну, все, я пошел. Дела зовут… Может быть, когда-нибудь и ты узнаешь, что это такое. И… удачи тебе с твоей черненькой!
Разумеется, меня уже тошнит от него. Комкаю в кармане банкноту и вспоминаю папу. Он терпеть не мог показной щедрости шурина, ему это казалось глупым доказательством собственного могущества. Для своих он ничего не жалеет, но в делах беспощаден. Дядя всегда с наслаждением сам себя сравнивал с разными хищными зверями или птицами. С самого раннего детства только и слышу, как он кричит, показывая великолепные зубы и выпуская когти: «Жизнь — это закон джунглей»… «Джонглей» — так он произносит это слово. Как «жонглер», Ну, джонгли так джонгли…
И все же одна вещь меня занимает: с тех пор как мы обосновались в комнатках под крышей, дядя больше никогда не приглашает нас в роскошную квартиру, где живут они с тетей, сразу за гостиницей. У меня об этой квартире сохранились странные воспоминания — сохранились с тех времен, когда мы с мамой раз в год, между Рождеством и Новым годом, приезжали в Париж; приезжали одни, потому что папа всегда говорил, что завален работой в типографии и должен остаться в Лионе.
В то время меня подавляли размеры комнат и высота потолков. Шелковые драпировки, позолота и лепнина. Похоже одновременно на сейф и на гигантский ларец. Особенно меня завораживала бронированная входная дверь с тяжелыми засовами. И повсюду — на всех стенах, в витринах и на подставках, наилучшим образом освещенные, красовались картины и прочие произведения искусства, статуэтки, фарфоровая, хрустальная и оловянная посуда, сверкающие драгоценности.
Дядя, неизменно ласковый и жизнерадостный, казалось, не придавал этим сокровищам никакого значения, он сразу увлекал нас в глубину квартиры, где обреталась моя тетушка, маленькая, тщедушная, бесцветная женщина, чуть глуховатая и ничем не занятая. Она насмешливо и покорно внимала каждому слову мужа. Сейчас я спрашиваю себя, не было ли это спокойное поклонение изнанкой безотчетного ужаса?
— Да вы же прекрасно знаете, что я не люблю выходить из дома, — говорила тетушка своим детским голоском. — Идите, погуляйте с Эдуардом… А я тут посижу со своими кроссвордами.
А когда я, немного заскучав, как бывает с детьми в гостях, прилипал носом к витрине с ониксовым черепом или замирал перед картиной с изображением какого-нибудь окровавленного мученика, распятия или святого Себастьяна, она замечала:
— А-а, коллекцию Эдуарда разглядываешь. Он сейчас вернется и все тебе объяснит. Я-то ничего в этом не понимаю. Он любит красивые вещи. Продает. Покупает. Вечно занят. Вечно его нет дома. Вечно где-то разъезжает.
Потом поворачивалась к золовке и прибавляла с усталым вздохом:
— Ну, ты же его знаешь!
В конце концов врывался дядя, его светло-серая шляпа была усеяна темно-серыми пятнышками дождевых капель, от огромного шарфа пахло духами и табаком, в руках — груда пакетов. Кем бы он ни был, принцем или гангстером, лучше было принять его щедрые дары.
— О, вы уже здесь, детки…
Поскольку он был старше сестры, то называл ее «малышкой», а нас вместе с матерью — «детками». Но никогда ни словом не обмолвился о моем отце, ни разу не спросил о нашей жизни в Лионе или о «Новейшей типографии».
— Ну, пошли! Веду всех в ресторан.
Меня околдовывали некоторые жестокие картины, струящаяся из-под шипов кровь, кучки костей у подножия креста, растерзанные, обожженные, ободранные тела, но я помню одно на редкость умиротворяющее полотно, висевшее в прихожей, от него исходило смешанное ощущение легкости и тайны. Светлый, сияющий импрессионистский холст, резко отличающийся от религиозных картин из других комнат. Там были изображены три человека: две женщины в белых платьях и мужчина в кремовом костюме за штурвалом несущегося на полном ходу парусника. Женщины прикладывали руку козырьком к глазам и едва отделялись от фона, целиком заполненного треугольным парусом — тоже белым, но художник передал его сияние множеством мелких желтых, розовых, зеленых и коричневых мазков, — а напротив этих загадочных персонажей опускалось солнце. В зависимости от того, насколько пристально я разглядывал эту летнюю сцену, и от того, сколько времени проводил за созерцанием в неярко освещенной прихожей, взгляд мужчины казался то спокойным и безмятежным, то встревоженным и даже безнадежным, и тогда вся сцена могла означать как счастье скользить по воде, счастье быть вместе на паруснике июньским вечером, так и беспредельную тоску и тревогу трех существ, гонимых ветром, вглядывающихся в нечто страшное, стоящее за плечом у зрителя, и стремящихся к гибели, которой не избежать.
После того как мы поселились в «Трех львах», мне изредка доводилось позвонить у дядиных дверей и постоять на пороге. И я заметил, что полная странного очарования картина исчезла.
Перед тем как снова отправиться на свидание с Кларой, я скатал в комок в кармане полученную от дяди купюру, от которой не сумел отказаться. На этот раз время и место выбирал я: Люксембургский сад, как в самый первый раз. Совершенно равнодушный к нацеленному на меня крохотному объективу ее родинки, я попросил ее не опаздывать и выслушать меня внимательно — она ведь в самом первом своем послании уверяла, что «нам так много надо друг другу сказать». Охваченный непонятной яростью и необъяснимым возбуждением, я прибавил:
— И еще… фотоаппарат не бери! Хватит фотографий! Поняла?
По тому, как она надолго прикрыла глаза и надулась, я понял, что она выполнит мою просьбу.
Она появилась в назначенное время, подошла, не вынимая рук из карманов, и подняла глаза на скорчившуюся на постаменте белую королеву. Мы облокотились на перила, и я резко выложил ей все об убийстве моего отца. Без пафоса и без прикрас, только полицейские и судебно-медицинские подробности: положение тела, трупное окоченение, внутреннее кровотечение, багровое отверстие с левой стороны. Клара молча водила ладонями по серому камню, словно хотела стряхнуть какие-то пылинки преступления, сохранившиеся после стольких лет, стольких дождей, стольких человеческих мечтаний и усталости.
Еще я сказал ей, что, по моему мнению, это убийство как-то связано с войной, с французским Сопротивлением или с алжирским освободительным движением, которое он, насколько мне известно, поддерживал. Мне показалось, что Клара взволнована и захвачена рассказом. Она не все поняла. Я стал объяснять.
В Лионе, во время оккупации, «Новейшая типография», основанная моим дедом, Жюлем Марло, печатала подпольные газеты и листовки для Сопротивления. С Жюлем уже тогда, кроме старика Луи, работал его сын Пьер, мой будущий отец, в то время совсем еще молодой. В Лионе были и другие подпольные типографии, но их одну за другой выдавали, а хозяев арестовывали, пытали, высылали, отправляли в лагеря — так случилось и с моим дедом, который всего этого не пережил. Моего отца, которому тогда было чуть за двадцать, тоже схватили гестаповцы. Но ему чудом удалось бежать, и он продолжил борьбу под чужим именем. Вот за это он и получил потом, после освобождения, свои награды.
Меня не оставляет тягостное чувство, будто я говорю об очень отдаленных временах, рассказываю давний сон или историю одновременно и подзабытую, и слишком часто вспоминаемую. Мать больше не хочет к этому возвращаться. А дядя делает странные намеки.
— Когда-нибудь, Поль, ты все узнаешь. Я верю, что прошлое рано или поздно проясняется, — говорит Клара. — Пока что это тайна, но к ней есть ключ. Твой отец был не таким человеком, чтобы умереть от руки бродяги. Здесь что-то другое… Ты узнаешь, Поль, ты должен узнать.
Мы стоим друг перед другом в том самом уголке сада. Не прикасаясь друг к другу. Клара смотрит в одну точку позади меня — может быть, на струю воды, которая, истощив всю свою силу, опадает и рассыпается брызгами. Потом значительно произносит:
— Поль, твой отец умер. Мой пока жив. Иногда кажется, будто разница невелика. Мой отец, ты же знаешь… он врач, ты как-то встретил его у нас в саду, в Кельштайне. Это он настоял на том, чтобы я поехала во Францию. Он перестал брать меня с собой к пациентам. Накануне моего отъезда он захотел пройтись со мной, как раньше. И впервые заговорил о себе как о больном, и дело не только в том, что он был ранен на войне. Еще он рассказывал мне о своем друге — помнишь, тот человек, который сошел с ума и задушил своих детей в лесу. Он совсем недавно умер… Мы шли медленно. Папа захотел рассказать мне о том, что с ним случилось в России, или, вернее, о том, что сделал Мориц. Он говорил о расстрелянных детях, сброшенных в ров. А я вспоминала умирающих и мертвых, которых видела, когда была маленькой, но над этими мертвыми мне виделись руки, здоровенные ручищи Морица, который вел детей в другой лес. И внезапно он произнес имя — Клара. Я сначала подумала, что речь идет обо мне. Он говорил так бессвязно! А потом я поняла, что папа говорил о другой девушке. Умершей. При каких обстоятельствах? Что он с ней сделал? Перед тем как вернуться в дом, мы еще немного постояли в саду, где было почти совсем темно. И папа несколько раз прошептал: «Клара», как будто меня не было рядом и я не могла его услышать… Потом схватил секатор и принялся срезать розы, десятки роз, срезал и протягивал мне. У меня в руках была уже целая охапка! Запах стал нестерпимым! Из дома доносилась приглушенная музыка, мама играла на рояле. Мы вошли, он забрал у меня букет и отвернулся. А потом сказал: «Хорошо, что ты уезжаешь, Клара. Ты молода. Уезжай куда-нибудь. И потом продолжай путешествовать. Побывай везде. Открывай. Узнавай. Понимай. Только не оставайся в Кельштайне. Здесь ничто не двигается. А тебе надо уехать». Я так и сделала!
Ветер гонит пыль по дорожкам сада. Над нашими головами трепещут листья каштанов. Покой лужей растекается вокруг нас. И тут я замечаю, что на нас смотрит какой-то верзила. Это Максим — он так и рассчитывал найти меня здесь. Походит, здоровается, я знакомлю его с Кларой.
Максим предлагает нам пойти вместе с ним к Кунцу — он прямо сейчас к нему собирается. Я уже рассказывал Кларе про нашего преподавателя философии. И вот мы уже стоим втроем в поезде, который летит над крохотными садиками при домиках южного предместья. Не знаю, в чем дело, может быть, это из-за Клары, но сегодня Максим еще болтливее обычного. Он набрасывает удивительный портрет Господина К. Нахмурившись, вслушиваюсь.
— …Несколько дней назад я случайно разговорился в баре с одним типом, который знал его лет за семь или восемь до нас, в Алжире. Я уже даже и не помню, с чего вдруг зашел разговор про Кунца, но этот парень его отлично помнил. Они тогда оба были призваны в армию, сменили мир на войну и свою спокойную работу на засады в каких-то затерянных деревнях… Он никак не мог себе представить своего бывшего унтера преподавателем философии.
— Но ведь для французов теперь с Алжиром покончено?
— Похоже, для парня, с которым я разговаривал, — ответил Максим, — это не… совсем закончилось! После нескольких стаканов красного он разговорился: «Еще бы мне не помнить Кунца! Мы вместе оказались в горах Орес. Я знал, что эта блядская война ему нисколько не нравится, хотя в то время лучше было так о ней не говорить. Ребята этого унтер-офицера слушались. Он внушал уважение. Он хорошо говорил, как образованный человек, но это был крепкий парень. Он никогда не жаловался, хорошо дрался, когда приходилось махать кулаками, и без необходимости своими людьми не рисковал. Однажды на нас внезапно напали партизаны: несколько человек были ранены, двое — убиты! Кунц немедленно велел ответить. Мы победили, арабы вскоре побросали оружие. Кунц как раз вовремя крикнул: „Прекратить огонь!“ — иначе мы их всех перебили бы, как собак. Мы прихватили уцелевших вместе с нашими ранеными и убитыми и двинулись назад. Через некоторое время мы заметили, что среди пленных, бредущих с поднятыми руками, две девушки. Красотки в камуфляже, которых мы поначалу приняли за совсем молодых мальчишек! Мы развеселились — знали, что неплохо с ними позабавимся. Уже который месяц к бабам не притрагивались. Кое-кто уже крутился около них и тянул лапы. Но тут подошел Кунц и очень твердо сказал: „Первому, кто прикоснется к одной из этих женщин, влеплю пулю в яйца! Стрелять буду без предупреждения…“ Ребята были в бешенстве. Но его уважали. И это еще было только начало…
Один раз мы разбили лагерь в пересохшем русле реки. Все небо над головой было усыпано звездами, но жара стояла адская! Даже земля обжигала. Мы были начеку. Кунц решил пойти на разведку с небольшой группой, в которой оказался и я… Мы шли по руслу, почти совсем высохшему, и вдруг заметили четверых или пятерых алжирцев, голышом плескавшихся в яме с водой. Такие же молодые, как мы. И безмозглые — оружие сложили вместе с одеждой. Мы взяли их на мушку. Я подумал, что сейчас мы всех их перебьем, и уже видел, как они плавают в луже крови. В конце концов, это были враги! Но Кунц подошел к ним так, чтобы они его увидели. Арабы перепугались. Видно было, как блестят белки глаз у парней, которым жить оставалось всего ничего. Но вместо того чтобы приказать открыть огонь, наш командир подошел к этой дурацкой купальне, опустил пулемет рядом с собой и долго умывался и поливал голову. Потом распрямился, мокрый насквозь, с головы вода течет, замахнулся на арабов, и они голышом рванули в ночь. Мы подобрали их оружие и молча вернулись в лагерь».
Пока мы ехали в пригород, наши взгляды исполинов перескакивали из одного цветущего садика в другой. Единственное весеннее воинство — это армия садовых гномов. Мы плыли сквозь широкую улыбку розовых кирпичей и только что подстриженных изгородей. У собаки есть конура. У крыши — труба. У парка — ограда. У загородного жителя — его дом.
Клара ловила каждое слово Максима, и я осознал, что Кунц, к которому мы ее везли, ее уже заинтересовал.
— Но это еще не все, — прибавил Максим. — Парень из бара рассказал мне еще одну, последнюю историю: «Знаете, такого человека не забудешь… Поначалу не знаешь, что и думать… Все это было довольно давно… Но мне всегда как-то странно делается, когда о нем думаю. Так что, когда вы мне говорите, что он теперь учит философии, это как-то… меня это, можно сказать, ошарашивает. Поначалу мы считали его человеком, у которого полным-полно принципов и правил, но потом пришлось нам взглянуть на него по-другому. Мы были в самой глуши. Кунц послал десяток парней в дозор. Ребята прибыли в Алжир накануне вечером. За несколько дней до того они еще были дома во Франции. Совсем мальчишки. Наголо стриженые, кожа на голове розовая. Три дня спустя мы нашли их оскальпированные трупы с отрубленными руками и яйцами во рту. Кунца вырвало. Мы забрали тела. Броневик увязал в песке, мотор ревел. Мы, не снимая пальца со спускового крючка, посмотрели вверх, на маленький клочок синего неба меж стенками ущелья.
Вечером Кунц пошел к сараю из белого камня, где мы держали алжирцев. Я видел, как он прислонил ружье к стене и попросил часового отойти. Вошел, пригнувшись, в низкую дверь и закрыл ее за собой. Он остался один с пленными, привязанными к кольцам для скота. И крики мы услышали тоже звериные. Удары и рев — мы различали голос Кунца. Это продолжалось не очень долго, но в наступающей темноте нам показалось — целую вечность. Дверь открылась, появился Кунц, весь в крови, и лицо у него, несмотря на загар, было пепельно-серое…»
Мы Клара, Максим и я — подошли к увитому жимолостью домику, Диотима впустила нас и скрылась. Кунц, удобно устроившись в своем старом кресле, уже разговаривал с учениками, собравшимися вокруг него. Клара была не единственной девушкой здесь, некоторые лицеисты привели подружек. За год кружок последователей расширился. Но Клара уселась по-турецки у стены, на другом конце комнаты, не сводя синих глаз с этого ни на кого не похожего преподавателя, который и не прервался, когда мы вошли.
— …Нет, никто в точности не знает, на что способно тело, — продолжал Кунц, — как оно может воздействовать на другие тела или на себя самого, используя очень непостоянное количество энергии, которую собирает, направляет или тратит… А душа, то, что мы должны решиться называть душой, рассеяно в огромном числе атомов этого тела. Душа — материальна! Она размещается у меня в животе, в моих руках, в моих ногтях! И душа приблизительно знает, чего хочет, лишь начиная с определенной ступени формирования. Это происходит очень поздно. Этого может так и не случиться… Но душа часто пребывает в состоянии совершенно неясном, обреченная на полнейшую неопределенность, нерешительность… Не представляйте себе душу как сердцевину, ядро, сущность… Думайте о ней, как о возможных сочетаниях… Нет сущего — есть становление, зависящее от случайных колебаний, легких, как хлопья снега. Нас увлекают дуновения, легкие сквозняки. Когда мы объясняем свои поступки, ссылаясь на примитивные причины, почерпнутые из нашей убогой, скудной личной истории, в этом есть нечто нелепое! Прекратите искать сердцевину, прекратите искать ядро. Существует множество центров, и все они расположены вне центра… И все оказывают влияние. И каждая личность — особенная, одновременно и незаменимая, и вовсе не безусловная. В ней нет абсолютной необходимости так же, как в любом отбросе, любом произведении искусства, любом преступлении! Так что согласитесь воспринимать каждую личность как… загадку, тайну… Некоторые из вас вменяют себе в обязанность думать о человеке, о человеческом существе… Это вполне естественно для вашего возраста. Хорошо, допустим: человек то, человек это… Но постарайтесь все-таки представить себе гуманизм, который был бы вместе с тем и «энигматизмом»[14]. Да, тайна, загадка! Каждый человек — это вопрос, формулировка которого не может не быть очень странной. Впрочем, без загадки, без тайны нет и любви! Все, что я могу по-настоящему полюбить в другом — и есть его тайна, вопрос, который его точит, и который его изматывает, и который он повсюду за собой таскает, и который он никогда не сможет сформулировать самостоятельно, и который я еще менее способен сформулировать за него!
Я пытаюсь понять, что говорит Кунц. Но меня отвлекает присутствие Клары, хотя она сидит тихо. Может, я спятил? Готов поклясться, что с самого нашего прихода ее с Кунцем соединяет линия высокого напряжения! Они сидят в разных концах комнаты, но Клара прикована к губам Кунца, а тот и взглядом ее не удостаивает. И все же кажется, будто он говорит только для нее, очень медленно, выговаривая слова отчетливее обычного. Какие же знаки, какие послания, отправленные телом Клары, он уловил? Меня она так часто слушает вполуха — а сейчас старается ничего не упустить. Должно быть, на обольстительные разглагольствования преподавателя у нее накладываются картинки Кунца-воина. Но самое нестерпимое — и эту деталь замечаю только я! — то, что и он и она одеты в черные водолазки!
Так что немного погодя, в самый разгар споров, я решаю уйти. С меня довольно! Максима невозможно оторвать от сборника Уильяма Блейка, который он заглатывает в соседней комнате. А Клара сухо сообщает мне, что желает остаться здесь как можно дольше, а потом одна доберется до дома.
— Иди, Поль, прямо сейчас уходи и, пожалуйста, не уговаривай!
Однако и после этого мы с Кларой, старательно избегая упоминаний об этом эпизоде у Кунца, неплохо проводим время вместе. Не слишком сближаемся, но понимаем друг друга, а иногда чувствуем и настоящую приязнь. Люксембургский сад, Пер-Лашез, берега Сены — немало мест соединились в моем представлении с ее рассказами о детстве, о зимних прогулках с отцом. Некоторые из них связаны для меня с картинами рождений или агоний, при которых Клара присутствовала и о которых говорила. И я все еще слышу, как она твердит мне, что ни за что не останется жить в Германии, что намерена последовать совету отца и поездить по свету.
А сейчас она вытаскивает из сумки фотоаппарат.
— Я знаю, Поль, ты этого не любишь, но это сильнее меня. Мне нравится смотреть на вещи и на людей через мой хрустальный шар. Увидеть, что кроется под мертвой кожурой. Может быть, это станет моей профессией!
И Клара уговаривает меня сфотографироваться у ног королевы Батильды, о которой я в конце концов ей рассказал.
В последние дни своего пребывания в Париже Клара не подает никаких признаков жизни. Однажды вечером, уступив непонятному предчувствию, я решаю зайти к Кунцу. Клара чувствует себя совершенно свободно в книжном замке Господина К. и в наилучших отношениях с Диотимой. Меня встречает рассеянно. Потом говорит, что через три дня уедет из Франции, но зайдет со мной проститься в «Три льва», конечно, а как же… Должен признаться, что мне в ней нравится и эта манера исчезать — ненадежное обещание будущих встреч. «Прощай, моя красотка!»… A Long Good Bye![15]
ВИХРИ (Париж, весна 1968 года)
Наконец что-то происходит. Я целую ночь выворачивал булыжники из парижских мостовых. Вокруг меня, в воздухе, пахнущем гарью, мокрым песком, бензином, помойкой и цветочной пыльцой, разлито неясное возбуждение, повсюду копошатся взбудораженные тела, длинная цепочка черных рук передает камни, которые складывают друг на друга до тех пор, пока улицы не встают вертикально. Молодые парни в белых рубашках, с растрепанными волосами, а напротив них — бьющий копытами отряд жандармов, ждущий сигнала к атаке.
Для того чтобы добывать камни из мостовых, я вооружился одной из чугунных решеток, которыми окружают деревья на бульваре Сен-Мишель. Я использовал ее сначала как кувалду, чтобы ломать асфальт, потом как кирку и рычаг, чтобы выдергивать зубы из гнилых челюстей улиц. Я усердствовал, потел, надсаживался и задыхался. Металл ударялся о камень, высекая искры. Горели костры из досок, мелькали отблески света, было очень шумно, и напряжение, казалось, можно было потрогать руками. Булыжники вперемешку с самыми разнообразными предметами, щитами, оградами, кузовами автомобилей сложились в большую горизонтальную скульптуру. Перед рассветом — внезапная атака, удары, крики, кровь, глаза, обожженные слезоточивым газом.
На наше счастье, мы с Максимом оказались в нужном месте в нужное время. Как и многие другие.
Вот уже которую неделю я только и делаю, что день и ночь шатаюсь по Парижу на пару с Максимом — все таким же забавным, высокопарным, задиристым треплом. Иду рядом с ним молча, подмечая всякие подробности и совпадения. Я все время настороже и готов его защитить, если его проделки повлекут за собой неприятности. Максим пьет много вина. Я, скорее, трезвенник, но у меня есть собственные способы захмелеть.
После нескольких попыток поступить в другие места, я теперь учусь в Школе изящных искусств, но я не слишком усердный студент. Если бы не поддержка некоторых преподавателей, меня бы уже исключили. И все же я здесь многому научился: например, избавился от свойственной мне с детства привычки яростно черкать, малевать, скоблить. В отличие от «подающих надежды» художников, энергично выступающих против наставников и самого заведения, я с удовольствием осваиваю классические приемы. Я могу до отупения подчиняться всем техническим требованиям, потому что мастерство, приходящее вместе с ними, дает мне облегчение от неопределенного недомогания.
Я настолько же опасаюсь спонтанности, насколько и радикальности. Однако мне, как и в лицейские годы, трудно усидеть на месте. Я испытываю постоянную потребность в воздухе, в скитаниях и встречах, и мне нравится ночами слушать, как Максим декламирует длинные отрывки из поэм или политических текстов, которые торжественно плывут в безграничном пространстве, расположенном между его молодой памятью и старыми декорациями Парижа. Он декламирует, горланит, бормочет, шепчет, а нас тем временем уносит течение. Мое молчание в заговоре с его упоением.
У меня так давно нет никаких вестей от Клары, что я почти перестал о ней думать. Не знаю, где ее искать, и мне совершенно этого не хочется. Смех девиц, которых Максим подцепляет в барах, стирает из памяти ее лицо. Некоторые из этих девиц потом часть ночи шатаются с нами. По шкуре молодежи пробегает дрожь. Неслыханная дерзость и поверхностный задор помогают с легкостью заводить знакомства.
Вот так и вышло, что под конец наэлектризованного дня мы с Максимом оказались на кромке событий. Да, что-то происходит. Странная тишина. И вдруг на том самом бульваре, по которому мы так часто ходим, видим толпу в темных мундирах. Движение прекращено, полицейские фургоны перегораживают улицы. Навстречу идут приличные с виду студенты в распущенных галстуках, они выглядят потрясенными, кричат, возмущаются.
Нам объясняют: других студентов только что арестовали, грубо затолкали в машины с решетками. Толпа трясет фургоны, колотит по железным бортам.
Бледное лицо Максима озаряется, а у меня по коже бегут мурашки: мы бросаемся в схватку.
То, как в последующие несколько дней я буду использовать собственные руки, создаст у некоторых моих мышц и нервов прочные привычки. Схватить тяжелый предмет, воспользоваться им для того, чтобы изменить ход вещей — образ действий сумасшедшего, бешеного, фанатика.
Видя, что полицейские вошли в старое университетское здание, глядя на то, как жестоко они обращаются с задержанными, и сам оттесненный другими полицейскими с дубинками, я, не раздумывая, хватаю пепельницу со стола ближайшего кафе, потом полную бутылку и яростно швыряю все это туда, где блестят каски. Максим рядом со мной делает то же самое. Снаряды разбиваются о зарешеченные ветровые стекла фургонов, пытающихся проложить себе дорогу. Внезапно полицейские переходят в наступление. Мы кидаем в них столы и стулья с разгромленных террас.
Пока ничего особенного, просто нервное возбуждение, но всякому понятно: что-то начинается. Я получил странное удовольствие от того, как размахивал этой бутылкой. Я подумал о тех, кто метал «коктейль Молотова», кому доводилось крутить над головой похожий предмет, хрупкий и разрушительный.
За следующие несколько дней Школа преображается. Студенты там днюют и ночуют, преподаватели испарились, все, что можно было, растащили. Школа, по которой бродит болтливая и неизменно изобретательная толпа темных личностей, превратилась в огромный улей, где создаются подрывные картинки. Там повеяло свежим ветром. Сначала я выворачивал камни из мостовой, теперь заперся в мастерской трафаретной печати и набрасываю силуэты полицейских с пустыми глазницами и дырами вместо рта.
Картинки, которые я наспех придумываю, чтобы иллюстрировать хлесткие лозунги, тут же размножают, не жалея красной и черной красок, добавляют кислоты и развешивают сушиться на веревках. Мы целыми часами не выходим из прокуренных и непроветренных помещений, и испарения трихлорацетата и глицеринового клея в конце концов начинают воздействовать на наши чувствительные нервные окончания. И теперь мы, выходя на вольный воздух, на развороченные улицы, по которым почти сразу перестали ездить машины и где растут горы мусора, воспринимаем шумы и запахи измененными, усилившимися, и нас это смешит.
Как-то ночью я впервые обратил внимание на большие скульптурные головы, венчающие столбы по бокам от решетчатых ворот главного входа в Школу изящных искусств. Одно из этих серых лиц словно подмигивало мне. Я прочитал имя, вырезанное на камне: «Пьер Пюже»[16]. Странная фамилия! Надо будет узнать, кем был этот тип, превратившийся теперь в безмолвную статую, — похоже, ему нравится обманчиво-военная обстановка. Он, не иначе, художник… Я хоть и сам ввязался в эту графическую и пропагандистскую деятельность, но не могу воспринимать всерьез всего, о чем кричат вокруг. Мне нравится, главным образом, полнейший беспорядок. Я почти не сплю. Наблюдаю и действую.
От всех этих событий у меня в памяти останутся, наверное, только звуки и запахи. Грохот, с которым чугунная решетка обрушивается на мостовую. Вой сирен «Скорой помощи». Взрывающиеся у самой земли гранаты. Запах трихлорацетата, клея и газа.
Все слова улетучатся. Останется удовольствие, испытанное руками, крепко держащими камень, в едком дыму сна.
Я стараюсь время от времени заглядывать в «Три льва», чтобы рассказать маме новости. К общему возбуждению она относится с растерянной доброжелательностью. Я больше не хожу в Люксембургский сад, куда доступ теперь открыт и днем и ночью, потому что решетка местами выломана, и оставил Батильду каменеть в неподвижности королевы и святой.
Иногда при взгляде на это невероятное зрелище мне случается подумать о Кларином объективе, о том, как она сейчас нацелила бы его на Париж, так не похожий на тот, который она узнала за четыре года до того. Я пытаюсь увидеть некоторые лица и некоторые тела ее синими глазами, при помощи ее черного третьего глазка или через объектив жужжащей камеры. По сути, это говорит о том, насколько мало я во всем участвую.
Однажды вечером, во время короткой и яростной схватки, внезапной стычки, вспыхнувшей по непонятному мне поводу, я был ранен. Удар пришелся на голову, нападавшего я не видел. Фонари замигали и раздвоились. Я поднес руки к голове, и они стали красными и липкими. Я зашатался и упал. Когда я пришел в себя, то оказался лежащим на узком столе битком набитого кафе. Руки болтались в пустоте. Голова сильно болела.
И тут, глядя снизу вверх, я увидел заботливое розовое лицо склонившейся над моей раной девушки с длинными светлыми волосами. Придерживая у меня на макушке компресс, она свободной рукой обтерла мне щеку влажной салфеткой, затем положила прохладную ладонь на лоб.
— Ничего страшного, только кожа содрана, — звонким уверенным голосом сказала она.
Потом прибавила, что опасности ни малейшей, незачем даже обращаться в больницу, службы неотложной помощи и так не справляются с работой.
Она объяснила, что, хотя и входит в группу добровольцев, но она — настоящая медсестра… От этой девушки исходило ощущение мягкости, несомненности и безмятежности, и я успокоился. Я попытался повернуться и с усилием привстал, но тут же самым жалким образом свалился к ее ногам. Она вскрикнула, проворно опустилась рядом на колени и обхватила мое лицо обеими руками. У меня рот был полон крови, но, перед тем как провалиться в туман бессознательного состояния, я нашел в себе силы спросить, как ее зовут. Жанна…
Мы с Жанной договорились встретиться через день после этого происшествия и с тех пор не расстаемся. Но не из-за того, что она так нежно за мной ухаживала. Оказалось, и я, и она знаем Клару Лафонтен. Дело в том, что произошло нечто невероятное… В ту минуту, когда Максим, искавший меня повсюду, наконец-то меня нашел, я был совсем плохонький и лежал на полу, а голова моя покоилась на коленях удрученной Жанны.
— Эй, Марло! — заорал Максим. — Старина Филип, ну и напугал ты меня, сволочь этакая! Мне сказали, что тебя сильно попортили…
Жанна первым делом его успокоила, потом, наклонившись к моему распухшему лицу, спросила:
— Тебя зовут Филипп Марло? А ты случайно не знаком с неким Полем Марло?
Я с трудом выговорил окровавленным ртом, что мой приятель в шутку называет меня Филипом, но я как раз и есть Поль!
— Тогда ты, наверное, знаком с Кларой Лафонтен? Знаешь — немка? Четыре года назад она жила у нас. С тех пор я ничего о ней не слышала. А тогда она мне про тебя говорила. Она познакомилась с тобой в Германии. Я знаю, она часто с тобой встречалась. Помнишь, она все время фотографировала?
Так вот имени Клары суждено было прозвучать в ходе этих событий, при удивительных обстоятельствах. Ранение, случай, встреча, светлые волосы и прохладная рука Жанны на моей щеке.
Мы встретились через день после этого. Воскресенье. Париж окутала полная тишина. Повязка на голове придает мне пиратский вид, и Жанна приглашает меня в свою маленькую квартирку рядом с больницей Святого Антония. Она двумя годами старше меня и работает по-настоящему. Я стучу, но дверь не заперта, и Жанна кричит, чтобы я входил. Она угощает меня вином и пирогом с яблоками, который сама испекла.
Очень быстро всякие упоминания о нашей немецкой подруге исчезают из разговоров. Мне не очень хочется рассказывать о своем кельштайнском лете. Ни к чему вытаскивать из памяти давнюю тайну, неприятное чувство, испытанное на берегах Черного озера. Не хочется думать о поляне, красных розах, тайном ужасе и всем этом глубоко погребенном безумии. Но Жанну и саму не тянет вспоминать о том, как Клара с ней обошлась. Я чувствую горечь ее разочарования, обиду и даже боль. Жанна дает мне понять, что с удовольствием согласилась принять у себя молоденькую немку, хотела с ней подружиться, и Клара мгновенно ее очаровала. Так что же между ними произошло? Темная сторона Клары и ее склонность исчезать победили простодушную и непосредственную привязанность Жанны? Должно быть, странная и непостоянная Клара сбила с толку (получая от этого извращенное удовольствие?) молоденькую медсестричку, всегда готовую отдавать и жертвовать собой без всякой меры.
Имя Клары оказалось непрочной связью между Жанной и мной, но мы горим желанием остаться вместе. Я никак не могу от нее уйти. И остаюсь. Жанна веселая, нежная, довольно полная, я бы даже сказал — пухленькая. У нее ореховые глаза, чувственные губы, холодный нос и жаркие ноги. Роскошные светлые волосы, падающие ей на плечи, — сияющий королевский убор, повторяющий каждый изгиб. Ее воодушевление меня подстегивает, ее безмятежность меня успокаивает, ее постель — гнездо из подушек в белоснежных наволочках и кружев. Рядом с Жанной все кажется простым и легким. Нашим телам не пришлось знакомиться: они словно знали друг друга всегда. Когда я с Жанной, нагота обретает изначальную естественность, а ее руки умеют точно и нежно касаться тела, к которому она тянется. Ее ослепительная плоть призывает ласки.
Для Жанны плотское наслаждение — такая же простая вещь, как спелый плод, в который вгрызаешься, или купание в реке. Смотреть, как она двигается, говорит, смеется и улыбается, означает открывать для себя со сказочно прекрасной площадки разнообразие тайного женского пейзажа или заповедных территорий детства.
Жанна ест с аппетитом. Раскраснелась от вина. В ответ на мои глупые шутки и горькие сарказмы она охотно смеется, запрокидывая голову, грудь колышется, зубы сверкают.
От того ли, чем веяло в воздухе, или от близости тела Жанны, но мне хорошо как никогда. Я наконец-то сумел расслабиться в позе блаженно распростертого изваяния, опустив голову ей на колени и чувствуя ее ладонь на лбу.
Несколько дней спустя я снова у нее. Руки у меня уже не так судорожно сжаты, челюсти не так крепко стиснуты, как обычно, и моя тревога испаряется, словно влажный туман с восходом солнца. Когда я вхожу, Жанна принимает душ, стоя в старинной ванне на львиных лапах, занимающей всю ванную комнату. Она что-то говорит и смеется, с волос течет вода, голова у нее вся в пене, она перешагивает через эмалированный бортик, заворачивается в купальный халат, мокрые волосы прячет под ярко-красным полотенцем и принимается чистить овощи, попросив меня помочь, а потом с явным удовольствием стряпает еду для меня, для нас обоих.
Часом позже, сидя напротив меня за столом у открытого окна, через которое до нас доносится шум Парижа, она восхищается блюдом, которое только что приготовила.
Жизнь не перестает удивлять. Несколько дней назад я и не догадывался, что можно быть таким веселым и спокойным. Уже лето. Соединившее нас разрушительное движение выдыхается или преобразуется во что-то другое, но вместе с тем и размножается. Времена меняются. Вполне возможны всякие неожиданности.
С тех пор как я познакомился с Жанной, моя графическая деятельность в Школе изящных искусств пошла на спад. Ее яблочные пироги нравятся мне больше бутербродов с привкусом трихлорацетата… Но я уже давно не рисовал по-настоящему. В могучих волнах общих порывов плохо то, что они создают иллюзию нелепости всякого личного творения. Чрезвычайные события не отменяют понятия нормы: они устанавливают чрезвычайные нормы. Намерения у Жанны самые лучшие, но довольно-таки веселый скептицизм мешает ей полностью присоединиться ко всему, что громко о себе кричит и обольщается на свой счет… Рядом с ней я вновь испытываю потребность рисовать только для себя. Мне не терпится показать ей свои беспокойные рисунки, я жду, что она прольет какой-нибудь свет на самые темные мои композиции.
Я привожу ее в гостиницу. Мои три льва скрыты под двухметровым слоем мусора и впустую плюются чистой водой. И впервые за многие годы я вижу, что тяжелые створки сомкнуты, обычно они закреплены вдоль стен крытого подъезда, и чтобы войти, достаточно толкнуть застекленную дверь. Нам приходится звонить, подавать условный знак, чтобы Леон соблаговолил нас впустить с видом хозяина, которого осмелились потревожить. Насколько я понял, дядя очень недоволен тем, что из его гостиницы, оказавшейся в самом центре беспорядков, разбежались постояльцы, и на чем свет стоит ругает взбесившихся студентов. Впрочем, сейчас его нет, он вместе с тетей уехал из Парижа, прихватив все ценное, потому-то Леон и позволяет себе некоторые вольности.
— Вы ведь знаете, что вашей мамы нет дома, — говорит он, с неодобрительным видом оглядывая Жанну с головы до ног.
Он явно проводил время с горничной Луизеттой, которая внезапно принимается с показным усердием надраивать все, что под руку попадется, — медные ручки, зеркала, мебель красного дерева. Подойдя поближе, она говорит мне, не поднимая глаз:
— Ваша матушка такая храбрая! Каждое утро вижу, как она уходит на свою работу, туда, к «Одеону». Похоже, ее нисколько не пугают эти дикари, которые устраивают революцию. Она даже сказала нам, что разговаривает с ними! Бедняжка… У нее всегда такой печальный взгляд. Ну-да, конечно, мужа-то убили! Да, она, должно быть, очень любила вашего папу, без ума от него была! Я ее понимаю — такой красивый мужчина! И такой спокойный, такой мужественный!
— Да замолчи ты, дура старая! — вопит Леон, перебравшийся от стойки на большой диван, где он курит, положив ноги на низкий столик.
Луизетта пожимает плечами. Я уже повел было Жанну в нашу квартиру, но спохватываюсь.
— Скажите, Луизетта, вы, стало быть, часто видели моего отца?
— Ну, видела время от времени, господин Поль, когда он приезжал из Лиона и приходил к вашему дяде, своему то есть шурину…
Меня с детства убеждали в том, что отец отказывался переступать порог «Трех львов», и я продолжаю расспрашивать.
— Да, они закрывались вдвоем в кабинете, — отвечает Луизетта. — И не все шло гладко. В последние несколько раз господин Эдуард очень громко кричал.
— Хватит ворошить эти древние истории, — перебивает ее Леон.
Мне хотелось бы знать, заходил ли сюда мой отец в день своей смерти, виделся ли с моим дядей и о чем они могли говорить. Но Луизетта еще усерднее принимается натирать мебель и ворчит:
— Я почем знаю! Числа, годы — все это у меня в конце концов перепуталось. Так что я вам тут наговорила всякого — а вы не берите в голову…
— Идиотка, — повторяет Леон, — что за идиотка!
И, презрительно скривившись, выдувает сигарный дым.
Жанна стоит рядом со мной, склонив голову мне на плечо. Я не собираюсь ее во все это впутывать. Но ведь я отчетливо помню тот последний вечер в Лионе, когда папа, раньше обычного вернувшись из типографии, объявил нам: «Завтра мне надо ехать в Париж. Уезжаю очень рано, в шесть…» Мама нисколько не удивилась и ни о чем не спросила. Естественная сдержанность, давняя привычка, оставшаяся от подпольной деятельности. В мирное время! Война закончилась больше двенадцати лет назад!
Тогда в Лионе любому ребенку моего возраста совершенно ясно было, что мы живем в мирное время. Когда мы разговаривали с друзьями, будущее казалось полным обещаний, а множество мелких достижений, мелких шажков вперед что ни день приводили нас в изумление и восхищение. Но у нас, в семье Марло, жива была память о войне. Мои родители часто и таинственно о ней упоминали.
О старых боевых товарищах они говорили, называя их только боевыми кличками. Имена и прозвища более подлинные, чем те, что в документах. Множество следов тех времен хранились в глубине шкафов, кипы подпольных газет и пожелтевших листовок. Мне случалось находить в каком-нибудь ящике продовольственные карточки, а однажды я откопал зарытый среди тряпок пистолет. Он был щедро смазан и готов к работе. Один, в тихой квартире, я вскидывал его и целился в воображаемых нацистов или коллаборационистов.
Именно о таких вещах мне хотелось бы рассказать Жанне, словно ее солнечное здоровье могло рассеять их ночную сторону. Но и Клара оставалась для нас слишком темным предметом. Неназванная Клара. Призрачная Клара.
Я в нерешительности, сомнениях, смятении. Одного только присутствия Жанны почти достаточно, чтобы убедить меня в том, что жить — легко и очень просто, что счастье может расти, как трава, здесь и теперь, что нет никаких причин драться и биться, что война далека, что война закончена.
Вернувшись домой, мама знакомится с Жанной. Я слышу, как они болтают в соседней комнате, будто давным-давно знакомы, а я с тревожным удовольствием возвращаюсь к своим большим листам.
Поскольку Жанна ночью дежурит в больнице, я решаю зайти посмотреть, что делается в Школе. По дороге встречаю Максима, он спрашивает, что со мной случилось. Сам он невообразимо изменился за несколько недель. Еще больше отощал, на лице печать усталости, вид заговорщический. Оглушая меня непрерывным потоком отвлеченных и малопонятных соображений, он поглядывает на меня насмешливо и подозрительно. Говорит о необходимости «выбрать свой лагерь», о существовании «объективного врага» и о том, что надо «прибегнуть к насилию».
— Видишь ли, старина Филип, мы очень далеко ушли от философских тонкостей нашего дорогого Господина К. Надеюсь, ты все же не застрял на туманных разглагольствованиях Кунца! Тогда он производил на нас впечатление, но он всего-навсего преподаватель философии, эстет! Забьется в свое мелкобуржуазное кресло и пичкает молодые умы мелкобуржуазными идеями!
Максим закусил удила, но я довольно вяло защищаю бывшего наставника, которому всегда инстинктивно не очень-то доверял. По другим причинам.
— Но это не мешает нашему Господину К. являться порыскать на театре боевых действий. И, разумеется, выбирать болевые точки! Должно быть, воздух эпохи хочет вдохнуть. Чистое любопытство индивидуалиста. Ищет, наверное, молодого вина, чтобы влить в свои ветхие мехи!
— Ты его видел?
— Да. Не далее как вчера и совсем близко отсюда. С ним была эта девушка, ну, помнишь, твоя немецкая подружка? Клара, верно? Тоже любительница подсматривать, фотографировала все подряд и что попало…
Я онемел. Если Максим говорит правду, значит, Клара в Париже. Она видела все, что мне так хотелось ей показать. Мы, может быть, ходили совсем рядом… Изменилась ли она? Чем занимается? Чего хочет? Хотя — не все ли равно! Я предпочел бы больше об этом не думать. Переключиться на другое.
Однако в тот же вечер я потащился пешком вдоль железнодорожных путей к дому Кунца.
За несколько лет дом почти исчез, поглощенный собственным садом. Трава вымахала высоко, кусты стали огромными. Ирисов, сирени и розовых кустов не разглядеть за плющом, ежевикой, вьюнками и крапивой. Мне представилась затерянная в лесной глуши хижина. Колдун умер, гномы больны, а девушка забыта в стеклянном гробу в дальнем углу подвала. Сквозь листву пробивается желтый свет, за несколькими окнами горят лампы.
Я долго ждал, прячась за грудами хвороста и колючими кустами, но так и не увидел ни Кунца, ни Клары. За окнами мелькает чья-то фигура, ходит взад-вперед из комнаты в комнату, наклоняется, как будто разговаривает с кошкой или размешивает что-то ложечкой в чашке, но я безошибочно узнаю Диотиму, и она явно одна в доме. Уже полночь, на меня наваливается усталость. Я чувствую себя в середине исполинского бетонного сыра пригорода, дырки в нем — это дыхание спящих людей. Воздух теплый. Сыр тихо раскисает. Глубокий сон!
Все так же пешком возвращаюсь в Париж пустыми улицами, пахнущими пылью, нагретой ржавчиной и помойкой. Шагаю. За заборами лают собаки. Останавливаюсь и долго писаю на забор.
ПРИЗВАНИЕ (Веркор, осень-зима 1968 года)
Октябрь в моем представлении всегда соединялся с возможностью начать все заново либо с неизбежностью глубоких изменений. Я даю себя увлечь мощному осеннему потоку, в котором сливаются теплые цвета, рыжие и карминные оттенки. Мне нравятся бодрящий утренний холодок, яркая синева неба, обещание щедрых дождей. А главное — я испытываю облегчение оттого, что покидаю лето, тяжелое, медлительное время года, наваливающееся, словно свиноматка на своих поросят. В этом году, после стольких общих и личных потрясений, я ясно чувствую, что должно еще что-то произойти. В разворошенном Париже я встретил Жанну. В том самом Париже, по которому, может быть, невидимо и неслышно бродит Клара…
При сегодняшнем мягком свете на всех лицах можно прочесть, что ничто теперь не будет «как раньше», что разрывы сделались легкими и необходимыми. Отныне мы живем на прогалине возможного, временно отдалившись от страхов. Кто вспомнит потом, что на несколько месяцев кривая самоубийств в Париже резко упала?
Я говорю маме, что больше не хочу учиться в Школе изящных искусств, что не буду получать никаких дипломов и недавно нанялся разнорабочим в больницу Святого Антония. Но главным образом я намерен путешествовать, плыть по воле волн, рисовать и писать. Мать только покачала головой, вскинув брови, но улыбается понимающе, как будто и ей ничего не остается, кроме как дать себя подхватить этой освободительной волне, которая накрыла одновременно и ее, и меня, и многих других. Она, в свою очередь, сообщает мне, что решила оставить работу в книжном магазине у «Одеона», взять долгий отпуск. И тоже собирается уехать.
— Посмотрим, — восклицает она, — посмотрим! В конце концов, я еще молода! И мне надо тебе сказать, Поль, я встретила одного человека… Он мне нравится, и я буду жить с ним. Да, посмотрим…
В воздухе ли что-то такое носится, отчего я слушаю ее не только как мою мать, но и как женщину? «Еще молодую» и полную желаний женщину. А несколько дней спустя мы вместе трогаемся в путь, направляясь на юго-восток. Мама ведет только что купленную малолитражку. Сначала она хочет окунуться в прежнюю лионскую атмосферу, взглянуть на наш прежний квартал. Затем поедет к «одному человеку» в маленький городок в Веркоре. Там мы с ней расстанемся, и дальше я буду путешествовать в одиночестве. Предложение мне нравится.
Я весело уволился из больницы Святого Антония, где соглашался на самую грязную работу ради того, чтобы покончить с жалким положением студента, пожить среди тружеников, а главное — быть рядом с Жанной. Я приходил с раннего утра и, натянув резиновые перчатки, переходил из палаты в палату, из блока в блок, собирая на свою тележку все, что надо было отправить в мусоросжигатель или в автоклав[17]. Отходы, подлежавшие уничтожению, инструменты, которые надо было простерилизовать. Молчаливый сборщик запятнанных кровью бинтов, шприцев и грязных постелей. Мне случалось встретиться с Жанной, голой и сдобной под халатом, с выбивающимися из-под шапочки прядями светлых волос. Ангел, равнодушный к моим низменным, грязным делам, ободрявший меня перед тем, как присоединиться к белоснежной стае медсестер или участливо склониться над каким-нибудь истерзанным телом. Я был покорен ее беспредельной доброжелательностью и постоянной готовностью помочь, но как мне было не думать о том, что Жанна точно так же примет в свои объятия и пустит в свою постель первого попавшегося страдальца? Иногда эта мысль постыдно ранила мое самолюбие, и мне хотелось исчезнуть.
Так вот, в первых числах октября я расстаюсь и с этой чертовой работой, и с моей ангельской подругой, которая, когда я сообщил ей о своем отъезде, нисколько не удивилась и не огорчилась.
В Лионе я никаких особых чувств не испытал, хотя мама настояла на том, чтобы вывести меня на тесные подмостки старого театра моего детства. Я снова вижу наш двор, наши окна, полустертые буквы «Новейшая типография» на фасаде и большую ярко-желтую вывеску — теперь типография называется по-новому: «Креапресс». Маме нравится, она находит, что это выглядит современно.
Потом мы двигаемся в сторону Изера, а дальше начинаются тугие петли извилистой дороги, по которой можно проникнуть в каменную крепость.
Почему именно Веркор? Для меня название этих гор, разумеется, связано с Сопротивлением и с убийствами, о которых мне много рассказывали. Сколько раз слышал я ребенком о побеге моего отца, о том, как он сбежал в Лионе из здания гестапо, как жил в этих легендарных горах, где партизаны некоторое время его прятали, а потом возобновил в другом месте и под другим именем свою подпольную деятельность? Кто этот незнакомец, к которому едет мама?
Машина с трудом карабкается по склонам. Я расспрашиваю маму об этом еще недавнем прошлом, она на мои вопросы отвечает коротко, готовыми фразами, сто раз повторенными историями, скупыми на подробности, — словом, уклончиво. Неизменно повторяющееся разочарование. Часы и километры остаются позади, а я так ничего нового и не узнал о моем отце и еще того менее — о моей матери, а ведь она тоже рисковала.
От прошлого самых близких людей и даже от всей их жизни мы только и находим, что пыльные обрывки с дырами умолчаний — в точности как бывает, когда открываешь шкафы со старомодной, разрозненной одеждой и вытряхиваешь из карманов старые билеты, счета из давно закрывшихся ресторанов, вышедшие из употребления монетки и прочий сор неприметной жизни.
Мы поднимаемся на плато, сейчас я расстанусь с матерью, приехавшей к человеку, о котором ей не хочется мне рассказывать. И тут я понимаю, что именно через этот великолепный пейзаж и двинусь, не имея ни малейшего представления о том, куда пойду. Целую маму, захлопываю дверцу и трогаюсь в путь с рюкзаком за спиной и маленьким чемоданчиком в руке — в него я сложил все для рисования.
Небо над известняковыми грядами, окружившими желто-серые луга и черные, красные, бурые и рыжие леса, ярко-синее. Веркор — это пространственно-временной корабль, который плывет вспять то на юг, то на запад, в зависимости от силы ветра и движения облаков. И ты чувствуешь, как высоко вознесено это исполинское плато, как далеко внизу осталась суета твоего времени, как далеки от тебя подожженные машины, вывернутые булыжники и это новое, незнакомое перевозбуждение, овладевшее умами и телами. Здесь, на высоте более тысячи метров, можно поверить, что за тридцать или сорок лет ничего не изменилось. Красоту этим местам придает их суровость.
Бодрящий холодок. Сначала я иду прямой и пустынной дорогой, протянувшейся в стороне от свернувшихся клубочком деревушек. Но здесь попадаются и тяжелые, крупные строения: они кажутся надменными от строгости и равнодушия ко всему, чтобы могло бы украсить подступы к ним. Словно сбежав из своих деревень, они теперь пасутся, высокомерные и хмурые, среди каменистых полей. Спускается вечер. Вокруг корявых деревьев начинает клубиться легкая синеватая дымка. Какая же мощь должна быть у этих стволов, чтобы устоять против скручивающего их ветра! Какое терпение у веток, которые снег каждую зиму гнет и ломает! Вода, как кислота, разъедает камни — они все изнутри резные, пустые, с острыми краями.
Пальцы у меня зябнут, но раз или два я, не удержавшись, пристраиваюсь на обочине и, использовав свой чемоданчик вместо этюдника, набрасываю неподвижную усмешку камня или загадочный жест ветки. Меня привлекает не столько пейзаж Веркора, сколько эти разбросанные камни, истерзанные стихиями. Я дрожу от холода, но, пока рисую, я прикасаюсь к материи мира.
Потом очень быстро темнеет. Огоньки, разбросанные далеко друг от друга, готовятся сопротивляться сначала сумеречной расплывчатости, потом ночной темноте. А так ли необходимо воспроизводить эти каменные обличья, запечатлевать их случайные изломы, складки и трещины? Может быть, если бы я был старше, намного старше, мудрее или спокойнее, я удовлетворился бы одним созерцанием этих камней. Смогу ли я когда-нибудь, опустив пустые неподвижные руки, зарыть поглубже в голову желание рисовать и только бесконечно долго смотреть, каменея, на эти твердые каменные глыбы?
Я рассчитываю с наступлением ночи воспользоваться легендарным гостеприимством местных жителей. Свернув с темной дороги, добираюсь до какого-то городка или поселка, толкаю застекленную дверь пустого трактира, сытно там ужинаю и устраиваюсь на ночлег. Скрипучие половицы, замызганные обои, потрескивающая в полной тишине мебель. Путешествие в прошлое в глубоком сне, когда мне наконец удается полностью расслабиться, лежа на исполинской кровати с пахнущими стиральным порошком и плесенью холодными шершавыми простынями. На рассвете — обжигающий кофе в по-прежнему пустом зале. Тучный хозяин выходит из кухни, обтирая тряпкой пухлые руки.
Как и накануне, он недоверчиво оглядывает единственного клиента с головы до ног. Потом решается сесть за мой стол и, морщась от боли, взгромоздить на стул толстые ноги.
— Вы-то, молодые, ходить можете! Счастливые, можете путешествовать! А мне стоит пройти каких-то десять шагов, и начинаю пыхтеть как паровоз… Да, ничего не скажешь, хороший бардак вы, молодежь, устроили этой весной… Но если вы думаете, будто сможете расшевелить общество, которому только и надо, что мирно дремать, так вы попали пальцем в небо. Хотели поиграть в войнушку, немножко подраться с новыми злодеями… Да, молодость — прекрасное время!
Толстяк шлепает ладонью по столу. Стул, на котором его зад целиком не умещается, стонет под тяжестью трактирщика.
— А только ничего вы не видели, ничегошеньки! Не видали вы настоящей войны! Я-то раньше до того проворный был! И худой был в ваши годы, можно сказать, даже тощий. Это я уже после освобождения все свои килограммы набрал. Когда жизнь наладилась… или сделала вид, что наладилась. Нет, кроме шуток… Вы знаете, что творилось здесь у нас, на плато? В то время иллюзии были у нас самих. Мы здесь были от всего отрезаны. Во всех других местах была война, была оккупация. Внизу люди голодали и боялись. А мы здесь чувствовали себя защищенными. На фермах была еда. Снизу приходили ребята, их было все больше. И оружие у них было все более тяжелым. Мы в конце концов привыкли к обстановке казармы под открытым небом. Французский флаг — представляете себе? Каждое утро партизаны салютовали знамени. На деревенских площадях! Так и было — я ничего не придумываю! Ни одного немца здесь не было! А что касается десантов — тут каждый потрудился. Да, у нас наверху была настоящая маленькая Франция, и к краям ее было не подступиться. Ну то есть это мы так думали. Потому что однажды фрицы на нас свалились. С неба свалились, посреди темной ночи, как стервятники, мерзкие твари. Они закрепились там, у Вирье. Их становилось все больше. Они шли через перевалы, пробирались ущельями. Мы быстро поняли, зачем они пришли — чтобы все разрушить, чтобы жечь и убивать. Они это делали с чудовищной размеренностью. Наши парни, которые всего несколько дней назад красовались в форме, при знаменах и все такое, держались героически! Но они не выдерживали — тех было намного больше. Серые гусеницы наползали. И сметали все на своем пути. Даже коров. И собак. С утонченной жестокостью. Кого — на кол. Детишек живьем прибивали к дверям амбаров. Все горело. Понимаете, наш оазис превратился в ад. Вы, конечно, и представить себе этого не можете. Слова-то говорить можно, только все, что скажешь, не будет иметь ничего общего с реальностью! Вот так-то, мальчик мой!
Трактирщик весь взмок. В конце концов он, угостив меня еще чашкой кофе, переходит со мной на «ты».
— Ну так вот, можешь спокойно ходить по нашим дорогам, здесь можно ходить пешком, всех этих призраков тебе никогда не увидеть. Да ты вообще их не увидишь! Война — не столько битвы, сколько невообразимая человеческая мерзость.
Ближе к полудню я выхожу из трактира и двигаюсь на юг. Продолговатые белые облака опускаются на плато, как свертки парусов на палубу исполинского корабля. Толстяк торжественно вручил мне вылинявшую желто-зеленую маршрутную карту пятидесятых годов. Старая бумага покрыта крупными пятнами и порвалась на сгибах, но я разглядел, что за Латраном, Ле Моллардом и Сезеглизом дорога тянется вдоль ущелий Брюиссана и выходит к Вирье. Дальше снова идут узкие петли, и, наконец, горы снижаются к югу. И тогда открывается куда более радующая взгляд площадка, настоящая южная равнина, залитая последним теплым осенним светом. Не знаю, сколько дней мне потребуется потом, чтобы обойти Прованс, но я твердо намерен не останавливаться до самого моря.
А пока мне, чтобы добраться до кормы большого корабля Веркора, ничего другого не остается, как идти, оставив позади безлюдные перепутья ниже Молларда, неуютной дорогой, прорубленной среди влажных черных камней, до того крутой, что оглянуться страшно. Внизу, под чудовищными скалами, отколотыми бурями от склонов, глухо рокочет поток. Временами эхо подхватывает грохот невидимо падающих на дорогу камней.
Никто на свете и не догадывается, что я — единственный крохотный странник, идущий по этой узкой тропе. Я мог бы все на этом и закончить. Все бросить. Свалиться в пропасть. Погибнуть среди складок. Вжаться между глыбами. Окаменеть. Ни один призрак не бредет мне навстречу.
Но ущелья внезапно расширяются, передо мной — залитые светом желтые луга, во всех направлениях поделенные низкими каменными стенками сухой кладки. Только что я был сдавлен со всех сторон — а теперь открылось огромное пустое пространство, продуваемое яростными ветрами, и земля выгибается навстречу небу. Не видно ни одного зверя, даже у металлических поилок с переливающейся через край водой.
Миновав последний уступ, я предчувствую и последнюю впадину, крутой спуск по петляющей дороге — это уже обещание юга. На краю городка — Вирье, вероятно, ведь больше нечему здесь быть, — захожу поесть и попить в кафе, оно же — задымленная кухня обычного дома. Там сидят несколько мужчин, они замолчали, как только я вошел. Эти славные дядьки не могут удержаться и, пока я ем, меня разглядывают. На другой стороне улицы, у входа на кладбище, чьи бледные кресты виднеются чуть дальше, стоит странный памятник. Допив кофе, берусь за дверную ручку и чувствую взгляды, вонзившиеся мне в спину, словно вилы. Пойду взгляну поближе на аэролит[18], свалившийся в этот медвежий угол.
Даже в двух шагах от скульптуры нельзя сказать с уверенностью, что она изображает и изображает ли она вообще что-нибудь… Но поражает тщательная обработка камня, со всеми этими углами, складками, витыми узорами и выемками. А рядом — куски необработанной глыбы: так и кажется, будто она сейчас раздавит и поглотит тонко проработанные формы. И внезапно понимаешь, что перед тобой истерзанные тела — тебя просто носом ткнули в их страдания. Тела людей, переставших быть людьми, превратившихся в животных, сделавшихся всего лишь материей. Тела свалены одно на другое, как дрова в костре, приготовленном для казни.
Протягиваю руку, раскрыв ладонь, и сам не очень понимаю, зачем я это делаю, чего хочу: скульптура — спрессованная жестокость, невозможно сказать, какой рот готовится укусить, а какой всего лишь молит. Какая из рук убивает? Какое из тел — тело убитого? Окаменевший хоровод ужасов. А я продолжаю стоять перед этим.
Местные из кафе убеждены, что я потащился пешком в их богом забытую дыру только для того, чтобы посмотреть на этот памятник с его сбежавшими с кладбища покойниками. Между собой они говорят об этом недавнем творении с гордостью, опаской, неодобрением и смутным суеверным чувством, словно памятник придает городку темное величие, к которому они не стремились, но оно им все же льстит. Они называют скульптуру Камнем.
— Он сейчас у себя, — внезапно сообщает мне высокий тощий тип, прислонившийся к стойке и пристроивший локти среди целого леса рюмок.
До сих пор никто со мной не заговаривал, но он подал сигнал.
— Ну, конечно, если вы пришли повидать его, — говорит другой, усмехаясь в бороду и уставившись на дно пустого стакана.
Потом ко мне поочередно обращаются и другие, сидящие в тени. Они говорят все одновременно.
— Как посмотришь на Камень, хочется увидеть и остальные, что верно, то верно!
— Скоро все поле будет заставлено его статуями… Ну, это его дело!
— Эти глыбы надо сюда втаскивать. Некоторые ему привозят издалека.
— И он здорово накачал бицепсы.
— У него есть машина с краном…
— Чего говорить, настоящий художник! Он говорит, ему подходит здешний воздух, простор и все такое. Но он не местный. Он давно сюда перебрался, но он не местный!
— Здешний воздух, а то как же! Его статуи тоже дышат воздухом, стоят на самом ветру…
— Воздух такой, что в самый раз отморозить это самое, только им и зубами-то не постучать, потому как ртов у них нету.
— Ну, этот художник, в общем, славный малый. Когда приходит, а приходит он даже среди зимы, даже в дождь, всем ставит выпивку.
Оказывается, автор памятника около кладбища, Камня, как они его называют, живет совсем рядом, в большом, отдельно стоящем доме, в двух километрах от городка. Некий Доддс, Филиберт Доддс.
Теперь все в этом большом зале зашевелились, все советуют мне пойти посмотреть на статуи.
— Знаете, сюда многие к нему приезжают. Он знаменитый. Он свои статуи продает.
Прощаюсь со всеми, направляюсь к двери. Туман все больше сгущается, уже не разглядеть края плато. Иду напрямик через луга, перелезаю через несколько каменных стенок. Мне нравится переступать через эти ряды белесых заслонов, годами аккуратно складывавшихся по краю поля. И вот оно передо мной — огромное, высокое, широкое здание, похожее на исполинский панцирь. Ну и здоровенный же он! А вокруг и впрямь проступают в сумерках высокие застывшие фигуры. Сколько их здесь? Десяток, дюжина, два десятка? Все они стоят прямо, в нескольких метрах одна от другой. Неподвижные настолько, что кажется, будто расстилающаяся вокруг них серая трава медленно плывет. Это хрупкие, перекрученные фигуры, нагие и окутанные дымкой, и ни головы, ни конечностей не разглядеть. У каждой из статуй своя особенная поза, каждая поглощена собственными мыслями. Тайное общество, орден молчащих…
Мной овладевает нелепое желание помериться силами с этими каменными созданиями, притягивает их командорская неподвижность, словно после целого дня ходьбы и одиночества их тяжесть могла помочь мне сделаться еще легче, а их размеры — съежиться. И еще хочется ощутить ладонью их шероховатость, сделаться тверже самому, запустив пальцы в их расщелины. Кто-то их тесал, выдалбливал, сверлил, резал, шлифовал, устанавливал, но восторжествовало их безразличие. Чувствуешь, насколько жалка человеческая сила, которую пришлось расходовать на то, чтобы они родились, а от них теперь, когда они всей своей тяжестью давят на землю, исходит нечеловеческое спокойствие.
Может, посидеть немного в центре неровного круга, образованного этим слепым дозором?
Подхожу еще ближе. Но тут за моей спиной скрипит дверь. Я вздрагиваю. В светлом прямоугольнике стоит человек. Наблюдает за мной. Я вижу горящий кончик его сигареты, призрак дыма вокруг него.
— Не позволяйте этим старым девам себя запугать, — произносит громкий веселый голос. — Им очень бы хотелось оставить вас на всю ночь у себя. Но они могут разозлиться. А если вы заблудились, так заходите погреться у огня.
На пороге большой комнаты, где на покрытых мешковиной диванах сидят двое мужчин и три женщины, я впервые встречаюсь со скульптором Филибертом Доддсом. Он спокойно смотрит, как я переступаю порог. Ему на вид лет сорок пять, от уголков светло-голубых глаз с золотистыми искорками, придающими ему чуть насмешливый вид, разбегаются гусиные лапки. Во рту зажат бесформенный окурок. Доддс одет в потертую кожаную куртку, плотно облегающую фигуру, на ногах грубые башмаки, заляпанные чем-то белым. Он выше меня, крепкий, широкоплечий. Смотрю на его руки — мускулистые, сильные, в мозолях и царапинах.
Здороваюсь со всеми, протягиваю руки к огню. Доддс сворачивает новую самокрутку. Бестолково представляюсь, рассказываю, что путешествую пешком и без определенной цели. Никого это, похоже, не удивляет.
Начинается долгий вечер, и с этого же вечера я остаюсь у Доддса: несколько недель, проведенные в недрах его гостеприимного дома.
Встреча, откровение, открытие: может быть, исполинские статуи меня околдовали? Я не спущусь по живописно петляющей дороге к Провансу, морю и не знаю каким еще блаженствам.
Каждый день безвольно соглашаясь на предложение Доддса отложить мой отъезд ради того, чтобы, как он говорит, «поработать чуть посерьезнее», я дотяну в Вирье до первых холодов.
Огонь в камине, крепкая выпивка. Я согрелся. Услышав, что я учился в Школе изящных искусств, друзья Доддса захотели посмотреть мои рисунки. Листы переходят из рук в руки. Без комментариев. Женщины игриво, жизнерадостно и подробно расспрашивают меня о том, что они называют «событиями». Но то, что происходит сейчас в Праге, волнует их куда больше, чем то, что было в Париже. Танки Варшавского договора против толпы. «Коктейли Молотова». Свастики, воровато намалеванные белой краской на броне машин советского союзника, ставшего захватчиком. Эти художники куда больше обеспокоены последними событиями, чем мои ровесники, — для них речь шла о прогнозируемом злодеянии режима, от которого ждать больше нечего. Я засыпаю на ходу.
Наутро воздух прозрачен, облака стремительны. Уже слышу лязг металлических инструментов. В большом сарае, превращенном в мастерскую, небритый Доддс с погасшим окурком во рту и натянутой на уши шапке с силой бьет по камню. Глаза искрятся под защитной маской. Он кивает мне, после чего перестает обращать на меня внимание и снова затягивает песню: «Жизнь такая, жизнь такая… Вспоминаю-забываю».
Ближе к полудню он застает меня рисующим его каменных девиц — я выбрал их своими моделями. Прижав бумагу к камню, тру ее грифелем, чтобы получилось зерно. Но я не могу удержаться и не корежить на бумаге его статуи. Доддсу, кажется, на это наплевать. Он веселится. Просовывает руки в щели, которые проделал в торсах и животах своих статуй.
— Видишь, вот в чем штука — ловлю реальность через дыры в ней!
Его друзья бродят туда-сюда, читают или курят на солнышке. Один из местных парней помогает ему передвигать глыбы при помощи установленного на грузовике крана.
Доддс сидит на деревянной скамье за столом, заставленным бутылками и заваленным книгами, окурками и эскизами. У него своеобразная манера брать бутылку красного за горлышко и наливать вино, цокая ею о края стаканов. Он задумчиво водит пальцем по лезвию своего складного ножа, не спеша пережевывая хлеб с сыром. Ест за двоих! А уж пьет!
— Ну, дернем еще…
Две из гостящих у него женщин очень с ним ласковы. Он обнимает их за плечи, нежно привлекает к себе, шутит. Говорит мало. Большей частью общие слова, насмешливые или пустые реплики, но иногда, словно мимоходом, с непосредственной грубоватостью Доддс бросает несколько резких, сжатых фраз о своем ремесле скульптора. Я буду проводить рядом с ним день за днем и некоторые из них запомню.
Доддс говорит: «По сути, я прост и первобытен. Я понятия не имею, что делаю, когда работаю. Я высекаю вслепую, по слуху. Надо уметь слушать камень. Пустота, заполненное пространство. Через некоторое время камень сам начинает вопить, что с него хватит…»
Он говорит: «Некоторым кажется, будто это не закончено, но для меня все уже проработано во всех деталях, до самых дальних закоулков, как собор».
Он говорит: «Скульптура, имей в виду, — это бой, это битва. Если начал, должен лупить до конца, иначе камень тебя самого пошлет в нокаут! Под конец бой переходит в рукопашную. Ты ему делаешь больно, но и он тебе спуску не даст. Я своих больших девочек произвел на свет в муках, как самка, как зверь, как каторжник».
Он говорит: «Но наступает минута, когда больше не надо бить, не надо резать, не надо ранить. Надо, напротив, приласкать… Ласки — до и после схватки».
Он говорит: «После всех этих тревог, всего этого пота понимаешь, что оставшаяся материя, та, которая обрела форму, — это и есть жизнь, настоящая жизнь. Кулаками пробиваешь себе дорогу через хаос! Большие немые глыбы, которые ждут, пока ты им вломишь, — сгусток хаоса. Ты наведешь там порядок, ты принесешь туда любовь, нагонишь страх, ужас. Сечешь?»
Он говорит: «Я знаю, когда она закончена. Я это чувствую. Тогда я отхожу, отступаю и вижу пространство, которое появляется вокруг… Скульптура, такая тяжелая, такая твердая, нужна и для этого тоже: показывать пустоту. Видишь ли, пространство между формами — тоже форма».
Он говорит: «Статуи, эти каменные штуки, которые мы, надрываясь, высекаем, еще и дают нам почувствовать, что такое пребывать на земле. Они давят на нее своей тяжестью. Они с чертовской силой на нее напирают. И тогда мы рядом с ними понимаем, что могли бы взлететь, нас могло бы унести ветром. Когда они, эти скотины, уже существуют, мы уже ничего не значим, нас попросту нет! Они сами смотрят. Сами присматривают. А мы можем катиться на все четыре стороны».
И Доддс, закатываясь смехом, стряхивает последнюю каплю красного себе в стакан. Мне так нравится, когда он говорит «дернем» или «еще разок затянусь — и к станку», «надо это дело перекурить», и когда он протягивает гостю согнутое запястье вместо перемазанных пальцев со словами: «Держи пять, приятель, только у меня лапы грязные…» Старые добрые словечки. Старый добрый смех. Сечешь?
Вскоре я уже делаю, что могу, стараюсь приносить пользу. Колоть дрова для камина — какое наслаждение обрушить топор на полено, стоящее на колоде, лезвие одним махом его рассекает, обломки со свежими срезами летят в стороны и с глухим стуком падают. Усталости я не чувствую, штабели наколотых и аккуратно уложенных дров быстро растут. Доддс заметил у меня потребность что-то с силой делать руками. Своего рода отдых после тщательной проработки рисунка. Когда он предлагает мне поработать с глиной или гипсом, я так и бросаюсь мять, растягивать, лепить материю, давить ее пальцами, я стискиваю сырую массу ладонями, скребу, заглаживаю, потом жду, пока вещь высохнет и затвердеет. Доддс подходит взглянуть. Когда я смотрю, как он нещадно бьет, чертыхаясь, берется то за отбойный молоток, то за болгарку, то за полировальный инструмент, понимаю, чему мне еще предстоит научиться. Он ворчит, бормочет, посмеивается, сам с собой разговаривает и поет во все горло: «Жизнь такая, жизнь такая… Вспоминаю-забываю».
И вдруг я слышу у себя за спиной:
— Осторожно, парень, не увлекайся подробностями. Не перемудри. Забудь свои рисунки. Оставаясь дикарем, сможешь достичь куда большей тонкости. Сечешь?
Кажется, секу. Друзья Доддса уезжают. Приезжают другие. Его женщины и со мной очень милы. И где мне взять силы, чтобы уйти?
Наступает день, когда Доддс небрежно спрашивает, не хочется ли мне взять в руки инструменты. Он протягивает мне их, называет: зубчатый резец, долото, бучарда, рифлуар…
— Давай, намечай! Старайся уловить, как устроен камень. У него есть сердцевина и прожилки. У него есть свои слабости, свои потайные линии. Начинай потихоньку. Если будешь к нему внимателен, он понемногу перед тобой раскроется. Здесь звук более глухой. Здесь камень крошится, здесь он помягче, ты выбираешь, расчищаешь. А здесь, видишь, сопротивляется… Давай! Не только на глаз, но и на слух…
Я набрасываюсь на камень. Стараюсь изо всех сил. Доддс мне не мешает. Мои промахи его забавляют. Он объясняет мне, но так, будто он тут ни при чем. Мои волдыри лопаются, руки кровоточат.
— Ну, иди передохни немного, чтобы не сдохнуть. Пойдем выпьем.
С первым снегом, когда каменные великанши покрываются тонкой белой пленкой, я отправляюсь в Вирье, чтобы сесть в автобус, спуститься в долину, доехать до вокзала и вернуться в Париж. Доддс меня не удерживает. Протягивает запястье, заляпанное гипсом:
— Жму пятерню!
Он понял, что я вернусь, что я подцепил эту заразу, что теперь у моих рук, моих мышц, моих сухожилий и нервов есть свои требования.
Я возвращаюсь в Париж перед самым Рождеством. Меня оглушает толпа, мечущаяся по празднично освещенным ночным улицам. Я думаю о Жанне. Мне очень хочется ее увидеть, но я боюсь, толкнув ее дверь, услышать смех и застать на своем месте незнакомца, уплетающего яблочный пирог.
Мама вернулась из Веркора задолго до меня. Она сумела дать мне понять, что теперь хочет остаться одна в квартире над «Тремя львами» — чтобы жить своей жизнью, как она говорит. Тем лучше. Мне так нетрудно переехать. К тому же дядя, похоже, на меня страшно зол, я в его глазах отныне выгляжу подонком. Я участвовал в беспорядках!
Я напал на след Максима. Он более или менее ушел в подполье и мечтает о насильственных действиях. Мне хотелось бы рассказать ему о Филиберте Доддсе, но мои пластические приключения далеки от его сегодняшних навязчивых идей. Как-то вечером он ведет меня в мерзкую комнату, достает из ящика блестящий пистолет и гордо протягивает мне. Не знаю почему, но тон, которым он произносит: «Вот каким языком мы теперь будем с ними разговаривать…» — напоминает мне дядю с его «бугром». У каждого свой бугор!
Кроме того, я уверен, что Клара сейчас в Париже, потому что Леон, которого я тайком зашел повидать, сказал, что она недавно приходила и спрашивала обо мне.
— Плоховато выглядела немочка.
Я все еще не осмеливаюсь пойти к Жанне, хоть и горю желанием рассказать ей про Веркор, показать свои руки и попросить приюта и нежности, и потому решаю временно опять пойти разнорабочим в больницу Святого Антония в надежде встретить там мою ненаглядную медсестру.
Но в то самое мгновение, когда, слоняясь около гостиницы, иду потрепать по гривам моих трех львов, я натыкаюсь на Клару, которая в очередной раз волшебным образом оказалась у меня на пути. Не знаю, как она это проделывает. Очень быстро замечаю, что она неуловимо изменилась, хотя в чем именно — толком не пойму. Она стала чужая. Непривычно элегантная. В черном пальто и черных сапогах. Но главное — у ее синих глаз и в углах рта появились еле заметные серьезные складочки — может быть, от усталости. Они придают ей почти трагический вид.
Она подходит, кладет руки мне на грудь, целует в обе щеки. Запускает пальцы в свои коротко остриженные волосы и смотрит на меня с видом чувственной кошечки, способной отскочить в сторону, как только захочешь ее погладить.
Ясно вижу, что она чем-то озабочена. Я знаю про ее связь с Кунцем, и меня это не касается, но Кларе доставляет недоброе удовольствие на нее намекать. Она попеременно то как будто бы никакого значения ей не придает, то подчеркивает ее, радуясь, если удается меня задеть.
Резко пожимаю плечами и молчу. Клара тянется ко мне. Я отстраняюсь. Внезапно ее улыбка становится вымученной, лицо делается напряженным, губы кривятся. Она не может справиться с сильной тревогой, со смятением и растерянностью.
Несколько раз повторив, что ей и подумать страшно о возвращении в Германию, она вытаскивает из сумки ворох снимков. Недавние фотографии, сделанные неизвестно где. Ее объектив выхватывал людей разного возраста из повседневной жизни. Клара скомпоновала кадры так, чтобы показать выражение лица, тик, нахмуренную бровь, волнение, незаконченный жест. Эти безымянные лица окутаны, словно дымкой, беспредельным смятением. По глади заурядности пробегает зыбь неясной тревоги. Клара вырывает снимки у меня из рук, мнет их, скручивает.
Чуть позже, когда мы сидим в пустом зале гостиницы и я с ней довольно холоден, она снова меняется, роняет голову мне на плечо, кладет руку мне на бедро — как можно выше. Что она хочет со мной сделать? Или что хочет открыть? Вспоминаю, как в хижине у Черного озера эта белая рука тянулась ко мне из-под одеяла, под которым Клара была совсем голая. Но, может быть, мы обречены на то, чтобы бесконечно расходиться, магнетически отталкиваться друг от друга. Время течет. Безнадежно утраченное время, его не нагнать. Никогда.
Я не могу сопротивляться желанию обвить рукой ее плечи и снова чувствую ее запах, ее волосы щекочут мне щеку. Ощущаю ее дыхание. Улетаю в облака. Но она резко встает и начинает ходить по комнате. Не хочет сказать мне, что ее терзает. Спонтанная радость, обольщение, мимолетная нежность, ярость и отступление в далекий тыл.
Потом Клара, осознав, что слишком далеко зашла в своих внезапных переменах, касается губами моего лба — словно бабочка на мгновение опустилась на камень, и, пока она не улетела, можно разглядеть узор на ее крыльях.
Что на меня нашло? Хватаю ее за шею, зажимаю в тиски пальцев, ставших после Веркора мозолистыми. Она морщится от боли и неожиданности. Выхожу в вестибюль, хватаю с доски ключ и насильно волоку Клару в свободный номер на втором этаже.
Молча захлопываю за нами дверь. Свет в комнате рассеянный, пропущенный через розовые занавески. Клара сквозь зубы осыпает меня немецкой бранью, но не сопротивляется. Зато ругается страшными словами! Я прижимаю ее к стене, наваливаюсь всей тяжестью. А потом, как мешок, кидаю поперек кровати. Какая она маленькая, тонкая, руки-ноги разбросаны. Глаза брызжут ненавистью. Зубы сверкают: им так и хочется меня растерзать. Я грубо сдираю с нее всю шелуху, все шкурки, срываю черные одежки до тех пор, пока не остается лишь бьющаяся плоть. Побежденная Клара отворачивается. Потом ярость моя стихает так же внезапно, как стихает гроза, я отпускаю Клару, но теперь она сама меня удерживает, притягивает к себе, обнимает, и наслаждение, которое я испытываю, не имеет ничего общего со спокойной ясностью, какая была на берегах Черного озера, — оно куда более мощное, и к нему примешивается горечь.
Когда я соскальзываю с этого ласочьего тела, мы еще долго лежим с открытыми глазами, прижавшись друг к другу. Только теперь до нас доходят приглушенные уличные шумы.
— Сам видишь, Поль, между нами ничего не может быть, кроме… этого! — говорит наконец Клара. — Мы слишком похожи. Мы ничего не можем дать друг другу. Я не чувствую себя несчастной — я одинока. Ты никогда не будешь так одинок. Мне надо хоть что-нибудь увидеть. Для этого мне никто не нужен.
Я молчу. Я знаю, что теперь мы долго не увидимся. Чувствую в своих раскрытых ладонях, еще полных тайного запаха Клары, незнакомый легкий зуд: теперь это не желание рисовать — мне хочется схватиться с очень жестким камнем, со «сгустком хаоса», как сказал бы Доддс. Мои пальцы шевелятся. Я их нюхаю. Чувствую мышцы. Я знаю, чем их занять.
Клара снова шепчет, словно себе самой:
— Я попробовала любить одного человека. Ты его знаешь. Он совсем не такой, как ты. У него большой опыт. Он многому меня научил! Он сделал меня независимой. Но я нигде не могу остаться. Даже с ним. Ни с кем не могу жить! Вот так. Однажды…
Меня захлестывает волна ненависти к Кунцу, волна нарастает и в конце концов рушится в полное безразличие. Не сказав ни слова, я последний раз касаюсь еще теплой щеки Клары, ее волос, ее живота, а потом выхожу из комнаты, чтобы мои дурные мысли растворились в звонкой кислоте улиц.
КРОВЬ И ПОТ (Париж, 1972 год)
С тех пор как я бросил Клару одну в пустом номере «Трех львов», прошло немало времени. Четыре изнурительных года. Я тяжело работал и со страстью учился. Чем я только не занимался: был разносчиком, грузчиком, учителем рисования в частной школе, между делом поработал каменщиком. Ночевал в десятках разных комнат. В клетушках, подвешенных в сером небе или глубоко зарытых, словно в погребе. Всего багажа — немного одежды, книги, рисовальные принадлежности и первые мои статуэтки — глиняные, гипсовые, деревянные, завернутые в газеты. Я с удовольствием терял их в своих странствиях. Жанна всегда радостно меня встречала, и иногда даже казалось, будто она ждала меня и надеялась. Но мне необходимо было одиночество.
После встречи с Филибертом Доддсом я принял решение: тоже буду высекать создания из камня, обтесывать его, вгрызаться в породу стальными инструментами. Мне надо было учиться всему. Я вернулся в Школу, но теперь занимался тайно. Скромный наблюдатель, ночной шпион — я стал невидимым учеником. Там все еще царил некоторый беспорядок. Никому особенно не было ни до кого дела. Я был не единственным непрошеным гостем Школы. Вот так у меня появилась возможность работать с деревом, глиной, камнем, брать любые инструменты — и никто не спрашивал, что я здесь делаю. Диплом? Вот уж что меня нисколько не волновало. Ненасытный вампир, я приходил с наступлением темноты.
Как легко мне оказалось подобраться к знаменитым художникам, войти в любую мастерскую, расспрашивать опытных ремесленников — тех, кто работал с медью, жестью, бронзой, восковыми моделями. Я даже раздобыл ключ от расположенного в конце темного коридора склада слепков. Я приходил туда работать по ночам. Все инструменты, которые подбирал в разных местах, я стаскивал сюда и прятал между ногами Аполлона, задницей Дианы и алебастровыми грудями Венеры. Я в одиночестве до рассвета пытался извлечь пользу из своих открытий. А потом, шатаясь, брел за своей тележкой, заваленной отбросами и окровавленными бинтами. В голове у меня звучали слова Доддса: «Воспитай сначала свои руки! Потом руки сами должны будут воспитать того, кто их воспитывает». Но мои руки развивались на удивление быстро.
Для начала я занялся лепкой, но мне все сильнее хотелось чувствовать под рукой зернистость, шероховатость камня. Хотелось знать его, чтобы сразу распознавать — мрамор, бургундский камень и камень из Суаньи, люберонский известняк. А почему бы не сланец, не лава, не коралл?
Когда мной овладевали сомнения, я возвращался в Веркор. Мне достаточно было увидеть Доддса за работой, чтобы почувствовать себя спокойнее и увереннее. Он искоса смотрел, как я приближаюсь, покрепче перехватывал губами «чинарик»[19], стаскивал шапку, чтобы поскрести голову, потом лупил меня кулаками по животу.
— Покажи-ка руки. Так, хорошо, хорошо. Есть вещи, которые узнаешь головой, есть вещи, которые узнаешь руками. Но есть еще и такие, которые узнаешь, не думая об этом и не трогая руками, просто дышишь за работой. Дыхание, слух, интуиция. Не забывай, что скульптор — на семьдесят процентов самоучка! Вбей это себе в черепушку.
Наконец в один прекрасный день в начале роскошной осени, после того как я долго трудился над твердым куском известняка, обрабатывая его бучардой, резцом, заостренным молотком и зубчатым долотом, мне показалось, что из моих рук вышла завершенная форма. Указание из самых глубин камня. Он мной руководил. Он хотел, чтобы я здесь стесал, а там — выдолбил. И она же, сама эта глыба, крикнула: «Хватит!» И тогда я сказал себе: «Ну вот, получилось, на этот раз я закончил вещь!»
— Да, ты прав. Больше не трогай, — подтвердил Доддс. — Только что это у тебя?
— Голем! — сказал я просто так, не думая.
И в самом деле, перед нами было кряжистое, перекошенное чудовище со злобным и очень глубоким ртом и огромным лбом.
— Не маловат он для Голема?
— Подрастет, — ответил я.
Доддс засмеялся. Мы друг друга понимали. Как-то вечером, после нескольких стаканов красного, я, сидя у огня, поддался дурацкому искушению рассказать ему о Кларе и промямлил:
— Несколько лет назад в Германии я познакомился с необычной девушкой…
Доддс не стал меня перебивать, но дал понять, что его не очень-то интересуют биографические подробности такого рода.
— Девушки, девушки, вот уж, знаешь, в чем недостатка нет… — усмехнулся он. — На самом деле им куда больше хочется чему-то соответствовать. Быть правильными, обычными и нисколько не странными. Странность лишь проходит через их тела. Нас-то, понятно, именно это и притягивает. Те токи, которые электризуют их, проходя насквозь. Вот эти волны нам и хотелось бы уловить, чтобы ответить на вопросы, которые мы себе задаем — сами, как великие. А девушки не хотят быть особенными. Какие есть — такие есть. Сечешь?
А когда я заговорил о Жанне, Доддс решительно сменил тему.
— Знаешь, рано или поздно, — предсказал он мне, — ты поймешь, что больше не можешь работать в Париже. Для дел вроде нашего необходимо пространство. В Париже сейчас слишком тесно, там не хватает воздуха. Когда великие, величайшие художники в конце прошлого века и начале нынешнего работали в Париже, было еще терпимо, там было просторно и что-то двигалось, менялось. Вы, молодые, прошлой весной, когда выворачивали улицы, таскали песок и булыжники, достигли высшей точки. С тех пор, как видишь, все отступает, входит в рамки, съеживается. И в ближайшие годы совсем сожмется. Так вот, тебе, говорю, будет недоставать воздуха и света вокруг камней. Тебе придется искать другое место.
И все же Париж еще некоторое время меня вполне устраивает. Я наполняюсь, объедаюсь, упиваюсь им: музеи, выставки, книги, каталоги, ошеломление от встречи с чужими творениями. Видеть их по-настоящему, чувствовать, желать, повторять, трогать. Каждое открытие заставляет меня отчаянно подражать ему.
Я понимаю, как можно изваять тень, «Вечернюю тень»[20], наготу, страдание и даже… мысль. Я понимаю, что не художник в лихорадочном возбуждении создает каменную женщину. Это присевшая женщина, плачущая женщина, проклятая женщина или женщина-ложка сама высвобождается из материи, сама себя рожает с помощью рук человека, вообразившего себя повелителем форм.
«Мыслителю» для того, чтобы мыслить, необходимо было избавиться от этой плотной твердой массы. «Идущему человеку» надо было освободиться от обступавшего его камня, чтобы образовалось пространство.
Когда в тишине мастерской появляется толпа тощих, изможденных, непомерно вытянутых тел, я понимаю, что их можно назвать «Лесом» или «Поляной». И еще подрезать. Все время выбрасывать лишнее. Устранять материю. И я понимаю, что «Птица», такая чистая, гладкая, протыкающая небо, сама по себе, самой неподвижностью своей говорит нам о том, что такое полет. Желание летать — с тех пор, как появились птицы, и до тех пор, пока будут существовать люди, охваченные стремлением «стать птицей»…
И, разумеется, я в конце концов превосходно изучил творчество Пьера Пюже (какое смешное имя!), того, кто подмигнул мне однажды ночью с высоты своего столба у входа в Школу изящных искусств. Узнал его «Милона Кротонского» и изломанного «Святого Себастьяна» из каррарского мрамора.
Время идет, год за годом. Я редко бываю в «Трех львах». Я больше не вижу свою королеву Батильду. Мама тоже держится на расстоянии, и я привыкаю смотреть на нее как на женщину, влюбленную в «кого-то», о ком я ничего не знаю.
Со временем мой убитый отец становится просто умершим отцом. И мне удается не думать о Кларе, хотя в некоторых местах мне кажется, будто ее странный взгляд остался воткнутым в тот или другой предмет.
Мне по-прежнему трудно убедить себя, что такая девушка, как Жанна, может любить такого человека, как я, а главное — предпочитать его всем остальным. Иногда я бросаю среди ночи свою подпольную работу и бегу к ней, дрожа при мысли о том, что меня вполне может заменить кто-то другой, — и неизменно изумляюсь, увидев, как рада Жанна внезапной встрече.
Черное озеро теперь всего лишь крохотная лужица на поверхности моей памяти. Моя давняя немецкая тревога ушла далеко-далеко, спрятана за сердечной мышцей. Одним словом, молодость закончилась.
Несмотря на то что в Париже и в мире происходят события, находящие во мне глубокий отклик, я уже не отвлекаюсь от камня — Доддс меня к нему приохотил. Мои инструменты — это мои щупальца, мои антенны. Я улавливаю новости в то самое мгновение, когда мой резец вгрызается в камень.
Когда мама продала помещение «Новейшей типографии» (старик Луи, который до тех пор сдавал ее в аренду, ушел на покой), мне перепала некоторая сумма денег, показавшаяся мне сказочно огромной. На эти деньги я смог, не меняя своих спартанских привычек, снять мастерскую и купить все необходимое. Сразу за Порт де Лила я нашел маленький заброшенный гараж, бетонный кубик с окном во всю стену, из которого еще не выветрились запахи отработанного масла, опилок, бензина и пыли. На заднем дворе свален металлолом, остовы машин, изъеденные ржавчиной и промытые дождями моторы, а еще старые балки и строительные материалы, которые я намерен использовать.
До бульваров рукой подать, а можно подумать, будто я в деревне. Пишу Доддсу, рассказываю ему об этой своей первой ссылке.
Металлические ворота моего гаража-мастерской открываются на серую, но неизменно оживленную площадь. Голуби, воробьи, мальчишки, рассевшиеся на скамейках, как на насестах; тут же играют в шары, а старики ведут нескончаемые разговоры. Три бара, один с табачной лавкой, старьевщик, рабочая столовая, контора перевозчика. Жизнь течет спокойно. Вдали от шума.
Обхожу свои владения: матрас на полу бывшего кабинета, доски на козлах и большой белый куб, внутри которого я собираюсь работать. Один из кабачков становится для меня столовой и гостиной, моим источником человеческого тепла. Здесь можно поболтать, можно, облокотившись о стойку, слушать радио с довеском тонких рассуждений невылезающих отсюда пьянчуг. Хозяйка меня балует. Иногда она присылает мне с Долорес, подавальщицей, кастрюлю с чем-нибудь, что сама состряпала, накрыв сверху тарелкой, чтобы не остыло. Вечером я ставлю всем выпивку.
В этот же кабачок Жанна может мне позвонить, когда ей вздумается.
— У меня два выходных, могу тебя навестить, если хочешь. Тебе хорошо работается?
Она приходит, и некоторое время мы живем вместе в этой бетонной скорлупке. Когда солнце потоком льется через стеклянную стену, светлые волосы Жанны озаряют мастерскую. Она смотрит, как я работаю, иногда всерьез помогает. Водитель грузовика из конторы перевозчика доставляет мне глыбы необработанного камня. Я использую оставшиеся в гараже домкрат, тали и шкивы.
Как-то я пересекаю площадь, неся на руках, словно чудовищного младенца, тяжелую деревянную статую, которую только что вырезал из балки, почерневшей от времени и гудрона. Мое появление с этой смутно человекообразной фигурой не проходит незамеченным. У статуи обвисшие плечи, словно упавшие крылья, голова опущена, длинные тонкие руки прижаты к туловищу, кисти спрятаны в карманы, размещенные почти у щиколоток… Сгусток тьмы, воплощающий подавленность, но и полнейшее и неизменное безразличие ко всему. Ставлю фигуру в угол. Она возвышается над нами.
Завсегдатаи, разинув рты и не донеся до них стаканы, хохочут:
— Это что такое? Это кто такой?
— Это «Одиночество». Так что оставьте его в покое!
Они еще пуще веселятся. Основательно набравшийся старик с распухшим носом ласково похлопывает статую по животу и поднимает стакан:
— За одиночество!
Все чокаются и пьют.
Другой пьяница, смуглый и никогда не снимающий берета, отваживается погладить задницу черного дерева.
— За одиночество!
Это быстро входит в привычку. Нередко, собравшись в кабаке своей компанией, мы поднимаем «полные выше краев» стаканы, легонько киваем в сторону идола — и хлоп! «За одиночество!»
Новизна обстановки толкает на смелые эксперименты. Я импровизирую. В самой большой глыбе я сделал чуть кривоватый, как скверная рана, разрез. Затем с большим трудом выпотрошил камень, которому снаружи придал форму грубо проработанного торса. Когда полость стала достаточно большой, я снял мотор со старого грузовика и засунул его внутрь камня, втиснул его туда, словно заржавевшее сердце.
Через рану-щель-вход-в-утробу можно разглядеть даже трубопровод, который теряется в каменной тьме. Странно, что в середину известняка удалось впихнуть столько ржавых железок.
Устанавливаю скульптуру на постаменте из необработанного камня. Хотел бы я знать, что сказал бы Доддс про это сочетание камня с металлом, которое я окрестил «Мотор-бездействие». Не уверен, что ему понравилось бы то, как я засунул изношенную сталь внутрь камня. И все же я чувствую, что дальше буду двигаться в этом направлении.
Жанна ходит вокруг «Мотора-бездействия», с удовольствием запуская обе руки в шершавую щель, ощупывает там, внутри, головки цилиндров и поршни изношенного мотора. Она уже теперь действует как акушерка. Осторожно и решительно. Она, с ее воодушевлением, способна вот так, без предупреждения, произвести на свет посреди моей мастерской каменного младенца! Она обнимает меня. Ее радует завершенность. Иногда она ни с того ни с сего бросается мне на шею. Она просто-напросто счастлива, если ей случается оказаться здесь в ту минуту, когда я перевожу дух и говорю, что закончил, вещь готова, и мы идем отмечать это событие в наш кабачок. Заказываем петуха в красном вине. Я голоден как волк. Когда потрошишь камень, и в брюхе пустота образуется!
Пьяницы, развалины и служащие в серых костюмах, чуть пошатывающиеся после пятого стакана, Жанну обожают. Они немедленно просекли, что эта девушка способна врачевать их горести и осушать хмельные слезы. Ее присутствие их успокаивает. Иногда по вечерам, когда сидящая напротив меня раскрасневшаяся Жанна восхищается петухом в вине или кроликом по-охотничьи, я вижу, как они заговорщически перемигиваются. Хозяйка тем временем наполняет стаканы или возится со счетами, Долорес проносит над головами кружки и дымящиеся тарелки, а «Одиночество», не вынимая рук из карманов, бредет куда-то в одиночку в углу бара, не трогаясь с места.
А когда мои израненные руки после хорошего ужина и нескольких стаканов вина опускаются на гладкие и розовые, но крепкие и выразительные руки Жанны, меня охватывает приятное чувство: не вполне счастье, но мимолетная догадка о возможности согласия, здесь и теперь. С чем? С собой самим? С миром? С жизнью?
И все же я ни в чем не уверен. Я знаю, что меня ждет впереди огромная работа.
Я знаю, что мне потребуется нечеловеческая энергия, чтобы когда-нибудь потом, в очень отдаленном будущем, я смог сказать о куске камня, с которым сражался, как черт с ангелом: «Ну вот, наконец-то, это годится, это именно то, что я хотел сделать!»
Однако рядом с Жанной я мало чем отличаюсь от любого прилипшего к стойке пьянчуги. Я такой же, как все потрепанные парни на свете. Одного ее присутствия достаточно, чтобы я чудесным образом погрузился в мягкий блаженный покой. Временный покой, который перемещается вместе с Жанной. Покой, который она принесла бы мужчинам и в разгаре битвы, среди грязи и шума бедствий этого мира — достаточно ее прохладных рук и колен, созданных для того, чтобы на них покоились раненые головы. Вот так и вышло, что однажды вечером, в ярко освещенном кабачке, перед тем как вернуться в мою усыпанную обломками и погруженную в темноту мастерскую, я, взяв Жанну за руку, неожиданно для самого себя, запинаясь, пробормотал:
— Не уходи сейчас, Жанна. Не бросай меня. Будем вместе. Ты согласна? Что бы ты сказала насчет?.. Как тебе кажется?.. Я просто подумал, что… Понимаешь? Мы с тобой… Но по-другому… более… Ну, понимаешь, Жанна? Понимаешь? Я прошу тебя стать моей женой!
Жанна странно на меня смотрит. Словно с меня, как с лоснящейся луковицы, слезла шелуха отсохшей плоти, и открылось мое заживо ободранное лицо! Она не отвечает, но ее рука крепко-крепко сжимает мою. Ее пухлые пальцы вцепляются в мои затвердевшие ногти, вонзаются в мою линию жизни. Жанна молча улыбается, но я принимаю ее сочное да. Мне этого да вполне достаточно. Достаточно для радости.
Вот так все и вышло. В кабачке, на глазах у пьяниц и «Одиночества». Мне бы надо было сделать предложение другими словами и, главное, намного раньше, без этого нагноения самолюбия и идиотского убеждения — то, чего ждет от меня камень, не позволяет мне быть счастливым.
В моем представлении, Жанна принадлежала всем, а стало быть, я не мог принадлежать ей! У меня годы уйдут на то, чтобы понять: для нее со дня первой моей раны, с той минуты, как моя голова опустилась к ней на колени, я непонятным образом выделился из толпы тех, кому она щедро расточала заботы. Стал тем, кому досталось огромное и неоправданное преимущество быть любимым ею. Если бы я не сделал предложения, Жанна никогда бы ничего мне не сказала. Она умела ждать. И умела не ждать ничего. Умела применяться ко всему, что ни случится.
Так вот, мы с Жанной поженились. Очень скромно. Завсегдатаи в качестве свидетелей, грандиозная выпивка в нашем кабачке и импровизированный ужин на досках, положенных на козлы посреди мастерской, под взглядами незаконченных каменных тварей.
Но что ускорило наш отъезд из Парижа? Не драматическое ли появление Клары после четырех лет молчания?
Клара всегда была мастерицей явлений. Но на этот раз ее внезапное возвращение сопровождалось мерзкими и черными подробностями.
Тревожный зов. Напоминание о том, что зло кружит даже вокруг наших скромных жизней и в мирное время. Напоминание о жестокости, другие следы которой Клара помогла мне распознать в Германии, на берегу Черного озера, между поляной и лесом. О жестокости, неразрывно для меня связанной с аллеей Люксембургского сада.
Все возвращается. Зверь прыгает вам на загривок, потом отгрызает голову.
В то утро я исходил потом и кровью, сражаясь с тварью из камня и металла, которую назвал «Утробой зверя». Огромная глыба бургундского камня, в ширину больше чем в высоту, с острыми краями. Безобразный череп спящего чудовища. Ужасающая улыбка. Улыбка без лица. Бездна, открывающаяся за трещиной. А внутрь я запихал сто килограммов колючей проволоки, утрамбовав ее ломом, сто килограммов ржавчины, раздирающей плоть только что убитого зверя. Обманчивая улыбка, терпение и разрыв. Сколько ни ходи вокруг, всю эту проволоку можно увидеть только с одной точки, под определенным углом, слегка наклонившись и заглянув между складок тучного брюха.
Я как раз собирался засунуть туда еще сколько-то колючей проволоки и тут заметил стоящую рядом Долорес. Она приложила кулак к уху, показывая, что пришла звать меня к телефону. Я бегом рванул через площадь под проливным дождем, боясь услышать дурную весть о Жанне или матери. Хозяйка протянула мне трубку. Из будки мне было видно, как «Одиночество» стоит в своем углу, глядя в засыпанный опилками и окурками пол. Я услышал грубый повелительный голос:
— Мсье Поль? Немедленно идите сюда и займитесь вашей подругой. Ей нехорошо. Она, часом, не иностранка к тому же? Мне-то неприятности ни к чему. В гостинице сказали, что я могу позвонить вам по этому номеру. Теперь, раз уж я вас нашла, идите сюда немедленно! Понятно вам? Я хочу, чтобы через час этой девицы и духу здесь не было! А поскольку сама идти она не может… Я не хочу вляпываться ни в какие истории!
Я нацарапал адрес на страничке блокнота. К счастью, такси долго ждать не пришлось. Его высматривали из-за запотевших стекол кафе. Потом мы бесконечно долго ехали под проливным дождем. Мерно поскрипывали дворники. Я тер одну о другую ладони, по которым струился пот. Город за окнами размылся, почти исчез, светофоры превратились в расплывчатые звезды. Узкая, забитая машинами улица. Темный проход.
Сую шоферу деньги, прошу подождать. Двор залит водой, она хлещет с высоты пяти этажей из дырявых желобов. Маслянисто поблескивают лужи.
Не сразу нахожу металлическую дверь первого этажа, хотя мне ее хорошо описали. Слышу крики где-то наверху. Кто-то ругается на черной лестнице. Хлопает дверь, и снова становится тихо. Внезапно прямо у меня за спиной приоткрывается тяжелая серая створка.
— Это вы? Давайте поживее!
Какая-то разъяренная бабенка, тяжело дыша, хватает меня за рукав и тащит куда-то вглубь. В комнате пахнет стряпней и хлоркой, от низко подвешенной лампы тянутся длинные тени. Почти сразу различаю стол, заставленный склянками, заваленный инструментами и бинтами, и узкий диван, на котором лежит неподвижная Клара с неживым лицом. Губы у нее синие, кожа восковая, руки судорожно прижаты к животу. Между ног зажаты красные от крови полотенца. На полу у ножки дивана таз с мутной водой, в которой плавают еще какие-то тряпки.
Наклоняюсь над ней. Когда я прикасаюсь к ее щеке, Клара открывает глаза, и ее начинает колотить дрожь. В жизни не видел у нее такого лица — изломанного страданием, отвращением и гневом. Она бессильно разлепляет губы, пытаясь объяснить мне то, что я и так уже понял.
— Помогите ей подняться и заберите отсюда! — верещит старуха у меня за спиной. — Мне здесь это ни к чему. Сама виновата, что у нее кровь хлещет. Сама это все наделала, нечего было дрыгаться. Если не знаешь, чего хочешь, нечего было ко мне приходить. Здесь не то место, чтобы ломаться и капризничать! Совсем никакого понятия!
Позже я подумаю, что надо было дать старухе по морде, чтобы она, наконец, замолчала и дала мне спокойно заняться Кларой.
— Деньги я все равно себе оставлю, так-то вот! Не я виновата, что она не дала мне довести дело до конца. А полотенца берите себе, только заплатите мне за них отдельно. И пусть подоткнется покрепче.
Я положил деньги на клеенку. Осторожно приподнял Клару, совсем худенькую и легкую. Раненая зверушка, попавшая в капкан. Но я должен сдержать страх. Должен сдержать ярость. Слышно, как дождь барабанит по стеклам. Клара шатается, задевает низко висящую лампу, лампа крутится, тени пляшут.
Выставив нас за дверь, старуха ворчит вслед:
— Все обойдется. Но вы могли бы, когда этим делом занимаетесь, все-таки думать о последствиях!
Клара цепляется за мою руку. Дождь усиливается. Клары почти нет — тень, полурастаявший дымок.
В такси, которое везет нас в больницу, я не могу удержаться и крепко сжимаю ее колени левой рукой.
— Вам бы лучше «Скорую помощь» вызвать! — спокойно замечает шофер.
Но едет. Он все понимает. Я попросил отвезти нас в больницу Святого Антония, но по парижским улицам все труднее продвигаться.
— Это из-за дождя, — объясняет шофер. — Да еще и манифестации. Совсем застряли.
Подавшись вперед, как будто таким способом могу сдвинуть машину с места, кричу:
— Тогда везите в центральную, туда ближе. Живее!
Шофер, искренне расстроенный, чертыхается и поминутно приподнимает кепку, чтобы почесать голову или вытереть пот со лба. Без толку сигналит, пытаясь проскочить или развернуться. Стекла запотели, я не узнаю улиц, по которым мы пробираемся. Мы оказались в самой середине невидимого сражения. Ночь, световые вспышки, тени толпы, скрежет металла. И кровь, льющаяся из раны, о которой я совсем недавно понятия не имел. Что делать? Клара умрет, думаю я. Панику тоже надо сдержать. Остаюсь наедине с тоской и одиночеством девушки, прижавшейся ко мне, но совершенно недосягаемой, недоступной для любви.
Как я ни настаивал, в службе неотложной помощи больницы мне не разрешили пойти следом за каталкой, на которой увезли съежившуюся дрожащую Клару. Они мгновенно сообразили, что речь идет о неудачном аборте, но с насмешливым презрением называли его «самопроизвольным выкидышем». Я угадывал в них смутное желание отыграться, вялое неодобрение, враждебность, жаждущую наказать за то, что на самом деле преступлением не считается, но остается им в глазах закона. Они будут выхаживать Клару, но сделают это без жалости.
Когда я снова ее увидел, она была одна в маленьком боксе. У нее уже ничего не болело. Кровотечение остановили. Лежа в длинной бесформенной рубашке, она смотрела на меня горестно и покорно. Слабым голосом поблагодарила и ничего объяснять не стала. Потом ожила: за прозрачной синевой ее глаз вспыхнул огонек, крохотный черный объектив нацелился на меня. Клара снова взяла верх надо мной.
— Видишь, Поль, я сразу подумала о тебе. Я толком не знала, как тебя найти, но знала, что ты сразу прибежишь. А пока я тебя ждала там, у этой женщины, я пыталась вспомнить, какое лицо было у тебя на фотографиях, которые я делала. Я тоже меняюсь… Когда-нибудь я тебе расскажу. Никогда не забуду, что ты для меня сделал… Знаешь, теперь все хорошо.
Позади меня появилась медсестра.
— Теперь дайте ей отдохнуть. У нее было несколько разрывов, но ничего серьезного. Довести девушку до того, чтобы она позволила так себя искромсать! Да еще и впустую! Что за несчастье! Тем, кто пишет законы, должно быть стыдно! Пришли бы сюда и посмотрели на то, что мы видим каждый день.
Она мягко взяла Клару за руку, прикрыв глаза, стала считать пульс.
— Ей надо отдохнуть. Сейчас сделаю вливание. А дальше пусть решает доктор. Завтра утром, если у него будет время, если он согласится. Вы знаете, что это означает?
Клара слабо махнула рукой.
— Поль, ты замечательный, только, пожалуйста, сейчас уйди… Ты знаешь, у нас с тобой всегда так.
У меня кружится голова. Пячусь к двери, потом выбегаю из больницы. Теперь мой собственный живот набит колючей проволокой. Я знаю, что в моей открытой всем ветрам мастерской «Утроба зверя» напрягается, урчит или усмехается — она всегда наготове! И почему надо было, чтобы Клара вновь появилась в моей жизни именно сейчас? И сколько раз она еще появится, волнующая и взволнованная, в ближайшие годы, пока я буду день за днем ожесточенно тесать и колоть, стараясь обратить тревогу в камень?
Через день я решаю снова наведаться в больницу. Я хочу знать, что произошло с Кларой. Жанна, которой я все рассказал, настояла, чтобы я взял ее с собой. Я знаю, чего ей это стоило: имя Клары по-прежнему связано со старой раной, с безмолвным унижением, не говоря уж о невнятной связи со мной, из-за которой она решила не страдать. Но Жанна остается Жанной. Она чувствует мое смятение и понимает отчаяние немецкой девушки.
И в приемном покое, и в службе неотложной помощи нам говорят, что Клара выписалась из больницы. Где она — никто не знает.
— Вы ей не родственник. Нам нечего сказать. Считайте, что ничего не произошло.
Нам дают понять, что мы легко можем нарваться на неприятности. Мы с Жанной молча идем к Сене. Я прекрасно знаю, что она сейчас чувствует. Куда мне девать руки? Как остановить кружение мерзких мыслей? У меня в голове орут вопросы: кто отец? Почему Клара позвала на помощь именно меня? Почему она не хотела этого ребенка? И почему она его хотела, несмотря ни на что? Давно ли она живет в Париже, не подавая мне ни малейшего знака?
Жанна идет чуть поодаль, тоже очень одинокая, волосы светятся под большим черным зонтом, она наклоняется над рекой. Я насквозь промок. Мне сейчас надо схватить обеими руками что угодно, любой предмет, скрутить его, поколотить по нему, постепенно довести до изнеможения… Не знаю. Вместо этого я медленно подхожу к Жанне. Заключаю в объятия ее печаль. Крепко обнимаю ее за плечи, за талию, беру ее лицо в свои окаменевшие ладони. И говорю только:
— Давай уедем, Жанна, давай уедем вместе. Куда-нибудь. Подальше отсюда. Ты теперь моя жена. Найдем другое место, другое пространство. Хотя бы попытаемся.
ТРЕЩИНЫ (Триев, весна 1982 года)
Босиком стою на плитках пола, тихий и легкий, как кошачья улыбка. Одиночество, тишина, черный кофе в большой кухне еще прохладного дома. Жду, когда бледный свет окрасит розовым запотевшие стекла, потом — когда первый луч солнца ударит в голую стену, выявив все трещины на ней. Я встал до рассвета. Жанна и дети еще спят.
Открываю дверь и допиваю свою чашку кофе, прислонившись к дверному косяку, повернувшись лицом к великолепному пейзажу Триева. С криком пролетает последняя ночная птица и скрывается за черными деревьями.
Над лугом на склоне поднимается легкая дымка, а деревни в долине еще погружены в остатки ночной синевы. Скоро десять лет, как мы живем в этом большом доме, стоящем там, где заканчивается дорога и начинается лес, выросший на обломках горы Эгюий.
Десять лет прошло с тех пор, как мы с Жанной поженились и перебрались из Парижа в Триев. Филиберт Доддс показал мне это место, расположенное чуть ниже дикого плоскогорья Веркора, где сам по-прежнему живет.
Он не сомневался, что мне понравится эта мирная долина, укромная, неброско изобильная и надежно замкнутая обступившими ее горами, не таящими в себе никакой угрозы.
Чем ближе мы с Жанной подъезжали к этому месту в трещащем и шумящем грузовике, который, распевая во все горло, вел Доддс, тем больше нас пленяли желтые и ярко-зеленые клетки огромной шахматной доски, охристые и темно-коричневые поля, блекло-розовые крыши, теплый серый тон камня. Впереди показались несколько деревень, отстоявших одна от другой на пару километров и скромно примостившихся на невысоких холмах.
Как только я почувствовал уже южную мягкость воздуха, смешанную с чем-то более резким и терпким, как только ощутил особенную тишину, в которой широкие потоки воздуха разносят едва слышные звуки и далекие голоса, как только увидел стремительную прозрачность рек и ручьев, я сказал Доддсу:
— Вот здесь!
— Ты ведь знаешь, здесь же, — подхватил Доддс, — я встретил Жионо. Он сделал своей эту долину — или она его — около 1935 года… Жан подолгу здесь жил, описывал этот пейзаж в своих романах, находя для него удивительные слова. Когда я, лет двадцать назад, с ним познакомился, он уже только наезжал сюда время от времени. Я спускался его навестить. А иногда он сам поднимался взглянуть на мои камни, на моих каменных старых дев. Эту долину он сравнивал с монастырем — забавно, верно? Жионо не обольщался кажущейся приятностью, он видел и скрытые под этой приятностью жестокость, и жажду крови. Ты сам знаешь…
Доддс по-настоящему радовался, показывая мне все это. Он был уверен в том, что на меня подействуют чары странной горы Эгюий. Эта розово-серая каменная глыба воткнута здесь, будто упавшая с неба игла, она, словно остров, возносит свои головокружительно отвесные стенки высотой в две тысячи метров над испарившимся морем. От этой гигантской глыбы известняка, в результате какой-то геологической катастрофы полностью отделившейся от Веркора, веет ископаемой самостоятельностью. Стоит, могучая и загадочная, и мы представляем себе ее ровную, пустую, почти недоступную вершину, рядом с которой — только облака.
Мне захотелось остаться в этих краях не только из-за того, что чуть выше жил Доддс. Меня удержал дух этого места. И вот уже десять лет, как мы живем над мало кому известной долиной Триева, в тени нелепого природного обелиска, под обманчивой защитой слепого дозорного.
И как же нам повезло, что мы так быстро нашли эту замечательно расположенную лачугу! Доддс, которого все здесь знают, уговорил хозяина сдать ее нам. Сказал ему, что я работаю с камнем и сумею подправить дом, а при случае смогу помочь и в деревнях, где взялись восстанавливать часовни, хлебные печи и прачечные. После чего Доддс снова поднялся в Веркор.
Здесь скорость, с которой проживаешь день, определяют облака. Я устроил мастерскую в пристройке к этому несуразному, но не лишенному обаяния дому. Обтесанные камни, оставшиеся от старых стен, лежат вперемешку с глыбами, привезенными из южных карьеров. Ухмыляющиеся лица, искривленные торсы, незаконченные надгробия. Промежуточное состояние камня между формой и бесформенностью. Кажется, моим скульптурам на пользу окружающее их пространство. Им хорошо рядом с осыпями и отложениями. Теперь настал мой черед рассказывать Доддсу о своих намерениях:
— Понимаешь, Фил, мне хотелось бы, чтобы вещь, которую я делаю, вызывала желание «потрогать ее глазами»! Мы с тобой, когда работаем, осязаем камень, трогаем, ощупываем. Наносим ему страшные удары, раскрываем, раскалываем, но иногда и ласкаем, поглаживаем, трем. Тем, кто видит законченное произведение, трогать его ни к чему… Скульптура должна породить новый «тактильный взгляд», новый способ ощущать пустоту и полноту, материю и пространство, поверхность вещей и поток, который струится между вещами. А для того чтобы потрогать глазами, надо отступить, внутри себя отступить. И еще надо уметь смотреть на ходу, перемещаясь — тебе так не кажется? Придумать способ двигаться.
Но Доддса раздражает избыток теоретической болтовни. Он делает самокрутку, закуривает, откинув голову назад, выдувает дым через ноздри. Показывая, что ему на это плевать. Показывая, что все, о чем я говорю, полнейшая чушь… Как-то он мне сказал:
— Скульптурой заниматься и мозги трахать — полностью противоположные вещи!
Хватит об этом.
Так вот, в этом уголке Франции я усердно тружусь вот уже десять лет. Здесь родились наши дети, здесь Жанна все еще день за днем пытается приохотить меня к счастью. Счастью в ее понимании — гладкому и плотному. Без лишних слов и двойного дна. Способности ощущать чудо нашего присутствия в вещественном мире, при свете дня. Чудо детских голосов, тела другого и собственного тела. Чудо дыхания, ходьбы, вкуса, обоняния и ежедневное чудо нового дня. А я каждую ночь испытываю удручающее одиночество, смутное горе оттого, что промахиваюсь, прохожу мимо того, что ищу, словно ослеплен непроглядным туманом.
Каждую ночь, когда прелесть и покой долины растворяются в темной тишине, я явственно слышу, как ворчит и всхрапывает Ужас. Ужас, который спит не так уж глубоко под землей. Ночью и я чувствую ту безликую жестокость, о которой пытался написать Жионо: кровь на снегу, белое безмолвие, преступление, заурядность зла. Здесь, совсем рядом. В полях и деревнях. У источников. В подлесках и на полянах. Сегодня, как и вчера. Я-то не писатель, я не умею писать. Но сколько я ни бью по камню, сколько ни работаю с самыми трудными материалами, остается тайна, мне недоступная.
Может быть, когда-нибудь уцелевшая в катастрофе форма будет существовать настолько прочно, что ни во мне и ни в ком другом нуждаться не станет. Она пойдет сама. Идущая фигура из камня или бронзы. И я смогу уйти. Время будет ее обтекать, и ему довольно будет касаться ее глазами. Как далеко остался мой первый маленький Голем! А пока что я бью без передышки, прислушиваясь к тому, как отзывается на мои удары каждая каменная порода. Мне нравятся камни, осыпавшиеся с горы Эгюий. Нравятся ардешский гранит и экзотические породы дерева. Иногда я работаю с окаменевшей лавой или костью. Мое большое стадо пасется в мастерской — бывшем амбаре рядом с домом. Я, лишенный развлечений мастер и разбойник с большой дороги, действую и созерцаю.
Когда Доддс приезжает меня навестить, я издали слышу трещащий на поворотах мотор его грузовика. Опустевший крюк раскачивается на конце троса. Он приближается. Он уже здесь. Гордо несет мне обломки камня, о котором рассказывал.
— Ты точно что-нибудь из этого сделаешь!
Потом вытаскивает из-под сиденья две бутылки вина.
— Перейдем к серьезным вещам!
Предлагаю ему провести со мной весь день.
Я знаю, что он очень любит Жанну, и знаю, как они умеют наперебой восклицать: «М-м! До чего вкусно!» — уплетая за обе щеки и запивая каждый кусок вином.
— Я сразу обратно, — говорит Доддс, — у меня ужас сколько работы, и потом, я сейчас живу с одной цыпочкой. Совсем желторотая, но миленькая. Ей не нравится, когда я бросаю ее одну среди камней.
Тот же Доддс, разумеется, дал мне возможность в первый раз выставить некоторые мои работы. Затем моими каменными и металлическими созданиями заинтересовались несколько галерей. Муниципалитеты стали заказывать мне памятники. Предприятия и фонды покупали у меня статуи. Я продавал деревянные и бронзовые фигурки.
Я все еще стою неподвижно на пороге нашего дома. Чашка уже не греет мне руки, но мне приятно держать этот толстый фаянсовый сосуд. Я неравнодушен к этим нескольким кубическим сантиметрам благоухающей пустоты. Ограниченной пустоты. Простая белая впадина, чуть отличающаяся от остального пространства. Словом, чашка…
Наконец солнце одним скачком взлетает над горой, осыпая серо-голубую долину золотистыми блестками. Светлые пятна быстро расширяются. Сейчас я не спеша обойду глыбы необработанного камня и уже отшлифованные фигуры, которые ждут меня в мастерской. Думаю, что вполне мог бы все утро ничего не делать, сидеть среди обломков, в пыли и плакать про себя, невозмутимо и с сухими глазами.
Из кухни доносятся голоса Жанны, Камиллы и Эжена, звон посуды, что-то говорит радио. Привычные семейные звуки, образующие внешнюю оболочку мирной жизни. Свет и тишина. Жена и дети. Я знаю, что как только дети проглотят завтрак, они немедленно ворвутся в мастерскую. Еще заспанная Камилла, моя трехлетняя дочка. И Эжен, которому скоро пять: он любит брать мои инструменты, запускать руки в ведра с просеянной глиной или играть с кусочками камня. Обоим детям нравится лепить рядом со мной. Повсюду валяются маленькие рыжие или серые человечки.
У нас троих иногда бывают минуты странного молчаливого сообщничества, когда мы мнем и лепим влажную податливую глину. Наши пальцы трудятся, мы морщимся от усердия, расходуем первобытную энергию детства. Хочется, чтобы из глины родились маленькие изумленные человечки. Чудесные уродцы, которые затвердеют на солнышке, а потом выйдут в жизнь. Рай до грехопадения.
Обычное утро.
Эжена приняли в маленькую деревенскую школу, а Камиллу, когда Жанна на работе, берет к себе одна женщина, знакомит ее с жизнью на ферме.
За десять лет Жанна сильно изменилась. Вернее, раскрылось то, что в ней было заложено. Ей очень мало надо для того, чтобы быть самой собой. Когда мы познакомились, она была медсестрой, теперь стала акушеркой, и ей приходится каждый день ехать на машине за тридцать километров в больницу, где она работает. Я знаю, насколько точны ее движения, но теперь ее руки с упоением, с подлинной страстью принимают рождающихся на свет детей, встречают совсем новенькую, пищащую и великолепную жизнь. Мне хотелось бы создать такую гранитную форму, чтобы рассказать о встрече и чуде прихода в мир. Но миг рождения скульптуре не дается — он от нее ускользает. Так и должно быть. И старый каменотес остается один со своими до полусмерти замученными выродками.
Вскоре я наблюдаю за Жанной, ведущей своих детенышей вниз по склону. Сжатая форма, на которую я смотрю против света, чуть затуманивается. Изваяние любимого трехглавого существа, оно удаляется, оставив меня одного и не подозревая о том, что домом тотчас завладеют старые тени.
Как только жена и дети уходят, я открываю тайный ящик, давно врученный мне черноволосой Пандорой, и оттуда выходят тревога, неуверенность, беспокойство, недовольство, сомнение, разочарование, сожаление, неверие, жестокость — словом, свора мерзких тварей, которые заползают во все щели, устраиваются между челюстями статуй, гнездятся в глазницах. Раненый краб с головой ворона, взгромоздившись на глыбу белого мрамора, издает скрипучий звук и опорожняется чем-то зеленоватым. Ссохшиеся стариковские головы на курьих ножках разбегаются во все стороны и жуют камень, словно хлебный мякиш.
Перепуганный, окруженный ими, подавленный численным превосходством, я только и могу, что бить, дырявить, обтесывать, откалывать крупные куски материи и в то же время молиться о том, чтобы эта материя как можно дольше мне сопротивлялась. Потому что я не хочу ни победы, ни поражения. Осколки ударяются о защитную маску, царапают лоб. Поясницу ломит. Лопатки вот-вот отвалятся, и локоть тоже, и челюсть. Большой палец и запястье болят так, что хоть криком кричи. Я делаюсь одновременно силой и камнем. Я делаюсь точкой удара и ухмыляющейся пустотой. Я ору, но, по крайней мере, пока луплю по камню, меня нет — я исчезаю!
Вечером, когда Жанна и дети возвращаются домой, весь этот зверинец несется к оставшемуся открытым ящику. Совершенно выдохшийся, я захлопываю крышку и успокаиваюсь. Теперь можно смотреть, как наступает ночь, сидя на скамейке рядом с Жанной, которая увлеченно рассказывает мне о событиях сегодняшнего дня. От усталости она пышет жаром. Может быть, энергия младенцев, которых она подхватывает, когда их выталкивает материнское лоно, может быть, красота мелких сморщенных существ переходит в ее плоть, ее щеки, ее голос? Уже совсем темно. Оттого что Жанна рядом, я успокаиваюсь. Мне сейчас хорошо, и я не хочу рассказывать ей о своих сражениях с нечистью в мастерской. И все же иногда вечерами, в недобрый час, Жанна улавливает звериный запах. Это запах моего пота и пыли, пропитавший свитер. В моих глазах она видит след угрозы-медузы. Но окаменеть могу только я!
Жанна говорит, что у меня круги под глазами. И больше ничего. Она расстраивается из-за того, что я могу вот так мгновенно осунуться. Она замечает, что кожа у меня серая и сухая. И тогда она льнет своей усталостью к моей. Своей живительной усталостью прижимается к моему бессилию ваятеля пустоты. Совершенно опорожненного.
Жду мгновения, когда смогу еще раз — надолго ли? — положить голову на ее колени и почувствовать, как точно вписывается мой лоб в ее прохладную ладонь.
С некоторых пор мне случается уловить и ревнивое раздражение Жанны. Она терпеть не может эти гложущие меня вопросы! Она молчит. Защищается от злобной Германии, которая и сюда сумела пробраться. От смутной беспокойной Германии, которая колышется, не приближаясь к самому дому, в подлесках, в горных провалах, на тихих тропинках, на унылой каменной вершине горы Эгюий, там, на самом верху, выше зацепившейся за гору тяжелой тучи. Жанна борется тогда с тем, что я могу назвать ее «ненавистью к скульптуре», которая сливается с моей собственной «ненавистью к скульптуре». Ее ожесточение и моя усталость смешиваются и образуют холодный шар, все больше разрастающийся, пока мы катаем его по толстому слою невысказанного.
Я иду работать дальше над монументальной группой из трех неразделимых персонажей, я назвал ее «Смех людоеда». В глыбе, покрытой складками, словно кора или слоновья кожа, угадывается тело осевшего, припавшего к земле могучего существа, словно бы прижимающего к животу две детские фигурки с гладкими, неглядящими и молчащими лицами. Кажется, будто изборожденный рытвинами камень поглощает и уничтожает отполированный. А теперь я прорубаю в бесформенном зернистом черепе, возвышающемся над детскими головками, трещину безумного смеха. Щель еще недостаточно выдолблена, недостаточно широка и глубока. Я вгрызаюсь инструментами в глубины породы. В душевные и утробные глубины. Чудовище должно хохотать так сильно, так глубоко, так долго, чтобы камень раскололся!
Вот над этим людоедским смехом я и тружусь, над этим ненасытным голодом и этой жестокостью. Чем глубже вхожу в камень, тем громче он смеется! Чем ожесточеннее на него нападаю, тем больше он насмехается над ранами, которые я ему наношу. Я не справляюсь с этой скульптурой. Она сама меня поглощает, душит меня…
Призрак Клары, затаившийся в темном углу мастерской, смотрит, как я выбиваюсь из сил. Равнодушная тень, старающаяся притвориться незаконченной статуей. Потому что «Смех людоеда» — очень старая сказка, я уже и не знаю, Клара ли мне рассказала ее в Кельштайне, или мне самому пригрезилась история об уснувшем чудовище, задушенных детях и прекрасной девушке, которая, сидя у источника, начала ужасным образом стареть оттого, что разглядела сквозь свой кристалл тайну жизни.
Призрак Клары наблюдает без малейшей улыбки, как я бью по негодующему камню.
Я явственно слышу странный треск, слишком высокий звук, ничего хорошего не предвещающий. Я понимаю, что камень пошел трещинами, трещины ветвятся, скоро он расколется, разломится. Но мои руки охвачены яростным желанием с этим покончить. Я еще больше расширяю и углубляю разинутую пасть глупости. Я предельно жесток, потому что эта глупость — моя собственная.
Из окаменевшего родника, у которого сидит призрак Клары, течет тонкая струйка времени, тонкая струйка гипсовой пыли. Все, хватит!
Должно быть, Клара, от которой десять лет не было никаких вестей, не могла не появиться снова. В последний раз, когда я ее видел, в тот страшный дождливый день, это была истекающая кровью зверушка. Потом, в больнице, — ее умиротворенное лицо, залеченная рана, внезапное желание остаться одной. А назавтра — бесследное исчезновение. Несколько дней спустя я получил от нее безмятежное письмо, оно притворялось прощальным, но в нем несколько раз повторялось слово «загадка». К письму Клара приложила сделанную в Париже фотографию: двое детей, распластавшись, лежат в сточной канавке, уткнувшись лицом в тротуар, безнадежно тянутся руками к чему-то в глубине зияющего черного люка, словно пытаются выловить оттуда мяч или шарики. Десять лет спустя Клара снова объявилась с фотографиями — фотографиями, которые я увидел случайно, в доме Доддса, и не знаю, было ли это колдовством или недоброй иронией!
Как-то днем, когда работать было невозможно из-за дождя и недостатка света, я решил навестить Фила. Двери нараспашку, на столе гора посуды, остатки еды, бутылки и погасший огонь. Дом, притворившийся пустым. За окнами — завеса дождя и липкий, застоявшийся туман. Я покричал. Постучал по бутылкам ножом. На верхней площадке лестницы появилась сонная растрепанная девица. Совсем молоденькая и совершенно заспанная. Должно быть, очередная «цыпочка». Босая, с голыми ляжками, в старом свитере Доддса. Цыпочка дала мне понять, что Фила в доме нет, но он где-то поблизости.
Я и самом деле нашел его на огромном лугу, где он расставил свои творения. Насквозь промокший, очень возбужденный, шапка сползает с головы, как осьминог, во рту раскисший желтый окурок, жует его и носится под проливным дождем между недавно обтесанными глыбами, что-то вымеряя рулеткой. Ругается, ворчит, мечется, потом резко останавливается.
— Я ищу идеальное расстояние! Это каменная группа! Десять сантиметров лишних — и камни разбрелись. Десяти сантиметров недостает — и это становится похоже на гнусный заговор! Надо найти верное расстояние с учетом их размеров, изгибов, их чертова внутреннего монолога, их задних мыслей. Сложно, Поль! Очень сложно!
Я решил, что лучше оставить его кипеть и громыхать под ливнем, а сам вернулся в дом. Сейчас разложу огонь, хотя бы для того, чтобы согреть уснувшую в кресле девицу.
Когда поленья, потрескивая, занялись и разгорелись, я плюхнулся в другое кресло и стал ждать Доддса.
Вот тогда-то, рассеянно листая подобранные с пола журналы, я и увидел лицо Клары! Маленькая черно-белая фотография в недавнем номере «Paris-Match». Под рубрикой «Матч жизни» или «Жизнь людей».
Не могу оторваться от этой черной головы, умного, насмешливого и серьезного лица. Так, значит, призрак из моей мастерской не оставил меня в покое! Он невидимо следовал за мной по петляющей дороге Веркора. Снимок очень маленький, плохой, и взгляд светлых Клариных глаз на нем кажется пустым, отсутствующим. Читаю статью:
«Молодая француженка-фотограф, Клара Лафонтен, стала героиней номера американского журнала „Newsweek“ после состоявшейся только что в Нью-Йорке выставки ее впечатляющих снимков ветеранов вьетнамской войны. Лица даны крупным планом. Клара просила этих людей, хранящих глубоко в себе память о страданиях, смерти и поражении, крепко-крепко закрывать или широко раскрывать глаза. Ряды снимков превращаются в страшный прерывистый фильм. Ужас и отвращение словно написаны на поверхности кожи, залегли в складках, порах, морщинах, шрамах. Сквозь плоть, ставшую прозрачной, смутно видится правда войны, кошмар, который довелось пережить этим людям и о котором они не могут рассказать».
Статья проиллюстрирована несколькими фотографиями. Плоть еще молодых лиц выступает за рамки кадра. Вялые сморщенные веки, кажется, тщетно стараются удержать хлынувшие потоком мучительные видения. На следующем снимке тот же человек непомерно распахнул глаза, зрачки расширены, сосуды полопались. Открытые глаза, закрытые глаза. Жестокий ток струится в этих взглядах, жестокая сила выскребает их до костей, опустошает, превращая глазницы в пыльные иллюминаторы вертолета, затерянного в горящих джунглях.
За влажной мякотью губ угадываются стучащие зубы. Угадываются ловушки, заостренные колья, пытки. Крупным планом — воспаленная плоть бывших солдат. Несомненно, Кларе Лафонтен, которую «Paris-Match» почему-то представляет француженкой, удалось поймать ужас, который и сейчас, семь лет спустя, сохранился в неприкосновенности. Для этих молодых парней, которых кельштайнская девушка в черном выследила в самых глухих закоулках Америки, ничто еще не закончилось.
Некоторое время сижу оглушенный. Как можно разумным способом объяснить то обстоятельство, что из сотен валявшихся на полу статей я безошибочно выхватил эту? У меня ведь был выбор. У меня, укрывшегося в крепости Веркора, вдали от сражений, была полная возможность проскочить на бешеной скорости кучу репортажей: изувеченные тела палестинских детей, женщин и стариков, убитых христианскими частями в двух лагерях беженцев в Ливане… Сотни польских забастовщиков, арестованных, раненых и убитых армией, только что объявившей о «военном положении»… И прекрасное лицо Роми Шнайдер, проигравшей невидимую войну, которую она вела в одиночку против отчаяния при помощи алкоголя и снотворных (а потом я прочту в заметке, сообщавшей о смерти актрисы, что ее мать звали Магдой!).
Когда Доддс, с которого ручьями течет вода, вваливается в комнату, он слишком возбужден для того, чтобы заметить мой странный вид.
— Видишь ли, мальчик мой, — кричит он, выкручивая над огнем свою шапчонку, — правильное расстояние между существами определить так же трудно, как правильный момент, когда надо что-то сделать. Самый лучший момент! Ты знаешь, что у наших приятелей греков было для этого особое слово?
— Ты мне его уже двадцать раз повторял. Но для тебя это греческое слово слишком уж роскошное! Мне больше нравится, когда ты говоришь «тютелька в тютельку»!
— Иди на фиг, — отвечает Доддс, по-собачьи отряхиваясь перед огнем.
Потом подходит к девушке и ласково ее расталкивает.
— А ты иди, трусики надень, не то за попку ущипну.
У меня пропало всякое желание проводить с ними вечер. Лучше похожу среди тумана и дождя по пустой дороге. Дождусь мгновения, когда сырость и чернота примешаются к запустению, образовав едкую субстанцию, которая с содроганием будет впиваться в плоть и облеплять скелет. Пройду через Вирье. Посмотрю через застекленную дверь кафе напротив кладбища, как выпивохи и болтуны плавают в желтых водах этого подвешенного в темноте аквариума. От сваленных в кучу тел на памятнике не исходит ни малейшего шума. От мертвых на кладбище — тоже, как и от давних привидений, стоящих у дверей амбаров. И как бы быстро я ни шел, призрак, с некоторых пор упрямо следующий за мной, будет семенить позади, верный и непримиримый. Я знаю, что статья о Кларе — предвестник новых ее появлений. Я насторожился.
Уже на пороге Доддс спрашивает, смогу ли я подготовить работы к выставке, которую он устраивает в парке маленького замка в парижском пригороде. Я бы должен радоваться возможности расставить и показать несколько своих статуй. Но меня охватывает беспокойство. Обычно мне достаточно несколько часов быстро ходить, тесать, полировать, резать или пилить сопротивляющийся материал, чтобы сдавливающий мне горло и грудь, застрявший огромной конфетой комок растаял. Но сейчас он не тает, сколько ни хожу.
Выставка открылась. Беспокойство меня не оставляет. Здесь есть работы и других художников. Доддс рядом. Он помог мне найти то, что называет правильным расстоянием между каменными изваяниями, выставленными на большом лугу рядом с маленьким розовым замком. Эта опереточная декорация резко контрастирует с ископаемыми формами, с прибывшими из Веркора инопланетянами. Завтра гуляющие обнаружат, что парк захвачен всеми этими персонажами, а я в первый вечер, когда начинает темнеть, чувствую себя раздавленным, я не справляюсь с собственными творениями, несмотря на то что мне знакомы каждый их изгиб и каждая трещинка. Там, у подножия горы Эгюий, они не выглядели такими огромными. Но я ощущаю в них ярость, идущую, как мне теперь кажется, не от меня. Немые, оскорбленные — я понимаю, что ко мне они относятся враждебнее, чем к кому бы то ни было. Чужие! Ледяные и жестокие.
Я привез на эту выставку новый вариант «Утробы зверя», с вдавленными в нее килограммами колючей проволоки.
Есть здесь «Казнь без суда и следствия»: группа из двух замученных пытками, высеченная из грубо обтесанного гранита. Один почти упал, а у другого, похоже, колени подгибаются, он оседает, срастается с камнем, который, в свою очередь, сливается с землей. Вокруг их исхудавших рук железные наручники, тяжеленные кольца, плотно обхватившие камень.
Есть еще «Усталость Атланта»: измученный, состарившийся, почти бесформенный, он больше не в силах держать мир на своих плечах и тихо клонится под грузом, но этот груз — не что иное, как его собственная голова, выдолбленная каменная глыба, заполненная потеками бронзы.
Здесь можно увидеть еще одно из моих многочисленных «Одиночеств», голова у него опущена, руки зябко прячутся в карманах, расположенных у щиколоток.
И моего «Святого Себастьяна», вернее, его торс. Его тело не утыкано стрелами: стальные стрелы торчат из его груди и живота, угрожают нам, и кажется, будто эти стрелы выдирают куски материи, плоти и потрохов.
Наконец первый вариант «Смеха людоеда» из твердого известняка, который с годами белеет. Между руками и складками на брюхе этого чудовища с телом, похожим на кору старого дерева, поблескивают две маленькие гладкие головки.
Медленно прохожу между озлобленными громадами. Замок из розового стал серым, в нем засветились окна. Жду, когда начнется колдовство.
В день, когда посетителей особенно много, я брожу, засунув руки в карманы и опустив голову, среди своих статуй, которые под тысячами одинаковых взглядов в конце концов покрылись слоем незначительности, ничтожности. И теперь я уже радуюсь, когда дети виснут на ногах Атланта, женские пальцы поглаживают шершавый, бугристый торс, руки погружаются в расщелины, полные ржавчины и шипов.
Доддс пошел в ближайшее кафе встречаться с друзьями.
Внезапно мне на плечо опускается крепкая рука. Не спеша оборачиваюсь.
— Марло? Давненько мы, а?..
Макс Кунц! С тех пор как я видел его в последний раз, прошло восемнадцать лет, но разве можно его не узнать? Все тот же шишковатый бритый череп. Те же горящие глаза. Та же сильная рука, которой он крутил в пустоте, когда говорил о философии, а теперь протягивает мне. Он поздравляет меня. Вспоминает, что называл меня «рисовальщиком». Говорит, что ему случайно попалось на глаза объявление об этой выставке, и он нарочно пришел, чтобы со мной встретиться.
Макс Кунц! Как ему удалось так почти не измениться? Возраст читается легко — ему пятьдесят с чем-то. Но его голос, телосложение, манера одеваться — те же самые. И, когда он начинает говорить о моих скульптурах, я будто слышу его прежние речи из глубин старого кожаного кресла: «Да, каждый человек — всего лишь давний неуловимый вопрос, вокруг которого крутится вся его жизнь, тайна… Впрочем, без тайны нет и любви!»
Странно, но я действительно рад его приходу. Он принес с собой в это странное место свет прошлого, и еще я уверен, что продолжение истории узнаю от него! Потому что с того давнего вечера, когда мы с Максимом привели к нему Клару, я догадывался о связи, существующей между девушкой в черном и загадочным Господином К. С первых минут я предчувствовал то, что произойдет между этими людьми. Этими двумя в черных водолазках…
Стало быть, Кунц — второе предзнаменование, более ясное и более подчеркнутое, чего-то мне неизвестного, но, несомненно, связанного с Кларой.
Мы сидим рядом под «Смехом людоеда». Он — прямой человек, боец-философ, отшельник из южного пригорода, антинаставник.
— Вы ведь давно уехали, — говорит мне Кунц. — Вы, кажется, женаты, и у вас есть дети… О ваших работах начинают говорить. Я их знаю. В них есть мощь. Стиль. Несколько пугающая притягательность. Главное — не то, что они изображают, но те невидимые силы, на которые они указывают, потоки, которые они выявляют, и все это в пространстве, в отсутствии. Я рад, что увидел их собранными вместе.
— Когда я смотрю на них в этом парке, — говорю я ему, — я уже не чувствую никакой связи с ними.
— Понимаю. Это обещание новых творений! Они вышли из ваших рук для того, чтобы ими завладели наши взгляды. Мы ведь с вами никогда не оставались наедине, правда? Думаю, вам очень хочется поговорить о Кларе.
Я ждал лобового наступления, но у меня на несколько секунд перехватило дыхание. Кунц продолжает, не дожидаясь моего ответа:
— Я сам получаю от нее известия очень нерегулярно. Она много путешествует. На месте не задерживается. Вы, наверное, знаете, что ее фотографии очень ценятся. Их печатают в журналах. Английское агентство частично финансирует ее очень своеобразные репортажи, которые она делает совершенно независимо.
— Почему «очень своеобразные»?
— После того как были опубликованы крупные планы вьетнамских ветеранов, удивительные фотографии, которые лучше многих привычных снимков показывают войну, Клара делает только портреты солдат, воинов, но теперь — во время сражения. Она отправляется на место действия. Туда, где убивают, туда, где умирают. В наше время выбор у нее богатый!
— Клара часто подвергает себя опасности?
— Это еще очень мягко сказано. Она рискует. Под плотью и кожей лиц она высматривает признаки страха, признаки жестокости. Она выслеживает абсурд. Видимую ужимку Зла. Она нацеливает свой объектив — до чего странное слово, если вдуматься… — на лица людей, которые сейчас будут убивать или будут убиты. Она ищет. Она видит. Но в глубине души я считаю, что она не видит ровно ничего!
— Мы не встречались с Кларой десять лет. В последний раз это произошло при очень тяжелых обстоятельствах. Где она сейчас?
— Понятия не имею, дорогой Марло!
Я чувствую плечом плечо Кунца. Поворачиваюсь к нему. И вижу, как на поверхность его сурового лица, обычно смягченного светом понимания, выплескивается сероватая пена, его захлестывает вал безутешной печали. Кунц страшно напрягается, стараясь сдержать эту волну, и от этого становится безобразным. Отталкивающим. Тоскливо хрустит пальцами. Но против такой печали бессильны мускулы и челюсти.
— Когда она приезжает к нам — значит, она выбилась из сил. Она возвращается, потому что катушки с пленкой становятся тяжелыми, как булыжники, и тянут ее на илистое дно. К счастью, до сих пор ей удавалось справляться. Не думайте, будто она нам хоть что-то рассказывает. Но, мне кажется, только оттого, что она снова нас видит, она немного успокаивается…
— «Нас»?
— Я — отец ее дочери. А вы не знали, Марло? Ариана живет со мной. Когда Клара уезжает, мы говорим о ней, глядя на карты, листая атласы… Нам кажется, будто мы можем проследить ее путь.
Мой затылок трется о шероховатые складки известняка. Меня душат руки «Людоеда». Твердые и прямые слова Господина К. превращают меня в таракана. Я машу черными лапками, а вокруг нас, в опустевшем парке, мои статуи словно растут в темноте.
В течение двух часов Кунц выдавал мне обрывки жизни Клары. Десяти лет ее жизни, которую я теперь, в свою очередь, стараюсь себе представить…
Все случилось как будто вчера. Помню, как мы спешно добирались до больницы. Лил дождь. Помню красные от крови полотенца. Клара знала, что подпольный аборт оказался неудачным. А врачи и медсестры отделения неотложной помощи свою заботу приправили изрядной дозой унижения. Вот так это происходило в те времена. На следующий день Клара сбежала, не дожидаясь возможного выскабливания. Она поселилась в убогой гостинице около Северного вокзала и три дня оттуда не выходила. Лежала, прислушиваясь к ноющей ране в животе, зажав руки между ног, даже не зная, вынашивает ли еще в себе жизнь. Затерявшаяся между телом и декором, испытывающая омерзение к собственным внутренностям.
На третий день она собралась с силами и отправилась к Кунцу. Попросту сообщила ему, что ждала от него ребенка, что сделала все возможное для того, чтобы не… ну то есть для… что она справилась сама… Кунц сел рядом с ней. Просунул руку под шаль, в которую она куталась, и с бесконечной нежностью погладил загадочный живот. Потом, оставив уснувшую руку там, в тепле, посмотрел Кларе в глаза, погрузился в их синеву, и непонятно было, о чем он думает. Наконец улыбнулся. Огромной и мужественной улыбкой, которая словно выросла шире лица, протянулась за окно, затерялась среди облаков. А когда он встал, Клара впервые увидела, каким быстрым и решительным он умел быть. Он отдал какие-то распоряжения Диотиме, и через час в доме был врач, его друг. Кунц совершенно преобразился.
До сих пор Клара была его молоденькой подружкой, чью свободу и причуды он уважал, девушкой, которая то и дело исчезала и появлялась вновь, внезапно срывалась с места, чтобы наведаться в Кельштайн или куда-нибудь еще, а потом снова жила в его доме. Но с той минуты, как Клара объявила ему о своей беременности, Кунц взял над ней неумолимую власть, и та чудесным образом подчинилась. Он стал на удивление предупредительным, всегда был к ее услугам, но в том, что касалось здоровья, удобств и душевного равновесия Клары, был непреклонен.
Клара ела то, что готовила Диотима по своим рецептам: в ее стране считалось, что от такой еды у женщины после родов прибывает молоко. Подобно неисправимым пьяницам, на некоторое время убедившим себя, что им нравится только чистая вода, или помешанным шахматистам, ненадолго уверовавшим, будто они могут жить без доски и фигур, Клара с горечью пыталась отказаться от наполнявших ее тревоги и свободы. Она выходила на прогулки, часто с Диотимой, фотографировала какие-нибудь безобидные мелочи, рано возвращалась домой, глотала без разбору книги Кунца и ждала. Кунц теперь реже звал к себе учеников и больше времени проводил с ней.
Родилась девочка. Кунц признал ее, дал ей свое имя. Это он предложил назвать ее Арианой, и Клара согласилась.
— Мне нравится, и я думаю, папе тоже понравится…
Кунц почувствовал, что она согласилась бы на любое имя. Стало быть — Ариана!
Почти два года Клара играла роль молодой матери, и Диотима даже иногда улавливала, поглядывая на нее, порывы искренней радости и подлинно материнских чувств.
Однажды утром, когда малышка Ариана прыгала на коленях у Диотимы, которая надышаться на нее не могла, а Кунц молча читал газету, Клара внезапно появилась в тесной кухне. Рефлекс зверя, встревоженного угрожающим треском. Очень бледная, тоненькая, вся в черном, она прислонилась к гудевшему в тишине холодильнику и ясным, звонким голосом произнесла:
— Мне надо уехать. Я уеду. Вам хорошо вместе. А я задыхаюсь. Диотима заботится об Ариане лучше, чем я. Мне надо отсюда выбраться, оторваться от всего этого. Понимаете вы? Ты понимаешь? Уехать…
Кунц медленно опустил газету и, прищурившись, сжав губы, посмотрел на нее. Диотима подхватила девочку на руки и унесла.
— Макс, ты же знаешь, ты меня знаешь, — продолжала Клара. — Иногда этот заброшенный сад держит меня в заточении крепче, чем розовые кусты, обступившие мою мать, караулят ее.
Клара уже давно не была в Германии, но знала, что душевное здоровье ее матери расстроилось еще больше, и отец почти не ходит к больным.
Клара сказала Кунцу, что ее сумка сложена уже не первый день. Немного белья, две первые подаренные Кунцем книги, два фотоаппарата и портреты Арианы в младенчестве. Ни одна черточка в лице Кунца не дрогнула.
Он подошел к Кларе, обхватил ее за талию.
— Уезжай скорее, Клара, теперь не медли. Ты знаешь, что я позабочусь об Ариане. Не забывай ее. Мы часто будем говорить о тебе. Возвращайся, когда захочешь. Ты прекрасно держалась. Я давно приготовился к твоему отъезду. Я ждал этой минуты. Она настала. Вот и все! Думаю, ты уже знаешь, куда собираешься уехать? Поцелуй меня. Поцелуй Ариану. Поцелуй нас — и уходи скорее.
После ухода Клары Кунц еще долго стоял в кухне, глядя на спутанную листву, сквозь которую сочился тоскливый свет.
— Признаюсь, — скажет мне еще Макс Кунц, — я отчасти предполагал, что она отправится к вам, Марло. Но меня это не интересовало. Я перестал об этом думать.
На самом деле Клара толком не знала, куда едет. После рождения Арианы отец прислал ей крупную сумму денег. Сначала она беспорядочно покаталась по Европе. Потом вернулась в Германию, кое-что проверить. Города и деревни. Заново покрашенные декорации. Тонкий слой Америки, положенный на фольклор и постоянное стремление к пользе, правильности и забвению. Некоторое время она прожила в Голландии, потом, поддавшись внезапному желанию, охватившему ее у витрины туристического агентства, купила билет со скидкой и улетела в Соединенные Штаты.
В Нью-Йорке она познакомилась с Вейном. Он то часами молчал, то разражался долгими бессвязными и яростными тирадами, без умолку говорил про Вьетнам, где провел три года. У него, потерянного, пьяного, накачанного наркотиками, война сочилась из всех пор. Он большей частью сидел или лежал, и его солдатские мускулы заплыли жиром. Его не отпускали кошмары, и он просыпался, визжа, как свинья, которую собираются резать.
Клара оставалась с ним из-за этих ночных криков и этих страшных видений. Она не старалась его успокоить, поддержать. Напротив. Она и пальцем не шевелила, когда Вейн, сидя на подоконнике, обкурившийся в хлам, смотрел в пустоту и веселился, увидев проезжающую мимо «Скорую помощь» или полицейский фургон. Она тоже курила марихуану, но в этой обветшалой квартире, которую делила с Вейном, она оставалась не для того — она ждала минуты, когда Вейн, отупевший от наркотиков, оглушенный дешевым виски и измученный бездельем, крепко уснет. Тогда Клара наставляла на него фотоаппарат. Она подстерегала первый кошмар, который не заставлял себя ждать, потом следующий. Молодой ветеран вопил. Она ничего не понимала. Она садилась на него верхом. Он был слишком слаб для того, чтобы ее сбросить, и теперь она расстреливала его в упор. Лицо проигравшего. Непомерно расширенные глаза. Закрытые глаза. Клара наводила свой аппарат на побежденного солдата. Снимок за снимком. Она становилась врагом-призраком, десантником, вынырнувшим из непролазных зарослей. Она ловила оскал страха, испуганный взгляд. А на рассвете, когда ее фотографии плавали в проявителе, у нее колотилось сердце. Дрожь чистейшего разочарования.
Через Вейна Клара познакомилась с другими проигравшими войну солдатами. «Мы не побежденные, — упирались они. — Нас никто не победил, и никто нас не победит! Это блядские политики и дерьмовые пацифисты проигрывают войны, понимаешь, а не те, кто идет на эту блядскую войну, понимаешь…» Но когда Клара сухо приказывала закрыть глаза или раскрыть пошире, они слушались ее, как большие младенцы. Они исполняли приказы, лежа, как собаки, или стоя на фоне кирпичной стены. Но с ними было покончено, они были приговорены, убиты чем-то более изощренным, чем смерть.
Вот так и случилось, что немочка из Кельштайна, так давно занимавшаяся фотографией, опубликовала более страшные фотографии войны, чем многие американские фотографы. Она была настроена решительно. Сама ни перед кем не робела, но на других производила впечатление. Она тенью проскальзывала куда угодно. У нее были способности к языкам. Она умела показать свои фотографии, продать их, опубликовать, обратить на себя внимание.
Перед тем как отправиться в новые странствия, она несколько раз приезжала во Францию, к Ариане и Кунцу, которые ни о чем ее не спрашивали.
К тому времени, как мы с Кунцем поднялись, у нас все тело затекло. Я машинально провожу ладонью по поверхности обтесанного камня, полированного идола. Мы молчим. Прохаживаемся среди скульптур.
Внезапно Кунц останавливается и поворачивается ко мне. Искренне протягивает руку.
— Вы знаете, где меня найти, Марло! Я на прежнем месте. Занимаюсь малышкой. Написал несколько книг. Ученики меняются, я тоже. Философия дает мне возможность как-то оценивать изменения. До скорого!
Я смотрю ему вслед. Он быстро удаляется, подходит к даме с девочкой лет десяти, которые ждут его у маленького замка. Заходящее солнце слепит глаза, все расплывается, но я вижу, как девочка бежит к Кунцу, тот опускается на колени, на лету ее подхватывает и уходит, некоторое время не спуская ее с рук.
«Людоед» за моей спиной перестал смеяться, он щиплет травку на газоне и молча ее жует.
ЛИСИЧКА (Триев, лето 1987 года)
По утрам Жанна, если ей не надо на работу, около десяти часов приходит ко мне в мастерскую с кофе, письмами и газетами, оставляет все это на верстаке. Тянусь к ней, чтобы поцеловать. Я работаю над макетом битвы не на жизнь, а на смерть между двумя группами отрубленных рук — одни костлявые, другие мускулистые.
Стряхиваю пыль с рукавов, откладываю рифлуар и рашпиль, стаскиваю кожаные перчатки, мы пьем кофе и разговариваем. Жанна, играя, всовывает свои руки между гипсовыми.
Солнце уже высоко, но в моей пещере еще довольно прохладно. Просматриваю приглашения и письма. Мне часто приходится ездить то на выставки, то для работы над заказами. С некоторых пор мы получаем восторженные открытки от моей матери из Мексики или Египта, словом, она ездит по свету вместе с человеком, с которым почти двадцать лет назад начала новую жизнь.
К этому времени я приобрел некоторую известность. Со мной работают две галереи. Я несколько раз получал премии на салонах и биеннале. Ценители начинают покупать мои скульптуры. В узком кругу некоторые вполне способны сказать: «Это работа Марло!» Но для меня одобрение публики никак не сопоставимо с трудом в одиночестве, с неудачами и отчаянием в мастерской, в трюме, на дне.
И все же я признателен тем, кто ценит мои тяжеловесные творения из обтесанного камня, когда многие современные художники делают, возможно, куда более интересные вещи из легких недолговечных материалов. Картон, пластик, стекло, алюминий. Клей, пайка. Непрочные, обреченные на скорую гибель инсталляции. Предельная и окончательная бедность, более радикальная, чем примитивная, но, пожалуй, вызывающая нищета моих камней. Камень и бронза. Необработанный мрамор и железный лом. Я продолжаю рыть и выдалбливать глыбы, выбирать объем, лить металл. Пан или пропал — выдержит или разобьется. Исправить ничего нельзя.
Моя небольшая известность пришла с годами. Я работаю без малого двадцать лет, с той же энергией, той же силой. Однако мне уже не удается ощутить тот ток чистейшего воздуха, который появлялся, когда я воинственно набрасывался на камень или ласкал его. Может, дело в возрасте? Сорок лет — возраст, когда подвергаешься совершенно особенной изоляции, но ни с кем не можешь об этом поговорить. Странное заточение на середине пути. Ты еще в полном расцвете сил, но тебя внезапно отстраняют от молодости, тебе навсегда закрыт туда доступ, а до старости еще далеко. И ты, погрузившись в непредставимое одиночество, вынужден с увлечением участвовать в житейских делах, ты обречен работать всерьез и с пользой, вместе с женой и детьми втянут в выживание.
Но ведь именно в этом заурядном возрасте закрадываются сомнения. Именно в этом возрасте постыдное отсутствие убежденности сначала просачивается во взгляде, потом проявляется в жестах и, наконец, в решениях. Многие мужчины, пробыв некоторое время в таком «карантине», выбираются оттуда, схитрив. Громкие слова и хвастовство. Но случаются и разрывы. Большей частью — внутренние и беззвучные.
У работы с камнем то преимущество, что благодаря ей я очень рано вступил в отношения с «безвозрастным», с Незапамятным. Вот потому мои крохотные удачи не имеют никакого значения. Тревога не уходит. Неуверенность.
И все же прошли годы. Наши дети еще не выросли, но ясно вижу, что детство все быстрее исчезает из них. Жанна уже вывела на свет столько младенцев, что иногда, проснувшись среди ночи, рассказывает мне свой кошмар, в котором бесконечно извлекает из огромной трубки непомерно вытянутого и мягкого новорожденного, выдавливает его, словно розовую зубную пасту из тюбика. Я тоже боюсь увязнуть. Мне снятся камни, липкие и расползающиеся. Я не иду на уступки, но все больше и больше повинуюсь какому-то внутреннему автоматическому приказу. По прошествии некоторого времени умение стерилизует. Принимаешься тосковать о пробах и ошибках начинающих и самоучек.
Обтесывание камня — физическая работа! И тело начинает посреди этой работы сурово напоминать о себе. Растяжения связок. Воспаление сухожилий. А камень, разумеется, по-прежнему невозмутимый и торжествующий. Почему я должен все время балансировать на проволоке между счастьем и тайным недовольством? Между доверием и тревогой? Между поляной и темными лесами?
Прикасаюсь к нежному телу Жанны. Великолепие зрелости, сияющая плоть. Способность к счастью.
Когда я вижу, как она бодро хлопочет около дома в своем ситцевом платье и красных резиновых сапогах, с распущенными волосами, пленительным движением запястья откинутыми назад, у меня слезы выступают на глаза. Слезы благодарности. Смотрю, как она разговаривает с детьми, которые играют на солнышке. Я не слышу, что она говорит. Я по другую сторону стекла, в обществе каменных и гипсовых монстров. Я тоже окаменел. Поневоле обратился в камень!
Жанна, с чашкой в руке, прислоняется ко мне. Свет. Мирная пауза. Сегодня с утренней почтой пришло письмо от Клары. Она пятнадцать лет мне не писала, но я мгновенно узнаю ее когтистые буквы, ее черные чернила. Ее особенный способ выводить первую букву моего имени. Бледно-желтый конверт необычного размера. Марка иорданская. Я уверен, мой теперешний адрес ей дал Макс Кунц после нашей короткой встречи в парке со статуями. Но не все ли равно! В таком случае — Клара выждала еще пять лет, прежде чем дать о себе знать.
Да я особенно и не хотел, чтобы она мне писала, пусть даже мне случалось о ней думать, когда я видел некоторые ее фотографии. Я несколько раз слышал о ней, но не воспринимал ни написание ее имени, ни появление ее лица в каком-нибудь журнале как знаки чего бы то ни было, хотя некоторые снимки меня волновали.
Этот толстый конверт не доставил мне ни малейшего удовольствия. Я оттягиваю момент, когда взрежу его ножницами, и предпочитаю для начала пролистать газеты. Жанна замечает это, но молчит. В новостях, вот так доходящих до нас в середине лета, есть что-то абсурдное. Только что, читаю я, 10 июля этого года, родился пятимиллиардный житель планеты! А эта ужасная история нас с Жанной смешит: в Аргентине воры вскрыли могилу экс-президента Перона, где покоилось его забальзамированное тело, отрезали у него руки и теперь требуют за них выкуп!
Потом мы с Жанной умолкаем и думаем об одном и том же. В мастерской, наполненной запахами кофе, глины, камня и гипса, бесшумно летают над нашими головами отрезанные руки. На несколько мгновений они опускаются на письмо Клары, потирают пальцы, как потирают лапки крупные мухи, потом снова взлетают. Жанна уходит, оставляя меня одного.
Не распечатав письма, кладу его среди яростно сражающихся между собой гипсовых рук и тоже выхожу. Потом прочту. Мне надо походить по лесу, подняться по узкой тропинке, которая начинается за домом и ведет на плато. Это дорога к дому Доддса, но я сейчас не хочу его видеть. Временами меня раздражают его жизненная сила, его последовательность в искусстве и даже его ирония! Он не меняется с возрастом, все такой же крепкий и стройный. Он знает, чего хочет, и ни в чем не сомневается. А я смотрю на собственные руки так, будто они принадлежат самозванцу.
Я углубляюсь в лес. Дохожу до развала осыпавшихся камней, где уже ничего не растет. До глубокого ущелья. Меня притягивают разломы в горе. Трещины мира. Одна из этих больших трещин могла бы поглотить меня, словно ничтожное насекомое. Хоп! И пропал в черноте. Но я иду по тропинке, где корни выступают из перегноя толстыми узловатыми венами. Я неизменно возвращаюсь в эту странную часть леса: здесь стволы редеют, уступая место путанице низких кустов и причудливых камней.
Пристраиваюсь среди камней. Если достаточно долго просижу, не пошевелившись, непременно появится лисичка. Я уже много раз заставал ее. Ничто не шелохнется. Полная тишина. И вдруг она оказывается рядом, рыжая с белым. Делает несколько шагов, замирает, быстро подергивая мордочкой, принюхивается, делает еще несколько мягких, осторожных шажков и устраивается на камне, между тенью и светом.
Не знаю, замечает ли она мое присутствие. Может быть, я сам превратился в зверя? Или в камень? Лисичка устраивается в нескольких метрах от меня. Сидит, насторожившись. Мне нравится, как она щурит глаза в полусвете. Мне нравится, как поблескивают ее клыки, когда она зевает. И я, окаменев, жду, пока ее не спугнет нечаянное потрескивание или запах другого зверя. Она спрыгивает со своего возвышения, и ее рыжая с белым шубка исчезает в черноте леса.
Быстрым шагом спускаюсь к дому. Я набрался сил, теперь у меня их достаточно, чтобы прочесть письмо Клары. Я побаиваюсь исходящих от него тлетворных испарений, давних видений Черного озера. Отнимаю конверт у передравшихся из-за него гипсовых рук, разрываю, читаю письмо. Клара написала мне с Ближнего Востока перед тем, как вернуться во Францию. Она рассказывает, что долго пробыла в этом регионе, который представляется ей одновременно и пагубным тиглем, и притягательным краем: на маленьком кусочке планеты соседствуют жестокость, смерть, отчаяние, надежда, бесчеловечность и человечность. Ей кажется, будто она перестала что-либо понимать, впечатление такое, что самое главное проходит мимо. Слишком много видела, пишет она. Она совсем измучена. Она уже не знает. Ничего уже не знает, пишет она мне. Ей жаль, что мы так давно не разговаривали. Но, собственно, Клара для того мне и пишет, чтобы сообщить, что долго пробудет во Франции и, наконец, отдохнет в доме друга, расположенном, по ее словам, «совсем рядом с тем местом, где ты вроде бы обосновался». Ей необходимы покой и тишина, ей хочется побыть с дочкой, Арианой, которую она так мало видит, пишет она. И, главное, она предлагает мне ее навестить, «если ты не против», можно даже и без предупреждения. «Это так близко от тебя, такая возможность, такой случай…»
Я нашел это место на старой маршрутной карте, валявшейся в мастерской, оказалось — деревушка в горах, в двух часах езды от меня. И еще я понял, что письмо шло очень долго, и Клара, должно быть, уже там. Несколько дней спустя, предложив Жанне поехать со мной и прекрасно зная, что она откажется, я, приклеив на место множество пальцев сражающихся рук, в полном одиночестве трогаюсь в путь.
Я еду медленно. Окна открыты. В машину врываются насекомые и запахи. Руль обжигает руки. Радио бормочет еле слышно. Я не уверен, что хочу этой встречи. Еще больше сбавляю скорость, но с пути не сворачиваю.
Добравшись до крохотной деревушки, несколько раз переспрашиваю дорогу и в конце концов нахожу обширное поместье. Его название вырезано на деревянной доске. Вижу стоящий вдали от дороги красивый дом, выкрашенный в желтый цвет и с трех сторон окруженный виноградником. Сразу за домом начинается сосновый бор. Оставляю машину у невысокой каменной стенки сухой кладки, решив последние метры пройти пешком. Цикады трещат оглушительно. Над раскаленными камнями с грозным жужжанием вьется такая туча насекомых, что я лишь попусту размахиваю руками. Мне приходится, словно вору или бродяге, пробираться через виноградник.
Я, собственно, не знаю, что собираюсь делать. Посмотреть, самому оставшись невидимым? Для начала составить себе представление о том, как изменили ее тело время и странствия? Убедиться, что яркий свет истребляет воспоминания?
Комья сухой земли рассыпаются у меня под ногами. Листва на лозах роскошная. Ее яркая зелень странно отсвечивает под солнцем.
Очень скоро из-за холмистой местности я теряю из виду дом, где, как я предполагаю, сейчас отдыхает Клара. Продолжать идти в прежнем направлении невозможно, потому что ряды винограда заставляют меня двигаться строго по коридору.
Несколько раз я пробираюсь сквозь зеленые перегородки, переходя в другой ряд, но это лишь отдаляет меня от цели. Еще с дороги я приметил высокие деревья, укрывающие дом благодатной тенью, но теперь они вне поля моего зрения. Я даже сосняк потерял из виду. Я ослеплен и раздосадован, я затерялся среди винограда. И все же продолжаю двигаться вперед в раскаленном воздухе. У меня кружится голова.
Зачем только я забрел в этот лабиринт? Оглушительное стрекотание напоминает не Германию, а Грецию! Никакой влажной тайны — шероховатая реальность и ощущение полной бессмысленности! Я начинаю пошатываться и, заметив стенку, огораживающую канаву, сажусь в ее тени, чтобы немного опомниться и начать соображать. И вот тут до меня доносится металлический звук. Дверь скрипнула и захлопнулась. Встаю. Главная аллея, оказывается, совсем рядом. Дом чуть выше. Я уже различаю ступеньки крыльца и тень от больших деревьев перед фасадом. Кто-то спускается по лестнице, ныряет под увитый зеленью свод, и внезапно на свет выбегает женщина в белом. Эта легкая походка? Эта стройность? Эта спокойная уверенность движений? Это она? Нет. Да нет же, конечно, это Клара! Ей пятнадцать лет! Та самая девушка из Кельштайна! Она только что вышла из тени и идет, озаренная солнцем. Очень короткие черные волосы. Ослепительная рубашка. Белые брюки. Сумка через плечо. Я сплю и вижу сон! Я сижу на берегу совершенно пересохшего Белого озера. Воды больше нет нигде. Нет больше темного подлеска. Девушка в белом быстрым шагом идет по аллее к воротам. У меня перехватило дыхание, я стою в тени так неподвижно, что она и не замечает моего присутствия. Проходит мимо. Едва заметно улыбнувшись, она весело подпрыгивает, жара ей нипочем. Я успеваю разглядеть ясную синеву ее глаз. Но она уже прошла мимо. Удаляется, выходит за ворота, исчезает. От пения цикад и жужжания насекомых у меня вот-вот лопнут барабанные перепонки.
Я осознаю, что в течение нескончаемо долгой минуты стискивал камень с режущими краями. Руки у меня насколько выдублены, что не кровоточат. Но я пришел в себя. Медленно иду по аллее. Ныряю под увитый зеленью свод, поднимаюсь на крыльцо, толкаю тяжелую дверь и вхожу в удивительно прохладный и сумрачный дом. Беззвучно ступаю по плиткам пола.
Я остаюсь вором. Но тайное вторжение дает мне возможность верить в то, что я все еще в любую минуту могу сбежать. Пройдя через несколько пустых комнат, оказываюсь на пороге маленькой гостиной, ее открытые застекленные двери выходят в сосновый бор, занавески колышутся от сквозняка. Клара крепко спит на узком диване.
Я узнаю ее и разглядываю без малейшего волнения. Как будто мы не виделись всего несколько дней. Ее тело расслаблено, рука свешивается с дивана. Она глубоко дышит с открытым ртом и едва слышно похрапывает. Да, передо мной Клара, я снова вижу ее спустя долгих пятнадцать лет. Или, вернее, вижу перед собой довольно красивую женщину, чьи черты более или менее соответствуют моим воспоминаниям, но в ней появилось нечто лишнее: чуждое и неуловимое пропитало, словно промокашку, тот образ Клары, который я хранил в памяти, сделав грубее плоть, расширив поры, прорезав морщинки. Родинка под закрытым глазом никуда не делась. Пятнадцать лет протекли по этому женскому телу, как и по видениям моей юности. Давайте назовем всепроникающую субстанцию по имени — это Время. Я наклоняюсь еще ближе к загорелому лицу с кругами под глазами. Гордая серьезность. Поразительный контраст с легким ангелом, мелькнувшим на аллее: мать и дочь! Полнота длительности и хрупкость мгновения. Два тела, две истории.
Клара во сне пошевелила торчащей из штанины джинсов босой ногой, грудь приподнялась под линялой голубой рубашкой. Торжество волнующей женственности, за которым я подглядываю. Я улавливаю связь между этим женским телом и грубым камнем или глиной. Эта тревожная чувственность неотделима от накопившихся с годами страданий, страхов и радостей. Под этими веками и внутри этого живота — страны, в которых она побывала, и испытания, которые перенесла. Много жизни протекло по этим венам.
Но, сколько ни вглядываюсь, я вижу перед собой на этом диване незнакомку. В другом возможном мире я созерцаю чужую женщину, отделенную от моей собственной истории. Прежней Клары, той, с которой я надеялся встретиться, здесь нет. Надо ли соединять обрывки умершего прошлого с этой спящей женщиной? Мне хочется сбежать отсюда, других желаний не осталось. Я слышу где-то в доме шаги, голоса. Срываюсь с места, бегу к выходу, несусь по залитой солнцем аллее.
Только потом, немного опомнившись, снова возвращаюсь к воротам. Меня радостно встречает худой, элегантный, совершенно великолепный старик, нисколько не удивленный моим появлением. Затем на порог выходит Клара, по-прежнему босая, но вполне проснувшаяся. На загорелом лице еще ярче синеют глаза. Она распахивает объятия навстречу мне, говорит, что очень рада меня видеть.
Движения у нее все такие же удивительно быстрые, черты лица подвижные. Куда подевалась усталая женщина, чье уединение я недавно нарушил?
— Столько лет прошло! — говорит она. — Я уже и не надеялась. Значит, ты получил мое письмо! Но я сама во всем виновата, Поль! Я так часто думала, что надо тебе написать. Но все было так сложно! Знал бы ты…
Элегантный старик — хозяин дома. Он виноградарь и отец друга Клары, журналиста, который тоже вскоре появляется, загар у него под расстегнутой на волосатой груди белой рубашкой еще темнее. Старик ставит перед нами два стакана и бутылку вина, потом уходит вместе с журналистом, оставляя нас наедине.
Что такое пятнадцать лет? И что могут сказать друг другу два человека, когда их разделяет такая непохожая жизнь? Даже если однажды властные и таинственные узы их соединили, остается пропасть, через которую не помогут перебросить мост ни слова, ни предосторожности, ни самые добрые намерения. Улыбки и воспоминания падают в эту пропасть, и очень скоро замечаешь, что невозможно даже слегка прикоснуться к мучительной реальности другого.
Мы сидим лицом к открытой застекленной двери, ведущей на террасу. Пьем и пытаемся втиснуть в несколько минут ворох радостных сведений. Но между нами уже не пробегает ток, раньше такой явственный. Клара прекрасно знает, что обстоятельства ее репортажей, а еще того более — ее невыносимые фотографии, мне совершенно чужды. Я тоже очень быстро понимаю, что ее нисколько не интересует мое яростное битье камня. И все же мы притворяемся, будто нам очень много надо друг другу сказать, и продолжаем попивать «хозяйское винцо».
Вскоре мне хочется только одного — уйти отсюда и ехать наугад, пережевывая горький комок. Я не могу сейчас вернуться домой. Ночь необыкновенно светлая и теплая. Клара затащила меня в просторную кухню, чтобы мы могли еще выпить и перекусить. Потом, словно оттягивая минуту расставания, бродим среди виноградников под огромной рыжей луной. Наморщив лоб, Клара опускает ладонь на мою руку.
— Знаешь, Поль, я хотела много увидеть. Я видела слишком много. Все, что могла, я оставила на пленке. Я думала, что подберусь к одной тайне…
— Да к какой тайне? О чем ты говоришь?
— Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Во всяком случае, ты знал это лучше, чем кто бы то ни было…
— Я думаю, что, когда мы были совсем молодыми, с нами происходили слишком жестокие вещи. Это терзало нам сердце. Но, может быть, там и понимать нечего… И делать нечего.
— Я старалась понять, как люди могут — нет, не творить зло лично, это-то как раз легко! — но производить вместе такое огромное количество зла, что начиная с какого-то момента никто уже не может ничего остановить, и ужасы разрастаются, как черный мох.
— Я видел твои фотографии, Клара. Им удается не быть красивыми, а только ужасающими.
— Я побывала на войнах. Я видела жертв и убийц. Но пойми, что я не видела ничего! В безумие впадают не так! Надеюсь, ты это понимаешь? Худшее ни на какой пленке не отпечатывается.
Клара выпалила все это очень быстро, на одном дыхании, стоя посреди виноградника. Я давно не слышал у нее такого голоса. Но я знаю, что внезапная ярость может обернуться неожиданной шуткой, и потому жду, что Клара звонко расхохочется, и от этого смеха серьезность ее слов рассыплется в прах. Жду резкого взмаха руки, который сметет тревогу. Жду, что Клара улыбнется мне своей прелестной грустной улыбкой и заговорит о чем-нибудь другом. Вместо всего этого она спрашивает:
— Поль, а ты что-нибудь узнал о своем отце? Теперь ты знаешь, что произошло? Помнишь, я говорила тебе, что правда непременно откроется, что…
— Зачем? Я давно уехал из Парижа. Я выбрал другой путь. На самом деле меня приводит в отчаяние мысль о том, что можно быть привязанным к прошлому, как к колышку! Лицо убийцы, прилипшее к моей памяти! Разве от этого изменится то обстоятельство, что мой отец умер, когда мне было двенадцать лет? Но, знаешь, неведение меня тоже тяготит, и мне случается бить по камню только для того, чтобы больше об этом не думать. Собственно, разгадка меня не интересует. Тайна дремлет. Она ждет… Вот так.
— Я думала, ты знаешь…
— А ты что-то узнала?
— Это вышло само собой. Я много думала о твоей истории. В Париже я искала. Поначалу не особенно на что-то рассчитывая. А потом втянулась. Узнать хотя бы это! Больше всего мне хотелось понять, как у твоего отца и у моего могла получиться такая разная жизнь…
Теперь мы сидим прямо на земле, в благоухающей тишине. Как я мог хотя бы на секунду поверить в то, что, соприкоснувшись с Кларой, останусь невредимым?
Сначала я попытался стать невидимым. Я думал, что смогу к ней приблизиться, рассмотреть ее и уйти. Мимо меня вприпрыжку промчался совсем юный и пленительный призрак, освещенный солнцем.
Я думал, что толстая стена между Кларой и мной не пропустит давних снарядов. Пуль тревоги — от выстрелов в упор. Разрывных пуль. Бомб замедленного действия.
Клара объяснила мне, каким образом ей удалось раньше меня, или, вернее, вместо меня, добыть некоторые важные сведения, касающиеся моего отца и его отношений с дядей Эдуардом. Я оглушен.
Много лет назад, рассказывает Клара, она, целыми днями бродя по Парижу, часто приходила в Люксембургский сад, на место преступления. На место, где все молчит, не говорят ни песок, ни балюстрада, ни королева Батильда.
Для того чтобы связаться со мной, отменить свидание и назначить другое, она всегда прибегала к помощи Леона, гостиничного портье, и в конце концов начала перебрасываться с ним отдельными фразами. Понемногу ей удалось его разговорить.
— Этот человек меня околдовал, — говорит Клара. Часто, когда мне не удается заснуть, я вижу его лицо, его блуждающий взгляд. Знаешь, я встречала много людей, жестоких людей, и людей совершенно свихнувшихся, но никогда и ни в ком я не встречала такого сочетания заурядности и подлости.
А потом Клара говорит про этого Леона из «Трех львов», столько лет безвылазно проторчавшего за стойкой среди бумаг и журналов, что у нее «с души воротит» (именно это выражение она предпочла употребить на своем восхитительном французском) от его «поносных» (тоже ее словечко) высказываний, лившихся непрерывным потоком, и о чем бы он ни говорил — говорил злобно и высокомерно.
И тут я понимаю, что сам-то всегда ограничивался в разговорах с этим портье наспех брошенными «здравствуйте-до-свидания», «мсье Поль, тут для вас письмо…» и «мсье Поль, письма для вашей мамы…», словно для того, чтобы избежать любых намеков на прежние времена, и прекрасно зная, что Леон работал у моего дяди задолго до войны, задолго до Оккупации, и слушался его, как не всякая собака слушается хозяина. Часто я ловил на лету обрывки категорических утверждений, которые тот произносил, стараясь произвести впечатление на горничных, или замечаний, которые он отпускал за спиной у клиентов. Его комментарии сводились к обличению человеческой низости. Те, кто представал перед его жалким трибуналом, подозревались в постыдных намерениях, нечистых и в конечном итоге преступных замыслах — преступных в его понимании. Для Леона богатство всегда служило доказательством бесчестности, элегантность — прикрытием порочности, любезность представала хитростью, а щедрость — попыткой подкупа. Это было его видение мира, вросшее, как грязные ногти, в его серую плоть. Высшими оскорблениями в его устах были «Педераст!» и «Жид!», а женщины, абсолютно все, без единого исключения, именовались «потаскухами»… Я старался не обращать на него внимания, никогда не реагировать, словом, проскальзывать мимо как можно незаметнее.
Вот потому слова Клары о «заурядности и подлости» тотчас пробудили во мне паническую тревогу. Возвращалось то, что я всегда знал и всегда запрятывал подальше.
Так что же Леон? А мой дядя Эдуард? Что именно известно Кларе? Кларе-разоблачительнице…
И, пока я растираю в пальцах сыпучие комья, над которыми поднимаются лозы, Клара яростно, жестоко, но мучительно для самой себя рассказывает мне то, что я, конечно, всегда подозревал…
Расставшись с ней в середине этой слишком светлой и слишком короткой ночи, не успевшей остудить воздух, и возвращаясь к машине, оставленной у ворот, я все еще слышу последние слова Клары: «Для того чтобы понять самое худшее, возможно, надо его совершить…» Вижу ее тень на белесой земле и далекие силуэты высоких сосен.
Несколько недель спустя я без особого труда отыскиваю Леона. Мне надо услышать, как он на свой лад повторит все то, о чем уже рассказала Клара. Мы сидим за столом, почти полностью занимающим одну из двух его комнат в глубине двора, недалеко от «Трех львов», где он вот уже год как не работает. Довольный, но по-прежнему злобный пенсионер.
— Социалисты нам хоть это дали, мсье Поль, пенсию в шестьдесят лет! Для меня-то в самый раз, я-то с четырнадцати лет работаю, но признайте, что этот закон был все-таки принят для бездельников, верно?
Я ставлю на клеенку бутылку виски, Леон достает стаканы, которые, наверное, украл из гостиницы, и щедро нам наливает. Я должен ждать. Слушать. На буфете под стеклянным колпаком красуются огромные позолоченные часы с боем, перегруженные барочными украшениями. Часы два раза отбивают по семь ударов… Леон благоговейно прикрывает глаза и не открывает, пока не смолкнет последний хрустальный отзвук.
И мы переходим к делу.
— Чего вы хотите, мсье Поль, теперь-то я все могу рассказать. Это давняя история. А чем, по-вашему, может рисковать мсье Эдуард, ну то есть дядя ваш? Он старик! Он родился в двенадцатом году! Я — в двадцать втором! Наша жизнь прожита. Нас никто не тронет…
Поскольку Леон уже допил свой стакан, я снова щедро ему плеснул.
— Мсье Эдуард, что было, то было, до войны знал немало жидов! И это были самые сливки, черт возьми! Его везде принимали. Он знал, как взяться за дело. Он уже тогда был деловой. Я-то был никем и ничем. Он взял меня к себе, когда я был еще мальчишкой. Он мне казался таким элегантным, мсье Эдуард, мне хотелось, чтобы все знали, что я его подручный, «фактотум»[21], как говорится. Он мог чего угодно от меня потребовать. Так вот, когда все обернулось так, как обернулось, мсье Эдуард сразу понял, какую выгоду он может из этого извлечь. У него были адреса всех жидов, богатых, понятно, известных семей, и он только что не наизусть знал список ценностей, какие у них были! Он их всех перехитрил! У него-то были друзья в полиции и знакомые в министерствах, он даже немецкое начальство быстро прибрал к рукам! Всегда красивый, элегантный, всегда при нем хорошенькие цыпочки, что и говорить! Так вот, иногда меня предупреждали заранее — мы вдвоем с раннего утра сидели в засаде в подъезде, где была квартира богатых жидов. Мсье Эдуард знал, что его друзья из полиции не замедлят явиться. Мы сидели тихо. Дождемся, пока всю семью увезут, и поднимаемся в квартиру. Так было условлено. Мсье Эдуард знал, что дверь ему оставят открытой. Времени у нас было немного. Я входил вместе с ним в пустую квартиру. Кофе еще не успевал остыть, я наливал себе чашечку.
Мсье Эдуарду и говорить мне ничего не надо было. Он только хлопал перчаткой по всему, что я должен был забрать: картины, безделушки, серебро. К девяти утра я успевал все погрузить в машину. Да, мсье Поль, дядя ваш — не промах! А эти-то все евреи — думали, новые законы их не касаются, как же, тут за ними полиция и приезжала, и там, куда их увозили, им все их барахлишко, боюсь, было уже ни к чему!
Видите эти часы, мсье Поль? Это единственная вещь, которую ваш дядя позволил мне забрать. Вот, видите, — позолоченный скелет? Он мне сразу понравился. С первыми двенадцатью ударами полуночи он наклоняет косу вправо, а со вторыми — влево! Помню, в тот день мсье Эдуард сказал мне: «Если тебе так уж нравятся эти часы, Леон, они твои. Но я для тебя их сберегу, так будет вернее. Я тебе их отдам, когда ты от меня уйдешь…» И как видите, когда я вышел на пенсию, он мне их выдал. В идеальном состоянии. Как новенькие! У меня даже слезы на глаза навернулись. Такой уж он человек, ваш дядя: выдающаяся личность! Великий человек!
— Подлец! Негодяй! Преступник!
Расхаживаю по столовой в квартире Леона, ударяя ладонью то по шкафу, то по накрытому клеенкой столу, чтобы убедиться, что я не сплю. Леон вяло приподнимает голову, но он так основательно набрался, что не в состоянии следить за мной взглядом. Плеснув себе еще виски, он тягуче возражает:
— Да что вы! Мсье Эдуард — подлец? Это вы хватили, дружочек… Да без него вас вообще бы на свете не было! Вы бы, мсье Поль, вообще не родились! Ведь для того, чтобы ваш папа мог вас сделать вместе с вашей дражайшей матушкой, ему как-никак надо было остаться в живых, верно? Выжить, стало быть, после всей этой ерунды, Сопротивления, гестапо и всего такого прочего… Вы… жить… Не так разве?
— Вы прекрасно знаете, что его арестовали в «Новейшей типографии» вместе с моим дедом и всеми остальными, но ему удалось бежать до того, как…
— Да, до того, как их прикончили или отправили туда, откуда не возвращаются!
— Мой отец был молод. Он попытал счастья. Он выскользнул из их когтей…
— Ну конечно… мсье Поль… бедняжка! Вы… развесили уши и поверили в красивую сказку о побеге. Знаменитый Пьер Марло, великий деятель Сопротивления, был еще и большим специалистом по побегам! Чу… десно! Да, вот… мо… ло… дец!
Я снова сижу за столом напротив этого «заурядного и подлого» пенсионера, переживающего запоздалый триумф: он выпрямил спину, уперся кулаками в клеенку и заговорил нравоучительным и временами возвышенным тоном, свойственным алкоголикам. Леон медленно цедит все, что ему известно:
— Словом, вы никогда не задавали себе вопросов? Ваш отец ведь был арестован, как и все остальные. Их согнали в лионскую школу военно-медицинской службы. Да уж, что касается медицины — тут у фрицев из гестапо была отличная программа для поправки здоровья, ванна и все прочее, это нам известно… Но из этой школы никому и никогда сбежать не удавалось! Слышите? Никому! А вашего папу, значит, эти господа из немецкой полиции вот так вот оставили одного, несвязанного, на первом этаже! И вы воображаете, будто это вышло случайно?
После этого блестящего пассажа Леон снова тянется к бутылке. Я перехватываю его руку и стискиваю запястье. Ему больно, но он предпочитает глупо ухмыляться.
— Такого рода… случайности… чудеса… в такого рода местах предполагают наличие человека с очень длинной рукой, достаточно длинной для того, чтобы освободить террориста. И таким человеком был мсье Эдуард, всегда обожавший свою сестру Матильду! Ваша мать безумно любила вашего отца. Любовь, дружочек! Она позвонила вашему дяде. Он в Париже обедал с немецким высоким начальством, дела у него с ними какие-то были. Лионские немцы уже схватили вашего деда. Они каждый день его пытали. Ваш отец интересовал их куда меньше — мальчишка, они думали, что достаточно быстро сцапают его снова. Но все оказалось не так просто. Из Парижа поступили тайные распоряжения. Ваш дядя был великолепен. Он почти на равных разговаривал с фрицами. Великий человек! У него, у мсье Эдуарда, сердце разрывалось, когда он видел свою сестру до того несчастной, что она и сама готова была умереть. Он сделал все, что надо. И голубки снова были вместе! Вы, дружочек, дитя любви! Мира и любви.
Тут Леон в первый раз роняет голову на клеенку, и я привожу его в чувство. Он даже не чувствует пощечины, которую я ему залепляю.
Леон еще кое-что мне открывает — то обрывками слов и мычанием, то целыми фразами. Но мое желание знать уже агонизирует. Если я продолжаю его слушать, то лишь для того, чтобы причинить себе боль, как сжимают стакан до тех пор, пока он не лопнет в руке.
— Чего ж вы хотите, мсье Поль, вашему отцу надо было после войны, после этого… освобождения, как они говорят, хоть немного расквитаться с должком. Если после всего, что натворил, он остался в живых, так только благодаря шурину, и он прекрасно это знал! Так что когда начали проводить чистку, судить и расстреливать тех, кого они называли коллаборационистами, и стричь наголо несчастных девушек, которые немного погуляли, и опять расстреливать — настал черед вашего папы немного пошевелиться. Теперь перед вашим папой — с его медалью, и всем таким прочим, и историей с подпольными газетами, и его собственным отцом, умершим под пыткой, — теперь перед ним лебезили! Теперь высокопоставленные друзья были у него! Поначалу он отказал. Я видел, что ему тошно помогать мсье Эдуарду, но он тоже готов был на все ради своей Матильды! Ваша матушка его умоляла. Словом, он устроил так, чтобы ваш дядя избежал этой их чистки. Надо сказать, у мсье Эдуарда товара оставалась еще целая куча, ага, отличные штучки, да и вряд ли владельцы явились бы за ними, верно? Узнав, что ему, благодаря вашему папе, ничто не угрожает, он быстренько сбыл все это с рук. А я, Леон, снова ему помог… Ваш отец все знал, и вот этого-то он не стерпел. Они страшно ссорились. Так продолжалось годами. Думаю, под конец ваш папа начал ему угрожать… И тогда… но это в самом деле давняя история… Пришлось… Я-то лично ничего не имел против мсье Пьера… я…
Уже очень поздно. Все, о чем я только что услышал, кажется мне нереальным. Оно не расплывчатое, как плохой сон, но очень отчетливое, как кадры фильма или главы романа, персонажами которого оказались мои родители. Голова Леона-убийцы сонно покачивается. Тело пребывает в нерешительности, колеблется между оцепенением и последними нервными содроганиями, но он мог бы еще часами разглагольствовать. Мне хочется закрыть этот плохой роман… С самых первых шагов по Люксембургскому саду, с тех самых пор, как я пришел на «место преступления», я чувствовал, что сама идея мести не находит во мне никакого отклика, но до этого вечера думал, будто испытываю желание узнать правду. И это желание тоже угасло. Теперь я хочу только одного: чтобы Леон замолчал! И в ту минуту, когда он собирается начать очередную свою долгую тираду, я обхожу стол, останавливаюсь у него за спиной, хватаю его за белобрысые волосы и принимаюсь колотить его лбом о клеенку. Раз, другой… чтобы он наконец уснул. Он податлив, как пропитанная алкоголем тряпка. Я тяну его назад, потом снова прикладываю мордой об стол. Три раза! Очень сильно. Четыре раза! Часы за моей спиной бьют полночь. Два раза по двенадцать ударов, которые я тоже отбиваю — головой Леона. Золоченый скелетик под стеклянным колпаком ведет косой вправо, потом влево. Восемь! Девять! Голова Леона, опускаясь, ударяется виском о недопитый стакан, разбивает его, хрустальные осколки раздирают кожу. Десять! Одиннадцать! Двенадцать! Я, наконец, отпускаю его голову, роняю ее в лужу крови и виски. И, как в прежние времена, ухожу до рассвета бродить по Парижу.
Не будет никогда ни искупления, ни возмездия. Никогда я до такой степени не чувствовал, как меня перемалывают челюсти невидимой войны, не чувствовал себя отрезанным от всего и от всех. Невозможно допустить, что где-то на этом свете, посреди великолепного пейзажа, меня ждут дети и жена, что у меня есть занятие, которое мне нравится, что существуют мирные страны и что счастье может быть где-то рядом, скромное, но сияющее. Когда я выхожу на улицу, все парижские тротуары черны, мокры и безлюдны. В этой ночной пустыне под ручку прогуливаются Глупость и Жестокость, они кивают мне, будто я с ними заодно. Я тоже пропитан сочной и едкой ненавистью и сам себе противен.
Почти сразу решаю, чтобы со всем этим покончить, завтра же навестить маму, потом в последний раз взглянуть на лицо и тело моего дяди Эдуарда. Я настолько устал, мне до того горько, что речь может идти только о проверке. Попытке завершения. Не трогать, только посмотреть. Не бить, не убивать, просто встретиться лицом к лицу с образчиком «человеческой бесчеловечности». Бить так легко! И я ничего другого не умею.
Дверь мне открывает друг моей матери. Серебряные волосы, подстриженные бобриком, широкий лоб, прямой взгляд, крепкая рука. Мама сияет. Она безмятежно обживает начало старости, но вместе с тем кажется молодой и открытой как никогда. Они вдвоем сидят на диване напротив меня. Этот человек трогательно заботится о ней и искренне доброжелателен по отношению ко мне. Я наблюдаю за этой пожилой, но такой беспечной парой, живущей в полном согласии. Они рассказывают мне, куда собираются поехать, говорят о событиях в мире, за которыми спокойно следят по телевизору. Говорю себе: «Это моя мать». Наша жизнь в «Трех львах» представляется мне неопределенным Средневековьем, а мое лионское детство — доисторическим периодом, не оставившим почти никаких следов.
В ледяном тайнике памяти моей матери хранятся выцветающие секреты, расползающиеся сожаления, почти растаявшие стыд и печаль. В тайнике памяти этого человека, которого она любит, как любила моего отца, хранятся другие секреты. Я знаю, что он сражался в Веркоре, был свидетелем и участником страшных событий. А теперь он говорит, что надо купить билеты на самолет в Грецию и показывает мне слайды других путешествий, которые совершил вместе с моей матерью.
Я не рассказываю им о своем визите к Леону, но прошу маму дать мне новый адрес Эдуарда. Мы бегло упоминаем о моей художественной деятельности. Я замечаю, что мама купила журнал, в котором говорится о моих скульптурах. Мы расстаемся в наилучших отношениях, довольные тем, что повидались. Нас разделяет ошеломляющее расстояние.
Остается последнее испытание. Мой дядя живет теперь в нарядном домике неподалеку от Сен-Клу. Мое единственное намерение — посмотреть вблизи на подлеца. Это все — других у меня нет.
Ему семьдесят пять, но он все еще держится очень прямо, без напряженности, он крепкий и мускулистый. Моя тетушка несколько лет назад тихо угасла над своими кроссвордами.
Эдуард живет, окруженный трофеями, в богатстве и роскоши. Он знакомит меня со своей новой подругой, блондинкой на двадцать лет моложе его, гордо показывает мне свой тренировочный зал. Нескольких минут ему оказалось достаточно, чтобы вернуть свое превосходство надо мной.
Он радостно сообщает, что купил в галерее несколько моих скульптур.
— Это все-таки творения моего племянника!
Кажется, он с дьявольской проницательностью понял, что именно я хотел вписать в камень. Он любезен, притворно ласков, насмешлив, задирист. Слушая его, я со странным спокойствием твержу себе, что передо мной настоящий гад. Для того чтобы можно было открыть военные действия, напоминаю о картине в прихожей, которая так мне нравилась: три персонажа в лодке с белым парусом, на фоне заходящего солнца.
— Чья она была? Вюйара? Боннара? И кому принадлежала раньше? Ты всегда умел получать прекрасные вещи… любой ценой!
Эдуард улыбается. Его все такие же здоровые зубы угрожающе сверкают. Я имею дело со зверем, который может еще долго прожить в непролазных «джонглях», как он произносит. В потемках. Встретившись с опасностью, он круто разворачивается, выбирает площадку и нападает сам:
— Ты же все-таки не для того пришел, чтобы поговорить со мной об этой старой картине? Поль, голубчик… Слушай, а ты здорово отделал Леона в тот раз. Основательно его изуродовал! Признаю, его физиономия напрашивается на грубое обращение. Когда он был еще мальчишкой, мне уже хотелось его поколотить! Да, я ждал тебя. Я только раздумывал над тем, придешь ли ты ко мне сыном, одержимым жаждой мести и ослепленным ненавистью, или художником, ищущим интересную модель. Ну и вот! Ты здесь, бедняжка Поль… Что ты намерен делать? Ты достаточно наивен для того, чтобы видеть во мне лишь циничное и бессовестное существо, твердую и однородную глыбу. Словом, настоящего злодея! Впрочем, это не совсем ошибочно! Но если ты воображаешь, будто человек вроде меня совершенно не осознает зла, ты ошибаешься. Я в точности знаю, где проходит граница. И в точности знаю, по какую сторону нахожусь! Или, вернее, по какую сторону нередко оказывался… Сегодня я всего-навсего старик, уютно живущий в окружении оставшихся у него красивых предметов. Прошлое не то что далеко — оно нереально! Но это нисколько не мешает мне время от времени вспоминать преступника, каким я был. Я очень отчетливо помню минуты, когда надо было решать: обманывать, не дожидаясь, пока обманут меня, брать то, что можно было взять, выдавать тех, кто мне мешал, убирать чужими руками других — мало ли что! Никаких друзей, только соотношение сил, власть, которой надо пользоваться, пока она у тебя в руках… Дело в том, что от всего этого испытываешь высшее наслаждение, о каком люди вроде тебя ни малейшего представления не имеют. Выжить удается только самому сильному или самому хитрому. Все против всех! Так вот, Поль, голубчик, я живу со всеми моими воспоминаниями, понимаешь? Со всеми! И знай, что я очень любил твоего отца. Не только за то, что он умел драться, но и за то, что он меня ненавидел. Вот видишь, для тебя это слишком сложно. Подлец, каким я был, нисколько не мешает спать спокойно старику, которого ты видишь перед собой. Я прекрасно сплю. Сном подлеца! Да, я совершал то, что ты воспринимаешь как преступления, но это совершенно не мешает мне ценить красивые вещи, наслаждаться хорошим вином или хорошей сигарой, любоваться картиной вроде той, о которой ты недавно упомянул. Да, раз уж тебе так хочется знать, — это был Боннар! Не мешает это и старику вроде меня получать еще кое-какие плотские радости, при условии, разумеется, что я буду поддерживать плоть в хорошем состоянии! И, наконец, знай, Поль, голубчик, что существуют порядочные люди, считающие меня благодетелем. Да, мне случалось оказывать бескорыстные услуги. Я помогал. Давал. Спасал. В глыбе зла всегда существуют трещины добра. Или наоборот! В общем, одно другого стоит!.. Ну, а теперь решайся! Мы одни. Без свидетелей. Посмотри туда — там, на стене, моя коллекция кинжалов. Выбирай! И делай то, зачем пришел. Бить, протыкать — это ты умеешь, а? Я никогда не боялся смерти. Я ее даже жду, вызываю. Я, пожалуй, буду слегка защищаться… Для порядка.
И тогда я поворачиваюсь к дяде спиной, медленно иду через залитые солнцем комнаты. Ни одной пылинки на старинной мебели, серебре, хрустале, бархатной обивке. Ухожу под хохот зеркал. Нелепым образом вспоминая теплое кельштайнское подземелье. Мне бы сейчас зарыться в сучий живот. Но я умею только шагать и ваять.
Вскоре я возвращаюсь в Триев, Жанна и дети рассказывают мне, что произошло за время моего отсутствия в школе и в родильном доме. Многое, имеющее отношение только к настоящему и будущему.
— В воскресенье, — говорят мне дети, — будет отличная погода. Мы устроим пикник. Мама пригласила своих подружек из больницы. Мы поднимемся наверх, там есть совсем ровный луг. Очень далеко видно. Папа, ты пойдешь с нами, скажи, пойдешь?
И вот чудесным летним воскресным днем мы — Жанна и ее подруги-медсестры, дети и я — предпринимаем восхождение на Арканский перевал. Надо идти по тропинкам чуть больше двух часов. Со дня своего возвращения я так и не набрался мужества открыть дверь своей мастерской, вновь оказаться среди всей этой пыли. При виде пришедших рано-рано утром медсестер или акушерок я испытал странную эйфорию, близкую к опьянению, какое вызывает слишком чистый, слишком холодный горный воздух. Они то и дело смеются и говорят все одновременно. Блондинки и брюнетки. У некоторых почти детские личики, у других резкие черты, отмеченные скорее опытом, чем возрастом. От этой небольшой группы исходит удивительная энергетика. Обычно они одеты в белые халаты и действуют в белых помещениях. Их руки прикасаются к телам, которым больно, и к телам, которые только появились на свет.
А сегодня утром они, одетые для горной прогулки, весело наполняют корзины снедью. Солнце еще не очень высоко. В тени поблескивают капли росы. Как только все собрано, начинаем свое нетрудное восхождение. Растягиваемся по дороге длинной шумной вереницей. Женщины окликают друг дружку. У самых болтливых восхитительный южный акцент. Эхо подхватывает их слова.
Вскоре мы достигаем леса. Дети просят меня срезать ветки, чтобы сделать из них посохи, дротики или ружья — потом они все это побросают. Пока мы занимаемся изготовлением оружия, женщины уходят вперед. Я выбираю самые прямые и крепкие ветки, складным ножом счищаю с них кору. Несмотря на заросли, мы все еще слышим голоса медсестер, перекликающихся выше по склону. По дороге я рассказываю детям длинную сказку, а они размахивают своими палками и вглядываются в чащу, как будто опасаются, что там затаился людоед. Я знаю, что свою лисичку здесь не встречу.
Мы поднимаемся неспешно. Когда каменистая тропа становится более крутой, я беру детей за руки и немножко помогаю им идти, чуть-чуть подтаскиваю их вверх. Под конец прогулки они начинают уставать, но не жалуются.
— Ну, еще семьсот сорок три шага — и мы на месте! Устроим пикник на лужайке. Будем рассматривать карту, найдем на ней названия всех вершин! Вперед!
Когда до Арканского перевала, который на самом деле представляет собой просторный луг — с запада у него внутренняя стенка горы-крепости, а с востока открывается вид на вырисовывающиеся вдали, синие на синем, цепи Альп, — остается всего несколько сот метров, восхождение можно закончить двумя способами: продолжая идти через лес или срезав путь через луга.
Сквозь путаницу низких веток вижу, что женщины предпочли идти лугами, различаю на склоне, освещенном ярким солнцем, цветные пятнышки их одежды. Те, что добрались первыми, машут руками отставшим, догоняющим.
Я иду медленно в тени леса, из которого дети выходить не захотели. Немного поныв, что устали, малыши умолкают, Я крепко держу их за руки, время от времени движением плеча поправляя рюкзак.
Мы все еще двигаемся в тишине и полутени, а там, за последними стволами, последними ветками и листвой, — огромный голубой простор, ослепительный свет и женские фигурки, занимающие в пейзаже так мало места. Детям хочется отдохнуть, сев на пень или на землю у подножия ствола, но я не соглашаюсь. Я стараюсь не слишком крепко стискивать маленькие ручки, зажатые в моих, потихоньку веду детей за собой.
Чем ближе к опушке, тем больше солнечных лучей пробивается между ветками. Мох здесь зеленеет ярче, скалы заметнее отливают серебром. На краю гудящего луга я, наконец, отпускаю детские руки, легонько хлопаю каждого по плечу и, зная, что одного вида цели бывает достаточно для того, чтобы всякая усталость волшебным образом исчезла, говорю:
— Ну, бегите. Смотрите, женщины уже там, раньше нас добрались. Они ждут, есть без нас не начинают. Бегите скорее!
А сам, совершенно неподвижный, смотрю, прислонившись к последней сосне, как мои дети улепетывают со всех ног, две маленькие трепещущие жизни, два оголодавших бесенка несутся, размахивая палками. Я заворожен. Мгновение раскрылось, словно плод. Там, наверху, приставив козырьком руку к глазам, Жанна смотрит, как к ней бегут наши дети, а вокруг их мелькающих ножек скачут тысячи кузнечиков.
СЛИШКОМ ПОЗДНО! (Родос, лето 1999 года)
Годы идут, годы растут, как трава, но я по-прежнему работаю с камнем, по привычке и с удивительной легкостью, ни в заказах, ни в замыслах недостатка нет. В пухлых подушках весьма относительного успеха тонут разом и былая тревога, и былое воодушевление.
Жанна тоже много работает. В новой больнице на ней лежит большая ответственность, и, если ее послушать, можно подумать, что рождение человека сделалось событием менее очевидным. Вокруг появления на свет вьются тысячи проблем. Приходится прерывать беременности, поддерживать жизнь крохотных личинок, которые весят всего несколько граммов, отдавать младенцев на руки растерянным юным мамашам, которые не знают, ни куда податься со своим младенцем, ни, порой, имени его отца. Жанна нередко выглядит встревоженной, озабоченной. В ее по-прежнему роскошных волосах все больше серебряных нитей, они вытесняют золотой блеск. Когда-нибудь серебро сменится свинцом, а потом и свинец скроется под снегом.
У нас с Жанной в конце концов сложились милые привычки: гулять в горах, разговаривать за бутылкой вина о детях или о судьбах планеты, не нарушать одиночества другого. В подушках нежности и недосказанности день за днем тонут печаль и смирение.
Когда я вспоминаю нашу жизнь, прошедшую в этом доме, в этой долине, в глубокой тени горы Эгюий, мне в первую очередь слышатся детские голоса Камиллы и Эжена. Они уехали учиться далеко от дома, появляются редко. Я думаю о том, что не умел ни вовремя, ни в достаточном количестве радоваться присутствию в моей жизни детей, теплых, непоседливых, болтливых и веселых малышек. Я не умел как следует наслаждаться чудесными минутами возвращения из школы. Слушать их вопросы и смех — за столом, в саду, на прогулке. Дополнять собственный взгляд их взглядом на вещи.
Детство — слишком привычная тайна. Кажется, что оно задержится надолго, что торопиться некуда, но его отсутствие мгновенно оборачивается черной пустотой, мучительной потерей ампутированного по живому органа.
Мне вспоминается тот летний день на Арканском перевале, когда я подтолкнул вперед обоих своих малышей — к свету, к сидящим кружком матерям, к синему небу, к будущему, — а сам еще долго стоял один в лесной тени.
На что я надеялся? Чего еще ждал? Мне кажется, я упустил главное. Слишком поздно! Иногда я спрашиваю себя, не смотрел ли я на все сквозь цветное стекло, окрашенное покорным «слишком поздно», когда время, может быть, еще оставалось.
Часто мне снится ужасный, хотя и очень простой кошмар. Мне только что исполнилось сорок, и в обстоятельствах сновидения, в котором я действую, эта куча лет кажется мне удручающе огромной в сравнении с той малостью, которую я успел совершить. В этом дурном сне я чувствую себя уже очень старым. Слишком старым. Сбившимся с пути. Пропащим. Это кошмар съежившегося времени и упущенных возможностей. Внезапно я просыпаюсь, разбуженный собственной тревогой, и в серой реальности, в которую я выныриваю, обливаясь потом, мне не сорок лет, а на двенадцать больше!
Слишком поздно! Хорошо еще, что Жанна рядом, она расскажет мне, как прошел день, расскажет о своих заботах. Хорошо, что мне пишут, звонят, что ко мне обращаются незнакомые люди. Хорошо, что работы в мастерской хватает. Великолепные куски зеленого мрамора только и ждут ударов моего резца, чтобы высвободить скрытые в них формы.
И еще я много путешествую. Это возможность впустить в мои загроможденные избытком материи дни немного пустоты. Возможность встреч и забвения.
Вдали от дома я прекрасно понимаю неизбывное желание легкости и движения, с давних пор овладевшее Кларой Лафонтен. Ее пристрастие к мгновенному. Наши с Кларой пути еще много раз пересекались.
Я думаю о ней, разминая комок глины или подметая пол в мастерской. Особенно часто я вспоминаю нашу последнюю, недавнюю встречу. Как ни странно, она произошла на Родосе.
Я уже не раз бывал на острове Колосса, потому что мне заказали каменный памятник, которому я придавал огромное значение. Мне предстояло напомнить о страшных событиях. Когда Средиземноморье заполнили нацистские войска, в старом городе-крепости Родосе за несколько часов было арестовано все еврейское население. Целый квартал, выселенный за одно утро. Опустевшие дома. Мужчины, женщины, дети, старики были согнаны на площадь, затем всех посадили на полуразвалившиеся грузовые суда и отправили в лагеря смерти на территории Польши.
Меня спросили, смогу ли я воплотить в камне память об этом преступлении? Оставить след для грядущего века? Старик, один из немногих уцелевших, — теперь он присматривал за родосской синагогой, — рассказал мне о депортации во всех подробностях, когда мы с ним бродили узкими переулками у стен рыцарских замков, среди эвкалиптов, олив и платанов. Старик говорил на плохом французском вперемешку с плохим английским, но я словно видел воочию все мерзости, о которых он не умолчал. Сияние солнца, озарявшего зло. Было жарко. Я слушал. Террасы кафе были заполнены. Люди фотографировались. Лавочки хранили воспоминания другого рода. Чудом спасшийся старик рассказывал мне о том, как за несколько дней мирные люди, жившие и работавшие на мирном острове, вдали от битв, были переброшены из этого живописного и многолюдного, но спокойного квартала в концентрационные лагеря.
Вот почему, когда мне вновь удалось связаться с Кларой, которой не видел много лет, я, зная, что сейчас она где-то неподалеку, предложил ей приехать ко мне на этот остров.
Я только что отправил заказчикам внушительный макет из фиброцемента, и человек из синагоги выставил его в старом еврейском квартале. Мне хотелось показать Кларе свой проект. Это должна была быть скульптурная группа, состоящая из обобщенных человеческих фигур различного размера, сначала сосредоточенных в центре площади, потом протянувшихся редкой цепочкой вертикально зарытых в землю статуй, уходящей в сторону порта. Все статуи будут невидимо соединены между собой проложенной под землей проволокой, которая затем уйдет под воду и затеряется в открытом море. Видны будут только глаза, потом только лоб, потом только едва приподнимающаяся над землей макушка тех фигур, которые будут расположены ближе к берегу…
Я и на этот раз не был уверен, что Клара приедет ко мне. Я знал, что ей к тому времени должно было исполниться пятьдесят четыре года, и эта цифра казалась мне нелепой. Покинув ярко освещенную улицу, я всматривался в потемки бара в старом городе. Клара пришла.
Я говорю, что это Клара, потому что мы способны узнавать людей, делая удивительные сопоставления. Она? Клара Лафонтен? Эта довольно плотная женщина с седыми волосами, резкими чертами лица, широкой шеей и голыми руками, должно быть, на самом деле сильными, но с виду просто толстыми.
Ее озаряет мимолетный отблеск. Прекрасные глаза остались почти прежними, яркими и прозрачными, но белки покраснели от крохотных прожилок, а родинка, прежде такая черная и пугающая, затерялась в широких тенях, которые залегли под глазами. Я знаю, что она себя никогда не щадила, что хотела «суровой» жизни, хотела всерьез заниматься ремеслом военного фотографа, причем заниматься весьма своеобразно.
Клара пришла в этот родосский бар раньше меня. Замечаю, что она уже немало выпила. Увидев меня, она пытается встать, но, пошатнувшись, тяжело рушится на стул. Мне приходится наклониться к ней, и мы обнимаемся с пришедшей из далеких глубин нежностью, удивляющей нас самих и на время лишающей дара речи.
Я в последний раз в жизни провожу несколько часов в обществе кельштайнской девушки с фотоаппаратом, которую и сегодня еще вспоминают многие журналисты, встречавшие ее в разных уголках мира, где свирепствовала война.
Мы возобновляем странные отношения, то и дело прерывающиеся годами молчания и неведения.
Я тоже пью. Она начала с виски, теперь со мной перешла на узо. С вечером в городе стало прохладнее, мы идем медленным шагом. Клара спотыкается на неровных плитах и цепляется за мою руку. Чувствую, что это женское тело все еще полно энергии, в нем сохраняется нечто животное.
Нас толкают шумные туристы. Мы почти не рассказываем друг другу о своей жизни — болтаем бессвязно, словно не виделись всего несколько недель, и легкомысленно: к этому подталкивает и средиземноморская мягкость, и еще что-то, свойственное Греции, проходящее через века и без разбору овевающее все лица.
Я понимаю, что эти минуты драгоценны, потому что существуют только ради себя самих, мирные и словно зависшие во времени мгновения. На этот раз я уже не опасаюсь, что Клара сделает мне какое-нибудь ошеломляющее признание или заставит увидеть что-то, чего я видеть не хотел. Впрочем, что еще остается увидеть? Она рядом. Тяжело повисла на моей руке, и, чтобы поддержать, я обнимаю ее за талию. Она прижимается ко мне, и мы в темноте идем к порту среди родосских укреплений. Я догадываюсь, что что-то закончилось, совсем закончилось — ничего не осталось.
Я испытываю облегчение, почти умиротворенность. Мне хочется распробовать как следует эту родосскую ночь, и я не спешу вести Клару в старый еврейский квартал показывать в лунном свете макет моего будущего монумента.
Я опасаюсь, как бы напоминание о злодеяниях, совершившихся на этом острове, не пробудило прежнюю Клару. Опасаюсь возвращения тревоги, опасаюсь возвращения давней тоски и напряженности. Мне хотелось бы забыть о камне, весе, тяжести, пусть бы оставался только этот пахнущий жасмином ветерок между вещами, между телами.
Когда мы добираемся до места, луна светит достаточно ярко, чтобы я смог увидеть: кто-то разбил молотком сделанные мной фигуры, и по поверхности задуманной композиции нарисованы нечеткие черные свастики. Мы это видим, но не произносим ни слова, ни я, ни Клара. Проходим мимо черной глыбы синагоги и быстро удаляемся, рядом, но не касаясь друг друга. Клара протрезвела, у меня колотится сердце, челюсти стиснуты, кулаки сжаты.
Я знаю, что Клара завтра же улетит. «Прыгнет в самолет», как она сама говорит. И, еще я знаю, что никогда не сделаю этого монумента, который увековечил бы память о депортации родосских евреев.
В это горькое мгновение, когда ночь особенно ночная, улицы пусты. Подобно глазу циклопа, существует глаз ночи. Тот самый глаз, который «не удалось сомкнуть», как уверяют на рассвете!
Нам с Кларой не надо ничего говорить. Мы думаем об одном и том же. Памятники из гипса. Памятники из снега. Напрасное поминовение. Мертворожденные воспоминания. И память рассеивается, подобно недолговечному пару. Беспокойный и тщательный поиск того, что было, заканчивается у непреодолимой стены, покрытой непристойными рисунками. Тайна — печальная иллюзия. Творческая деятельность, создание форм и картинок — обычное занятие, не хуже и не лучше любого другого, его быстро задавят войлочные слои всегда фальшивого мира.
Позже наша родосская ночь заканчивается на еще теплом пляжном песке, на берегу темных волн, под которыми, может быть, лежит огромный рухнувший Колосс. Пригрезившаяся, изведенная, неуловимая статуя. Белые глыбы мифа, не требующего никакой проверки.
В сравнении с Колоссом мы с Кларой — два крохотных тела, две кучки стареющей плоти, отягощенные впечатлениями, накопившимися за уже долгую жизнь. Ничего грандиозного!
И все же мы знаем, что, каждый со своей стороны, несмотря ни на что, продолжим. Ее удел — путешествия и фотографии. Мой — камень и пыль. Мы не остановимся. Привычка переросла в профессионализм. Умение. Наши запасы энергии еще далеко не исчерпаны.
Но как забыть эту беспредельную горечь греческого рассвета? Как забыть это последнее свидание, последний поединок на берегу древнего моря, на берегу древнего мира, окаймленного шумящей пеной?
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (Веркор, лето 2037 года)
Со временем съеживается и пространство. Любой пустяк кажется одновременно непосильным и хрупким. Со временем начинаешь бояться слишком резких движений — как бы не обрушилась непрочная хижина с картонными стенками, в которой ты теперь обитаешь и которая называется «оставшееся время». Принимаешь меры предосторожности. Привыкаешь к тесноте!
С возрастом тело ссыхается, изнашивается, рассыпается на куски, перестает действовать. Я потерял немало зубов. Сгнили. Раскрошились. Во рту одни дыры. Волосы давно поседели и тоже выпали. Ногти превратились в когти и стали похожими на стекло. Я растерял почти всю мышечную массу. Я бы теперь не сумел поднять молоток и несколько раз подряд ударить по резцу, с точным расчетом приставленному к камню.
Руки у меня пока не слишком сильно дрожат, но колеблются в нерешительности, словно ящерицы, которым только бы забраться на нагретый солнцем камень и наслаждаться неподвижностью.
Я, разумеется, потерял сон. По ночам лежу с открытыми глазами. И тогда вспоминается все, но совершенно перепутанное. Моя память — как осколки камня, оставшиеся на полу после того, как исчезла глыба, от которой их отделили. У меня есть целые дни на то, чтобы справляться с медлительностью. Но мне случается и заснуть где попало, посреди дня, словно старый младенец, словно личинка, забившаяся в складку унылого, продуваемого ветром веркорского пейзажа. И внезапно просыпаюсь от собственного храпа.
Мне трудно бывает встать, но когда я уже на ногах, все в порядке. Я не боюсь. Веду себя так, будто ищу поле боя.
Когда я называю свой преклонный возраст, люди удивляются. Само собой, заявляют, что я «еще в отличной форме». Меня хвалят, но я прекрасно замечаю во взглядах робость и ужас, которые внушает сегодня долголетие. Я имею в виду естественное долголетие: знаю, сегодня существует много дорогостоящих способов лечения, технически устраняющих старость. Те, кто платит за такое, покупают заодно и право официально называть куда меньший возраст. Случается, они помирают — как пузырь лопается. Не будем больше о них.
Когда я хожу, мне в любую погоду требуется крепкая палка. Почти каждый день я иду лугами от своего дома, то есть бывшего дома Филиберта Доддса, к тому, что осталось от деревни. Сбегаются собаки. Полудикие. Идут за мной. Некоторые — в нескольких метрах впереди. Среди них две большие черные с огромными клыками и много мелких палево-желтых с вываленными языками.
Я уже много лет назад, когда Доддс погиб в этой идиотской аварии, получил в наследство его дом. Доддс сделал меня своим единственным наследником. Двусмысленный подарок, ну да ладно.
Он слишком много выпил. Его машина была слишком тяжело нагружена. В овраге нашли груду железа, глыбу мрамора и раздавленное тело скульптора. Камень, плоть и металл. Последнее творение. Со временем все изменилось — и не изменилось ничего. Я пережил почти всех моих друзей и всех близких. А тех, кто не умер раньше меня, я потерял из виду.
Я пережил почти всех своих, я имею в виду всех тех, кто, иногда сам того не подозревая, решительным и потрясающим образом изменил мою жизнь. Всех тех, кто одарил меня крохами чувствительности и понимания. Всех тех, кого я любил, кем восхищался, кому подражал. Всех тех, кто меня любил.
Однажды Большая коса сорвалась со стены и принялась косить вслепую.
Надо же, чтобы Жанну, такую живую и животворящую, безвременно забрала самая отвратительная из болезней, чтобы ее счастливая битва завершилась самым горьким поражением. Измученная Жанна с запавшими щеками и желтой кожей. Я долгое время был убежден, что ее пышная плоть прочнее гранита, что ее нежность долговечнее мрамора. Под конец ее тело почти не приподнимало одеяла.
— Видишь, — задыхаясь, говорила она, — теперь моя очередь, теперь за мной ухаживают. Здесь все меня знают. Обо мне заботятся, меня лелеют. Хорошо, что ты пришел, но подумай о своей работе. И дети тоже приходили.
Ее ледяная рука в моей. Ее страдания — лучше бы я сам тысячу раз вытерпел их вместо нее.
— Иди, ты можешь меня оставить, я в хороших руках. Иди скорее. Сегодня все в порядке. Я чувствую себя лучше.
Некоторые люди именно тогда, когда больше всего нуждаются в вашем присутствии, очень мягко просят вас уйти, оставить их — должно быть, для того, чтобы избавить от подготовки к их собственному и окончательному уходу. Ее смерть — одна из моих смертей.
Моя мать тоже умерла, потеряв милого спутника второй половины своей жизни. Очень одинокая. Однажды она перестала сопротивляться. Рассудок внезапно ее покинул, память сбилась с пути. Ее белые волосы колыхались среди прочих седин в доме престарелых, где она, сидя у окна в неудобном кресле, обитом искусственной кожей, ждала, пока ее маленький Поль вернется из школы. Сто раз в день она настораживалась, тянулась к залитому дождем стеклу, прислушивалась к шагам, которые слышала она одна.
— Он скоро придет… — говорила она сиделке. — Мне не очень нравится, когда он в темноте подолгу болтается с друзьями.
Когда я — слишком редко — ее навещал, мне не удавалось стать ее маленьким Полем, наконец-то вернувшимся из школы, я был взрослым человеком, не вполне чужим, но смутно знакомым, и теперь она объясняла уже ему:
— Он скоро придет. Сейчас поставлю греться молоко, приготовлю ему шоколад.
Ее смерть — еще одна из моих смертей.
Дорогое существо, павшее в разгар невидимой битвы.
У моих детей, Эжена и Камиллы, все хорошо. Они так говорят. Они так кричат очень громко, когда звонят мне по телефону, а в подробности не входят. Каждый на своем краю света. Америка, Азия. Земля стала совсем маленькая. Каждый страшно занят.
На самом деле я ничего не знаю об их жизни. Мне трудно думать о них, представляя себе их теперешние черты, хотя время от времени я вижу на засветившемся экране их лица, лица переутомленных взрослых. Они не расспрашивают о моем физическом и душевном состоянии, но очень мило беседуют со мной. Они непременно объявляются в Новый год, в день моего рождения и в годовщину смерти их матери. Их далекие, преувеличенно радостные голоса повторяют, что у них все в порядке. Все в полном порядке.
— И потом, мы как будто вместе, — уверяют они, — мы ведь можем увидеть друг друга и поговорить!
Как-то аппарат несколько ночей мигал и вибрировал, но на экране никто не появлялся. Я подумал, что звонят откуда-то издалека. В тишине кто-то всхлипнул, и я спросил:
— Камилла, это ты? Ты плачешь? Тебе плохо?
Связь прервалась.
На следующий день я позвонил Камилле. Экран по-прежнему оставался пустым, но голос у нее был хриплый, как бывает после долгих слез. Она уверяла, что сильно простужена и что все «на самом деле в полном порядке». Я продолжал расспрашивать.
— Да, все хорошо, уверяю тебя! — повторила она. — Единственная неприятность та, что сломалась камера. Но ты выглядишь хорошо!
Вот так мы, разделенные тысячами километров, поговорили о заурядных вещах и остались каждый по свою сторону океана, поглощенные каждый своей увлекательной жизнью.
Я потерял контакт со своими детьми — с нашими детьми. Навсегда утратил малышей, какими они были. Никогда больше я не посмею упомянуть о тех странных сказках, которые читал им, когда они приходили ко мне в мастерскую. Камилла не сводила с меня больших глаз. Эжен то и дело перебивал, не мог удержаться, чтобы не продолжить историю вместо меня. Жанна присоединялась к нам. Слушала. Смотрела на нас. Я знаю, о чем она думала.
Я читал то страшным, то смешным голосом. Давал старым чудовищам новые имена. Лепил персонажей из глины. Я говорю «когда-то, прежде, давно», но знаю, что этой оставшейся позади истории не существует уже нигде.
Время стирает все начисто, как будто ничего никогда и не было. Ни игр, ни сказок, ни простых и солнечных минут. Что касается меня — мне теперь кажется, что я не умел отдаваться счастью, когда оно было со мной. Отчасти так, как если бы человек мог любить цветы, белый дождь лепестков в конце весны, только под свинцовым небом, посреди засыпанного снегом пейзажа.
Огоньки прошлого, дрожащие лишь в моей памяти, угаснут вместе со мной.
Со временем становишься мастером по утратам. Впрочем, я и самого себя щедро терял. Не могу себе объяснить, как мог потратить столько сил, столько полных воодушевления часов, месяцев, лет на то, чтобы создавать сначала на бумаге, потом из глины и из камня бесформенных существ.
Со временем из движений, из нервных и мускульных волокон уходит божественное электричество. Странно, но с угасанием воодушевления рассеивается и тревога. Теперь мне иногда в дремотные послеполуденные часы кажется, будто я понимаю, что мое беспокойное влечение к тайне мира и живых существ неизменно сопровождалось и физиологическим стремлением к продолжению.
Тайна? Загадка? Какая загадка? Воображать, будто каждое лицо встает перед нами особенным и не облекающимся в слова вопросом, означает предполагать возможность ответа. Даже те, кто охотится за тайнами, в конце концов убеждаются в исчезновении породы сфинксов.
Макс Кунц, перестав преподавать философию и увидев, что нить Ариадны оборвалась, в конце концов пустил пулю себе в голову. Клара до конца осталась кочевницей.
Я потерял след почти всех моих скульптур. Даже самых тяжелых, самых громоздких. Властные и постоянные изменения пространства происходят для того, чтобы нас запутать. Такая у них цель! Куда подевались мои первые «Одиночества» — деревянные и бронзовые, и «Утроба зверя», и «Смех людоеда», и все «Торсы Себастьяна», и «Казни без суда и следствия», и «Усталость Атланта»?
Но я утратил желание сражаться. Я утратил немалую часть привязанности, которую испытывал к каждой выпуклости и каждой впадине, каждому углу каждого из этих камней. С возрастом хочется все бросить, появляются чрезмерная осторожность и мелочные тревоги, а главное — величайшая снисходительность к этим новым слабостям.
Возможно, я и рассудок тоже отчасти потерял, но не мне об этом судить. Просто сомневаюсь.
Мне скучно становится, если я слишком много думаю, а вспоминать — тяжкое испытание. В иные дни, когда я выхожу на плато, а за мной, едва завидев издали, бегут дикие собаки, на меня посреди луга с топотом, от которого дрожит земля, накидывается целая стая беспорядочных воспоминаний.
Воспоминания скоро меня раздавят, меня и моих псов. Ну и пусть! Они нападают, набрасываются на меня. Давние запахи гипса, камня, типографской краски, трихлорацетата. Королева Франции, плывущая в пространстве, стоя на белом кубе. Лисичка, зевающая в солнечном луче. Серебристые отблески Черного озера. Красные розы в фарфоровой вазе. Родинка под синим глазом. Прохладные руки, теплые колени и тяжелая завеса золотых волос вокруг моего лица. Звуки пианино. Поляна. Гривы бронзовых львов. Удаляющиеся дети, залитые ослепительным светом летнего дня. Голоса. Крики. Самые разные камни. Позолоченный скелет с позолоченной косой под стеклянным колпаком. Звон старинных часов.
Слышу гул воспоминаний. Вижу, как над травой, по которой они проносятся галопом, взлетает труха. Иногда посреди этого стада воспоминаний мелькает Клара. До меня доходят рассказы о ней. Вспоминаю некоторые из ее фотографий. И горестная галлюцинация показывает мне далекие обстоятельства ее смерти, словно я сам был их свидетелем.
Этими картинами я обязан военному корреспонденту, совершенно случайно встреченному годы спустя. Он рассказал мне, как Клара была смертельно ранена на месте событий — так они это называют. Под огнем. Ровно через четыре года после нашей встречи на Родосе.
Другой ночью в другом баре я видел помятое лицо этого типа в зеркале, висевшем напротив нас. Стоя рядом у стойки, мы обращались только к нашим отражениям, мелькавшим среди бутылочных горлышек. Узнав, что он побывал на всех войнах, от Ливана до Чечни, в Иране, Анголе, Палестине, словом, на всех безымянных войнах, с камерой или фотоаппаратом в руках, я произнес это имя: Клара Лафонтен.
— Еще бы мне ее не знать! Она была ненормальная. Мы все ненормальные, если занимаемся тем, чем занимаемся. Это не профессия, это одержимость. Но Клара — это еще и другое… Клара, видишь ли, была такая… Мы знали, что она искала не того же самого, что мы. Композиция, актуальность картинок — на это ей было наплевать! По сути, Клара была военной портретисткой: все, что ей было надо, — это снимать лица разных типов на войне и что-то такое за этими лицами высматривать в ту минуту, когда они убивают, в минуту, когда они даже уже и не думают, что вот-вот могут подохнуть. Представляешь себе, хотя бы примерно?
Потом рассказал мне о той стычке, той перестрелке — спокойно, как рассказывают об этом друг другу военные корреспонденты.
— Идиотизм! С первого раза, как ты начал щелкать, такое может случиться каждую секунду, вокруг стреляют, и ты не знаешь, откуда…
Да, передо мной проходят кадры, негативы. В тот день Клара попала под град камней, которые палестинские дети бросали в израильских военных. Напряжение было предельное. Чувствовалось, что тела детей наполнены восторженной яростью, ненавистью, которую они всосали с молоком. Земля была усыпана камнями. Некоторые из них — очень большие и тяжелые. Клара остановилась на равном расстоянии от вооруженных солдат и тех, кто кидал в них камнями. Она была в каске, но без пуленепробиваемого жилета. Камни часто подскакивали в нескольких сантиметрах от нее, но она, похоже, не обращала на них внимания — она была занята, снимала лица. Телеобъективом. Очень крупным планом.
Клара погибла самым нелепым образом, какой только можно придумать. Военные были окружены, они попытались пробиться, сначала стреляя в воздух, потом открыв настильную стрельбу. Мальчишки бросились врассыпную. Некоторые не испугались огня. Пули из ручных пулеметов изрешетили стены. Один мальчик был задет. Пуля отскочила от железной двери и попала Кларе в легкое. Ее тут же отвезли в госпиталь, там она несколько дней задыхалась и в конце концов умерла. Вот и все.
Лицо репортера исчезло из зеркала, скрылось за облаком дыма. Смерть Клары — еще одна из моих смертей.
Топот огромного стада удаляется по плато. Иду дальше с палкой в руках, одичавшие собаки от меня не отстают, я приближаюсь к деревне, а стало быть, и к кладбищу, перед которым стоит памятник Доддса. Теперь это совсем старый, истертый, постепенно разрушающийся, заросший плющом камень.
Местные жители не воспринимают меня как скульптора, они вообще понятия не имеют о том, кто это такой — скульптор. Они считают меня всего-навсего стариком, который ничего не делает и живет святым духом в полуразвалившемся доме. Выживает. Кто еще помнит статуи Доддса? А мои?
Тридцать лет назад их предкам нравилось, когда я рассказывал истории. В то время я увлекался Милоном Кротонским и имел большой успех, рассказывая им, как сказку, историю этого великого атлета. Дожив до преклонных лет и, возможно, испытав горечь сомнений, Милон захотел доказать самому себе, что по-прежнему очень силен. Он удалился в дикий лес, добрался до поляны, нашел там пень, который лесорубы начали раскалывать, вгоняя в него железные клинья, и решил, что еще способен голыми руками раздвинуть куски дерева и окончательно расколоть пень. Сунув пальцы в щель, он нажал изо всех сил, багровея и напрягая мышцы. Половинки пня чуть-чуть раздвинулись, но из-за этого железные клинья выскочили, и щель сомкнулась, словно злобная челюсть, прищемив пальцы тому, кто не пожелал признать себя стариком. Оказавшись в ловушке, он стал вытаскивать руки, не сломал запястья, но освободиться не смог. Он был один. Вдали от всех. Спустились сумерки.
Вскоре к нему приблизились волки. Они издали почуяли человеческую плоть. Подошли, украдкой потерлись о ноги узника дерева, касаясь влажными носами ледяной кожи. Начали легонько покусывать, потом яростно кусать и, наконец, целиком съели бессильную жертву.
Утром дровосеки нашли скелет. На зажатых в дереве кистях рук плоть осталась нетронутой.
Вот что я рассказывал тридцать лет назад.
— И это произошло здесь? — спрашивали меня слушатели.
— Я бы сказал, это произошло во многих местах, — отвечал я.
Я не прибавлял, что эта история вдохновляла прославленных писателей античности, а тем более — что классик французской скульптуры попытался, когда создавал изображение этого самого Милона Кротонского и обрабатывал резцом глыбу мрамора, как другие высекают рассказы из глыбы языка, передать всю ничтожность и глупость последней битвы. Этого скульптора звали Пьер Пюже. Он подарил свое творение великому королю, и тот в недоумении покачал головой.
С возрастом я и истории рассказывать перестал. Я возвращаюсь в свой пустой дом. Иду через луга, огромные пустые пространства, нагромождения расколотых камней. Ветер дует так сильно, что дождь горизонтально хлещет мне в лицо, в грудь.
Насквозь промокшие дикие собаки идут за мной по пятам. Две большие черные ведут себя угрожающе. Я вижу их алые десны и клыки. Мелкие палево-желтые жмутся к моим ногам. Они ворчат или рычат. Покусывают мне икры. Это вовсе не игра. Я прекрасно вижу, что они что-то задумали. Лениво поколачиваю их палкой, но вскоре, равнодушный к их укусам настолько же, насколько нечувствителен к холоду, сдаюсь.
Меня все равно никто не ждет.
Эпилог
Дети провели ночь, прижавшись друг к другу, в большом дупле. Занялся день, но в подлеске по-прежнему было темно. Вокруг поскрипывали ветки. Брат и сестра протерли глаза и двинулись наугад. Выбравшись из леса, они оказались на равнине, где кипела битва. Сверкало оружие, раздавались крики. Люди резали друг друга.
И вот тогда дети, держась за руки, пошли через поле боя, такие крохотные среди всех этих титанов, чьи десять тысяч вооруженных рук вращались вокруг шлемов и голов. Каким чудом им удавалось не попасть под удар? Они шли напрямик, и смертельные взмахи их не задевали, и пули в них не попадали. Когда дети переступали через тела и огибали горы трупов, казалось, что они невидимы, сделаны из того же вещества, что и сны.
Вот так они, целые и невредимые, добрались до другого края равнины, но резня пробудила в них постыдные желания. Мальчик подобрал с земли упавшую саблю, хвастливо ею замахнулся и стал неуклюжее рубить умирающих, попадавшихся на ею пути, Он выпустил руку сестренки, и та теперь наклонялась над мертвыми, чтобы их обобрать. Вскоре дети шли нагруженные драгоценностями и кинжалами. Однако, удалившись от поля битвы, они беспечно побросали в заросли собранные золото и сталь.
Они вновь погрузились в глубокий лесной покой. Потом шли через песчаные равнины и усыпанные цветами луга. Добрались до ручья, напились из него, смыли покрывшую ноги до щиколоток корку кровавой грязи. Война, казалось, отдалилась. Пели птицы, гудели насекомые. Дети заметили, что идут уже среди полей, огородов и безупречно ухоженных садов.
Они пришли в деревню с нарядными домиками, которые война невероятным образом пощадила. Люди здесь косили, рвали фрукты, собирали овощи или попросту болтали и смеялись.
Эта деревня лежала у подножия горы, поросшей ельником, но крутые, обрывистые тропинки давали возможность подняться по окрестным склонам. Пока дети приближались к главной площади, Жители деревни приветливо и ласково махали им руками. Казалось, все прекрасно их знают, да и им самим показалось, что они все здесь узнают!
Все выглядело родным — каждое окошко с белыми занавесками, каждая скамья под липами, и голоса, и лица — все! Разумеется — ведь это была их деревня! В теплом воздухе плыли ароматы жаркого и похлебки. Они услышали, что их окликают по имени. Значит, никого не встревожило их отсутствие. Никого не пугала близость боев. Никто не думал, что дети пропали, никто не считал их погибшими. На них поглядывали рассеянно, словно они никогда не покидали этого мирного края. А вот у прачечной под открытым небом стоит их мать, она улыбается им и, подняв валек, вновь принимается за дело.
Солнце заходит. Дети привычно свернули во двор своего дома и узнали отца — его фигура с косой на плече вырисовывалась на фоне красного неба. Знакомая тень протянулась в сумерках. Костлявые руки снимали бесконечно длинную рукоятку, а треугольное лезвие торчало застывшим вымпелом. Но это был их отец, вернувшийся домой после целого дня работы в поле, это было его лицо с резкими чертами.
Значит, их деревня не сгорела? Их семья не убита? И они не кружили в ночи? Не встречали людоеда, ведьму и рыцаря, за которым следовали Дьявол и Смерть? А война им приснилась — или они просто выдумали ее от предвечерней скуки?
В кухне мирно томилась на маленьком огне похлебка, от чугунка шел запах кервеля и солонины. Собака потерлась о ноги, потом вернулась на прежнее место у очага. Усталый отец повесил косу на торчащий из стены длинный гвоздь, потом поиграл с собакой. Вскоре вся семья собралась за столом. Похлебка была очень вкусной.
— Дети, вы знаете, что завтра праздничный день? — спросил отец, покручивая усы. — Мы пойдем к берегу Черного озера. Устроим пикник у родника на поляне. Завтра будет чудесная погода!
Мать вытирала руки о передник и радовалась, глядя на семью, собравшуюся вместе, на опустевший, до последней капли вычерпанный чугунок, на огонь в очаге и ночь в прямоугольнике окна. Она уже предвкушала, как завтра темная лесная дорога выведет их на залитую солнцем поляну. Она понесет полную еды корзину. Следом за ней, чуть отстав, пойдет ее дорогой муж, держа в загрубевших руках ручонку сына и ручонку дочери. Завтра. Еще один мирный день. Еще один счастливый день.
Потом все легли спать. И уснули. И спали глубоким сном.
Но посреди ночи их внезапно разбудил ужасный шум: коса, которую отец повесил на гвоздь, вбитый в каменную стену, с грохотом упала на пол. Она лежала на холодных плитах, чуть приподняв угрожающее лезвие.
Раздосадованный отец повесил ее на место. Все снова уснули. Но часом позже коса опять упала, от ее металлического лязга кровь стыла в удилах. Отец не спеша поднялся, с озабоченным видом пошел вешать косу. На этот раз она сорваться не должна была. И снова все уснули, но сон их на этот раз был беспокойным. Часом позже коса упала в третий раз, и лезвие, ударившись о пол, долго дрожало и зловеще ныло.
— Оставь, пусть лежит, где лежит! — сказала мать.
Но никто не мог уснуть, и отец в третий раз пошел вешать косу на место. Теперь каждый ждал в темноте. Каждый ждал, затаив дыхание.
Прошел час. Коса упала. Никто уже не посмел выбраться из постели. Никто не мог забыть эту лежащую поперек кухни косу, чье лезвие еще дрожало в непроглядной ночи.
Отец нашел в себе смелость встать в последний раз. Он наклонился, чтобы подобрать косу, но руки у него дрожали. Он повесил ее как можно лучше, но знал, что напрасно старается. Коса упала снова с оглушительным грохотом.
Полная темнота. Далекий рассвет. Окаменевшие тела.
И только большая коса казалась Живой, и каждый слышал, как ее злобное лезвие шелестит в темноте.
Примечания
1
Мой француз (нем.).
(обратно)2
Француз (нем.).
(обратно)3
Да, да… Красиво! Но что это такое? (нем.)
(обратно)4
Аппарат для проведения различных процессов при нагреве и под давлением выше атмосферного.
(обратно)5
Камень космического происхождения, каменный метеорит (устар.).
(обратно)6
Огонь! (нем.)
(обратно)7
Господин пастор (нем.).
(обратно)8
Господин доктор (нем.).
(обратно)9
Здесь — на память (фр.).
(обратно)10
Филип Марло (Филип Марлоу) — частный сыщик, герой популярных детективных романов в жанре нуара американского писателя Р. Чандлера.
(обратно)11
Кристофер (Кит) Марл — английский поэт, переводчик и драматург елизаветинской эпохи, один из наиболее выдающихся предшественников В. Шекспира.
(обратно)12
Название детективных романов Р. Чандлера.
(обратно)13
Диотима — в «Пире» Платона жрица из Мантинеи, будто бы сообщившая Сократу наставления о существе любви.
(обратно)14
От фр. «enigme» — загадка, тайна.
(обратно)15
Долгое прощание (англ.).
(обратно)16
Пьер Пюже (1620–1694) — французский скульптор, живописец и архитектор, представитель барокко.
(обратно)17
Аппарат для проведения различных процессов при нагреве и под давлением выше атмосферного.
(обратно)18
Камень космического происхождения, каменный метеорит (устар.).
(обратно)19
Большой окурок, бычок от сигареты.
(обратно)20
Бронзовая статуэтка III в. до н. э., изображающая причудливо вытянутого в длину голого мальчика.
(обратно)21
Доверенное лицо (лат.).
(обратно)


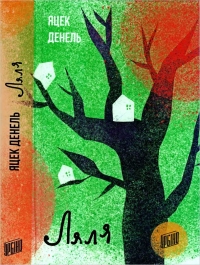


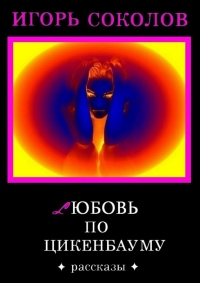
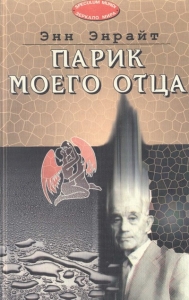





Комментарии к книге «Смех людоеда», Пьер Пежю
Всего 0 комментариев