ГЛАВА ПЕРВАЯ
Когда о ком‑нибудь думаешь, мысленно с ним говоришь.
Вот и сейчас — зарокотал двигатель, в салоне «икаруса» погас свет, все, наконец, притихли. А я ловлю себя на том, что снова заговорил с тобою.
Вздрогнули, двинулись мимо окон зонтики провожающих, в сыром сентябрьском сумраке поплыли огни площади у Речного вокзала, замелькали автобусные остановки, означенные толпами возвращающихся с работы москвичей. А мы уезжаем отсюда, с этой грязной, нелепой площади. Далеко. Через всю Европу.
Что я делаю? Зачем еду? Еще не поздно сойти, спрыгнуть.
Я кажусь себе преступником. Я вконец измотан тем, что со мной происходит за последнее время. Только робкая надежда привела меня сюда. Я смешон себе с этой надеждой. Никто, ничто не поможет. И поделиться не с кем. Только с тобой.
Я сижу слева в третьем ряду, у запотелого окна. Рядом — так получилось — свободное место. То ли из почтения, желая дать мне простор во время долгого путешествия, то ли случайно, но я единственный сижу без соседа. Удобно. С другой стороны — и здесь я один. Никто меня не провожал. Давно уже никто не провожает. Ужасно хочется пожалеть себя.
Ты можешь это понять — ощущение публичного одиночества. Тебя знают сотни, тысячи людей. А ты среди них один. Совсем один.
Но сейчас такое чувство, будто кто‑то невидимый рядом. Тут, справа, в этом специально для него оставленном кресле…
Да, я решился на путешествие только в надежде на то, что хоть здесь буду окружён добрыми, божьими людьми. Быть может, утихнут, сойдут на нет внутреннее раздражение, гнев и боль.
Однажды, давно, я поймал себя на том, что разговариваю с покойной мамой. Не вслух, конечно. Не так, как пугающе шевелят губами беседующие сами с собой безумцы. Да и с живым человеком, когда его нет рядом, порой веду диалог, убеждаю, спорю.
В конце концов, что такое все мои книги? Разговор с тобой. Тоже безмолвный. Посредством считанного количества символов, называемых буквами.
Знаю — все люди, сами того не замечая, ведут постоянный диалог, или монолог, обращённый к кому‑то. Потому я не очень‑то испугался, когда впервые поймал себя на этом свойстве.
Но вот полтора месяца назад, в начале августа, вдобавок ко всему, случилось то, отчего и сейчас бросило в жар. Или это в автобусе стало так жарко?
Я расстёгиваю куртку, снимаю её и осторожно навешиваю на спинку переднего кресла, стараясь не задеть голову какой‑то девушки. Задел.
Оборачивается.
Ангельское болезненное лицо, грубо раскрашенное косметикой.
— Хотите пирожок? У нас в термосе и чай горячий.
— Спасибо. Нет, — отвечаю торопливо. Боюсь столкнуться с ней взглядом. Смертельно боюсь знакомиться с кем бы то ни было.
Она ужинает вместе со своим спутником. Его сухой профиль с седеющей бородкой виден в проёме между двумя спинками кресел.
Оказывается, весь автобус хрустит целлофановыми пакетами, жуёт. Всех разобрал аппетит, как в поезде через час–полтора после отбытия.
В дожде мимо тускло освещённого поста ГАИ сворачиваем с кольцевой автодороги на Минское шоссе. Такое впечатление, что за окном глубокая ночь, хотя ещё только половина девятого, ещё не поздно сойти, выпрыгнуть. Вот промчался навстречу автобус.
…Долго же мы выбираемся из Москвы. Да ещё надолго затянулись проводы.
Когда я с сумкой через плечо вынырнул из метро, разглядел толпящихся у «икаруса» пассажиров и подошёл к ним, я был поражён тем, что половина людей оказались мне незнакомы. Ни на одном из собраний, посвящённых будущему путешествию, я их не видел. Ни разу. Правда здесь были и провожающие — мужья, жены, родители. Помогали закладывать чемоданы и сумки в нижние багажные отсеки автобуса, передавали внутрь салона пакеты с провизией. Лысоватый подполковник и мальчик со школьным ранцем на спине целовались с обвешанной украшениями Ниной Алексеевной — экскурсоводом из Останкинского музея. Провожал и настоятель храма отец Стефан, уже не раз совершавший подобное путешествие.
Он благословлял каждого поднимавшегося по ступенькам внутрь салона. Осенил крестным знамением и меня. А когда расселись по местам, сам поднялся в автобус, произнёс напутственное слово — напомнил, что дорога будет трудна, пожелал всем не раздражаться, не держать обиды друг на друга. Обнялся с сопровождающим нас отцом Василием, вышел, перекрестил автобус и уехал на поджидавшем его «вольво».
Единственный человек, кому я месяц назад решил открыться — отец Василий. Вот он сидит справа в первом ряду. Тоже ужинает, держит в руке куриную ножку, беседует со своим соседом — широкоплечим молодым человеком с модной мужской косичкой.
Ты знаешь, я думал, что отец Василий прост до святости. Поймет, что‑нибудь подскажет, посоветует. Я ведь молюсь, умоляю Отца нашего, чтобы избавил меня от моего страшного свойства. Но оно только усиливается.
В храме, едва я начал исповедоваться, как отец Василий прервал меня, ласково проговорил: «Это вам мнится, кажется. С каждым бывает». Заставил нагнуться, накрыл мою голову епитрахилью, перекрестил, отпуская грехи.
Как же я пожалел о своей попытке! Он, бедняга, не понял. Наверняка подумал, что я спятил. Святая простота.
При всём этом, он мне, к счастью, симпатичен, этот отец Василий. Еще не старый. Лицо крестьянское, словно вырезанное из дерева. После армии служил псаломщиком где‑то в сельской церковке. Женился на москвичке, переехал в столицу, получил долгожданный сан священника. Служит теперь в центре Москвы, в престижном храме, где настоятелем отец Стефан.
Почувствовал, что я о нём думаю. Оборачивается.
— Как едется? Почему не ужинаете? У нас тут есть кое‑что.
Он перегибается через проход. Протягивает плоскую серебристую флягу с надетым на её горловину бумажным стаканчиком.
Не ханжа. Не всякий священник продемонстрирует, что у него есть спиртное.
Плеснув в стаканчик, возвращаю флягу. Достаю из сумки яблоко.
Вот и я собираюсь ужинать. Как люди.
«Икарус» мчит сквозь ночь в сторону Смоленска. За чернотой окна мелькают мокрые редкие огоньки. Двенадцатый час.
Сидящая впереди девушка спит. Склонила голову на плечо своего седеющего спутника. Наверное, чудесное ощущение: приклонить голову к плечу родного, близкого человека. Сколько нас, кому некуда приклонить голову…
Справа рядышком через проход — Нина Алексеевна. В тренировочном костюме, при всех своих драгоценностях. Сидит, листает при тусклом свете русско–французский разговорник.
В два глотка выпиваю обжигающую жидкость. Это разведённый спирт. Заедаю яблоком.
Можно понять тех, кто прибегает к алкоголю. Тепло, иллюзорное тепло, разливающееся в теле, успокаивает. Пусть на время. Быть может, если бы я таскал при себе такую фляжку, я бы легче перенёс ужас последних месяцев.
Скажи, почему так бывает, что все плохое со всех сторон наваливается на тебя разом. Одновременно. А хорошее — никогда?
Впрочем, порой, очень редко, случались у меня и полосы удачи.
А ведь в самом деле все тогда началось чуть ли не в одно и то же время. Странно, что до сих пор я не обратил внимания.
Как же это началось? Когда я застиг себя на том, что говорю с тобою?
Внезапно меня прижимает к спинке кресла. Автобус тормозит, сворачивает на обочину.
С переднего сиденья поднимается мелко завитая растрёпанная блондинка в красном, как помидор спортивном костюме в обтяжку.
Объявляет:
— Стоянка пятнадцать минут! Кто хочет прогуляться, или, как говорят, «сходить до ветра»… Больше до утра, до границы с Белоруссией, стоянок не будет.
…Мокрое ночное шоссе. Изредка, ослепляя фарами проносятся тяжёлые рефрижераторы, задраенные брезентом «КАМАЗы», от них шибает ветром.
Курю под прикрытием тёмной громады нашего «икаруса».
Из придорожных кустов, за которыми угадывается стена леса, выныривает низенькая седая старушка.
— Здравствуйте, как я рада, что вы с нами! Помните меня? Я — Антонина Александровна.
— Тонечка! — пригнувшись, обнимаю её, приподнимаю над землёй. — Как вы? Сто лет не виделись.
— Да. Три года прошло. Почки больше не беспокоят. Много раз хотела вам позвонить, да не решалась. Но молюсь о вас и дома, и в храме. Всегда. Спасибо вам, — она поправляет сползшие на переносицу очки. — Как же я рада, что вы с нами! Видела — вы один едете, можно как‑нибудь сяду рядом, хочется поговорить.
— С удовольствием.
— И ещё просьба: там, на заднем сиденье компания молодёжи. С гитарой. Они тоже читали ваши книги. Просят, чтоб познакомила с вами.
— Ну, что ж…
— Доброй ночи.
Подсаживаю её в автобус. Тепло, совсем другое тепло, чем от алкоголя остаётся во мне после встречи с этой рано состарившейся женщиной.
Сразу после первого курса МГУ попала в концлагерь. Семь лет. Потом был муж, сошёл с ума, умер в психиатричке. Все о ней помню, все. Теперь поёт в церковном хоре. На левом клиросе.
Два наших водителя обходят «икарус», задумчиво пихают ногами по шинам. Один — я уже слышал, что его зовут Коля — длинный, костистый, одет не по сезону в майку–безрукавку и джинсы, другой — низенький, толстый. Вылитые Дон Кихот и Санчо Панса.
Придерживаясь за поручень, из дверей высовывается блондинка в красном костюме. Кричит:
— Все в автобус! Уезжаем!
Отец Василий в чёрной рясе с большим крестом на цепи проходит мимо, у дверей останавливается, пропускает вперёд водителей и всех остальных. Тихо спрашивает:
— Найдется для меня сигаретка? Привык с армии. Не могу отвязаться.
Угощаю сигаретой. Щелкаю зажигалкой. Он торопливо, с нескрываемым наслаждением затягивается.
— Подушечку под голову захватили? Ночь будет трудная.
— Не беспокойтесь.
Короткий, деликатный гудок заставляет нас затоптать сигареты. Поднимаемся в автобус, и дверца захлопываются за нами.
Блондинка в красном тренировочном костюме стоя пересчитывает пассажиров. Когда я протискиваюсь мимо неё к своему месту, говорит:
— Ну и рейс! Ни одного интересного мужчины. Есть один, да и тот с косичкой. Педик. Между прочим, меня зовут Надя.
Забираясь в своё кресло, мельком вижу: сидящая впереди меня парочка, кажется, ссорится. Девушка с болезненным лицом вырывает из рук своего спутника сумочку. А сзади оказывается другая пара: коротко стриженная, с проседью женщина и полная девица, глянувшая на меня наивными, коровьими глазами навыкате. Мать и дочь. Видел их на собрании в церкви.
…И снова автобус мчит в ночи.
Во мне вдруг возникает видение: именно по этой дороге надвигается на Россию наполеоновская армия. Сначала туда, потом, разбитая, обратно. А через сто с лишним лет — моторизованные колонны вермахта, танки, грузовики. Тоже сперва туда, затем обратно. Словно гигантский поршень истории. И вокруг в земле — черепа, скелеты миллионов густоволосых юношей. Тех, кто познал предсмертную муку в холодных лесах…
Слава Богу, в этих событиях я не виноват. Когда началась Вторая мировая война, я был мальчиком.
Как ты думаешь, может быть, тогда тоже существовал кто‑то, чьё присутствие на земле вызывает войны и всяческие несчастья?
Что за судьба такая? Каждый раз, когда где‑нибудь появляюсь: в Нагорном Карабахе, в Грузии, в Таджикистане, в Чечне, в Северной Осетии, в Ингушетии — через некоторое время там вспыхивает война…
Самое обидное — я очень люблю эти места. И меня, смею думать, там тоже любили.
С людьми немного иначе. Если человек ухитрился вызвать во мне раздражение, гнев, если я вижу его неправедность, его гнусные поступки, мысли — даже не по отношению ко мне лично — с этим человеком обязательно случается несчастье.
Кто я, чтобы судить других? поверь, я никому не желаю зла. Сознательно. Никому. Никогда.
Ты знаешь меня, знаешь мои книги. Я не хочу этого. Всю жизнь учился любить людей, прощать их…
Ты ведь знаешь, кроме того, что я пишу книги, я лечу людей. Давно. Уже лет двадцать как возникла во мне эта способность. Не сразу. Не вдруг. С детства было странное, пугавшее маму свойство: если вижу рядом чужую боль — мне так же больно. В детском саду или в школе делают прививки, я хлопаюсь в обморок в тот момент, когда игла шприца вонзается в тело. Не моё. Другого ребёнка. Точно так же чужое горе, страдания переносятся на меня…
«Икарус» мчит сейчас мимо ночных настороженных лесов и полей по старой смоленской дороге. Здесь, в спящем автобусе, кроме Антонины Александровны наверняка есть и другие бывшие мои пациенты..
Стоп! Вспомнил, когда я начал разговаривать с тобою.
В августе надвинулось понимание моей личной вины в несчастьях людей. И одновременно, в том же августе совсем незнакомые читатели моих книг — муж и жена из Санкт–Петербурга примчались в Москву и явочным порядком привели ко мне в квартиру свою знакомую — Дженнифер.
Послушай, а ведь войны вспыхивают не когда я нахожусь в той местности, той стране, а когда уезжаю оттуда…
Слушай о Дженнифер. Я должен тебе о ней рассказать, и да не подумаешь ты, что я хвастаюсь.
Не человек, а тень человека с еле слышным голоском, Дженнифер за три недели до появления у меня в Москве была выписана из нью–йоркской онкологической клиники. Раковая опухоль в верхнем отделе позвоночника. Множественные метастазы, протянувшиеся в мозжечок, в печень, в тазобедренный сустав левой ноги… С этим диагнозом после долгого лечения её выписали умирать. Объяснили, что жить осталось две- три недели. Что за этот срок она может завершить все дела, со всеми попрощаться.
Кто его знает, может быть, они там, в Америке правильно делают, когда говорят правду в глаза? Как ты думаешь?
И вот Дженнифер — мать троих детей, жена богатого судовладельца — прилетела в Санкт–Петербург, оттуда со своими российскими друзьями — ко мне. В замешательстве смотрю то на эту тень человека, то на рентгеновские снимки с полосами метастазов и уж конечно не предполагаю, что через полтора месяца буду сидеть в кресле мчащегося на запад «икаруса». А она, она жива! Здорова, как после всех рентгенов и анализов констатировали её врачи. Звонила накануне моего отъезда, очень огорчилась, что уезжаю.
Признаюсь тебе — как произошло исцеление Дженнифер, я толком не понимаю. Ведь сам раньше говорил всем и писал, что рак «бесконтактным энергетическим способом» никто никогда не вылечивал. Да, шарлатаны брались и берутся, дерут с больных огромные деньги, порой снимают боли. Все очень быстро кончается дымом из трубы крематория.
Я, конечно, очень рад за Дженнифер. Но есть ещё и другое чувство: мне не то чтобы страшно, а как‑то грозно, жутковато.
При последнем разговоре по телефону сообщила, что вышла на работу. Работает в социальной службе Нью–Йорка, оказывает помощь беспризорным негритянским ребятишкам. Снова села за руль. По случаю выздоровления муж подарил ей «мерседес» последнего выпуска.
Жена богача, а работает.
…Не даёт покоя мысль о том, что война всегда возникает в тех местах, откуда я уже уехал, отбыл… Выходит, я не имел права уезжать сейчас из Москвы? Неужели теперь и там прольётся кровь, люди начнут убивать людей?
…Без двух минут час. Нужно заснуть, что бы подумали мои попутчики, если бы узнали, о чём я размышляю?
Я сдёргиваю со спинки переднего сиденья куртку, скатываю её валиком, засовываю под голову, примащиваюсь поудобнее. Последнее время ко всем бедам добавились ещё и пугающе однообразные сновидения. То старик с какой‑то шкиперской бородкой, то смуглое лицо смеющейся белозубой девушки, то странный предмет…Только тебе и могу рассказать об этом. Раньше думал о тебе. Очень часто. А теперь вот всё время общаюсь с тобой. С тех пор как исцелилась Дженнифер.
Если я действительно рехнулся и все — плод моего воображения, если так — куда делись опухоль и метастазы Дженнифер?
…Откуда‑то спереди, с водительского места потянуло табачным дымом. Он там курит, шофёр, а правее него, чуть ниже, виднеется пустое кресло у самого выхода..
Поднимаюсь, иду вперёд.
— Можно здесь с вами посидеть? Не спится.
— Почему нет? Хотите сигарету?
— Спасибо. У меня есть.
Закуриваю. Дым тонкой струйкой утягивается налево мимо Колиной головы в приспущенное окно, откуда разит холодом.
Коля уже не в короткой маечке — в пушистом свитере. Он, видимо, рад возможности развеять одиночество ночной вахты. Сосредоточенно ведёт машину. Ругает выбоины, мокрый асфальт, плохие дороги, вообще — Россию.
Стряхиваю пепел в целлофановую оболочку от своей пачки «Родопи» и чтобы сбить его с этой неприятной для меня волны поношений, спрашиваю:
— А где напарник?
— Вахтанг? В заду автобуса. — Подмигнув, понижает голос. — Спит там с Надеждой.
— Он что, её муж?
— Какой там… Мы её рабы. И автобус тоже, — он зло выщёлкивает докуренную сигарету в окно. — Хозяйка туристской фирмы. Понятно? Сдала вашей организации «икарус» в аренду. И сама поехала. Бесплатно. По всей Европе…
— Понятно. А вы уже ездили?
— Только в Польшу. Возил «челноков» за шмотками. Ну и публика, я вам скажу… Хотите кофе? Вон у вас в ногах сумка с термосом.
— Спасибо, Коля. Лучше не буду. Совсем не засну.
— Ну, доброй ночи. Утром граница с Белоруссией, к вечеру должны быть в Польше.
Я возвращаюсь в своё кресло, снова подкладываю куртку под голову. Дремота волнами накатывает на меня. Хочу спать и боюсь уснуть.
Закрываю глаза. И вновь в темноте возникает странный золотистый цилиндр… В жизни не видел ничего подобного.
ГЛАВА ВТОРАЯ
За спиной голоса попутчиков, грязная, вытоптанная поляна, куда перед подходом к польской границе до нас, наверное, сворачивали многие автобусы, и где теперь стоит наш «икарус».
А здесь среди мокрой травы и деревьев чисто, первозданно. Грибы дразнят, показывая из‑под первой палой листвы свои шляпки. Подосиновики, сыроежки, маслята. Дважды прошёл мимо коренастых красавцев — белых. Странно, что она их не взяла. Не заметила что ли? Или решила прихватить на обратном пути?
Знал бы ты, как хорошо размять ноги после мучительной ночи в автобусе!
Тепло и сыро. Перепархивают, попискивают пичуги. Спотыкаюсь о трухлявый ствол дерева.
Я ищу Светлану. Ту самую девицу с глазами навыкате, что сидит сзади меня со своей коротко стриженной матерью.
Подношу ко рту сложенные рупором ладони:
— Светлана!
Нет ответа. А лес все гуще. Отвожу упругие ветви орешника, шагаю все дальше.
…Перед рассветом останавливались на границе с Белоруссией. Показав пограничникам документы, Надя вернулась в автобус, сказала, что нас не пропустят, если не будет оплачен «экологический сбор». Будила спящих, собирала с каждого деньги. Мать Светланы была единственной, кто пытался протестовать, кричала, что это разбой.
Когда покатили мимо стеклянной будки таможни, я увидел: таможенник делит добычу со своим напарником.
А теперь уже пятый час дня. Мы где‑то совсем рядом с Гродно. Знаешь, честно говоря, я уже и сам побаиваюсь заблудиться. Вокруг настороженная лесная чащоба. Ни тропки, ни пня, никаких следов человека. Странно, ведь по другую сторону грязной поляны, где стоит наш «икарус», плетни — то ли хутор, то ли деревня. Неужели местные жители не пользуются лесом, не собирают грибов?
Наши водители давно уже сходили в посёлок за железной тележкой, выволокли из багажного отделения автобуса огромный бак с горючим, отвезли его на хранение какому‑то деду, чтобы на обратном пути из‑за границы сэкономить деньги, потому что горючее за это время наверняка снова подорожает. И вот, когда все уселись по местам, выяснилось — нет Светланы.
— Светлана! — снова зову, зная, что никто не откликнется. И вздрагиваю от неожиданности. Сзади из‑за кустов раздражённый голос:
— Она уже на месте. Идемте скорей, уезжаем.
За орешником возникает прямая, как жердь, фигура человека с седеющей бородкой. Он с самого начала путешествия вызывает во мне неприязнь. Неизвестно почему. Это опасно для него.
— Идиотка! — в сердцах говорит он, голенасто вышагивая рядом. — Набрала полный подол радиоактивных грибов, через три часа явилась к стоянке, просит развести костер… Чтобы поджарить, всех угостить… Столько времени потеряли.
— Как вас зовут?
— Георгий Борисович. Георгий.
— Георгий, мне вот тоже в голову не пришло, что здесь чернобыльский шлейф… Ну простите её! Девочка ещё, лет семнадцать.
— Какие семнадцать?! Мать говорит — восемнадцать!
— Хорошо, восемнадцать. Вспомните, куда и зачем мы едем…
Он сшибает ногой белый гриб.
Молча подходим к поляне. У раскрытых дверей уже готового к отъезду «икаруса» напряжённо улыбаясь стоит накрашенная соседка Георгия.
— Что ты тут торчишь? — Он подсаживает её в автобус.
Поднимаюсь вслед за ними. Трогаемся.
Объясни, скажи, пожалуйста, почему все‑таки этот человек мне так неприятен? Ведь по существу он прав, хоть и зануда. Задержала всех ради своей прихоти, заставила искать себя… В самом деле, большая деваха, могла бы соображать.
Оглядываюсь. Светлана сидит заплаканная. Мать, запрокинув голову, пьёт кефир из пакета.
За окном мелькают невзрачные серые домишки, элеватор, фабрика, дома с магазинчиками, очередями, вдоль длинной лужи трусит шелудивая собачонка с чем‑то похожим на крысу в пасти. Жалкое предместье пограничного города. Пока не видно никаких признаков границы. Но её приближение отчего‑то чувствуется.
Все вокруг меня яростно едят. Вон и Георгий жуёт. Сзади мне видно, как от движения челюстей шевелятся его хрящеватые уши. Автобус заражён нервным напряжением. А ведь каждому, надеюсь, нечего бояться. Уверен, никто не везёт контрабанду — наркотики или лишнюю валюту. Едят. Торопливо. Будто такая возможность представилась в последний раз. То ли просто от долгой ходьбы в лесу, то ли поддаваясь общему настроению, я тоже начинаю испытывать голод. В сумке осталось три яблока и два бутерброда с сыром. Не стану их доставать. Не хочу подчиняться этой атмосфере.
Понимаю, я тебе смешон. Но скажи, ответь, отчего всю жизнь я так опасаюсь любого проявления стадности, бегу от неё? Ни разу никто не мог заставить меня пойти на демонстрацию, смотреть с тысячами людей футбольный матч. Вообще терпеть не могу толпы, всяческих сборищ. Думаешь, индивидуалист? Но ведь если знаю, что действительно нужен, если моё вмешательство словом ли, поступком способно что‑то реально изменить, кому‑то помочь — тогда принуждаю себя выйти «на люди».
В стране, которую мы сейчас на время покидаем (вот уже и железные разделительные загородки вдоль шоссе, вот и глухие бетонные заборы по сторонам, в этой стране людей превратили в массы, то и дело гоняют слушать различных ораторов, заполнять аудитории и площади, аплодировать, голосовать.
Тем не менее есть хочется. А тут ещё оборачивается спутница Георгия, протягивает пластмассовую чашечку с горячим чаем.
— Спасибо большое.
— Вот вам ещё пирожок с яйцами и рисом. Берите, берите! У нас целый рюкзак продуктов.
— Спасибо. Как вас зовут, добрая девушка?
— Ольга.
Георгий участия в разговоре не принимает. Не обернулся, не покосился даже. Жует. Уши его недовольно шевелятся. Кто ему эта Ольга? Дочка? Младшая сестра?
Ты, мой незримый собеседник, лучше кого бы то ни было поймёшь, какое это блаженство — первый глоток горячего чая после отъезда из дому. Только принимаюсь пить и есть, как автобус тормозит, останавливается рядом с длинной очередью легковых автомашин. Двери его распахиваются.
— Жду здесь уже четыре часа! Где вы задержались?!
С этим возгласом в «икарус» поднимается обвешанный двумя большими сумками коренастый человек, которого я меньше всего хотел бы видеть. Особенно тут.
Представь себе, это — Акын О'кеич!
Он целуется с отцом Василием. Обнимается с нашей руководительницей Надеждой. Взмахом руки приветствует всех. Пробирается по проходу, задевая сумками сидящих.
— Здорово, старик! Я знал, что ты едешь с нами! Здесь свободно?
— Занято, — говорю я с максимальной сухостью, на какую способен.
— Жаль, — он все‑таки опускает сумки на сиденье. — Я хочу ехать с тобой. Господа, кто здесь сидит? Догонял вас с самой Москвы. Только вчера вернулся из Средней Азии, хоронил отца. И сразу самолётом в Минск, оттуда сюда, в Гродно. Даже обогнал на четыре часа…
«Господи, помилуй, — молюсь я про себя, — Господи, помилуй…»
Автобус тем временем медленно движется вдоль череды автомашин туда, где уже виднеются низкие здания контрольно–пропускного пункта, какие‑то будки.
Со своего места поднимается отец Василий. Улыбаясь, подходит к Акын О'кеичу, ласково берет его за плечо.
— Граница. Садитесь скорей. Вон рядом с водителем откидное кресло, устраивайтесь. Будете ехать впереди всех, все вокруг видеть.
— Благодарю. — Акын О'кеич подхватывает сумки, вдруг склоняет голову. — Благословите, батюшка!
Отец Василий размашисто осеняет его крестным знамением, усаживает в откидное кресло. Но автобус останавливается, и Акын О'кеич вынужден встать, чтобы выпустить наружу Надю с бумагами.
А я сижу, прийти в себя не могу. О'кеич крестился! Ты скажешь, что я плохой, нехороший. Что путь каждого к Богу неисповедим. Что нельзя осуждать кого бы то ни было, тем более если человек уверовал. Чувствую, слышу — весь автобус в шоке от моего хамства, вроде бы ничем не спровоцированного.
Возвращается Надя с пожилым офицером–пограничником. Поднявшись в автобус, он с недоумением смотрит на отца Василия, вздумавшего перекрестить и его. потом объявляет:
— Всем оставаться на местах. Приготовить паспорта.
Тишина. Почти священная, пограничник движется по проходу. Наверняка сам никогда никуда не выезжал. Явно ненавидит всех, кого каждый день вынужден выпускать.
Доходит до меня. Берет паспорт. Взгляд на визы, на фотографию. Цепкий взгляд снова на меня.
Я сведён до нуля, превращён в ничто.
Пограничник двинулся дальше. И автобус медленно двинулся вперёд. Останавливается у таможни. Справа и слева от нас низкие столы для досмотра багажа.
Пограничник со стопкой паспортов выходит, Надя — за ним. Наши водители уже стоят снаружи, отпирают нижние отсеки «икаруса», готовы предъявить чемоданы и сумки.
— Друзья! Братья и сестры! — Отец Василий встаёт со своего места и, поправив крест на груди, обращается ко всем. — Давайте помолимся вместе,' чтоб не было никаких осложнений.
И автобус загудел вслед за ним.
«Отче наш! Иже еси на небесех…»
Вижу в окошко — таможенник, принявшийся было потрошить чей‑то чемодан, прислушивается, потом, махнув рукой, берет у Нади бумаги, уходит с ней в будку.
Мне стыдно. Ты поймёшь меня. Может быть, только ты и поймёшь.
Грубое крестьянское лицо отца Василия исполнено вдохновения. Поет, разделяя слова на слоги, дирижирует. Мелькает рукав его чёрной рясы.
— «И ос–та–ви нам дол–ги на–ши, я–ко–же и мы ос–тав–ля–ем дол–жни–ком на–шим»…
Отсюда, где я сижу, Акын О'кеич мне не виден. Наверняка поёт вместе со всеми. Почему бы и нет? А может, он молится не о том, чтобы таможенники скорей отпустили — о своём умершем отце? Хорошо его помню. Невысокий, вальяжный. Когда приезжал из своей Азии, где создал национальный балет и оперу, расхаживал по московской квартире в длинном халате с кисточками, попивал коньячок, заедал его лимоном, а нас, мальчишек щедро потчевал сушёной дыней и шоколадом. Жил он, как правило, там, в средней Азии с узкоглазой красавицей–женой. А мы с Акын О'кеичем год учились вместе в одной школе, в восьмом классе. У него увидел я первый в своей жизни магнитофон. С большими бобинами. Девочки валом валили в гости послушать джазики, потанцевать.
Потом и Акын О'кеич заделался композитором, популярным автором слащавых песенок, киномузыки. Был даже депутатом горбачевского Верховного Совета СССР.
Да, поёт. Повернулся на своём откидном кресле к отцу Василию, вторит:
— «И не вве–ди нас во ис–ку–ше–ни–е, но из–ба–ви нас от лу‑ка–во- го»…
Это я прозвал его Акын О'кеичем за то, что заискивает перед американцами. Входит в автобус Надя, возвращает нам паспорта. Поднимаются Коля с Вахтангом, который садится на водительское место.
Едем, наконец.
Не успели проехать метров двести, снова остановка. В отворившихся дверях появляется весёлый, толстый человек в форме.
— День добрый, Панове! Ваши паспорта!
Быстро движется по проходу, сверяет фотографию с лицом, шлёпает печаткой по странице паспорта, отдаёт.
Козыряет на прощанье:
— Щесливей дроги!
Скажи, отчего мы, люди, с такой бездумностью, не сговариваясь, ухитрились разгородить подаренное нам чудо — огромную вращающуюся планету — на зоны с охранниками, стреляющими смертью, загнали самих себя в тюрьмы государств? Человечество заигралось в дьявольскую, дурацкую игру.
Наверняка ты горько улыбаешься, внимая моим мыслям. Тем более, я сам, о Господи! — только что, час назад, имел наглость провести границу между собой и другим человеком!
…Какая‑то сила рывком поднимает меня с кресла. Иду вперёд, чтобы забрать Акын О'кеича к себе. И ловлю себя на том, что забыл, как его на самом деле зовут. Как назло, не могу вспомнить.
Видимо, измотанный своей дорожной эпопеей, он уже спит, откинул мотающуюся голову на спинку кресла. В растерянности смотрю на скуластое, небритое лицо, полураскрытый рот с крупными зубами. Не могу вспомнить имени.
В конце концов протягиваю руку, чтоб разбудить его. И тут до моей спины дотрагивается отец Василий.
— Не тревожьте. Умаялся, пока догонял наш «икарус».
Оборачиваюсь. Священник укоризненно покачивает головой. Мельком замечаю — у плечистого красавца с косичкой из‑под распахнутой кожаной куртки сверкает золотой крестик, в ухе — серьга.
Весь автобус смотрит, как я, не солоно хлебавши, возвращаюсь к своему месту. Все явно осуждают мой поступок по отношению к Акын О'кеичу.
Одиноко сижу у окна рядом со вторым свободным креслом. Кажусь себе жалким, маленьким. Там, снаружи, уже светятся цепочки жёлтых фонарей над опрятными улочками окраин Белостока, мелькнуло островерхое здание костёла.
Скажу тебе откровенно: сейчас для меня было бы величайшим даром, если бы отец Василий или эта болезненная девушка обратились ко мне хоть с каким‑нибудь вопросом, даже просто обернулись.
Но нет. Отец Василий оживлённо разговаривает со своим соседом и с проснувшимся Акын О'кеичем. Они передают из рук в руки серебристую фляжку. А девушка опять ссорится с Георгием. Он насильно впихивает ей в рот какую‑то таблетку. Она, кажется, плачет.
Как бы невзначай оглядываюсь. Светлана с матерью что‑то подсчитывают на карманном калькуляторе.
Вечно меня выламывает из обычной человеческой жизни. Теплой и хлопотливой, как муравейник. Вечно преступаю невидимые границы, чувствую себя осуждённым. Знаешь, я хорошо, может быть, слишком хорошо помню, как это началось.
…Мне 10 лет. Январь. За окном густо–густо валит снег. Второй день как кончились зимние каникулы. Мама и папа ушли на работу. А я не пошёл в школу, потому что вчера меня судили всем классом.
Густо–густо падает снег одиночества.
Перед Новым годом, перед каникулами всем нам роздали зверюшек, птиц и рыбок из живого уголка школы: в каникулярное время там некому было за ними ухаживать.
Мне достался деревянный ящичек с белой мышкой. Она, действительно, белая, как снег, с красными глазками.
Дома ставлю этот ящичек в укромное место под этажерку, выпрашиваю у мамы морковку, горсть пшённой крупы и кусок сахара. Мышка с энтузиазмом принимает угощение. Хорошо помню, как счастливый оттого, что мне доверили мышку, встаю ночью с постели проведать её. Открываю дырчатую крышку ящика, глажу тёплую спинку зверька, снова закрываю.
А утром ящичек оказался пуст.
Несколько дней подряд мы разыскивали беглянку, орудовали веником, шваброй, передвигали мебель. Отец соорудил из кусочков сала хитроумную дорожку, ведущую к ящику. Но мышка непостижимым образом исчезла навсегда.
В конце первого дня занятий судилище во главе с нашей классной руководительницей Еленой Ивановной единогласно постановило: не разговаривать со мной две недели.
На другой день я просто не пошёл в школу.
С тех пор я, кажется, вечно стою у окна, за которым падает густой–густой снег. Сквозь тот самый снег я сейчас смотрю на Польшу за окном. Быть может, ты улыбаешься, но я уже не знаю, что более реально — тот вечный снег, тот вечно одинокий мальчик у окна, или этот тёплый польский вечер. Прямо‑таки слышу, как ты говоришь, что я жалею себя, ищу оправдания…
И снова ты прав — жалею.
…Где‑то там, сзади, в самом конце автобуса уже не в первый раз затренькала гитара, что‑то возвышенное запели молодые люди. Вроде бы, по словам Тонечки, так хотели подсесть, познакомиться… И она тоже не подошла.
Все зачарованно смотрят на Польшу. Наверное, многие впервые за границей.
Веки слипаются. Хочется спать. И, как всегда в последние месяцы, боязно. Почему так навязчиво стали преследовать меня во снах этот нелепый цилиндр из золотистой соломки, это лицо старого человека со шкиперской бородкой, смуглая смеющаяся девушка?
Сами по себе эти видения ничуть не страшны. Жутковато становится от их повторяемости.
Все‑таки задрёмываю, проваливаюсь куда‑то, засыпаю. Из небытия, из глубины этого провала наплывают миндалевидные карие глаза, белозубая улыбка. Девушка смотрит прямо на меня. Кажется, берет за руку, хочет куда‑то вести, тянет.
— Извините. Вы так стонали во сне.
Просыпаюсь. Оторопело перевожу взгляд на маленькую, седенькую Тонечку.
— Вам снилось что‑нибудь плохое? Хотите, посижу рядом? Проезжаем мимо Варшавы. Надежда звонила на стоянке. Нас здесь не принимают на ночлег из‑за какой‑то группы из Литвы. Едем во Вроцлав.
Смотрю на огни окраин вечернего города. Они вырывают из темноты фрагменты невзрачных зданий, деревьев. Светящейся гусеницей ползёт невдалеке трамвай, набитый пассажирами.
Смотрю, не могу отрешиться от улыбки белозубой девушки.
— Вы так стонали. От всего дурного помогает молитва. Давайте помолимся вместе? — Тонечка присаживается рядом, достаёт из специальной торбочки потрёпанный, чёрный с крестом на обложке молитвенник, раскрывает его и принимается тихо бубнить, — «Да воскреснет Бог и расточатся врази его…»
Я благодарен ей и одновременно испытываю нарастающее раздражение от её постного личика, от того, как, не вдумываясь в то, что она произносит, Тонечка с прикрытыми глазами шпарит одну молитву за другой, будто заведённый механизм.
— А теперь, хотите, прочту акафист Божьей Матери? — спрашивает она минут через пятнадцать чтения, видимо, ничуть не устав.
— Хорошо, — отзываюсь я и чувствую, как во мне возникает протест.
Я не вижу смысла в таком механическом бубнении. Это всё равно, что
молитвенные колеса, которые день и ночь крутят в пагодах, не давая труда ни сердцу, ни уму.
А Тонечка во всю шпарит и шпарит акафист, все так же прикрыв глаза. И до меня доходит, что в данном случае молитва — её наркотик, помогающий хоть на время выключиться, уйти от собственных проблем, от жизни.
Ты скажешь — она имеет на это право. Я тоже так думаю. Порыв жалости заставляет меня обнять за худенькие плечи эту самозабвенную птичку, притянуть к себе.
— Спасибо, Тонечка. Лучше объясните, кто эти люди вокруг нас? Откуда они взялись? Ведь мы не видели их на собрании в храме.
— Да. Здесь много случайных, просто неверующих. В основном это креатура Нади — хозяйки туристской фирмы. Ее автобус, её водители. Церковь бедна. Поэтому и спонсоры. Они заплатили по сколько‑то сотен долларов, половину суммы дали экуменисты, к которым мы едем. Иначе таким, как мы с вами, и мечтать было бы нельзя о поездке. По крайней мере, бизнесмен Игорь, тот что сидит с отцом Василием, носит крест на груди. И то слава Богу!
— Кто он такой?
— Снимает какие‑то видеоклипы. Знаете, где песни поют. Называется шоу–бизнес. Да вы не огорчайтесь. Самое главное — молитвенный настрой. Там, сзади, где я сижу, истинно верующая молодёжь, всё время поют под гитару чудесные духовные песнопения. Сами сочинили! Рай! Так бы всю жизнь и ехала… Это они хотят к вам подойти…
— Пусть подходят, — говорю я и тут же спохватываюсь, — Впрочем, все суета.
— Нет–нет, сейчас подойдут, — Тонечка срывается с кресла, — я им скажу.
Подходят, знакомятся.
Сдвигаюсь вплотную к окошку, чтобы усадить рядом девушек, тем более, худенькие, поместятся. А их предводитель Миша — длинный, узкоплечий, в очках со свисающей цепочкой шатко стоит в проходе. Одной рукой придерживается за поручень, в другой — гитара.
Знал бы ты, как не хочется мне, чтобы они начали демонстрировать своё пение! Почему‑то заранее испытываю чувство неловкости, стыда за них.
Автобус сворачивает к островку ярко освещённой автозаправочной станции.
— Господа! — раздаётся сзади хрипловатый голос Надежды, — из‑за задержки в Гродно мы прибудем во Вроцлав не раньше трёх часов ночи. А сейчас автобус должен заправиться. Кроме туалета, никуда не расходитесь. Стоянка двадцать минут. Всем все ясно?
Медленно, пропуская друг друга, выходим наружу. Теплынь. Совсем летняя иностранная ночь.
В стороне от бензоколонок чистенький туалет, обставленный снаружи цветущими геранями в кадках, поодаль — стеклянный магазин с весёлой пестротой продуктов и барахла. Там, как в аквариуме, уже шныряют Акын О'кеич, Надя, Игорь–создатель видеоклипов, Светлана с матерью.
Закуриваю, хочу взад–вперёд, разминаю ноги. Женщина в накинутом на плечи красно–чёрном пончо ведёт к автомашине девочку, одетую, как кукла — бантики, белые носочки–гольфы. В машине их ждёт толстый человек с толстой сигарой во рту. Под яркими фонарями кружат ночные мотыльки.
Кто‑то трогает меня за плечо. Это Миша со своей гитарой.
— Извините. Никак не удаётся поговорить. Вы случайно не видели нас в июле по российскому каналу телевидения?
— Нет.
— Очень жаль, — констатирует Лена. — Мы рассказывали там, что и сейчас на людей может снисходить Святой Дух. Как на апостолов! Правда, Миша? Одетая в цветастое длинное платье, она влюблённо глядит на своего предводителя.
— Да, — подтверждает он. — Раньше мы читали Библию как книгу Отца, теперь читаем её как откровение Святого Духа.
— В самом деле? Ну и что вы там вычитали нового?
— Как раз об этом мы и поем свои духовные гимны. Миша сам сочиняет слова и музыку. Внушенные Святым Духом! Хотите послушать?
— Минуточку. Так по телевизору и объявили, что на каждого из вас снизошёл Святой Дух?
— Конечно! — кивает Миша. — Если у кого есть свеча, её не прячут под кровать, а ставят на кровле дома. Петь — наша харизма. Мы не придумали это. Летом, приезжали друзья из Америки, наши единомышленники.
— Ясно. Какие же дары Святого Духа вы обрели? Ведь апостолы в день Пятидесятницы получили дар исцеления, дар говорить на языках, которых раньше не знали, толковать, то есть понимать их. Вы тоже получили все эти дары?
— Мы запели! — снова вмешивается Лена. — Наши песнопения — дар Духа Святого!
— Друзья, дорогие мои, не много ли вы на себя берете?
— А вы послушайте! — Лена поворачивается, ищет кого‑то взглядом, зовёт.
— Катерина, иди скорей. Будем петь.
— Только погасите, пожалуйста, сигарету, — строго предлагает Миша.
С досадой бросаю окурок в урну. Подбегает Катя, юная, тоненькая, на ходу доедает мороженое.
…Ну послушай, прошу тебя, послушай вместе со мной, что они поют и как поют! «Грезы рая», «Сладчайший Иисус», «Душа вспорхнула», «Девы светлая слеза»… У меня, например, что называется, уши вянут от этого вялого треньканья на гитаре, этих бездарных слов, елейного тенора Миши. Такие славословия действительно нужны Богу?
— Отстань! Я тоже хочу петь! — раздаётся рядом истерический возглас, и к трём голосам прибавляется четвёртый — болезненной девушки, той, что сидит впереди меня. — «И плачут ангелы за вашими спинами…»
— Не «спинами» — «спинами»! — раздражённо поправляет Георгий. Он силой пытается оторвать свою спутницу от обступившей меня группы. — Тебе нельзя возбуждаться.
Губы девушки дрожат. Из‑под кофточки свисает конец ремешка, подпоясывающего джинсы, шнурки нарядных кроссовок не завязаны.
— Отстань! Уйди от меня. Дай хоть немного попеть, побыть с людьми!
— Ольга! В автобус! — Георгий рывком отдёргивает её и тотчас получает пощёчину.
— Смотрите, смотрите! В ней бес! В нашем присутствии бесы активизируются от ненависти к Святому Духу, — восторженно объясняет Миша и, передав гитару Лене, предлагает Георгию: «Можно я ей всё объясню, помогу?»
«Икарус», уже заправленный, подъезжает к бровке тротуара. Из передних дверей высовывается Надя.
— Господа, сходили до ветру? По местам! Светлана не потерялась?
На этот раз Светлана тут как тут. В то время, как её мать отсчитывает
под фонарём какие‑то купюры Акын О'кеичу, она разговаривает у задних дверей автобуса с низеньким пузатым человеком, тоже таящимся где- то в недрах нашего ковчега на колёсах.
— Значит, ваше имя Светлана, и вы родились восемнадцатого ноября тысяча девятьсот семьдесят пятого года… Так. Подставляем цифровые значения букв… Нумерология — великая наука, эзотерическая… Сейчас мы о вас все узнаем! — вещает пузан, похожий на старого сатира.
Поднимаюсь в автобус вслед за Георгием, на ходу спрашиваю:
— Что с вашей Олей?
— Психопатия.
— Извините, а кто она вам?
— Жена.
Заняв своё место, вижу в окно, как с этой, моей стороны в полутьме поддеревом троица с гитарой окружила Олю. Что‑то втолковывают. Миша удерживает её за рукав кофточки, хотя она рвётся уйти.
В это время Надя, как обычно после стоянки, пересчитывает рассевшихся по местам, кричит вульгарным своим голосом:
— Да что ж это за публика?! Четырех не хватает. Вахтанг, посигналь!
Георгий сидит впереди меня, нисколько не беспокоится о жене. Хоть
бы в окно постучал. Наконец, раздаётся долгий гудок.
Компания отпускает Олю. Она еле идёт, поддерживаемая Катей.
Георгий молча встаёт, пропускает на место Олю. На миг она беспомощно оборачивается ко мне. Под глазами видны подтёки косметики.
Ей примерно столько же лет, сколько смеющейся девушки из снов. Поделюсь с тобой: ни та, ни другая не в моём вкусе. Когда‑то снились соблазнительные женщины, совсем другого типа… Я просыпался оглушённый их красотой, иллюзорной близостью. А эта, смуглая, белозубая, почему она все чаще преследует меня во сне?
Плавно, чуть кренясь на поворотах, «икарус» плывёт сквозь ночь мимо встречных сполохов огней, мимо низкой луны. То засыпаю, то просыпаюсь.
То ли снится, то ли на самом деле вижу — Георгий опять молча борется с Олей, заставляет её принять таблетку.
Знаешь, такое чувство, будто я её предал, а ведь мольбой о помощи, о вмешательстве был её взгляд, когда она садилась на место… И эти трое ребят. Смешные. Несомненно хотели услышать от меня подтверждение своей избранности.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Ку–ку–ся! Ку–ку–ся…
Золотое утро. Карнизы окон, красные черепичные крыши Вроцлава усеяны голубями. А воркующей горлицы не видно. Лишь откуда‑то снизу раздаётся её призыв: ку–ку–ся…
Волна нежного, прерывистого воркования поддерживает меня, не даёт окончательно пасть духом, ужаснуться тому, что произошло минут двадцать назад. И все‑таки я вконец сбит с толку.
Тихо, чтоб не потревожить спящих со мной в комнате водителей, я вынул из сумки пакет с принадлежностями для умывания и бритья, вышел в коридор в поисках ванной. Как ни странно, ухитрился выспаться. Впервые за последние месяцы спал без снов.
Ванная комната оказалась в конце коридора — большое помещение с четырьмя душевыми кабинками и четырьмя умывальниками напротив них. То, что я увидел на стеклянной полочке над первым умывальником заставило меня замереть.
Ну, скажи, объясни, что все это обозначает? Ведь я на самом деле реально мыслящий человек, скорее, даже скептик. Терпеть не могу всякой мистики. Обыкновенный, самый обыкновенный смертный. Отчего же судьба всё время подбрасывает истории, от которых можно сойти с ума?
На стеклянной полочке над умывальником стоял цилиндр из золотистой плетёной соломки.
Тот самый.
У меня хватило воли заставить себя принять душ, побриться. Порой казалось, что все это происходит во сне.
Перед тем как покинуть ванную, я осторожно взял в руки странный предмет и думаю, что догадался о его назначении: это подстаканник. Самый обыкновенный подстаканник без ручки, в который, наверное, вставляют стакан с горячей водой, чтобы не обжечь пальцы.
Оглянувшись на закрытую дверь, я сунул трофей из снов под мокрое полотенце, отнёс в комнату, где все ещё спали водители, и спрятал его на дно сумки. Уверен, что не совершил большого греха. Что эта нелепая вещица теперь по праву принадлежит мне. И когда я вернусь в Москву, ещё попробую задать ей кое–какие вопросы. Ведь не только растения, не только фотографии людей могут отвечать на вопросы посредством мгновенно вспыхивающих в уме картинок…
Ку–ку–ся! Ку–ку–ся… Я перегибаюсь через узкий подоконник. Далеко внизу, в тенистом колодце двора на освещённой солнцем ветке платана вижу, наконец, безмятежно воркующую горлицу.
Знаешь, а все‑таки очень странно сошлось. Подстаканник… Раньше никогда и нигде не мог я видеть подобной вещи. И то, что мы должны были ночевать в Варшаве, а оказались здесь, во Вроцлаве, где меня, словно ждал этот предмет.
В четвёртом часу ночи подъехали к относительно новому зданию, похожему одновременно на небоскрёб и на костёл. Надя долго металась, звонила у запертого входа, пока не вышел заспанный ксёндз в сутане.
А сейчас из окна веет свежестью сентябрьского утра. До сих пор толком не понял, куда я попал. Скорее всего, это международный экуменический центр с молитвенным залом внизу, с аудиториями, библиотекой, общежитиями. С кухнями и столовыми чуть не на каждом этаже. В данный момент я стою на одиннадцатом. Издали слышится беготня, русская речь. В конце коридора появилась Тонечка, зовёт завтракать.
При входе в зал, где уже накрыты столы, слева на стене висит большое распятие. Отец Василий, умытый, с расчёсанной бородкой стоит напротив него в почтительном окружении всей нашей компании. Даже Надя и оба водителя переминаются чуть поодаль.
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! — торжественно произносит отец Василий.
Вслед за ним все осеняют себя крестным знамением. Повторяют слова молитв. Особенно старается Акын О'кеич. Сбрил щетину со своих несколько бабьих щёк, выспался. Крестится с артистической истовостью. Можно ли было подумать о подобной метаморфозе, когда мы видели его несколько лет назад по телевизору на заседаниях Верховного Совета?
А вдруг я просто пристрастен, и он действительно пришёл к Богу?
Отец Василий громко и вдохновенно молится за нашу страну, за Президента, за власти, за умножение плодов и хлебов.
Уже десятый час. Монашки в чепцах деликатно звякают чайниками и посудой на столах, призывая к завтраку. Даже Тонечка украдкой глянула на часы.
Наконец, духовный пастырь приглашает всех к столам.
Я занимаю свободное место рядом с Колей и Вахтангом и оказываюсь напротив Светланы с её похожей на мальчика юркой матерью. Наискось от меня сидят Георгий и Оля. Он разрезает круглую пышную булочку, намазывает половинку маслом и джемом, подаёт ей.
«Вот и славно, — думаю я, — заботится…»
В зале нет окон. Горит электричество. Но я знаю — там, за стенами, разгорается солнечный день. Торопливо доедаю бутерброд, допиваю кофе. Хочется поскорей уйти, побыть одному в незнакомом городе, смешаться с прохожими, услышать чужую речь… Когда‑то в молодости это называлось — «открытое море приключений».
Вставая, успеваю заметить — мать Светланы шустро сгребает с вазы оставшиеся булочки, сбрасывает их в сумку. Что ж, практично. Обедом нас не обеспечивают. До ужина можно проголодаться. И я жалею, что не успел взять собственную несъеденную булочку.
Оба лифта заняты. Обождав несколько минут среди все прибывающих из столовой соотечественников, в нетерпении сбегаю вниз по лестницам с одиннадцатого этажа. Пусто. Гулко. Чисто. Пойми, я никого не презираю. Просто хочется после этой двухдневной скученности в автобусе побыть одному. Без чужих проблем. Явление соломенного подстаканника из сна, вместе с ужасом, почему‑то вселяет надежды. Сам не знаю на что.
В сумрачном вестибюле уже кучкуются наши, собираются по интересам. Кто — в магазины, кто — в музеи.
Боюсь, что кто‑нибудь остановит, зацепит вопросом, разговором. Проскакиваю мимо отца Василия, мимо пузатенького любителя нумерологии, отворяю тяжёлую дверь.
Голубое небо. Солнце. Теплынь. Куда пойти? Налево? Направо?
Легкий, почти незаметный толчок изнутри разворачивает меня направо, туда, где эта тихая улица впадает неподалёку в широкую, шумную.
И тут из‑под арки ворот несмело выступает Катя — девушка из компании, на которую якобы снизошёл Святой Дух. Ветерок развевает её длинные каштановые волосы, играет подолом синего с белой оторочкой платьица.
— Уже позавтракали? Извините, пожалуйста, мне очень нужно с вами поговорить.
— Слушаю, Катя.
— Если можно, не здесь.
На красный свет мы перебегаем перекрёсток, сворачиваем налево. Катя всё время оглядывается.
— Боитесь, что Миша и Лена застукают вас со мной? — Я уже догадываюсь — эту бесхитростную девушку раздирают сомнения.
Мы проходим под гулким виадуком, сворачиваем направо и неожиданно оказываемся в самом центре города. Почему‑то вижу со стороны, как иду по солнечному тротуару рядом с хорошенькой девушкой среди блеска зеркальных витрин, вспоминаю о том, что соломенный подстаканник из снов лежит сейчас в моей сумке.
— Катенька! Хотите мороженое? Вон кафе. Посидим. И вы мне все расскажете. А то боюсь, у вас голова отвинтится. Так часто вы оглядываетесь.
— Хорошо, — соглашается Катя. — У меня есть деньги.
Входим в маленькое кафе. Десяток столиков, накрытых клетчатыми скатертями. Садимся. Из‑за стойки бара выскакивает официант, подаёт меню.
— Катенька, выбирайте. Сейчас вернусь.
Быстро иду по улице, пока не натыкаюсь взглядом на объявление «exchenche». Пункт обмена валюты располагается внутри магазина радиотоваров, в будке. Сую в окошко двадцатидолларовую бумажку. Угреватый молодой человек в пенсне отсчитывает мне высокую стопку купюр по десять тысяч злотых.
Скажу только тебе: за последние годы — годы моего публичного одиночества впервые безотчётно радостно на душе. Я рад Кате, залитому солнцем Вроцлаву. Вижу сквозь витрину — ждёт за столиком, где уже стоят две вазочки с мороженым.
— Вы ходили менять валюту? — догадывается Катя.
— Ешьте мороженое, растает. А давайте закажем какого‑нибудь вина?!
— Только чур плачу я. Зачем вы поменяли деньги? Ведь мама дала мне целых двести долларов.
Подзываю официанта, заказываю плитку шоколада, две рюмки смородинового ликёра.
— Скажите, пожалуйста, почему вам не нравятся Миша и Лена? Они хорошие.
— Катенька! Так я и знал, предчувствовал, о чём пойдёт разговор… Я, по–моему, не говорил, что они плохие.
— Не говорили, — соглашается Катя и, дождавшись, когда официант составит с подноса на столик все заказанное, сообщает. — Отец Василий тоже не верит, что на них снизошёл Святой Дух. Говорит — прелесть. Не в том смысле, что хорошо, прелестно, а в смысле — заблуждение.
— Катенька, насколько я понял, на вас тоже почил Святой Дух?
— Ну вот, вы смеётесь, а у Лены, когда на неё снизошёл Святой Дух, перестали болеть зубы.
— А что случилось с Мишей?
— Жена два года не давала развод. Дала, — Катя уже сама смеётся, добавляет. — А я сдала весеннюю сессию. Даже по английскому пятёрка.
— Катенька, вы тоже видели этих людей из Америки? Кто они такие?
— Миша и Лена приглашали меня на их собрание. Знаете как мне понравилось! У них община. Вместе молятся, вместе поют. С бубнами, гитарами…
— Катенька, извините меня, ради Бога. Я ничего в этих сектантских делах не понимаю. Только не кажется ли вам, что песни эти просто бездарны. А для меня это тест. Христианство не имеет права быть бездарным. Вот и все.
— Ну конечно, это самодеятельность. — Катин взгляд вдруг устремляется на окно.
Оказывается, там, на улице, остановились и смотрят сюда Миша, Лена, Георгий, Оля и Акын О'кеич.
— Извините, я должна быть с ними. Спасибо вам большое, — Катя в смятении вскакивает из‑за стола.
Знаешь, когда я заметил эту группу соотечественников, я конечно увидел их глазами себя, Катю, рюмки на столике… Не составляет труда понять, о чём они подумали. Скучно мне стало, противно жить на свете.
— Попался, который кусался? С девочками развлекаешься? Что ты, как неродной?
Протягиваю навстречу руку и в этот момент, наконец, вспоминаю имя Акын О'кеича.
— Приветствую тебя, Тимур.
— Сколько лет не виделись? Лет двадцать? Тридцать?
— Целую жизнь, — говорю я. — Куда они двинулись?
— Искать супермаркет.
— Пойдем и мы прогуляемся?
— О'кей!
И вот в результате я сижу один на скамейке в сквере. Сквер разбит на пустоши среди широких автотрасс, по которым почему‑то почти не проезжают автомашины, почти нет и пешеходов. Похоже на то, что здесь когда‑то были разбомблены целые кварталы. С тех пор ничего нет, кроме асфальта и сквера.
И меня тоже, как разбомбило.
Никогда не думал, что здесь, во Вроцлаве, мне предъявят мой собственный портрет — каким я был в восьмом классе. Заставлял Акын О'кеича, то есть Тимура, подсказывать мне по математике, бессовестно списывал у него контрольные работы.
Это правда.
Открыв для себя стихи Пастернака, вечно приставал ко всем, насильно заставлял их слушать. Завывал — «В посаде, куда ни одна нога не ступала, лишь ворожеи да вьюги ступала нога…» Подбивал его, Тимура, пропускать уроки, бродить в районе Крестовского рынка возле Рижского вокзала. Называл эти побеги из школы — «открытое море приключений».
Однажды дотащил до акведука у городка Моссовета и утверждал — «Это мой Рим».
Тоже правда.
Будучи приглашён на новогодний обед к нему, Тимуру, домой, я, восьмиклассник, ввязался в спор с его отцом: стал доказывать, что реализм не может быть ни социалистическим, ни капиталистическим. Мол, реализм, он и есть реализм.
Цепкая память Тимура сохранила меня таким, каким я когда‑то, видимо, на самом деле был.
Я терпеливо слушал, помалкивал и, честно скажу, с трудом удерживался, чтобы не напомнить о том, как будучи пятнадцати лет, он «обрюхатил» девочку, которая умерла от последствий подпольного аборта. А его папаша — лауреат Сталинской премии — откупился от суда, от её родителей.
Не без мстительного удовольствия Тимур вспоминал о других наших встречах, уже случайных, добавляя к моему портрету не очень‑то симпатичные штрихи. Вдруг, как бы невзначай, проговорил: «В последние годы я кое‑что слышал о тебе, читал твои книги. У меня, кстати, радикулит. Был недавно в Штатах на фестивале поп–музыки, устроили мне поездку к Ниагарскому водопаду, продуло. Больно вставать со стула.»
Честно скажу тебе, я разозлился. Поливает меня грязью, тычет в глаза старые истории и при этом хочет на халяву подлечиться.
Я поднялся со скамьи, велел снять туфли, встал перед ним на колени. Начал массировать точки на стопах.
«А помнишь, у тебя над письменным столом была фотография Маяковского — «агитатора, горлана, главаря»?» — спросил он, когда мы уже стояли, и я обрабатывал резкими взмахами рук его поясницу.
— Помню. Она и сейчас у меня, эта фотография. Как спина?
— Как будто не болит. Сеньк ю. Пошли?
— Знаешь, я что‑то устал. Иди, встретимся за ужином.
Так вот и получилось, что я сижу один в этом сквере на окраине города Вроцлава.
На пыльной аллейке появилась старая женщина в нелепой шляпке. Присаживается против меня на скамью, достаёт из сумки и расстилает рядом с собой грязноватую салфетку, раскладывает на ней помидор, хлеб, луковицу. Вынимает гранённый стаканчик, бутылочку.
Сначала была Катя, потом Акын О'кеич, теперь жизнь помещает прямо передо мной эту явно опустившуюся личность. Алкоголичку. Бежевый плащ её в подтёках, в пятнах. Зато вокруг тонкой шейки повязан шёлковый шарфик. Что‑то артистическое. Нарезает складным ножом луковку, помидор, хлеб. Уютно устроилась.
— Ким ты естешь? Чи хчешь напичь? — Она явно обращается ко мне, призывно помахивая рукой.
Подхожу к её скамейке. Стыдно сказать, не могу отвести взгляд от разложенного на скамейке натюрморта.
— Ким ты естешь?
— Не понимаю по–польски. Я из России.
— О, из России! Хочешь водку? Садись.
Старушка, оказывается, отлично говорит по–русски. Как всякий одинокий человек, она искренне рада возможности пообщаться.
— Ты из Москвы? Я была в Москве, училась в вашем ГИТИСе у Марии Осиповны Кнебель. Слышал о такой?
— Да.
— Господи, человек из Москвы, слышал о Кнебель! Мистика! — Вздрагивающей рукой наливает в стаканчик. — Пей моё здоровье. Я театральный режиссёр. Ева. Фамилию не скажу.
— Почему не скажете? — Водка крепкая, горькая. Закусываю луком, потом протягиваю руку за ломтиком хлеба.
— Я ставила пьесы вашего Розова и даже один раз Шекспира «Бурю». Меня забыли, как потонувший корабль. Никто даже здесь не знает. Я умерла. Моя эпоха умерла.
— Когда была ваша эпоха, пани Ева?
— Когда было великое польское кино, когда пела Анна Герман. Ты такую не знаешь.
— Отчего же? Знаю. Помню. Люблю её нежный и чистый голос… Герман была наше общее сердце.
— Именно. Наше общее сердце! Анна одна была без комплексов. Даже великое польское кино было закомплексовано.
— В каком смысле?
— Пей ещё, пей! Мы, поляки, все закомплексованы. Бери помидор. Надо закусывать.
— Спасибо, пани Ева.
— Да, милый мой, мы — маленькая, несчастная страна между Германией и твоей Россией, между Гитлером и Сталиным… Большое несчастье, так?
— Так.
— Мы всегда провинциалы. И это рождает амбицию. Мы амбициозны. Мы всегда в позе обиды. Значит несвободны. Мне вот только водка даёт свободу, не суди старого человека. Все наши фильмы — про польский комплекс, весь театр, все искусство. Это так.
— А Шопен?
— Что Шопен? Чтобы избавиться от комплекса, он не жил в Польше, уехал во Францию. И теперь уезжают. Кто может.
— А вы?
— А я умерла. Когда в Познани были волнения — мужа подстрелила полиция, случайно. Он был музыкант в театре. Скрипач. — Ева опирается подбородком о скрещённые кисти рук, закрывает глаза.
Шесть часов вечера. В семь у нас общий сбор, молитва, ужин. Я поднимаюсь со скамейки. Пани Ева спит. Только начинаю уходить по аллейке, чувствую на себе твой взгляд… Бросаюсь обратно. Достаю из бумажника оставшиеся польские купюры, засовываю в её хозяйственную сумку. Не проснулась.
Тихими улицами провинциального города шагаю обратным путём к центру. Прохожу под густыми кронами высоких деревьев, ещё не тронутых сентябрём.
Думаю о том, что если бы утром не толкнуло пойти направо от дверей нашего обиталища, не встретил бы Катю, не пошёл с ней в кафе, не прошёл бы мимо Акын О'кеич, не было бы пыльного сквера с пани Евой.
Всего лишь лёгкий внутренний толчок…
Впервые за всю поездку спало напряжение. Мне хорошо от того, что я сейчас совершил, оттого, что все же избавил от радикулита Акын О'кеича- Тимура.
Первые огни в окнах домов. Девочки–гимназистки выбегают из кондитерской.
Вот уже показались знакомые улицы. Далеко впереди шагает отец Василий, окружённый толпой наших паломников. Среди них Надя в своём красном тренировочном костюме.
Они спускаются под виадук. А из‑под него выныривает и останавливается у перекрёстка полицейский «мерседес» с цветными мигалками на крыше, потом второй. Из машин выскакивают полицейские, светящимися жезлами останавливают прохожих. Вместе со всеми и я замер на краю тротуара.
Из‑под виадука выдвигается колонна людей. По обе её стороны шагают конвоиры с автоматами.
Смотрю на стриженых ёжиком пареньков, вглядываюсь в их осунувшиеся лица. Кто они? Преступники? Что их ждёт? Совсем молоденькие. Плохо одетые. Может, это призывники?
И я не выдерживаю:
— Ребята! Братцы, куда вас ведут?
Колонна, грохоча башмаками, мрачно проходит мимо. И только один парень из последней шеренги злобно отвечает:
— В коммунизм!
Наша компания обернулась, хохочет, глядя на меня. Хохочут и охранники.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Опять за окном автобуса поплыли предместья, замелькали перелески, стаи птиц над полями, над островерхими костёлами. Вместо того, чтобы выехать, как было запланировано, в четыре утра, тронулись лишь в начале восьмого.
Всех поднял Игорь. Бегал по коридорам, колотил кулаком в двери. Весь автобус злой, не выспавшийся. Все сидят с карманными калькуляторами, подсчитывают сколько растратили в Польше, сколько осталось, путаются в пересчёте валют.
В отличие от своих нетерпеливых попутчиков, я ничего не приобрёл. Зато, как ты знаешь, в моей сумке, может быть, самое ценное — подстаканник из соломки…
Очень плохо, что, несмотря на появление этого ошеломляющего воображение предмета, тоже не могу унять злости. Прежде всего на самого себя.
Все догадались купить продукты в дорогу. У всех в ногах пакеты с едой. А я, как дурак, опять без ничего. Хорошо хоть есть пока не хочется. Успел проглотить ранний завтрак — бутерброд с колбасой, булочку с джемом и чашку кофе. Теперь в Германию прибудем совсем поздней ночью.
На этот раз задержались из‑за Ольги. Вот она, впереди. Безмятежно спит, прислонясь к окну. Георгий как ни в чём не бывало, рассматривает карту в атласе. Очевидно, Германии.
Странная пара, скажу я тебе. Когда в предрассветной тьме все вышли со своими пакетами и сумками к автобусу, выяснилось, на этот раз нет Ольги. Георгий не бросился её искать. Осененные Святым Духом, которые оказывается провели с ней весь вчерашний день, тоже не кинулись. Хотела пойти назад в здание Центра Светлана. Но Надежда не пустила её, сказала: «Вместо одной дуры придётся искать двух. Сиди на месте!»
Я тоже решил не идти, не проявлять активность. Зато сорвался со своего места, побежал обратно в здание Игорь. За ним Миша.
Минут через пятнадцать отец Василий предложил всем вместе помолиться, попросить Бога помочь поскорей найти Олю. Помолились. Ни Ольга, ни Игорь, ни Миша не появляются. Взбешенная Надя послала за ними обоих водителей.
Я расхаживал возле автобуса, курил, ёжился от предрассветного ветерка, думал о том, как вчера вечером свидетелями моего дурацкого, праздного, в сущности, вопроса к колонне несчастных парней стали, оказывается, ещё и шедшие сзади пузатенький любитель нумерологии и экскурсоводша Нина Алексеевна. Как ни странно, они шли нежно обнявшись. Хотя все видели — в Москве у Речного вокзала пузатенького провожала жена, а Нину Алексеевну — муж и сын. До чего же я стал противен сам себе, когда, услышав ответ из колонны, они демонстративно рассмеялись. Смеялись, словно мстя мне за что‑то.
— Ваша жена — вы её и ищите! — послышался нервный голос Нади. — Весь график сорвался к чёртовой матери!
Из автобуса вышел Георгий, задал мне странный вопрос! «Вы не знаете, где она может быть?» и побрёл к дверям здания.
Поверь, жалко мне его стало.
«Зовите всех остальных. Поедем без неё!» — раздался чей‑то крик из автобуса. Там накапливалась тяжёлая, нервная энергетика. Шел седьмой час утра.
По ступенькам спустилась Катя, подошла ко мне.
«Оля вчера была очень расстроенная. Как будто слушала, что ей говорили Миша и Лена… Но не знаю, что у неё на уме…»
И тут я решил уйти от этой тяжкой атмосферы. Катя увязалась за мной.
Мы вошли под сумрачную арку. Увидели проходной двор с клумбами, скамейками поддеревьями. На одной из скамеек, положив под голову сумочку, лежала Оля. Она спала.
«Осторожно, — прошептала Катя, — не испугайте. Вечером Георгий заставлял её есть таблетки, антидепрессанты.»
Я нагнулся над Ольгой, провёл ладонью по холодной щеке, по влажным волосам, шепнул: «Оленька, пора ехать…»
Она открыла глаза. Увидев меня, стала подниматься. Заплакала.
— Что случилось, Оленька?
— Миша сказал, что у меня никакая не психопатия, а что я одержима бесами. Георгий меня теперь, наверное, бросит. И никто замуж не возьмёт, никогда.
— Почему? Вы — красивая, молодая женщина.
— А Надя сказала, что я девушка б/у, бывшая в употреблении, девушка «секонд хэнд». — Губы её по–детски искривились. Она опять заплакала.
Я невольно улыбнулся. Катя с укором взглянула на Меня, подняла Ольгу, обняла её, повела к автобусу.
Георгий как раз выходил из здания. Он встретил возвращённую жену с неприкрытой ненавистью, проговорил сквозь зубы: «Истеричка, подвела всех…».
Когда они вошли в автобус, Катя шепнула: «Не сердитесь на него. Он в отчаянии. Поехали в это паломничество, надеясь на чудо исцеления…»
Еще минут двадцать пришлось ждать пока вернутся все посланные на поиски Оли.
И вот наконец‑то едем. Удивительно, те, кто не спит, продолжают колдовать со своими калькуляторами. Нина Алексеевна, моя соседка через проход, дремлет, положив голову на плечо пузатенького нумеролога. Оказывается старый сатир с кем‑то поменялся, пересел к ней. Уловив мой взгляд, подмигивает, как заговорщик.
Отправляясь в это путешествие, вот уж не думал, что окажусь в такой компании. Один Акын О'кеич чего стоит! Я был убеждён, что после нашего общения во Вроцлаве обязательно усядется рядом. Но нет, торчит на откидном кресле. Освоился. Плохо там, что ли? Впереди всех, видно на все три стороны. Обсуждает с Игорем дела шоу–бизнеса. Общность интересов.
Тебе не кажется странным, что вчера, проведя со мной так много времени, он ни словом не обмолвился о своём отце, которого только что летал хоронить? Вел себя так, будто не было недавнего горя.
Помню газету «Советская культура», где под письмом, топчущим Шостаковича, была фамилия этого человека. Помню, как печалились в семье, что Тимур становится «стилягой», отдаёт предпочтение джазу вместо серьёзной музыки.
В конце концов под нажимом отца Тимур кончил консерваторию. Композитор. Создает песенки. Часто мелькает по телевизору. Ездит по разным фестивалям, странам. Вот продуло его у Ниагарского водопада.
…Ты ведь знаешь и я знаю — таких людей, как отец Акын О'кеича всю жизнь терзал страх. Страх потерять своё благополучие. Но ещё больший страх — перед собственной совестью. Хорошо помню, как однажды этот прославленный создатель чужой культуры, национальной по форме, социалистической по содержанию, поставил на проигрыватель пластинку Баха, сказал: «Слушайте, засранцы, что такое настоящая музыка». Заставил дослушать до конца. Да будет земля ему пухом…
За окном в солнечном свете мелькнула стрелка–указатель с надписью «Dresden». Приближаемся к польско–германской границе. Вот уже и Надя встаёт со своего места, возвышается над головами пассажиров.
— Господа! Перед Европой нужно вымыть автобус. Готовьтесь — скоро стоянка. На все про все у вас будет тридцать минут. Георгий, следите за своей Олей! Света, ты все поняла?
— Ольга оборачивается ко мне, шёпотом спрашивает:
— Знаете, какая у неё фамилия? Дрягина. До чего хамский голос.
Ольгино лицо выспавшееся, но в глазах — страдание. Со своего места
мне видно, как она достаёт косметичку, начинает краситься. Георгий безучастно жуёт. Уши его снова шевелятся.
Третий час дня. В автобусе жарко, душно. За его окнами сосновые леса, освещённые совсем летним солнцем. Трудно поверить, что в Москве холодная, насморочная осень.
Все внутри автобуса пришло в движение. Нумеролог стягивает с себя свитер, отец Василий стоя собирает порожние баночки и объедки в пустой пакет, мои задние соседки расчёсывают волосы. Даже Надя переодевается, меняет свой помидорный костюм на зелёное платье.
Неожиданно рядом со мной на свободное кресло плюхается Акын О'кеич.
— На стоянке должен быть ресторан или кафе. Давай как следует пообедаем. О'кей? Пива возьмём!
— Давай!
Автобус сворачивает к чистенькому асфальтовому островку у подножья холма. Впереди виднеется разноцветный оазис заправочной станции.
О'кеич вежливо пропускает всех стремящихся к выходу. Наконец прошёл Миша со своей неизменной гитарой, Лена, Катя, Тонечка и другие.
Поднимаемся и мы. У переднего кресла стоит Игорь, надевает свежую рубаху со стоячим воротником, перекидывает через него свою косичку.
— Игорь, решили пообедать по–человечески. Идешь с нами?
И вот мы втроём шагаем по лоснящемуся от гудрона шоссе в сторону заправки. Игорь и О'кеич, оказывается, давно знакомы. Собственно говоря, так и должно быть — один и тот же мир шоу–бизнеса. Они говорят о фестивале поп–музыки в Штатах, где О'кеич был членом конкурсного жюри, о новом видеоклипе Игоря, недавно показанном по телевидению.
А я вдруг вспоминаю, что у меня нет польских денег, злотых.
Ресторанчик при заправке работает по–летнему. Стулья и столики вынесены под полосатый тент. Здесь уже сидят лучезарно улыбающиеся отец Василий с Надей, нумеролог с Ниной Алексеевной, Миша с Леной и Катей.
Игорь и Акын О'кеич занимают угловой столик, а я останавливаю спешащего с подносом официанта и узнаю, что кормят только за злотые. Обменного пункта нет.
Возвращаюсь к столику, спрашиваю у Акын О'кеича:
— Можешь занять мне польских денег? В Германии поменяю доллары, отдам.
Тот неприятно поражён. Сквозь маску любезного, молодящегося интеллигента отчётливо проступает настороженная личина жлоба. И тут ещё вмешивается Игорь:
— При тройном перерасчёте кто‑нибудь непременно теряет, — говорит он, глядя на меня так, будто я затеял обман.
Решительно разворачиваюсь, иду обратно к автобусу. Сам виноват! Забылся. Знал ведь, с кем имею дело… В школе на переменке он трескал домашние пирожки, бутерброды с икрой, никогда никого не угощал, приговаривал: «Мы чужого не хотим, но своё не отдадим!» Ну и балбес я был — приставал к такому куркулю со стихами Пастернака!
Лет двенадцать назад я показывал Москву своему знакомому из Нью–Йорка Джиму Робертсу. На Калининском проспекте встретился Тимур. Узнав о том, что со мной американец, прилип, приставал к Джиму с просьбами — позвонить кому‑то в Нью–Йорке, передать пластинку в какую‑то фирму, достать лекарство. «Ай Америка! Ох Америка!» Не зная английского, каждую минуту повторял: «О'кей!, О'кей!»
…Коля и Вахтанг принесли откуда‑то воду в двух резиновых вёдрах. Тряпками и шваброй моют «икарус». Удивительно видеть: им помогают Георгий и Ольга. Он обдаёт водой из ведра стекла, она их протирает.
Я отхожу в сторону к зелёной траве у подножья холма, раскладываю на ней куртку, ложусь навзничь. Сквозь ветки сосен видно по–южному синее небо, греет солнышко. Что с того, что голоден — не помру.
Подъезжают и отъезжают какие‑то машины. Издали слышится голос Ольги:
— Коля, дайте чистую тряпку! Эта уже грязная.
Ноздрей коснулся горький запах кофе… Приедем в Германию, закачу ужин, да ещё приглашу Катю и Тонечку!
Сажусь. Достаю из кармана куртки сигареты. Закуриваю.
Оказывается горьковатый запах доносится из стоящего рядом белого микроавтобуса с раскрытыми дверцами. Дебелая девица в бикини варит там на газовой плитке кофе. Другая, тоже в бикини, вместе с двумя здоровенными парнями снимает с багажника на крыше складные парусиновые стулья и столик. «Шнеллер», «фергессен». «филяйхт». Да это немцы! В глубинах сознания всплывают полузабытые остатки школьной зубрёжки. Ухватываю из отрывистых реплик: эти люди поджидают здесь ещё одну отстающую машину. Компания возвращается в Германию из Варшавы.
На расставленном под соснами столике появляется пластиковая посуда, окорок, колбаса, миска с помидорами и огурцами, хлеб, запотелый от холода стеклянный графин пива. Видимо, микроавтобус оснащён холодильником.
Компания принимается уничтожать еду. Парни не хохочут, а ржут, игриво шлёпают своих дам по полным бёдрам. Одна из них заходит в микроавтобус, и через мгновение оттуда, усиленный динамиком, начинает извергаться тяжёлый рок. Оглушительный.
Выжила меня эта компания. Ухожу к чистенькому автобусу. Тем более, сюда уже стекаются наши. Довольные, благодушные. Все, кроме Акын О'кеича. Его ведут под руки отец Василий и Игорь. О'кеич бледен, беспрестанно покашливает.
Выясняется, ели карпа в сметане. Подавился рыбьей костью. Едва выкашлял.
Нельзя мне было отправляться в эту поездку. Здесь всё время новые люди, новые провоцирующие ситуации.
Сажусь в своё кресло.
Теперь ты видишь? Можешь теперь понять моё смятение?
Надя пересчитывает людей. Трогаемся.
…Почему удалось спасти от смерти Дженнифер, и моё же раздражение, обида чуть не отправили на тот свет О'кеича? Если без Божьей воли ничего не происходит, тогда как все это понять? Скажешь, я все надумал. Скажешь, случайное совпадение обстоятельств. Скажешь, не имею к ним никакого отношения.
Если бы… Если бы это было так! За Дженнифер стоят сотни других исцелённых людей. И случай с Акын О'кеичем тоже далеко не единичен. Не говоря уже о том, что всюду, откуда я уезжаю, всегда начинается война, кровопролитие. Уже говорил тебе об этом.
Странное, нервное состояние. Сказывается то, что подняли в четвёртом часу утра.
Задремываю. Мысли путаются.
— Всем сидеть на своих местах! Приготовьте паспорта!
…Открываю глаза. Пасмурно. По проходу мимо кресел пробегает польский пограничник с собакой на поводке. Не овчарка. Поменьше. Наркотики вынюхивает.
Другой пограничник продвигается от кресла к креслу, проверяет наличие транзитных виз на паспортах.
Автобус ползёт среди скопища автомашин к мосту через неширокую реку. Останавливается. Пограничники выходят. Дверцы автобуса остаются открыты.
Небо покрыто сизыми, тихо плывущими тучами. Вечереет. Медленно выезжаем на мост. Да это Нейсе! Знаменитая линия Одер–Нейсе, по которой Сталин, Черчилль и Рузвельт проложили границу между Польшей и Германией. По обоим берегам высятся безобразные здания — форты, глядят друг на друга узкими бойницами окон.
Внизу, на польском берегу одинокий рыбак с длинной удочкой. Ловит рыбу между двух стран.
Мост кончается. Входят пограничники. Уже немецкие. Выходят.
И мы оказываемся совсем в другом мире.
Ты скажешь, я фантазёр. Те же набухшие дождём тучи. Те же холмы и леса. Те же аккуратные, чистенькие городки с теми же костёлами, то есть кирхами.
Нет. Автобус ввозит меня в чёрную страну. Все здесь чёрное. Само название этой страны. Сама земля, само небо. Небо, куда из труб фашистских концлагерей ушёл и осел на этой земле пепел миллионов сожжённых людей.
Еще неизвестно, отчего так зелено выглядит эта трава, отчего так неестественно густы кроны деревьев по обе стороны шоссе…
Когда эта, восточная часть Германии называлась ГДР, мне довелось побывать и в Берлине, и в Дрездене, и в Эрфурте, и в Веймаре. В этом самом Веймаре — красивейшем городе, столкнулся я с необъяснимой загадкой.
Экскурсовод показывала мне дом Гете. Моего любимого писателя, мудреца, который многие годы был министром при местном герцоге, был богат. В огромном рабочем кабинете, украшенном оригиналами и копиями античных бюстов, драгоценными китайскими вазами, увидел я столик с детскими игрушками. Оказалось, гениальный человек, устав после трудов, посылал слугу за детьми с ближайших улиц. Играл с ними, угощал орехами, сладостями и фруктами.
А теперь объясни мне, как это совмещается с тем, что в то же самое время совсем рядом, в пяти минутах ходьбы, в другом доме, в холодных наёмных комнатках умирал от бедности ближайший друг Гете — Фридрих Шиллер. На его письменном столе под стеклом до сих пор хранятся неоплаченные счета за охапки дров, счета от булочника… Шиллер умер совсем молодым, недоедание. Туберкулез.
Оба были христиане.
Ты скажешь, снова я осуждаю. На этот раз Гете.
…Акын О'кеич сидит на месте отца Василия, болтает с Игорем. Откидное кресло пусто.
Пробираюсь вперёд по проходу между пакетами с покупками и провизией. Оглядываюсь. Наш священник в дальнем конце автобуса вместе с Мишей и компанией распевает что‑то духовное. Там же пристроилась Ольга.
На этот раз за рулём Вахтанг. Низенький крепыш с седой шапкой волос.
— Садись. Кури. Окно открыто.
Мы движемся вслед бесконечной череде автотранспорта. Перед нами красные огни стоп–сигналов, слева беспрестанно набегает слепящий фарами встречный поток. В темноте, то справа, то слева видны розоватые зарева городов.
— До Дрездена далеко?
— Не в Дрезден едем — в Нюрнберг. Не знал? Через час должны быть. Надежда сказала, там вас разберут ночевать по домам. Уже ждут, наверное. Опаздываем.
— Кто разберёт?
— Верующие. Такие как вы.
— А вы верующий?
— Как я могу быть верующим? Из Сухуми прогнали всех грузин. Дом сожгли. Имущество, какое было, абхазы растащили. Хорошо, в Москве Надя. Когда‑то у нас с женой отдыхала. Устроила. Работу дала.
— А где жена?
— Дал ей развод. Давно. До перестройки. Русская была. Клава. Работала в сухумском ботаническом саду. Один раз купил ей путёвку в дом отдыха. На двадцать четыре дня! Не хотела ехать. А я к ней хорошо относился. Уговорил. Поехала. Прошла неделя. Меня на автобазе все знали. Говорят: «Сумасшедший! Кто жену одну отпускает? Знаешь, чем она сейчас там занимается?!» Я ночи не спал. Не выдержал. Тайно приехал в этот дом отдыха. Вечером спрятался за кустами. Слежу. Смотрю — идёт по аллее. Рядом с ней две тёти–моти. Обо мне рассказывает, какой я хороший. Никто к ним не пристаёт. С этой минуты потерял я к ней интерес, скучно мне стало.
— Ну и ну! С Надей тебе лучше?
— Надя мне хозяйка. Я у неё в руках.
— Богатая?
— Смотри, вон они вокруг — настоящие богачи, капиталисты. Все на «мерседесах». Вот где жизнь! Надя говорит: «Увидишь рай на земле».
На некоторое время словоохотливый Вахтанг смолкает. Вскоре за каруселью дорожных огней возникает зарево большого города.
— Разбуди Колю. Пусть возьмёт карту. Вроде, подъезжаем.
Я прохожу в дальний конец «икаруса». Там у заднего окна на подвесной койке спит Николай. Бужу его. Возвращаюсь к своему месту мимо сидящей с молитвенником Тонечки. Губы её шевелятся.
Неожиданно меня прихватывает за локоть пузатый сатир.
— Как вы думаете, это представляет из себя какую‑нибудь ценность?
В руках у его соседки Нины Алексеевны большое пасхальное яйцо. Деревянное, с золотистой росписью.
— Авторская работа. Сколько за это можно просить в долларах? — спрашивает она.
— Извините, ничего в этом не понимаю.
… Автобус сворачивает с автобана. Въезжаем в Нюрнберг. Мигают рекламы магазинов и ресторанов. Но прохожих почти не видно. Город уже спит.
Знаешь, мой невидимый собеседник, с тех пор, как Вахтанг сказал, что нас будут разбирать по домам местные верующие, я почему‑то волнуюсь. Может быть, подобное чувство испытывали африканские рабы, когда их покупали плантаторы в Штатах. Конечно, сравнение глупое. Безусловно. Но есть в этой затее какая‑то несвобода, унижение, что ли…
Автобус въезжает на небольшую, ярко освещённую огнём красноватых лампионов площадь. В центре её у скопления нескольких десятков автомашин стоят люди. Заметили нас. Призывно машут.
«Икарус» подчаливает к бровке тротуара.
Я перекидываю через плечо ремень сумки и вслед за всеми схожу на немецкую землю.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Не поспал всего одну ночь, и вот весь день насмарку. Красивейший день. Утром обратил, наконец, очередные двадцать долларов в марки на обменном пункте нюрнбергского железнодорожного вокзала. Пошел наугад подземным переходом — целым торжищем под землёй, поднялся на свет Божий к мосту через ров и, пройдя под аркой средневековых ворот, оказался здесь — в старом городе Нюрнберге, славном городе Нюрнберге, где сплошь пешеходные зоны. Разноцветные толпы туристов вольно гуляют посреди улиц мимо нарядных магазинов и кафе. Откуда‑то всё время звучит музыка.
Я прошёл этот старый Нюрнберг из конца в конец, проголодавшись, купил длинный сэндвич с креветками и прочими дарами моря в рыбной лавке под открытым небом. А потом мыл пахнущие морем руки под струями фонтана и там же обмывал тяжёлую кисть жёлтого итальянского винограда. «Земной рай», — как сказала Надежда нашему водителю Вахтангу.
Знаешь, когда‑то в юности бессонная ночь не отбрасывала своей тени на день. Теперь же чувствую себя разбитым. Весь этот рай воспринимаю, борясь с дремотой.
Верхние этажи чудесных старинных зданий освещены ласковым закатным солнцем. А здесь, внизу, уже сумрачно. На столиках уличного кафе затеплились фонарики–свечи.
Сажусь за первый же столик. Кладу на белую скатерть пакетик с покупками. Заказываю подскочившему кельнеру кофе. До семи вечера — времени, когда за мной на площадь, где вчера остановился наш «икарус», приедет Фриц, остаётся полчаса.
Все моё военное детство прошло в ненависти к «фрицам». Так тогда называли всех фашистов, всех оккупантов — «фрицы»!
Этот человек усадил меня вместе с пузатым сатиром и Ниной Алексеевной в «мерседес», отвёз по ночным улицам сначала в пригород, где сомнительная парочка была высажена у обвитого плющом двухэтажного дома. У входа гостей из России уже ждал местный христианин. К моему изумлению он оказался толстым, добродушным китайцем в смокинге, хозяином ресторана, только что вернувшимся с работы.
А мы, оставшись вдвоём, поехали дальше узкими просёлочными дорогами то среди холмов, то среди лесной чащобы. Фриц внешне похож на Георгия: очки, седеющая бородка, неразговорчив. Мой, всплывающий из глубин памяти школьный немецкий, да убогий запас английских слов все же позволили выяснить, что Фриц инженер, химик, что ему тридцать восемь лет. Что дома нас ждут с ужином его жена и ребёнок.
Упоминание об ужине несколько ободрило меня.
И все же мне было не по себе. От одного его имени. Его неразговорчивости. Да и лес вокруг стоял мрачный, ночной.
Сейчас, сидя за столиком этого уличного кафе, я думаю о том, что, если бы знал, с чем судьба намерена столкнуть меня, я бы постарался любым способом избежать этого.
С другой стороны, что я мог сделать? Я уже не знал, где нахожусь, где город, где наш «икарус». Как пленник сидел в «мерседесе» рядом с Фрицем. Как под конвоем вышел из машины у входа в трёхэтажную белую виллу, освещённую мягким светом луны.
Потом это, скажем прямо, трусливое настроение подрассеялось. Тем более, жена Фрица Патрисия, оказавшаяся француженкой из Страсбурга и мальчик лет семи Жак ждали нас за уже накрытым в гостиной столом.
Когда я увидел этот стол, празднично уставленный тарелками с паштетами, копчёностями, салатами, сырами, бутылками вина, и осознал, что все это приготовлено ради меня — доселе неизвестного им человека из России, я был, сам понимаешь, тронут.
Обычно, если приходится молиться на людях, я молюсь про себя. Боюсь актёрства, показухи, фальши. А тут я, полный благодарности, стоя у стола, стал читать «Отче наш». Знаешь, будто не я, а что‑то самое светлое во мне само изливалось в молитве…
Хозяева сидели притихшие. Даже мальчик Жак.
Когда я садился за стол, единственное, что меня снова насторожило — быстрый взгляд Фрица из‑под очков. Это был странный взгляд, словно выпадающий из всей благостной атмосферы встречи.
…То, что у меня есть передышка, то, что сейчас я сижу в этом кафе, вспоминаю и пересказываю тебе случившееся вчера, почему‑то кажется очень важным. Боюсь что‑нибудь упустить. Но, видимо, спокойно сосредоточиться мне в этом незнакомом городе не дано. Из праздной разноязычной толпы, плывущей мимо столиков, отделяются две фигуры, направляются ко мне. Это Георгий в несколько неожиданном сочетаний с пузатеньким сатиром.
— Вы не видели Ольгу? — спрашивает Георгий.
— Нет.
Он растерянно стоит у столика. Сатир бесцеремонно подсаживается.
— Собственно говоря, видел, — спохватываюсь я. — Утром. Когда нас всех свезли к протестантской кирхе. Во время службы она была там, внутри. Да и вы все там были.
— Да–да… — рассеянно кивает Георгий. Он процеживает взглядом идущих мимо. — Потом в супермаркете мы встретили Мишу, Лену и Катю. Лена подозвала Ольгу. С тех пор я их не видел.
— Говорю — найдётся! — прерывает его пузатенький. — По крайней мере не одна. — Он почему‑то глаз не сводит с моего лежащего на столе пакетика. — А вы у кого поселились? Как вас приняли?
— Замечательно. Георгий потерял Олю, а вы Нину Алексеевну?
— Она в магазине. Сейчас подойдёт. Меня, между прочим, зовут Вадим. Давно пора познакомиться. А вы что купили?
— Кнопки.
— Кнопки?!
— Да, кнопки, записную книжку, блокнот, зажигалку. Если вам так интересно.
— Можно посмотреть? — Он бесцеремонно залезает в пакет, вертит перед глазами прозрачные коробочки, где лежат кнопки с белыми и золотистыми шляпками, щёлкает зажигалкой. — Красивые вещицы! Где купили?
— Поблизости. В магазине «Вулворт».
— Так это же самый дорогой магазин! Кто вы по гороскопу? Телец? Тогда все ясно. Признаюсь, я уже вычислил вас, подставил цифровые значения букв, составляющих ваше имя и фамилию. Вы — типичный донор. Есть люди вампиры и люди доноры.
Георгий медленно уходит от нас, смешивается с толпой. Зато к нам поспешает Нина Алексеевна. Обе её руки заняты красивыми пакетами с покупками.
— Ой, устала. — Она присаживается к столику, приказывает Вадиму: Закажи кофе, пирожное и рюмку коньяка. Как вас приняли? Наш китаец — на вид такой душка, вечером ничего не предложил, а утром только булочки с джемом и кофе. Если б вы знали, как тут все дорого! А это кафе дорогое?
Вадим подзывает кельнера. Пользуясь случаем, расплачиваюсь. Нужно уходить. До встречи с Фрицем остаётся около часа, а я не пришёл ни к какому решению.
— Вы мне интересны, — торопливо говорит Вадим, видя, что я собираюсь подняться. — Неужели все это правда, то, о чём вы пишете? Какая- то мистика. Ведь, честно говоря, нумерология, астрология — мой способ знакомства… А можете вы прямо сейчас сказать, чем я болен? Продиагностировать? Продемонстрировать нам с Ниной Алексеевной какое‑нибудь чудо?
Поднимаюсь. Забираю свой пакет, спрашиваю:
— У вас техническое образование? Вы инженер?
— Я программист, компьютерщик.
— Вадим, как большинству негуманитариев, вам особенно трудно переключиться на другой уровень сознания. Целиком погружены в материальный, вещный мир. Это ваша беда. А вот в том, что у вас гипертония, и, простите, обострение геморроя, в этом виноват ваш образ жизни, в конечном итоге — образ мыслей. Что касается чудес — я не факир. Извините.
Ухожу по направлению к выходу из старого города. Стало прохладно. Чуть не сшибает с ног группа подростков на роликовых досках. И в этот же момент слуха моет касается знакомая мелодия.
Это «Времена года» Антонио Вивальди. На углу двух непроезжих улиц под фонарём молодая женщина в синем плаще и вязаной шапочке играет на скрипке. У ног её раскрытый футляр с набросанной прохожими мелочью и большой магнитофон.
Прохожу мимо. Опускаюсь на ближайшую скамейку. Я не в силах уйти от этой музыки.
Магнитофон воспроизводит оркестровую запись. Одинокая скрипачка искусно вплетает соло своего инструмента в мощное звучание оркестра.
…Давным–давно, в восемнадцатом веке, шёл летний дождь, погромыхивал гром. Антонио Вивальди смог удержать на все времена именно этот ливень, именно эту грозу, таящую в себе неизбывную прелесть жизни, воистину Божье чудо.
Впивая звуки музыки, я не могу не думать о том, что мне предстоит. Я оказался между самым светлым, что есть в жизни, и самым мрачным, тёмным.
Ты скажешь, я всё время описываю тебе вчерашний вечер и не говорю о главном, что же все‑таки произошло?
Понимаю. Сейчас. Пусть удалятся идущие мимо Игорь и отец Василий, пусть они не заметят меня, пусть доиграет скрипачка, кончится музыка. С кем, как не с тобой и можно поделиться. В этом деле у меня одна надежда — на тебя. Как, впрочем, и во всём остальном.
До встречи осталось пятнадцать минут. А музыка длится.
Я заставляю себя встать со скамьи, подхожу под фонарь к одинокой скрипачке, опускаю в раскрытый футляр деньги и ухожу из старого города. Звуки музыки ещё слышны за спиной. Стихают.
Теперь слушай о том, что случилось вчера. Умоляю тебя, научи, что мне делать?
…После нашего позднего ужина, после вежливых расспросов хозяев о Москве, о России, сначала мальчик, а потом и Патрисия ушли наверх спать. Фриц повёл меня в кладовку за кухней, показал на высокие штабеля проволочных ящиков, где в лежачем положении у него хранится коллекция вин и коньяков, предложил открыть любую бутылку на выбор.
Я поблагодарил, отказался. Сказал, что хочу спать. Но Фриц все же настоял на том, чтоб я хотя бы согласился на дегустацию каких‑то необыкновенных ликёров. И мы уселись в чистенькой, сверкающей кафелем кухне дегустировать ликёры из крохотных рюмочек.
Фриц сидел напротив, расспрашивал о Ельцине, Горбачеве. Я отвечал, хотя с самого начала чувствовал: спрашивает из вежливости, судьба России не очень‑то волнует его.
Шел второй час ночи. В конце концов я тоже задал вопрос: «Завтра рабочий день. К какому часу приходится ехать на службу?»
Фриц пристально глянул на меня из‑под очков, что‑то ответил. Сперва я ничего не понял. Тогда он повторил. Уже по–английски.
Ужасный смысл того, что он хотел сказать, начал доходить до меня. Чтоб быть окончательно понятым, он приставил к своему виску указательный палец, а большим сделал движение. Будто спускает курок.
Вон он, этот человек. Одиноко стоит у своего вишнёвого «мерседеса» на краю кружащей огнями привокзальной площади.
— Добрый вечер. Спасибо, что приехали.
— Как прошёл день? — спрашивает Фриц.
— Нормально.
Сажусь с ним рядом в машину. Фриц заботливо пристёгивает меня ремнём. Быстро вырываемся за город. Едем среди лесов и холмов, над которыми поднимается луна. На приборной доске автомобиля перемигиваются разноцветные огоньки. Подрагивает стрелка спидометра. Скоро дом, вилла.
Я не знаю, как спасти Фрица, приговорившего себя к смерти.
Вчера выяснилось: закрывается химический комбинат по производству пластмасс, где Фриц работает инженером, а Патрисия секретаршей. Объединенной Европе этот комбинат больше не нужен. Вилла построена несколько лет назад. За неё нужно вернуть огромный кредит банку. Да ещё с выросшими процентами. «Мерседес» тоже куплен в рассрочку. Патрисия замужем вторым браком. И этот брак оказался неудачен. Вдобавок Жак — сын Патрисии от первого мужа — не принимает Фрица, не испытывает к нему никаких чувств. Этот тридцативосьмилетний человек пришёл к полному банкротству. Ни работы, ни дома, ни семьи.
Доверился мне, незнакомцу из другой страны, другого мира. Получается, близких друзей у него нет. Ни в той общине, которая нас здесь принимает, ни среди сослуживцев.
Если он доверился мне, значит ждёт слова надежды, ждёт, чтобы я протянул ему руку помощи. Не могу даже допустить мысли о том, что этот сидящий сейчас за рулём человек может стать трупом с кровавой дыркой в виске.
Вот почему я всю ночь не мог заснуть в отведённой мне комнате на втором этаже. Боялся услышать грохот выстрела.
С другой стороны, если человек объявляет о своём намерении кончить самоубийством, он обычно этого не делает. Хотя похоже, Фриц из тех, кто исполняет задуманное.
Теперь ты знаешь все.
Слова о том, что самоубийство — грех, что человек не вправе распоряжаться жизнью, данной ему Богом, для Фрица в этом его состоянии — пустой звук.
Подъезжаем. Вокруг виллы мёртвая тишина. Светятся лишь окна первого этажа.
В этот раз ужин накрыт на кухне. Фриц зовёт из гостиной Жака. Тот не отзывается. Тогда в гостиную вхожу я. Жак сидит на широком подлокотнике кожаного кресла, скучно смотрит по телевизору рекламу кастрюль, мыла. Подходит Фриц. Выключат телевизор, и мальчик покорно бредёт за нами к столу.
Фриц ставит перед ним баночку с йогуртом, о чём‑то спрашивает. Жак безучастно отвечает. Выясняется, Патрисия ужинать с нами не будет. Плохо себя чувствует, у неё врождённый порок сердца. Приняла лекарство, легла.
Еда не лезет в глотку. Я полностью подключён к тяжёлой атмосфере этого выморочного дома.
Жак съел йогурт. Взяв яблоко, уходит спать. Я и Фриц опять остаёмся наедине.
Он снимает очки, устало проводит ладонью по лицу.
Мы оба в тупике. И тут во мне рождается вопрос. Секунду назад я ни о чём подобном не думал.
— Как вы собираетесь покончить с собой?
Не отводя от меня взгляда, как загипнотизированный, Фриц вынимает из внутреннего кармана пиджака небольшой пистолет. Опускает его на скатерть.
Пистолет красивый. Перламутровая рукоятка. Вероятно, старинный.
Поднимаюсь, хватаю эту вещь, решительно запихиваю в карман.
— Если бы вы это сделали, что было бы с Патрисией и с Жаком? — вырывается у меня. — Они без вас пропадут. Вы это знаете. Как бы то ни было, разве есть у вас право их оставить? Это было бы подлостью.
…В восемь тридцать утра все мы выходим из виллы. Между холмами стелется туман. Холодно.
Пока Фриц заводит машину, Патрисия передаёт мне большой пластиковый пакет, говорит:
— Тут вам подарок от меня, Фрица и Жака.
Нагибаюсь к мальчику, целую его.
— До свидания, Жак! До свидания, Патрисия! Жду вас в гости, в Москве, адрес у Фрица. Спасибо всем вам!
Меня бьёт озноб.
Вбрасываю сумку и пакет на заднее сиденье «мерседеса».
Последний взгляд на виллу, на две фигурки у входа. Машут руками. Через полчаса мы с Фрицем молимся в маленькой кирхе среди членов протестантской общины и моих соотечественников. Службу попеременно ведут пожилой пастор и отец Василий.
Отыскиваю взглядом Ольгу. Она стоит между Машей и Георгием, старательно крестится. Слава Богу. Все хорошо. Нашлась.
Одно плохо — тяжесть пистолета в моём кармане.
После службы выхожу с Фрицем к «мерседесу». Невдалеке уже ждёт наш автобус с родным московским номером «93–78 МЕХ». Под руководством Игоря и Акын О'кеича водители и члены местной общины подносят картонные ящики с подарками московским верующим.
Пистолет жжёт карман. А может это револьвер? Никогда не держал в руках оружия. Ночью хотел на всякий случай вынуть патроны. Боялся открыть. Сверкала, переливалась при лунном свете перламутровая рукоятка. Вероятно ценная вещь. Которую надо бы вернуть. С другой стороны…
У машины Фриц порывисто обнимает меня, шепчет в ухо:
— Не беспокойтесь обо мне. В России сейчас опасно. Пусть пистолет будет тебе. Пусть тебя хранит Бог.
Он садится в «мерседес». Машина срывается с места.
Разом осиротевший растерянно стою со своими сумками. Потом направляюсь к автобусу. Игорь и Акын О'кеич, пыхтя, втискивают в нижний грузовой отсек плоский картонный ящик с надписью латинскими буквами — «Chocolate».
— Задержите всю эту кодлу, — говорит мне Игорь, — хоть на три минуты.
Оборачиваюсь на выходящих из кирхи, соображаю: он не хочет чтоб наши увидели, что загружается в автобус.
— До свидания! — Немецкие христиане обнимаются с нашими. —Да будет с вами Бог. Ауфидерзеен!
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Вечером переезд через границу. А я не избавился от пистолета.
В этих краях германо–французский рубеж пролегает по Рейну. Самым простым выходом было бы выбросить пистолет в реку. Но я уже знаю — на мостах через пограничные реки транспорт не останавливается, а зоны у мостов оцеплены колючей проволокой, к воде не подойдёшь.
Залезаю в карман, осторожно ощупываю рукоятку, дупло. Скорее всего это женский браунинг. Кто его знает, поставлен ли он на предохранитель? Да и есть ли он там?
Если б мог вынуть здесь, в автобусе, снова стал бы разглядывать. Может быть, приставил бы дуло ко лбу. Просто так.
Признаюсь тебе, подростком, совсем молодым парнем почему‑то часто рисовал на полях черновиков стихотворений пистолетики. Рука сама выводила… Сознательно же, кажется, никогда, даже в самых отчаянных ситуациях, и не думал кончать самоубийством.
Нет. Было один раз страстное желание уйти из жизни, избавиться от муки неразделённой любви, ревности. Точно помню, шёл мне тогда семнадцатый год. И потом, через несколько лет, когда услышал, как бывший мамин однокурсник — тюремный доктор из Омска шёпотом рассказывал родителям о том, что вся Сибирь покрыта сетью концлагерей, где от рабского труда вымирают миллионы мужчин и женщин.
Пистолет тяжёленький, скользкий. Наверняка музейный. А что если все‑таки оставить его себе? Как память о Фрице. Трофей. Спрятать где‑нибудь тут, в автобусе. Хоть под сиденьем. В конце концов ни людей, ни салон никто ни разу не обыскивал, не шмонал. Нет, опасно.
Да, впутался я в историю.
Избавиться от пистолета! На первой же стоянке, первой же заправке.
Проход по салону уже настолько загромождён пакетами и сумками, что я с трудом перешагиваю через них, пробираюсь вперёд.
Акын О'кеич примостился к отцу Василию с Игорем. У Игоря в руках калькулятор. Что‑то обсуждают.
Спрашиваю у сидящего за рулём Коли:
— Будет остановка до границы?
— Обязательно. Заправимся немецким горючим и — во Францию. Глянь, за этими холмами слева Швейцария. Садись, покури.
Только собираюсь опуститься в откидное кресло, сзади голос Игоря:
— Не курите в автобусе!
И тут же со своего места визгливо вступает Надя:
— Взял себе моду! Курить могут только шофёра.
Что ж, они правы. Но я знаю, чем на самом деле вызван этот запрет: там, в Нюрнберге, я не исполнил просьбу Игоря, не задержал выходящих из кирхи, и все увидели загружаемые в «икарус» ящики с шоколадом… Не сомневаюсь, что наши бизнесмены решили «реализовать» их на стороне.
Убираюсь восвояси. А навстречу, придерживаясь за спинки кресел, пробирается Тонечка.
— Можно к вам на посиделки?
В руках у неё, кроме неизменного молитвенника, пачка печенья.
— Принесли своё угощение? Погодите. — Я вытаскиваю из‑под сиденья пакет, который дала мне Патрисия. — Давайте посмотрим, что подарили немецкие друзья.
…Батон свежего хлеба. Большая литровая бутылка белого вина. Блок сигарет «Мальборо». Два сорта сыра. Тюбик паштета. Апельсины.
— Гуляем, Тонечка! Чужие люди, первый раз меня видели. Будем пить вино?
— Попробую глоточек. Мне кажется, если вы не против, нужно всем дать попробовать. Как вы думаете, на всех хватит?
— Прекрасная мысль!
С бутылкой в руке пробираюсь к отцу Василию.
— Батюшка, подарили вино. Давайте пустим по автобусу, всех угостим? Тут пробка, а у меня штопора нет.
Игорь берет из моих рук бутылку, осматривает её. Сильным ударом по дну вышибает длинную пробку.
Отец Василий поднимается с места, объявляет:
— По случаю приближения к Франции, прошу приготовить чашки, кружки, у кого что есть. Бог послал нам вино. На этикетке написано — «коллекционное»!
— Ура! — по–пионерски отзывается автобус.
…Мне жалко, что ты не со мной, мой невидимый собеседник, что ты не можешь попробовать этого чуть горьковатого вина, заедая его бутербродом с чудесным сыром.
— Уже захмелела, — говорит Тонечка в то время, как я чищу ей апельсин. — Как вы думаете, тем, кто в задних рядах, достанется?
— Надеюсь.
— А знаете, я ведь пришла поделиться своей тревогой. — Она тянется к моему уху. — Боюсь за Олю. Уже второй день проводит там, у нас, с Мишей и девочками. Поссорилась с мужем, что ли? Нехорошо.
Ольги, оказывается, действительно нет на месте. Георгий сидит один с пластмассовой чашкой в руке. Смакует вино.
— Не тревожьтесь. Сами говорили — «чудесная молодёжь». А он привык к её фокусам.
— Что‑то уж больно серьёзно они взялись за Олю. Храни её Господь!
— Петь что ли заставляют?
Тонечка кивком головы указывает на Георгия. Видимо, он начал прислушиваться к нашему разговору. Меняем тему.
— Вот уж где поют — там, куда мы едем! Небо сходит на землю. Увидите»!
— Так вы уже там были?
— Второй раз сподобилась. Оказал Господь милость.
— Что там, в этом экуменическом центре? Расскажите.
— Невозможно описать. Тысячи людей со всего мира. Молодежь, собираются во имя Христа. Белые, чёрные, латиноамериканцы, японцы. Такого общения, таких молитвенный песнопений в других местах не бывает. Увидите, приобщитесь. И вас Бог сподобит. Какие ни есть душевные раны — все закроются. А какие там монахи! Один брат Пьер чего стоит! До чего добрый, ласковый — ангел Божий! Знает шестнадцать языков.
— И русский?
— Конечно. Увидите — будет встречать, скажет: «Доехали! Слава Тебе Господи! Здравствуй, Россия!». Не человек, а сама любовь. Как я рада за вас, что и вы приобщитесь!
— Может, я недостоин, Тонечка?
— Никто из нас недостоин. Сами видите — все мы грешники, каждый по–своему. Не по достоинству нашему, а по милости Божьей дано всем это паломничество. Давайте вместе помолимся, поблагодарим?
Она открывает молитвенник.
— Акафист Сладчайшему Господу нашему Иисусу Христу. «Возбранный Воеводо и Господи, ада победителю, яко избавлься от вечныя смерти…»
Глаза Тонечки прикрываются. Не понимаю, зачем ей молитвенник. Она знает текст наизусть. Тонечка неразборчиво бубнит, словно впадает в транс, и снова становится похожа на птичку, заворожённую своим пением.
— Господа! Последняя остановка перед границей! — объявляет Надя. — После того, как заправимся, уберите пакеты и сумки, чтоб проход был свободен. Ясно?
Тонечка закрывает молитвенник. Я собираю в пакет остатки нашей трапезы, шкурки от апельсин.
А что, если запихнуть сюда пистолет и выбросить все это в мусорный контейнер?
Выхожу из автобуса последним, и он отъезжает к заправочным колонкам.
Вот они, контейнеры на колёсах — высятся у края тротуара невдалеке от нарядного магазинчика, куда устремилась наша публика.
Подхожу к первому же контейнеру, оглядываюсь по сторонам.
Полицейских не видно. Как будто никто не обращает на меня внимания. Две старушки с высоким господином проходят мимо. Человек в ковбойке и запятнанном комбинезоне тщательно метёт невдалеке и без того чистый асфальт.
Быстро вынимаю из кармана пистолет, запихиваю в пакет, размахиваюсь и перебрасываю через борт контейнера.
Все! Избавился. Испытываю ни с чем не сравнимое облегчение. Закуриваю. Только отхожу от контейнера, навстречу Светлана с матерью.
— Вы уже были в шопе? Что там есть интересного? — спрашивает Зинаида Николаевна.
— Не знаю. Не был.
Они торопливо идут к магазину. А я вспоминаю, что и денег‑то немецких у меня не осталось — ни марки, ни пфеннинга. Все едино, есть там что‑нибудь интересное, или нет.
— Вы русские? Из России? — подходит ко мне человек с метлой.
— Да. Из России.
— Откуда?
— Из Москвы.
— Давно?
— Кажется, пятый день… А вы кто?
— Я из Подольска, — угрюмо говорит он. — Здесь уже два года… Сволочи немцы. Хорошую работу дают только родственникам, немцам.
— Понятно. Как же вы тут живёте?
— Как видите. Подметаю. Опоражниваю урны, мою контейнеры. Снимаю койку в городке, в десяти километрах отсюда. Пришлось купить велосипед. Езжу сюда работать. Экономлю на всём. Пересылаю своим в Подольск по сто марок в месяц. Семья у меня там — родители, жена с дочкой.
— И зимой на велосипеде?
— Снега здесь не бывает. Ну, ладно. Счастливо вам.
Уныло отходит со своей метлой. А я вдруг догадываюсь — этот человек несомненно роется в мусорных баках, выискивает в них полезные для себя вещи. Может, и комбинезон тоже там нашел…
Ты легко поймёшь, о чём я подумал: непременно найдёт пистолет. Не дай Бог застрелится. Или от отчаяния застрелит кого‑нибудь.
Как бы для того, чтоб выбросить окурок, снова подхожу к контейнеру, поднимаюсь на цыпочки. Вон он, мой пакет. Но чтоб достать его, приходится перегнуться через острый железный край.
— Что это вы тут делаете? — раздаётся за спиной голос отца Василия.
Оглядываюсь.
Игорь и отец Василий с большим интересом смотрят на меня.
— Как бы интеллигент, как бы писатель, — говорит Игорь. — Такие ничем не брезгуют.
К счастью, они не задерживаются, проходят дальше.
Вытряхиваю из пакета пистолет, снова засовываю в карман. А вот уже и автобус разворачивается от колонок, чтобы подъехать за пассажирами.
…Смеркается. Но свет в салоне ещё не горит. Рядом со мной на свободном сиденье гора сумок и пакетов, принадлежащих пузатенькому Вадиму, Нине Алексеевне, Зинаиде Николаевне со Светланой. По требованью Нади проход освобождён. Подъезжаем к французской границе.
А я с пистолетом в кармане.
Когда Фриц, заботясь обо мне, а может, сам желая избавиться от страшного соблазна, предложил мне эту штуку в подарок, он не подумал о том, что я должен буду пересекать много границ. Если сейчас что‑либо случится, пострадаю не только я. Будут серьёзные неприятности у Нади. У всех.
Как ты думаешь, отчего этот красавец с косой и серёжкой в ухе так ненавидит меня? Эту ненависть я чувствую давно, с самого начала путешествия. То‑то будет злобной радости, если меня накроют с пистолетом.
В салоне вспыхивает свет. Автобус останавливается. Надя с отцом Василием выходят наружу. Мне видно в окно, как они вместе с немецким пограничником оказываются в освещённом изнутри домике, как показывают там папку со списками и документами.
Сейчас все они поднимутся в автобус. А тут ещё привлекающая внимание гора чужих вещей именно рядом со мной. Пропаду, как дурак, ни за грош!
Но вот Надя и отец Василий возвращаются в салон, и автобус въезжает на мост. Яркие огни фонарей отражаются в водах широкой реки. Рейн. Если меня арестуют, это будет во Франции.
— Всем приготовить паспорта! — приказывает Надя.
Мост кончился. Передние двери снова раскрываются.
— Бон суар! — приветствует всех молодой французский пограничник.
Он быстро идёт по проходу. Взгляд на визу в паспорте, на фотографию, взгляд в лицо. Ставит штамп.
Дошел до меня. Та же процедура.
Пошел дальше в глубь салона. Пронесло!
И тут в автобус врывается таможенник с собакой на поводке. Пробегают мимо. Ищут наркотики.
Теперь, кажется, все. Мы остаёмся одни. Автобус медленно набирает скорость. Едем по Франции
Мои соседи тотчас разбирают сумки и пакеты. Снова загромождают проход. Боятся, что ли, что я что‑нибудь украду? Может, с этим пистолетом я обрёл особо подозрительный вид?
Сзади подходит Катя.
— Можно я с вами посижу?
— Садитесь.
Достаю апельсин, угощаю.
— А у меня там есть термос, кофе. Хотите принесу?
— Хочу.
Весь автобус смотрит, как она несёт мне термос, чашку. Даже отец Василий с Игорем обернулись.
— Это мои немецкие хозяева заправили термос, подарков надарили. А как вас принимали?
— Отлично.
Кофе горяч и сладок.
— Что, Катенька? Вы хотели о чём‑то спросить?
— Миша с Леной отчитывают её молитвами каждый день, — шёпотом отвечает Катя. — Сказали, в Олю вселился бес.
В этот раз Ольга на месте. Сидит у окна рядом с Георгием. Поглощена рассматриванием своего лица в зеркальце. Красится. Видимо, по случаю скорого прибытия в международный экуменический центр.
— Тонечка говорила, что тоже беспокоится за неё. Катя, а вы уверены, что у Миши и Лены есть сила изгонять бесов?
— Не знаю… Очень боюсь за Олю.
— Она — ваша подруга, близкий человек?
— Нет. Я видела её в храме, а познакомилась здесь, во время поездки.
— Катя, скажите честно, зачем вы поехали? Зачем вам это паломничество? Посмотреть Францию? Какова ваша цель?
— Если честно?
— Конечно, честно.
— Говорят, там, в экуменическом центре молодёжь со всего мира. Я хотела бы познакомиться с американцами, итальянцами… Переписываться. Может быть, выйти замуж.
— Понятно. Спасибо за искренность. А что дома, в Москве, знакомых ребят нет?
— Куча! Ходим на дискотеки, в театры. Телефон обрывают. Но все они какие‑то…
— Какие?
— Неустроенные. Один богатый. По ночам работает в киоске на Аэровокзале, продаёт водку и сигареты. Другой бедный, грузчик при художественной галерее. Третий ушёл из мединститута, лечит частным образом кошек и собак. Он очень милый.
— А вы где учитесь?
— В педагогическом, на втором курсе. Отпросилась ради этой поездки. Мама и бабушка дали денег.
— Катя, вы чувствуете, что я к вам хорошо отношусь? — Да.
— Умолите Мишу и Лену, чтоб они больше не приставали к ней. Добром не кончится.
— Хорошо, — смиренно отвечает Катя. — Если смогу…
Автобус резко тормозит, останавливается.
Со своего места вскакивает Надя.
— Кто хочет, может выйти минут на двадцать!
— Давайте‑ка, Катенька, погуляем.
— Сейчас. Только отнесу на место термос и чашку.
Мы с Катей выходим наружу под французские звёзды. Стрекот цикад. Фары автобуса освещают наших пассажиров, толпящихся впереди.
Подходим ближе.
Оказывается Коля и Вахтанг, как грифы на падаль, набросились с гаечными ключами и отвёртками на брошенный у обочины разбитый «Ситроен».
— Разве так можно? — спрашивает Катя. — А если вернётся хозяин?
— Не вернётся! — вмешивается Надя. — Здесь дешевле бросить битую машину, чем починить.
…Отвинчивают колеса, дверные ручки, выдирают пепельницу.
— Коль, сними‑ка мне эти два подголовника, — просит Игорь и объясняет заворожённой толпе. — Будет на моём «жигуле» как бы память о поездке.
Отхожу в темноту. Справа от шоссе тянется проволочная сетка. За ней смутно различаю виноградник. Ни канавы вдоль обочины, ни ямы. Жду пока прервётся слепящий поток машин на трассе. Перебегаю шоссе.
Вот незадача! И здесь почти рядом с асфальтом тянется высокое проволочное ограждение. И здесь виноградник. Если перекину пистолет через сетку, рано или поздно кто‑нибудь найдёт. А я не хочу брать грех на душу.
Иду вдоль сетки. Должна же она когда‑нибудь кончиться!
Нет ей конца. Поворачиваю обратно.
Оказывается, избавиться от оружия труднее, чем его получить. Скоро, через несколько часов, мы приедем во всемирный религиозный центр, можно сказать, в святое место.
В зыбком звёздном свете навстречу движутся две фигуры. Это отец Василий и Ольга.
— Вернемся в Москву, — говорит священник, — дам почитать «Невидимую брань». Там подробно рассказано, как бесы завладевают душами… А вот и мой благодетель. Не угостите раба Божьего сигареткой?
Достаю сигареты. Даю прикурить. Ольга тотчас срывается с места, перебегает шоссе, едва не попав под многотонный фургон.
— Спаси её, Господи! — Отец Василий осеняет себя крестным знамением. — Георгий заставил её сделать аборт. Грех великий. А психиатры выписывают таблетки, ничем помочь не могут…
Он идёт рядом, благодушно рассуждает. А из автобуса уже сигналят, зовут. Операция по раздеванию «Ситроена» закончилась.
Я поднимаюсь за ним по ступенькам. Мимоходом спрашиваю:
— Наденька, когда доедем до места?
— Не знаю. Уже надоели своими вопросами. Часа через три.
Пробираюсь к своему креслу, достаю из‑под сиденья сумку. Быстро
сую в неё пистолет. Заодно, чтоб избавиться от пакета, перекладываю туда же блок «Мальборо».
…В салоне темно. Все вокруг спят. Задергиваю короткую шторку на окне. Но и сквозь неё проходят пульсирующие вспышки. Пять минут двенадцатого.
Хоровод людей, мелькая, обступает меня, кружит в закрытых глазах. Катя, Тонечка, отец Василий, Ольга, Игорь, Акын О'кеич, пани Ева, Фриц…
Несмотря на подложенную под голову куртку, спать неудобно. Болит шея. И все‑таки дремота наплывает, наваливается.
То ли во сне, то ли наяву в полутьме спящего автобуса улавливаю движение. Это Ольга. Стоит, неловко изогнувшись — что‑то привязывает к верхнему крючку над окном, затем просовывает голову сквозь какую‑то петлю. Георгий спокойно сидит рядом. Видимо, спит.
Вскакиваю. Перегибаюсь вперёд, пытаюсь сорвать эту петлю из тонкого кожаного ремешка. Оля молча борется со мной, яростно отталкивает. Тогда я изо всех сил дёргаю за ремень. Он лопается, отскакивает от крюка. Как щенка на поводке протаскиваю Олю мимо Георгия, который продолжает спать. Или притворяется.
И вот она безвольно валится на свободное кресло рядом со мной, уже не противится, когда я снимаю петлю с её шеи.
Оглядываюсь. Зинаида Николаевна немигающе смотрит в упор.
— Они сказали — я проклята Богом, наказана… — Оля подгибает ноги под себя, кладёт голову мне на колени.
Глажу её по волосам, по мокрой от слез щеке. Шепчу:
— Это не так, девочка. Бог добрый. Бог есть любовь, и ты знаешь об этом, да?
Она уже не слышит. Впала в забытье.
Странно, что Георгий не проснулся. Невероятно. Неужели отчаялся и решил — будь что будет?..
Подлокотник между нашими сиденьями давит, и Ольга, не просыпаясь, перебирается ко мне на колени. Держу её в объятиях, как ребёнка.
А теперь скажи мне, почему я стал противен сам себе? Со стороны всё это, может быть, и выглядит благородно, даже красиво — этакий добродетельный христианин, спасающий вокруг всех и вся. Фрица. Олю. Дженнифер от рака… Что происходит? Я вовсе не из команды по борьбе с чрезвычайными ситуациями. Ни брата, ни сестры. Никаких родственников.
Был у меня друг — мой духовный отец. Его убили. Была жена — упала мёртвой у подъезда нашего дома. Инфаркт.
Кроме тебя, никого не осталось. С тобой разговариваю, о тебе думаю.
Я в отчаянии от того, что творится в мире, от того, что творится со мной. Если бы я мог, подобно Роберту Льюису Стивенсону уехать куда‑нибудь на тропический остров, писать под сенью пальм у океана нечто вроде «Острова сокровищ»!
…Сижу дурак дураком с этой несчастной Олей. Сейчас автобус доедет до места. Зажжется свет. И все увидят меня с чужой женой на коленях. У людей ведь принято думать прежде всего что‑нибудь плохое, пошлое. Всем не объяснишь. Дурацкая, чаплинская ситуация. Вечно попадаю в такие.
Вот уже замелькали за занавеской редкие огоньки какого‑то селения. Автобус замедляет ход.
— Оля, Оленька… Кажется, мы приехали.
Она ещё тесней прижимается ко мне.
— Господа! — Хрипло возглашает Надя, и в автобусе загорается свет. — С приездом! Нас встречают. Просьба в салоне ничего не оставлять!
Георгий резко оборачивается. Секунду смотрит на нас с Олей. Потом вскакивает и на глазах у всех забирает от меня свою жену.
Автобус останавливается. Скажи, отчего я сижу как оплёванный? Разве я сделал что‑нибудь плохое?
Заставляю себя встать. Перекидываю через плечо ремень сумки. Выхожу последним.
Южная ночь. Стрекочут цикады. Неужели это я стою здесь, во Франции поодаль от наших, толпящихся под фонарём вокруг человека в монашеском одеянии со списком в руке? Даже тут один среди всех. Всю жизнь тянет к людям, в теплоту их муравейника. И всю жизнь отбрасывает.
Идет распределение — кто и где будет ночевать. Большую часть — всех молодых, в том числе и Олю с Георгием — уводят в темноту, в коттеджи. Остальным предлагают пройти в гостиницу.
Шагаю за всеми к белеющему сквозь ветки кустов и деревьев домику. Выясняется, меня поселили в одной комнате с Игорем.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Справа на сцене трепещут сотни свечей, а здесь, в полутьме длинного зала, похожего на громадный стадион, сидят тысячи людей со всего мира.
Череда монахов в длинных белых одеяниях торжественно движется по центральному проходу, рассаживается в высокие кресла.
Усиленные динамиками, раздаются молитвенные песнопения. Дивная музыка. Хрустальный детский голосок время от времени выводит — «Господи, помилуй…»
Я сижу на одной из ступеней амфитеатра. Передо мной море людей, расположившихся на полу. Кто сидит по–турецки, кто в позе лотоса, кто стоит на коленях. Тысячи белых, чёрных, желтолицых людей со всех континентов Земли.
Слова молитв повторяются на французском, английском, немецком, греческом, русском, польском языках.
Даже на китайском, на японском. Каждая молитва заканчивается прославлением Бога — «Аллилуиа, аллилуиа…»
Рядом со мной сидят Коля, Вахтанг и Надя.
Впереди подо мной различаю Олю, Георгия. Оля смотрит на меня. Лицо просветлённое. Кажется, в слезах. Других наших не видно. Во главе с отцом Василием они где‑то впереди, у сцены. Игорь тоже там.
…Видишь, как получилось. Из‑за него, из‑за этого Игоря я неспособен отдаться молитвенному настроению. Ехал сюда с такой надеждой… Душе моей нет покоя.
Неприязнь Игоря ко мне объясняется очень просто: ненавидит евреев, антисемит. О чём он с издевательской вежливостью поторопился сообщить вчера. Сразу же, как только мы оказались вдвоём в тесном номере гостиницы.
— Ну и хохма! Поселили с евреем! — так он и заявил.
Я промолчал. Погасил ночник на тумбочке. Даже удалось заснуть. Снова привиделось лицо белозубой смеющейся девушки.
А утром, когда я брился перед тем, как пойти сюда, в этот храм, Игорь снова принялся извергать свой яд.
Мне казалось, что я давно уже постиг науку сдерживаться, жалеть этих несчастных людей — антисемитов. Но Игорь меня, что называется, достал.
— Почему вы, евреи, всюду лезете? Лезете в наш шоу–бизнес, как бы проникаете всюду с вашими связями, — бубнил он, пока я брился. — Вот вы, зачем проникли в нашу православную веру? Мало вам синагоги? Хотите подмазаться к нашему Христу?
Я давно уже заметил, что он кстати и некстати употребляет слова «как бы» и «некий». По этой языковой метке подобных личностей давно сообразил, что она означает.
Неуверенность. Изначальную неуверенность в себе. Отсюда и коса, и серьга в ухе. И закомплексованность. Желание за счёт унижения другого человека возвыситься в собственных глазах. Когда он допёк меня, сказал, что я, еврей, хочу вроде бы незаконно примазаться к православию, ко Христу, я не выдержал, спросил: «Ваш папа — кинорежиссёр? Дипломат?»
Я ведь знаю, что такого рода супермены — дети известных людей, пристроивших своих избалованных чад, как правило, куда‑нибудь поближе к искусству. Здесь вроде бы не нужно знать математику, точные науки. При некоторой ловкости можно заработать большие деньги, известность. А таланта нет. А сказать нечего. Вот они и изгаляются кто во что горазд, кто в кино, кто в живописи, маскируя свою бездарность под «авангард», под «параллельное кино», под что угодно.
— Да. Отец — кинорежиссёр, — сбитый с толку Игорь назвал фамилию известного кинодокументалиста. — Это как бы не имеет отношения к нашему разговору.
— Имеет!
Больше я ничего не сказал. Сдержался. Но посуди сам, чего мне будет стоить это соседство в течение семи дней нашего пребывания здесь, в экуменическом центре, объединяющем всех христиан…
— До чего красивы монахи, — шепчет Надя, утирая слезы умиления.
В этот момент свет гаснет. Наступает полная тишина. В темноте каждый предоставлен самому себе, своим думам.
Пауза для медитации.
Постепенно глаза привыкают, и во мраке над тысячами склонённых голов начинаю различать золотистое свечение. Оно поднимается, ширится… Но тут вспыхивает электричество, из динамиков вновь звучит хор.
— Аллилуиа, аллилуиа…
Монахи поднимаются со своих мест, белой чередой уходят в сторону сцены, скрываются за высокой дверью. Богослужение заканчивается.
В густом потоке людей выхожу из этого то ли храма, то ли религиозного театра. Какое счастье вырваться из этого искусственного мира на свет Божий!
Сейчас, когда я вышел на вольный воздух, в мир утреннего света, увидел своих друзей — деревья, живущие вдоль длинной дороги, а за ними сочную, зелёную долину, простирающуюся сколько хватит глаз — до горизонта, я с особой силой ощутил красоту мира.
И вот ведь как бывает, не успеешь подумать о чём‑либо, тут же кто‑то словно подхватывает твои мысли. На свой лад.
— Не храм, а дом Божий! Вы почувствовали? Правда, замечательно?
— восторженно говорит Тонечка, нагоняя меня.
Соглашаюсь. Киваю.
— Чудесно! Так вот молиться три раза в день… Снова сподобилась. Целую неделю! Посмотрите вокруг, какие радостные, просветлённые лица у всех!
Покорно озираю идущих рядом. Вот отец Василий. Акын О'кеич. По- чему‑то подмигивает мне. Сталкиваюсь взглядом с Игорем. И вдруг понимаю — не только недели, двух дней не вынесу обязаловки, участия в этом действе.
Густой поток людей разделяется натри рукава, ведущие к трём огромным, похожим на цирковые шапито, брезентовым шатрам.
Один из них возвышается посреди поля. Туда‑то мы и сворачиваем за отцом Василием, проходим мимо стоящей у дороги четырёхгранной прозрачной будки с телефонами–автоматами, и я вспоминаю о том, что в моей записной книжке есть номер живущей в Париже бывшей пациентки
— Ирины. И в Нью–Йорк давно следовало бы позвонить, узнать, как себя чувствует Дженнифер. Беспокойство о ней всё время исподволь трепещет в душе. Последний раз звонила что‑то около полутора месяцев назад. Веселая, счастливая. Сообщила, что была в клинике, что анализы крови хорошие.
— Вы не знаете, где тут можно разменять валюту? — обращаюсь к идущей рядом Нине Алексеевне. — Нужно позвонить.
— А что, у вас есть знакомые во Франции? Счастливый!
Мы двигаемся длинной процессией ко входу в шатёр. Нина Алексеевна, как всегда при всех своих бусах, кольцах и браслетах. Только Вадима- нумеролога при ней сейчас нет.
— Слева от входа в храм, в маленьком домике полный сервис. Только что меняла там доллары. Как досадно торчать здесь целую неделю. Только два дня отпущено на Париж!
— Какой Париж? Париж по–моему не запланирован.
— Как? Вы ещё не знаете? Какой‑то монастырь под самым Парижем пригласил нас всех на два дня! За их счёт, — она понижает голос, доверительно шепчет. — Я и поехала‑то разведать, узнать — нельзя ли как‑нибудь наладить связи, устроить на учёбу сына. Но у меня нет знакомых, ни одного. Помогите мне! Я ещё молода. Как бы мне хотелось жить в Париже!
К счастью в этот момент к нам подбегает Вадим.
— Нина, я занят очередь впереди. Идем скорей! И вы тоже.
— Спасибо. Я не спешу.
— Идемте, идёмте! — уговаривает Вадим, переводя дыхание. — Отец Василий сказал — через час вон там на лужайке нас разобьют на две группы. Одна будет дискутировать с австрийскими верующими, другая — с эфиопскими.
— О чём?
— Не знаю. А после обеда встреча с братом Пьером.
Они уходят в шатёр. А я остаюсь в очереди.
Теперь рядом со мной двое молодых ребят с зелёными рюкзачками на спинах. Судя по речи, то ли англичане, то ли американцы. Смешливые, конопатые парни, может быть, братья. Спрашивают по–английски из какой я страны. Услышав, что из России, сочувственно кивают, лица их становятся серьёзными.
Еще недели нет, как я уехал из Москвы, но как всегда кажется, что времени прошло гораздо больше, что там, в зыбком, тревожном мире, называемом Россия, сейчас происходят роковые события.
Охватывает ощущение дезертирства. Но скажи на милость, что я могу? Я чураюсь политики, давно понял — невозможно усовершенствовать мир, если каждый не станет изменять самого себя. Если бы каждый человек пришёл к такому же пониманию, всё было бы иным.
Очередь движется довольно быстро. И вот я уже оказываюсь под высоким сводом шатра, подхожу с подносом к одному из раздаточных столов, за которым вместе с двумя негритянками стоят Катя и Оля.
Девушки улыбаются мне. Катя наливает кофе в большую красную чашку. Оля поочерёдно достаёт из трёх корзин и выкладывает на мой поднос круглую булочку, порцию масла и грушу. Сегодня Олино лицо не нагримировано. Нежное, светится. Словно не было того, что случилось вчера ночью в автобусе.
Отхожу с подносом, ищу свободный столик. Катя нагоняет меня, говорит:
— Она мне все рассказала! Спасибо вам.
Она убегает обратно, а меня к своему столику уже зовут Нина Алексеевна и Вадим.
Приходится притвориться, что я их не заметил. Выхожу с подносом наружу. Поодаль на зелёной лужайке стоят белые пластиковые стулья. Сажусь на один из них, кладу поднос на колени.
Булочка. Масло. Груша. Кофе. Идеальный завтрак для меня. Да ещё на свежем воздухе.
Прохладно. Все‑таки конец сентября. Легкий ветерок играет прядью надо лбом…
Нужно отнести обратно чашку. А я все сижу, не в силах расстаться с дарованным мне мигом покоя. Воробушки, совсем московские, скачут у ног, выискивают в траве обронённые крошки. Неяркое солнце стоит над бескрайней долиной. Тишина.
Но вот уже повалили из шатра люди. Вон отец Василий, Игорь, Акын О'кеич, Нина Алексеевна с Вадимом. Идут сюда вместе с группой высоких, темнокожих юношей в пёстрых одеждах.
Встаю. Прохожу мимо них со своим подносом и чашкой.
— Возвращайтесь скорей, — говорит отец Василий. — Дискуссия.
— На какую тему?
— Будем делиться опытом подражания Христу.
Мгновение смотрю на него, на Игоря… И ухожу в шатёр.
— Идите сюда! К нам! — Зовет меня Ольга.
После завтрака все уже прибрано. В разных концах огромного помещения за чистыми столиками друг против друга расположилось множество групп.
Подсаживаюсь к той, где сидят Ольга с Георгием, Катя, Тонечка, Светлана и её мать, а также Николай с Вахтангом.
Надя, оказывается, участвует во встрече с итальянскими католиками, которая происходит в другом месте. Там же Миша и Лена.
А здесь перед нами люди из Австрии. Благообразные. Благожелательно улыбаются. И мы улыбаемся им в ответ.
А говорить не о чем.
Странная затея — дискутировать о религиозных проблемах с незнакомыми людьми из незнакомой страны. Георгий, оказывается, неплохо знает немецкий, переводит. Выясняется, что австрийцы на свои деньги наняли микроавтобус, приехали сюда «в надежде обрести Бога»…
Тонечка кивает седою головкой — и она, она тоже прибыла с этой целью.
Снова улыбаемся друг другу. Мне неловко перед этой худой респектабельной дамой, перед этим улыбчивым юношей, вероятно её сыном, перед некрасивой девицей с костылями, перед этими скромными молодыми супругами.
Австрийцы вежливо расспрашивают о погоде в Москве, о восстановлении храма Христа Спасителя, о Ельцине.
Говорить не о чем. Решаюсь спасти ситуацию.
— Хотите расскажу вам о Марии? О старой женщине, живущей на греческом острове Скиатос? О подлинной христианской святой, которая и думать не думает, не знает о своей святости.
Пока Георгий переводит, глаза всех устремляются на меня.
Рассказывая о Марии, я вижу её. Вижу скорбное лицо. Вижу, как во время богослужения она стоит в церкви. Всегда в задних рядах прихожан. Вижу её тщательно заштопанную вечно чёрную одежду, стоптанные башмаки. Давно похоронившая любимого мужа — простого рыбака, одинокая, она, не имея ничего, кроме жалкой пенсии, ухитряется помогать всем. Всегда неожиданно возникает там, где трудно, где кто‑то болен. На жалкие гроши позволяет себе купить игрушку для больного ребёнка, принести кастрюлю супа в дом голодного и при этом вдруг так улыбнётся, что у человека отлегает от сердца
Рассказываю о том, какое участие приняла Мария в моей судьбе — никому неизвестного иностранца, оказавшегося на этом острове прошлой зимой.
Трудно понять, на что она существует, старая, больная, никогда ничего не просящая для себя у Бога.
Скажи, почему они прослезились, эти австрийцы, почему плачут Ольга, Катя, Светлана? Почему у самого першит в горле?
Кто‑то касается моего плеча. Это отец Василий.
— Дорогие мои, что ж вы так засиделись? Час дня. Пора в храм, на молитву. Нехорошо опаздывать.
Действительно, пространство под куполом шатра пусто. Мы все словно очнулись.
Под предводительством отца Василия австрийцы и наши торопливо идут к храму.
А я отстаю.
Вспоминаю о неминуемой перспективе встречи с Игорем. Стоило ли ехать во Францию, чтобы вместо Франции все семь дней видеть перед собой лицо этого московского хлыща с его косичкой и серьгой в ухе? Там, в Греции, Марии не было дела до моей национальности. И сейчас этим австрийцам тоже не было дела.
Прохожу мимо телефонной будки. Приостанавливаюсь. Может быть, это нехорошо, но как на духу, признаюсь: во мне крепнет решение позвонить Ире в Париж. Если она сейчас там, если примет — сбегу отсюда. А когда автобус прибудет в монастырь под Парижем, присоединюсь к нашим паломникам, вместе со всеми двинусь в обратный путь.
Я уже знаю, что обязательно осуществлю эту идею, хотя наверняка буду подвергнут всеобщему осуждению.
Подходя к храму, замечаю слева за деревьями приземистый домик, очевидно, тот самый, о котором говорила Нина Алексеевна. Действительно, у дверей на разных языках написано, что здесь обменивают валюту, продают автобусные и железнодорожные билеты, телефонные карточки.
Испытываю сильнейшую тягу сейчас же произвести все необходимые операции.
А вдруг я неправ? Вдруг это не что иное как искушение?
Вхожу в храм.
Полутьма. Осторожно пробираюсь между людьми. Наконец нахожу свободное место прямо на полу. Усаживаюсь.
Из динамиков льётся дивная музыка, звучит хор, хрустальный детский голосок выводит «Аллилуиа, аллилуиа…»
Вокруг тесно сидят незнакомые юноши и девушки. Один из темнокожих парней почему‑то хихикает. Приятель пытается шёпотом урезонить его, затем начинает смеяться сам.
Свет полностью гаснет. Смолкает хор. Пауза для медитации.
Закрываю глаза. Пытаюсь довериться атмосфере храма, включиться в молитвенный настрой. И тут же впервые не во сне, а просто в темноте закрытых глаз возникает, проявляется лицо старого человека с короткой шкиперской бородкой. Взор его требовательно, повелительно смотрит в самую душу…
«Господи, помилуй, Господи, помилуй…» — шепчут мои губы. Ну скажи, пожалуйста, что это такое? Что за наваждение? Что за мистика?
В голове складывается, звучит чужим голосом фраза. Даже не фраза, а зов: «Должен ехать, куда хотел ехать».
Лицо старика размывается, пропадает.
Открываю глаза. Безмолвная процессия монахов в белых одеждах проплывает к двери у сцены.
Как ты думаешь, кем в глубине души считают себя эти монахи? Актерами? А нас — статистами? Или искренне верят, что здесь каждый раз перед завтраком и обедом происходит таинство единения человека с Богом? Без покаянной исповеди, литургии и причастия?
Я чувствую себя уродом, отщепенцем, и здесь выпадающим, выламывающимся из общего ряда, чувствую острую потребность исповедаться, хоть с кем‑нибудь посоветоваться, поговорить, поделиться сомнениями.
Не с кем.
В голове продолжает звучать — «Должен ехать, куда хотел ехать». Вместе со всеми иду к выходу.
Солнечно. На небе ни облачка. И в то же время ощущается приближение ненастья. Воздух влажен. Шелестят под ветром пышные кроны деревьев.
Надо идти обедать. Как в больнице. Или в пионерлагере. Снова стою в очереди к шатру.
Мимо вместе с Игорем проходит отец Василий, напоминает — через час встреча всех наших с братом Пьером.
Подхожу к раздаточному столу, за которым вместе с негритянками ловко священнодействуют Катя и Ольга. Они счастливы. Нашли себя здесь. Сноровисто наливают в одну миску суп, в другую накладывают второе, ставят все это на мой поднос.
— Вам сок или кофе? — спрашивает Катя.
— Кофе.
На этот раз нахожу свободный столик здесь же под шатром. И тотчас с нагруженным подносом подходит молодая незнакомка. Невысокая. Невзрачная. С тоненькими выщипанными бровями.
За едой разговариваем. На английском.
Она француженка, живёт где‑то под Марселем, работает дегустатором вин. Зовут Люлю.
Это странное существо со странным именем быстро ест, быстро говорит. Такое впечатление, что ей много лет не с кем было слово сказать.
Спрашиваю, зачем она приехала сюда?
— Искать Бога.
— И как? Нашли?
С горечью усмехается. Пожимает плечами.
Сочувственно смотрю на неё. Словно твоими глазами. Сколько таких же одиноких, неприкаянных душ встречается в Москве, в России! Сколько писем от читателей моих книг получаю я со всех краёв. С той же болью, с той же надеждой обрести Бога…
Мой жалкий английский не даёт нам возможности по–настоящему поговорить. Глажу доверчивую худую ладошку с зелёным колечком на пальце.
И выхожу из шатра.
На лужайке около белых стульев вокруг отца Василия уже собираются наши. Ты будешь удивлён моей наивности, если не сказать глупости, но слаб человек. Подхожу.
— Отец Василий, можно поговорить? Наедине.
Улыбается, кивает. Доволен, что я к нему обратился. Отходит со мной в сторонку, спрашивает:
— Как вам тут? Благодатно? Все говорят, что вы замечательно провели встречу с австрийскими протестантами.
— Отец Василий, считаю, что должен поставить вас в известность: завтра собираюсь уехать в Париж.
Улыбка сходит с его лица.
— Это как, на каком основании?
— Батюшка, честно говоря, основания есть, много накопилось. — Я уже готов исповедаться, рассказать о неодолимом зове, о фразе «Должен ехать, куда хотел ехать», мучительном соседстве с Игорем…
К счастью, он не даёт слова сказать, перебивает:
— Это возмутительно. Вас зачислят в чёрный список!
— Пусть зачислят.
— А как же вы вернётесь в Москву? Я за вас отвечаю.
— Не беспокойтесь. Вы ведь приедете в монастырь под Парижем. Присоединюсь.
Лицо священника багровеет.
— Нужно сказать брату Пьеру. Посоветоваться. Если он благословит… — характерно, что отец Василий так и не спросил, почему я хочу уехать. Ему важно соблюсти приличия перед местным начальством.
Возвращаемся к ожидающей нас группе и все вместе идём на встречу с братом Пьером. Проходим по дороге мимо телефонной будки. Сквозь приоткрытую стеклянную дверь виден Акын О'кеич.
— О'кей! О'кей! — доносится оттуда. — Сенкью вери матч!
Я улыбаюсь. И в ту же секунду до меня доходит: я ведь ещё не позвонил Ире, а уже сообщаю о своём решении отцу Василию! А если Иры нет в Париже? Если она не сможет меня принять? Куда я там денусь? Моих капиталов на отель не хватит.
Сворачиваем с дороги к полукруглому комплексу невысоких белых зданий, окружённых деревьями и клумбами с цветами, втягиваемся в гостеприимно распахнутую молодым монахом дверь и оказываемся во внутреннем дворике. Вьющиеся розы оплетают его стены.
Рассаживаемся на белых стульях.
И перед нами появляется брат Пьер. Он в обычном однобортном костюме. Ворот белой рубашки распахнут. Красавец. Глаза ироничные, умные.
Спрашивает по–русски, как мы добрались, как устроились.
Со своего места встаёт Тонечка. Благодарит от имени всех московских паломников. Потом отец Василий поочерёдно представляет нас.
Взгляд брата Пьера останавливается на каждом, задерживается и на мне.
«Вот кому надо бы исповедаться, — с надеждой думаю я. — Что бы он сказал о соломенном подстаканнике, о навязчивых снах, обо всём, что со мной происходит?»
Брат Пьер, стоя перед нами, призывно поднимает руку. Начинается проповедь.
— Дорогие мои братья и сестры во Христе! Мы встречаемся с вами в уникальный момент истории человечества. На глазах исчезают границы между государствами Европейского сообщества. Исчезают границы между католической и ортодоксальной ветвями христианства. Чему свидетельство — ваше присутствие здесь, у нас. Раньше это было невозможно. Не так ли? Все это происходит по чудесной, неизречённой милости Господней. Возблагодарим Господа!
Дворик заполняют торжественные звуки органа. Это баховская фуга. Музыка льётся из невидимых отсюда динамиков.
Теперь брат Пьер стоит, сложив поднятые к лицу ладони. Молится. И мы молимся вместе с ним.
— Неважно, католик ты или православный. Дух Христов — дух единения. Когда вы вернётесь на свою родину в Россию, вы должны стать вестниками христианского единства, теми песчинками, вокруг которых образуются драгоценные жемчужины… На знамени каждого из вас должно быть написано два слова — «любовь» и «прощение». Должно прощать всех. Даже врагов ваших. Даже бывший КГБ.
Он светло улыбается. Я завидую этой способности к всепрощению, этой улыбке.
Брат Пьер вскидывает руки, словно обнимает всех.
— Вас возлюбил Господь, избрал для святого дела! Если бы каждый привёл к вере хотя бы двух человек! Увидите пьяного, берите его на спину и доставляйте в свою общину. Встретите атеиста, не спорьте с ним, возвещайте, что приблизилось Царство Небесное.
Все это напоминает мне тактику большевистского подполья, образования партийных ячеек. Коробят жесты профессионального проповедника, лесть в отношении нас.
Встреча заканчивается. Наши вскочили со своих мест, окружают брата Пьера, задают вопросы.
Подхожу к отцу Василию.
— Батюшка, так давайте подойдём к брату Пьеру, узнаем, внесут меня в чёрный список или нет…
Смотрит сердито. Как на предателя. Кивает.
Когда все начинают уходить, и брат Пьер остаётся один, я направляюсь к нему. Отец Василий вдруг быстрым шагом устремляется к выходу из дворика. Испугался.
— А у вас какие проблемы? — ласково спрашивает брат Пьер.
Я сразу говорю о том, что собираюсь уехать в Париж.. Говорю, что хочу поделиться своими сомнениями, что испытываю к нему доверие.
— Понятно, — он кладёт на моё плечо руку, проницательно смотрит в глаза. — Хотите попользоваться Западом? Что ж… Пусть будет, как будет.
Ему некогда. Он уходит. И я ухожу, полный смятения, досады на себя за то, что вздумал отпрашиваться, как школьник с уроков, да ещё возбудил подозрение, впрочем, не без основания, в желании увидеть Париж..
Если бы брат Пьер, выслушав меня, запретил отъезд, я бы остался. Вопреки всему.
Выхожу наружу. Сворачиваю к белеющему сквозь зелень домику.
Внутри него за длинной стойкой у компьютера одиноко сидит пожилой человек. На стене расписание поездов. Выясняется, что железная дорога проходит в двадцати пяти километрах отсюда у городка, где экспрессы Марсель–Париж останавливается лишь на минуту. До этого городка можно доехать автобусом.
Обмениваю все оставшиеся доллары. В моих руках шестьсот с лишним франков. Покупаю телефонную карточку. Билет до Парижа стоит целых 260 франков. Пока я не позвонил Ире, я не имею права рисковать. И все‑таки воля, которая сильнее меня, моего разума, заставляет принять окончательное решение.
Купив билеты на завтрашний поезд, на автобус, отрезаю себе пути к отступлению.
Скажешь, что я авантюрист? Может быть… В крайнем случае буду ночевать как парижские бомжи–клошары где‑нибудь под мостом или в метро. Не пропаду. Ночи ещё тёплые. Относительно.
Мне становится весело, как бывает, когда решение принято, когда чувствуешь, что поддался зову судьбы, не встал сам у себя на пути занудным рабом чужих правил, несвободы.
Ветер раскачивает огромные кроны деревьев. Скорее всего это вязы. А может быть, ясени. Над долиной, что открывается за ними, весело плывут белые облака.
Подхожу к телефонной будке на краю дороги. Вокруг кучкуются люди. Все четыре автомата заняты. Занимаю очередь.
— Товарищ, эй, товарищ, не угостишь сигаретой? — обращается ко мне на чистом русском языке болезненно худой парень в ковбойке, измятых джинсах и грубых солдатских башмаках.
Он покидает группу таких же измятых пареньков, подходит.
Даю сигарету. Спрашиваю.
— Откуда вы знаете, что я из России? Кто вы?
— Мы тоже русские. Из Таллина. Месяц добирались автостопом. Хотим остаться во Франции. А вас видели вчера ночью, когда вы приехали.
— Где вы ночуете?
— Вон там, в поле. Хорошо хоть кормят бесплатно. Прикинулись верующими. Послушайте, не можете поговорить со своим начальством, чтоб нас взяли в автобус? Нет денег, понимаете? А он, говорят, через пять дней пойдёт в сторону Парижа. Правда?
— Правда. Только хлопотать за вас не смогу. Попробуйте поговорить сами с нашим священником. Отцом Василием. Он у нас главный.
— Уже говорили, — парень зло сплёвывает. — Дайте хоть пяток сигарет для друзей.
Даю всю пачку. Отходит, не поблагодарив. А я остаюсь и чувствую себя виноватым за его худобу, за несвежую ковбойку, за всё, что случилось с людьми, населяющими бывшую мою родину — СССР. Кому эти озлобленные мальчики нужны в Париже? Какая им там светит работа? Что с ними будет вообще? В лучшем случае депортируют. Вернутся в объятия матерей…
Наконец подходит моя очередь. Захожу в освободившийся отсек будки, набираю длинный парижский номер.
— Алло?
Удача! Голос Ирины! Называю себя.
— Господи! Как я рада! Как раз вчера думала о вас, когда смотрела по ТV новости из Москвы, ужасные новости. Как вы там?
— Я не там. Я во Франции.
— Быть не может! Вы здесь, в Париже?
— Нет. Где‑то на юго–востоке. По–моему, в Бургундии.
— Не знаете, где вы? Как это может быть?
— Приеду — расскажу.
— Приезжайте! Когда вы приедете?
— С вашего разрешения, завтра, — сообщаю ей номер поезда.
— Я вас встречу на Лионском вокзале. Может быть, с Женей. Это чудо, что вы оказались в Париже! Сможете жить у нас сколько угодно.
— Спасибо. Мне нужна койка на пять ночей.
— Почему так мало?
— Приеду — расскажу. Целуйте Женю. До встречи!
Вешаю трубку. Потом отыскиваю в записной книжке нью–йоркский номер. Звоню Дженнифер. Сколько сейчас там у них времени — трудно сообразить. Может, спит. Может, на работе, если не в клинике. Если жива…
— Хелло? — знакомый слабый голосок Дженнифер.
Громко по–английски, над Францией, над Атлантикой:
— Дженнифер! Это я. Как вы себя чувствуете? Как дела?
Потрясена. Узнала. Заплакала. До сих пор я никогда ей не звонил. После нашей встречи в Москве всегда звонила она. Мне не по карману.
Рассказывает, что все в порядке. Что неделю ездила с мужем отдыхать на границу с Канадой.
— После этого в клинике были? Новый рентген, анализы крови делали?
— Зачем? Благодаря вам, я снова живу.
— Не мне, Дженнифер, не мне. Помните, как я просил вас молиться о чуде? Благодарите Христа. Я ничего не могу. Вы для меня первый такой случай. Обещайте срочно обследоваться. Я ведь всё время помню о вас, нервничаю. Обещаете? Хорошо. Позвоните мне в Москву дней через десять, договорились?
Покидаю будку. Слава Богу, Дженнифер жива!
В тот первый и единственный раз, когда мы с ней встретились у меня дома, я не представлял себе, как помочь Дженнифер, как вырвать её из когтей рака, канцера. Это была несомненно последняя стадия.
Я молился про себя Богу, просил Его вразумить меня. Делал очистительные пасы. Пробивал энергетические каналы, как шахтёр пробивает лаву. Пот струился по лбу, заливал глаза.
Дженнифер шатало. А я продолжал вымывать энергией скопления серых и чёрных пятен, особенно из шейного отдела позвоночника, где жабой распласталась опухоль. И чувствовал — этого недостаточно. Чувствовал — сам теряю силы.
И тут молнией мелькнула мысль.
—Дженнифер, я ничего не смогу. Может спасти только чудо. Вы должны молиться о чуде. Я впервые вас вижу, не имею права лезть в душу, выяснять ваши отношения с Богом. Но вы должны просить Христа о чуде. Пока вы в Москве, пусть вас отвезут в церковь, в какую хотите. Сможете отстоять службу — хорошо. Не сможете — просто подойдите к иконе, к какой потянет. Молитесь. Просите.
Я говорил все это и чувствовал — Дженнифер ничего не сделает. Казалось, что она смотрит на меня, как на идиота, московского религиозного фанатика…
Она позвонила через день, накануне своего отъезда.
— Вчера была в церкви. Я хотела просить, как вы меня научили. Стояла у иконы Христа. Но ни молиться, ни просить не могла. Я так заплакала, что, наверное, затопила слезами всю церковь. Знаете, с тех пор у меня нет болей. Я ни одного раза не принимала препараты, которые мне дали врачи в Нью–Йорке. Вы ведь можете лечить на расстоянии. Умоляю, не забывайте обо мне! И, пожалуйста, молитесь обо мне. Теперь я верю, что, может быть, останусь живой.
— Только ни в коем случае не рассказывайте обо мне никому! Поймите, к чуду я не имею никакого отношения.
… Кто‑то робко дотрагивается до рукава куртки. Оглядываюсь. Это Люлю. Не знаю, что она думает о нашем случайном знакомстве. Так или иначе, мне сейчас хорошо, а ей плохо. Кто бы ни была эта невеличка с выщипанными бровками, она — человек.
Мы движемся в потоке разноязыкой фланирующей молодёжи. Вечер — свободное от молитв и дискуссий время. Многие из тех, кто идёт навстречу, едят мороженное, прикладываются к пластиковым бутылочкам с кока–колой.
— Где они это покупают?
— Там кафе. — Люлю указывает на виднеющийся вдали у дороги длинный навес.
— Хотите мороженное?
— Может быть, немного вина? — несмело говорит Л юлю.
— Чудесно.
По пути к кафе проходим мимо щита с расписанием. Это автобусная остановка — «stop bus», откуда завтра днём я уеду.
А вот и навес. Под ним люди за столиками. Рок–музыка. Танцуют.
Самообслуживание. Покупаю у стойки бутылочку красного вина, два пирожных, две чашки кофе. Пока расплачиваюсь, Люлю переносит все это на освободившийся столик. Когда я подхожу, она уже разливает вино в бумажные стаканчики.
Оглядываю гудящую, веселящуюся толпу под навесом. Тоже все рассчитано и продумано. Утром и днём религиозные дела, а к вечеру, чтоб молодёжь не скисла, на заскучала, дают возможность развлечься… А вон и наши, те, на кого снизошёл Святой Дух. Миша играет на гитаре, Лена поёт. Вокруг любопытные слушатели. Полный кайф.
Люлю снова трогает меня за рукав. Такая у неё манера. Спрашивает, почему я не пью. На самом деле ей хочется внимания к себе. Как, впрочем, каждому.
— Люлю, почему у вас такое имя?
Не понимает. Вопросительно смотрит снизу вверх. Такое впечатление, что её английский ещё хуже, беднее моего.
— Салют, Люлю! — поднимаю стаканчик, чокаюсь с ней. — Бон шанс!
— Бон шанс, — как эхо, повторяет она.
Вино сухое, слабенькое. Запиваю его глотком кофе.
— У вас тут свободно? Можно я как бы присоединюсь? — с вазочкой мороженного в руке подходит Игорь.
Переоделся. Черная распахнутая куртка, вся в молниях. Золотой крест. Белые брюки. Коса. Серьга.
Не дожидаясь ответа, пристраивается рядом, знакомится с Люлю. Она тотчас вскакивает, убегает к стойке, приносит третий стаканчик, разливает всем вино.
— Неужели вы француженка? Можно потрогать? Первая в жизни живая француженка, с которой я сижу рядом! Давайте отметим это, выпьем!
— Он неплохо говорит по–английски, напорист. — Какая у вас профессия? Дегустатор? Интересно. А я — кинорежиссёр. Клипмейкер. Если б вы жили в Москве, дал бы вам некую роль. Не понимаете? Синема! Люлю, хочешь сняться в кино?
Она с напряжённым вниманием ловит каждое слово. Я для них уже не существую. Так сказать, любовь с первого взгляда. Профессионал и невинная козочка. Вот сейчас они встанут, он поведёт её в гостиницу.
— Идем, идём, — Игорь нетерпеливо поднимает Люлю из‑за столика.
— Покажу тебе сувенир из России.
Люлю оглядывается на меня, смущённо разводит руками. И они уходят.
Так все просто.
По навесу начинают барабанить капли дождя. Зажигаются цветные фонарики. Расталкивая танцующих, бегом возвращается Игорь. Один.
— Вы как бы поняли — ближайшие час–полтора не приходите в номер, — он нагибается к моему лицу, выговаривает по слогам. — По–жа–луй–ста!
Киваю.
Игорь убегает к ожидающей его под дождём женщине.
И все‑таки грустно. Тяжело на душе. Приехала, если можно ей верить, искать Бога.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Не совершаю ли я непоправимую ошибку?
Вспомнилось известное изречение «Париж стоит мессы», давно превратившееся в общее место. Есть время ещё раз попробовать проникнуться этим роскошным богослужением. Неужели я такой уж бесчувственный урод, хуже всех?
Огромное скопление людей в полутьме храма внимает песнопениям- молитвам, устремив взор на трепещущие огни свечей.
Хочу быть честным перед собой, а значит и перед тобой. Ты видишь, я здесь, я силюсь открыться тому, что должно совершиться.
Но и в этот раз не чувствую ничего, кроме искусственно созданной атмосферы внешнего благочестия.
Сейчас сижу совсем близко к сцене. Вон справа виден силуэт Игоря с его косой. Вчера, когда в двенадцатом часу ночи я постучал в номер гостиницы, он был уже один. Лежал, сыто позёвывая, произнёс: «Могли вернуться и раньше. Только разбудили. Выгнал её через полчаса. Как бы невинная особа, а на деле — задрипанная шлюшка».
Я понимаю, экуменический центр не виноват, что люди такие. Монахи не виноваты. Никто не виноват. Но почему я чувствую вину перед этой самой Люлю? Выгнанная, опозоренная, где она сейчас?
Утром, до завтрака, я тоже приходил сюда, пытался подключиться к действу. Завтракать не стал, поскольку, объявив о своём отъезде, сообразил, что потерял право кормиться здесь за счёт монахов.
Теперь идёт предобеденная служба, и у меня остаётся всего 25 минут до рейсового автобуса. Пора идти в гостиницу, забирать сумку.
Встаю. Осторожно ступаю между людей, направляюсь к выходу.
А на воле гроза!
Бегу под ливнем, под раскатами грома. Весь мокрый подбегаю к гостинице. Дверь заперта. Ни на стук, ни на звонок никто не отзывается. Стучу в окна. Обегаю гостиницу. Колочу в дверь кухни. Заперто. Догадываюсь — все ушли в храм, все на молитве.
Автобус через десять минут. Нужно ещё добежать до остановки. Как же моя сумка? Деньги, билеты на автобус и на поезд, паспорт — все при мне в бумажнике. Ничего страшного. Игорь сумку прихватит, привезёт. Не зверь же он, в самом деле, крест на груди…
Молния. Оглушительный удар грома.
Бегу к остановке. Пробиваю собой низвергающиеся потоки воды.
А пистолет?!
Ведь в сумке подарок Фрица! Этот самый супермен с косой, этот Игорь, несомненно, полюбопытствует, залезает в сумку, произведёт ревизию… Скажи, что же делать? Нужно немедленно принять решение.
Вон за пеленой дождя щит у дороги, надпись «Stop bus».
Внезапно дождь прерывается. Вокруг льёт. А надо мной нет. Это — зонт. Это — бегущая рядом Катя.
— Катенька, откуда вы взялись?
— Помогала в столовой, пошла в храм, увидела вас. Вы совсем промокли!
— Катенька, смываюсь отсюда в Париж.
— Знаю. Отец Василий сказал. Все вам завидуют…
— Катя, сейчас подойдёт автобус. Просьба: пожалуйста, скажите Игорю, что я поручил вам забрать мою сумку, сегодня же заберите. Когда поедете отсюда на север, держите её при себе, хорошо?
— Да. Конечно. Она удивлена, не понимает, отчего я не взял сумку с собой.
В одиночестве стоим под зонтом. Катя всячески старается уберечь меня от ливня. Автобус опаздывает на пять минут. На десять. Порыв ветра выворачивает зонт наизнанку. Худенькими руками Катя суетливо пытается выправить спицы.
— Не стойте со мной, бегите в храм, простудитесь!
Катя отрицательно мотает головой, её длинные чёрные волосы липнут к лицу.
За серой завесой дождя возникает автобус.
— Спасибо, Катенька!
Она целует меня в щеку. Вскакиваю в переднюю дверь. И вот уже за окном уменьшается, исчезает тоненькая фигурка девушки со сломанным зонтом.
В автобусе, кроме меня, лишь двое — пожилая пара в прозрачных дождевиках с откинутыми капюшонами. Сочувственно смотрят, как я сдираю с себя промокшую куртку. Рубаха тоже намокла. Даже бумажник мокрый. Хоть его содержимое осталось сухим.
Переодеться в Париже будет не во что. Даже побриться, даже зубы почистить нечем. Всё осталось в сумке.
Вместе с пистолетом.
Никогда не думал, что при таких обстоятельствах буду ехать в Париж. Как мокрая курица.
Ох и смешон я тебе, наверное… Кто‑нибудь скажет — «Бог наказал», кто‑нибудь злорадно поддакнет — «Так тебе и надо, отщепенец!».
А мне, несмотря ни на что, весело.
Только бы автобус не опоздал к поезду. Слишком силён, слишком напорист дождь. Трудно водителю вести машину по залитому водой шоссе.
Проезжаем то ли посёлки, то ли городки. Вымершие. Десяток–другой старинных зданий, площадь, мэрия с обвисшим французским флагом, отель.
Пожить бы в таком отеле, в номере с письменным столом… Никого не знаешь, никто не знаком. Писать, работать сколько хочешь, а после гулять по этой чистенькой улице, вдоль этих виноградников, вдоль кряжистых тополей у дороги, словно сошедших с картины Ван–Гога…
Пожилая пара, цепляясь за поручни, пробирается к шофёру, указывает на циферблаты своих часов, скандалит.
Шофер виноватым голосом что‑то объясняет, успокаивает:
На пустынном вокзальчике, куда мы, наконец, приезжаем, кассир объясняет мне и двум попутчикам — следующий поезд прибудет через сорок минут. Правда, это уже не экспресс из Марселя, а обычный рейс из Лиона, останавливающийся на каждой станции. Наши билеты сохраняют свою силу.
Пожилая пара обескуражена, чуть ли не убита горем. Втолковывают, объясняют мне на пальцах, что в Париж попадём на полтора часа позже.
На полтора, так на полтора. Я — гражданин российский, закалённый.
Покупаю в киоске пачку дешёвых сигарет «Житан», выхожу под навес платформы, закуриваю. Ливень сменился тихим дождиком. Гроза уходит.
Стою, прислонясь мокрой спиной к бетонной опоре навеса. Впечатление, что ты видишь меня…
Вот он я перед тобой, какой есть, со всем моим несовершенством, сомнениями, метаниями.
Кто‑нибудь скажет: «Ты все это выдумал. Никто на тебя не смотрит. Никто твоих мыслей не слышит. Никому ты не нужен»
А я улыбаюсь.
Давно заметил, всё, что со мной происходит, — не случайность. Не случайно даже то, что автобус опоздал к поезду. Я ещё не знаю последствий этого опоздания, но заранее уверен — оно для чего‑то нужно. Как нужен соломенный подстаканник из снов, оставшийся в моей сумке. Я только начинаю учиться читать загадочную книгу жизни. Пока ещё по складам.
…Вот и поезд, похожий на длинную обтекаемую ракету. Ни номер вагона, ни номер места в билете почему‑то не обозначены.
Придерживаюсь за мокрый поручень, поднимаюсь по ступенькам.
Вагон почти пуст. Похож на длинный аквариум с промытыми дождём стёклами. Прохожу мимо шумного семейства цыган в отделение для курящих, занимаю кресло у окна. А за ним, набирая скорость, уже проносятся виноградники, поля, дубравы — Франция.
Двое суток провёл я в этой стране, а по сути почти не видел её.
Конечно, из школьных и вузовских курсов истории, богатейшей литературы, кинофильмов сложился образ страны. Наверняка поверхностный, романтичный А значит, неверный.
То же самое и с Парижем.
Несколько лет назад умер один мой давнишний знакомый. Всю жизнь бедняга грезил Парижем. Мечтал там побывать. С юности добывал путеводители, карты французской столицы. Под старость изучил их до того, что мог с закрытыми глазами путешествовать из конца в конец города, называя площади, улицы, дворцы.
После перестройки мог свободно осуществить навязчивую мечту, отправиться хотя бы в недельную турпоездку. Нужно было всего лишь подкопить денег. А он достаточно зарабатывал.
Но вся беда заключалась с тихом пьянстве. Не менее Парижа любил он коньячок. Который всегда дорого стоит.
Слишком красив, слишком неправдоподобно привлекателен веками разрекламированный образ Парижа. Скорее всего, как это часто бывает, миф при ближайшем рассмотрении развеется.
Боюсь, ты заподозрил, что я скептик, или человек, пытающийся во что бы то ни стало прослыть оригиналом. Ничуть. Просто хочу видеть жизнь своими глазами, как она есть, а не смотреть сквозь очки чужих иллюзий.
Тем более жизнь, как она есть, сама по себе — ежесекундное, непостижимое чудо, таинство.
Вот за окном проносится Франция. Огромные, напоенные влагой деревья, напоенная влагой земля полей, тучное стадо коров, пасущееся у изогнутой старицы реки. Все мягкое, волшебно источающее покой. Как женщина. Видимо, не случайно слово Франция — женского рода.
Маленькая разноцветная станция. В отделении для курящих появляется человек с иссиня–чёрными спадающими на лоб волосами. Его по–торреадорски короткая куртка тоже промокла. Белозубо улыбаясь, о чём- то спрашивает. Видит, что я не понимаю. Вынимает из кармана вдрызг размокшую картонку со спичками.
Пока он прикуривает от моей зажигалки, стюард в белой куртке подвозит по проходу столик на колёсах. Предлагает соки, минеральную воду, бисквиты, сладости. И — о счастье! — горячий кофе из термоса. Хоть я со вчерашнего вечера ничего не ел, покупаю за 13 франков только кофе. Для меня и это очень дорого. Белозубый попутчик тоже берет кофе.
Он, улыбаясь, показывает на окно, за которым во влажном мире вдруг засияло солнце. Над холмами семицветной аркой встала радуга.
Обидно. Там солнце, а меня познабливает. Удивительно, этот лучащийся доброжелательством человек сразу показался мне родным, давно знакомым. Наверно, и я ему тоже.
Спрашивает на английском — из какой я страны.
Отвечаю. Называю своё имя. Он горячо пожимает мою ладонь. Представляется:
— Кристо Хесус.
В шоке осознаю — Иисус Христос.
— Испанец?
— Да. Барселона.
Я был в Барселоне! В 1983 году. Рассказываю об этом, спрашиваю, чем он там занимается. Неужели — тореадор?
Кристо смеётся, отрицательно мотает головой. Оказывается он электросварщик. Приехал с женой–француженкой и сыном навестить родственников.
Докурив сигарету, Кристо предлагает пройти в отделение для некурящих, познакомить с семьёй.
Робость охватывает меня. Показываю, что стесняюсь своей одежды — не только куртка, но и рубаха промокла.
Кристо понимающе улыбается, встаёт, уходит.
И мне становится грустно. Ушел, не попрощавшись. Будто не возникло между нами мгновенного контакта. Которому, может быть, нет названия. Или я все это выдумал, нафантазировал? Как это часто бывало со мной в жизни.
Минут через пять Кристо Хесус возвращается. В руках у него синяя вельветовая рубашка. Жестами объясняет, что нужно немедленно переодеться.
Это возвращение для меня как удар грома. Я настолько ошеломлён, что даже не пытаюсь отказаться. Он помогает мне снять куртку, ждёт, пока я стяну старую и надену новую, сухую рубаху. Убеждается, что она мне впору, и лишь тогда подаёт руку, прощается:
— Бон шанс!
Стыдно сказать, у меня в глазах слезы.
Что Кристо Хесус знает обо мне? Ничего.
Необыкновенное тепло охватывает меня. Надо бы пойти познакомиться с его семьёй, ещё раз поблагодарить. Но странная, несвойственная мне робость продолжает держать в оцепенении.
А поезд летит от станции к станции. За окном солнечно, как летом. Чем ближе к Парижу, тем больше пассажиров. Шесть часов вечера. Ира уже не дождалась меня. Тот поезд, на который я опоздал, должен был прибыть в 17.40 Представляю себе её недоумение и досаду.
Напросился.
Занятой она человек, замороченный. Когда? В позапрошлом году, или раньше, года два назад, привели ко мне заезжую пациентку из Франции, скрипачку. Жаловалась на постоянные боли в области солнечного сплетения, на общий упадок сил.
С некоторого времени я убедился, что такое состояние, как правило, присуще нервным, суетливым людям, которые вроде бы интересуются всем на свете, в курсе всех проблем, в том числе религиозных, почитывают духовные книги, разок через пень–колоду прочитали и Библию, но в силу собственной гордыни не принимают Бога. Неспособны открыться Ему с доверчивой детской простотой.
Ты знаешь подобных людей. Это преимущественно шибко начитанные интеллигенты. Я сам был таким.
Вообще говоря, это уже задача священника. Но, во–первых, такие люди, как Ира, в церковь не ходят, а во–вторых, по крайней мере в наше время, я что‑то не знаю пастырей, понимающих суть дела, не ограничивающихся накрыванием головы грешника епитрахилью…
Я снял все её болевые ощущения. Что довольно легко, если знаешь ход открытых древними мудрецами Китая так называемых «меридианов». Гораздо труднее подвести пациента к попытке взглянуть на себя самого со стороны, в конечном итоге — к раскаянию. Труднее потому, что я сам терпеть не могу, когда мне лезут в душу, да ещё с садистским требованием рассказать о самых сокровенных, даже интимных подробностях жизни, а потом начинают обличать или поучать. Прописные истины, если они не выстраданы, ещё никого никогда не исправили.
А тут передо мной была незнакомая женщина с умными глазами, измученным лицом. Не знаю отчего, люди часто сами открываются мне. Ты видел и слышал, что было в Германии с Фрицем, со старенькой Евой во Вроцлаве. Это очень тяжкий дар — одним лишь своим присутствием вызывать открытость другого человека, выслушивать исповедь, порой нестерпимую. Я до предела набит историями других людей, их подноготными.
Ира многое тогда рассказала. И о том, что трижды была в браке. Два раза, ещё живя в СССР, в Ленинграде, третий — в Париже. Все эти замужества оказались скоротечными, неудачными. От последнего — с мексиканским художником — имеет девочку. Живет с ней где‑то в аристократическом районе Парижа в квартире родственников, уехавших надолго в Канаду. Девочка трудная. Трудно жить. Приходится ездить на гастроли, давать уроки игры на скрипке. Не с кем оставлять ребёнка. В любую минуту хозяева могут вернуться, забрать квартиру… Приезжала в Россию навестить мать. Чувствует себя перед ней виноватой — бросила одну, на столько лет.
Я не задал ни одного вопроса. Сидел, слушал.
Вдруг у Иры вырвалось: «Я, наверное, плохая мать, мало уделяю внимания дочке. Тщеславна. Хочу известности. Завожу романы, все ещё надеюсь найти мужика, опору в жизни…»
Она уехала, оставив мне свой телефон. Попросила разрешения звонить, чтобы я на расстоянии подлечивал, если ей будет худо.
И действительно, позвонила примерно через полгода. Потом ещё раз через год. Говорила, что боли исчезают прямо во время разговора со мной.
Вот к этой внушаемой, впечатлительной Ире с её дочкой я и еду сейчас мимо чистеньких заводских корпусов, оплетённых разноцветными трубопроводами.
Впечатление, что Париж совсем рядом. Как счастлив в эти минуты был бы мой умерший приятель… А я что‑то не чувствую особенного волнения. Жизнь не раз отрезвляла. Я уже битый волк.
Гораздо важнее для меня встреча с Кристо Хесусом.
Встаю, оставив свою старую сырую рубашку на подлокотнике кресла, перехожу в отделение для некурящих, чтобы ещё раз увидеть этого человека.
Вагон полон людей. Те же цыгане. Другие пассажиры. Складывают газеты, собирают сумки. Прохожу вагон из конца в конец. Кристо Хесуса нет. Видимо, сошёл вместе с семьёй где‑нибудь на предыдущей станции. Словно и не было никогда, только рубашка его на мне. Синяя, вельветовая.
Поезд вплывает под своды вокзала. Перрон. Лица встречающих.
Спрыгиваю со ступенек вагона. Озираюсь. Иры нет.
Иду вдоль поезда, вхожу в пестроту вокзального зала. Кафе, ресторанчики, киоски, кассы. А вон, справа отсек с телефонами–автоматами под прозрачными пластиковыми колпаками.
Всюду занято. Жду, пока пожилой, профессорского вида темнокожий месье в очках с золотой оправой закончит разговор. Достаю из кармана куртки записную книжку, телефонную карту. Восемь цифр телефонного номера — единственная ниточка, связывающая с Ирой.
И опять кажется — ты видишь меня. Стоящего в куртке, в рубахе Кристо Хесуса среди праздничной суеты парижского вокзала, и ничего не страшно.
Поэтому я не особенно огорчаюсь, когда, набрав заветный номер, слышу длинные гудки. Иры нет дома. Что ж, выйду в город, позвоню откуда‑нибудь ещё раз. В крайнем случае, переночую на скамейке или в метро.
Но не успеваю повесить трубку, как в ней возникает прерывистый голос Иры.
— Это вы? Какое счастье! Я вас встречала. Куда вы делись? Хорошо. Сейчас я купаю Женю. Смогу приехать за вами только через полтора часа. Ждите меня, скажем, у входа на платформу номер два. Стойте прямо под табло с номером два. Никуда не отходите, ради Бога! Договорились?
Вешаю трубку. Гляжу на часы. Половина восьмого. Значит, она приедет в девять. Не торчать же мне все это время у платформы. Когда рядом Париж.
Выхожу из здания вокзала. Замираю на верхней ступеньке. Передо мной площадь. В круженье автомашин. В первых вечерних огнях фонарей, реклам.
А солнце ещё светит. А идти в густом потоке толпы привычно, словно, обдаваемый прибоем французской речи, я жил здесь всегда.
Площадь Лионского вокзала обнимает меня, как родная.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Все‑таки это удивительно. К этому невозможно привыкнуть. Лежу на кушетке в тёмной, узкой комнате. Сквозь прорези жалюзи из окна сочится утренний свет.
Снова приснилось лицо смуглой, белозубой девушки. Смеется!
Интересно, что сказал бы по этому поводу Фрейд? Или Сократ? Что оба они сказали бы по поводу прежнего появления во снах соломенного подстаканника? Который после того, как я обнаружил его во Вроцлаве, больше не снится.
Бывало ли с кем что‑либо подобное? В тот момент в умывальной комнате во Вроцлаве стало мне жутковато. Да и теперь испытываю ощущение человека, подвластного какой‑то неконтролируемой им стихии.
Вспоминается, как однажды мчался в байдарке по бурной, порожистой речке в Карелии, выронил мокрое, скользкое весло, А меня несёт. А впереди порог, обрывающийся водопадом…
И сейчас похожее ощущение: попал в Поток. Главное — довериться. Не сопротивляться, не суетиться. Несет! Тем более, суетись не суетись, сны свои я контролировать не могу.
Вскакиваю с кушетки, поднимаю жалюзи. Яркий свет Парижского утра заливает комнату. За окном по тихой улочке бредёт седобородый человек с бутылкой, прикладывается к ней на каждом шагу.
Думал ли я, что оказавшись в Париже, буду ночевать совсем не у Иры?
Одеваюсь. Тихо прохожу коридорчиком в ванную комнату. Итак, моя зубная щётка, бритвенные принадлежности — всё осталось в сумке. Вместе с подстаканником. И что самое ужасное, с пистолетом! Лучше не вспоминать.
В ванной хаос, какой бывает, когда в семье маленький ребёнок. Раскрытая стиральная машина набита одеждой. В тазиках замоченное белье. На верёвке сохнут колготки, зелёный комбинезончик.
Ухитряюсь принять душ.
…Вчера, приехав за мной на Лионский вокзал, Ира первым делом объявила, что к ней нагрянули на сутки хозяева квартиры — возвращаются из Греции в Канаду. Усадила в машину, повезла по вечерним, сияющим огнями улицам в какой‑то индийский ресторанчик, где официантов было больше, чем посетителей, угостила ужином: салат, креветки в тесте, курица с рисом под острым соусом. Да ещё бутылка белого вина, да ещё кофе. Так я впервые за день поел.
Мало того, что Ира не позволила мне заплатить по счету, она потребовала железнодорожный билет и заставила меня взять 260 франков, которые я на него истратил. А потом отвезла ночевать куда‑то на улицу Каскад к своей знакомой Нине.
Хотя Нина была предупреждена, встретила она нас испуганно.
Ира тотчас уехала, сказав, что завтра к часу дня заедет за мной и повезёт на обед к своим друзьям, где я должен буду посмотреть какую‑то больную. Чувствуя себя обязанным, я и не подумал отказаться.
Девять часов утра. Обидно торчать в комнате. Кто их знает, когда они тут просыпаются… Осторожно, боясь кого‑нибудь разбудить, спускаюсь по железной винтовой лестнице двухэтажной квартирки.
Нина отрешённо сидит на нижней ступеньке. Встает, пропускает меня в кухню.
— Хотите чай или кофе?
— Доброе утро. Если можно — кофе.
Так же безучастно готовит на плите кофе, наливает из кофейника в чашку, ставит передо мной на стол, подаёт круассан — рогалик с марципаном.
— Спасибо. А вы?
— Уже.
— Рано встаёте?
— К восьми. Отвела Олежку в садик. — Она снова садится на лестничную ступеньку и, хотя я ни о чём больше не спрашиваю, все так же отрешённо докладывает: — Живем тут девять лет. Муж работает в русской газете. Сейчас он в командировке. В Москве у меня мама. Раз в год, на Пасху, летаю её навестить. Чаще не получается. Не можем себе позволить. У Олежки дискинезия. У мужа порок сердца.
— Ниночка, вы не работаете?
— Кончила ленинский педагогический. Преподаватели русского языка и литературы здесь никому не нужны.
Она замолкает, глядит, как я допиваю кофе. Рядом со мной на столе стоит вазочка с сухоцветами, покрытыми пылью.
— Что если я выйду погулять? Ира приедет за мной в час. А я ещё не видел Парижа. Кстати, только сейчас вспомнил, где‑то здесь живёт мой бывший одноклассник Валерий Новицкий. То ли писатель, то ли журналист. Знаете такого?
— Муж его знает. Хотите позвонить?
Она приносит истрёпанную телефонную книжку, с трудом находит номер.
Валеру я не видел давным–давно, лет пятнадцать. Любопытно, что стало с энергичным усатым красавцем, женившимся на какой‑то иностранке и уехавшим в Париж завоёвывать мир? Эгоцентрик, всё время говорящий только о себе, он был талантлив, плодовит. Мог за месяц написать целую повесть. Не печатали его.
Нина приносит и телефон с длинным шнуром. Снова садится на ступеньку лестницы.
Валерка дома. Он рад моему звонку, поражён тем, что нахожусь во Франции. Знает, где живёт Нина. Приедет к одиннадцати, часа через полтора.
— Нина, что если я все‑таки выйду пока погулять?
— Пожалуйста. Дорогу назад найдёте?
— Как‑нибудь.
Надеваю просохшую куртку. Выхожу из квартиры, запоминаю номер. Спускаюсь с четвёртого этажа по узкой мраморной лестнице, выхожу из подъезда, запоминаю и номер дома. Солидный буржуазный дом в мощном ряду таких же.
Солнечно. Пустынно. Как в провинции. Куда пойти? Иду направо тихой извилистой улицей.
Не нужно быть особенно проницательным человеком, чтобы понять, что Нина стеснена в средствах. Круассан во время завтрака вставал у меня поперёк горла. Как ты думаешь, не будет оскорбительным, если я накуплю продуктов? Фрукты ребёнку.
Странно — по всей улице ни одного магазина. Жилые дома. Узорчатые ограды, кусты отцветающих роз.
Но вот улица Каскад упирается во что‑то пёстрое, весело сбегающее вниз. На синей табличке, прикреплённой к стене, белыми буквами написано «Улица Менильмонтан». Она спускается с холма мимо сплошного фронта магазинчиков, закусочных, каких‑то учреждений.
Удивительно, я не чувствую себя здесь чужим. Просто впитываю все вокруг — все важно, значимо, словно со временем этот день, эта улица должны будут оказаться на страницах моей книги…
Жизнь ценна сама по себе. Этот высверк осеннего солнца в лобовом стекле проехавшей автомашины — не меньшая тайна и красота, чем скорбная улыбка на лице старушки, идущей навстречу с охапкой громадных ромашек. Никаких идей. Никакого сюжета. А почему‑то берет за горло.
Внизу улицы открывается площадь с маленьким кафе на углу, со столиками, вынесенными наружу.
Подчерствелый Нинин круассан не утолил моего утреннего голода.
Солнце. Чашка кофе. Рюмка кальвадоса. Длинный сэндвич с тремя или четырьмя сортами колбасы внутри. Это гениальное изобретение — выносить столики на тротуар. Можно сидеть сколько угодно, а мимо сама проходит жизнь. Никем, кроме Господа не срежиссированная. Никто не обращает внимания на меня. Я вижу всех. Ты скажешь, я как шпион. Нет! Это просто издавна присущее мне жгучее любопытство. Если хочешь знать, я по натуре ротозей, созерцатель, и только обстоятельства, как ты мог заметить, заставляют действовать.
…Одиннадцатый час. Скоро придёт Валерий Новицкий. Нужно ещё успеть купить продукты для Нины и её Олежки.
Но я замираю за столиком, потому что мимо проходит — проплывает нечто поразительное, неслыханное, как привет из другого мира. Это величественная чернокожая женщина с тюрбаном на голове. Очень толстая, старая, в длинном, просторном платье пёстрой африканской расцветки, из‑под которого видны остроносые тапочки. Величавая, как гора Килиманджаро, она несёт себя среди разом измельчавших парижан, держа в руке белый пластиковый пакет, откуда высовываются перья зелёного лука. Рядом поспешает, держит её за край платья крохотный, сверкающий белками глаз негритёнок, видимо, внук.
Сроду не видел более красивого, олицетворяющего спокойное достоинство человека.
Поднимаюсь из‑за столика. Высокий тюрбан ещё виден над морем голов…
Сворачиваю обратно на улицу Манильмонтан. Она поднимается сначала полого, потом все круче и круче. Чтобы не опоздать на встречу с Валерой, набираю темп, заскакиваю в один магазинчик, в другой, во фруктовую лавку, в булочную.
И вот, переводя дыхание, я шагаю уже по улице Каскад, нагруженный двумя пакетами. В одном ветчина, сыр в пластиковой упаковке, баночка паштета, хрусткий батон белого хлеба, плитка шоколада; в другом — бананы и виноград.
Хорошо чувствовать себя добрым. Щедрым. Хорошо, что есть деньги.
Уже подходя к дому, к знакомому подъезду, вдруг соображаю: щедрость моя — за чужой счёт. Деньги вчера дала Ира, вернула за билет. Если б не этот великодушный поступок, отважился ли бы я тратить то, что у меня оставалось?
Ты ведь знаешь, я в чужой стране, в чужом городе. Остаться без копейки опасно. Однако, настроение испорчено. И я уже не кажусь себе добрым волшебником.
И поэтому рад, что Нина, впустив меня в квартиру, не выражает никаких эмоций. Равнодушно закладывает продукты в холодильник, моет одну из гроздей винограда, подаёт на стол в вазочке. И опускается на своё любимое место — на ступеньку винтовой лестницы.
Половина двенадцатого. Валеры Новицкого всё нет.
— Ниночка, если у вас дела — занимайтесь ими. Не обращайте на меня внимания.
— Нет никаких дел, — отзывается она. — Утром отвожу сына в садик, на обратном пути закупаю продукты. К шести иду за Олежкой. Вот и все.
— Что же вы делаете весь день? Читаете? Встречаетесь с подругами?
— Теперь не читаю, подруг нет. Здесь у нас вообще нет друзей. Только знакомые мужа по работе. Нам почти никогда не звонят. И мы тоже.
— Так и сидите на лесенке?
— Да.
Я сбит с толку. Ошарашен. В моём сознании не укладывается — как это можно, будучи ничем не занятой, отдавать сына в какой‑то садик. Передо мной сидит не больная, абсолютно здоровая женщина.
— Ниночка, извините за вопрос: а кто у вас занимается стиркой?
— Муж. Не позволяет мне ничего делать, кроме покупки еды. Мы живём хорошо, нам ничего не нужно.
Киваю. С сочувствием смотрю на эту загадочную личность.
— Ваш приятель пришёл, — говорит Нина.
И действительно, через секунду раздаётся дверной звонок.
Но это не Валера Новицкий.
— Как вы тут? Выспались? Отдохнули? Успели позавтракать? — в квартиру влетает Ирина. — Идемте быстро! Оставила скрипку в машине, боюсь, украдут.
Наскоро прощаюсь с Ниной, прошу передать опоздавшему Валере, чтоб позвонил вечером к Ире и вдруг, неожиданно для самого себя, спрашиваю:
— Ниночка, у вас есть Евангелие, вы когда‑нибудь читали его?
— Нет, — сухо отвечает Нина.
И дверь за нами захлопывается.
Ты скажешь, вместо того, чтобы шляться по улицам, торчать в кафе, я должен был попытаться помочь этой несомненно впавшей в духовную прострацию женщине.
Поздно. Мы уже спускаемся с Ирой к машине. И потом, я не из тех, кому удаётся на словесном уровне в чём‑то убедить оппонента, тем более — в существовании Бога, понимании жизни как пути к Нему. Тут нужен пример такой жизни. Личный пример. Поступки, заставляющие споткнуться обыденное сознание, потрястись и дать душе сформулировать, пусть робко, неуклюже, первые, самые важные вопросы…
И все же на сердце кошки скребут. Прошел мимо Нины. Не зря предоставили мне якобы случайно ночлег в доме на улице Каскад. Слишком был занят собой.
Садимся в «Ситроен». Скрипка на месте, лежит в футляре на заднем сиденье. Ирина успокоилась, включает зажигание. Едем налево. Эта часть улицы выводит на площадь. Часть её перегорожена. Рабочие в комбинезонах укладывают новый асфальт. Он дымится под лучами солнца. Дым идёт и от мангалов, где жарится мясо возле ресторанчика с открытыми дверьми.
Запах асфальта, шашлыков и кофе врывается в ноздри, когда Ира припарковывает машину к одной из загородок и открывает дверь.
— Это арабский квартал. Подождите меня минут десять. Хочу кое‑что купить в дом, куда мы едем к обеду. Только не оставляйте машину ни на секунду, обворуют.
Через мгновение она исчезает в калейдоскопе прохожих.
…Затянутые в галстуки клерки, египтянин в просторном одеянии — галабее, щупленький бородатый еврей в круглой шапочке–кипе, весёлая стайка школьниц с разноцветными ранцами на спинах. Сойдя с тротуара, шаркающей походкой мимо бредёт человек с измятым лицом, роскошными поседевшими усами, курит.
Выскакиваю из машины, кричу вслед:
— Валера?!
Оборачивается. От него попахивает спиртным.
— Как ты очутился в Париже? — спрашивает Валера, оглядывая меня с ног до головы. — Твой автомобиль? Можно сесть? У меня, знаешь ли, ноги болят. Такая болезнь — эндартериит, слыхал?
— Слыхал.
Вкратце рассказываю о моих приключениях, усаживаю его на заднем сидении, сажусь рядом.
— Чья это скрипка?
— Ирины, владелицы машины. Сейчас придёт.
— Она скрипачка? Профессионал?
— Да. Лучше скажи, где тебя носило? Ждал — не дождался.
— Сына водил к дантисту. Задержались.
— А жена? Кто твоя жена?
— Биохимик. У неё тоже авто. Мог бы ездить. Не даёт, сволочь, сесть за руль. Один раз разрешила со скандалом. Я разнервничался, попал в аварию.
— Она работает?
— Работает. У неё все есть — работа, страховка, дом в деревне.
— А ты? Как же ты? Издал что‑нибудь за пятнадцать лет?
Валера делает неприличный жест рукой, зло выкрикивает:
— Хрен мы кому‑нибудь здесь нужны! С нашими повестями–романа- ми. Даром не нужны! Поэтому я здесь ничего не написал, ни строчки. Это у тебя там стали выходить книги…
— Откуда ты знаешь?
— Здесь, в Париже, магазин русской книги, продавались.
— Читал?
— Сто франков за трилогию! Откуда они у меня — от сырости?
— Как же ты тут зарабатываешь?
— Вожу экскурсии по Парижу. Нелегально.
— Как это? Почему?
— Нет лицензии.
Подходит Ирина. В одной руке букет красных роз, в другой — тяжёлый, доверху набитый пакет. Она неприятно удивлена появлению неизвестного человека. Ждет, пока Валера выйдет из машины. Он и не думает выходить.
Знакомлю их.
— Куда вы едете? — спрашивает Валера.
— В район Центра Помпиду.
— Тогда я с вами.
Ирина резко трогает с места, сворачивает с площади на широкий проспект. Валера развалился на сиденье. С наслаждением закуривает, спрашивает:
— Даете уроки игры на скрипке?
— Приходится, — отвечает Ирина.
— А вы не можете поучить моего сына? Ему двенадцать.
Ирина на миг оборачивается.
— На халяву что ли?
Валера смолкает. Все во мне съёжилось от грубости Иры.
Валера же, как ни в чём не бывало, предлагает:
— Если какие‑нибудь ваши знакомые, особенно группой, особенно новые русские приедут из России, могу провести их с экскурсией по Парижу. Недорого. Десять долларов с человека. Дать вам визитку с телефоном? — Он достаёт из нагрудного кармана джинсовой куртки толстую пачку визитных карточек. Одну вручает мне, другую протягивает Ирине.
Она, не оборачиваясь, берет её, швыряет поверх панели с приборами.
Гляди, вот это и есть Елисейские Поля, вон Триумфальная арка, — комментирует для меня Валера. — Сейчас будет Площадь Согласия, Пляс де ля Конкорд.
Но мне не до красот, открывающихся за окнами «Ситроена». Обнимаю Валеру за плечи.
— Как же ты ведёшь экскурсии, с твоими ногами?
— А что прикажешь делать? Иногда подбиваю их взять такси. Едем. Выходим. Снова едем… Кстати, к кому вы все‑таки направляетесь? Если не секрет.
— К моим друзьям музыкантам, — отзывается Ирина.
— А что если и я с вами? У меня как раз свободное время.
— Невозможно, — резко отвечает Ирина. — Мы приглашены на обед.
— Понятно, — кивает Валера, мрачно комментирует. — Вот чем жизнь на Западе отличается от жизни в России.
Ирина не обращает на эти слова никакого внимания. Она чертыхается. Оказывается, мы уже проехали дом на улице Кондорсе, где нас ждут. Негде припарковаться. Обогнав нас, в единственное свободное пространство влипает юркая малолитражка.
Проползаем мимо одного квартала, другого. Всюду стоят машины. Наконец, припарковываемся. Выходим. Я держу пакеты с покупками, Ира наберёт букет роз и футляр со скрипкой, запирает «Ситроен».
— Звони. Утром и вечером я дома, — Валера, шаркая ногами, медлен» удаляется по тротуару. Смотрю вслед и думаю о том, что это уходит вариант моей собственной судьбы… И от этого возникает острое чувство вины.
Шагаем с Ириной обратно.
— Ну и наглец же ваш приятель! Между прочим, слышала о нём. Будьте осторожны. В своё время сотрудничал с КГБ.
— Чепуха. Не может быть.
— Не будьте наивным. Пятнадцать лет назад не всякому разрешали эмигрировать.
— Ну и что? Женился на иностранке, вот и уехал.
— Говорят, она его поколачивает, и правильно делает.
Вдруг вспоминаю: Москва, промозглое ноябрьское утро. Вызванный повесткой и настоятельный телефонным звонком, прохожу мимо гастронома №40, сворачиваю к отделу пропусков КГБ, расположенному в этом же здании. Отворяя тяжёлую дверь, оглядываюсь на вольный мир. Совершенно не представляю по какому поводу вызван, зачем я им понадобился, и это самое опасное.
Как властно порой врывается прошлое в настоящее! Мы идём с Ирой по парижской улице Кондорсе, входим в уютный дворик, настоящее патио с пальмами в кадках — сворачиваем налево к подъезду, поднимаемся озеркаленным лифтом, входим в квартиру. И одновременно ясно вижу: сижу у стола, на котором стоит лишь большая табличка «не курить!». Почему‑то не напротив меня, а возле торца сгорбился на стуле нервный молодой следователь с авторучкой и папкой в руках. Слышу, как он спрашивает, есть ли у меня такой знакомый — Валерий Новицкий? Давал ли он мне на прочтение свои рукописи? Что я о них думаю?
… Квартира огромная, богатая, белая с золотом. В гостиной чёрный рояль на ковре, картины на стенах. Дружелюбно улыбающиеся люди. Знакомлюсь с ними. И в это же самое время вижу, как в кабинете следователя на Лубянке открывается неприметная дверь, входит красиво поседевший полковник, садится за стол, убирает табличку, достаёт из ящика стола пепельницу, закуривает, предлагает сигареты и мне. С участием спрашивает: «Заездил он вас? Устали за два часа? Вы уж извините — такая работа. Нужны показания на Новицкого. Не может быть, чтобы он с вами, тонким, остро думающим человеком, не делился своими заветными мыслями? У вас на руках малолетний сын, больной, беспомощный отец, что с ними станет, если вы будете арестованы?»
…Что тут наболтала обо мне Ирина? Знакомлюсь с музыкантами, художниками, явившимися на обед, устроенный в мою честь. Растерянно улыбаюсь, невзначай провожу ладонью по небритому лицу. Садимся за уже накрытый длинный стол, в центре которого хозяйка, немолодая женщина с тёмными подглазьями, ставит большую хрустальную вазу с купленными Ириной розами.
А там, на Лубянке, все пытаются вытянуть из меня показания на несчастного, мало знакомого мне тогда Валеру Новицкого. Поразительно, что отпустили, когда я, наконец, взорвался. Тихо так взорвался. Спросил: «Если вам нужно посадить или уничтожить невинного человека, ведь вы всё равно всегда это делаете, правда? Зачем же вся эта комедия с показаниями, допросами? Боитесь, что в конце концов придётся отчитываться перед Господом?»
Отпустили. Со скрежетом зубовным.
Откроюсь тебе: потом, задним числом я испугался своей дерзости. Кто его знает, чем это могло закончиться для меня. Хотел предупредить обо всём Валеру! Телефон мой наверняка прослушивался. Адреса Валеры я не знал. Пришлось колесить по Москве, по общим знакомым. Выяснилось — остался во Франции.
Обидно мне стало — гуляет там на свободе под сенью Эйфелевой башни… Загадочно. Чего же это они после драки кулаками?
Когда это было? Где‑то в середине семидесятых годов. Надо же, забылось, вытеснилось из памяти.
…Суп. На второе — рыба. К ней белое вино. Легкое, очень вкусное. Все говорят по–русски. Кроме одного здоровенного парня. Большеголовый, похож на изображение Дантона из школьного учебника истории. Сидит рядом с молоденькой художницей Анастасией, дочерью хозяев дома.
Понемногу возвращаюсь к действительности, к тому времени, где пребываю сейчас. Отвечаю на расспросы о Москве, о противостоянии Ельцина и «парламента». На самом деле всех интересует иное — разрекламированные Ириной мои возможности целителя. К этому и начинает скатываться разговор.
Оглядываю сидящих за столом. Спрашиваю у хозяйки, которая вносит вазу с фруктами:
— А где Ира?
— Умчалась в консерваторию. У неё мастер–класс. Заберет вас к шести. Сказала, посмотрите меня, а может быть, и моего мужа.
— Конечно.
— А можно ещё вон ту даму, мою бельсер? — Она показывает на дальний конец стола, где пьёт кофе сухопарая женщина в накинутой на плечи серебристой шали.
— Хорошо. Только, с вашего разрешения, мне хотелось бы прийти в рабочее состояние. Что, если выйду на полчасика, погуляю?
Анастасия, услышав наш разговор, предлагает:
— Были на Монмартре? Здесь рядом Монмартр. Хотите, пойду с вами, поднимемся на фуникулёре к Сакре–Кер?
— Спасибо.
Честно говоря, я предпочёл бы пройтись в одиночестве. Хочется до конца отбиться от нахлынувших воспоминаний, затеряться в бурлении иной жизни.
Встреча с Ириной, ночёвка у Нины, появление Валеры, обед в семье эмигрантов… Считанные дни, отпущенные мне судьбой на Париж, видимо, придётся провести среди здешних русских…
Каблучки Анастасии дробно стучат рядом. Тротуары запружены толпами туристов. С гидами и без гидов. Они норовят остановиться у каждого магазина. Перекликаются чуть ли не на всех языках мира. Создается впечатление праздника, фестиваля, имя которому — Париж.
У меня гид хороший. Анастасия не забивает голову сведениями обо всех этих старинных кварталах, зданиях. Молча поспешает рядом, невысокая, складная, лишь разок сказала:
— Вон на углу магазин «Тати». Здесь иногда удаётся дёшево купить совсем неплохую одежду. Хотите зайдём?
— Мне ничего не нужно. Можно я вас буду называть просто Настя?
— Я и есть Настя. Анастасией меня называет мама, когда волнуется или сердится.
— Что‑то не заметил, чтобы она сердилась.
— Волнуется из‑за вас. Из‑за того, что будете её лечить. И ещё из‑за того, что через неделю у нас с Этьеном свадьба, венчание в церкви на рю Дарю.
— Вы крещёная? Действительно верите в Бога?
— Крещеная. Но о вере предпочитаю не говорить. Это — очень личное. — Настя замыкается. И этим она тоже нравится мне.
Вместе с многодетной итальянской семьёй поднимаемся в стеклянной кабине фуникулёра на вершину монмартрского холма. Отсюда, со смотровой площадки, в солнечной дымке далеко виден Париж, Эйфелева башня.
— Подойдите сюда! — зовёт Настя и бросает монету в щель стоящей на треноге подзорной трубы.
Приникаю к окуляру. Башня приблизилась. Она похожа на высокую, стройную девушку в длинном, расширяющемся книзу сарафане. Красивая. Никуда не деться. Только уж больно маленькая головка.
То ли воспоминания о КГБ, то ли я вообще так устроен, что часто сам отравляю себе жизнь — вдруг всплывает в памяти увиденная давным–давно на Высших режиссёрских курсах фашистская кинохроника: Гитлер смотрит на покорённый Париж.
Помню, как увидев в бинокль Эйфелеву башню, он в восторге хлопает себя по жопе.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Открываю глаза, разбуженный ритмически повторяющимися звуками. Присматриваюсь, привыкаю к полоскам утреннего света, пробивающегося сквозь жалюзи.
У второй кровати, стоящей близ окна, вижу силуэт человека, замершего в странной позе: одна рука вскинута вверх, другая откинута назад. Похож на мужчину из известной скульптурной группы — рабочий и колхозница. Медленно присаживается на корточки. Замирает.
Припоминаю. Ночью кто‑то приехал, Ирина кому‑то застилала вторую кровать в отведённой мне комнатке.
Человек вдруг резко меняет позу: теперь он — сидящий на корточках боксёр со сжатыми, готовыми к бою кулаками. Выдох с угрожающим свистом вырывается из его губ.
Хоть до меня доходит, что это всего–навсего одна из новомодных восточных гимнастик, становится жутковато.
— Гуд монинг! — робко приветствую я незнакомца. — Салам алейкум.
Тот вскакивает, как ужаленный. Затем подходит к окну, вращает рукоять жалюзи. Они с треском поднимаются.
— Здравствуйте. Меня зовут Борис Раппопорт. Я двоюродный брат Ирины, возвращаюсь из Москвы в Торонто.
Жилистый человек с бородкой клинышком, стоящий передо мной в одних плавках. Энергично пожимает мне руку и отправляется в ванную.
Теперь из глубины квартиры становится слышна быстрая танцевальная музыка.
Девятый час. А вставать неохота. Видимо, сильно устал вчера, когда весь вечер занимался больными — матерью Анастасии, её отцом, их родственницей. Потом жених Насти — Этьен пожаловался на зубную боль.
Встаю. И, пока не вернулся Борис, вызываю в памяти облик Дженнифер. Закрываю глаза, сосредоточиваюсь, поднимаю ладонь, обследую её позвоночник сверху, с шейного отдела.
— Что это ты тут делаешь? — В дверь заглядывает Женя. На ней белое с красной оторочкой платьице, красные носочки, туфельки.
— Хочешь посмотреть, как я танцую?
— Хорошо. Только застелю постель и умоюсь.
— Нет. Сейчас. А то мама позовёт завтракать.
— Хорошо.
С Женей я едва успел познакомиться вчера вечером. Первоклашка. Почему с утра не в школе? Ах да, сегодня суббота. Бедный ребёнок, вчера сидела одна, пока мы с Ириной не приехали с улицы Кондорсе. Сегодня дом полон странных людей: один в темноте принимает дикие позы, другой при свете дня шарит ладонью в пространстве. Следую за ней в гостиную. Проходя мимо кухни, говорю накрывающей стол Ирине:
— Доброе утро. Дурацкая история — нечем побриться…
— Нет проблемы, — отвечает она. — Там, в ванной, в шкафчике у зеркала найдёте всё, что нужно. Осталось от Жениного отца. Женька, куда ты ведёшь человека? Немедленно садись за стол!
Девочка ничего не отвечает. В гостиной она снова запускает на проигрывателе пластинку с танцевальной музыкой, берет скакалку и начинает с бешеной скоростью прыгать рядом с роялем.
Волнистые темно–каштановые волосы девочки растрепались, чёрные, чуть раскосые глаза горят.
— Тебе нравится? Нравится, как я танцую?
Мелькает скакалка, мелькают красные носочки.
— Почему ты называешь это танцем?
— Потому что весело! Могу так танцевать весь день. Всю жизнь. Не веришь?
— Верю.
Она отлично говорит по–русски. Только грассирует на каждой букве «р». Ее родитель — мексиканский художник–эмигрант слинял, едва узнав, что Ирина беременна.
Безотцовщина.
От мелькания красных носочков рябит в глазах.
— Женька! Дядя Боря уже за столом. Отпусти человека в ванную. — Мать решительно снимает адаптер с пластинки, выхватывает у Жени скакалку.
— Дура! Ему было интересно, я занимала гостя. Правда? Скажи, правда?
— Ирочка, она действительно замечательно скачет, то есть танцует, не ругай Женю.
Перехожу в ванную, отыскиваю в шкафчике чистый Станочек, остатки крема для бритья. Наскоро бреюсь, умываюсь.
…Женя уже завтракает — вылавливает ложкой из тарелки корнфлекс, размоченный в горячем молоке. Перед ней стоит баночка фруктового йогурта. Ирина с Борисом ждут меня. Он нетерпеливо обтирает бумажной салфеткой вилку и нож. Во время завтрака рассказывает, как летал в Москву по делам своего строительного бизнеса. Вчера собрал бывших однокурсников в ресторане «Прага», устроил им роскошный ужин с коньяком и шампанским, показывал цветные фотографии своего двухэтажного дома под Торонто, своей семьи, своих трёх автомашин, бассейна, зимнего сада.
Он и сейчас вынимает из внутреннего кармана чёрного кашемирового пиджака пакет с толстой пачкой фотографий, сообщает, что зарабатывает больше ста тысяч долларов в год, с горечью говорит о том, что бывшие однокурсники порознь подходили к нему, умоляли помочь переехать в Канаду, устроиться в его фирму.
Если ты меня спросишь, что больше всего не терплю я в людях — отвечу: самодовольство. Но тут особый случай. Этот человек несчастен. Всячески уговаривает других, а значит, прежде всего себя, что все хорошо, лучше и быть не может…
Женечка молча доедает йогурт. Порой я чувствую на себе её взгляд. Безусловно, вопрошающий — как можно терпеть такого хвастуна?
Ирина же выслушивает Бориса с показным вниманием, подливает то ему, то мне кофе из кофейника, распечатывает коробку с турецким рахат–лукумом, ставит на стол. Умная, резкая, она явно зависит от Бориса. Ведь эта квартира каким‑то образом принадлежит ему или его родственникам, которые на днях гостили здесь. И квартира эта находится не где‑нибудь, а, как сказала вчера Ира, когда мы поздно вечером ехали сюда, на самой аристократической улице Парижа — Буа де Булонь, рядом с Булонским лесом.
К концу завтрака выясняется, что Ирина, Борис и Женя едут в «Галерею Лафайет» на бульваре Монпарнас, а потом и по другим магазинам за подарками для семьи Бориса. Затем намерены посетить Лувр. Ирина предлагает составить им компанию.
Отказываюсь. Я ничего не собираюсь покупать. Еще когда ехал в поезде, решил не ходить по музеям. Слишком мало времени отпущено мне на Париж. До сих пор, в сущности, почти не видел города. Поэтому уговариваюсь доехать с ними до этой самой «Галереи Лафайет», а там отделюсь, пойду до вечера странствовать самостоятельно. Хочется не в машине — своими ногами пройти по знаменитым улицам, бульварам и площадям…
Но прежде, пока Ирина с грохотом составляет в никелированную раковину грязную посуду, прохожу в гостиную, достаю из кармана визитную карточку Валеры Новицкого, звоню.
Он дома. Голос напряжённый. Такое впечатление, будто только что ссорился с женой.
— Веду сына к парикмахеру, потом на теннис. Могу встретиться с тобой только в пять часов.
— Сколько лет сыну?
— Двенадцать. Со всеми прелестями позднего ребёнка, да ещё эта сука избаловала его!
— Ты с ума сошёл. Жена услышит.
— Тупа! До сих пор по–русски — ни слова. В пять подъезжай хотя бы к музею д'Оранжери в Тюильри. Это на пляс де ля Конкорд, площадь Согласия. Найдешь? Не потеряешься?
— Найду.
На самом деле мне больше всего хочется именно потеряться, затеряться в толпе парижан. Зачем я позвонил Валере? Зачем мне понадобилась встреча с ещё одним закомплексованным эмигрантом? Ладно. Будет хоть какая‑то цель.
…И вот я сижу рядом с Женей на заднем сиденье «Ситроена». Ирина ведёт машину по сверкающему утреннему Парижу, Борис, надев очки и поглаживая бородку, читает вслух:
— Пеньюар для Лили, «Шанель №5» для Лили, себе две–три рубашки от Кардена, детям… Кстати, Женька, что хочешь, чтобы я тебе подарил.
— Ничего. Морскую свинку!
— Я тебе покажу морскую свинку! — вмешивается мать. Этого ещё не хватает на мою голову.
— Женечка, ну серьёзно. Я могу купить всё, что ты хочешь.
— Ничего! Ничего от тебя не хочу.
Когда Борис отворачивается, Женя дёргает меня за руку и демонстративно показывает ему в спину язык.
Скорчив сердитую мину, я грожу ей пальцем. Девочка улыбается. Она видит меня насквозь…
Пробка. Застреваем в крайнем правом ряду в гигантской пробке автомобилей.
На тротуаре, как раз рядом с нашим «Ситроеном», на корточках под каштаном сидит седой неф. Тощий, в вязаной шапочке на макушке, в коричневом пиджаке, ядовито–зелёных брюках, в грубых армейских бутсах. Занимается загадочным делом: одну за другой вынимает из потрёпанной сумки разномастные пустые бутылки, устанавливает их вокруг себя.
Женя мгновенно опускает стекло, спрашивает:
— Что он делает? Продает?
Видимо сообразив, что в машине иностранцы, неф радостно сообщает:
— Капут! Садам Хусейн — капут! Миттеран — капут! Америка — капут! — Весело показывает на прохожих, на автомобили, на солнце. — Капут!
Наконец, трогаемся с места. Неф машет нам вслед.
— Сумасшедший. Дрянь придорожная, — взрывается Борис. — Куда только смотрит ваша полиция?
Ирина не отвечает. Сворачиваем на бульвар Монпарнас и вскоре останавливаемся у занявшей целый квартал «Галереи Лафайет».
…Оказаться впервые в Париже одному — это как выйти в море на весельной шлюпке.
Один. Вокруг своя, тайная жизнь. При полном штиле внезапно взыгрывают волны, между ними выплеснулась рыба, над головой с хриплым криком косо пронеслась чайка…
Иностранец, форинер, не знающий французского языка, принципиально не пользующийся услугами путеводителей, понуждающих смотреть на все чужими глазами, я простился со своими спутниками и вышел в открытое, тёплое море Парижа.
Теплы высокие здания с узкими зарешеченными балкончиками, откуда свешиваются цветущие бегонии и герани. Теплы ещё зелёные, раскидистые кроны каштанов и платанов с толстыми, вековыми стволами. Теплый ветерок гоняет по плитам солнечных тротуаров листву, пережжённую сентябрём.
Я прошагал насквозь весь бульвар Монпарнас, бульвар Инвалидов, держа курс на золотой купол Дома Инвалидов, под которым, насколько знаю, покоится прах Наполеона.
Люди встречались редко. Возможно потому, что сегодня Суббота. Иногда в полном одиночестве шёл я мимо словно вымерших кварталов, и только сверху, из раскрытых окон то звучал детский смех, то слышались звуки фортепиано.
Пересекая это тёплое море безмятежности, я, казалось бы, должен чувствовать себя счастливым. Но из памяти все не уходил негр в вязаной шапочке — то как он указывал на город, на солнце, пророчествовал: «Капут!»…
На углу одной из улиц я увидел вход в метро, спустился под землю, сел в полупустой поезд, покатил куда глаза глядят мимо сверкающих светом станций, а когда отдохнули ноги, вышел наобум и очутился близ улицы Муфтар, которая, поднимаясь среди старинных домов, привела меня на небольшую площадь Контрэскарп.
И тут меня осенило — в этих местах жил когда‑то молодой Эрнест Хемингуэй. Собственный громадный талант застлал ему видение Бога. Что и закончилось самоубийством. Нажал пальцем босой ноги на спусковой крючок ружья — ужасно.
Ходить по чужим следам — последнее дело. Но прежде, чем покинуть площадь, я постоял, прислонясь спиной к тёплому стволу платана, помолился за Эрнеста Хемингуэя.
А потом я пошёл вниз наугад. И лишь часа через полтора вышел к усеянной туристскими группами огромной пляс де ля Конкорд, на краю которой в саду Тюильри отыскал музей д'Оранжери, где я зачем‑то должен встретиться с Валерой.
Шел только четвёртый час, и я подумал, что заслужил право утолить жажду и голод. Перешел по мосту Сену, с её стеклянными прогулочными судами, набитыми туристами, как подсолнух зёрнами, оказался на острове Сите, осел за первым же столиком под полосатым тентом кафе.
Теперь не я двигаюсь—движется мимо бесконечная череда прохожих, фланирующих по центру Парижа.
Между мной и прохожими на белой скатерти столика бокал запотелого от холода понаше — смесь лимонада с пивом, кофе и длинный сэндвич с сыром.
Боюсь, ты скажешь, что я бездельник, устроил себе красивую жизнь, шляюсь по заграницам, растрачиваю время и деньги… Может быть, ты и прав. Грешен. В своё оправдание могу сказать, что для успешной работы мне хоть изредка необходима резкая смена ритмов, смена впечатлений. Скоро, через три дня автобус подойдёт к монастырю под Парижем, я присоединюсь ко всей компании и двинусь в обратный путь… Какое сегодня число? Второе октября тысяча девятьсот девяносто третьего года. В Москве уже холодно, через месяц выпадет снег.
А впрочем, все это действительно пижонство, потеря темпа. Залетел в чужую жизнь, не имеющую ко мне никакого отношения.
Доев сэндвич и допив понаше, закуриваю перед тем, как насладиться кофе, и тут до моего слуха доносится чей‑то голос. Не сразу соображаю, что это обращаются ко мне. Поворачиваю голову направо.
Через столик за чашкой кофе с сигаретой в руке смуглолицая девушка.
…Смуглолицая. Та самая. Из снов.
Белозубо улыбается, повторяет по–французски свою фразу, о чём‑то просит.
Прикурить! Вот что ей надо — прикурить.
Господи, помилуй! Холод пробегает у меня между лопатками.
Хлопаю глазами в то время, как она подходит со своей сигаретой. Вынимаю из кармана зажигалку, даю прикурить, спрашиваю:
— Ду ю спик инглиш?
Радостно кивает.
Говорю по–английски, что я — писатель из Москвы. У меня к ней вопрос, очень важный.
Заинтригована. Идет к своему столику, возвращается с чашкой кофе, садится рядом.
— Извините, кто вы? Как вас зовут?
— Ясмина.
— Что за имя? Вы француженка?
— Нет. Ливанка. Живу в Париже с мамой и папой, здесь родилась.
— Ясмина, задам странный вопрос. Смотрите прямо на меня. Я никогда вам не снился?
— Что? — растерянно улыбается, поражена. — Нет.
Выхватываю из стаканчика бумажную салфетку, рисую на ней соломенный подстаканник.
— Атакую штуку, вещь, никогда не видели? Не встречалась?
— Нет. Что это?
— О'кей. — Сминаю салфетку.
Не в курсе. Не знает, что явилось ещё одной вехой на моём пути неизвестно куда… Как бы то ни было, нет, не зря толкнуло меня позвонить утром Валере. Надо же было, чтобы он назначил свидание у музея д'Оранжери, чтобы я пришёл раньше, — оказался в этом кафе!
Ясмину, конечно же интересует, кто я такой, почему задал ей свой вопрос, спрашивает, сколько у меня книг, какие.
Отвечаю. А сам всё думаю: чьей же волей я живу, чья воля послала меня в это путешествие? Выходит, своей воли у меня нет? И все предопределено?
Девушка с интересом посматривает на меня.
Понемногу стараюсь прийти в себя. В свою очередь спрашиваю:
— Чем вы занимаетесь?
— Кончаю коммерческий колледж.
Да. Это она со всей её неповторимостью. Милое восточное лицо, ещё хранящее черты детскости.
Внезапно Ясмина показывает куда‑то на толпу.
Из её глубины возникает высокий парень в распахнутой у горла чёрной рубашке. По мере приближения к нам глаза его делаются квадратными от удивления. А скорее всего — от ревности.
Ясмина смеётся. Знакомит нас. Когда Эммануэль, так зовут её приятеля, узнает, что я из Москвы, выясняется: его дедушка, художник, тоже знал одного русского — Марка Шагала, участвовал с ним в работе по росписи плафонов Гранд Опера.
Эммануэль тоже художник, учится в Академии. Предлагает немедленно поехать к нему в мастерскую, посмотреть работы и, если мне какая‑нибудь понравится, рад подарить на память о Ясмине, о нём, о Париже.
Соблазнительное предложение. Но, во–первых, ни за что не хочу разочаровываться. Парень такой открытый, славный. Что если картины его мне не понравятся? У меня ведь один критерий — хочется, чтоб то или иное произведение изобразительного искусства всегда висело у меня дома на стене, или нет. Вот и все. Никакие модные веяния, чужие, пусть и авторитетные мнения на меня не действуют.
А во–вторых, без пятнадцати пять. Мне пора идти на свидание с Валерой, о чём я и сообщаю влюблённой парочке.
Эммануэль и Ясмина не желают со мной расставаться. Они готовы проводить меня до музея. Оказывается, невдалеке остановка автобуса, можно за десять минут подъехать до пляс де ля Конкорд.
…Валера Новицкий сидит на одном из стульчиков, беспорядочно расставленных по изумрудному газону у входа в музей. Крошит прыгающим, перепархивающим воробьям остатки то ли бутерброда, то ли круассана. Издали — жалкое зрелище, типичный старикан на пенсии.
— Бонжур! Знакомься, — представляю своих новых друзей.
Валера вскакивает, галантно целует ручку Ясмине, здоровается с Эммануэлем.
— Какая красивая девушка! Шахрезада! Где ты её подцепил? Они французы?
Через секунду переходит на французский. Завладевает вниманием молодых людей, сколько могу понять, обрушивает на них водопад исторических сведений о Тюильри, о Людовике, о Марии–Антуанетте, о всех зданиях, окружающих прославленную площадь.
Массивный бородатый человек в шортах, выйдя из музея, с любопытством прислушивается', подходит ближе.
— Американ? — обращается к нему Валера и, получив подтверждение, немедленно переходит на английский. — История пляс де ля Конкорд. Уникальная экскурсия!
Стайка японок, не дойдя до входа в музей, тоже присоединяется к нам, начинает щёлкать фотокамерами.
Когда вокруг Валеры собирается человек двадцать, Эммануэль подзывает меня:
— Извините, мы все это знаем. Очень жаль, что вы должны быть с вашим другом. Мы бы все‑таки хотели вас видеть. Завтра воскресенье. Приходите ко мне в мастерскую на обед. Запишите, пожалуйста, телефон. Я встречу у метро, чтобы вам не пришлось искать.
Благодарю. Записываю. Обещая непременно прийти. Хотя мучительно чувствую, что вижу этих людей последний раз в жизни.
На прощание Ясмина улыбается мне. Как во сне. Точно так же.
Заметив, что Эммануэль и Ясмина уходят, Валера кидается за ними, всучивает визитную карточку. Идет обратно, морщится: еле волочит ноги.
— Финиш! — объявляет он, опускаясь на стульчик и закуривая. Равнодушно принимает подаваемые ему франки и доллары.
— Посиди со мной, — просит он. — пять–десять минут, и всё пройдёт. Схватывает голень на одной ноге, стопу — на другой. Эндартериит, слыхал?
— Слыхал. Бросай курить!
— Зачем? Чтоб сдохнуть на год или два позже? Кроме сына, у меня никого.
— Живи хотя бы ради сына.
— Ему до лампочки, есть я или нет. Всем до лампочки. Слушай, а ты не можешь вылечить эндартериит? Помоги мне!
— Не конечности надо лечить, а всю сосудистую систему. При условии, что непременно бросишь курить.
— Ты сам куришь!
— Это верно. «Врачу — исцелися сам», и так далее. Но сейчас не обо мне речь. Поехали к тебе — попробую помочь.
— Говорил — ко мне нельзя. Жена не признает ни меня, ни моих друзей. Да их у меня и нет. Не нажил за все пятнадцать лет эмиграции.
— Чем жена занимается?
— Всё время или в институте, или сидит за компьютером, пишет статьи. Работает в институте Пастера.
— Понятно. Не повезло ей с тобой.
— Это мне не повезло. Ладно, пошли. Возьмем такси. Покажу тебе Париж — Монпарнас, Монмартр, Бельвиль.
Поднимаемся, идём к выходу из ограды Тюильри.
— На Монмартре я уже был. И на Монпарнасе тоже.
— Тогда — в Бельвиль. В первые годы часто туда ездил, был роман с одной негритяночкой. К вечеру, если хочешь, двинем в Сен–Дени, или на пляс Пигаль — увидишь проституточьи места.
— Не позже девяти вечера мне надо бы вернуться к Ирине. Там девочка, рано ложатся спать.
— Где живут?
— На Буа де Булонь.
— Ничего себе!
…Мы едем в такси. Валера поглядывает на счётчик. Нервно курит.
— Валерка, не мандражируй. У меня есть деньги.
— Привычка. Стал занудой. Эти дамы и господа надавали что‑то около шестнадцати баксов. А я ухитряюсь жить на два доллара в день.
— В условиях Парижа? Каким образом?
— Сейчас увидишь.
Расплатившись с таксистом на углу шумного проспекта с бульваром посередине, Валера подходит к фруктовому ларьку, покупает за два доллара гроздь бананов в целлофановом пакете. Немедленно отламывает от грозди два длинных жёлтых плода. Один протягивает мне, другой очищает себе.
— Идеальная пища. Сытная. Часа на полтора глушит чувство голода. Говорят, предохраняет от импотенции.
Шкурки он почему‑то бросает не в урну, а к стене высокого, узкого дома, где на первом этаже находится какой‑то магазинчик.
— Постой. Я сейчас! — Доев банан, Валера шустро срывается с места и исчезает за стеклянной дверью.
Сам видишь, мне искренне жаль этого человека, я готов помочь ему, чем могу, полечить, сделать всё, что угодно, но он вызывает во мне раздражение уже тем, что втягивает в суету. Подсознательно ищет сострадания. Не даёт возможности даже секунду подумать о том, что произошло — о Ясмине, о моём бегстве из экуменического центра, появлении здесь, в Париже…
— Иди сюда!!! — Весело зовёт Валера, высунувшись из раскрытой двери магазинчика.
— В чём дело?
Он пропускает меня вперёд, в тесное помещение. По полкам расставлены фотоаппараты, фотопринадлежности. На прилавке уже раскрытая коробка с маленькой фотокамерой.
— Покупай! Даром. Двести пять франков.
Старик–продавец, улыбаясь, смотрит на нас.
— Зачем? Я не умею снимать.
— Не надо уметь, — горячится Валера. — Это же «Коника–автомат», со вспышкой! За двести пять франков по всему Парижу не найдёшь, по всей Франции. Покупай!
В конце концов уговаривает. Выходим на улицу вместе с продавцом. Тот показывает мне как обращаться с камерой. Становится у дверей своего заведения вместе с Валерой. Делаю первый снимок.
…Время от времени присаживаясь отдыхать на бульварные скамейки, на стульчики кафе, где я угощаю его рюмашками коньяка, Валера приобщает меня к жизни любезного ему Бельвиля. Фотографируемся.
За долгие годы одиночества у него накопилась потребность выговориться. Терпеливо выслушивать человека — тоже терапия.
— Первые годы я, как дурак, ходил в Тургеневскую библиотеку или в библиотеку Сорбонны. Набросился на все запрещённое в то время у нас, запойно читал откровения религиозных философов, писателей, — говорит он, когда уже в сумерках мы бредём по набережной Сены мимо целующихся парочек, — Читал до посинения. И получил лишь шиш без масла! Эта эмиграция, все её волны, ничего не создали. Тот, кто потерпел поражение, ничего не может создать. Умные, несчастные духовные импотенты! Ничего, кроме растерянности, истерики и тошнотворных рассуждений о судьбах России и о Христе.
— Минуточку! А Бердяев, Бунин, Набоков?
— Тлен! Бунин в эмиграции ничего, кроме тлена не создал, вспоминал кого и при какой погоде трахал. Перечитай! Все это бумажные, или, если хочешь, восковые цветы. Искусно сделаны, похожи на настоящие, но мертвые… Не согласен?
— Отчего же?… В твоих словах что‑то есть.
— Лучше уж ничего не писать, чем ностальгировать на людях… Знаешь что, давай зайдём вон в тот бар, дёрну ещё рюмочку, посидим, послушаем чудного гитариста из Новой Каледонии.
— Рюмочка и гитарист — дело хорошее. Только во мне твоя банановая диета лишь усилила чувство голода… Поздно. Десятый час. Мне уже пора возвращаться. Неудобно, ночую, в сущности, у чужих людей.
— Погоди! Недалеко отсюда чудесный итальянский ресторанчик. Пицца и паста. Я угощаю.
— Пиццу терпеть не могу. Что такое паста?
— Макароны по–итальянски. Пальчики оближешь. А какой там вермут!
— Ты пьёшь и вермут?
— Все, кроме пива.
…Сидим на улице за единственным столиком под красным зонтом. Хозяин ресторанчика торжественно выносит мне тарелку с огромной порцией макарон в соусе и кружку пива. Валере — рюмку вермута.
— Почему ты заказал только одну порцию? Из экономии? Валерка, не валяй дурака. Есть у меня деньги, остались. Заказывай ещё, или пусть принесёт пустую тарелку, поделимся.
— Я правда не голоден. Алкоголики ведь мало едят, не слышал?
— Хорошо. Когда займёмся твоими конечностями?
— Ну, давай созвонимся завтра. Приеду туда, к твоей Ирине, там ты меня и полечишь. Кстати, это не больно?
— Ох, Валерка, любишь же ты себя! Не больно.
Он не даёт заплатить по счету. Платит сам.
Доводит до метро. Вместе опускаемся к турникету. Под землёй фотографирует меня у рекламного плаката с портретом Патрисии Каас.
Возвращает аппарат. Завистливо следит за тем, как два долговязых, затянутых в чёрную кожу парня с разбега перепрыгивают через турникет, чтобы не платить за билеты.
Прощается. Уходит наверх со своим пакетиком, в котором осталось несколько бананов.
…Тихая и пустынная улица Буа де Булонь во всю длину уютно освещена фонарями. Их отблеск лежит на гофрированных воротах подземных гаражей, на зелени устремлённых в черноту неба деревьев. Навстречу с пуделем на поводке шествует дама в меховой накидке. И вправду холодает. «Октябрь уж наступил…».
Не очень уверенно нахожу дом, нажимаю на одну из кнопок домофона у подъезда из чёрного мрамора. Массивная парадная дверь отворяется.
Поднимаюсь по лестнице из холла на первый этаж. Ирина встречает на пороге квартиры. Заплаканная.
— Ирочка, в чём дело? Что случилось?
— Отлупила Женьку. Заходите.
— Что‑то все‑таки случилось?
— Боря перед отъездом в аэропорт подарил ей куклу, стодолларовую. Эта паршивка подбросила её в воздух, разбежалась, дала пенделя. Сломала, конечно. Кошмар. Мы обе зависим от них, этих родственников…
— Знаю. Где она?
— У себя. Наревелась. Спит. Скажите, что мне с ней делать? Не понимаю её, не справляюсь. У всех дети как дети, а у меня — ужас. Будете ужинать?
— Спасибо. Сыт.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
С утра было пасмурно. Теперь же, к девяти, как говорят на Украине, развиднелось.
Оказывается, открыв вторую дверь гостиной, можно шагнуть прямо в крохотный дворик, где растут несколько кустов роз и хризантем, у стены валяется лейка и Женькин мяч с изображением земных материков. Здесь я и курю, сидя в шезлонге, дожидаясь пока проснутся Ирина и Женя.
Почти всю ночь глаз не сомкнул. Все‑таки здорово шарахнуло явление Ясмины. Такие стрессы не каждый день бывают.
Когда умывался, даже специально бросил испытующий взгляд в зеркало — не изменилось ли что‑то во мне. Вроде седины не прибавилось.
Постирал в раковине синюю рубаху, подаренную Кристо Хесусом, повесил на сушку.
Теперь ёжусь в накинутой на плечи куртке. Тишина. Девочки все не просыпаются. Почему‑то тянет поведать Ирине об этой загадочной истории, хоть с кем‑нибудь поделиться.
Не поймут. Не поверят. И вообще о таких вещах нельзя растрёпывать попусту.
Если б не ты, я бы взорвался от напряжения. Ощущение тебя рядом — величайшее счастье, выстраданное мною за жизнь… Так вот, скажи, а Ясмина, что толкнуло Ясмину назначить свидание Эммануэлю в то же время, в том же кафе, где объявился я? Что толкнуло её попросить огонька именно у меня? Как малый ребёнок перед букварём судьбы, разглядываю непонятные страницы…
Доброе утро! Женька уже соизволила приступить к завтраку. Вот ваша рубашка, я высушила её утюгом, отгладила. — Ирина подаёт идеально выглаженную рубаху. — Идемте к столу. Вы когда‑нибудь пробовали сыр «Каприз Бога»?
Надеваю рубаху, ещё тёплую.
Во время завтрака выясняется, что улетевший в Торонто Борис оставил для меня запечатанный пакет.
Женя, подозрительно прищурясь, смотрит, как я вынимаю из него коробочку с мужскими духами «Ален Делон», электронную зажигалку, изящный брелок для ключей, баллон «Вильяме» с пеной для бритья и бритвенный станок «Жиллет» с запасом сменных головок.
Вот как устроен человек — вчера я этого Бориса Раппопорта чуть ли не возненавидел, сейчас растроганно перебираю подарки. Запомнил Боря, что мне нечем было побриться…
Девочка не спускает с меня глаз… Она наверняка знает — я в курсе того, что она вчера вечером натворила с куклой.
Складываю сувениры обратно в пакет, с показным равнодушием отодвигаю в сторону.
Кажется, Ирина просекла ситуацию. С любопытством наблюдает за мной и Женей.
Я в тупике. Если откажусь от вовсе не необходимых для меня вещиц, выйдет ложь, лицемерие. Если приму — прервётся контакт, возникший между мной и предельно искренним существом шести с половиной лет.
— Женя, а что если мы поделим пакет сокровищ, мне зажигалку и то, что для бритья, тебе — духи и брелок?
— Это мужские духи, — ревниво вмешивается мать.
— Ничего. Ты мне никогда брелоков не покупаешь. И духов тоже. Дай понюхать.
Отдаю Жене духи и брелок. Мать, сокрушённо покачивая головой, следит за тем, как девочка откупоривает флакон. А я допиваю кофе и перехожу из кухни в гостиную, набираю номер Валеры.
— Старина, вчера я совсем забыл, что сегодня воскресенье! Мой крест пасти сына с утра до вечера. — сообщает Валера.
— Ладно. Предоставишь мне свои конечности завтра.
— В понедельник? Решительно не смогу. Мне сосватали компанию новых русских, потащусь с ними показывать город. На весь день. А давай во вторник?
— Не знаю, Валера, как насчёт вторника, я ведь тут не навечно. Телефон я тебе дал. Звони, когда будешь свободен. Привет.
Я раздражён. Это Валера должен меня уговаривать встретиться, а не я его, разве не так?
Ирина входит в гостиную, смотрит на стенные часы. Она чем‑то недовольна. Поскольку я не владею французским, прошу её позвонить в монастырь под Парижем, куда на днях должен приехать автобус. Чего доброго разминусь с ним, этого мне ещё не хватает.
Ирина дозванивается в монастырь. Там просят подождать, за кем‑то пошли. Ждем.
Зачем я так сухо попрощался с Валерой. Ведь у него, действительно, ситуация не из лёгких, вертится, как уж на сковородке.
— Автобус должен прийти завтра, во второй половине дня, — сообщает Ирина, поговорив с кем‑то по телефону. — Между прочим, поневоле из кухни слышала ваш разговор с Валерой. Напрасны вы дали мой номер этому липкому типу.
— Извините. Кругом виноват.
— Ничего! — Ирина поднимается от столика с телефоном, снова взглядывает на часы. — Это вы извините меня, вчера не смогла уделить вам внимания. Получается, у вас на Париж остаётся чуть более суток… А знаете что? Через двадцать минут подъедет одна богатая дама — мадам Одилия. Вздумала в шестьдесят восемь лет начать учиться игре на скрипке… Это кошмар моей жизни. Нет музыкального слуха, ничего, кроме амбиции и денег. Не имею возможности послать её к чёрту, отказать в уроках. Какие у вас на сегодня планы? Если подождёте полтора часа — поедем кататься на весь день, куда хотите, хоть в Версаль.
— Чудесно. Правда, к середине дня я должен позвонить одному парню, художнику, приглашён на обед.
— Что ж, тем лучше. Займусь уборкой, стиркой. Встретимся после вашего обеда вечером, покажу вам ночной Париж.
— Спасибо. А пока, Ирочка, с вашего разрешения, я бы хотел пройтись по магазинам, съезжу на метро в центр.
Раздается звонок. И через минуту Ирина впускает в квартиру очень высокую, костлявую, женщину со скрипкой. Суетливо помогает ей снять плащ с меховым воротником. Быстро объясняет мне:
— В центре все дорого. Берите такси, езжайте в район Де Фане, там под небоскрёбами супермаркет. Гигантский, больше двухсот магазинов. То же, что и везде, но гораздо дешевле. Жду вас вечером, не позже восьми.
Прежде чем уйти, заглядываю в комнату Жени. С бешеной скоростью она скачет через скакалку. Мелькают носочки, на этот раз, белые.
— Садись! Смотри, как я танцую!
Присаживаюсь на стул у маленького письменного стола, заваленного фломастерами, тетрадками, авторучками.
— Женька, что ты больше всего любишь? — воровским взглядом обвожу комнату. Повсюду красочные коробки с играми, гора растрёпанных кукол.
— Танцевать!
— А ещё?
— Драться с мальчишками. Знаешь, у нас в классе все мальчишки — дураки!
— Я тоже мальчишка.
Перестает прыгать. Задумалась.
— Извини, я не хотела сказать, что ты дурак.
— Спасибо и на этом. Ладно. Пошел гулять. Увидимся вечером.
— Тебе хорошо. Можешь гулять. До вечера. А я должна делать уроки, завтра понедельник.
— Я тоже делал уроки.
— Да? Так я тебе и поверила…
Ухожу. Иначе она вообще выведет меня на чистую воду.
В передней слышно, как из‑за закрытой двери гостиной доносится жалкое пиликанье, раздражённый голос Ирины.
…Нельзя ничего оставлять на последний день. Из всех занудных прописных истин эта, пожалуй, наиболее верная.
За несколько дней жизни в этом городе я обнаглел. Как подлинный парижанин, выставив большой палец, останавливаю такси, запросто объясняю старику–водителю:
— Де Фане. Супермаркет.
Трогаемся с места. Он собирается включить счётчик, и тут же машина останавливается.
Таксист с недоумением смотрит на меня, что‑то говорит.
Вслушиваюсь. Ничего не понимаю. Тогда он произносит английское слово:
— Клоуз.
Только теперь до меня доходит — закрыто. Сегодня воскресенье — диманш, магазины закрыты. Что ж, остаётся шанс успеть поискать подарок для Жени завтра, в день отъезда.
Таксист ждёт, когда я выйду. И тут мне приходит в голову первое попавшееся слово:
— Нотр Дам.
За опущенным стеклом проплывают уже знакомые Триумфальная арка, Елисейские поля, пляс де ля Конкорд. Я один. Без сопровождающих и объясняющих. Старик–таксист не в счёт.
Мост через Сену. Тесно застроенный и в то же время весь в зелени деревьев остров Сите. А вот в центре его и Нотр Дам, Собор Парижской Богоматери, издали похожий на русскую букву «Н».
Вчера я уже был на этом острове, видел эту каменную букву. Зачем меня принесло сюда снова? Чтобы войти внутрь отметиться?
Расплачиваюсь. Выхожу из такси, пересекаю заполненную туристскими группами площадь перед Собором.
Если смотреть снизу, химеры наверху кажутся небольшими, не шибко страшными. Химеры как химеры. Мою голову, мои сны посещали чудища и пострашней. Особенно перед тем, как должен был креститься.
Возле узкого входа приходится посторониться. Толстая дама и вышколенный негр, вероятно, лакей, ввозят коляску с инвалидом — холёным парнем с косичкой на затылке, такой, как у Игоря, завязанной кокетливым узлом с красной ленточкой.
Вхожу вслед за ними под сумрак высокого свода.
Вдалеке справа, близ алтаря суетное передвижение праздных туристских толп. А здесь, прямо против входа, передо мной высокий, в человеческий рост канделябр, рядом на столике в длинном ящике свечи и металлический короб с прорезью для денег.
Пока опускаю в прорезь монету, пока укрепляю свечу в гнезде канделябра, мельтешение парижских дней расходится в стороны, оставляет меня.
Казалось бы, что толку зажигать свечу, молиться здесь, в этом закутке, когда совсем рядом беспрестанно входят–выходят сотни людей — возможно ли остаться наедине с Богом?
Не знаю. Меня как пригвоздило.
Игорь с его косичкой. Катя, оберегавшая меня от ливня под сломанным зонтом. Седенькая Тонечка. Отец Василий. Безумная Ольга. Георгий. Хриплоголосая Надя. Оба водителя — Коля и Вахтанг, Акын О'кеич… Все эти имена, лица, прихлынули, обступают… Светлана с её по–мальчишески стриженной матерью Зинаидой Николаевной.
Как странно! Только что я о них и думать не думал. Стремился в супермаркет, почему‑то сказал таксисту — «Нотр Дам»…
Господи! Отец наш небесный, если можно, прости меня зато, что держал себя с этими людьми высокомерно! Прости за то, что не подал руку Игорю, всё равно, что не подать руки заблудившемуся слепцу. Осуждал каждое слово, каждый жест отца Василия. Старается в меру своей наивной доброты, как может… Страшное дело, Господи, опять не могу вспомнить имени человека, которому прилепил кличку «Акын О'кеич». Прости меня за него. Всех расставил по местам, всем дал оценку, всех осудил. Уехал. Не дал себе труда толком попробовать проникнуться молитвенной атмосферой экуменического центра. Слинял. Соблазнился возможностью пожить в Париже, «попользоваться Западом», как проницательно сказал брат Пьер…
Пока я болтаюсь здесь, они там трижды в день молятся, как могут, как умеют, их объединяет общая аура, общий свет. Какого опыта я лишился, может быть, невосполнимого… Жалкий соломенный подстаканник, заурядное знакомство с Ясминой — вот всё, что я приобрёл. Занимал чепухой свою душу, прости меня, Господи!
Свеча горит, оплывает. Капли воска, словно слезы, падают на подножие канделябра.
Катастрофа.
Господи, дай сил и мужества завтра, когда они приедут, подойти к отцу Василию, покаяться, попросить прощения у всех! Молю Тебя.
Покаянно, пасмурно на душе. Да и над островом Сите натянуло облачность, над всем Парижем. Выныриваю из водоворота туристов, кучкующихся возле Собора, пересекаю перекрёсток, сворачиваю к углу улицы, где рядом с кафе под пластиковым колпаком висит телефон.
Половина третьего. Наверное, пора звонить Эммануэлю и Ясмине. Хоть побуду среди настоящих парижан, а не среди эмигрантов. Закладываю в щель телефонную карточку, набираю номер.
Срабатывает автоответчик. Веселый, быстрый голос Ясмины передаёт сообщение. Для меня. На английском языке. А я не понимаю. Ничего не могу разобрать, кроме слов «пожалуйста» и «ждите».
Звоню ещё раз. Улавливаю название — «площадь Звезды».
Если я должен ждать на площади Звезды, то во сколько? И где именно? Чувствую себя жалким и навязчивым, как Валера Новицкий.
Раз их нет дома, раз я не понимаю сообщения, значит встреча не обязательна. Давно знаю — если что‑то, что запланировал не происходит, то лишь потому, что этого не хочет Бог. Можно протестовать, рыпаться, вроде бы изменить веление судьбы, но добра всё равно не будет.
Начинает накрапывать дождь. Перехожу по мосту с острова на материк Парижа. Нарастает ощущение ненужности себя в чужом воскресном городе. У всех своя жизнь, все заняты своими делами.
У Ирины с Женечкой тоже свои заботы. Возвращаться к ним рано, да и неохота. Дождь несильный. Стеклянные тупорылые суда с туристами взад–вперёд проплывают по Сене.
Стою у мокрых перил моста. Один. Прежде чувствовал, что ты видишь меня, не выпускаешь из поля зрения. Сейчас этого чувства нет. Что случилось? Не оставляй меня, ладно?
…Вода в Сене тёмная. Когда‑то читал в научном журнале, что в ней всегда есть холерные вибрионы. Начинают активизироваться в годы максимальной солнечной активности.
Тимур! Вот как его зовут, Акын О'кеича! А ещё есть пузатенький Вадим. Хитрован. Приспособил нумерологию как средство для знакомства с женским полом… Нина Алексеевна, мечтающая остаться здесь, в Париже… Чудачка! Нацепила все свои бусы–браслеты, везёт на обмен или продажу пасхальное яйцо. Смешные, несчастные люди. Интересно, что и Валера Новицкий, и преуспевший в Канаде Борис Раппопорт тоже несчастны, каждый по–своему.
Да и мне, рабу Божьему, похвастаться нечем.
…К восьми вечера пешком, прошагав половину Парижа, я возвращаюсь на Буа де Булонь. За это время дождь прекратился.
Ирина с порога прямо‑таки набрасывается на меня:
— Что там у вас в Москве? Смотрела ТУ. Какой‑то ужас между Ельциным, демократами и Верховным Советом. Как вы думаете, что теперь будет?
— Не знаю. Можно я приму душ и чуть отдохну?
— Ох, извините, на вас лица нет. Конечно! Мы с Женькой с утра стирали, там все завешано, сохнет. Сейчас уберу.
— Не надо, позже. Где Женя?
— Помогала, училась управлять стиральной машиной, набегалась, наскакалась. Спит. Сейчас — ужинать. Потом, как обещала, поедем. Покажу ночной Париж.
Трудно стараться не думать о вечных сварах между людьми, насилующими твою родину. Кажется, вся история России — цепь дрязг, заговоров и переворотов.
' Бог не обещал людям земли безоблачного счастья. Попустил, что ею до поры владеет «князь мира сего» — сатана. До Страшного Суда.
Стол в кухне накрыт. На нём бутылка красного вина «Шамбертен», два бокала, три сорта мягкого сыра, омлет.
— Ирочка, вообще говоря, я хотел бы повести вас куда‑нибудь в ресторан. Осталось достаточно денег.
— Ваших грошей не хватит ни на один парижский ресторан. Се ля ви!
— Что ж, могу я, русский нищий, поднять тост за вас и вашу дочку?
— Не обижайтесь. Давайте договоримся — вы угощаете меня кофе и мороженым где‑нибудь в приличном кафе, хорошо? Вино нравится?
— Потрясающее. Даже лучше грузинских.
— А сыры?
— Ничего подобного не пробовал. Да ещё с таким нежным омлетом. Ангельская еда.
— Спасибо. Значит, чай–кофе пить здесь не будем? Поехали?
Ирина быстро составляет в раковину грязную посуду. Уходит в спальню. Возвращается в коричневом бархатном костюме, подкрашенная, заглядывает в комнату Жени.
Старый «Ситроен» мчит нас по ярко освещённым улицам, бульварам, мимо подсвеченных зданий фантастической красоты.
— Это Гранд Опера, — поясняет Ирина. — Пале Рояль… Хотите выйти, погулять под его арками?
— Я хочу кофе!
— Тут поблизости кафе «Ротонда», правда, дорогое.
— Ирочка, пожалуйста, курс на «Ротонду»!
— Почему вы так обрадовались? Обычное знаменитое кафе. Таких в Париже полно.
— Чем знаменитое, знаете?
— Все знают. Там, в «Ротонде», собирались когда‑то известные художники, писатели. Наверняка бывал и Хемингуэй. Он всюду бывал. Когда ездила на гастроли в Мадрид, видела на дверях одного бара объявление: «Здесь никогда не был и не пьянствовал Хемингуэй». Оригинально?
— Вполне.
Подъезжаем к расположенному в нижнем этаже углового старинного дома стеклянному, полукруглому кафе с полукруглым красным козырьком наверху, на котором стоят большие буквы «LA ROTONDA».
Внутри уютно, тепло. Полно публики. Мест нет.
Отыскиваем снаружи, под козырьком, свободный столик, усаживаемся на белые плетёные стулья. Подскакивает официант и через две минуты доставляет на вытянутой руке поднос с ореховым мороженным, украшенным шоколадной крошкой и ананасовыми ломтиками, двумя рюмками ликёра.
— Ирочка, признаюсь вам, я очень люблю одного человека. Он погиб в год моего рождения. Многим обязан ему. Я был знаком с его мамой, надолго пережившей своего гениального сына Владимира Маяковского. Он не раз заходил в это самое кафе, возможно, вместе с Татьяной Яковлевой — русской красавицей из семьи эмигрантов. О ней, о себе, о Париже, о последней надежде на счастье он написал очень грустные стихи. Обычно я не хожу по чужим следам, но в данном случае… Честно говоря, горло перехватывает. Прочесть?
— Никогда не слышала, не читала, — Ирина зябко запахивает, застёгивает пиджачок.
— «В поцелуе рук ли, губ ли, в дрожи ль тела, близких мне, алый цвет моих республик тоже должен пламенеть…» — Я произношу эти строки тихо, вполголоса, но люди за соседними столиками начинают прислушиваться. Все‑таки дочитываю длинные, удивительно чистые и не ханжеские стихи до конца. — Не хочешь? Оставайся и зимуй. И это оскорбление мы в общий счёт запишем. Я всё равно тебя когда‑нибудь возьму. Одну или вдвоём в Парижем.»
Не уверен, что люди за соседними столиками понимают по–русски. Но они примолкли. Ирина допивает ликёр, кофе.
Подзываю официанта, расплачиваюсь. И радуюсь — остаётся достаточно франков, чтобы завтра купить подарок для Жени.
…Ирина молча ведёт машину пустеющими проспектами и бульварами. Я благодарен ей за это молчание. Но, как уже бывало и не раз, слышу мысли Ирины, мысли другого человека: «Сорок четыре года… Три идиотских замужества… Этот Энрико–подлец, бросил нас с Женькой, спёр серьги. Бабушкины, икону… Заболею, что будет с Женей? Одилия — стерва, опять забыла принести девятьсот франков. Забыла, видите ли! Сорок четыре… А сколько Маяковскому было, когда застрелился?»
— Тридцать семь, Ирочка, — непроизвольно вырывается у меня.
Она вздрагивает, с ужасом смотрит, и мы едва не врезаемся в чугунную ограду бульвара.
— Спокойно, девочка, — говорю я, обнимая её за плечи. — Пусть у вас и была икона, вы не верите в Бога, не доверяете тому, как Он замыслил обустроить вашу жизнь. Из‑за этого разъедаете себя, мечетесь в разные стороны. У вас свобода воли. А Он — джентльмен. Никого не насилует. Насильно мил не будешь, знаете ли… На самом деле все у вас не так уж плохо. Я был бы счастлив, если б у меня был такой ребёнок.
Почти в самом конце бульвара, за которым видна играющая огнями площадь, Ирина останавливает машину у кромки тротуара.
— Женя становится своенравной, неуправляемой. Диктует свои правила поведения… Вы сами видели. Зачем вы ей отдали духи? А может быть, отвести её к психиатру?
— Ирочка, почему мы здесь остановились?
— Там за углом пляс Пигаль. С вашего разрешения, подожду в машине. Меня немножко знобит. Посмотрите. Получите шок на всю жизнь.
И вдруг я вижу что‑то, что уже ввергает меня в состояние шока, детского восторга, когда замираешь от созерцания чуда.
Пересекая ночной бульвар, в нашу сторону шагает человек в высоких сапогах, ведущий под уздцы огромного белого коня, покрытого красной попоной.
Копыта царственно величественного животного цокают по брусчатке мостовой. Видение медленно проплывает мимо нашей машины к тротуару. Человек отворяет дверь подъезда. Оба скрываются за ней.
— Сон, сказка, как у Марка Шагала, — говорит Ирина. — Жалко, не видела Женечка… Кстати, скажите, как вам удалось догадаться, о чём я думала?
Но я уже покидаю машину. Подхожу к обычному на вид подъезду. Движимый стремлением разгадать загадку, толкаю тяжёлую дверь и вижу сквозной проход в тускло освещённый двор, где свалены какие‑то декорации.
Потом, глянув на смутный силуэт Ирины за стеклом «Ситроена», направляюсь к площади.
На углу витрина секс–шопа, где в огромных количествах и разнообразии выставлены кем‑то с дьявольской изобретательностью придуманные и воплощённые изделия, которые не столько прикрывают женское тело, сколько привлекают внимание к самым интимным его частям.
Стоят хлысты для садистов и мазохистов. Висит металлическая кольчуга–купальник — вроде женщина одета, и при этом совершенно голая…
Рядом со мной из темноты возникает группа совсем молодых парней. Судя по говору — арабы. Деловито рассматривают витрину, обсуждают каждую вещь, жестикулируют.
Ухожу.
Тот, кто с юности не испытал подлинной любви к девушке, женщине, кто познал лишь плотское, физическое сближение — никогда не станет полноценным человеком. Может быть, в этом глубинная причина наркомании, немотивированных убийств.
…Пляс Пигаль круглая, небольшая. Посередине бьёт фонтан. В темноте неба светится название знаменитого варьете «Фоли–Бержер». Теперь я понимаю, белый конь под красной попоной выступает здесь. Судя по цветным фотографиям у входа, в представлении участвует и громадный крокодил, вокруг которого танцуют канкан практически голые красотки в пышных головных уборах из перьев.
Бедный белый конь, бедный крокодил! За что им выпала такая участь — влачить жизнь среди людской похоти?
Обхожу кругом площадь. Зазывалы в потёртых кожаных пиджаках всячески стараются привлечь внимание к их заведениям, прямо таки тащат к дверям. Вырываюсь.
В сердцах выкрикиваю по–русски:
— Пошли вон!
Один из них, пожилой, лысый, таращит глаза.
— Русский? А ну заходи! Получишь удовольствие. Если не ты вы…, то тебя вы…
Хохочет.
Трудно себе представить, что у каждого из этих людей когда‑то была мама, пела им колыбельные песни. Наверняка многие крещены.
Ухожу с площади к бульвару, где за углом ждёт в машине Ирина. Навстречу медленно движется женщина в распахнутом серебристом плаще, узкой мини–юбке. Приостанавливается. Вопросительно заглядывает в глаза. Не знаю, что она прочла в них, а я в её глазах, раскрашенном лице с набрякшими губами успеваю заметить отчётливую печать несчастья.
Вновь начинает накрапывать дождик.
— Ну как? — спрашивает Ирина, открывая мне дверцу машины.
Не хочется отвечать, говорить о чём бы то ни было.
Молча едем по ночному, сверкающему в дожде Парижу. Из темноты вырываются подсвеченные Пале–Рояль, Лувр, какое‑то здание, возле которого толпятся люди, рассаживаются в автомобили.
— Отель «Риц», — комментирует Ирина. — Самый дорогой в Париже. Только что кончился приём.
И опять ярчайший пунктир фонарей на Енисейских полях, освещённая Триумфальная арка.
Когда мы въезжаем на Буа де Булонь, Ирина с трудом находит место парковки. Своего подземного гаража, как у многих, у неё нет.
Идем к дому. Ирина показывает на противоположную сторону улицы, где за раскрытым настежь окном первого этажа виден силуэт человека, склонившегося над конторкой.
— Удивительно! Круглый год, зимой тоже, окно открыто. Сидит, что- то пишет. Всегда один.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Кто его знает, что там происходит? Маленькая, но семья, как говорил Маяковский. Беготня, плеск воды в ванной. Что‑то со звоном кокнулось на кухне. Слышен нервный голос Ирины, подгоняющей Женю.
Обычные сборы в школу. Как в Москве. Как везде.
Лежу, запрокинув руки за голову. Сквозь жалюзи пробиваются полоски солнечного света.
Понедельник. Мой последний день в Париже. Чудесно, что нет дождя.
Думал с утра добраться наконец до подземного супермаркета, купить подарок для девочки. Однако, вчера, когда вернулись, Ирина сказала, что с утра должна мчаться в консерваторию, где она раз в неделю даёт уроки студентам, попросила первую половину дня побыть дома, к часу встретить Женю из школы, привести, накормить обедом. А к двум она вернётся, отпустит меня до пяти.
В пять придут Анастасия, её мама, отец — все, кого я лечил в первый день, устроить мне проводы.
Ирина нарисовала в моей записной книжке схему, чтобы я понял, где находится школа, дала запасные ключи. А потом проговорилась, что приедет и старая перечница Одилия — попросила вылечить её от мигрени.
… Мигрень так мигрень. С удовольствием побуду за хозяина, с удовольствием соглашаюсь на все просьбы. За эти дни я пресытился Парижем.
Дождавшись, пока за Ириной и Женей захлопнется дверь, щёлкнут замки, встаю, неспешно принимаю душ, бреюсь.
Перехожу в кухню, где царит хаос — со стола не убрано, в раковине гора грязной посуды, на полу осколки блюдца.
Прежде чем начать убираться, наливаю себе в чашку кофе, делаю бутерброд с мягким сыром, переношу все это через гостиную во дворик.
Брошенная скакалка, в луже лежит все тот же мяч с изображением материков.
Ну, скажи, пожалуйста, посоветуй, что ей купить, этой девчонке?
В куклы она, как я понимаю, уже не играет, что‑что, а одёжка у неё есть. Красок, фломастеров, тетрадок и альбомов — полно. Вот ведь проблема.
Необычная девочка. Мать этого не понимает, как всякий суетный человек. Каждый раз ужасается, когда видит её нестандартную реакцию…
Конечно, когда ребёнок чутко чувствует любую фальшь, взрослому некомфортно. Как некомфортно обычному, грешному человеку под взглядом святого.
Надеваем на себя маски, заковываем себя в цепи и кандалы условностей. А Женька — вот она вся, без масок, без цепей. Свободная, как этот воробышек, наблюдающий с ветки куста за тем, как я доедаю бутерброд.
Только перехожу в гостиную, звонит телефон. Какая‑то женщина по–французски спрашивает Ирину. Отвечаю по–английски, что её нет дома. Та испуганно бросает трубку.
…Мытье посуды и подметание полов, признаться, не относится к числу моих самых любимых занятий. Дома, в Москве, приходится делать эту работу порой по нескольку раз в день. Удручает изначально запрограммированная в ней дурная бесконечность, вечное «продолжение следует». Посуда ежедневно норовит обратить человека в своего раба. Так же, как и веник с совком для мусора. Невозможно сделать эту работу однажды и навсегда.
Но это дома, у себя. А сейчас, здесь, я ловлю себя на том, что с удовольствием отмываю щёткой с жидким мылом бесчисленные тарелки, чашечки, ложечки, подметаю пол.
Потом нахожу пылесос, решаюсь, начиная с гостиной, вычистить всю квартиру, кроме крохотной спальни Ирины, где повсюду — на тахте, на спинке стула, на пуфике у трюмо, даже на полу валяется разбросанная впопыхах одежда.
Когда добираюсь до комнаты Жени, вижу то, что не заметил в прошлый раз: над кроватью на полочке с книжками, в самом уголке прислонена иконка. Христос.
Вот уже чего не ожидал я увидеть в этой квартире на улице Буа де Булонь.
Руки сами выключают гудящий пылесос. Опускаюсь на стул.
Смутно, тревожно на душе. Сижу, как потерянный. В голове мелькает калейдоскоп впечатлений парижских дней, всего путешествия.
Зачем я здесь? Навязался Ирине и Жене… Вообще, зачем все это — Елисейские поля, пляс де ля Конкорд, пляс Пигаль? Ну, отметился, ну, побывал. Теперь всю жизнь смогу говорить — «Когда я был в Париже…»
С трудом заставляю себя закончить уборку.
В двенадцать, провозившись с дверными ключами, раньше времени выхожу за Женей.
Аристократический райончик, тихий. Прохожих мало. Никаких негров или арабов. Никаких туристов. Сверкают промытые стекла витрин. Дама в больших чёрных очках прогуливает пуделька. В одной руке поводок, в другой — пакетик, совочек и метёлочка для сбора того, что пуделёк оставит… Оглядываюсь. Дама почему‑то оглядывается тоже. Да это Мирей Матье. Когда‑то была популярна во всём мире. Помню прекрасную песню — «Да, я хочу быть счастливой». Постарела. Как говорится, сошла со сцены. Что у неё осталось — собачка, совочек?
Что осталось у меня? Написанные мной книги? Отрезано, ушло, как уходят от родителей выросшие дети. Так что же осталось?
Ирина толково нарисовала схему. Через десять минут я подхожу к школе. С удивлением вижу Женю. Бежит навстречу в красной курточке, клетчатой юбке. За спиной ранец. Мелькают гольфы, на этот раз синие.
— Ты почему не в школе?
— Учительница заболела. Отпустили.
— А где другие из вашего класса?
— Сами пошли домой. Им разрешают!
— Что ж, пойдём и мы. Обедать хочешь?
— Вообще‑то после уроков я гуляю в Булонском лесу.
— Где это?
— Близко. Пойдем?! — Она берет меня за руку, через несколько кварталов выводит то ли к каналу, то ли к тихому рукаву Сены, где у берега стоят на приколе снежно–белые, отплававшие свой век суда, превращённые в увитые диким виноградом жилища.
— Видишь на том берегу лес? Это Булонский лес. Ты грустный?
— Нисколько.
— Нет. Грустный.
— Женечка, откуда у тебя с комнате икона Христа?
— Подарок. Моя бабушка мне подарила. Когда мы были в Москве, и мама ходила к тебе лечиться, бабушка отвела меня в церковь, и там меня покрестили. Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
— Бабушка умерла?
— Да. Конечно. Все старые люди умирают. Между прочим, как ты думаешь, я тоже умру?
— А ты как сама думаешь?
— Никогда! Знаешь, я по ночам летаю во сне. Часто. Бабушка говорила — это летает моя душа. И если я как будто умру — я полечу к Иисусу Христу, туда, где бабушка и все, кто его любит.
— Правильно, девочка. Ты все правильно поняла. Самое главное. Ничего не бойся!
— А ты боишься?
— Нет.
— Тогда почему ты грустный? Ты боишься. Я видела у тебя крестик. Ты тоже не умрёшь, да?
— Да.
Перейдя мостик, мы сразу попадаем в перелив света и теней Булонского леса. Кроны мощных, вековых каштанов и кленов уже тронуты октябрём. Доцветают на клумбах цветы. Собственно, это не лес, а великолепный, ухоженный парк.
Идем по аллее в сторону пруда, где у берега стоят несколько пустых скамеек. Сухенькая старушка в очках что‑то подбрасывает плавающим уткам.
Женя отпускает мою руку, стремглав бросается к ней. Старушка нагибается, целует девочку. Они о чём‑то говорят по–французски.
— Иди сюда! — Зовет Женя и представляет меня своей знакомой. — Это мой друг. Из Москвы! Хочешь покормить уток? Она тебе даст. У неё всегда есть булочка.
Мы кормим уток. И удивительное, ни с чем не сравнимое спокойствие охватывает меня.
Старушка прощается, уходит.
— Куда пойдём дальше? — Спрашиваю я Женю.
— Вообще‑то, я всегда делаю уроки вон на той скамейке.
— Прекрасно. Жаль, не захватил «Конику», я фотоаппарат купил. Снял бы на память, как ты тут делаешь уроки.
— Ничего. Дома снимешь.
Она сбрасывает ранец, садится на скамейку, достаёт пенал, тетрадку, учебник. Быстро начинает рисовать цветными фломастерами палочки, цифры, буквы французского алфавита. А я сижу рядом, смотрю на белые, многоярусные облака, проплывающие в синеве неба, на флотилию уток, тихо скользящую по поверхности пруда.
…Не уверен, что это моё путешествие можно назвать паломничеством, но все‑таки оно оказалось не таким уж пустым и бессмысленным. Сейчас, невидимый друг, я ощущаю твою близость, твоё присутствие, как никогда. Ведь ты больше, чем кто‑нибудь понимаешь, что значит встретить в этом жестоком мире родную душу. Я не придумал, как придумывают мечтатели или сочинители романов эту девочку. Эти божественные облака.
По ту сторону пруда из лесного массива выезжает кавалькада. Женщины в амазонках, с хлыстиками в руках медленно едут на породистых лошадях, следом — мужчины в жокейских шапочках с длинными козырьками. Словно ожившая картина эпохи импрессионистов.
Не могу сдержаться, в восхищении громко аплодирую им.
Женя хватает меня за руки.
— Это неприлично! Ты сошёл с ума. Знаешь, кто они? Графы, маркизы, князья.
Один из всадников срывает шапочку с головы, приветственно машет нам.
— Женечка, видишь, ничего страшного не случилось.
— Мама говорит: «Они живут своей жизнью, а мы своей».
Женя явно недовольна моим поведением. Собирает в ранец свои вещицы, и мы направляемся в обратный путь.
По дороге она вдруг сворачивает с аллеи на мокрую после вчерашнего дождя землю, что‑то ищет среди травы, поднимает, отбрасывает. Возвращается с двумя большими опавшими красно–зелёными листьями клёна.
— Я ещё девочка, и не могу тебе сделать богатый подарок. Вот, возьми. Будешь в Москве вспоминать, как ты и я гуляли у нас в Булонском лесу.
— Спасибо. Буду хранить. Всю жизнь.
— Подожди, лучше сама донесу до дома, попрошу у мамы конверт. Тогда они у тебя не помнутся.
…Едва приходим домой, смутное предчувствие каких‑то дурных событий заставляет меня сразу же зайти в свою комнату, взять фотокамеру.
— Женя, ты не умираешь от голода? Давай сначала пофотографируемся. Выйдем в ваш дворик, там светлее.
Она покорно даёт себя снимать. Не старается позировать…
Прыгающая через скакалку. Сидящая в шезлонге. Крупным планом лицо. Стоит у двери на пороге гостиной.
Закуриваю. Задумываюсь, как бы ещё её запечатлеть.
Женя внезапно подскакивает ко мне, вырывает из пальцев дымящуюся сигарету, плюхается в шезлонг.
— Снимай скорей! Хочу показать тебе, какой ты, — она пытается нахмурить брови, вставляет сигарету в угол рта. — Снимай!
— Женька, что ты делаешь? А если мама увидит?
— Не увидит. Ты же в Москве будешь проявлять, правда?
Снимаю.
— Куришь такую вонь! — она с отвращением возвращает сигарету. — Не кури.
— Ладно. Пошли обедать.
Открываю холодильник, набитый продуктами. С трудом выдираю оттуда кастрюльку с заранее приготовленным супом из шампиньонов, сковородку, где совсем по–российски находятся котлеты с макаронами, пластиковую бутылку апельсинового сока.
Оборачиваюсь. Стол уже накрыт. Каждому по две тарелки — глубокая и мелкая. Рядом на красивых бумажных салфетках аккуратно разложены ложки, вилки, ножи. Стоит на коленях на стуле, нарезает белый батон.
Разогреваю обед на плите.
— Садись! — Женя берет бутылку, разливает сок в фужеры.
Мы едва успеваем его выпить, как в квартиру врывается Ирина. Усталая. Со своей скрипкой в футляре.
— Дрянь! Думаешь, я не знаю, что ты выкинула?
Девочка что‑то отвечает по–французски.
Нет, пусть он узнает, кто ты есть! Пусть не обольщается. — «Ах, Женечка, Женечка!» Где вы её нашли? Мне позвонили из школы в консерваторию, говорят, ушла с последнего урока. Что это за новости?! Директор школы сам звонит домой — никого нет, дозванивается на работу, а я не знаю, где эта гадина!
Женя встаёт со стула, выходит.
— Пожалуйста, не ругайте её. Нехорошо оскорблять ребёнка. Особенно при посторонних.
— Вы не посторонний, — отвечает Ирина, садится, по щеке её ползёт слеза. — Слышите? Ей хоть бы что. Опять взялась за скакалку. Прыгает.
Ирочка, как я понимаю, это её единственное средство защиты… — Встаю, взглядываю на часы.
— Куда вы? Будем обедать.
— Спасибо. Расхотелось. Нужно напоследок съездить по одному делу. К пяти вернусь, я помню. Пожалуйста, не ругайте Женю. Простите, что вмешиваюсь. Наверное, и вы хоть раз убегали с уроков.
…На улице, сев в такси, привычно произношу:
— Де Фане. Супермаркет.
Сегодня меня везёт водитель–негр с удивительным, лиловым оттенком кожи. Спрашиваю, откуда он, из какой страны.
— Камерун, Африка, — добродушно отвечает он.
А я вспоминаю, как когда‑то Виктор Борисович Шкловский изображал мне, юному начинающему поэту, своего деда, немца–колонизатора, пел его гимн — «Нах Африка, нах Африка, нах Камерун!»…
Очень скоро таксист доставляет меня к подножию тесно стоящих небоскрёбов, в стеклянных стенах которых отражается небо, солнце, облака.
Выйдя из машины, я сразу ощущаю себя пигмеем на фоне этого неожиданного куска Нью–Йорка, нагло взгромоздившегося у парижской окраины.
…Эскалатор спускает меня под весь этот давящий комплекс вавилонских башен, и я попадаю в мельтешение гигантского подземного торжища.
Китайские чайники, французская косметика, восточные ковры, американские джинсы, постельное белье из Пакистана… Встречные водовороты покупателей сразу закруживают, несут невесть куда. Почти нет туристов. Одни французы. Скромно одеты. Видимо, из окрестностей, может быть даже из провинции.
…Шляпы всех цветов и фасонов. Чайные сервизы. Парад тефлоновых сковородок. Женское нижнее белье. Телевизоры.
Все вперемежку. Хаос. Не могу уловить логики расположения секций. Повсюду звучат звоночки кассовых аппаратов. Здесь действительно покупают, а не глазеют на шикарные и, как правило, бесполезные фитюльки в салонах–магазинах центра. Ходят семьями, волочат за собой высокие сумки на колёсиках, набивают рюкзаки коробками обуви, пакетами с одеждой.
Прорываюсь все дальше. Ищу детский отдел. Спрашиваю у одной из кассирш, где здесь товары для детей? То ли не знают английского, то ли не хочет меня понимать.
Уже час носит меня в этих водоворотах. Устал. Я всегда теряю себя в толпе. Энергетика людских масс действует на меня отрицательно — начинает болеть голова, как, впрочем, и от микрофона, если приходится в него говорить. Сколько здесь людей? Наверное, тысячи. Броуновское, хаотическое движение–Мишка! Плюшевый. Поролоновые симпатичные поросята. Отдел мягкой игрушки. По соседству куклы. Большие, почти в рост ребёнка. Поменьше. Вездесущие «Барби», которым место, на мой взгляд, скорее в секс–шопе для импотентов. Настольные игры. Заводные машинки. Висят длинные сетки с мячами.
Все не то. Любая из этих игрушек будет для Жени просто оскорблением.
Проталкиваюсь к прилавку секции «Все для ученика». Тетради. Наборы фломастеров. Авторучки. Карандаши. Ластики. Коробки с пластилином.
Я в панике. Неужели так и уйду, ничего не купив для Жени?
Миную шумный отдел детской одежды и оказываюсь у киоска с кожгалантреей.
…Брючные ремни. Женские сумки. Бумажники, портмоне всех размеров. Кошельки.
Сумку ей рано. Может быть, купить кошелёк? Конечно, дурацкая мысль — зачем кошелёк человеку, у которого явно не водятся деньги?
Л вон над головой продавщицы, на полочке, среди выставленных пакетов с перчатками большой кошель. Не кожаный. Из плотной, ворсистой ткани с радужными поперечными полосами.
Прошу продавщицу подать.
На шнурке ярлычок с ценой. Дорого. Но мне по зубам. На липучках. Пять или шесть отделений.
Покупаю.
На обратном пути через гудящие торговые залы замечаю секцию, где продают велосипеды. И подростковые тоже. Двухколесные. Сверкающие никелем. Вот что нужно было бы подарить Жене. Однако, цена такая, что я разворачиваюсь и ухожу. Оставшихся денег не хватило бы и на половину велосипеда.
…Еду в такси и чувствую, как ты посмеиваешься над моей глупостью. Ты прав. Глупейший подарок везу я девочке. Да и мать наверняка будет недовольна. Еще хорошо, что явлюсь без велосипеда. Тут уж Ирина и мне показала бы кузькину мать. Девочка, с её точки зрения, неуправляемая.
Когда я появляюсь со своим пакетом у Ирины, там уже накрывают стол в гостиной. Уже приехала Анастасия с отцом и матерью, их родственница.
Снимаю куртку, здороваюсь со всеми, спрашиваю:
— Где Женя?
— Сидит в своей комнате. Наказана, — отвечает Ирина, проходя мимо меня с подносом, уставленным рюмками.
— Можно к ней зайти?
Ирина смотрит на меня, на пакет, укоризненно качает головой.
— Ну, хорошо.
Стучу в дверь. Женя безучастно лежит на кровати, уставив взор в потолок.
— Извини, я на секунду. Вот, возьми. Это тебе.
Она с недоумением переводит взгляд на меня, будто на незнакомого. Кладу пакет на стол. Выхожу.
— А тут Этьен! — Весело сообщает из кухни Анастасия. — Он тоже захотел вас проводить. Потом повезёт на Ирининой машине до самого монастыря.
Этьен стоит у стола, склонив лобастую голову, откупоривает бутылки с вином. Анастасия тут же приготовляет салат в большой хрустальной вазе. Со стороны оба очень неплохо смотрятся.
Этьен откладывает штопор, подходит, обнимает меня своими ручищами, что‑то говорит.
— Жалеет, что вы уезжаете, не сможете быть на нашей свадьбе, — переводит Анастасия, и вдруг начинает жаловаться. — Он — балбес. Вот вы лечите людей. Маме и тёте стало гораздо легче. А вы не можете повлиять на Этьена? Кончил Сорбонну, пишет диссертацию о соответствии философии практике жизни самих философов. А в перерывах знаете чем занимается? Часами просиживает в греческой кофейне, играет бог знает с кем в шашки. На деньги!
— Ну и что? Человеку иногда нужна разрядка. Достоевский и в карты играл, проигрывался.
— Иногда! Но это происходит каждый день. Однажды пришёл с подбитым глазом. Почему — не говорит.
В кухню заглядывает Ирина.
— Только что звонила Одилия. Через полчаса притащится со своей скрипкой и головной болью.
— А скрипка‑то зачем? — спрашивает Анастасия.
— Хочет сыграть гостям, что она выучила за день. У неё же нет аудитории, кроме шести кошек, шофёра и знакомого юриста, которые должны слушать этот ужас. Не сердитесь, уделите ей внимание. Действительно страдает мигренями. Хорошо?
Не успеваю ответить, потому что, не взглянув на мать, в кухню входит Женя. Между её широко расставленными ладонями зажато штук двенадцать кошельков, в том числе и мой.
Она демонстративно сваливает их на стол возле откупоренных бутылок, приказывает мне:
— Садись!
Присаживаюсь совершенно убитый этим неожиданно обнаружившимся изобилием кошельков, кошелечков… Ирина, Этьен и Анастасия безмолвно стоят вокруг.
— Мама говорит — ты бедный, — скороговоркой сообщает Женя. — Она часто ездит на гастроли в разные страны и всегда отдаёт мне монеты, какие у неё остались. Видишь, в этом кошельке — немецкие, называются пфеннинги, в этом — называется гульдены, из Голландии, в этом — лиры, тут, смотри, песеты, красивые…
Она последовательно вытряхивает мелочь из всех кошельков, отдирает липучки с моего, пригоршней запихивает монеты во все его отделения. Кошель разбухает, как поросёнок.
— Вообще‑то, наверное, это немного. Но, может быть, тебе на первое время хватит.
— Женька, спасибо, — я стараюсь сдержать подступившие слезы. — Только, пожалуйста, забери все это назад. Во–первых, я вовсе не беден, раз оказался у вас во Франции. Во–вторых, в Москве другие деньги. Называются — рубль. Это там не годится. Разве ты не знала?
Девочка, поджав губы, секунду стоит в нерешительности. Затем хватает полосатый кошель, бросается вон.
— Она в вас влюбилась. Амур. — Констатирует Анастасия и целует своего Этьена.
Ирина же оторопело собирает со стола оставшиеся кошельки.
А я сижу, понурив голову.
Скажи, чем я мог вызвать такой порыв чисто детской души? Неужели действительно произвожу впечатление нищего?
Ирина подходит, трогает за плечо.
— Как вам удобнее, сначала посмотреть больных и потом ужинать, или наоборот? Все уже собрались в гостиной, все накрыто.
Поднимаю на неё глаза.
— И Одилия прибыла?
— Явилась. Пока Женя устраивала здесь спектакль.
— Хорошо. Проводите Одилию в комнату, где я ночевал. Потом по очереди остальных.
Может быть, сначала поужинаем? Вы где‑нибудь ели? Ведь вы не обедали, какой ужас!
Значит, Ирочка, вы считаете то, что произошло сейчас в этой кухне спектаклем? Капризом взбалмошной девочки?
Поднимаюсь, ухожу в свою комнату.
На столике у стены лежит большой, нестандартный конверт. Открываю его. Там два красно–зелёных листа.
За окном уже не облака, а тучи. Вот–вот грянет ливень.
В комнату заглядывает Ирина. Почему‑то улыбается.
— Одилия не хочет идти. Боится остаться наедине с незнакомым мужчиной…
— Что ж, идём в гостиную.
…При виде уставленного закусками и выпивкой стола, вокруг которого сидят гости, ощущаю приступ зверского голода.
Одилия — высокая, пожилая женщина с бледным лицом поднимается навстречу. Бежевое платье, подпоясанное золотистым металлическим поясом, в ушах сверкают бриллиантовые серьги, вокруг шеи широкий золотой обруч, видимо, чтоб прикрыть дряблую, морщинистую кожу.
— Ирина, Анастасия, кто‑нибудь переведите ей, пожалуйста — пусть снимет этот металл. Пояс тоже. Все, кроме серёг. У неё сейчас болит голова?
— Сильно, — отвечает Ирина. — Несмотря на таблетки.
«Господи, Иисус Христос, — молюсь я про себя, подходя вплотную к
пациентке. — Именем твоим прошу Отца нашего небесного, если можно, если будет воля Твоя, дай исцелить эту больную женщину.»
Жестом прошу Одилию приподнять согнутые в локтях руки. Берусь за локти, большим и указательным пальцами с силой нажимаю на точки, расположенные чуть выше суставов.
— О–ля–ля! — Одилия стонет от боли.
Продолжаю стискивать точки, пока у неё на щеках под слоем грима не появляется румянец.
— Все. Пусть сядет, отдышится. Спросите, сейчас болит голова?
Одилия трогает пальцами лоб, виски. Что‑то отвечает.
— Боль будто выключили, — переводит Ирина.
— Втолкуйте ей, чтоб больше никогда не носила ничего металлического, окольцовывающего тело. Особенно вокруг живота, где находится солнечное сплетение, и вокруг шеи, где щитовидка. Кто следующий?
Становится слышен шум налетевшего ливня.
…Мама Анастасии, всегда молчаливый отец с маленькими, внимательными глазами, их родственница все в той же накинутой на плечи серебристой шали. Поочередно занимаюсь ими. Выдохся уже только оттого, что чувствую себя, как фокусник перед ротозеями…
А тут ещё Ирина просит напоследок посмотреть её, продиагностировать.
Поворачиваюсь к ней, и лишь сейчас замечаю стоящую в дверях гостиной Женю.
Внезапная мысль поражает меня: зачем я стесняюсь, скрываю самое главное — свою молитву, своё прошение к Богу? Ведь если кто‑то и исцеляется, то только благодаря Его соизволению.
Осенив себя крестным знамением, говорю громко, решительно:
— Иисус Христос, Господь и друг наш, сохрани и помилуй эту девочку, её мать Ирину, этих людей! Дай мира этому доброму дому… Дай, чтоб все мы пришли к Тебе, пока живы
Звонит телефон. Женя кидается к трубке, срывает её, снова кладёт на рычаг.
Все продолжают взирать на меня, ждут. Только Анастасия смотрит, не скрывая иронии. От моей решимости нет и следа. Чувствую себя неловко. Стою, как в пустыне.
Телефон звонит снова. На этот раз к нему подходит Ирина. Почему- то подзывает меня, подаёт трубку.
— Это Валера Новицкий. Я освободился. Готов встретиться хоть теперь.
— Валера, где тебя носило? Через час–полтора уезжаю.
— А как же мои ноги?! — капризно взывает он. — Когда ты их полечишь?
— Не судьба, Валера, бросай курить. Вышло моё время в Париже. Кончилось.
Возвращаюсь к столу, сажусь рядом с Анастасией. Она поворачивается ко мне:
-…Сегодня шла из Академии к дому. У магазина «Тати» стоит молодой человек в измятых, грязных джинсах, ширинка, извиняюсь, расстёгнута, зато поверх ковбойки огромный православный крест, ужасный тик на пол лица, словно подмигивает. Приостановилась, не смогла удержаться. Спрашиваю: «Неужели вы из России?» Самодовольно кивает: «Ай эм пилигрим».
Все хохочут. А мне неприятна эта история. Поневоле вспоминаю о своих спутниках–паломниках…
— Ирочка, во сколько автобус прибудет к монастырю?
— Сказали — вечером.
Смотрю на часы — пять минут восьмого.
— Тогда мне пора, — поднимаю рюмку, чокаюсь со всеми, благодарю.
— Этьен, едем? Тем более, дождь. Сильный.
Тот внимательно смотрит на меня, пытаясь понять. Анастасия переводит. Затем вновь обращается ко мне:
— К чему так спешить, ещё ничего не ели, будет форель с картофелем. Еще Одилия будет играть нам на скрипке.
Услышав, что назвали её имя, Одилия что‑то говорит.
Теперь переводит Ирина:
— Она спрашивает — сколько должна за сеанс?
Смотрю на Одилию. Сидит без своих украшений. Светло улыбается, кивает мне головой.
— Храни вас Господь! — говорю я всем и встаю. Этьен встаёт тоже.
Прежде чем надеть куртку, захожу в комнату, забираю со стола конверт с кленовыми листьями, фотоаппарат, сбрасываю в пластиковый пакет накопившиеся вещи.
Выйдя за Этьеном из квартиры, оборачиваюсь и вижу — Ирина нежно пригнулась к Жене. Девочка отрешённо смотрит, как я ухожу из её жизни.
Этьен впереди, я — за ним, перебегаем под шумящим дождём на противоположную сторону улицы, где в тесном ряду других машин припаркован «Ситроен». Вот и распахнутое окно на первом этаже. При свете лампы с зелёным абажуром одинокий человек продолжает над чем‑то корпеть у конторки.
…Прощай, мой собрат, прощай, Буа де Булонь! Высокие фонари выхватывают из темноты косо летящие струи дождя. Дворники ёрзают по лобовому стеклу. Едем вдоль канала, вдоль Булонского леса, переезжаем мост через чёрную играющую отражениями огней Сену. Внезапно открывается вид на Париж, на иллюминированную Эйфелеву башню.
Вспоминаю, что так и не исполнил просьбу Ирины. Не продиагностировал её. Не попробовал полечить Валеру. Не встретился с Ясминой и Эммануэлем.
Этьен ведёт машину молча. Забывшись спрашиваю разрешения закурить. Спохватываюсь, повторяю фразу по–английски. Тот кивает. Мучительно путается в английских словах, пытается что‑то втолковать. С трудом улавливаю — он имел проблемы с этим языком, не любит его, плохо сдал экзамен. Спрашивает, знаю ли я немецкий? Услышав отрицательный ответ, огорчённо замолкает.
Мне нравится этот парень. Так хотелось расспросить о диссертации, узнать каков результат его изысканий, насколько соответствует образ жизни философов из собственной философии?
Сейчас для меня лично это, может быть, самый болезненный вопрос…
Въезжаем в тёмный, слабо освещённый городок. Ни машин. Ни прохожих. Мокрый сквер с памятником посередине. Витрина кафе, сквозь неё видны немногочиленные вечерние посетители.
Сворачиваем направо, налево. У ограды костёла Этьен притормаживает, выбегает под дождь. Пытается открыть калитку. Заперто. Все вокруг темно и глухо. Оказывается, он не знает, где находится монастырь, никогда здесь не был.
Возвращается, втискивает себя в машину. Едем дальше по мокрой брусчатке узких улиц.
Но вот наши фары освещают крадущуюся у глухой стены фигуру в клеёнчатом плаще, под зонтиком.
Нагоняем. Останавливаемся. Этьен снова выскакивает под дождь. Человек испуганно тычет узким лучом карманного фонарика в лицо Этьена. Потом, сложив зонт, влезает на заднее сиденье машины. Оглядываюсь, Средних лет, но уже угнетён жизнью. Похож на провинциального аптекаря или нотариуса из девятнадцатого века, из какого‑нибудь романа Бальзака. С другой стороны, что я знаю о нём, об этом случайном прохожем в забрызганных дождём очках? Легче всего наклеить этикетку…
Едем мимо бесконечно глухой стены, сворачиваем направо, ещё раз направо и оказываемся у высоких приоткрытых ворот монастыря.
Этьен глушит двигатель. Выходим. Наш провожатый поспешно раскрывает зонт, прощается, исчезает в искрящейся струями тьме.
— Это есть здесь, — говорит Этьен по–русски, показывая на ворота.
— Спасибо. Мерси, Этьен! — тянусь к нему обняться на прощание.
— Момент! — Он обходит «Ситроен», открывает багажник, достаёт оттуда большой коричневый чемодан и вручает его мне. — Ирина, Анастасия, Этьен, Одилия — на, для тебя.
Не даёт слова сказать. Уезжает.
Ошеломленный подарком, вхожу с довольно‑таки тяжёлым чемоданом и маленьким пластиковым пакетом в ворота.
Темно, что‑то вроде парка или сада. Дорожка ведёт направо к комплексу вытянувшихся в сплошную линию двух или трёхэтажных зданий. Окна не светятся. Стучу в одну дверь, в другую. Глухо.
Не видно и нашего московского автобуса. Ни одной машины. Ни одного человека. Монастырь ли это? Туда ли меня завезли?
Различаю слева за деревьями ещё один дом. Направляюсь к нему.
…Старинный. Чуть вычурный. Сужающиеся кверху четыре этажа. Такие дома любил рисовать Ван Гог. Тоже не светится ни одно окно. Впрочем, снизу, из окон полуподвала бьёт свет. Вот и дверь.
Стучу. Никто не открывает. Толкаю её. Со скрипом отворяется.
Ярко освещённая короткая лестница вниз. Спускаюсь в коридор. Он ведёт меня мимо сверкающей надраенными кастрюлями и плитами кухни. Впереди раскрытая дверь в большое, сводчатое помещение, где за длинным столом сидят какие‑то люди. Один из них поднимается, спешит навстречу.
— Здравствуйте! Так вот вы каков! — говорит по–русски, почти без акцента. — Я вас давно жду. Меня называют Бернар.
Глядит, чуть склонив голову набок, с любопытством.
Опускаю чемодан на каменный пол и протягиваю руку старику. Со шкиперской бородкой…
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
При ближайшем рассмотрении выглядит он очень плохо. Худой. Желтоватые белки удивительно голубых, невыцветших глаз. Желтая, дряблая кожа лица, рук.
Часа три назад во время вечерней трапезы с пятью или шестью пожилыми монахами, также как и он, одетыми в обычные костюмы, я негромко спросил: «У вас случайно не желтуха, не гепатит?».
Он как раз отрезал и давал мне пробовать с ножа разнообразнейшие французские сыры, принесённые им на деревянной доске из кладовой при кухне.
— Не бойтесь инфицироваться, — ответил он со слабой улыбкой. —Это другое.
Сыры оказались потрясающе вкусны.
Он приволок и несколько запылённых бутылок, судя по этикеткам, монастырских вин из южной Франции. Несомненно, очень выдержанных, дорогих.
Отец Бернар наливал мне понемногу то в один чистый стакан, то в другой. Дегустируя эти пахнущие солнцем и виноградом вина, я испытывал двойную неловкость: и оттого, что, не успев появиться в монастыре, предаюсь винопитию, и оттого, что сам отец Бернар не выпил ни глотка, ничего не ел.
«Мы уже потрапезничали,» — ответил он на мой незаданный вопрос.
Один из монахов принёс мне большое блюдо с картошкой–фри и целиком запечённой форелью, обложенной листьями салата и помидорами.
«Странным образом форель, которую я не съел у Ирины, все‑таки нагнала меня, перелетела на этот стол» — подумал я.
Словно находясь в волшебной сказке, во сне, принялся я за еду, время от времени бросая извиняющиеся взгляды на человека из моих снов, на остальных монахов, которые, как и отец Бернар, сидящий напротив, тотчас начинали кивать мне, мол, не стесняйся, ешь с удовольствием.
То ли под влиянием выпитого вина, то ли от чего‑то другого, я почувствовал себя обязанным сообщить присутствующим, что являюсь плохим человеком: убежал из экуменического центра в Париж, почему и нахожусь сейчас здесь, жду автобуса с нашими паломниками.
И опять они закивали. И я с удивлением отметил — все понимают по–русски. А отец Бернар спокойно произнёс: «Мы знаем. Не надо волноваться. Автобус будет скоро. Сломалось колесо. Нам звонили с пути. Что вы предпочитаете, чай или кофе?»
Я попросил кофе. Мне принесли тяжёлую белую чашку крепчайшего, ароматного кофе — «эспрессо», отчего я сейчас и не могу уснуть в своей «келье».
Ты можешь себе представить, как мне хотелось кое о чём спросить этого старого человека с короткой шкиперской бородкой… Но тут находились другие люди, в высшей степени доброжелательные, милейшие. Но — другие. И я ограничился несколько иным наводящим вопросом: «Такое впечатление, будто вы что‑то знаете обо мне, откуда?»
Я вполне допускал, что за время моего отсутствия сюда из экуменического центра могли позвонить, тот же отец Василий. Пригрозил же он зачислить меня в какой‑то «чёрный список».
И поэтому ты, который знаешь меня лучше, чем кто‑либо на свете, можешь понять, как я был польщён, когда отец Бернар спокойно объяснил: «Тому год или полтора один славист купил ваши книги в русском магазине в Париже, прочитал их и примчался ко мне, чтобы узнать — «Это фантазии, выдумка, или, может быть, правда?». Потом мы тоже прочитали.»
Отец Бернар хотел сказать что‑то ещё, но как раз в этот момент на пороге трапезной возникла раскрасневшаяся пожилая матрона в белом чепце и фартуке. Я успел подумать, что она явилась с сообщением о прибытии нашего автобуса. «Ля гер (война), — закричала она по–французски, и ещё я разобрал из её вопля только одно слово: «Москва».
Все монахи встали со своих мест и замерли, глядя на меня. Отец Бернар тоже поднялся. «Кухарка Марта говорит — у вас в России гражданская война. В телевизоре много убитых, стреляют танки, — он изменился в лице, приложил руку к животу, — будем глядеть, что происходит?»
Как приговорённый, как преступник направился я вместе со всеми на кухню, где над одним из буфетов с посудой светился экран телевизора.
Первое, что мы увидели — разъярённую толпу, штурмующую телецентр Останкино, мельтешение милиционеров со щитами, солдат с автоматами, бегущими среди танков и грузовиков, морг, набитый окровавленными трупами.
Я перевёл взгляд на монахов. Они больше не смотрели на экран. Стояли и молились. Беззвучно, про себя.
Я не мог ни молиться, ни перестать смотреть телевизор.
…Горело сахарно–рафинадное здание — так называемый российский «Белый дом».
«Нельзя! Не надо было мне уезжать из Москвы! Не уехал бы — не было б убитых, свиста и взрывов снарядов, пробивающих белые стены…»
Ты скажешь, слишком многое на себя беру. Скажешь, на все воля Божья, не моя.
Да, так. Понимаю, тебе мои переживания кажутся манией, болезненной манией, недостойной христианина. Но почему я всегда чувствую себя виноватым?
По телевизору продолжали показывать то, что киношники называют «бобслей», то есть склеенные вперемешку короткие куски хроники, и по чередованию дней и ночей этого кровавого маразма я вдруг понял, что события в Москве начались не сейчас, не сегодня.
Я обернулся к отцу Бернару, чтобы попросить его перевести, о чём говорит телекомментатор. На лестнице послышался топот, и в кухню вошли сначала Игорь, за ним — отец Василий.
На меня они даже не взглянули.
— Прибыли, слава Богу! — сказал отец Бернар в то время как наш священник троекратно его лобызал. — Вы уже знаете, что в Москве?
— Слышали, — ответил отец Василий, осеняя себя крестным знамением. — Все волнуемся. Возможно ли от вас позвонить домой? Беспокоюсь о семье.
— Телефон висит в коридоре. Скажите своим, через десять минут будет ужин на столах, — отец Бернар обратился ко мне. — Идемте, покажу вашу келью.
Монахи и Марта начали со звоном и грохотом вытаскивать из буфета тарелки, чашки и стаканы для вина, а я, сопровождаемый отцом Берна- ром, поднялся по лестнице со своим чемоданом и пакетом, вышел наружу во мрак и сырость дождливой ночи.
Зная меня, мою проклятую склонность всех осуждать, ты, наверное, не поверишь, что, когда мы с отцом Бернаром пересекли часть промокшего парка и подходили к остановившемуся у длинного здания автобусу, и я увидел под узким навесом Тонечку, Олю, Акын О'кеича, Георгия, Нину Алексеевну, Вадима, я понял, что соскучился, что люблю их всех. Даже Игоря, который шёл за нами и ещё издали кричал: «Паломничающие! Забирайте необходимые шмотки и бегом вон в тот домишко, в подвал. Будет ужин!»
Но никто не двинулся с места.
— Привет! — поздоровался я со всеми сразу. Они молча смотрели на меня, на то, как я иду между ними и автобусом со своими вещами. Чемодан в эту минуту показался мне огромным, роскошным и постыдным, мерзкой уликой, как какая‑нибудь вещь, купленная в секс–шопе близ пляс Пигаль…
И только Катя, Катенька выскочила из «икаруса», подала мою сумку, быстро сказала: «У нас неприятности.»
— Какие? — спросил я, думая, что она имеет в виду события в Москве. Тем более, что, пока отец Бернар отпирал входную дверь, ко мне, оттеснив Катю, подскочила Нина Алексеевна, прошептала с надеждой: «Вы не знаете, может быть нас теперь оставят во Франции как политических беженцев?»
Я глянул в её взволнованное лицо, пожал плечами и вошёл в дом.
Отец Бернар включил свет. Я поднялся за ним по деревянной лестнице на второй этаж. Потом по узкому, извилистому коридору, куда справа и слева выходило множество дверей, мы подошли к последней. Он отпер её.
Это оказалась неожиданно большая белёная комната со столом–секретером у одной стены, полуторной кроватью — у противоположной, двумя стульями, креслом, стенным шкафом и рукомойником в углу. Над столом висело распятие.
— Надеюсь, вам будет удобно, — сказал отец Бернар, вручая мне ключ. — Утром после молитвы и завтрака все поедут на встречу с Парижем, и у нас будет время задать друг другу вопросы.»
…Давно стихла беготня, топанье ног в коридоре. Все разместились, спят. Только дождь за чернотой окна продолжает стучать по карнизу.
У меня тоже неприятность, чтобы не сказать хуже: в сумке не оказалось пистолета.
Перерыл её несколько раз. Соломенный подстаканник, две запасные рубашки на месте, так и не распечатанный блок сигарет «Мальборо», свитер, три пары чистых носков, носовые платки — на месте. Пакет с бритвенными принадлежностями, зубной щёткой, пастой и мыльницей на месте — в затянутом «молнией» боковом отделении. На самом дне обнаружил завёрнутый в бумажную салфетку засохший, ещё московский, бутерброд с сыром и двадцатикопеечную монету чеканки 1982 года.
Пистолета нет.
Так я и знал, предчувствовал. Фриц, надо надеяться, теперь благополучно живёт–поживает и думать не думает о своей ужасной затее. А я влип.
Эту штуку с перламутровой рукояткой, безусловно, взял Игорь. Не Катя. Именно он. Вернулся в номер гостиницы после коллективной медитации–молитвы, увидел на полу возле тумбочки сумку. Соблазнился. Про- шуровал ее… Потом отдал Кате.
А если не он? Какой он ни есть, вроде, христианин. С крестом на груди. Правая рука отца Василия. Вполне мог взять кто‑нибудь из обслуги — уборщица, горничная… Но тогда чего я переживаю? Пистолет просто спёрли, он исчез навсегда как бы сам по себе.
Чтобы отвлечься от безысходных, противных мыслей, отмыкаю золочёным ключиком, подвешенным к широкой ручке, оба замка чемодана.
Ну и ну… Вот какое впечатление произвёл я на Иру и её друзей! Недаром она сочла нужным сообщить Женечке, что я бедный. Ужасно!
Две запечатанные в целлофан новые рубахи — голубая и синяя. Галстук с затейливой монограммой — наверняка презент от Одилии. Домашняя зелёная куртка, пакет с тремя кусками мыла «Камей», баллоном пены для бритья, тюбиком зубной пасты; набор авторучек, записные книжки, блокноты, толстая пачка нарядных столовых салфеток. Большая банка растворимого кофе. И даже здоровенный коробок французских спичек.
Представляю, как буду зажигать этими спичками газовую горелку у себя на кухне. Если будет газ. Если гражданская война на отправит всю жизнь в тартарары, как это произошло в Нагорном Карабахе…
Перекладываю в чемодан содержимое пластикового пакета — конверт с Женечкиными кленовыми листьями, фотоаппарат, где на плёнке запечатлена она, ещё непроявленная бритвенные принадлежности, подаренные Борисом,.
Так странно. Ничего не собирался покупать, ничего ни у кого не просил — уезжаю весь в подарках. Да ещё на мне рубаха Кристо Хесуса…
Стою у стола против распятия, благодарю Бога. Не за барахло, конечно. За людей.
…Без четверти три. Гашу свет. Ложусь. Дождь, видимо, кончился. Уже не стучит по карнизу.
Соломенный подстаканник, Ясмина, старик со шкиперской бородкой, оказавшийся отцом Бернаром. Пусть никто не поверит, что я заранее все это видел во снах. Но я‑то, я чувствую, что мне даны были знаки на пути. Что означает фраза отца Бернара: «Завтра у нас будет время задать друг другу вопросы?»
Я‑то знаю, о чём хочу спросить. А у него, у отца Бернара, какие ко мне вопросы, почему? А если он каким‑то образом узнал про пистолет? С другой стороны, так подозрительных типов не принимают. Принял как блудного сына. Как отец родной.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Маленькая церковь, пристроенная к концу того сумрачного, длинного здания, где я ночевал, не вмещает всех молящихся. Кроме монахов и наших паломников, там находятся несколько местных горожан и специально приехавшие из Парижа старые русские чуть ли не из первой волны эмиграции.
Хотя Игорь бегал по коридорам, колотил во все двери, кричал — «Паломничающие, подъем! На молитву! Чем раньше помолитесь, тем больше будет времени на Париж!», я еле заставил себя встать.
Брился, умывался. Распечатывал и надевал новую Ирину рубашку. В результате подошёл к церкви одним из последних. Места мне внутри храма уже не нашлось.
Теснюсь на крыльце, прислонясь к перилам. Рядом со мной осунувшаяся, видимо, смертельно уставшая за эту поездку Зинаида Николаевна. Такое впечатление, что мальчишеская чёлочка её ещё больше поседела. Шепотом спрашиваю:
— Где Светлана?
— Там. Впереди, — отрывисто отвечает она.
Очень старая, осанистая женщина с ниткой жемчуга на шее отрешённо стоит сбоку. То ли молится про себя, то ли вслушивается в доносящиеся из раскрытых дверей храма молитвы.
Службу по православному обряду ведёт отец Василий. С моего места иногда видно, как он степенно размахивает кадилом. Даже сюда, наружу, доносится неповторимый, умиротворяющий запах ладана. Слышно, как Миша, Лена и Катя поют на клиросе.
По передвижению людей впереди догадываюсь — идёт исповедь. И начинаю пробиваться внутрь.
Признаюсь тебе: в возможности исповеди и причастия есть, кроме того, что мы знаем разумом об этих таинствах, ещё и осуществление идущей из глубины сердца детской потребности прижаться, прильнуть к матери, к тому, кто обогреет, обережёт, защитит от всех бед мира. Это и есть для меня мать–Церковь.
Вот об этом‑то, дождавшись своей очереди, я и говорю отцу Бернару.
В чёрном монашеском одеянии, он кажется сегодня менее болезненным, высоким и стройным. Его голубые, пронзительные глаза смотрят в самую душу.
— Может быть, такое понимание Церкви — индивидуализм? — спрашиваю я и добавляю. — Хочу чувствовать себя клеточкой тела Христова. Буду честен — перед вами — меня часто ужасают люди, называющие себя христианами. Даже некоторые священники. Многих, кто сейчас убивает друг друга в Москве, возможно, благословили их пастыри… Как мне не осуждать их? Именно потому, что я не прикидываюсь святошей, мне особенно больно ловить себя на том, что постоянно вступаю в противоречие с заповедью Христа — любить ближнего. Это мой грех, беда. Отец Бернар, не могу от неё избавиться. Барахтаюсь. Гибну. На днях молился в Нотр–Даме, испытал чувство богооставленности, сокрушающего душу одиночества. Единственное утешение — когда пишу книгу или просто остаюсь один, мысленно говорю с кем‑то, кто всегда рядом. Поверьте, мне не кажется…
— Вы еврей? — неожиданно спрашивает отец Бернар. — Ведь вы еврей, ставший христианином? Ведь это так?
— Да. Хочу стать учеником Христа. Не получается.
— Получится. Почему вы боитесь взять свой крест? Любовь к другим, какой вы так жаждете — дар Божий. Не от вас рождается. Этот дар способен получить, кто взял крест. Что ваш крест — ваши спутники в автобусе, антисемитизм? Может быть, вы всё время отталкиваете крест, вместо того, чтобы принять? Вы сказали — «клеточка». Но она не может жить без организма. Ведь так? Все мы, христиане, один организм, тело Христа на земле. Его Церковь. А вы ещё и еврей, принявший Христа… В вас исполнение Божьего обетования. — Он протягивает руки, надавливает мне на плечи, и я опускаюсь на колени.
Что‑то произносит по–латыни, затем бережно поднимает меня с каменного пола, целует в лоб.
Кланяюсь, отступаю. Мое место перед отцом Бернаром занимает Оля.
Снова оказываюсь на крыльце, освещённом жидким октябрьским солнышком.
Старая женщина с жемчугами на шее понимающе улыбается, говорит:
— Отец Бернар тонкий психолог, хорошо исповедует.
Не понимает она, что такое отец Бернар! Несчастная, не понимает.
…Во мне что‑то сдвинулось, как, наверное, сдвигаются пласты земной коры после землетрясения. Такое состояние, будто назвали то, что я уже знал, но не осознавал.
Возвращается на крыльцо и Зинаида Николаевна, на этот раз со своей Светланой. Обе отчуждённые, словно поссорились. В коровьих глазах дочери стоят слезы.
Что‑то заставляет меня погладить её по голове. Мать, сжав тонкие губы, сердито отворачивается. Богослужение идёт к концу. Снова ввинчиваюсь внутрь храма.
Причащает отец Василий. Ему ассистирует Игорь.
…Видишь: вот ведь как я устроен! Только что был преисполнен смирения, готовности взять свой крест. Казалось, все ясно, никогда никого не осужу… И — как нож в сердце — придётся принимать причастие не из
рук отца Бернара, да ещё при участии этого бизнесмена–клипмейкера с серьгой в ухе.
— Господи Боже, прости и помилуй меня, закоренелого грешника, — шепчу я, складывая руки на груди, и вслед за Олей, Георгием, Надей подхожу к чаше.
Отец Василий поднимает взгляд, смотрит на меня с явным сомнением, очень странно смотрит. Строго спрашивает:
— Исповедались? Вам отпустили грехи?
На моём лбу ещё горит поцелуй отца Бернара. Склоняю голову.
Отец Василий причащает меня. Игорь подносит к моим губам красную тряпочку, сильным движением проводит по ним. Целую чашу.
Сворачиваю налево к столику, где из рук просиявшей навстречу Кати принимаю стаканчик с «теплотой».
Начинается проповедь. Отец Василий воздаёт благодарность Богу, французскому государству, этому монастырю, его гостеприимным хозяевам, лично отцу Бернару.
Густо пересыпая свою речь цитатами из Евангелия, он говорит о том, что для Христа нет ни эллина, ни русского, ни француза, есть христиане, подающие, несмотря на различия в вере, пример братства всем язычникам.
— В эти тревожные для России часы и дни молимся о том, чтобы Бог ниспослал нашей родине, русскому народу, нашим властям прекращение братоубийства, мир и спокойствие, экономическое возрождение…
По окончании долгой проповеди я выхожу на крыльцо.
— Скорее в трапезную! — Подгоняет всех Игорь. — Автобус в Париж не пойдёт, ему там нельзя останавливаться. Все едут на электричке. Кто не хочет — остаются здесь. Могут посвятить своё время общению с монахами, молитвам. Вечером в двадцать один час собрание перед завтрашним отъездом в Москву.
Судя по тому, как все ринулись наискосок через парк к трапезной, понимаю — не останется ни одного человека. Как говорится, Париж стоит мессы… Что ж, я не лучше других. Зато теперь — вот ведь как устроилось! — нет этого соблазна. До вечера, до девяти часов у меня море времени. Смогу, наконец, свободно поговорить с отцом Бернаром…
Вот он поспешает в своей длинной сутане к подвалу, наверняка хочет лично проследить, чтобы паломники были как следует накормлены завтраком.
— Вы курите? — спрашивает старая дама, сойдя с крыльца и вынимая из кармана чёрной, расшитой весёлыми цветочками вязаной кофты серебряный портсигар. — Это очень хорошие египетские папиросы, угощайтесь.
Положим, это не папиросы, а сигареты в коричневой обёртке. Закуриваю. Благодарю.
— Если вы не боитесь пропустить свой завтрак, может быть, проводите меня на станцию? — Спрашивает она, тоже закуривая. — Ведь вы совсем недавно из Москвы?
— Меньше двух недель.
— А я из Москвы уже семьдесят семь лет… Меня зовут Ольга Владимировна. Я — княгиня (она называет фамилию, известнейшую в истории России). Знаете ли, смертельно надоела среда эмигрантов. А те ваши новые русские, кто сейчас попадает в Париж, я бы сказала — шакалы. Не львы, даже не волки. Шакалы. С ними невозможно, неинтересно говорить. Мне показалось, у вас умное лицо и вы искренне верующий человек. Как это может быть? Я вам позавидовала.
Мы идём по опавшим листьям, по мокрым плитам дорожки к выходу из монастырских ворот. Княгиня показывает направо, на семейство старинных, раскидистых вязов в углу парка.
— Тут, под этими деревьями, будет место моей могилы. Не хочу и после смерти быть среди эмигрантов на русском кладбище в Париже.
— Ольга Владимировна, мне показалось, вы не боитесь смерти?
— Нет, — со светлой улыбкой отвечает она. — Я боюсь жизни. Я устала от своей пустой жизни. Часто приезжаю сюда, к отцу Бернару, сама не знаю зачем.
— На исповедь? Но сегодня вы по–моему не исповедовались?
—А в чём исповедоваться? Я живу настолько пустой жизнью, даже грехов нет. И, скажу вам правду, никогда не было. Большевики убили моих отца и маму. Мне был один год! Мой дядя — юнкер чудом вывез через Болгарию меня и весь архив моих предков в Париж, передал сюда, в монастырь, два пульмановских вагона документов. Поэтому здесь католики занимаются славянской историей и культурой. Потом сюда стекались другие архивы эмиграции.
— Так вот почему монахи знают русский!
— Ну, конечно!
— А дядя?
— Его убили чекисты в тридцать восьмом году. В Испании. От всей той жизни у меня осталась эта нитка жемчуга моей матери и дядин портсигар, они всегда со мной.
— Но откуда вы так хорошо знаете русский? Как я понял, всю жизнь прожили во Франции.
— Воспитывалась в русской семье. Когда шла война с Гитлером, была в маки, в Сопротивлении. С русской группой, с вашими пленными. Знала, зачем живу. — Она приостанавливается, снова закуривает. — Теперь не знаю.
Мы идём по узким, промытым вчерашним дождём улицам. Через каменные ограды свешиваются плети дикого винограда, пассифлоры.
— Тут тихо. Провинция, — говорит Ольга Владимировна. — Совсем как в романах Марселя Пруста. Хотя до Парижа только пятнадцать минут езды на поезде. Вот Эйфелева башня, видите?
Действительно, за волнистым океаном зелени, крыш и шпилей у черты горизонта можно различить знакомый чёрный силуэт.
А вот и широченное окно того кафе–бара, мимо которого вчера вечером вёз меня Этьен. Несмотря на прохладное утро, дверь его открыта настежь. Пожилая чета сидит у стойки, что‑то пьют, глядя на светящийся экран телевизора.
— Мы почти пришли, — говорит Ольга Владимировна. — Хотела спросить вас о Москве, как там на самом деле, и сама не знаю зачем, рассказала свою жизнь. Простите старуху.
— Ну что вы, княгиня! Я тоже порой мучаюсь одиночеством, теряю себя. Не могу, не имею никакого права вас агитировать, но поверьте на слово: Христос есть! Вот сейчас, невидимый, идёт вместе с нами. Представьте хоть на секунду, что не слепой случай поставил нас вместе на крыльце храма, свёл вас и меня… Христианин чувствует — его ведут, и тогда жизнь наполняется смыслом. Можете думать обо мне что угодно, что я сумасшедший, что я фанатик. Мы видимся в этой жизни последний раз. Ольга Владимировна, дорогая, пожалуйста, перечтите Евангелие, непредубеждённо, с открытым сердцем, и вы поймёте, о чём я хотел бы сказать, да сейчас, сгоряча, не сумею. Перечитаете?
Мы стоим у лестницы, ведущей вниз, к платформам железнодорожной станции.
— Перечитаю, — говорит Ольга Владимировна. — Попробую. Обещаю это не вам, а себе. Буду вас очень помнить.
На обратном пути спохватываюсь — почему не сказал, не поделился самым главным, что у меня есть, с Валерой Новицким?! Шлялись, болтали о чём угодно,..
Внезапно, как вспышка, как озарение — должен написать книгу. Бросить все другие дела, написать книгу. Для таких, как Валера. Для всех. Честную, правдивую. О том, как человек продирается сквозь атрибуты псевдохристианства, обрядоверие. К Христу. Как тщится открыть себя для Христа.
Вхожу в раскрытую дверь кафе–бара, сажусь за столик у окна.
Нужно привыкнуть к этим мыслям, обдумать их. Знобит от волнения, а голова пылает.
Откуда вспышка? Смогу ли я написать такую книгу?
Заказывая подскочившему лысому хозяину бара кофе, краем уха улавливаю, как пожилая чета, продолжающая кайфовать у стойки, оживлено обсуждает какие‑то события. Несомненно, говорят о России, о Москве.
Спрашиваю на своём ужасающем английском, что случилось, что нового? Бармен объясняет — только что по телевизору показали свежую хронику. Хасбулатов и Руцкой со своими сторонниками сдались. Белый дом горит. Победили Ельцин, демократия.
А мимо окна кафе в сторону железнодорожной станции по двое, по трое, поодиночке проносятся мои сограждане, мои попутчики. Все приоделись для встречи с Парижем. Даже Тонечка мчится в голубой, распахнутой курточке, в новых кроссовках, с разноцветным рюкзачком на спине. За ней — Миша с неизменной гитарой, Лена. В этот раз они почему- то без Кати.
Бегут, не замечая меня. Хотя мне и хочется выскочить наружу, обрадовать всех новостью из Москвы, боюсь расплескать себя, своё состояние.
Как в кинокадре, пробегает мимо окна Надя, на этот раз не в красных, а в небесно–голубых спортивных шароварах и куртке. Коля и Вахтанг в одинаковых новеньких джинсовых костюмах, похудевший за эту поездку Вадим. И, конечно же, рядом с ним Нина Алексеевна.
Вот уж кто не обрадовался бы новости из Москвы. Не быть ей политической беженкой, не остаться в Париже…
Их нагоняет Акын О'кеич с элегантной сумкой через плечо.
Все они, несомненно, должны стать персонажами будущей книги.
Расплачиваюсь, выхожу из кафе и сразу же, сворачивая за угол, сталкиваюсь лицом к лицу с троицей — отец Василий в белом костюме, в вышитой рубашке с отложным воротничком и об руку с Катей — Игорь. Они приостанавливаются с налёту. Замирают.
У меня нет никаких прав на Катю. Но почему так больно видеть эту чистую восемнадцатилетнюю девочку вместе с Игорем?
— Вы уже как бы были в Париже, — говорит он. — Не знаете, можно там арендовать машину на один день?
— Не в курсе, — отвечаю я, глядя на его волевой подбородок, галстук с золотыми звёздочками, на кожаную куртку, белые вельветовые брюки. — В Париже полно такси. Нет проблем.
Катя, одетая в прелестное розовое платье, пытается незаметно высвободить руку, но Игорь демонстративно прижимает её к себе.
— Нам пора! — напоминает отец Василий. — Счастливо оставаться.
— Счастливо! — сердечно отзываюсь я.
И ловлю себя на неискренности.
Навстречу по булыжнику пустынной мостовой движется брыластый, породистый старик с седыми усами, ведёт на поводке породистого бульдога. Похожи друг на друга.
Иду вдоль глухой стены монастыря, встречаю престарелого аристократа в тёплой бархатной куртке. Его тащит черно–белый мраморный дог.
Видимо, в городке наступил час собак. Богатые пенсионеры совершают утренний моцион. Непроницаемые, замкнутые.
Вспоминается открытая улыбка Кристо Хесуса. То, как он подарил мне, случайному попутчику в поезде, свою чудную рубашку…
Обходя лужи, приближаюсь к монастырю. Из ворот выходят Зинаида Николаевна и Светлана. Явная печать отверженности лежит на их сумрачных лицах.
— Что случилось, почему вы не уехали со всеми?
Зинаида Николаевна сердито отмахивается, хватает за руку дочь. Проходят мимо.
Оглядываюсь. Тащатся в Париж. Как приговорённые.
Листва вековых каштанов и вязов играет солнечными бликами. Монастырский парк совсем пуст. Даже наш автобус исчез, и это странно. Ведь все, водители тоже, уехали в Париж электричкой. Странно поведение Зинаиды Николаевны и Светланы. Может, потеряли деньги, или кто обидел?
Иду мимо закрытой церкви, мимо длинного дома. Не замечаю никаких признаков жизни. Дохожу до торца, вижу автомашину — белый «Пе- жо-205», пустой. Огибаю дом. Вот он, «икарус». Стоит на краю лужи, никуда не делся. А вон и один из монахов. Подрезает секатором отцветшие кусты роз.
Когда я подхожу, он кланяется мне, снимает брезентовые рукавицы.
— Вы не кушали! — уличает он меня на чистом русском языке. — Идемте в трапезную. Я тоже ещё не вкушал. Меня зовут отец Андре.
— А не скажете, где отец Бернар?
— У настоятеля доктора из Парижа. Он просил, чтобы вы непременно ждали его, хорошо?
— А что с отцом Бернаром? Гепатит?
— Нет–нет. Идет консилиум. А мы пока побудем в трапезной. Почему вы не завтракали?
Он оставляет у кустов секатор, рукавицы. Отряхивает седую бороду, сутану, и мы направляемся к старинному дому затейливой архитектуры.
— Видите ли, я познакомился тут с Ольгой Владимировной, княгиней. Провожал на станцию.
— О! Это наш давний друг! У неё в восемьдесят восьмом, вот уже пять лет назад погиб в подземном озере внук — спелеолог. Осталась одна, как перст.
— Вы француз? Как вам удалось так хорошо выучить русский?
Отец Андре степенно поглаживает бороду, хитро прищуривается.
— Я колхозник! Последние четыре года каждую зиму с ноября по март живу в России, в Тверской области, у своего друга — сельского учителя Кузьмы Тимофеевича Епифанцева. Хожу в валенках, колю дрова, приношу на коромысле воду в вёдрах из колодца. Понемножку начал заниматься с крестьянскими детьми, говорю им о Христе, читаем Библию.
Спускаюсь вслед за ним в пустую, уже прибранную трапезную. Садимся у края одного из длинных столов. Марта приносит две глубокие тарелки с корнфлексом, джем, булочки, чай.
Отец Андре, ваш рассказ — укор мне, жителю России.
— Почему? Вы — писатель, у вас, как говорят индусы, своя карма. А я хочу узнать вашу страну, её народ, не только по книгам Солженицына, Толстого и Достоевского. Хочу узнать теперь, изнутри. Сейчас к вам едет много проповедников, миссионеров — по телевизору выступают, как актёры, да ещё с переводчиком. Нужно владеть языком, нужно погрузиться в быт тех, кому проповедуешь слово Божие, делить с ними беды и радости, не так ли? Нельзя не знать обычаев, образа жизни простых людей.
— Простите, сколько вам лет?
— Семьдесят один. Там, в деревне, я молодею, крепну духом и телом. У вас замечательная страна. Не печальтесь. Все со временем будет хорошо.
— А как здесь, во Франции?
— Катастрофа. За благополучным фасадом — одиночество, СПИД. Безбожие в маске католической веры. Так во всём мире, в Америке тоже.
Да вы и сами должны все знать. Только слепой не видит. У вас, православных — то же самое.
— Но что можем сделать мы с вами? Кстати, до сих пор не понял, какой у вас здесь монастырь? К какому ордену вы принадлежите?
— Не пугайтесь! Мы — иезуиты. Я знаю, у вас в России, идиосинкразия к этому слову. Так?
К отцу Андре подходит Марта, что‑то сообщает.
— Извините меня, — говорит он, поспешно поднимаясь из‑за стола. — Уезжают доктора.
Допив чай, собираю со стола грязную посуду, ставлю её в мойку на кухне, благодарю Марту.
— Пер Бернар, — сокрушённо качает она головой. — Пер Бернар.
Марта не понимает по–английски, не может, да и не хочет отвечать на
мои расспросы.
Я поднимаюсь из подвала наверх, выхожу в парк. Вдалеке видны монахи, провожающие врачей. У меня падает сердце — отца Бернара увозят в больницу, больше уже никогда не увижу его, разве что только во сне.
Ты говоришь, я эгоист. Человек болен, тяжело. А я в эти минуты думаю о себе, о своих вопросах к нему. Даже не предложил помощи.
Но я не умею лечить гепатит. Если это гепатит, а не что‑нибудь похуже. Пострашнее… что я могу? Только молиться.
…Стою, скрытый водопадом ветвей плакучей ивы. Прошу Отца нашего об исцелении Бернара. Пусть я завтра уеду, никогда больше его не увижу, не узнаю, почему он так долго снился, но пусть он, принявший меня, как блудного сына, будет здоров. Если нужно, пусть я заболею, пусть со мной случится, что угодно, только пусть человек этот будет здоров, пожалуйста. Прошу Тебя, умоляю!
Вижу сквозь низко склонённые ветви, как белый «Пежо» проезжает по дорожке и скрывается за воротами монастыря.
Монахи маленькой группкой идут к церкви, один за другим поднимаются на крыльцо. Только белобородый отец Андре торопится в трапезную, как я понимаю, за мной.
Бегу навстречу.
— Не волнуйтесь, — предупреждает отец Андре мои расспросы, — настоятель устал. Поспит и примет вас в четыре часа. Знаете, где он сейчас находится? Вон та крайняя дверь справа. У вас такой вид, будто вы не спали. Отдохните тоже. Уже начало первого.
…Так и не сказал, чем кончился консилиум. Не счёл нужным.
Я покорно иду к дому, поднимаюсь в свою «келью».
Золотой день стоит в окне, как икона. Последний мой день во Франции. Что‑то толкает меня обернуться в сторону комнаты, подойти к чемодану, отстегнуть его тугие замки, достать самую большую из подаренных записных книжек. Подсаживаюсь с ней к секретеру, чтобы начать делать наброски к замыслу будущей книги.
Отбрасываю записную книжку. Подхожу к окну. За ним — торжество света, зелени — всего, что даровал Бог.
Господи, дай мне сил написать книгу во имя Твое! Написать о том, как пытаюсь приблизиться к Тебе. Если без Тебя, держащего миры, вдохнув, не выдохну, выдохнув не вдохну, как же без помощи Твоей напишу книгу? И как бы хотелось, чтоб те, кто будет читать её, смогли пережить вместе со мной всё, что происходит во мне. Не знаю, как это сделать. Дай разумения, сил. Видишь, насколько я слаб.
Слабость и в самом деле охватывает меня. То ли от недосыпа, то ли от постоянного напряжения. Ложусь на застланную кровать, распрямляю спину. По белёному потолку зыбко колеблются тени листвы. Зыбко, уже сквозь дремоту, возникает мысль: «Сюжетом должно стать само это путешествие». Не забыть бы, когда проснусь…
Стук в дверь. Вскакиваю. Неужели вернулись наши? Бросаю взгляд на часы — половина пятого! Сколько же я проспал?
— Входите!
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Он входит и почему‑то запирает за собой дверь на ключ. Сейчас отец Бернар не в сутане. На нём обычный серый костюм.
— Ждал вас. Начал беспокоиться. Позвольте я сяду?
— Ну конечно. Меня предупредили, позорно проспал.
Он не даёт помочь, сам с трудом разворачивает стул спинкой к секретеру, усаживается.
— Садитесь тоже. Хочу видеть ваши глаза. Я должен вам исповедоваться.
В изумлении опускаюсь на стул напротив отца Бернара.
Он осеняет себя крестным знамением. Рука жёлтая, как старый пергамент, лицо жёлтое. Голубые глаза смотрят прямо на меня.
— Отец Бернар, кто я такой, чтоб вы исповедовались мне? Я обыкновенный человек. Вы же видите. У меня самого к вам столько вопросов…
— Не надо волноваться. Вы ведь курите? Закурите.
Он ждёт, пока я дрожащими руками достаю из чемодана блок «Мальборо», вынимаю пачку сигарет, закуриваю.
— Не волнуйтесь. Со смирением прошу вас выслушать мою исповедь. Вам немного не по себе. Но выслушайте старого человека, — он проводит ладонью по короткой шкиперской бородке, грустно улыбается. — В этом году в ноябре месяце мне исполнилось бы восемьдесят лет. Однако, у меня рак. Плохой рак. Поджелудочной железы. Завтра, когда вы поедете назад в Москву, меня возьмут на операцию. Так решил консилиум. Для меня счастливый шанс, что вы сейчас тут.
— Отец Бернар, дорогой, простите за тупость! Понял. Вы прочли мои книги и хотите, чтоб я вылечил вас? Готов попробовать, готов сделать всё, что угодно. Если смогу…
— Не торопитесь, — он с усмешкой покачивает головой. — По слабости человеческой однажды я подумал об этом. Подумал — а вдруг? Теперь
поздно. Не нужно. Удивлен, почему Господь раньше не призвал меня.
— Зачем же тогда ложиться на операцию, да ещё такую тяжёлую? У вас ведь разрушена печень, метастазы?
— Это так. Правда. Но я нахожусь в подчинении у своего духовника. Он сказал, если консилиум будет настаивать на операции, надо соглашаться.
— Что ж, может быть, консилиум прав. Как вы говорите — «а вдруг»?
— Не будем больше про это. Не затем я у вас. Сейчас дам пепельницу.
Он поднимается, идёт к стенному шкафу. Извлекает из него кофейное блюдечко, подаёт, и я вдруг понимаю, что живу в его комнате, что отец Бернар предоставил мне свою келью.
Он снова усаживается передо мной, взглядывает отчуждённо, испытующе.
— Утром в церкви, на мой вопрос вы подтвердили, что вы — еврей. Ведь так?
— Чистокровный. Стопроцентный. Какое это имеет значение, отец Бернар? В чём дело?
— В том, что я — офицер СС германского вермахта. Мое прежнее имя — Отто фон Штауфеберг. У вас в России, а также в Белоруссии я убивал евреев и пленных партизан.
— Сами? Вот этими руками?
— Отдавал приказы солдатам. Это больше, чем сам. На моих чистых руках всегда были перчатки. Когда мы вторглись в СССР, мне было двадцать пять лет. Сколько было вам?
— Неважно! Я был маленьким мальчиком. Если б попался к вам в руки тогда, вы бы убили меня, мою маму. Повезло.
Он спокойно сидит, прикрыв глаза морщинистыми веками. Отвратительный; как иссохшее чучело ящерицы.
…Что мне делать? Ты слышишь меня? Кровь кипит в жилах. Скажи, что делать? Не могу же я выгнать его из его же кельи! Замаскировался, пристроился к церкви, доживает тут, во Франции. Решил напоследок, перед тем, как сдохнуть, получить от меня, еврея из России, прощение. Чтобы умереть с комфортом.
— Умереть имеет смысл со смыслом, — вдруг произносит он
Я в смятении. Он слышит мои мысли. Снова смотрит на меня. В упор.
— В одна тысяча девятьсот тридцать девятом году в числе немногих отобранных молодых людей я закончил секретное учебное заведение в Берлине, где преподавали тибетские ламы. Вы слышали о таком?
— Да. В нём учился эмигрант Сергей Вронский. Позже он захватил самолёт, перелетел через линию фронта в Россию.
— Он русский, я — немец. Я не перелетел. Три года был на Восточном фронте, оттого знаю язык, вёл допросы без переводчика. — Он вытаскивает из кармана пиджака флакончик, вынимает оттуда таблетку, отправляет её в рот.
— Дать запить?
— Не надо. Благодарю. В одна тысяча девятьсот сорок втором году, зимой, когда Днепр замёрз, я один раз шёл с группой важных генералов по льду мимо штабелей одеревенелых трупов. Что‑то произошло. Первый раз почувствовал — мои чистые руки до самых плеч в крови. Да, эти руки, какими я сам никого не убил. В ваших книгах написано — вы лечите людей. Я тоже лечил. И вылечивал. Этими руками. Да, да. Все не просто, не как нам кажется… Хотите курить ещё? Курите.
Щелкаю зажигалкой. Хожу с дымящейся сигаретой от окна к двери, от двери к окну.
А он продолжает:
— Капитуляция застала меня в Мюнхене. По тайной цепочке я был переправлен верными людьми в Южную Америку, в Аргентину. Так я был спасён от международного трибунала. Тогда меня бы повесили. В Аргентине жил под чужим именем, работал на скотобойне Буэнос Айреса. Я был ещё молодой, сильный. Посещал публичные дома. Два года я жил так, и мне было плохо. Через два года нанялся матросом на торговое судно и поплыл из Монтевидео в Макао. Оттуда ещё два года пробирался в Тибет, в Лхасу. Хотел найти своих учителей. Мой кризис был страшен. Вчера в трапезной вечером вы посмотрели на меня, и ваши глаза мне что‑то напомнили…
В Лхасе ламы надолго заперли меня под землёй, в келье. Для очистительной медитации. Но я видел только такие глаза… Там я не нашёл спасения… Из Тибета вернулся в Европу, пришёл в полицейское управление Берлина. Я был осуждён на двадцать лет. И все двадцать лет молил Бога о прощении. Там, в тюрьме, со мной были удивительные вещи, не галлюцинации, о чём нельзя говорить. В семьдесят пятом году я вышел из тюрьмы. В тюрьме я все годы работал, был портной. На те деньги, что собрал, купил билет в Израиль, в Иерусалим. Там принёс покаяние в храме Гроба Господня. Там, после долгого времени новициата, стал монахом Общества Иисуса, оттуда был направлен во Францию. Такова моя история. Ужасная история, на самом деле. Ибо я помню тех, в кого по моему приказу стреляли. Помню глаза еврейского мальчика, совсем такие, как у вас… Мать крикнула: «Давид!», когда её расстреливали первой, а он ещё стоял на краю оврага. Его звали Давид.
Отец Бернар сидит под распятием совсем сникший, пугающе жёлтый.
— Может быть, выйдем на свежий воздух? Я тут накурил, — подхожу, помогаю ему подняться.
— Благодарю. Пожалуй, надо идти полежать у себя.
Придерживю его за локоть, веду из комнаты в коридор. На лестнице
он хватается за правый бок, с трудом переводит дыхание и одновременно силится улыбнуться. Никогда не видел такой улыбки.
— Отец Бернар! Простите за исходившую от меня ненависть. Вас Бог простил. А я, я плохой христианин. — Обнимаю его за спину, свожу вниз. — Ваша история — история с прекрасным концом. Вы нашли в себе силы прийти, рассказать её в поучение мне. Понял, если позволите, я когда‑нибудь напишу о вас.
Кивает. И когда мы по сырой дорожке подходим к крайней двери дома, оборачивается.
— Умереть имеет смысл со смыслом. Мы должны говорить ещё. Имею сказать вам что‑то важное.
— Может быть, посидеть с вами?
— Благодарю. Лучше позовите Марту. Хотя сейчас обед. Пусть придёт отец Андре. Вы тоже обедайте. Часа через два приходите сюда ко мне.
Он медленно скрывается за дверью.
И все вокруг становится тягучим, медленным, как бывает, когда впереди что‑то важное, может быть, определяющее жизнь, а время ползёт.
Пятый час. Хожу взад–вперёд по тропинкам. Трясогузка пьёт из лужи. Лист упал на плечо. Как скромное напоминание о девочке Жене… Вон и монахи медленно выходят из церкви, медленно спускаются по крыльцу.
— Отец Андре! — зову я, спохватившись. — Отец Андре!
Он подбегает ко мне.
— Отец Бернар просил вас зайти.
— Теперь вы знаете? Шансов мало. Он долго скрывал. Метастазы.
Монахи стоят в отдалении, ждут. Когда он уходит к больному, приглашают меня пойти с ними в трапезную.
Со стороны Парижа снова натягивает дождь. Хмуреет. И я бреду вслед за монахами.
По моей просьбе Марта приносит мне только большую чашку кофе и сыр на фаянсовой досочке. Монахи обедают. В тишине слышно лишь звяканье столовых приборов.
…Суток нет, как я в монастыре. А кажется — вечность. Вечную и действительно прекрасную историю узнал я сейчас. Павел, будучи Савлом, зверски изничтожал первых христиан. Христос совершил чудо, и Савл стал апостолом Павлом. И в те времена мог найтись такой же сукин сын, как я, не умеющий прощать. С другой стороны, если б мать этого мальчика Давида не погибла, могла бы она простить? Легко рассуждать о христианстве вообще. Но вот жизнь подвела к высокой нравственной планке, поднятой Христом. Хоть ползи под неё, себя не обманешь. Тем более Высшего Судью… Вот ведь, все‑таки попросил прощенья у отца Бернара, а сердце молчит. Господи, помилуй меня, грешного! Даже в эти минуты боюсь одного: не успеть задать своих вопросов, удовлетворить любопытство — как это он являлся во снах?
Через час в трапезную с мокрым зонтом в руке входит отец Андре.
— Идите. Настоятель ждёт.
…От дождя стемнело настолько, что у отца Бернара рядом с компьютером горит маленькая лампа. Он покоится, откинувшись в кресле, в полутьме, и порой кажется, что говорю уже не с человеком. С духом.
Едва войдя и усевшись напротив него, я поторопился задать все, или почти все накопившиеся вопросы. Он ни разу ни о чём не переспросил. Не перебил. Сидел молча.
В какой‑то момент я заподозрил, что он давно не слышит меня, уснул от слабости.
И наступила пауза.
Ты можешь понять, как стало мне совестно — докучаю своей навязчивостью смертельно больному… Подумал о том, что надо бежать за отцом Андре.
Но вот в тишине возникает голос.
— Ваши искания — искания многих людей. Вы — не исключение. Одни формулируют свои вопросы хорошо. Как Иов, кто очень страдал и хотел знать — за что? Другие формулируют плохо. У таких главное не ум, но сердце. В сердце своём вы уверены, что живёте праведно. Вы из тех, кто сам ставит себе оценки. Понятно, допустимо. Но тогда неизбежно начинаете ставить оценки другим… Кто есть вы? Господь Бог из города Москва? Кто есть я — вам известно.
— Отец Бернар, в самом деле, в последнее время я, видит Бог, во всех ситуациях старался быть христианином.
— Христос сказал в Гефсиманском саду: «Да будет воля Твоя». Умом вы, без сомнения, понимаете это. Однако, в вашем сердце «Да будет воля моя». Боитесь до конца отдаться воле Божьей.
Дозвольте действовать в вас Святому Духу. Вы же видите — ваше насилие над собой ни к чему не приводит. Только Бог в силах изменить нас. Учитесь видеть знаки таких перемен.
У вас суровое лицо. Оно бывает от одиночества. Как только примете мир и себя такими, как есть, вы станете открытым людям.
Христос говорит: «Будьте как дети». Думаю, вас должно тянуть к детям. У них есть, чего у нас мало. Учитесь у Христа и у детей. Дети не ставят себе плюсы и минусы. Недостаток нашего монастыря, что здесь не звучит детский смех. Христос радостен, окружён детьми.
Теперь главное, что имею вам сказать. Сейчас очень важный момент в истории мира, какой я оставляю. Пять лет назад я был в Нью–Йорке. Там на Манхеттене, в самом центре, билдинг, небоскрёб, и на нём три гигантские золотые цифры — 666. Всего только номер дома. Но не случайно. Предсказано в Апокалипсисе. И у всех, богатых и бедных, один вопрос — почему нет счастья? Не счастливый никто. Только такие, как мы с вами, имеем надежду, а потому счастливые: у нас Христос.
Здесь, на Западе, Библия есть в каждом доме. Теперь и у вас, в России, много Библий. Читают — не видят. Гипноз дьявола.
Слушаю этого уходящего в вечность человека, а в памяти мелькают бородатые молодчики в сапогах, продающие у метро газеты с крестом и свастикой — «Черная сотня», «Аль–Кодс»… Священники, проповедующие по радио, даже с амвона, ту же ненависть к евреям, католикам — ко всему нерусскому… И все это делается именем Христа.
Отец Бернар словно услышал мои мысли.
— В третьем тысячелетии, какое вы застанете, христианство должно стать иным. Качественно. По вашим вопросам, вашим книгам я вижу, как осуждаете Церковь. Да, у неё много болезней. Мы признаем. Живой организм иногда болеет. Не невидимая Церковь, но зримая — вся из таких, как мы с вами, живых людей. Грешных. Важно видеть эти болезни, не прятать их.
Все констатируют кризис христианского мира, коллапс цивилизации. К чести нашей Церкви, она осознала этот критический момент истории. В тысяча девятьсот шестьдесят первом году был созван Второй Ватиканский Собор. Консервативные епископы сопротивлялись новшествам. И тогда Папа Иоанн Двадцать Третий подошёл к окну, распахнул его, сказал: «Не хватает свежего воздуха!». Это означало — действия Святого Духа.
Вы тоже хотите этого свежего воздуха. Все люди хотят. С тех пор началась огромная работа. Сейчас, когда мы здесь говорим, тысячи учеников Господа, наши братья и сестры во многих странах заново проповедуют Евангелие. К ним присоединяются новые тысячи. Вы увидите плоды этой работы. Грех все подвергать критике, пусть верной, и ничего не делать. Вы спросили, почему так выходит, что когда уезжаете, за вашей спиной всегда начинается война? У вас просто острое чувство вины. Всегда случается что‑то ужасное. В этом мы все виноваты. Так, — он вдруг придвигается к столу под свет лампы, — если на то будет воля Божья, вы напишете книгу про Него.
Желание добра, дух Христов живёт в каждом. Напишите о том, как грех мешает проявиться добру. Напишите про себя. Про тех, кто задаёт вопросы и тех, кто не задаёт. Вам будет очень трудно. Вечером, Бог даст, вместе будем молиться, чтобы Христос взял вас за руку.
Выхожу от этого поразительного человека с намерением немедленно подняться к себе, дословно записать всё, что он говорил. И натыкаюсь на Георгия.
Совсем промокший, он протирает пальцами очки, подозрительно смотрит на меня.
— Вы не знаете, где Ольга?
— Ольга? — С трудом подавляя сумятицу мыслей, наконец, соображаю — спрашивает о своей жене. — Не знаю. Ведь вы уехали в Париж.
— Днем поссорилась со мной, потерялась. Думал — вернулась сюда.
— Идемте ко мне. Дам сухую рубаху.
— Своя есть. Вы все сделали, чтобы нас разлучить.
— Я её, между прочим, вынул из петли.
— Видел. Это её обычные фокусы. Воспользовались, чтобы подержать на коленях.
Резко разворачивается, уходит в темноту парка.
Я все‑таки поднимаюсь к себе, раскрываю записную книжку.
…Топот ног в коридоре. Громыхание дверей. Наши вернулись. Девять вечера.
— Паломничающие! Через пятнадцать минут всем быть на собрании в автобусе! — слышен голос Игоря. — Без опозданий!
Он стучит и в мою дверь, раскрывает её.
— Слышали о собрании? Необходимо присутствие всех. Ваше тоже. Пока соберёшь это быдло…
Поднимаюсь, надеваю куртку. У лестницы встречаю Тонечку, спрашиваю;
— Не видели, вернулась Оля?
— Нет. Если б вы знали, как я довольна Парижем! Даже дождь не испортил настроение. Была в Нотр–Даме, поднималась на Эйфелеву башню! Жалко, что вас не было с нами. Зато, наверное, вы здесь отдохнули?
— Вполне.
Я выхожу в намокший, отяжелевший от сырости парк. Во всех окнах дома горит свет. Светится на первом этаже и окно кабинета отца Бернара. Спохватываюсь, не спросил, когда будем вместе молиться?
Небо над головой, над тёмными ветвями деревьев розовое. Это сплошная облачность отражает зарево огней Парижа.
Мыслям обо всём, что я сегодня услышал, о будущей книге мешает беспокойство об Ольге. Иду в сторону ворот. Почему‑то чувствую себя за неё ответственным. Где носит это полубезумное существо? Могла потеряться, не найти дорогу назад. С такими всегда что‑нибудь случается.
В проёме ворот показывается человек. Не сразу узнаю в нём отца Василия. Через плечо перекинуты две связанные ремнём сумки. В каждой руке по несколько тяжёлых пакетов. Предлагаю:
— Батюшка, давайте я вам помогу?
Шарахается от меня в сторону, к боковой дорожке. Торопливо идёт к дому, скрываясь за кустами и деревьями.
…Понятно. Не хочет, чтобы видели сколько он приобрёл. Милый, наивный батюшка. Так навсегда и остался домовитым сельским жителем.
За воротами тускло поблёскивает мокрая брусчатка пустынной улицы. Лишь слева видны набегающие огни автомобильных фар.
Черный «Форд» останавливается неподалёку. Хлопает дверца. Выходит Оля. В шляпке.
— Бон суар! — слышится из машины.
Машина разворачивается. За рулём какой‑то хлыщ с усиками. Уезжает.
— Прелестно, что встретили меня! — говорит Ольга. — Я так устала. Хотите шоколадку? Дайте закурить.
Она немножко пьяна. Идем рядом, болтает без умолку.
— А где Миша и девочки? Я видела их днём, пели на ступеньках у Сак–ре–Кер. Катя — прелесть! Мы с ней купили одинаковые шляпки. Видите, чёрная бархатная, с розочкой. Мне идёт? А потом я познакомилась на бульваре Сен Мишель, вернее, он ко мне привязался…
— Оля, в автобусе начинается собрание. Я пошёл. А вам, по–моему, лучше зайти к себе, отдохнуть.
— Ах, да, собрание! Мы советские люди, совки, нам нельзя без собрания! Нет, я пойду. — Она хватает меня под руку. — У меня не осталось ни франка, клянусь вам. И вообще все плохо.
Смолкает, спотыкается.
Обходим примолкший дом. Вот и наш родной московский автобус — 93–78 МЕХ. Салон изнутри освещён. Все в сборе. По кромке лужи проходим к раскрытым передним дверцам. Пропускаю вперёд себя Ольгу.
Стоящий у входа в салон Игорь даёт ей пройти. А я поднимаюсь внутрь лишь на ступеньку. Кроме переднего кресла отца Василия, все места заняты. На моём рядом с Колей сидит Вахтанг. Издали видно, как Оля протискивается мимо Георгия к окну.
— Отец Василий, наверное, задержался в Париже у знакомых, — говорит Игорь. — Тем лучше. Начнем без него. Зинаида Николаевна, встаньте, пожалуйста. Чтобы все видели вас. Вставайте, вставайте, так сказать, не стесняйтесь.
Из‑за широкой спины Игоря мне видно, как поднимается со своего места Зинаида Николаевна. Маленькая, бледная, с косой чёлкой седых волос.
— Зинаида Николаевна, — продолжает Игорь, — вы прекрасно знаете, там, в экуменическом центре, мне пришлось собрать по десять долларов с каждого, чтобы выкупить в антикварной лавочке соседнего городка пасхальное яйцо, которое вы как бы взяли у Нины Алексеевны… Хозяйка заплатила вам за него тысячу франков, а выставила в витрине за тысячу пятьсот. За эту сумму — тысячу пятьсот и пришлось его выкупать для Нины Алексеевны. Немедленно верните нам наши деньги.
— Не брала никакого яйца.
— Зинаида Николаевна, давайте по–хорошему! Если вы сейчас же не отдадите денег, мне придётся обыскать вас, перетряхнуть всё барахло, ваше и Светланы.
— Ничего не брала. Ничего не знаю. И не троньте Свету. Отстаньте от нас.
В тишине автобуса прорывается сдавленное рыдание. Плачет Светлана.
— Игорь, что бы там ни было, так нельзя, — говорю я шёпотом. — Остановитесь.
Он на миг оборачивается. Меряет меня злобным взглядом. На груди взблескивает золотой крест.
— Позвольте, — раздаётся сзади меня голос отца Василия.
Он успел переодеться в подрясник. Поднимается в автобус, занимает своё место рядом с Акын О'кеичем.
— Зинаида Николаевна! — Игорь угрожающе повышает голос. — Хозяйка магазина, сказала, что яйцо ей продала некая невысокая женщина, иностранка. Украли вы, больше некому.
Плачет Светлана. Теперь уже навзрыд. Мать сдёргивает её за руку с кресла, тащит за собой к выходу.
Куда?! — Игорь толчком в грудь отпихивает её назад. — В самом деле, хотите, чтобы я обыскал вас с головы до ног? Руки марать не хочу.
— Пустите меня отсюда! Не брала никакого яйца.
Она снова пытается прорваться к выходу.
— Что мы делаем?! вдруг слышится из задних рядов голос Кати, Катеньки.
Мне не видно её с моей нижней ступеньки. С самого начала изо всех сил старался сдержаться. Не выдерживаю.
— Отец Василий! Мы — не суд. Не имеем права судить эту женщину. Да ещё в присутствии дочери… Игорь, одумайтесь! У меня осталось несколько десятков долларов, возьмите их, раздайте… — лезу в куртку за бумажником.
В этот момент Зинаида Николаевна бросается вперёд. Игорь отшвыривает её с такой силой, что если б не Светлана, она бы упала в проход.
— Остановитесь! — кричу уже не я, кричит кто‑то из меня. — Это же сестра наша… Ну, оступилась. А если яйцо взяла не она? Да если б и взяла… Зинаида Николаевна, дорогая, Светлана, простите Игоря, простите нас!
— Тоже как бы христианин! — Игорь выхватывает из кармана и поднимает вверх пистолет. — Вот с чем этот христианин отправился паломничать.
— Какой ужас! — взвизгивает Нина Алексеевна.
— Друзья, это недоразумение, — стараюсь говорить твёрдо, спокойно. — Я сейчас всё объясню.
— Могли подвести нас, — впервые подаёт голос отец Василий.
— Это все чепуха, — встаёт со своего места Георгий, и я с надеждой смотрю на него. — Сегодня он нарочно не уехал со всеми в Париж, сидел, запершись с настоятелем, с иезуитом!
— Это вы совсем напрасно, — говорит отец Василий. — С католиком. Как будто нет своих духовных наставников…
— Ты всегда был высокомерным, — неожиданно вмешивается Акын О'кеич.
— Он курил в автобусе! — это кричат уже Миша с Леной. — Всех презирает!
— Уехал в Париж, шиковал там целую неделю, — вступает в общий хор Надя, по–хозяйски сидящая в водительском кресле. — Притащил чемодан добра. А мы должны были молиться…
Воспользовавшись тем, что внимание всех переключено на меня, Зинаида Николаевна проскакивает мимо Игоря.
Тот хватает её за шиворот.
— Игорь! — Я пытаюсь подняться на ступеньку выше, освободить несчастную женщину, вижу, как подбегают по проходу Катя и Тонечка. — Игорь, Христом Богом прошу, не превращайтесь в гестаповца! На вас крест.
Он резко двигает локтем, попадает в висок.
Запрокидываюсь, валюсь в ночь, в темноту. Фонтаны грязи из лужи взлетают и падают на лицо. Саднит ушибленную ступенькой ногу.
…Ну вот, ты видишь теперь, чем всё кончилось. Никогда не думал, что могу вызвать к себе такую ненависть. Каждый испытал в жизни что‑то подобное.
В розовом небе темнеет прогал. Трепещет далёкая звёздочка.
Чьи‑то руки тянутся ко мне, помогают подняться. Это руки Игоря, отца Василия, Кати. Тонечка подаёт чистый платок. Обтираю глаза, лицо.
И вижу отца Бернара.
— Мы хотели вместе молиться, — говорит он. — Пришел за вами. Прихрамывая, иду с ним к церкви. Я в шоке, ещё не очень‑то отдаю
себе отчёт в происшедшем. Все как во сне.
— Отец Бернар, что такое соломенный подстаканник, смеющаяся девушка Ясмина, ваше лицо, которое заранее являлось мне?
Тот с недоумением приостанавливается, пожимает плечами.
— Я к этому не имею отношения.
Нас нагоняют, молча обходят со всех сторон люди, идущие из автобуса в церковь.
1994–1995



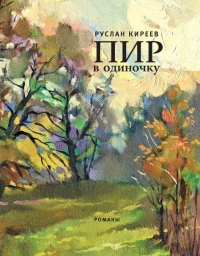
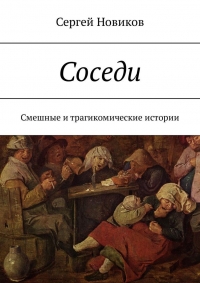





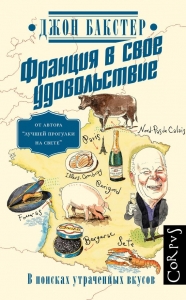
Комментарии к книге «Про тебя», Владимир Львович Файнберг
Всего 0 комментариев