Посвящается Симоне
Безмолвствуешь от стыда или от изумления?
Боэций Утешение философиейЧасть первая
Это произошло 13 июля 1986 года: внезапно Лео Понтекорво овладело желание никогда не появляться на свет.
Минуту назад Филиппо, его старшенький, принялся ныть, как это свойственно детям, требуя добавки жареной картошки, поскольку мать проявила неслыханную щедрость по отношению к младшему брату, когда раскладывала еду по тарелкам. Затем начались восьмичасовые новости. Ведущий перед всей нацией обвинял вышеназванного Лео Понтекорво в том, что тот обменивался непристойными письмами с девушкой своего тринадцатилетнего сына. Иначе говоря, Самуэля, который никак не мог доесть свое хрустящее золотистое сокровище. Мальчишка еще не успел разобраться, что принесет ему эта неожиданно свалившаяся на голову известность на телевидении. Дело закончится только сплетнями приятелей? Или он по уши вляпался в дерьмо, попал в самое скверное положение, которое только мог себе представить подросток его избалованного и вялого поколения?
Не стоило обольщаться, что нежный возраст помешал Самуэлю понять — хотя бы на уровне интуиции — то, что было ясно всем остальным: некто по телику намекнул, что его отец трахнул его девушку. Говоря «девушка», я имею в виду малышку двенадцати с половиной лет с волосами цвета тыквы и куньей мордашкой, усыпанной веснушками. Говоря «трахнул», я имею в виду «трахнул». То есть нечто чудовищное, гнусное, слишком жестокое, чтобы с этим смириться. Даже жена и двое детей вот уже некоторое время задаются вопросом — неужели речь идет о том самом муже, отце, безупречном гражданине, которым они так гордились? Выражение «уже некоторое время» намекает на первые судебные осложнения, наложившие позорное пятно подозрений на образцовую карьеру одного из самых успешных специалистов в области детской онкологии. Именно о таком заведующем отделением старая медсестра скажет молоденькой коллеге, недавно принятой на работу, что-то вроде: «Настоящий джентльмен! Никогда не забывает сказать „спасибо“, „пожалуйста“, „будьте любезны“! Да и вообще отличный человек!» Кроме того, в душном приемном покое больницы Санта-Кристины, где матери больных детей высиживали очереди, обмениваясь леденящими душу подробностями того кошмара, в который превратилось детство их малышей, нередко можно было услышать такие диалоги:
— Он такой отзывчивый. Ты можешь позвонить ему в любое время суток. Даже ночью…
— Он очень поддерживает. Всегда улыбчивый, позитивный.
— К тому же он знает подход к детям.
Телефон трезвонил совсем невыносимо. Лео, уже в полуобморочном состоянии, почувствовал, что это его последний обед с семейством. Он также представил тысячу других вещей, которых лишился, и, чтобы не поддаться панике, не расчувствоваться и не расплакаться, как младенец, прямо перед женой и сыновьями, он призвал на помощь всю свою ненависть и ярость.
В конце концов, это была ее вина! Эта девчонка, которую его сын около года назад привел в дом и которую они с Рахилью, самые доброжелательные и сдержанные супруги в их кругу, приняли без лишних разговоров, ухитрилась испортить жизнь ему и трем людям, которых он больше всего любил.
И что, все закончится вот так? — продолжал размышлять Лео, и навязчивое желание никогда не рождаться на свет все больше овладевало им. Неправильный вопрос, дружище. Какой смысл говорить о конце, когда все только начинается?
Все это произошло в самый подходящий момент. В этот час Ольджата, богатый жилой район, окруженный несколькими гектарами леса и огражденный массивными стенами, усеянный виллами и цветущими круглый год садами, вымирал. Как пляж на закате.
В такой момент ты чувствуешь себя как в луна-парке сразу после закрытия. Повсюду следы истраченной спортивной энергии: кожаный мяч «Адидас», запутавшийся в изгороди, перевернутый скейтборд на выложенной камнем дорожке, пластиковая оранжевая доска, покачивающаяся на маслянистой и блестящей воде бассейна, пара ракеток, поливаемая водой из внезапно заработавшего автоматического оросителя.
Конечно, ты еще можешь наткнуться на фаната пробежек в плюшевых штанишках и с полотенцем на плечах а-ля Роки Бальбоа или запыхавшегося молодого папашу, возвращающегося из супермаркета с упаковкой подгузников в одной руке и презервативов — в другой.
Но все остальные в этот час вечерней сиесты уже попрятались по своим домам, точнее — виллам, выстроенным в несовместимом друг с другом и эклектичном стиле. Некоторые из этих построек были достаточно строги и сдержанны, другие, напротив, вульгарны (мексиканский стиль в последнее время практически искоренил моду на альпийские шале). Снаружи такие дома скорее напоминали деревенские таверны. Там все было как надо: камин, плинтус, тронутый зеленоватой плесенью, вязанные крючком салфеточки, стопки иллюстрированных журналов, кленовые коробочки, наполненные листьями лаванды, бильярдный стол, накрытый сукном, как труп в морге, пузатый телевизор, от которого тянулись щупальца спутанных проводов видеомагнитофона и панели управления. Можно было почувствовать псевдодеревенский запах деревянных поленец, сосновых шишек, пачек газет, пожелтевших не менее, чем мячики для игры в пинг-понг, которые осторожно спрятались в тень и застыли, как детективы, выслеживающие преступника.
Это длилось не более мгновения. Мгновения невероятного спокойствия. Мгновения, когда семейная идиллия, ежедневно отмечаемая в этом районе, на тридцать километров отстоящем от центра Рима, достигала своего апогея. Поистине волнующего момента, после которого все снова приходило в движение и разрушалось.
Еще несколько минут, и обитатели Ольджаты, брошенные филиппинскими служанками, ушедшими на свой законный выходной в воскресенье, заполнят улицы своей бьющей через край жизненной энергией и оккупируют своими чистенькими машинками все парковки перед пиццериями. Несмотря на ощущение сытости, которое давал навязчивый запах жареного мяса, царивший в воздухе, все намеревались закончить этот прекрасный денек, набив брюхо брускеттой аль помодоро и клубникой со сливками. Но пока все еще сидели по домам. Маленькие дети ссорились с мамой, потому что не хотели идти в ванную, детей постарше, напротив, невозможно было оттуда вытащить. Что касается родителей, один в пляжных шортах и футболке, заложив ногу за ногу, отдыхал у бассейна с бокалом шардонне. Другой трепал за ухо любимого лабрадора. Кто-то никак не мог расстаться со своей партией в канасту[1]. Кто-то готовил закуски из оливок и колбасок для гостей. Кто-то собирал чемоданы в дальние путешествия. Кто-то готовил наряды на следующий день…
Все было предопределено, а воздух пропитан романтическим ожиданием. И было бы поистине обидно не насладиться сполна медным и теплым светом этого неповторимого мгновения, которое случайно совпало с появлением на телеэкранах, повсюду настроенных на один и тот же канал (в то время телевидение не отличалось большим разнообразием), фотографии Лео: нечеткой и неудачной. Она всплыла над правым плечом расфуфыренного ведущего теленовостей.
Эта фотография совсем не передавала облика нашего героя. Никто из зрителей, хорошо знакомых с профессором Понтекорво, не отождествил бы ее с оригиналом. Что-то среднее между фотографией в паспорте и опознавательной фотографией человека, находящегося под следствием. Лео выглядел на ней пожелтевшим и изнуренным. Ничего общего с сорокавосьмилетним мужчиной, который вступил в тот счастливый возраст, когда мужская природа обретает совершенное, хотя и хрупкое равновесие между энергией молодости и обретенной мужественностью. Несмотря на почти полвека напряженной работы, из-за которой позвоночник этого прекрасного господина весом девяносто килограммов немного искривился, его осанка была еще достаточно прямой и придавала фигуре Лео уверенность и солидность.
За пределами Италии его красоту назвали бы «итальянской». В Италии же подобные лица называют «южными» или «восточными». Вьющиеся волосы идеально подошли бы для исполнителя роли Моисея; кожа оливкового цвета от солнца сразу же покрывалась загаром; глаза с продолговатым разрезом, украшенные зелеными жеманными жемчужинами; крупные уши и нос (этим он был обязан своей горячей иудейской крови), и губы — в них-то и заключался весь секрет — пухлые, чувственные, ироничные.
Фотография нисколько не передавала всю эту красоту. (И я достаточно хорошо знал Лео Понтекорво, чтобы утверждать, что такое появление на телевидении было огромным ударом по его самолюбию.)
Тем не менее в этой нечеткости был определенный смысл. В ней крылась угроза. Внезапный переход к агрессии, жертвой которой Лео был вот уже несколько недель подряд. Это стало сигналом чего-то более определенного и заставляющего сильно волноваться: в этот раз Лео Понтекорво не мог и не должен был поддаваться иллюзии; следовало оставить всякую надежду и не ждать никаких поблажек. За ним должны прийти прямо сюда, возможно, сегодня же вечером. В середине этого прекрасного и жестокого лета. Вот каков смысл этой фотографии. Вот чем грозило ему это изображение, внезапно появившееся на телеэкране. Его насильно лишат семейного тепла, выкурят из уютного домашнего гнездышка, как мышь из норки. Его бросят на съедение возмущенной публике именно таким, каков он сейчас: босым, в бермудах цвета хаки и потертой голубой рубашке, неуклюже взгромоздившегося на табурет в элегантной кухне, выходящей окнами в сад, который, как и все снаружи, блаженно наслаждался последними карамельными отблесками уходящего дня.
Нет, они не постесняются вторгнуться в его дом, который Лео в свое время создал в цветущем чреве Ольджаты по образу и подобию человека, каким он сам хотел бы казаться: сдержанный, современный, эклектичный, ироничный и прежде всего прозрачный. Дом, достойный модного стилиста, а не просто светила медицины, дом, массивные витражи которого и днем и тем более вечером, когда зажигался свет, позволяли обозревать устроенную жизнь, протекавшую за ними: нескромность, которую Рахиль, женщина не настолько светская, чтобы жить на витрине, всячески старалась нейтрализовать с помощью больших штор. Развешивание этих штор в начале осени всякий раз становилось поводом для классических супружеских перепалок.
Впрочем, когда Лео решил переехать туда, в это жилище, уже тогда он столкнулся с более существенными претензиями, чем требование повесить шторы от его в ту пору молодой, а сейчас, по крайней мере, преданной супруги.
«Если ты хоть бы раз заглянула в тот дом вместе со мной, ты бы поняла, что он дает ощущение уверенности, защиты».
Те же слова он говорил лет двадцать назад до этого судьбоносного вечера своей матери, озвучивая ей свое намерение продать квартиру в центре, которую та щедро, если не легкомысленно завещала ему, и купить участок в Ольджате, чтобы построить там «подходящий для нас» дом.
«И от чего именно вы собираетесь защищаться?»
Лео почувствовал в голосе матери нотки раздражения, растущее неприятие этой женщины рядом со своим bekhor[2] — первым и единственным сыном, который, взрослея, становился все более беспомощным.
«Подозреваю, что это идея твоей жены? — Ее раздражение росло. — Уж не она ли убедила тебя переселиться в глушь? Очередная ее уловка, чтобы только держать тебя на безопасном расстоянии от меня? Она всегда испытывала на прочность мое терпение, ей наплевать на мои деньги и чувства».
«Да ладно, мама! Это моя идея! Оставь Рахиль в покое!»
«Только тогда, когда ты мне объяснишь, что за имя такое — Рахиль! Можно подумать, что она только сошла со страниц Библии…»
Как такое может быть?! Человек, справлявшийся с самыми сложными задачами, идеально подходившии для одной из самых престижных должностей в больнице, человек, в профессиональный долг которого входило сообщать измученным и отчаявшимся родителям, что их детки безнадежно больны, внушавший робость своим сокурсникам-одногодкам, которые видели в нем законного наследника академических владений всемогущего профессора Мейера, — вот этот человек не смел перечить матери-старушке за шестьдесят?!
Конечно, если бы ему это удавалось, у него не было бы и необходимости заявлять ей о своих намерениях переселиться. С другой стороны, если квартира в центре принадлежит ему — матушка ведь сама переписала ее на его имя, — к чему тянуть волынку? Почему не продать ее, и все тут? Почему он должен, как маленький мальчик, спрашивать ее разрешения? И почему, прекрасно зная, что ему не удастся добиться ее разрешения, он так злится?
Эта женщина умела вывести Лео из себя. У нее был настоящий талант, она знала, как загнать его в угол, заставить почувствовать капризным сынком, каким он, в сущности, не был. Это все ее харизма. Ее упрямство. Ее способность вмешиваться во все. Непоколебимое убеждение матроны, что она всегда и во всем права. Убеждение, приправленное сарказмом, который в последнее время — с тех пор, как сын сообщил ей, что Рахиль Спиццикино вскоре станет ее невесткой, — сделался особенно невыносимым и изощренным.
Именно поэтому он ухватился за идею надежности и безопасности.
Когда мать терзала его расспросами, почему ему взбрело в голову «переселиться в глушь», Лео начинал бормотать что-то высокопарное об опасных временах, в которых они живут, о нестабильной политической обстановке, о давней мечте жить на природе, среди зелени, так как он и его молодая жена уже чувствуют ответственность по отношению к будущим детям, о том, что их беспокойство о будущем потомстве утихло после посещения того замечательного района с пропускным пунктом, охраной, высокими ограждениями, зелеными лужайками и спортивными площадками, — в общем, всем, что гарантирует полную безопасность.
«Если тебе нужны вооруженные люди и высокие заграждения, поезжай жить в Израиль, как твоя взбалмошная кузина!»
«Это настоящий рай на земле, мама!» — не сдавался Лео, делая вид, что не услышал ее последнюю реплику.
И чем больше Лео говорил, тем больше сбивался, и чем больше сбивался, тем явственней на лице его матери проступало выражение презрительной насмешки, нетерпения и разочарования. Выражение высокомерного недоверия, в котором четко читалось следующее:
В МИРЕ НЕТ ТАКОГО МЕСТА, КОТОРОЕ МОГЛО БЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕБЕ ИЛИ КОМУ-ЛИБО ДРУГОМУ!
И если бы Лео — пока журналист из теленовостей, сбросив свою грязную бомбу на чистенькую кухню дома Понтекорво, продолжал рассказывать о пожарах, уничтожающих средиземноморские заросли на Сардинии, — догадался вспомнить тот двадцатилетней давности диалог с матерью, возможно, он хоть и с опозданием, но оценил бы молчаливый и не подлежащий обжалованию способ, при помощи которого эта женщина — которой уже давно нет среди нас — пыталась предупредить сына. Только сейчас, когда земля уходила из-под ног, Лео был в состоянии понять, насколько права была его мать: не существует на белом свете уголка, где бы человек, это спесивое и смешное существо, чувствовал бы себя в безопасности.
Между тем телефон не переставая трезвонил. Там, снаружи, толпа народа жаждала поговорить с семейством Понтекорво о том, что с ними случилось. Странно, учитывая, что единственное, что объединяло всех здесь внутри, было желание прекратить всякое общение с внешним миром, навечно. Но почему, как только кто-то стремится уединиться в просторном, светлом доме с большими окнами, за забором, который ограничивает владение Понтекорво, за стеной, окружающей район, остальной мир начинает беситься?
На самом деле есть только одна штука, вызывающая столь живой интерес, — это жизнь самих Понтекорво. С тех пор как больничное отделение, основанное Лео, было вовлечено в скандал, связанный со взятками, раздутыми счетами, проданными койко-местами, пациентами (все несовершеннолетние, одной ногой стоящие в могиле), переманенными в частные клиники при помощи обмана и мошенничества, дела шли все хуже, принимая каждый раз все более непредвиденный и опасный оборот. Однажды Лео обвинили в том, что своим продвижением в университете он обязан симпатии, даже любви Беттино Кракси[3]. Потом один из его помощников, отчисленный из университета в действительности за халатность, из мелкой мести обвинил Лео в том, что тот одолжил ему деньги под процент. Однако все эти серьезные обвинения, подвергающие опасности его карьерный рост, кажутся простительными по сравнению с последним безобразием. Может быть, потому что нет ничего омерзительнее Лео, который решил поиграть в Сирано де Бержерака с двенадцатилетней девчонкой. Особенно отвратительными кажутся эти идиотские послания, нашпигованные выражениями вроде моя маленькая, дорогая малышка, которые обычно используют, обращаясь к своим партнерам-однолеткам, вступившим в связь осознанно, взрослые люди, подходящие по возрасту и сложению адресату своих писем. Обширные, непристойные цитаты из этой дерьмовой переписки скоро появятся на первых полосах самых известных газет.
Итак, Лео совершил непростительное, нарушил самое страшное табу. Двенадцатилетняя девчонка, какой кошмар! Возжелать двенадцатилетнюю! Обольстить двенадцатилетнюю подружку собственного сына! И проблема вовсе не в сексе. Ясно, что в наши дни к этому относятся проще: сложно представить, чтобы жизнь пошла к черту из-за какой-то интрижки. Путь к успеху вообще частенько лежит через постель. Все дело в возрасте потерявшей девственность жертвы домогательств, и больше ни в чем.
Отныне все твои положительные качества умеренного и цивилизованного человека в свете обвинения, которое тебе так упорно шьют, будут усугублять твою вину, считаться отягощающими обстоятельствами. Все то хорошее, что в тебе есть, теперь будет рассматриваться как каприз извращенца. Там, за пределами этого уютного мирка, никто не станет задаваться вопросом, насколько справедливо обвинение. Более того, все предпочтут поверить в его справедливость. Так уж у нас заведено. Люди предпочитают предполагать худшее, верить во все плохое, что говорится о человеке, особенно если тот до сих пор был любимчиком фортуны. Так сплетня способна уничтожить любого. Капилляры общественного организма раздуваются и лопаются.
И весь остальной мир не волнует, что три близких тебе человека, которые сейчас сидят рядом с тобой на кухне, полуживые, едва ли смогут простить тебя. Тяжелое дыхание Самуэля. Это прерывистое пыхтение немного пугает Лео, как зона турбулентности — пассажира, боящегося летать. Лео думает о том, как же он напакостил этому парню. С завтрашнего дня все только и будут обсуждать, как отец увел у него девушку. После такого трудно оправиться.
Напряжение, которое царило в кухне в эти нескончаемые мгновения, было разбито шипением кофейника, которое возвещало присутствующим, что кофе уже вышел до последней капли и если никто не соизволит погасить огонь, он выльется наружу.
«Мама, почему мы не выключаем плиту? Мам, почему мы ее не выключаем? Может, все-таки выключим, мам?»
Голос Филиппо. Невыносимо плаксивый. Слишком детский для него. Лео хочется только одного: чтобы Рахиль заставила его молчать. Именно это она и делает, двигаясь как автомат, поднимается со своего места и выключает конфорки. Рахиль. Боже мой! Рахиль. В тот момент он думает именно о ней. Пытается представить, что творится в ее голове. И в этот момент самолет падает.
Лео чувствует, что ненавидит ее всей душой, как никого в своей жизни. Это она во всем виновата: она одновременно здесь и далеко, она ничего не делает и делает все, молчит, дышит, именно она приготовила такой вкусный ужин, включила телевизор, как раз эту программу, следуя своей дурной привычке смотреть новости по десять раз на дню. Она виновата в том, что не встает и не отвечает на телефонный звонок, что родила двух сыновей, присутствие которых сейчас просто невыносимо для него, в том, что она не может заткнуть Филиппо, помочь Самуэлю, впавшему в оцепенение…
Это она внушила детям, что Лео выдающийся человек. Как теперь этому почитаемому божеству признать свою слабость? Как он сможет теперь позволить себе сделать то, что хочет в данный момент — разрыдаться? Как сможет оправдываться, прибегнув к банальным извинениям, скрывшись за нелепым образом жертвы чудовищного недоразумения?
А почему это не может быть недоразумением? Лео уже не знает почему. Сейчас он совсем запутался. Достаточно взглянуть на письма, которые он отослал Камилле (этого он, конечно, не может отрицать), чтобы понять, что дело обстоит как раз наоборот. Нет, дорогой мой, твой папочка не уводил твою девчонку. Это она обольстила твоего папочку.
Достаточно было бы взглянуть и на сами обвинения, чтобы понять, что они не только плод его бесчестности, но также смесь глупости и безответственности. Хотя как раз это Рахиль должна понимать. Она ведь знает легкомыслие мужа. Она всю жизнь на него жаловалась, иногда с нежностью. Но тем не менее ей удалось сделать так, чтобы Филиппо и Самуэль даже не догадывались об этом качестве отца. Видишь? Это ее вина! Во всем виновата Рахиль!
Что сейчас делает Лео? То, что умеет делать лучше всего, — винит других. Сваливает вину на остальных. В сущности, речь идет о том же приеме, выверенном и действенном, который он применял много лет назад, чтобы защититься от нападок матери.
Когда синьора Понтекорво сердилась, маленький Лео в ответ обижался, принимал вызывающий вид. И мать, побежденная шантажом своего медвежонка, уступала. На ее лице расцветала улыбка примирения: «Ладно, любовь моя, ничего страшного. Давай мириться?»
Только тогда наш стратег давал волю великодушию и принимал извинения матери. Лео удалось ввести эту сцену и в обиход супружеской жизни.
Многие задавались вопросом, как человек с таким шармом и происхождением, как Лео Понтекорво, женился на этой еврейке ниоткуда. Ее сдержанность могла бы показаться апатией, а желание быть незаметной — пресностью. Как такой красивый и решительный мужчина с романтичной внешностью славянского пианиста (растрепанные волосы и длинные изящные пальцы), доктор медицины, чей белый халат шел ему, как некоторым дирижерам фрак, взял в жены неприметную, но грациозную Рахиль Спиццикино?
Извне их брак казался неравным… их воспоминания (да сами их жизни) звучат на разных языках. Жизнь Лео вяло тянулась в величественной квартире с высокими кессонированными потолками, полной массивной инкрустированной мебелью и бытовой техникой, которую в то время мало кто мог себе позволить.
Что касается Рахили, комнатушка, в которой она прожила свои первые двадцать пять лет, проводя их за учебой, комнатушка с окном, выходящим в узкий переулок старого Гетто, продолжает — хотя четверть века прошло уже с тех пор — испускать (по крайней мере, в ее воспоминаниях) невыносимый запах вареных и пережаренных овощей.
Но все то, что их разделяло когда-то, теперь их объединяет. Потому как именно это и есть секрет удачных браков, счастливых, несмотря ни на что, пар: не переставать восхищаться необычностью своего партнера.
Но кто бы мог подумать, что между этими двумя что-то не так? Что Лео настолько боится мнения своей жены и в то же время зависит от него и практически и психологически? Что между ними существует эмоциональная связь, напоминающая связь с ипохондричной и сверхзаботливой матерью? Никто там, за стенами дома, не мог даже представить, что новая синьора Понтекорво играет в жизни Лео роль, схожую с той, что играла старая синьора Понтекорво (она враждебно относилась к невестке, так, как это умеют только некоторые еврейские свекрови), — особый тип отношений, построенный на шантаже талантливого и капризно хрупкого мальчишки.
Когда Рахиль сердилась на мужа, тот не находил ничего лучше, как рассердиться в ответ, сделать недовольное выражение лица, которое с годами становилось уже смешным. В конце концов Рахиль, утомленная упрямством Лео — а упорствовать он мог до бесконечности, целыми неделями, — могла положить конец ссоре какой-нибудь шуткой, лаской, пустив в ход тонкую дипломатию, предложив ему, например, плитку белого шоколада, который он так любил. Одним словом, жена доказывает силу, проявляя уступчивость, в то время как муж обнаруживает слабость, упорствуя в своей обиде и оставляя ей инициативу (что только ребенок может считать унизительным) примирения.
Эта передача по телевидению была не чем иным, как последним кризисом затяжной и неизлечимой болезни, которая тянулась уже несколько недель. Все началось с тех непрекращающихся обвинений, из-за которых Лео потерял сон, а Рахиль утешала его, как мамочка. Их жизнь определенно начала меняться.
Именно в тот вечер, еще до того, как они включили телевизор, Рахиль положила конец ссоре, начавшейся накануне, когда Флавио и Рита Альбертацци, давние друзья, покинули их дом. Уже не в первый раз такое, казалось бы, приятное событие, как ужин с Альбертацци, становился причиной раздора. Но сейчас причина ссоры казалась столь мучительной и оставляла такое ощущение горечи и напряженности, что Рахили было просто необходимо зарыть топор войны быстрее, чем она делала это обычно.
«Я поставила кое-что разогреваться на кухне. Почему ты не идешь есть?» Она обратилась к Лео с этими словами, войдя в его кабинет в полуподвальном помещении, где он провел почти все воскресенье, слушая старые диски Рэя Чарльза. На досуге Лео успел забить свой кабинет-убежище всеми этими дисками. Гордостью коллекции стало собрание пластинок (в том числе самых редких, которые почти невозможно достать) именно Рэя Чарльза, перед которым Лео чувствовал какое-то мистическое благоговение. Только голос Рэя всегда мог успокоить его, когда он чувствовал себя подавленным или когда что-то не ладилось в жизни.
«Не хочется. Я не голоден», — ответил Лео, сделав потише звук магнитофона.
И тогда эта женушка, с чувственностью и теплотой, которую едва ли можно было в ней подозревать, нежно обняла его сзади и засмеялась:
«Ну же, Понтекорво, перестань! Хватит с меня двоих детишек, которые, кстати, уже давно за столом!»
В минуты близости она называла его по фамилии, как принято среди одноклассников, или «профессором», в память о тех временах, когда он был ее университетским преподавателем. Сентиментальный Лео не мог устоять, а особенно перед обращением «медвежонок», которое когда-то использовала его мать.
Тепло в голосе Рахили означало, что в тот момент ее любовь к нему приняла притворную форму жалости. И кто знает, почему подобное поведение, вместо того чтобы оскорбить его, напротив, сразу действовало на него успокаивающе.
«Я приду, только уложу баиньки старика Рэя и приду», — сказал он ей, переполненный той нежностью, которая дает возможность простить того, кто только что простил тебя.
Этот обмен репликами произошел минут за сорок пять до часа икс. Ни Рахиль, ни Лео не могли тогда даже представить, что это будет последним перемирием между мужчиной и женщиной, которые за много лет до этого, для того чтобы быть вместе, преодолели сопротивление двух совершенно разных семейств. Монтекки и Капулетти своего поколения!
Да, именно так, потому что Рахиль и Лео преодолели всевозможные препятствия и недоверие всех и вся, чтобы свою мечту о супружестве воплотить в реальность, которая постепенно, с приобретением этого прекрасного дома, рождением сыновей, его успехами на работе и ее безупречным ведением хозяйства, становилась все более блистательной и образцовой. Они еще не знали, что ссора, которую Рахили только что удалось прекратить, была последней в их истории перебранок и примирений (тайная археология каждого брака). Еще менее они могли вообразить себе, продолжая по дороге к кухне добродушно задирать друг друга, как два бывших армейских приятеля, что ужин, который они собирались съесть вместе и который так никогда и не был съеден, — их последнее совместное застолье, а слова, с которыми они обращались друг к другу, — последние слова их совместной жизни.
До катастрофы их отделяло несколько минут. И хотя с того дня Рахиль предпочла ни с кем не говорить о том, что произошло, отложив историю своего брака в потаенный уголок сознания, предав ее забвению, очень часто, после смерти мужа во сне, когда она теряла контроль над призраками прошлого, она спрашивала себя, не началась ли вся эта история накануне вечером, во время ужина с Альбертацци, не тогда ли полетели первые брызги той грязевой лавины, которая впоследствии снесла все. И возможно, именно Альбертацци каким-то образом притянули, подобно магниту, все эти несчастья.
Не случайно именно с того дня и потом, и особенно после смерти Лео, Рахиль решила никогда больше не отвечать ни на телефонные звонки Риты, ни на напыщенные письма Флавио, полные корыстными и абсолютно неуместными предложениями помощи и дружбы. Рахиль как будто желала переложить на них вину за произошедшее. Столько времени неся на своих плечах всю ответственность за этот хрупкий (как и все счастливые браки) союз, теперь, когда его постигло столь жалкое завершение, Рахиль перешла в наступление. Она видела в этой паре, бывшей друзьями ее мужу, но которую она в глубине души всегда ненавидела, если не виновников, то невыносимых свидетелей гротескного события, которое превратило ее спокойную жизнь на прекрасной вилле в Ольджате в борьбу за выживание.
Точно, парочка свидетелей.
Рита, которая сначала прилагала все усилия, чтобы ее муж порвал какие бы то ни было отношения с этим извращенцем Лео, после кончины последнего вдруг сделалась самым преданным и ярым хранителем его памяти. А Флавио даже перещеголял ее.
Парочка свидетелей, от которых лучше избавиться, со всеми доказательствами против и всеми мотивами преступления, о котором Рахиль больше не желала ничего слышать. Некоторых вещей трудно избежать, но лучше вспоминать о них много лет спустя. Но это уже совсем другая история.
Флавио Альбертацци сидел с Лео за одной партой все пять лет учебы в лицее. Он хорошо усвоил, что лучший способ избавиться от комплекса неполноценности, который внушали ему одноклассники, купавшиеся в роскоши, — это выставить напоказ свою бедность. Несдержанность, которая и тогда была одной из его самых неприятных черт, сейчас, когда благодаря упорству, ограничениям и выдающимся интеллектуальным способностям Флавио добился высокого социального статуса и внушительного счета в банке, стала почти невыносимым недостатком. Так, по крайней мере, считала Рахиль, предпочитавшая не выставлять, а скрывать свое положение, каким бы оно ни было.
Впервые Флавио появился в классе в коротких штанишках. Лео, одетый в синий костюм со складочками и манжетами, посчитал себя вправе спросить его: «Почему ты до сих пор ходишь в коротких штанишках?» В ответ он получил риторический вопрос, который раз и навсегда закрывал дискуссию: «Почему бы тебе не заняться своими делами?»
Обмен репликами состоялся в начале пятидесятых годов, и все последующие десятилетия друзья с удовольствием его пересказывали. Этот случай всегда вызывал у Рахили недоумение: почему ее мужу так нравится глупая история прошлых лет? Ведь он выглядит маленьким несносным снобом, которого друг с легкостью ставит на место. Для Рахили это было одной из тех загадок мужской дружбы, с которой, подобно многим женам своего поколения, ей приходилось только мириться.
Возможно ли, что Рахиль видела то, чего не замечал Лео? Что, несмотря на все прошедшие годы, Флавио продолжал относиться к нему как к капризному сынку богатого папочки? Подобная наивность мужа приводила ее в отчаяние. Это отчаяние усиливалось тем, что Лео, вопреки очевидным фактам, сам себя считал самым проницательным и разочарованным человеком в мире. И именно в тех ситуациях, когда жене он казался самым наивным.
В свое время, надо сказать, Флавио легко поддался очарованию хорошими манерами своего друга. В первый раз, когда он ступил своими огромными запыленными башмаками на скрипучий паркет дома Понтекорво, он предпочел думать, что очарование его друга заключается вовсе не в мраморе, мебели из настоящего дерева и коврах этой квартиры, а скорее в томах, выставленных в книжном шкафу у входа. Изящество выражений Лео, легкость речи, которой Флавио так завидовал, были почерпнуты из этих залежей культуры, а не из того мира, где функциональность интерьера непременно должна была сочетаться с двумя столь безнравственными понятиями, как красота и элегантность.
Несмотря на то что прошло уже столько лет, Флавио продолжал считать своей личной заслугой тот факт, что его друг наряду с медицинской карьерой возжелал посвятить себя научной деятельности, чего трудно было бы ожидать от этого красивого, избалованного и беззаботного мальчика.
«Просто невероятно, что тебя не испортило все то, что ты имел! — не уставал повторять Флавио с чувством удовлетворения. — Да еще в те времена, когда ни у кого ничего не было!» А Лео радовался одобрению того, кто, в сущности, никогда и не пытался стать кем-то иным, не тем, кем стал в этой жизни.
Со своей стороны Лео с моральным удовлетворением следил за тем, как Флавио, шестой, младший ребенок из многодетной семьи простого рабочего, завоевывал свое место под солнцем. Будучи одним из первых итальянцев, защитившихся по информационной инженерии (в те времена это называлось так), сейчас Флавио занимал должность уполномоченного представителя компании, которая занималась разработкой передовых технологий для Оливетти.
Флавио, несмотря на то, что был не менее страстным приверженцем научного прогресса, чем Лео, в отличие от последнего, считал итальянское общество тех лет безнадежно отсталым. Благосостояние. Вульгарность. Безделье. (Телевидение! Как же он ненавидел телевидение!) Он частенько повторял эти слова, с них всегда начинались его бесконечные споры с Лео. Еще одна вещь, которую ненавидел Флавио, — чемпионат мира по футболу, который Италия выиграла в Испании годом ранее. Тогда немцы были разбиты в пух и прах в славном финале на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Флавио придавал символическое и вредоносное значение этому спортивному событию.
«Народ поддался иллюзии, что выиграть — самая важная вещь на свете. Это событие породило в людях дух соревнования и стремления к победе. Мы все стали немного американцами. Президент Республики, социалист, человек, который участвовал в Сопротивлении, рисковал собственной шкурой, борясь с нацизмом, теперь поднимает этот вульгарный золотой кубок… Не слишком величественное зрелище! Но ничего удивительного, что мадридский финал стал одной из самых популярных программ в истории итальянского телевидения. Как видишь, tout se tient!»
Тут уж Лео, будучи не только ярым сторонником модернизации страны, но и футбольным фанатом, вынужден был защищать со шпагой наголо героев Мадрида и логику телевизионщиков. Знал бы он тогда, как ему это аукнется!
В отличие от Лео, Флавио никогда не повышал голоса. Он мог довести тебя до ручки спокойно, пускаясь в гладкие, как его довольное лицо, рассуждения. Верный принципам марксизма, он ничему не доверял и забрасывал собеседника риторическими вопросами. Но и у него имелось слабое место.
Жена, Рита. Ее он любил больше всей математики и политических идей, отличающихся внешним прагматизмом и идеалистичных по сути. Высокая худая женщина с вьющимися волосами, угловатая, всегда на грани нервного срыва. Ее невероятная худоба совсем не вязалась с ее прожорливостью. Тонкие сигареты, которые она постоянно вертела в руках, казались продолжением ее острых и костлявых пальцев. Иногда она напоминала скелет, окутанный облаком сигаретного дыма. Иногда в лучах безжалостного неонового света кухни Понтекорво она вызывала в памяти одну из тех содержательниц притонов, которых писал Тулуз-Лотрек. Для Риты выйти замуж за Флавио было одной из самых рискованных выходок назло богатеньким родителям. И хотя она много лет не общалась со своей семьей — династией, владевшей огромными участками земли неподалеку от Рима и сделавшей на этом свое состояние, — казалось, она унаследовала от этих спекулянтов наглость и отсутствие такта. В отличие от мужа в своем вызывающем поведении она опиралась на предрассудки и стервозность. «Это все вагина! — думал иной раз Лео. — Вагина — самый капризный орган, созданный природой, которая к тому же наделила его даром речи».
Возмущение Риты по поводу неравенства стало для нее предлогом говорить гадости в резкой и надменной манере. Она не знала границ. Возможно оттого, что ей пришлось бороться со своим семейством, она потеряла контроль над собой. Возможно, именно это семейство своим примером научило ее несдержанности. В свое время Рита не без пользы училась на филологическом факультете. И все еще безнаказанно хвасталась тем, что выступила против одного профессора, спесивого зануды и книжного червя, который навязывал студентам программу по Монтале, буржуазному, реакционному и упадническому поэту.
Рита вспоминала такие вещи с желчью и обидой, которые полностью поглощали ее.
Рахиль, не будучи большим специалистом по части социологии, в отличие от рассказчика сей истории полагала, что истинная причина боли, терзавшей костлявое тело Риты, заключалась в ее неспособности иметь детей.
«Если бы у нее были дети, — не раз говорила Рахиль своему мужу, — она бы сейчас не рассказывала все эти дурацкие истории».
Да, дети. Дети, по крайней мере для Рахили, были объяснением всего. Именно поэтому она старалась, чтобы, когда Альбертацци приходили к ним в гости, Филиппо и Самуэль ни в коем случае не попадались им на глаза. Она не хотела расстраивать Риту. А тем более не желала видеть, как ее так называемая подруга скрывала собственные страдания, отпуская едкие замечания относительно полноты Филиппо или девчачьего увлечения Самуэля мюзиклами. Все выглядело так, будто Рахиль делала все из сострадания к этой женщине. Но это сострадание было способом унять раздражение, которое Рита вызывала в ней любым своим проявлением, а особенно тем, как она избавлялась от собственных дурных мыслей.
Рахили было сложно привыкнуть ко всем этим людям после того, как Лео оставил после себя выжженную землю. Ее коробило от их культурного снобизма и политического экстремизма. Отец Рахили, синьор Спиццикино, слишком много усилий приложил для обеспечения себе определенного положения в обществе, чтобы думать еще о политике. Для него на вопрос о том, что правильно, а что неправильно, отвечала религия. А Рахиль усвоила для себя истину, что всякий, кто много болтает об абстрактных идеях, смешон. Слово «коммунист» в доме Спиццикино едва ли не равнялось понятию фашист, и хотя коммунисты, по крайней мере в Италии, не преследовали евреев, отец Рахили все равно навязчиво валил их в одну кучу с Гитлером.
Из всех приятелей мужа предубеждения Рахили касались прежде всего Риты. Непоследовательный и сложный характер этой женщины раздражал простую и прямолинейную Рахиль. Часто она даже сердилась на Лео из-за его снисходительности, неспособности возмутиться некоторыми неприятными противоречиями в характере и поведении подруги.
Рахиль вспоминала не раз, как Рита устроила сцену в ресторане из-за того, что какой-то тип вошел туда с собакой. В то время Рита ненавидела собак, точнее — боялась их. А потому закатила истерику: это было неприлично, но ничего нельзя было поделать. Все вышло весьма неприятно, включая агрессивную реакцию господина с собакой. Рахиль не выносила публичных скандалов. Она была застенчивой и скромной женщиной. Даже когда по отношению к ней поступали несправедливо, от нее трудно было ждать шумного возмущения или выражения какого-либо неудовольствия. С ней обошлись невежливо в ресторане? Что ж, она больше ногой туда не ступит. Она не прощала невоспитанности. Если вдруг ее муж по ошибке возвращался в место, занесенное ею в черный список, Рахиль могла закатить ему сцену, только чтобы туда не ходить. Такова была ее принципиальность и даже злопамятность.
В остальном она готова была терпеть любой произвол официантов, клиентов или владельцев ресторана. Она спокойно переносила опоздания или пренебрежение в обслуживании. Запредельную сумму в счете. Упаси боже устроить скандал или ввязаться в спор, заставить почувствовать другого человека негодяем.
Слишком еще живо было воспоминание об отце, который сидел в ресторане, надвинув на нос свои очки лавочника, и комментировал каждый пункт в счете. Не говоря уже о тех случаях, когда, обнаружив ошибку, он звал владельца и достаточно грубо заявлял ему об этом. С тех пор Рахиль поклялась себе — никогда в жизни! Никогда в жизни я больше не буду свидетельницей таких сцен! Ни за что в жизни не испытаю больше подобного унижения. Никогда не буду унижена и никого не буду унижать.
Она верно соблюдала данную клятву до тех пор, пока в ее жизни не появилась Рита. Настоящая скандалистка. Она не упускала ни малейшей возможности поругаться с кем-нибудь. Всегда замечала чужую оплошность. Как с тем господином с собакой.
«Как такое возможно?! — сказала громко Рита. — Вам кажется нормальным подобное хамство? Пустить в ресторан человека с собакой! Хорошенькое воспитание! Уму непостижимо! И никто ему так ничего и не скажет? — После того как ее слова остались без внимания, недовольная Рита увеличила на несколько децибел громкость и добавила: — Советую всем здесь присутствующим больше не приходить в этот ресторан!»
Проблема заключалась в том, что на этот раз Рита столкнулась со своим «двойником» (там, снаружи, таких людей полно), которому не понравились ее слова: «Вместо того чтобы устраивать эту сцену, вы не могли просто вежливо попросить меня вывести собаку?»
«Вы полагаете, что я с вами разговариваю? Мне так не кажется. Я разговаривала с друзьями. Но раз вы ко мне обратились, знайте, что вы просто невоспитанный человек. Невежа. К счастью, среди моих знакомых подобных людей немного!»
Флавио и Лео попытались вмешаться, чтобы исправить положение.
Все вышло как обычно.
По иронии судьбы, спустя несколько лет после случая в ресторане Рита (осужденная на бесплодие) получила в подарок от своей сестры щенка-бобтейля. Сначала она растерялась, но по прошествии нескольких дней вынужденного совместного проживания с милой зверушкой всей душой привязалась к этому созданию. Ей очень быстро удалось преодолеть старые страхи перед животными и особенно перед собаками. С тех пор Рита и Джорджия (так звали собаку) стали неразлучны. Рита заботилась о корме Джорджии, о благополучии Джорджии, о здоровье Джорджии больше, чем Рахиль — о своих сыновьях. Болезненная привязанность Риты дошла до того, что она таскала за собой собаку повсюду. Она не могла доверить ее никому и носила ее с собой, могла даже привести в ресторан.
Обычно люди относились к ней с бо́льшим пониманием, чем она к людям, но однажды Рите попалась синьора с аллергией на собачью шерсть. Она попросила официанта передать Рите, чтобы та вывела Джорджию.
Действие происходило в одном из ресторанчиков Ольджаты. На улице лил проливной дождь. Рита потеряла контроль над собой. Она принялась возмущаться, придав своему голосу патетический тон: «Я спрашиваю себя, как люди могут быть такими жестокими. Я бы выставила некоторых из них в ливень на улицу! Какая бесчеловечность!»
Джорджия уже несколько минут была на улице, она устроилась на террасе ресторана и смотрела на хозяйку, которая сидела за окном. А хозяйка не прекращала громким голосом комментировать наглость, с которой та женщина осмелилась требовать, чтобы ее Джорджию — самое удивительное, доброе, нежное, чистое («в сто раз чище этого вонючего ресторана») создание — изгнали «как еврея».
«Но почему эта женщина всегда ведет себя так?! — взорвалась Рахиль в тот же вечер, оставшись наедине с Лео, пока тот раздевался, не без тщеславия поглядывая на себя в зеркало в маленькой гардеробной напротив спальни. — Еще пару лет назад она нападала на каждого, кто позволял себе привести собаку в ресторан. Помнишь, какую сцену она устроила? Теперь же виноват тот, кто ей не позволяет притащить собаку. И только потому, что собака-то ее. И где логика?»
«Никто тебя так не злит, как Рита», — сдержанно прокомментировал ее муж.
«Да меня бесит ее бесстыдство. Грубость. Забывчивость. Способность обратить все в свою пользу. Ее нежелание замечать очевидные вещи. Уверенность в собственной правоте. А эта история с евреями. Как она смеет сравнивать трагедию еврейского народа с приключениями самой избалованной в мире собачонки?»
Лео понимал, что Рахиль права. Он давно знал Риту. Знал, что она принадлежит к той бо́льшей части человечества, которая руководствуется принципами собственной выгоды и лишена тех моральных устоев, которые заставляют таких людей, как Рахиль, поступать прямо противоположным образом. Ты была готова поставить на уши весь белый свет, чтобы с собаками нельзя было войти в ресторан? Так значит, ты и свою собаку ни за что не возьмешь с собой в ресторан. Если только ты не Рита Альбертацци. А если тебя зовут именно так, ты сделаешь то, что сочтешь удобным для себя. Как будто у тебя есть особое преимущество перед всеми остальными, только ты имеешь право осудить всякого, кто станет на твоем пути, растоптать и уничтожить его.
Кстати, об убеждениях. Насколько Рита навязывала свои остальным, настолько она пренебрегала убеждениями других.
Из всех людей (и католиков, и людей, далеких от религии), с которыми Лео заставлял общаться Рахиль и которые смотрели на их иудаизм со смешаным чувством любопытства, иронии и подозрительности, Рита больше других любила высказаться по поводу их еврейства.
Однажды она позвонила и спросила Рахиль и Лео, свободны ли они во вторник вечером. Она пригласила на ужин людей, которые жаждали познакомиться с Лео. В те годы Лео пользовался определенной славой, к которой Рита была весьма неравнодушна, так как ее привлекала всякая форма известности. Даже самой темной. При том, что она жила, будучи убежденной, будто ей удалось освободиться от пут столь ненавидимой ею семьи, на самом деле она унаследовала от нее любовь и талант собирать в своем доме тех, кого она называла «серьезными людьми». Не важно, что интересы ее родителей основывались на материальном благосостоянии, а ее собственные — на политической, артистической или интеллектуальной славе.
Этим вечером она особенно дорожила. К ним должен был прийти известный режиссер. А также выдающийся издатель. Но главное — венгерский посланник («блистательный персонаж, полиглот, коммунист, образованный, не то что наши трусишки,» — Рита произнесла в его честь настоящую хвалебную оду). В общем, Рита желала представить Лео этих людей и Лео этим людям. С тех пор как Лео стал вести в «Коррьере» рубрику «Лучше предотвратить, чем лечить», он стал кумиром всех ипохондриков страны.
Рита всегда приглашала Рахиль на эти вечера. И Рахиль чувствовала себя как представитель прессы, чья единственная функция состоит в том, чтобы ставить палки в колеса тем, кто желает прославиться. Рахиль прекрасно знала, что Рита была среди тех, кто про их брак с Лео вопрошал — как такой мужчина мог жениться на этой женщине. И если бы однажды на званый вечер к Рите Лео пришел бы без Рахили, хозяйка дома даже не заметила бы этого. А вот случись обратное, Рите наверняка пришлось бы совладать с собой, чтоб удержаться и не выгнать ее из дому. Она бы чувствовала себя как глава государства, который пригласил президента другой страны и, встречая в аэропорту, увидел бы, как с трапа самолета спускается к нему неизвестное уполномоченное лицо. «К сожалению, во вторник мы не можем», — ответила ей Рахиль. «И почему это вы не можете?» — спросила Рита голосом человека, тонущего в озере и молящего о помощи.
«Потому что во вторник Йом-Кипур!»
«И что?»
«Поэтому мы не можем встречаться с друзьями, не можем есть, ничего не можем делать».
«Да, но просто… я приглашаю вас вечером».
«Я знаю. Но Йом-Кипур длится весь день. Двадцать шесть часов».
Рахиль не понимала, почему она должна объясняться. Она не любила говорить о своей религии. В отличие от нее, Лео не упускал возможности щегольнуть высокопарной фразой вроде «библейский народ», «союз избранного народа и Французской революции». Если бы только он соблюдал закон с тем же убеждением, с каким нес всю эту околесицу, он был бы самым святым человеком на свете. Однако Рахиль предпочитала воздерживаться от комментариев. Она четко усвоила урок своего отца — есть вещи, о которых лучше не говорить. Особенно с теми, кто не принадлежит «кругу» (подобный эвфемизм отец Рахили употреблял по отношению к евреям). Но в этот раз, бог знает почему (только Рита могла вынудить ее на это), Рахиль, ужасно сердясь на себя, стала объяснять подробнее, чем требовалось. И была наказана.
«Брось! Какие глупости! Речь идет только об одном разе! Это очень важный вечер. Не думаю, что посла интересует ваш Йом-Кипур. Он из коммунистической страны, в которой уже отказались от всякой ерунды».
«Но это важно для нас!»
«Для вас? Ты хочешь сказать — для тебя? Твой муж постоянно посмеивается над всякими предрассудками. Позволь хоть ему жить так, как ему нравится».
«Я ни к чему его не принуждаю!»
Видите? Эта женщина вечно заставляла тебя оправдываться. Ее инквизиторская манера вынуждала тебя давать объяснения, которые ты не желал и не обязан был давать.
«Тебе не кажется, что это нечто бессмысленное, устаревшее и дикое?»
«Ты о чем?»
«Ну, вся эта история с Йом-Кипуром… Не пора бы освободиться от…»
«Послушай, Рита…» — голос Рахили задрожал. Она была из тех людей, которые изо всех сил стараются держать себя под контролем, потому что, когда они теряют терпение, они делают это в самой неприятной и непредсказуемой форме. Рахиль едва сдерживалась, чтобы не взорваться. Но по собственной дрожи в голосе она понимала, что уже находится на пределе. Она с удовольствием бы высказала Рите все, что у нее накопилось на душе за это время. Она сказала бы, что Рита не должна вмешиваться в их отношения с Лео, не должна позволять себе говорить пренебрежительно о такой важной вещи, как Йом-Кипур, что она обязана прекратить интриговать и не смеет относиться к ней как к невежде. Но именно в этот момент Рита с интуицией женщины, обладающей большой свободой выражения, но способной понять по тону собеседника, когда нельзя переступать определенные границы, сделала шаг назад. Как и все хамоватые личности, Рита была малодушна. Естественно, она не стала просить прощения, но начала оправдываться так, что от ее оправданий стало только хуже:
«Хорошо. Не приходите. Я понимаю. Если для тебя с Лео это важно… Но позволь мне сказать, я сочувствую вам. Это была бы хорошая возможность для твоего мужа. Я не стану говорить, что организовала ужин специально для него, но это почти так. Знаешь, славы медицинского светила недостаточно. Недостаточно вести в газетах колонки, которые, на мой вкус, немножко банальны. Нужно поддерживать общение». (Рита никогда не употребляла слово «связи», еще реже — «дружба».)
«Я полагаю, что знакомство с венгерским посланником открыло бы перед ним новые перспективы. Он мог бы, например, поехать в Будапешт и организовать там несколько конференций. Это серьезное дело. Могло бы изменить человеку карьеру».
Вот в чем Рита была поистине сильна: вызывать чувство вины. Повесить на тебя все свои несчастья и беды. Заставить чувствовать себя виноватым из-за твоего предполагаемого нежелания прийти на помощь. Попытаться убедить тебя (с самым наглым выражением на лице!), что это именно она старается сделать тебе добро, несмотря на то, что ты перед ней в долгу. Изобразить из себя бескорыстную благодетельницу. Кроме всего прочего, Рахиль не выносила ее недоверия к людям. Подозрительность Риты была безгранична. И даже Рахиль, пришедшая из мира, в котором царствовало недоверие к ближнему своему, не понимала, как женщина с воспитанием Риты может быть такой опасливой. Рита жила в постоянном страхе, что ее кто-то надует.
Был еще один случай, когда Рахиль согласилась пойти с Ритой за покупками. Был январь период скидок. Ужасная история. Рита в очередной раз повела себя в своем духе. «Насколько я помню, — сказала она одному из продавцов, — эти туфли шли по той же самой цене и в прошлом месяце, до скидок!»
«Это дело принципа, — стала оправдываться Рита, почувствовав затаенное раздражение Рахили. — Не выношу, когда эти люди пытаются меня надуть».
Она исходила из убеждения, что страна, в которой ей довелось родиться, и город, в котором она жила, были символом всякой грязи и жульничества.
Можно было подумать, что отстаивание принципов стало для нее способом защитить себя от всей той несправедливости и насилия, которые преследовали ее с самого рождения.
Рахиль казалось, что недоверчивость Риты по отношению к ближнему совсем не вязалась с сентиментальными нотками, которые начинали звучать в ее голосе, когда она заводила свои политические речи о «народе». Как будто из понятия «народ» исключалось огромное количество людей, которых Рита презирала, вроде официантов или торговцев обувью. Для нее «народ» был абстрактным понятием, возведенным в идеал, далеким от реального земного воплощения, часто подлого и вонючего.
«Ну почему она всегда говорит с таким пиететом о народе вообще и так дурно об отдельно взятых людях?!» — спрашивала измученная долгими ужинами в компании Альбертацци Рахиль у своего мужа.
«Потому что она коммунистка», — всякий раз отвечал Лео.
В конце концов Рахиль ради любви к Лео и благодаря присущему ей смирению, которое призывало ее любить все то, что любит он, и желать того же, чего он желает, привязалась даже к Рите и к ее педантичному супругу. Руководствуясь больше терпением, чем уважением, пониманием, чем симпатией, она стала считать друзей мужа одной из тех надежных привычек, которые связывают любую буржуазную семью. Не найдя в этой паре каких-то особенных достоинств, Рахиль научилась переносить недостатки каждого из них.
Скажем так, она продолжала подавлять зевоту всякий раз, когда Флавио принимался за свои филологические разглагольствования, считать непозволительными сцены, которые закатывала Рита владельцам ресторанов и обувных лавок, но стала принимать все это со смирением, с которым терпела некоторые недостатки мужа, сыновей, жизни и мира в целом.
Со временем Рахиль научилась избегать некоторых политических тем, чтобы не быть обвиненной в реакционности только потому, что высказывала здравые мысли.
Каждый раз, когда Альбертацци приходили на ужин, она поручала Тельме (ответственной в то время за кухню в доме Понтекорво) приготовить торт капрезе, от которого Флавио сходил с ума, а также кончу[4] и помидоры с рисом, которые обожала Рита. Однако она запрещала Тельме появляться в обеденной комнате, чтобы Рита не начала говорить что-то вроде: «Как ты можешь принуждать другого человека обслуживать тебя, даже не предложив ему сесть с тобой за один стол!» Зная, что она никогда не привыкнет к этим Ритиным высказываниям, Рахиль предпочитала не давать для них повода.
Именно на такой волне, в ту субботу, за несколько часов до окончательного краха, возможно, в силу некоего предчувствия Рахиль сделала все, чтобы воспрепятствовать приходу Альбертацци к ним на ужин. Она вовсе не была с ними в ссоре. Тем не менее ей было неприятно обсуждать юридические обвинения, которые уже были выдвинуты против Лео, не говоря уже о газетных заметках, в которых о нем говорилось. А ведь неслучайно Рита, с тех пор как вернулась с мужем из своего традиционного месячного путешествия в Южную Америку, осаждала ее телефонными звонками. Было очевидно — Рита хотела побольше узнать. Она часами держала Рахиль у телефона, не боясь даже долгих пауз, в надежде, что та нарушит свой обет молчания и выболтает какой-нибудь секрет, который ее так интересует. Очевидно, Рита надеялась, что подруга скажет хотя бы словечко о том, как ей плохо, начнет жаловаться, даже плакать. Но Рахиль точно не собиралась доставлять ей подобное удовольствие.
Но тот вечер? Боже, тот вечер стал настоящим кошмаром. Смогла бы она сдержаться перед этой гиеной — Ритой? Смогла бы не попасться в ловушку? Возможно, да. А Лео? Ему она не могла доверять. Предположим даже, что Лео смог бы себя контролировать и что Флавио (верный друг) оценил бы его сдержанность. Но только не Рита! Отпустить какой-нибудь отвратительный комментарий было в ее характере.
Рахиль в очередной раз вспомнила историю, которую, смеясь, однажды рассказал Лео. Это случилось много лет назад. Рита пригласила в ресторан избранный круг друзей, чтобы отпраздновать первое уголовное обвинение, выдвинутое против ее отца. «Ему дали три года, этому сукину сыну! — не переставала повторять она, напиваясь все сильней и сильней. — Кажется, что эта страна начинает что-то понимать. Возможно, тут еще не все потеряно. — И затем произнесла: — Наконец-то они заметили, с какими преступниками якшаются».
«И почему, — спрашивала Рахиль, — вы согласились присутствовать при этой отвратительной сцене?»
«Знаешь, дорогая, те годы, особая атмосфера. Родители — злейшие враги. Противники свободных идей. Оставим твою семью безнадежно отсталых геронтофилов, состоящую из кучи блаженных евреев, которых нужно было почитать… Во всем остальном мире быть старым считалось страшным обвинением. Париж, Беркли, Валле Джулия — вот к чему мы готовились, не знаю, понимаешь ли ты меня… И Рита воспринимала всю эту чепуху буквально. Конечно, родители представлялись ей злом».
Эта история, столь забавлявшая Лео, Рахили совсем не казалась смешной. Пусть, как говорил Лео, она была упертой еврейкой, родом из «семьи геронтофилов», но она не могла понять, как можно праздновать арест собственного отца. Рахиль обожала своего папочку, делала все, чтобы угодить ему, и ей было непонятно, как дочь, получившая такие возможности благодаря своим родителям, может питать к ним чувство отвращения и ненависти и проявлять их с такой бесстыдной откровенностью. Она видела в этом нечто болезненное и не хотела иметь дело с подобными людьми.
Вот почему, учитывая все вышесказанное и постоянные звонки в последние дни, назойливые вопросы — это лучшее, чего можно было ожидать в тот вечер от персоны, которая пила с друзьями за арест своего отца.
Рахиль смогла привыкнуть ко многим неудобствам, которые принес ей неравный брак, кроме одного — почти полному отсутствию внутренней сдержанности. Эти люди не знали границ, не ведали стыда. Для них не было ничего святого, над чем они не могли бы посмеяться, пошутить. В первые годы замужества она почти поверила, что подобное отсутствие притворства есть способ утверждения собственной свободы от тех мелкобуржуазных привычек, которые прививались традиционным воспитанием. Она даже задавалась вопросом, не является ли способность говорить все и ничего не скрывать особой формой аристократизма, которую ее происхождение не позволяет ей постичь. Часто с удивлением она смотрела на мужа, который запросто раскрывал какой-нибудь семейный секрет. Сколько раз она с открытым ртом слушала, как он говорил своему собеседнику все, что ему приходило на ум.
Наконец она поняла, что это делалось не для того, чтобы позлить ее. Он не опустился бы до такого поведения. Ей все это не нравилось. Серьезные вещи по своей природе требуют такта и осмотрительности, они не должны становиться предметом очередной веселой истории, предназначенной для приятелей или посторонних ушей. Нескромность не должна становиться поводом для проявления остроумия. Рахиль предпочитала иметь много секретов, чем совсем их не иметь. С одной стороны, постоянная путаница между важным и неважным, между тем, о чем можно и о чем нельзя говорить, заставила этих людей утратить чувство приоритета. С другой стороны, эти люди разучились понимать разницу между пристойным и непристойным, важным и неважным. Очень часто они не щадили ради красного словца чувствительность других.
Рахиль со стыдом и неудовольствием вспоминала случай, когда ее будущий муж, сам того не заметив, унизил ее кузину. Лео и Рахиль тогда только познакомились. Он был надменным и несдержанным помощником профессора Мейера, Рахиль — живой, увлеченной своим делом студенткой, которой Лео после сурового академического экзамена поставил заслуженный высший бал и пригласил на ужин. Отец Рахили, придерживавшийся несколько устаревших традиций, настоял, чтобы при встречах Рахили и «этого профессора» присутствовала Сара, младшая кузина, молчаливая и застенчивая девушка, настоящий синий чулок. Лео вынужден был оплачивать ужин и билет в кино не только своей девушке, но и ее кузине. Как-то раз, то ли из-за раздражения, вызванного присутствием третьего лишнего, то ли попросту из любви посмеяться над другими, оплатив очередной счет в одном из приморских ресторанчиков в районе Фреджены, Лео спросил у Сары: «Послушай, ты никогда даже не предложила заплатить за себя. Ты просто убогая или действительно бедна?»
Застенчивая и пугливая Сара не могла знать, что в словаре Понтекорво слово «убогий» применялось по отношению к огромному числу людей из их круга, которые, даже рассчитывая на огромное наследство, вели жизнь на грани нищеты из простой скупости.
Не догадываясь, какие оттенки значения несет в себе это выражение, Сара заплакала. А Рахиль потом еще много дней не отвечала на звонки Лео. Затем она дала ему возможность объясниться и попросить прощения, возмутившись: «Как ты мог позволить себе такую злую выходку? Как можно так унизить человека?»
«Но это была просто шутка. Бог мой, какие же вы чувствительные натуры! Почему вы все воспринимаете всерьез? Если хочешь, я попрошу у нее прощения, но уверяю тебя, я совсем не хотел оскорбить ее!»
«Видишь, вот об этом я и говорю. Ты не придаешь словам никакого значения. Я для тебя тоже чувствительная натура?»
«Перестань, малышка, я же шучу».
«Настанет ли когда-нибудь тот день, когда ты перестанешь шутить?»
Сейчас, двадцать лет спустя, этот день настал. Но Рахиль не была уверена, что Лео это заметил: она подозревала, что со временем то, что она полагала простой игрой, стало способом, при помощи которого ее муж и все его друзья старались отдалить проблемы или разделаться с ними окончательно. И все было бы не так уж плохо, если бы на голову Лео не обрушилось действительно серьезное бедствие, а он из-за своего глупого легкомыслия даже не догадался о масштабах этого бедствия (или, по крайней мере, сделал вид, что не догадался).
Поскольку Рахиль знала, что новости о преступлении просто сразили мужа наповал, ее удивляло, что он говорит об этом так легко. Он как будто подавлял в себе тревогу дома и на людях и при этом сознательно не придавал значения обстоятельствам, которые так волновали ее. Более того, он мог пошутить над происходящим. Поэтому в последнее время, даже заметив, что Лео страдает от бессонницы ночью, а днем вздрагивает при малейшем шорохе, как будто боясь нападения, Рахиль делала вид, что она верит в показное легкомыслие и безразличие мужа. Один бог знает, как ей хотелось встряхнуть его. Сказать ему, что да, положение дел серьезно, но поправимо. Сказать ему, чтобы он прекратил изображать из себя шута, что это неуместно.
Как в то утро несколькими днями ранее, когда во время завтрака Лео начал подшучивать над Филиппо, который только что допил свой несквик и попросил отца подбросить его до школы. Лео, получивший накануне очередное уведомление из суда, сказал ему: «Что, сопляк, ты не боишься сесть в одну машину со злостным преступником?»
Допустим, дети что-то знали или догадывались. По крайней мере Филиппо. (Накануне он спросил кое-что у Рахили, очевидно побуждаемый расспросами товарищей.) Хотя мать с самого начала старалась держать ребят подальше от всей этой грязи, какие-то слухи не могли не дойти до них. Но к чему были эти шутки? Зачем вовлекать в свои судебные разбирательства детей, причем используя двусмысленные намеки, которые могли их особенно ранить. А правда заключалась как раз в том, что Лео хотел заставить волноваться ее и сыновей. Просто потому, что он сам был очень обеспокоен происходящим и, не признавая этого, хотел выпустить пар на своих близких. Когда Филиппо спросил его, зачем он говорит такие вещи, Лео спрятался за одну из тех фраз, которые якобы призваны успокоить тебя, но на самом деле достигают ровно противоположного эффекта: «Ничего-ничего, я пошутил. Все в порядке».
Ненадежность мужа, столь раздражавшая Рахиль, проявлялась именно в такие моменты. Он притворяется, что все хорошо, и именно это делает ситуацию невыносимой. Он желает казаться безразличным, в то время как полностью сосредоточен на проблеме. Он делает вид, что его ничего не волнует, а сам только и думает об этом. Лжет, что ему нисколько не стыдно, а сам не спит от стыда. Отрицает, что ему страшно, а сам дрожит от страха.
Учитывая все обстоятельства, только Риты и Флавио здесь и не хватало. Вечер с самыми опасными и непредсказуемыми друзьями. Запахло жареным. И Рахиль не знала, кого ей стоит опасаться больше — Лео или этой парочки. В одном она не сомневалась: кто-нибудь из них точно устроит спектакль, и она всей душой желала этого избежать. Нет, она не была готова к такому вечеру. Вот почему в субботу утром, когда еще было время все отменить, она спросила у Лео, можно ли перенести встречу с друзьями… Она все сделает сама. Ему ни о чем не надо будет думать. Она позвонит Рите, чтобы…
«А зачем тебе это делать?»
«Э-э, знаешь, во-первых, я устала, я не спала сегодня ночью. Кроме того, Тельма сегодня плохо себя чувствует. Не могу же я заставлять ее готовить».
«Что с ней? Температура? Опять болит горло? Хочешь, я посмотрю ее». Как будто речь шла об испорченной бытовой технике или заболевшей лошади.
«Да нет, нет, она не может, потому что у нее… Ну это, по женской части».
«Она взрослая женщина и должна бы уже привыкнуть к подобным вещам. Это не должно мешать ей исполнять свои обязанности».
«Но в этот раз…»
«Что в этот раз?»
«Мне кажется, что ей особенно тяжело».
«Это она тебе сказала? Она жаловалась, говорила, что не может готовить?»
«Нет, но послушай, разве о таких вещах говорят?»
«Но ты со своей необычайной интуицией…»
«Да, какие-то вещи понимаю сразу. Она выдохлась. Знаешь, как плохо она переносит жару. И вообще, извини, ты сам не устал принимать гостей каждый вечер? Ты их приглашаешь несколько недель подряд. Может, хоть один вечер…»
«Что ты имеешь в виду?»
«То, что я сказала. Вот уже несколько недель подряд ты кого-нибудь приглашаешь на ужин. Создается такое впечатление, что ты не хочешь провести хотя бы вечер только со мной и сыновьями. Как будто нас недостаточно».
«И в чем причина, по-твоему?»
«У меня нет ни малейшего представления. Возможно, я сейчас говорю как жена, которой недостает внимания. Ладно, шучу. Я знаю, что ты обожаешь, когда к нам приходят. А мне нравится, когда ты доволен. Я знаю, что летом ты любишь есть на террасе, тебе нравится белое вино, нарезанные персики… А я стараюсь во всем угодить тебе».
«Прошу тебя, только не начинай перечислять все, что ты делаешь для меня. Что не так? Говори по существу. Чем тебе сегодня не угодили мои самые дорогие друзья, с которыми я не виделся целую вечность? Ты не хочешь, чтобы они путались под ногами?»
«Я не понимаю, о чем ты говоришь!»
«Ты прекрасно понимаешь. Жара и месячные служанки тут ни при чем».
«Не будь грубым, пожалуйста. Я этого не выношу. Если ты хочешь, чтобы я тебе сказала то, что думаю на самом деле… что ж. В общем, я думаю, что каждый вечер ты зовешь людей к нам на ужин, чтобы показать, что последние события тебя не волнуют и именно поэтому ты только о них и говоришь, шутишь, смеешься. Ты даже стал пить больше, чем обычно. Смысл послания: „Смотрите, профессор Понтекорво в порядке. Он непоколебим. Он не сломлен“.»
«Итак, месячные служанки, как я погляжу, это только предлог, придуманный ответственной женой, чтобы защитить безнадежного мужа-алкоголика от самого себя. Мужа, которого ты даже немного стыдишься».
«Только не разыгрывай драму».
«Это ты, изобретая невероятные истории, только бы не сказать, что думаешь на самом деле, разыгрываешь драму».
«А если бы я тебе сказала, что думаю не только о тебе, но и о себе? И мне совсем не хочется видеть на ужине эту женщину, которая будет веселиться, что бы с нами ни происходило!»
«Эта женщина? Веселиться? Так вот что ты о ней думаешь? Какая-то женщина, которая всегда веселится? Меня поражает, как ты могла общаться все эти годы с такой ведьмой».
«А что еще можно сказать про женщину, которая устроила праздник, когда ее отцу дали три года. Подумай, какой бы прием она устроила, если бы бедняге дали пожизненное!»
«Оставим в стороне тот факт, что определение „бедняга“ менее всего подходит отцу Риты… Уверяю тебя, что ты ошибаешься. Рита меня любит, она нас любит. Не говоря уже о Флавио. Он единственный друг, которому я полностью доверяю. Он единственный человек, который готов сделать все для меня. Он бы обиделся, если бы в такой момент я держал его в стороне».
«Ах, вот что тебя беспокоит больше всего. Боишься обидеть своего друга, оставив его в стороне…»
«Я не сказал, что только поэтому… Но и поэтому тоже… И потом, если Рита попытается…»
«И если она попытается, то что?»
«Я ее поставлю на место, черт возьми! Хотя этого никогда не случится. Флавио и Рита знают меня слишком хорошо, чтобы думать, что вменяемые мне обвинения обоснованны».
«Именно это меня и волнует!»
«Что это?»
«Если ты действительно так думаешь, если таковы твои доводы, я с тобой согласна, дорогой, клянусь. Только у меня впечатление, что ты не делаешь всего того, что необходимо».
«НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЧЕГО?»
«Нет, если ты начинаешь кричать, прекратим этот разговор».
«Хорошо. Я больше не кричу. Скажи мне, объясни, чего я не сделал, что было необходимо?»
«Ты воспринимаешь ситуацию недостаточно серьезно, любимый. Как обычно. Ты оказался в таком положении из-за своей доверчивости. И мне кажется, что это не послужило тебе уроком. Ты по-прежнему продолжаешь слишком доверять другим. Это удивительно. Ты просто удивительный человек. Но это очень опасно и непрактично. Слишком много доверия к ближним. Слишком веришь в истинность уверений. Я говорила тебе тысячу раз. Ты самый большой оптимист, какого я когда-либо знала. Твоя доверчивость, твоя доброжелательность достойны всяческих похвал…»
«И как, ты полагаешь, столь наивный человек, эдакий добросердечный простачок добился всего того, что он имеет в жизни?»
«Лео, сокровище, при чем тут это? Я знаю, что в своей работе ты не имеешь равных. Я это поняла еще тогда, когда ты преподавал и когда мы только познакомились. Страсть, интуиция, компетенция. Ты щелкал как орешки все тайны человеческой физиологии. Все мои подруги были в тебя влюблены. Я до сих пор с трудом могу поверить, что меня выбрал молодой, красивый, непобедимый профессор Понтекорво… Что-то мне подсказывает, будто ты выбрал меня именно потому, что у меня было меньше всего шансов. Однако невозможно преуспеть во всем. Мне кажется, что ты недооцениваешь настоящее положение вещей. И ты исключил меня из этой истории. Почему ты держишь меня на расстоянии? Почему не позволяешь помочь тебе? Что не так на этот раз? Я всегда занималась твоими проблемами, почему в этот раз нет? Почему ты не позволил мне в прошлый раз встретиться с адвокатом? Ты же можешь себе представить, как я волнуюсь, когда ничего не знаю!»
«Послушай, как ты могла подумать, что я полный идиот, наивный дурачок, безответственный человек? Адвокат из Санта-Кристины — лучший специалист. Он уверил меня, что все будет в порядке».
«О чем я и говорю! Как ты не можешь понять, что твои интересы расходятся с интересами больницы? Если нужно, твои коллеги не только избавятся от тебя, но и повесят на тебя всю вину!»
«Видишь, какая ты! Ты нисколечко не изменилась. А еще тебе не нравится Рита! И кто сейчас у нас мелочный, плохо думающий обо всех, подозрительный? И что ты вообще знаешь? Да за меня вся больница! Куча родителей бывших пациентов будут свидетельствовать в мою пользу. Заведующий кафедрой публично выступил в мою защиту в одной из газет, не говоря уже о преподавателях и ректоре. И я виноват, что все это внушает мне спокойствие? И это вполне подходящий момент, чтобы собрать вокруг друзей…»
Вот он, ее Лео, во всей красе, самый бесхитростный человек на свете. Что за странный дар так доверять другим? Только дар ли это? Или серьезный недостаток? Может, стоит этого опасаться? Великодушие ее мужа (кто-то назвал бы это качество иначе, попроще). Неспособность признать поражение. Неумение проигрывать. Непоколебимая вера в благосклонность судьбы.
Хорошо. Она была воспитана в страхе. Потому ей так была неприятна Рита во время их первых встреч — она показалась ей преувеличенной копией ее самой. Все это недоверие, осмотрительность, страх Рахили были хорошо известны. Они были привиты ей с колыбели. Иной раз она задавалась вопросом: среди стольких причин ее безграничной любви к мужу, возможно, было и то, что он казался ей чем-то вроде мягкого тонизирующего лекарства против всего того страха, который был в ней взращен годами.
Казалось, будто ее муж, по долгу службы ежедневно вступавший в борьбу с самыми иррациональными, коварными, злостными капризами человеческого тела, когда дело касалось его собственной жизни, переставал контролировать ситуацию и предавался человеколюбивому идеализму. Как такое было возможно? Разве существует более суровый урок, чем тот, который можно получить в отделении, где дети сражаются за то, чтобы не умереть? Грязные кроватки, рвота, кровь, вся эта детская боль и взрослое отчаяние… Но очевидно, это не научило его ничему. Очевидно, это не прибавило ему практичности и цинизма, которым отличалось большинство его коллег.
И ведь это Лео играл роль безбожника в их паре, разбрасываясь бессмысленными и напыщенными для Рахили словами вроде «антиклерикализм», «просвещение», «агностицизм». А если приглядеться получше, он в их семье был более религиозен. Из них двоих только он верил в Высший Порядок, благую волю, способную все расставить по своим местам.
«В сущности, нацисты проиграли. Они проигрывают всегда», — не уставал он повторять ей всякий раз, когда Рахиль говорила ему, что их окружают антисемиты. И всякий раз Рахиль спрашивала себя: разве это так? Разве нацисты проиграли, а не мы?
И сейчас, несмотря на ужасные вещи, которые о нем написали, или преступления, в которых его обвинили, Лео ведет себя так, будто ему достаточно знать самому, что он невиновен. Как будто в конце концов правда должна восторжествовать.
Все чаще Рахиль задавалась вопросом, а не объясняется ли столь странная в нашем мире доверчивость слишком благополучной жизнью, похожей на сказку, жизнью, в которой все планы реализовывались и все обещания исполнялись. Но ведь совершенство в этой жизни недостижимо.
Понтекорво были единственной еврейской семьей из известных Рахили, которая, в то время как Гитлер и его свора преследовали евреев по всей Европе, жила в Швейцарии в тепле и довольстве, а не умирала от страха, как остальные, как отец и мать Рахили. Тогда Лео было три года. И со времен той швейцарской ссылки у него в жизни все шло как по маслу. Детство и отрочество как в сказке, заботливая мамочка, превосходное образование, которое обеспечило ему чудесную карьеру в духе семейных традиций и в которой он достиг высот, не снившихся никому из Понтекорво. Если брать за образец семейство Понтекорво, их жизнь с мягкой и безболезненной сменой поколений могла бы показаться непрекращающимся восхождением к благосостоянию и счастью.
Все дело в этом? Привычка всегда побеждать? Привычка жить припеваючи? Не это ли сделало его таким слабым перед превратностями судьбы? Замечательная, в сущности, мысль о том, что в жизни достаточно вести себя хорошо, чтобы добиться лучшего, не она ли сейчас парализует его? Лео исключил из своей жизни саму идею непредвиденных обстоятельств и именно поэтому сейчас он так реагирует на надвигающуюся и пока еще не определенную угрозу?
Рахиль всегда рассказывала Самуэлю и Филиппо один эпизод, который, по ее мнению, наилучшим образом отображал характер Лео и ее собственный.
Во время медового месяца они с Лео отправились в путешествие по Скандинавии на автомобиле. Рахиль с волнением вспоминала те дни. Ей только что исполнилось двадцать пять лет, и она впервые выехала за пределы Италии. Особое очарование этому путешествию придавал двадцатидевятилетний муж, в которого она была влюблена. И не случайно: он очаровывал всех дам своей импозантной фигурой, средиземноморским обаянием и какой-то профессорской рассеянностью. Ее жизнь тогда походила на жизнь девушек из милых комедий с Кэри Грантом, которые Рахиль просто обожала. Наконец-то и для нее настала эпоха романтики. Теперь ее очередь. Во время свадебного путешествия она чувствовала себя его Марией Каллас, за чьей биографией Рахиль следила с таким интересом, перелистывая светские хроники. Лео, пусть даже неосознанно, прекрасно чувствовал себя в роли Аристотеля Онассиса — не такой богатый, конечно, зато более утонченный. Оставаясь верным мегаломании и эксгибиционистским наклонностям своей семьи, он приготовил все на высшем уровне: от невероятной роскоши гостиниц до заранее заказанных билетов в Стокгольмскую оперу, от мини-круиза по фьордам до вечернего платья, которое Рахиль нашла на кресле в стиле ампир в номере люкс «Гранд-Отеля» в Осло.
Какое чудо!
И тем не менее Рахиль вспоминала, что она не могла насладиться полностью мизансценой, предложенной мужем. Мысль о том, что Лео потратил столько денег на вещи, которые она по своему воспитанию привыкла считать бесполезными, если не аморальными, отравляла ей праздник. Рахиль была уверена, что в конечном счете они должны быть наказаны за всю эту роскошь высшей силой. Дурные предчувствия оправдались в гостинице в Монте-Карло, когда на последнем этапе путешествия перед возвращением в Рим они остались без гроша в кармане.
В те времена еще не существовало кредитных карт, а чтобы отослать деньги за границу, требовались время и всяческие предосторожности. Тогда Лео отправил телеграмму своей матушке, которая отдыхала на вилле в Кастильоне-делла-Пескайя, принадлежавшей ее брату, дядюшке Энею.
Когда испуганная Рахиль воскликнула: «Тебе кажется уместным звонить матери? Думаешь, что она лично приедет сюда и оплатит счет? У нее даже прав нет!» — Лео не проявил ни малейшего беспокойства.
«Ты не знаешь дядю Энея. Он обязательно довезет ее. Он никогда не откажется от возможности попутешествовать».
Так, вернувшись через полчаса в гостиницу с копией телеграммы, Лео сказал Рахили: «Видишь, не о чем было и волноваться!» А она посмотрела на него как на сумасшедшего. Как это не о чем волноваться? У него ведь не было ничего, кроме телеграммы. Более того, копии телеграммы. Только надежда. Что-то вроде запечатанной в бутылке записки от потерпевшего крушение или влюбленного. Бог знает сколько препятствий могло встать на пути между телеграммой и реальным прибытием спасителей. Они вообще могли не получить ее. Или получить с опозданием. Они могли попасть в аварию по дороге в Монте-Карло. Они могли… На самом деле могло случиться нечто, о чем Рахиль предпочитала не говорить своим сыновьям и что касалось матери Лео, которая невзлюбила ее с самого начала. Рахиль чувствовала, что она не вынесет победного вида свекрови, а также ее порицания, которое она обязательно выскажет невестке, не сумевшей сдержать тягу к неумеренным тратам ее легкомысленного сынка.
Именно в тот момент, когда Рахиль терзалась мыслью о неизбежном прибытии свекрови, она услышала, как ее спрашивают: «А не заказать ли нам ужин в номер? Мне совсем не хочется выходить».
«У нас же нет ни гроша!»
«Сейчас нет, но послезавтра деньги будут. Нас же не заставят платить немедленно. О чем ты беспокоишься?»
«Но ведь…»
«Ведь что? Да ладно, я возьму креветок, бокал вина и чудесный крем-брюле. А ты?»
«Ничего, дорогой, я не голодна… разве что кофе с молоком», — ответила она, зажав в кулачке оставшуюся мелочь.
«Может быть, хоть бриошь? Ты уверена?»
«Достаточно кофе с молоком, спасибо. Я правда не голодна».
Но на самом деле, рассказывала она своим сыновьям, ей очень хотелось есть. Спустя несколько минут ее муж, закутавшись в гостиничное полотенце, уже ел креветок, обмакивая их в розовый соус. И снова спросил ее: «Ты точно ничего не хочешь? Ты же ничего не ела с самого утра!» А она, глядя в окно на знаменитых жительниц Монако (в ее романтичном воображении они ассоциировались с героинями «Охотников за шедеврами»), терзаемая голодом, продолжала повторять: «Ничего, я действительно ничего не хочу».
Но в тот раз прав был Лео. Щепетильность Рахили оказалась излишней. Спустя пару дней прибыли дядюшка Эней и его сестрица с кучей денег. Но никто не обещал, что дела всегда будут идти так замечательно. Никто не сказал, что всегда будет выскакивать волшебный джинн из лампы и улаживать все проблемы.
Представим наши дни, например, когда почта работает в тысячу раз быстрей. Когда у супругов Понтекорво нет никаких неоплаченных счетов и никаких неловких ситуаций. До сих пор их жизнь и жизнь Самуэля и Филиппо была достаточно надежной. Но это ничего не значило. Конечно, бывают избранные пары, которые спокойно доживают до самой старости, наслаждаясь благосостоянием. И на некоторое время Рахиль поверила и стала надеяться, что и их когда-нибудь причислят к этому клубу избранных. Что и они вышли сухими из воды.
Но все обернулось иначе. Все эти обвинения были особенно тяжкими для такой уважаемой семьи, а для профессии Лео репутация имела особое значение. Вот почему это дело требовало особой осторожности. Не исключено, что Лео был прав: многие были на его стороне и были готовы защищать его. Но как он мог быть настолько уверенным, что ничего не изменится? Было ясно, что чиновники, которые занимаются его делом, хотят уничтожить его. Также было очевидно, что Лео при всех своих могущественных и не очень знакомствах едва ли мог рассчитывать на благосклонность прессы и простого народа. И в этом случае вмешательства какого-нибудь дядюшки Энея (который, кстати, скончался несколько лет назад) было бы недостаточно, чтобы закрыть счет. Назревала серьезная угроза. Каким бы невероятным это ни казалось, но именно госслужащие были заинтересованы в том, чтобы выставить Лео негодяем. Людишки, которым платили за то, чтобы они вогнали его в гроб. Псы, которые только и мечтали впиться ему в горло и не отпускать добычу. Вампиры! Они желали высосать из него всю кровь, превратить в прах репутацию, годами приобретаемую ценой стольких жертв. Проклятые софисты, жаждущие извратить истину, чтобы навредить Лео. Против этих коварных врагов оптимизм Лео был не лучшим орудием, если вообще не помехой.
А если Рахиль ошибалась и на этот раз? Если за преувеличенным оптимизмом Лео скрывался, напротив, преувеличенный пессимизм? Очень часто она замечала, что за легкомысленным поведением мужа, за показной доверчивостью угадывалось скрытое, как норка крота в цветущем саду, чувство, называемое страхом.
Кто бы мог это объяснить? Страх? Ее муж жил в страхе? Возможно, как все люди, не привыкшие к трудностям, избалованные с детства, Лео не умел бороться со страхом. Потому что для этого он должен был признать его.
Может быть, это страх парализовал его? Именно страх не давал ему заниматься днем и ночью процессом? Человек, не такой напуганный, как он, целыми днями копался бы в делах, касающихся его. Лео же все откладывал. Перепоручал другим. Это у него получалось прекрасно: отдалить момент решения проблем и в конце концов переложить их на плечи других. Его доверие к адвокату, который обслуживал больницу, неоднократно проявившую себя не с лучшей стороны по отношению к Лео, в чьих интересах было бы переложить всю ответственность на врача и его помощников, казалось настоящим профессиональным самоубийством.
Но это был способ перепоручить дело, с которым он не мог справиться сам. Лео все больше походил на ипохондриков, которые только и делают, что подпитывают в себе беспокойные фантазии о самых невероятных и безнадежных болезнях и тем не менее не могут отказаться от дурных привычек, вроде курения и алкоголя. При появлении тревожных симптомов эти люди также не имеют мужества показаться специалисту или пройти тщательный осмотр. Они как будто предпочитают беспокойство неведения беспощадной правде. Да, такой тип мнимых или реальных больных предпочитает жить в неведении.
Именно так, неделями, Лео жил в страхе. Рахиль распознавала его несомненные признаки: отсутствие аппетита, сменявшееся зверским голодом. Бессонница, за которой следовал сон допоздна. Мучительные и докучливые перепады настроения.
На самом деле ее Лео был столь ранимым человеком, что достаточно было какого-нибудь пустяка, чтобы выбить его из колеи!
Рахиль вспомнила один случай, когда они получили письмо из редакции «Коррьере делла Сера», газеты, в которой Лео вел свою знаменитую колонку «Предупредить болезнь лучше, чем ее лечить». Против своего обыкновения, в одном из последних выпусков Лео не стал развлекать читателей ни описанием специфических патологий, ни советами относительно здорового образа жизни. Движимый в очередной раз одним из своих идеалистических побуждений, он принял решение. Он обличил «коварное бойкотирование» католической церковью некоторых научных организаций, занимающихся исследованиями в области генетики. Лео написал (с осторожностью, к которой его обязывали положение в обществе и природная мягкость характера), что понтифику следовало бы проявить больше снисходительности по отношению к увлеченным исследователям, которые работают, чтобы нести добро, а не зло человечеству.
Последняя фраза — прямое обращение к высшему церковному лицу — разъярила какого-то читателя и подвигла его послать Лео записку (аналогичная записка была выслана и директору «Коррьере»), в которой последний выплеснул всю накопившуюся в нем желчь.
Вот заключительные строки того письма:
Как осмеливается профессор Понтекорво комментировать действия Его Святейшества? Знает ли вообще профессор Понтекорво, кому он осмелился дать свои ценные советы? А Вы, глубокоувжаемый директор, как Вы можете позволить, чтобы этот так называемый профессор, этот ученый шарлатан, этот неверный в белом халате набрался наглости так публично оскорблять Его Святейшество? Возможно, профессору Понтекорво стоило бы подумать о недостатках своей религии и преступлениях своих единоверцев, совершенных на Святой земле, вместо того чтобы заниматься вещами, которые его не касаются?
Вместо подписи стояло: ваш бывший читатель.
«Чем я его оскорбил? — вопрошал Лео Рахиль. — Ты мне это можешь объяснить? — Он не находил себе места. — Чем я мог его оскорбить, дорогая? Ты можешь мне сказать? Может, выражение „негласный бойкот“ показалось этому типу недостаточно уважительным по отношению к Папе? Но ты свидетель, что это неправда. Ты ведь знаешь, как я уважаю… И потом, все письмо написано заглавными буквами. Тебе не кажется, что это как-то подозрительно?»
Рахиль поразила реакция Лео на письмо. Он напоминал буйнопомешанного, и об этом знали только его самые близкие люди.
Почти всю вторую половину дня Лео потратил на бесцельное кружение вокруг большого стола со стеклянной столешницей, держа в руках проклятое письмо и газету со статьей. Иногда он останавливался, чтобы перечитать некоторые отрывки то из письма, то из статьи. Затем снова продолжал ходить вокруг стола. Рахиль не могла придумать, как успокоить его и заставить остановиться.
«Оставь, не преувеличивай. Это всего-навсего какой-то сумасшедший. Это чувствуется даже по тону письма. Не стоит воспринимать его всерьез. Разве можно придавать этому делу масштаб государственной важности?»
«Эта преувеличенная ненависть, дорогая. Эти упреки. Этот пренебрежительный тон. Развязность. Как будто он знает меня лично. Сколько ненависти он изливает на этом листке! Как будто желает уничтожить меня. Есть вещи, которых я не понимаю».
«Ты их не понимаешь, потому что их невозможно понять. Ты их не понимаешь, потому что ты хороший сын. Ты не понимаешь, как тебя может ненавидеть какой-нибудь антисемит. Ты не понимаешь этого, потому что сам никогда бы не поступил, как этот человек».
«То есть?»
«Ты бы, прочтя статью, не схватился бы за ручку, чтобы написать такое глупое письмо».
Тогда Лео, казалось, успокоился. Но минуту спустя на его лице снова мелькнула тень страха.
«Знаешь, чего я боюсь?»
«Чего?»
«Как это воспримет газета?»
«И как она должна это воспринять?»
«Из-за меня они потеряли читателя. К тому же ревностного католика».
«Какая большая потеря!»
«Не шути, прошу тебя. Не сейчас».
«Ну же, профессор, подумай! Ты представляешь, сколько читателей у „Коррьере“? А представляешь, сколько писем от таких же психов они получают каждый день? Да у них ведра должны быть переполнены этим мусором!»
«А если у меня отберут рубрику?»
«Из-за такой ерунды?»
«Да, из-за такой ерунды».
«Я не думала, что для тебя это так важно. Ты же всегда жаловался, что эта рубрика отнимает у тебя время, которое ты мог бы потратить на написание более серьезных вещей, отрывает от работы. Это не будет большой трагедией. Кроме того, ты же не собирался быть журналистом…»
«На самом деле эта рубрика важна для моей карьеры. По-моему, она что-то вроде гарантии жизни моего отделения».
Рахиль понимала, что карьера и отделение здесь ни при чем. Эта рубрика служила только для того, чтобы потешить тщеславие Лео. Но ей не хотелось указывать открыто на нарциссизм и маловерие супруга. И потом, ее впечатлил испуг Лео, вызванный таким несущественным происшествием. Неужели самообладание Лео так легко нарушить?
Рахиль видела все стадии кризиса. Не меньше ее поразил и тот факт, что для успокоения мужа было достаточно обычного телефонного звонка от редактора газеты, который как ни в чем не бывало поинтересовался у Лео тоном, с каким обращаются к ценному сотруднику, готова ли очередная статья или только в процессе написания. Не прошло и минуты после того, как Лео положил трубку, и Рахиль наблюдала полное преображение мужа. Он снова был на коне, в форме, готовый к бою. Он даже показался Рахили выше ростом.
Но то, что происходило сейчас (следствие и прочее) было гораздо серьезнее. Это Рахиль знала точно. И в данном случае реакция мужа тем более удивляла ее. Как и следовало ожидать, на этот раз газета повела себя несколько иначе. После первых расследований в больнице главный редактор сам позвонил Лео и очень вежливо объяснил, что следовало бы «всего лишь приостановить, но не прерывать» сотрудничество. В тот момент Рахиль была рядом с мужем, и с ним беседовали, как с нашкодившим школьником. Она смотрела на него, в то время как он продолжал повторять: «Понимаю. Ясно. Никаких проблем. Да конечно. Да, да, не беспокойтесь. Благодарю вас, я тоже думаю, что все образуется. Конечно, я с удовольствием загляну к вам». Даже положив трубку, Лео держался так, будто перед ним стояла не жена, а главный редактор, вызывавший у него такое уважение. Он вел себя так, будто проверяли его выдержку. Если бы Рахиль не знала хорошо своего мужа, она бы подумала, что он совершенно спокоен. К сожалению, она знала его слишком хорошо. А следовательно она прекрасно понимала, что за его внешним спокойствием скрывается сильное волнение. Парадокс заключался именно в этом. Если в случае с таким пустяком, как анонимное письмо, Лео нашел в себе силы выразить свое беспокойство, то перед настоящей угрозой он пасовал. Бедняжка, он так напуган, что не может даже расслабиться. Это была настоящая травма. В этот раз он не находил сил посмотреть чудовищу в глаза и прятался за ничего не значащими словами.
Был еще один характерный случай, который Рахиль могла бы оценить похожим образом, если бы Лео хватило смелости ей о нем поведать. Это случилось в университете, дней за десять до звонка главного редактора, который отстранил его от работы. Во время последних лекций второго семестра. В конце мая.
Лео нравилось преподавать. И надо признать, что он делал это отлично, представляя собой тип ироничного и скрупулезного профессора. Природа наделила его красноречием, он желал передать студентам священный огонь, который горел в нем самом, и в то же время проявить самоотверженность, которая и привела его на кафедру. Лео обладал проникновенным голосом, который прекрасно звучал через микрофон. Кроме того, профессор Понтекорво не был столь наивен, чтобы не понимать своей привлекательности. Он видел их, тех девиц с первого ряда, которые, подперев подбородок ладонью, не спускали с него глаз. Он чувствовал их взгляды, догадывался о комментариях, улавливал кокетливые смешки, благословлявшие каждый раз его прибытие в аудиторию. На всех этих собраниях царила какая-то театрализованная чувственность и сакральность, так как они происходили всегда в одном и том же месте, в одни и те же дни недели: по вторникам и средам в шесть вечера в аудитории П10, на первом этаже медицинского факультета.
Лео Понтекорво можно назвать кем угодно, но только не демагогом. Он умел найти подход к студентам, однако не в ущерб так называемым академическим формальностям. Он осуждал фамильярность между студентами и преподавателями, широко распространившуюся после студенческих революций 60-х. Но считал устаревшей и излишнюю заносчивость некоторых коллег. Обращаясь к студенткам, он называл их «синьорина». Со студентами, напротив, он использовал покровительственно-ироничное обращение «милый юноша». Что касается поведения студентов на занятиях, он был неумолим. Десятилетиями (даже в неспокойные семидесятые) профессор Понтекорво первое занятие неизменно посвящал перечислению запретов. Запрещено опаздывать. Запрещено уходить с лекции до ее окончания. Запрещено жевать резинку или перекусывать на занятиях. Запрещено прерывать лекцию комментариями или вопросами. Запрещено в обращении к преподавателю использовать разговорные формы вроде «здрасте». Запрещено задавать вопросы относительно экзаменов в неприемные часы. И так далее… Он в свою очередь обещал быть пунктуальным, строгим, остроумным.
На занятиях профессора Понтекорво было не до скуки. С годами он научился сокращать до минимума академизм в преподавании и добиваться внимания студентов очаровательными анекдотами о матерях-ипохондричках или трогательной историей о больном ребенке, который, обладая упрямым и воинственным характером, давал прикурить всем, включая лечащего врача.
В тот день, на занятии, профессор Понтекорво мастерски скрывал беспокойство. На самом деле, когда он направлялся в университет, ему позвонила секретарь из клиники и сообщила довольно неприятную новость: несколько минут назад в его кабинет вторглась финансовая полиция с ордером. Его ответ секретарю был почти невежливым: «Не сейчас, Даниэла. Я иду на лекцию».
«Но, профессор…»
«Я же сказал, я иду на лекцию. Созвонимся позже». Вообразите себе его состояние, когда Лео переступил порог аудитории. Представьте, как он себя чувствовал, пока доставал из своего кожаного дипломата блокнот. Представьте его ощущения, пока он наливал себе в стакан немного воды, чтобы протянуть время до начала лекции, и делал несколько нервных глотков. Однако когда Лео начал говорить, к его собственному удивлению, его голос даже не дрогнул. Все шло как по маслу. Никто и не догадывался о его нервном состоянии. Никто не мог даже вообразить себе, что четверть часа назад нашему обаятельному преподавателю сообщили о том, что за него хорошенько взялись судебные инстанции.
Выходные на море с Рахилью и сыновьями (первые за сезон) придали лицу Лео здоровый загар, который, кроме прочего, прекрасно сочетался со светлым хлопковым пиджаком, голубой рубашкой с воротничком на пуговицах, галстуком в полоску regimental и кожаными ботинками Alden, приобретенными в бутике на Мэдисон-авеню. Одним словом, профессор Понтекорво предстал во всей красе. Он увлеченно объяснял, как резкий и неожиданный подъем уровня щелочной фосфатазы в крови ребенка восьми-девяти лет дает основания для диагноза рахита или какой-либо иной недостаточности костной ткани, пока не заметил одного студента с африканскими косичками и в очках в яркой оправе, который приставал к своей соседке. Они сидели на третьем ряду и смеялись. В какой-то момент Лео пришло на ум, что они смеются над ним. В какой-то момент он даже подумал не обращать на них внимания. Но что поделать: его терпение лопнуло.
«Может быть, вы поделитесь с нами своими секретами или выйдете из аудитории?»
«Извините, профессор, это я виноват… Это я попросил у нее одну вещь…»
«Это было жизненно необходимо?»
«Э-э, я попросил ручку и листок».
«А-а, то есть вы хотите сказать, что пришли на лекцию без ручки и бумаги».
«Дело в том, что…»
«То есть для вас это веселая прогулка. Вы приняли это место за парк развлечений? А мне кажется, что это университетская аудитория. И здесь, если кто-то еще не догадался, проходит лекция».
Лео мог бы остановиться прямо сейчас. Этого было достаточно для реванша. Но что-то подвигло его продолжать и войти в столь нетипичную для него роль профессора-зануды.
«Вы не думаете, что университетская аудитория именно то самое место, где ручка и бумага более чем уместны? Или нет? Возможно, я ошибаюсь. Возможно, ваше восприятие данного места отличается от моего радикальным образом. И возможно, вы правы. Что скажут остальные по этому поводу? Ваш коллега прав? По всей видимости, мы находимся на лужайке, где так здорово устроить пикник и посмеяться?»
Профессор Понтекорво впервые предстал перед студентами таким педантом. Конечно, все знали, что некоторые вещи были принципиальны для него. Но его упреки всегда носили скорее легкий шутливый характер. Как в тот раз, когда он застукал одну студентку, которая жевала на лекции свой полдник: «Теперь вы насытились? Чувствуете себя лучше? Подкрепились? Желаете что-то еще? Кофе? Ликер? Сигару? Вздремнуть?» Тогда посмеялись все, включая преподавателя. Потому что ворчание профессора Понтекорво никогда не переходило определенных границ, когда его упреки можно было бы счесть унизительными или угрожающими.
На этот раз, казалось, он очень смутил этого парня. Его слова были резки, а в голосе явно звучала враждебность. Как будто ужасная прическа студента и аляповатая оправа его очков лично задевали профессора Понтекорво.
«Итак, вы мне ответите, как можно приходить на лекцию без ручки и бумаги?»
И потом Лео сказал это. Он не сдержался. Он все-таки позволил себе замечание, которое не должен был позволять. Но, в конце концов, почему ты всегда должен выворачиваться наизнанку и идти против себя? Он помолчал несколько секунд и решительным голосом спросил: «Вам не стыдно?»
«А вам, профессор, не стыдно зарабатывать миллиарды и не платить налоги?»
Из-за этой фразы Лео не спал три ночи подряд. У него не хватило духу рассказать Рахили, чем закончился тот эпизод. Да, он не сказал ей ничего, но неотступно продолжал думать об этом. Тот мелкий лохматый гаденыш уложил его на ковер перед всей аудиторией. Он сделал то (в той самой аудитории, которая была зачарованным королевством Лео, где он иронично властвовал двадцать лет), что очень скоро публично сделали прочие: он поспешно осудил и приговорил его. Поэтому все последующие дни Лео провел, придумывая ответы, которые он мог бы дать провокатору, но не дал. В отличие от того, что обычно происходит, когда мы мысленно возвращаемся к упущенной возможности произнести блестящую реплику, адекватную нанесенному нам оскорблению, достойно ответить на провокацию, Лео, напротив, убедил себя, что его поведение было наилучшим в данной ситуации. Он промолчал. Он сделал вид, что не услышал и не был уязвлен. Он сделал вид, что его преподавательский авторитет не был навсегда унижен. Он вернулся к лекции, к тому месту, на котором остановился. Анализ крови и все прочее…
Что еще он мог сделать?
Но вернемся к Рахили и страху. Рахиль смотрела на мужа и невольно сравнивала его с отцом: Чезаре Спиццикино никогда бы не повел себя так. Мой отец схватил бы быка за рога. Он бы разозлился, мой отец. От его крика задрожали бы стены в кабинете адвоката. Мой отец прекратил бы думать обо всем остальном и разработал бы стратегию, чтобы вытащить себя из бездны. Но Лео совсем не походил на покойного Чезаре Спиццикино. Ирония заключалась именно в том, что Рахиль вышла за него замуж из-за этой самой непохожести. Она была убеждена, несмотря на большую любовь к отцу, что самая утомительная штука на свете — это быть Чезаре Спиццикино, и почти такая же утомительная — быть его родственником. Это означало жить в вечном предчувствии несчастья. Так жил ее отец: он всегда ждал (а может быть, был способен тем самым накликать) молнию, которая должна была уничтожить его. Он видел во всем предсказание беды. Во всем мире были рассеяны предзнаменования бедствий. Его скупость тоже объяснялась тем, что он жил в ожидании Великого Кризиса, по его собственному определению, который должен был изменить знакомый нам мир. Чезаре Спиццикино говорил об этом, как некоторые экологи, предсказывающие апокалипсис и гибель планеты.
Возможно, только сейчас Рахиль осознала — обнаружив слабость Лео перед первыми серьезными угрозами своему беззаботному существованию, — что тот страх, сквозь который прошел ее отец в своей полной опасностей жизни, не испытывая никаких иллюзий, позволил ему гордо и мужественно преодолевать все тяготы, уготованные ему судьбой.
Первым испытанием мужества Чезаре Спиццикино стала трагическая и гротескная смерть (кровать, одеяло, пожар из-за одной сигареты) его первого ребенка, старшей сестры Рахили. Он кричал от отчаяния над обугленным трупиком дочери. Он навсегда лишился сна. Ему так и не удалось прийти в себя после того случая. Но кроме этой вполне естественной реакции сразу после окончания траура отец Рахили закусил удила своей жизни и все свое внимание и заботу стал отдавать своей младшей дочери. Да, он это сделал, несмотря на гибель Стеллы, которая предоставила ему неопровержимые доказательства, что его страх имеет основания. И тем не менее за всю жизнь он научился подавлять его и реагировать мужественно и твердо в критической ситуации.
Страх порождает противоречивое поведение: реакция может быть слишком сильно или, напротив, недостаточно выражена. Рахиль поняла, что напуганный человек может вести себя по-разному. Отец использовал страх, чтобы освободиться, а мужа, очевидно, это чувство порабощало и угнетало.
Если бы только Лео признался сам себе, что он боится… он проявил бы сейчас больше энергии и ответственности. Но он скрывал страх от себя и остальных, хотя был полностью во власти этого страха. Страх заставлял его проводить время в кругу бесполезных людей. Лео не хотел оставаться один, как ребенок, который умоляет мать побыть рядом, пока он не уснет. Как некоторые безнадежно больные, которые, пересиливая себя, стараются встать и пойти с друзьями в ресторан, надеясь, что там смерть не осмелится настигнуть их. И Рахиль, понимавшая все это, не желала ничего иного, как только защитить Лео от безответственности, к которой его вел оптимизм, и от страха, который парализовал его.
Вот почему она с содроганием и негодованием думала о вечере с Альбертацци. Вот почему Рахиль была столь обеспокоена. Вот уже несколько недель она мечтала остаться с Лео наедине, когда он возвращался из больницы или университета, чтобы поговорить с ним начистоту, без нескромных или осуждающих свидетелей.
Но если придут Альбертацци, именно Рахили, а не Лео придется отбивать удары Риты, этой женщины, делом жизни которой было доказать себе и миру, насколько она чиста и непорочна и насколько остальные таковыми не являются.
«На что спорим, что сегодня вечером эта гиена Рита не упустит возможности…» — саркастически заметила Рахиль, поняв, что ужин с Флавио и его женой неизбежен и в очередной раз уступив желанию мужа.
«На что тебе угодно».
На этом завершился первый раунд спора. Второй начался через мгновение после того, как Флавио и Рита ушли после традиционной партии в канасту: женщины против мужчин, когда мужчины были разбиты в пух и прах и все (кроме непьющей Рахили) чуть-чуть перебрали виски. Теперь партия продолжилась между Рахилью и Лео, которые никак не могли решить, кто выиграл спор.
На первый взгляд все говорило о победе Лео. Ни единого намека на его судебные разбирательства ни со стороны Флавио, ни со стороны ужасной Риты. Складывалось впечатление, будто миролюбивый и добродушный Флавио предварительно, по крайней мере один раз, прочел своей жене лекцию о том, что ей следует воздержаться от каких-либо комментариев. Должно быть, он попросил ее оставить в стороне мысли, возмущение, принципиальность, не говоря уже о неисправимом пристрастии к сплетням, и проявить понимание по отношению к дорогим друзьям, которые переживают сейчас не лучшие времена. И она приняла к сведению указания. Сначала чувствовалось некоторое напряжение. Особенно когда Флавио старался избежать некоторых вопросов, при помощи которых старые друзья обычно разбивали лед. На этот раз он не мог начать с классического: «Итак, профессор, какие вести с полей?» Говоря «вести с полей», Флавио подразумевал разного рода обязанности: работа, университетские коллеги, администрация Санта-Кристины, плата за обучение Самуэля и Филиппо… в общем, повседневную жизнь. Вероятно, он боялся, что подобный вопрос может быть истолкован неверно другом, находящимся в сложной ситуации. Было очевидно, что у Лео хватает проблем с работой. Не обращать на них внимания было таким же неудачным выходом, как и считать их решенными. Поэтому Флавио ограничился тем, что отвечал на вопросы Лео о своей работе. Но делал он это с нетипичной для него многословностью. Слава богу, в тот момент из кухни явилось серебряное блюдо с горячими кростини с помидорами и моцареллой, приправленными перцем и базиликом, на которые тот час же набросилась Рита. Рита принадлежала к числу людей, которые любили поесть, при этом никогда не набирая веса, и которые на вопрос «как возможно такое чудо» туманно отвечали что-нибудь вроде: «Метаболизм». Какой-нибудь недоброжелатель сравнил бы ее организм с фабрикой по переработке отбросов. Весь тот огонь, который горел в ее теле, ее мысли, волнения… Именно это пожирало ее изнутри.
С другой стороны, в тот вечер Рита казалась более спокойной, чем ее муж, да и вообще более спокойной, чем обычно. Рахиль была молчалива, но не в меньшей и не в большей степени, чем обычно. Только на одно мгновение, во время еды, в молчании, прерываемом стуком приборов о тарелки и жеванием ростбифа, почудилось, будто там, в центре стола, показался призрак того, что происходит с Лео, бесстрастный и насмешливый. Но скоро принесли сладкое (как всегда, торт капрезе), и атмосфера развеялась, а Лео и Рита, которая не переставала добавлять сливки к торту, заспорили как ни в чем не бывало о политике.
Было лето 1986 года. Годом ранее из-за очередного референдума разгорелась великая битва между коммунистами из оппозиции и социалистами в правительстве. Последние получили явное преимущество после референдума. Хотя тема сама по себе была не то чтобы очень увлекательной, Рита упорно утверждала, что от поражения в референдуме пострадали рабочие, что для них это стало одним из самых больших унижений, которому «страна с таким фашистским прошлым, как наша», их подвергла. Ее дикие гиперболы стали поводом для спора. Он достиг кульминации, когда дошли до личности Беттино Кракси: в то время (за пятнадцать лет до его смерти в тунисской ссылке) легендарный глава правительства, отличавшийся южноамериканской харизмой и живший как арабский шейх, вызывал в людях столь большую любовь или столь большую ненависть, столь огромное почитание или равновеликое презрение, что стал для многих своих соотечественников чем-то вроде камня преткновения, способным разделить на два лагеря членов одной семьи, а самых мирных личностей, до этого проявлявших взаимоуважение друг к другу сделать лютыми врагами.
Смертельная ненависть Риты к Кракси была так же сильна, как преклонение Лео перед этой персоной.
«Даже тот факт, что такой кусок дерьма, как мой папаша, иногда принимал его у себя в гостях, — выпалила в какой-то момент Рита, — неопровержимое доказательство того, какой это человек. Пятьдесят лет назад мои деды с той же почтительностью принимали Бенито Муссолини. Что поделать, если моя семья — это своеобразный сейсмограф страны? Если все заносчивые типы, фашисты, диктаторы рано или поздно собираются у них за столом?»
«Что за чепуха, Рита. Как обычно. Вечные разговоры. Сколько лет мы знакомы? Двадцать? Тридцать? В общем, с тех пор как я тебя знаю, ты ненавидишь все новое, борешься со всеми, кто пытается избавиться от предрассудков».
«Мне не кажется, что для тебя отсутствие предрассудков когда-либо было нормой. Или в последнее время ты поменял мнение?»
Именно этот комментарий в форме риторического вопроса и потому чреватый саркастическим подтекстом стал поводом для спора Лео и Рахили после ухода друзей.
Рахиль была в ярости, убежденная в том, что муж не только спровоцировал эту реплику, но в определенном смысле заслужил ее.
«Как тебе пришло в голову вступать в эту дискуссию?» — спросила она его.
«А почему нет? Я должен был позволить этой… говорить всякие глупости?»
«Ты должен был быть поосторожнее. Помягче. А не кидаться на защиту Кракси, которому, кстати, ты ничем не обязан».
Любовь к Кракси была еще одной стороной натуры Лео, которую Рахиль не выносила. В их кругу было много людей, которые ради карьеры могли демонстрировать преданность определенным политическим течениям, но не Лео. Для него имя Беттино Кракси было сладчайшей музыкой. Поэзией мысли и свободы. Он всегда рьяно защищал его, особенно во время дружеских посиделок. Этот порыв в среде, в которой встречалось много утонченных коммунистов из хороших семей, мог быть в лучшем случае не понят, а в худшем — истолкован неверно.
Как только Лео не понимал, что среди его собеседников не было ни одного, кто бы поверил, будто умный человек способен совершенно бескорыстно любить политика, которого они лично считают свиньей, преступником и извращенцем. Рахиль (маленькая иезуитка, сторонница сдержанности и даже притворства) всегда ненавидела то, как ее муж позиционировал себя перед всеми этими остервенелыми людишками, образец которых являла собой Рита. Она и сейчас с трудом мирилась с тем, что Лео со всеми приписанными ему преступлениями, в момент, когда менее всего следовало бы хвалиться дружбой с Кракси, предоставил Рите такое преимущество в споре. Почему он не промолчал хотя бы в этот раз? Зачем вечно класть голову на плаху?
«Ты дал право назвать тебя фашистом!»
«Видишь, ты всегда придумываешь то, чего на самом деле не говорили!»
«Ты заметил, как она смотрела на тебя?»
«Ты валишь в кучу все свои впечатления, лишь бы не признать поражение в споре. Ты так боялась, что что-то произойдет, что тебе показалось, что это произошло. Рита вела себя как обычно».
«А вся эта старая песня про Миттерана?»
«А что?»
«Это было так уж необходимо? Ты не мог обойтись без этого?»
«Это не я начал. Это Рита приплела Миттерана и все эти скабрезные сплетни… Как же я их ненавижу!»
«А ты сразу и клюнул!»
«Но она слишком уж рьяно стала порицать нечестность и выражать неодобрение социалистам в правительстве!»
«Надо же! Кто знает зачем!»
«Зачем? Хочешь знать зачем? Я тебе скажу! Потому что „порицать“ — ее любимый глагол. Это то, что ее больше всего возбуждает. Потому что жизнь Риты была бы серой, лишенной красок, если бы ей некого или нечего было порицать».
«А ты уверен на сто процентов, что на этот раз она хотела обличить только социалистов у власти? Что основной мишенью были Миттеран и Кракси?»
«А кто же еще?»
«Ну, скажем, их бескорыстный защитник!»
Франсуа Миттеран был еще одной страстью Лео. Еще один социалист, который потерял управление. И возможно, еще более высокопарный, чем его Кракси. На французский манер: Наполеон, де Голль, что-то в этом духе, вы же знаете этих французов… С другой стороны, величие Миттерана было излюбленной темой Лео, особенно в последнее время. С тех самых пор как месяц назад он поучаствовал в конгрессе, организованном Институтом Густава Русси — одним из самых передовых в мире исследовательских центров в области онкологии, где, между прочим, Лео когда-то учился. Встреча ученых светил проходила в Cite des Sciences — Городе наук, на самом деле одном из самых выдающихся свершений Миттерана за семь лет его правления. На заключительном ужине Лео представили господину президенту, перед которым он смог щегольнуть свободным французским. С тех самых пор его любовь к Миттерану обрела формы идолопоклонничества.
Беда только в том, что синьора Понтекорво осуждала пристрастие мужа к иностранщине не менее, чем его страсть придумывать себе кумиров. Она считала это наивным для человека его калибра и отдающим сектантством. Иногда Рахили казалось, что Лео путешествовал по миру только для того, чтобы в очередной раз убедиться в несостоятельности собственной страны. Послушать Лео, так Рим был худшим городом на земле. Еще ни разу он не вернулся из путешествия и не принялся перечислять, что в Англии или Германии работало лучше, чем в наших краях. Он вечно повторял что-нибудь вроде: «Приземляться во Фьюмичино после недели за границей — это психологическая травма!» Рахиль, будучи в душе немного шовинисткой, ненавидела подобные заявления. Со стороны Лео было нечестно говорить такие вещи в присутствии жены. Да, в его тенденциозности была доля наивности, но именно поэтому его слова звучали еще более напыщенно.
Как в тот раз, да, именно во время того проклятого путешествия в Нью-Йорк, когда ему удалось вывести ее из себя (обычно Рахиль отклоняла его приглашения, чтобы потом иметь основания пожаловаться, что она никуда не ездит). Она просто взорвалась, когда однажды утром, сразу после завтрака Лео, выходя из холла «Шератона» на душную, шумную Седьмую авеню, прошептал: «Обожаю этот аромат!»
Вот. На этот раз Рахиль не смогла сдержаться.
«Какой аромат?! О каком аромате ты бредишь? Ты не чувствуешь, как здесь воняет? Отвратительное зловоние! Нигде на свете так дурно не пахло!»
«Нет, это аромат Манхэттена. Тебе не хватает романтичности, чтобы понять его».
«Может быть, и не хватает, но это вонь помойки. В Риме тоже полно помоек. Чем же тебе не угодили наши?»
Тогда в Нью-Йорке Рахиль наконец высказалась. Она не смогла вынести того, что ее муж столь поэтично отозвался о нью-йоркской вони. И столь прозаично о римской. Кроме того, у Рахили было противоречивое отношение к Парижу. Она испытывала к парижскому периоду жизни Лео одновременно нежную и жгучую ревность, которую испытывают жены, не чувствующие себя уверенно по отношению к жизни мужей, предшествующей их браку. И имела все основания для этого.
В Париже в шестьдесят третьем году, когда Лео там жил (в самом полном смысле этого слова!), все занимались любовью. И Лео поддался всеобщему искушению. В этом не было ничего удивительного. По крайней мере, если вспомнить, что маленький Лео провел первые годы своей жизни в Швейцарии, семеня в коротеньких штанишках по лужайкам небольшой альпийской деревушки, в которой его родители разумно скрывались в 1941 году. Он прожил послевоенный период гораздо приятнее и комфортнее, чем многие представители его нации. Все было бы еще проще, если бы его не сдерживали родители. Пусть бы оставили его в покое. Они не дают ему передышки, не отпускают ни на минуту, преследуют его. Возможно, они хотели окружить его той заботой, которую еврейские родители — по крайней мере в Европе — не смогли гарантировать своему истребленному потомству? Так ведь? Что-то вроде символической компенсации? Или комплекс слишком заботливых родителей единственного сына?
Что ж, в любом случае этим можно объяснить ипохондрию отца, выдающегося педиатра. Он часто осматривал, пальпировал Лео, а однажды едва не отправил на тот свет, поставив горячую клизму из ромашкового раствора. Этим же объясняется назойливое внимание матери. Но этим же объясняется и то, почему Лео был готов сбежать при первой же возможности. После того как он получил диплом медика и стал осваивать специальность педиатра, Лео без малейшего колебания принял предложение профессора Мейера съездить в Париж на практику при Институте Густава Русси. И уж в Париже он ни в чем себе не отказывал. Лео определили в группу, которая занималась лабораторными исследованиями невробластомы, специфической формы раковой опухоли, поражающей только детей, по которой он защитил блестящую диссертацию (разумеется, «достойную публикации»).
В то время Париж требовал чего-то экстраординарного. Можно сказать, Лео не спал весь 1963 год. Он как будто был одержим неистовым духом, который избавил его от необходимости спать. Нужно было испробовать все новое, что его окружало. В Париже тех лет, несмотря на его ветхий облик, несмотря на то, что все разваливалось на куски, жизнь была необычной, абсолютно новой. Достаточно было утром открыть газету, чтобы прочесть об очередном открытии: новое кино или новый роман, новая политика или новая мораль… Не говоря уже о джазе, ледяном и пьянящем, как мартини, который Лео выпивал залпом в темных подвальчиках на Рив-Гош, отдававших плесенью и уборной.
Надо заметить, что в отличие от молодежи, слетевшейся в тогдашний Париж, Лео вовсе не был нищим представителем богемы. Благодаря Понтекорво-старшему кошелек нашего путешествующего отпрыска никогда не пустовал. Никакой нищеты. Никакой аскезы. Никакого страстного поиска правды в бедности. Скорее — в развлечениях, причем недешевых. Но были в его тогдашней жизни и поэтические моменты. Иногда — особенно по субботам, когда он мог позволить себе погулять до зари — по дороге домой (если так можно назвать студию в пятнадцать квадратных метров на рю Жюсьё), подвыпившему Лео казалось, будто Париж говорит с ним. После очередной бурной ночи в Caveau de la Huchette он еще долго представлял раздувающиеся щеки Диззи Гиллеспи, который, подобно ангелу Страшного суда, извлекал невероятные звуки бибопа из своей трубы. Лео не мог поверить, что только что видел его выступление. Ты можешь себе вообразить, парень? Великий Диззи играет для тебя и нескольких избранных! А потом, характерный для утреннего Парижа аромат только что испеченных булочек и мягкий плеск воды — все это способствовало благостным размышлениям.
Кстати об ароматах. Был среди них один, от которого Лео было непросто освободиться и о котором он предпочитал не говорить жене. Аромат, который он искал во впадинке между шеей и щекой Жизели Бессолэ. Так звали его девятнадцатилетнюю подружку, которая переехала к нему спать — по инерции. Той инерции, которая, казалось, всегда заставляла ее делать неверный выбор. «Спать» в данном случае самый верный глагол. Надо сказать, что в кровати эта девица была достаточно смела. По крайней мере, подобное суждение было высказано о ней одним столь же неискушенным, как Лео, молодым человеком. Необходимо отметить, что ощущение, будто он, наконец, в двадцать пять лет понял значение понятия «свобода» (слово, с которым его родители носились как маленькие, когда союзные войска вышибли под зад ногой немцев, но которое они забывали всякий раз, когда речь шла о личном пространстве их сына), так вот, все это свежее, недавно открытое ощущение не было бы полным без женщины.
Если в техническом смысле нельзя было утверждать, будто Лео лишился невинности в Париже, то на эмоциональном уровне было именно так. Строгая семья и пуританская атмосфера Рима пятидесятых как будто объединились, чтобы подрезать крылышки угадывающейся в нем мужественности.
И Жизели удалось решить эту проблему. И она была не последней в списке его спасательниц. Вскоре после своего приезда в Париж Лео перестал удивляться тому, что ни одна из девиц, подцепленных им в баре, в парке, в гостях у коллеги, в больнице, да где угодно, не отказалась в конце вечеринки последовать за ним в альков. Первые проявления сексуальной одержимости? Первые предвестники развращенности грядущего поколения? Женский оргазм, подавляемый кто знает сколько веков, снова возвращается на международную арену? Называйте это как пожелаете. Наш Лео называл это жизнью. Такой, какой она должна быть. Жизнью, не знающей смерти.
Во время рабочего дня в больнице, в лабиринтах коридоров, где застоялась вечная полутьма неона, его ждала тяжелая, грязная, изнуряющая, дурно пахнущая, но в какой-то мере вдохновляющая работа. Вечером — музыка и секс. Можете предложить что-то получше?
Месяцы в Париже, Жизель, секс, джаз, учеба, эксперименты, одно из самых передовых отделений онкологии… Это было время его свободы. Но как всякое золотое время, оно оказалось неожиданно скоротечным и оставило после себя чувство жестокой неудовлетворенности.
Когда отец Лео умер, у матери появился повод вернуть сына на родину.
После шивы, недели траура, когда родственники умершего не могут выходить из дому, Лео не хватило духу уехать. Он не смог оставить мать. Кроме того, он чувствовал, что должен был продолжить дело отца. Нет, Лео не собирался бросать онкологию, но мысленно попрощался с Жизелью, с городом, где был свободен, с больницей и передовыми технологиями.
Но потом, слава богу, появилась Рахиль. Невысокая, пухленькая и скромная (было в ней что-то от Жизели). А со временем и на работе стали возникать интересные перспективы. Вместе со своим учителем, профессором Мейером, и другими энтузиастами своего дела Лео положил начало АИДВОГ: Ассоциации итальянских детских врачей онкологов-гематологов. Они разработали первые протоколы лечения лейкемии. Он очень быстро добился места на кафедре, в больнице и предложения от клиники Анима Мунди разместить в ее шикарном здании педиатрический кабинет, унаследованный от отца. Между тем Рахиль обнаружила, что она беременна.
Но именно когда все как будто уладилось, парижская сирена начала напевать свою соблазнительную песнь: на этот раз под видом предложения работы, от которой нельзя было отказаться. Его не только хотели вернуть в Русси, в больницу в предместье Вильжюиф, в которой Лео работал очень серьезно и с энтузиазмом, но и предлагали очень неплохой заработок. Они были по-настоящему заинтересованы в нем. Они его выбрали.
Но к сожалению, на этот раз на него повлияла не только пожилая синьора Понтекорво, но и молодая синьора Понтекорво. Свекровь и невестка в кои-то веки объединились, чтобы помешать ему. Рахиль не могла оставить отца-вдовца. Она знала, что отец после смерти жены и первой дочери считал замужество второй чем-то вроде предательства. Не хватало только переезда в Париж. Мать Лео не могла вынести, что сын вернется во Францию и, возможно, останется там навсегда. Сила и напор со стороны этих двух женщин сделали свое дело: скрепя сердце Лео отказался от заманчивых предложений. И значило это для него нечто большее, чем просто одна упущенная возможность в профессиональной сфере.
Недавний парижский конгресс, та пара слов, которыми он перекинулся с Миттераном, встреча с коллегами в Русси, тартар в брассери на рю Жюсьё («Совсем как в старые добрые времена!»)… Все стало для Лео поводом для волнующих воспоминаний. Он говорил об этом целыми днями, пробуждая в жене застарелую ревность девушки из народа, которая видит, как ее прекрасный принц вращается в кругах, закрытых для нее.
Но, услышав, как муж принялся вещать перед коварными Альбертацци о Городе наук, тартаре и прочей парижской чепухе, с присущим ему апологетическим жаром защищая Кракси, Миттерана и социалистов у власти, Рахиль забыла о ревности. Она была в ярости. Почему Лео не может помолчать? Зачем он дает повод для клеветы? Почему он так неосторожен? Почему он не может быть скромнее? Поменять тему разговора? Зачем он стал вспоминать подробности своей блестящей парижской жизни? В чудесные времена Миттерана? Да и вообще, почему он был так привязан к Миттерану? Почему он защищал его от капризных нападок Риты? Почему в тот момент, когда следовало умолкнуть, спрятаться, быть проще, он, наоборот, принялся нести чепуху, что-то доказывать, выражаться высокопарно? Откуда это проклятое стремление к самоуничтожению?
На самом деле формально Лео выиграл спор: ни Рита, ни Флавио не упомянули о его судебных разбирательствах. Но как же он не заметил, что, по сути, только об этом и шла речь во время ужина? Как он не мог понять, что, защищая столь страстно Кракси и Миттерана, Лео на самом деле обвинял самого себя?
Именно поэтому сейчас Рахиль была так рассержена. Именно поэтому она так яростно нападала на мужа.
«И зачем было так распаляться?»
«У меня нет ни малейшего желания скрывать свои взгляды. Я не совершал ничего постыдного, из-за чего мне нужно было бы скрываться. Пусть Рита думает все что ей угодно. Лично я не буду осторожничать только потому, что люди что-то там думают обо мне!»
«Я надеялась, что сегодня вечером ты будешь чуть сдержаннее!»
«Сдержаннее? Твое любимое слово. Вот чему ты посвятила всю свою жизнь. Это твой образ мысли. Быть незаметной. Прятаться, как мышь в норке. Никогда не говорить то, что думаешь на самом деле, а то, не дай бог, побьют. Я все-таки устроен иначе».
«Нет же! Я не это имела в виду! Только…»
«А что? И как же я должен был себя вести?»
Глубокое раскаяние. Осторожность. Круговая порука. Вот ответ. Вот что хотела сказать Рахиль мужу. То, чему ее учил специалист по несчастьям Чезаре Спиццикино. Но единственное, что она решилась спросить:
«А стыд? Ты не испытывал никакого стыда?»
«Какой стыд, черт возьми? Чего стыдиться?»
Да всего, что сейчас происходит — сказала бы Рахиль, но снова не смогла.
«Не знаю, как тебе, но мне нечего стыдиться», — выпалил Лео. Он был очень зол. В первый и последний раз он даже был близок к тому, чтобы ударить жену.
Но сейчас, когда весь честной народ оповещен о приставаниях к девочке, к которой к тому же был нежно привязан (трудно придумать более неподходящее определение для связи двух сопляков) твой сын… М-да, сейчас действительно, старик, тебе есть чего стыдиться… И это поистине серьезный повод, настолько серьезный, что все на кухне остались сидеть с открытым ртом. Сейчас, когда кое-кто нашел в себе силы выключить телевизор и снять с плиты обуглившийся кофейник, когда воцарилось гробовое молчание, сейчас ты спрашиваешь себя, можно ли использовать обычный приемчик, обидевшись на всех, как маленький мальчик. Сработает ли он на этот раз? И отвечаешь себе, что на этот раз нет, не сработает. Все зашло слишком далеко. Такая тактика хороша для мира, а не для войны, которая тебя ожидает. На этот раз никто из твоих близких не припас для тебя оливковую ветвь мира. На этот раз тебя не спасет твое обычное недовольное выражение лица. На этот раз, если ты не хочешь провести остаток своей жизни в полном одиночестве, окруженный враждебно настроенными людьми, тебе придется попросить прощения и сделать все, чтобы разрядить это напряжение. Теперь тебе придется снова завоевывать их доверие.
Те глупые и смешные письма, они ничего не значат, письма, которыми тебя шантажировала маленькая психопатка и которые она сейчас так бесстыдно использует. Почему ты никогда не говорил о них с Рахилью? Почему ты не говорил о них с сыновьями в то время, когда об этом еще можно было рассказать? Почему сейчас ты сидишь неподвижно и ждешь, когда все рухнет? Я знаю, ты хотел бы сказать им, что все случилось, как случаются подобные вещи у большинства людей: совпадение двусмысленных и неконтролируемых обстоятельств. Ты хотел бы сказать, что жизнь сыграла с тобой скверную шутку. Что ты рискуешь потерять все из-за того, что недооценил последствия поведения странной девочки. И что если и есть соблазн, вожделение, обман в этой гадкой истории… что же, все это будет ассоциироваться с твоим именем и твоей внешностью… Все, чем ты так гордился с парижских времен, теперь, в свете настоящих событий, вызывает только отвращение. Конечно, ты знаешь причину, по которой ты не говорил с ними об этом. Они просто не поверили бы тебе.
Но если ты тогда боялся, что тебе не поверят, с какой стати они должны поверить тебе сейчас. Сейчас, когда нарыв лопнул. Сейчас, когда все более чем ясно, ты пытаешься изобрести свою правду. Как требовать от Рахили, Самуэля и Филиппо, чтобы они не обращали внимания на очевидные факты, а выбрали твою правду, в то время как ты сам не доверился им, когда еще дела обстояли гораздо лучше. И если ты не надеешься, что в твои невероятные истории смогут поверить три самых нуждающихся в этом человека, как ты можешь надеяться, что весь остальной мир выслушает тебя с доверием? Как смеешь ты требовать снисхождения от равнодушных, враждебных, от всех тех, кто, подобно хищникам, поджидал, когда же такой большой человек, как Понтекорво, сделает неверный шаг?
И вот неверный шаг сделан. Теперь они набросятся на тебя, чтобы растерзать, чтобы отомстить за завоеванный тобой успех. Теперь ты чувствуешь, как мурашки бегут у тебя по коже от страха? Теперь ты начал опасаться за свою невредимость? Ты чувствуешь, как весь мир готовится обрушиться на тебя? И когда ты представляешь весь этот мир, земля уходит у тебя из-под ног.
Там снаружи столько людей ненавидят тебя. Забавно, но для их ненависти не важно, виновен ты или нет. Они ненавидят тебя, и всё. И они используют эту историю, чтобы насытить свою чрезмерную обиду и удовлетворить свое возмущение. Они изобретут самые невероятные сплетни. Это самое действенное оружие ненависти. И они используют его, чтобы уничтожить тебя, представить тебя извращенцем, паразитом, который слишком долго притворялся благодетелем, но в конце концов был разоблачен. Потом они перейдут к тяжелой артиллерии. Они используют эту девчонку. Эту рано созревшую сучку. Они используют ее, чтобы нанести тебе удар. Они не будут показывать ее публично, они все сделают в ее отсутствие. Они спрячут ее и будут использовать, чтобы раздавить тебя. Ей будут гарантированы полная невидимость и конфиденциальность, меж тем как тебя подвергнут публичному бичеванию. Так они уничтожат все то, что ты выстроил. Они назовут тебя вором, негодяем, развратником. Они сделают это, чтобы успокоить свою совесть, не менее нечистую, чем твоя. Для тех, кто ненавидит тебя, нет лучшего развлечения. Сделать козлом отпущения того, кто попал в беду.
И что ты можешь противопоставить им? Ничего. Как ты защитишься от того, что тебе самому кажется не подлежащим обжалованию? От писем несовершеннолетней, от одолженных денег, от украденных денег и от всего прочего? Разница между тобой и этой девчонкой. Больше сказать нечего. Это самое убийственное средство в их руках. Твое солидное общественное положение в сравнении с хрупкостью двенадцатилетней крошки. Как сопоставить твою силу с ее слабостью? Именно так все происходит за толстыми стенами уютных буржуазных жилищ, которые, как ты наивно думал, будут защищать тебя до самой могилы. Но сейчас могильная пропасть, как никогда, близка. Так близка, что ты чувствуешь ее холод.
Набор стандартных извинений, которые имеются в распоряжении любого серийного насильника. И это твоя козырная карта? Боишься, что да. Твои оправдания, такие искренние и неопровержимые для тебя, едва ли их кто-то будет слушать. Все то, что люди готовы выслушать, легко откопать в строках той жалкой, паскудной переписки, в которой ты так неосторожно поучаствовал. Эта переписка рассказывает историю, сильно отличающуюся от той, которую ты сам хотел бы поведать и которую ты пережил. Единственная правдивая версия, в которую поверят все, это тошнотворная история о том, как пятидесятилетний мужчина, добившийся многого в своей жизни (но уже совершивший немало непростительных преступлений), изнасиловал двенадцатилетнюю девочку, у которой только недавно начались менструации и которая, кроме прочего, девушка твоего сына.
Возможно, пришло время осознать, что ничего нельзя поделать, что все бесполезно. Тебя приперли к стенке. Ты попался в ловушку, из которой непросто выпутаться. Кричать о том, что невиновен, объяснять семье, что это она, она, Камилла, а не ты, начала всю эту историю, начала и продолжила, — все абсолютно бессмысленно. Никто не спасет тебя от наказания, которое в неопытных и чистых головах твоих детей и благоразумной твоей женушки уже вынесено и почти исполнено. Тебе остается только плакать. Неудержимое детское желание начать хныкать, очистить организм непрекращающимся потоком слез. Но, по крайней мере, это ты мог бы ему позволить.
Вышло так, что Лео Понтекорво, вместо того, чтобы обсудить с женой и детьми случившееся, вместо того, чтобы успокоить их общими фразами вроде: спокойно, все уладится, все проблемы созданы для того, чтобы их решать; вместо того, чтобы сохранять олимпийское спокойствие, которое до некоторых пор многие считали его основным качеством; вместо того, чтобы прибегнуть к своему знаменитому оптимизму, — не смог придумать ничего лучше, как встать, открыть дверь кухни, выходящую на лестницу, постоять в нерешительности, как самоубийца перед последним шагом в пустоту, и убежать прочь в ту часть дома, которая обычно служила местом его уединения, спрятаться, забиться в нору, подальше от людей, которых он в тот момент боялся больше всего на свете. Больше судей, прессы, общественного мнения, отца и матери Камиллы, больше всех тех, кто только и ждал, чтобы снять с него шкуру. Он убежал, как вор, пойманный с поличным.
И хотя он настаивал на том, что это бегство было продиктовано нежеланием, чтобы Рахиль и сыновья увидели его нервный припадок, правда заключалась в том, что в самый ответственный момент своей жизни он выбрал поведение, наиболее соответствующее его характеру — трусость. Убежать означало остаться верным до конца поведению ребенка, каким, несмотря на возраст, профессиональные успехи, солидный заработок, Лео Понтекорво не переставал быть, даже пройдя свой жизненный путь до середины. Вот он какой, Лео Понтекорво, избалованный сынок своей мамочки.
Часть вторая
За семь месяцев до того, как Лео в буквальном смысле сбежал из кухни от своих самых близких людей и от своей ответственности, Лео сбегал в безобидно фигуральном смысле от городской рутины вместе со своей семьей. Он сбегал в Анзер, живописную деревушку в Швейцарских Альпах. Именно там Понтекорво проводили рождественские каникулы. Они снимали отдельное шале на северном склоне и забывали обо всем остальном мире в этом царстве тишины, безмятежности и белизны.
Несмотря на относительно молодые годы, Лео считался выдающимся медиком. Причем настолько, что от его фигуры уже исходила особая аура солидности, какую излучают высокие и сутуловатые научные докладчики, которые перед тем, как прочесть свою речь на очередной конференции, долго роются в карманах пиджака в поисках очков.
Небольшая фотография в приложении к медицинской рубрике в «Коррьере», периодическое мелькание на телеэкране — и Лео смог оценить, что значит быть известным. Его стали узнавать в ресторанах и в вагоне поезда. Нельзя сказать, чтобы ему не нравилось пристальное внимание прекрасных ипохондричек средних лет с безупречными укладками и жеманными улыбками. Тем не менее эта легкая слава не заставила его раздуться, как шар. Скорее харизма профессора Понтекорво заключалась как раз в том, чтобы особенно не стремиться к завоеваниям. Да, именно так, профессор Понтекорво был из тех светил, которые особым образом умели добиваться своего, особенно к этому не стремясь.
Его разнообразная работа (в ней онкология представляла собой отдельную планету, вокруг которой вращались блестящие спутники) позволила стать Лео весьма состоятельным человеком. Частенько в кругу более молодых коллег он любил похвастаться, с долей цинизма и не без кокетства, что университетской зарплаты (он уже достаточно долго преподавал на кафедре) ему хватало только на карманные расходы. Возможно, Лео стоило бы воздержаться от некоторых шуточек в мире, где богатство прощалось только тем, кому за восемьдесят, то есть тем, кому уже ничего не надо от этой жизни, кто не смог бы насладиться в полной мере ее благами.
Однако несмотря на весь успех, несмотря на неуместные порой реплики и благодаря Рахили (девушке, твердо стоявшей на ногах), Понтекорво не кичились своим богатством. Кроме Самуэля, проявлявшего настоящую страсть ко всему дорогому или тому, что казалось таковым, остальные не особо исповедовали гедонизм, что случалось во многих семьях из их окружения в те годы.
Например, Понтекорво никогда не ездили в отпуск в «правильные места для правильных людей» (как советовал модный рекламный ролик, который тогда часто показывали по телевидению) и куда Самуэль поехал бы с большим удовольствием, чтобы присоединиться к своим одноклассникам. Никакой Кортины, никакого Санкт-Морица и подобных им курортов. При дворе супругов Понтекорво такие пошлости были недопустимы. Хотя кто-нибудь мог бы возразить, что ездить каждый год в забытое богом местечко вроде Анзера — это снобизм в квадрате. Но такие замечания ничего не значили для Понтекорво. Важно было свято хранить некоторые обычаи, которые делали пребывание в Анзере довольно приятным.
В этом снежном королевстве Рахиль начинала свой день рано. В «святой тишине» она не спеша варила кофе (кофеварку Рахиль, подобно эмигрантам, привозила с собой из Италии), иногда окидывая взглядом горную долину в форме амфитеатра, над которой возвышались остроконечные равномерно заснеженные вершины: в хорошую погоду они были розовато-жемчужными. Ребятам тоже нравилось вставать рано, но по другим причинам: им хотелось первыми добраться до трассы (бог знает почему). Казалось, что они испытывали особое удовлетворение, когда видели лимузин папочки, одиноко припаркованный на заледеневшей парковке под подъемником. Это было первой победой в утреннем соревновании.
Честно говоря, Лео не сходил с ума от лыж. На самом деле утром, замерзший и не успевший отдохнуть (сказывалась накопленная за год работы усталость), он предпочел бы обойтись без них. Тем не менее он не мог разочаровывать Самуэля и Филиппо, как будто для них не существовало на свете более важных вещей, как посоревноваться с ним в каком-либо виде спорта. Надо было видеть, как мальчишки раздувались от гордости, когда им удавалось сделать больше точных ударов и передач, и Лео всегда уступал им первые и последние три минуты игры. Там, в саду возле дома, Лео, не обращая внимания на протесты пораженных курением легких и селезенки, участвовал в спектакле, который устраивали для него сыновья, пытаясь взять каждый мяч, как юные игроки, мечтающие поразить тренера лучшей сборной. Вот они какие, его сыновья, — активные, энергичные, напор и здоровье. Стоило ему показать слабость, с каким разочарованием они смотрели на него!
На лыжных склонах атмосфера ничем не отличалась. Пыл, адреналин, соревнование. Филиппо любил подурачиться и попугать брата, устраивая прыжки. Сэми же, несмотря на то, что брат катался на лыжах гораздо дольше него, терпеть не мог, когда Филиппо не следил за тем, чтобы ставить лыжи ровно. Все это время отец ковылял за ними. Беда была в том, что мальчишки не знали чувства усталости, а для Лео минутами истинного блаженства становился подъем на фуникулере. Он откидывал голову назад, снимал перчатки, тыкал палками в снежные сугробы, встречавшиеся на пути. Затем он закуривал сигару. Делал затяжку и вдыхал коктейль афродизиаков из густого дыма и тонкой струйки воздуха. Лео чувствовал, как мышцы ног сводит от холода, а когда подъем становился круче, он приходил в себя, рискуя упасть.
С каждым годом соревноваться с сыновьями становилось все сложнее. Еще недавно именно Лео давал указания, ждал, подгонял. Но с некоторых пор роли поменялись. Оказалось, что его особый стиль устарел. Филиппо и Самуэль недовольно ворчали: «Ну же, папа! Давай, а то мы так никогда не доберемся до места!»
Но его авторитета еще хватало на то, чтобы объявить перерыв на обед в убежище, маленькой лачуге из темных бревен, примостившейся на обледеневшем склоне, в нескольких десятках метров от канатки. Изнутри эта лачуга была более просторной, чем могло показаться снаружи. Она могла вместить в себя всех лыжников даже в горячий сезон рождественских каникул. Из-за огромных ботинок и лыжных костюмов серебристых оттенков гости убежища напоминали роботов, космонавтов или средневековых рыцарей в латах.
Пока сыновья пили свою колу и жевали сэндвичи, Лео заказывал себе омлет с беконом, грибами и картофельными рёшти на гарнир и два стаканчика. Все это сопровождалось обычным: «Только прошу, ни слова старушке!» Лео намекал на только что съеденную свинину, не самую кошерную пищу.
Подогреваемый алкоголем, Лео мог вполне насладиться последним послеобеденным спуском. Вечером он не катался на лыжах. Мальчики даже не пытались просить его об этом.
С этого момента день в горах нравился профессору Понтекорво уже гораздо больше. Дома его ждал горячий душ, под которым он стоял десять минут, пока не расходовал весь нагревательный бак. («Пока не расходовал ледник», — подшучивала над мужем Рахиль, которую поражало, как небережно Лео обращается с природными ресурсами планеты.)
«А не сделать ли нам кофе?» С этой фразой Лео часто обращался к Рахили, выходя из ванной с сигарой во рту, благоухающий одеколоном и дезодорантом. И Лео, и Рахиль прекрасно понимали, что обращение к первому лицу множественного числа в этой фразе не соответствовало действительности. Выбор такой грамматической формы был притворством, лицемерием: на самом деле кофе хотелось Лео, а Рахиль должна была его приготовить. Причина, по которой Лео не мог попросить ее об этом напрямую, как сделал бы его отец несколько лет назад, заключалась в том, что времена изменились. Как если бы в специальном календаре обычаев сменилась целая эпоха. Столь двусмысленно сформулированный вопрос демонстрировал, что женщина находится где-то на середине своего пути к равным правам. Кофе по-прежнему готовила жена, но, по крайней мере, сейчас ее об этом любезно просили, причем муж чувствовал себя несколько неловко.
Будущие жены Филиппо и Самуэля — если представить, что эти убежденные холостяки когда-нибудь женятся, — вынудили бы своих покорных супругов готовить себе кофе, и те подчинились бы не моргнув глазом.
После кофе и отдыха на диване перед камином Лео спускался вместе с Рахилью на прогулку в деревушку. Пока она ходила по магазинам, он, желая казаться космополитом, чему, увы, не совсем соответствовали его познания в английском языке, покупал британские и американские газеты. Поеживаясь от холода, он усаживался на скамейку и читал их с огромным трудом, мечтая о словаре. Пока они шли домой, пока горы на горизонте погружались во тьму, деревушка оживала. Витрины магазинов на главной улице начинали сверкать. Драгоценные товары, разложенные между красных бантов, деревянных коробочек, позолоченных шариков, еловых веток, так и просились наружу, они должны были быть куплены и по возможности увезены в другие страны. И к счастью, в деревушке было полно любителей этого добра. «Только не говори мне, что это последняя модель „Никона“. „Этот шарф совсем неплох! Оранжево-розовый, тончайший кашемир“. „А эти солнечные очки, модель Blues Brothers? Сэми хотел именно такие или я ошибаюсь?“»
А кто в те времена не мечтал о новеньких солнечных очках? Кому не нравилось делать подарки? В наше время, когда есть все, мир немного успокоился. Сейчас сделать подарок — лучший способ дать понять любимым людям, что все дурное позади и что они важны для тебя. Лео не мог устоять перед таким искушением. Да и кто бы устоял перед этими празднично украшенными витринами, при взгляде на которые Лео хотелось напомнить жене, как он дорожит ею и сыновьями, как он ими доволен, а самому себе — как он себя любит. Так начинался обычный спектакль. Он настаивал — она отказывалась. Он был уверен — она сомневалась. Спектакль с известным концом: в конце концов пашмина цвета лосося и последняя модель фотоаппарата «Никон» оказывались у него в руках. И это было справедливо. Ему больше ничего не было нужно. Его единственной потребностью в тот момент было фотографировать своим новым фотоаппаратом жену, которая накинула на плечи свою не менее новую пашмину розовато-оранжевого цвета.
Он знал, что в заключительном акте сего спектакля он должен будет ответить на обычные возражения щедро одаренной жены: «Лео, тебе не кажется, что это дороговато? И слишком броско? Ты уверен, что это мой стиль?»
Лео выходил из магазина с пакетами, как триумфатор. Рахиль, наоборот, сгорбившись, опустив глаза. Она как будто боялась, что Бог Израиля узрит ее даже в этом ледяном раю и накажет за тщеславие и идолопоклонство.
Когда они возвращались в шале, пока сыновья принимали душ, а Рахиль распаковывала и раскладывала по тарелкам только что купленную еду (надо признаться, кулинария не относилась к ее сильным сторонам), Лео, окутанный молочным дымом тосканских сигар, заканчивал чтение газет рядом с камином. Или, облачившись в халат, показывал ребятам последние покупки. Или возился с новым «Никоном», а Самуэль, отличавшийся неплохим зрением, читал ему инструкцию. Все это перед тем, как торжественно усесться за стол. Свежий хлеб, сыры, бокал красного вина и венский десерт. После этого можно было, наконец, отправляться в кроватку.
Да, вот так из года в год, без всяких изменений.
Как вышло, что именно там все и началось? В таком недвусмысленном и безобидном контексте? Что именно там случилось величайшее недоразумение, которое шесть месяцев спустя он не смог объяснить своему семейству?
Вот уже несколько минут Лео не мог найти ответы на целую кучу сложных вопросов. За это время он с трудом дотащился до крошечной ванной на первом этаже. И вот он уже стоит перед зеркалом и мочится прямо в раковину, как подростки или пьяные. Во рту привкус гнилой вишни.
Идея ответить адекватно на бессмысленные вопросы, которые он сам себе задал, более не кажется разумной. Он не может даже поднять глаза и взглянуть на свое отражение.
Да что отразилось бы на его лице, кроме сильного желания уснуть. Две ночи и два дня. Или, если хотите большей точности, сорок восемь часов. Все это время он пытался справиться с бессонницей.
После тяжелого, не приносящего облегчения сна два с половиной дня уединения в кабинете. Два с половиной дня самой продолжительной в его жизни бессонницы. Два с половиной дня самых интересных и самых тоскливых. Самых значимых и самых бесполезных. Самых неоспоримых и самых загадочных… «самых» во всех отношениях.
В любом случае Лео был еще в состоянии понять, что бессонница была спровоцирована не только волнениями относительно уже произошедшего и происходящего сейчас. Было еще одно техническое неудобство: в моменты кризиса ему была совершенно необходима Рахиль. Обнять жену за талию, проскользить ладонью по ее бедрам, почувствовать мягкую податливость знакомого тела. Это было единственное успокоительное средство, которым Лео злоупотреблял все годы их брака. Но на этот раз Рахиль (не говоря уже о ее бедрах и талии) была недосягаема.
После своего бегства Лео несколько минут еще ждал ее. Взволнованный, испуганный, не веря, что сможет выдержать ее взгляд, но он ждал ее. Она сейчас спустится. Мы будем ругаться. Кричать. Орать. Может, дойдем и до рукоприкладства. Но потом она даст мне возможность все объяснить. И все уладится… Но время шло, и уверенность Лео слабела. По мере того как вокруг сгущались сумерки, внутри него росло беспокойство.
Затем он почувствовал головокружение и ломоту во всем теле. Это усталость? Лео вспомнил об одном споре с женой, который случился во время ремонта в их полуподвале. Рахиль хотела приобрести ужасный раскладной диван, Лео же оставался верным дорогущему и бесполезному честерфилду, обитому ярко-красной кожей.
«Послушай, ты уже и так потратил астрономическую сумму на меблировку верхних этажей. Позволь хоть здесь применить немного практичности, которую ты так презираешь». К счастью, в тот раз она победила. Иначе у него не было бы сейчас этого удобного ложа. Превратив диван в кровать, Лео надеялся заснуть как убитый. Но что-то пошло не так. Это была настоящая пытка: заснуть он не мог никак.
Зря он погасил свет. В темноте пространство приобрело ужасающие размеры: сейчас комната напоминала необъятную пещеру Полифема. Мать всегда рассказывала ему эту проклятую историю про Одиссея и Полифема, когда Лео был маленьким и не хотел спать. Казалось, она делала это нарочно (Лео так и не смог понять, любила ли его эта женщина или ненавидела). Но почему он именно сейчас вспомнил эту историю про Полифема и его пещеру, ведь он тысячу лет ее не вспоминал? Огромная пещера, вход в которую завален огромным камнем. Ну, детки всего мира, можете представить что-нибудь страшнее?
Итак, как только Лео выключил свет, ему показалось, что подушка у него под головой раздувается. Он чувствовал себя как маленькая рыбка в океане. Но именно тогда, когда он начал поправлять подушку, чтобы не потеряться в бесконечном пространстве, ему вдруг стало не хватать воздуха, как будто гигантская пещера вдруг уменьшилась в размерах. Еще немного, и она раздавила бы его. Тогда, почти задыхаясь, Лео встал, включил свет и стал вышагивать по комнате. Вот в чем был секрет: двигаться, утомить себя, как это делают дети. И, как дети, не выключать свет. А потом снова лечь в кровать и ждать благоприятного момента. И не думать. Не думать о себе. Забыть хоть на мгновение, кем он был. Забыть невероятную историю, в которой он был главным героем. Постепенно, после двух мучительных дней ему это удалось. Лео забыл все: почему он там оказался, чем он рисковал, а потом Рахиль, сыновей, программу новостей, коллег, университет, ту проклятую девчонку, ту проклятую девчонку… Его организм как будто отказался бодрствовать. Как будто его мозг и тело, чтобы не сойти с ума, призвали на помощь забвение и забытье. Но только бог знает, чего стоили Лео эти моменты покоя! А возвращения в реальность были просто ужасны. Обычно где-то на горизонте его абстрактно воображаемого пейзажа возникала какая-нибудь конкретная деталь, способная запустить в ход пыточную машину: например, жареная картошка Филиппо, тяжелое дыхание Самуэля, молчание Рахили… И так, подобно пациенту, которому поставили диагноз смертельной болезни и который, просыпаясь после спокойного сна, вспоминает вдруг о своем смертном приговоре, Лео чувствовал, как на него накатывает волна паники. Огромная волна, идущая издалека. Изнутри. Страх концентрировался на нескольких квадратных сантиметрах, где-то в диафрагме. Ноги дрожали, в ушах звенело, кровь закипала. Лео готов был биться об стенку головой, чтобы только освободить ее снова. Но это уже было невозможно. Вернуть все назад не получалось. Теперь Лео Понтекорво больше не человек. Теперь Лео Понтекорво — это все его смущение. Весь его стыд. Весь его страх. Он начинал бормотать или, может быть, молиться: «Меня хотят уничтожить… меня хотят уничтожить… меня хотят уничтожить…» Эти слова, в сто раз менее сильные, чем смысл, который он в них вкладывал, оказались на удивление действенным заклинанием.
После почти двухдневной борьбы, когда он уже почти уверился в том, что никогда больше не уснет, потому что бессонница — это его кара, его смертный приговор, Лео уснул.
Он проснулся несколько минут назад. Скоро светает. Должно быть, ему снилось море слез. Во сне он только и делал, что плакал. Поэтому, как только Лео проснулся, он потрогал щеки руками, удостоверился, что они абсолютно сухие. Положил левую руку между колен, чтобы согреть ее. Меж тем правую руку он вытянул вверх, коснулся черепа, точнее, вьющихся волос, в которые Лео запустил пальцы, чтобы предаться размышлениям, продлившимся две ночи и два дня.
Сейчас та же рука возится со съежившимся членом, пытаясь направить его в раковину.
Пока Лео опорожнял свой мочевой пузырь, его вдруг озарило (так часто бывает в кино и почти никогда — в жизни). Ему на ум вдруг пришел Анзер. Свет и снег Анзера. Наверное, потому, что в последние два дня мучительного внутреннего диалога в его мозгу рождались только контрастные образы. Большое и маленькое. Спокойствие и ужас. Сон и бодрствование… А что можно было противопоставить густой темноте, в которой он проснулся сейчас, как не искристый блеск тех дней, проведенных в горах? Не были ли воспоминания о том благословенном свете вызваны сегодняшним мраком и безмолвием? Да, возможно, чтобы объяснить причину своего нынешнего положения, когда он, напуганный, одинокий, мочится в раковину, не имея больше мужества посмотреть на себя в зеркало, Лео надо было вспомнить одну простую вещь, такую мирную и легкую, мерцающую и невыразимую, — его последние каникулы с семьей в швейцарских снегах.
Несколько двусмысленных ситуаций, пережитых в горах, были вызваны, так сказать, общим напряжением. Ничего более. Небольшая супружеская перепалка за пару недель до отправления в Анзер. Все началось с каприза Самуэля: этот избалованный мальчишка пожелал взять Камиллу с собой в Швейцарию. Рахиль сказала ему, чтобы он даже не думал об этом.
«Почему нет?»
Как это почему? Какие здесь могут быть объяснения? Потому что Камилла и Самуэль слишком маленькие, чтобы ездить вместе на каникулы. Потому что присутствие чужого человека доставит неудобство папочке и Филиппо, а она не может этого допустить. Рахиль искренне удивляло согласие родителей Камиллы. С каким легким сердцем они отпустили дочь на рождественские каникулы из дому.
«Отец сказал, что можно».
«Я говорю нет! Разговор окончен».
«Тогда я попрошу об этом отца».
И он попросил об этом отца. Лео эта ситуация не показалась такой уж страшной: он был совсем не против, если Самуэль прихватит с собой кого-нибудь. По той же причине ему нравилось, когда иногда по субботам их дом осаждали какие-нибудь приятели сыновей, оставаясь даже на ужин. «Дом — полная чаша» — было одним из излюбленных выражений Лео. Особенно если это касалось друзей его сыновей. Ему оставалось только создавать эффект присутствия, ограничившись двумя-тремя дежурными фразами. В то же время ему нравилось видеть в своем просторном жилище молодых ребят, подобное зрелище наполняло его душу невыразимым теплом и порождало сентиментальные чувства. Лео ощущал особую энергию, которая исходила от них. Энергию молодости этих подростков, бьющую ключом, веселую, терпкую, которой были лишены даже самые молодые его студенты. И было в этой энергии нечто роковое, что наполняло даже коридоры его отделения, переполненного маленькими больными.
В общем, присутствие Камиллы в горах гарантировало постоянное пополнение этой энергии. Кроме того, Лео подумал о том, что внимание сыновей переключится на нее и они на некоторое время оставят его в покое и не будут требовать кататься на лыжах.
Лео дал свое согласие. Если бы он только знал, какое негодование это вызовет у его супруги.
Их изнурительные и воинственные ссоры. Постоянные перепалки между Лео и Рахилью, пример которых уже приводил ваш любезный автор, казалось, представляли собой уменьшенную и пародийную копию дискуссии о двух концепциях национальной идентичности, которая в те годы приняла особо острую форму в маленькой, но воинственной еврейской общине Рима.
Первая, самая старинная ссора случилась еще в первые годы их брака: Рахиль узнала, что беременна, и они никак не могли сойтись на том, какое имя дать первенцу, а после — его братику или сестричке. Лео посчитал излишним давать детям ветхозаветные имена, которыми евреи всего мира называли свое потомство. Он был за что-нибудь обычное, вроде Фабрицио, Энрико, Лоренцо. Пригодные в любой ситуации, невычурные, ни к чему не обязывающие имена. Имена, по которым нельзя было бы сразу определить принадлежность их носителей к народу Израиля (в сущности, для этого уже было достаточно фамилии). Имена, подходящие для дерзких людей двадцать первого века. Рахиль же, как и следовало ожидать, желала, чтобы ее дети носили какие-нибудь звучные библейские имена: Давид, Даниил, Саул… Порой эта женщина теряла всякое чувство юмора. В конечном счете, как вы уже догадались, пришлось прибегнуть к соломонову решению: первенца нарекли греческим именем, второму сыну дали библейское. Но и это не разрешило вечный спор Лео и Рахили, которые так и остались по разные стороны баррикад.
Вести о гонениях, массовом уничтожении заставили поднять голову такой разновидности иудеев, как «римский еврей». Римские евреи стали отчаянно петушиться и задирать нос. В какой-то момент они узнали о существовании в дальних странах евреев, которые были куда более евреями, чем они сами. Суровые и колоритные, трагичные и искрометные, эти ашкенази — с их хрупким, магическим, эзотерическим существованием всегда на грани катастрофы — казались в тысячу раз более подходящими, чем римские евреи, на героическую роль искупительной жертвы, которую история определила этому народу.
Осознание такого рода неполноценности развило в особо религиозных семьях дух соперничества по части введения в повседневный обиход массы различных обрядов и запретов, давно исчезнувших из нашей традиции. Кошерные блюда, соблюдение Шабата, воздержание от пищи и молитва в дни Йом-Кипура, разрывание одежд во время траура — все это было не чем иным, как постмодернистским цитированием (в кинематографе и литературе) племенного иудаизма, который имел мало общего с иудаизмом римского образца, возникшего еще в далекие времена императора Тита. Император изгнал евреев из Рима, вынудив их в последующие два тысячелетия терпеть притеснения в дряхлом сердце христианства.
Интересно, что радикализм римских евреев породил по контрасту в самых просвещенных и светских умах внутри общины насмешки и нетерпимость. Лео являлся воплощением духа сарказма, а Рахиль по-своему толковала роль возрожденной римской общины. И это стало предметом споров супругов Понтекорво.
Рахиль, казалось, делала все, чтобы усложнить жизнь семейства, выкапывая традиции, которые, в сущности, имели к ним такое же отношение, как белые одежды, которые носили римские матроны времен Августа. Лео в свою очередь вел счет всем просвещенным евреям в мире, которые достигли значительных успехов в кино, литературе, музыке, медицине, физике и прочая, забывая о том, что многие из них не имеют никакого отношения к римским евреям. К тому же он был склонен переоценивать и свои профессиональные достижения, чтобы почувствовать себя частью того славного списка. На первый взгляд перебранки между Лео и Рахилью касались только особого образа жизни евреев, в действительности же они маскировали истинные причины подобной агрессии: иначе говоря, принадлежность различным и в какой-то мере противостоящим друг другу сословиям. В целом религиозные разногласия были только прикрытием, эдакой жестяной крышкой, которой желали закрыть кипящий котел классовой борьбы. В их отношениях достаточно было знать только это. Классовое различие объясняло все. Объясняло, например, почему отец Рахили отравил столькими запретами жизнь двадцатичетырехлетней дочери, чтобы она в одном шаге от получения диплома по медицине прекратила вдруг учиться из-за этого щеголя, своего профессора.
Тот Лео Понтекорво, будучи тогда еще только ассистентом, завоевал ее, приобщив к другой вселенной, жизнь которой состояла из удовольствий, которые девушка, воспитанная в строгости отцом и набравшаяся романтических бредней из голливудских комедий, не могла себе даже представить. Принадлежность к разным мирам объясняла также жестокую нетерпимость по другую сторону баррикады: мать Лео, придумав в качестве предлога недавнюю смерть мужа одной своей дорогой подруги, появилась в храме на ненавистной свадьбе «своего мальчика и дочери уличного торговца шинами», облачившись в траур.
Прозвищем «дочь уличного торговца» Рахиль была обязана профессии отца — типичного представителя категории «рыночных евреев», столь презираемых состоятельными соплеменниками: его экономическое процветание началось в послевоенное время, когда он со своим не менее предприимчивым братом приобрел оборудование для ремонта шин грузовых прицепов. В то время массовой автомобилизации Чезаре Спиццикино арендовал небольшой участок в Тибуртине, неподалеку от Пирелли, и основал свою маленькую фирмочку, которая постепенно превратилась в одно из самых процветающих предприятий в округе. По мере того как кошелек синьора Спиццикино раздувался и росло его благосостояние, его желание каким-то образом забыть свое жалкое происхождение становилось все острее. Именно это внушило ему мысль возложить на своих дочерей обязанность, столь дорогую всем выскочкам мира, завоевать общественное положение и уважение через образование и воспитание. Сестры стали первыми в семье, кто получил высшее образование: фармацевтическое — покойная Стелла, медицинское — Рахиль. Это завоевание переполняло гордостью массивную фигуру синьора Спиццикино, а на его глаза наворачивались слезы.
Совсем иначе дела обстояли в семье Понтекорво. Медики в четвертом поколении, помимо способности быстро усваивать профессиональные навыки, отличались умеренным добродушием, которое можно было бы назвать снисходительностью, если не небрежностью.
Объяснить и понять тот факт, что эти два абсолютно противоположных мира — до сих пор соединенные в одно целое браком, который упорно держался благодаря сильнейшему чувству, — находили самые глупые предлоги для стычек, было несложно. Что бы там ни думали некоторые просвещенные люди, конфликты всегда неприятны, но ничто так не ободряет, как борьба с тем, чего ты не способен понять. Любить друг друга, не понимая, было судьбой и тайной Лео и Рахили и многих счастливых пар их поколения, напоминающих несмешивающиеся вещества.
Как раз осенью перед их последним Рождеством в Швейцарии спокойствие супругов Понтекорво подверглось опасности из-за случая, вошедшего в историю под названием «кризис Сигонеллы».
Это случилось во времена Беттино Кракси, когда в ночь с 10 на 11 октября карабинеры хотели арестовать группу палестинских террористов рядом с американской базой. Местом действия этой международной психологической драмы стала взлетная полоса в военном аэропорту Сигонеллы. На этой заасфальтированной дорожке, обдуваемой свежим ночным ветерком, итальянские и американские солдаты едва не перестреляли друг друга из-за лакомого куска. Террористы захватили итальянский круизный корабль «Ахилл Лауро» и убили одного из заложников, коим оказался американский еврей Леон Клингхоффер. Ясно, что для американцев поймать убийцу их соотечественника имело символическое и практическое значение. Кроме того, американцы должны были показать, кто является хозяином территории. В конце концов итальянские военные, не прибегая к оружию, но благодаря националистической гордости и международному праву одержали победу над своими соперниками, подобно Давиду над Голиафом. Это сильно возмутило Рахиль и преисполнило патриотической гордостью Лео. Этот дипломатический конфликт между Италией и Америкой нашел живейший отклик в доме Понтекорво. Кризис в Сигонелле как будто вобрал в себя все мотивы разногласий, изначально существовавшие между двумя супругами. Начиная с политической и чисто человеческой оценки личности Кракси и заканчивая традиционными проблемами семитизма и антисемитизма — в этих спорах Лео и Рахиль никак не могли найти компромисс.
Рахили показалось символичным, что этот политикан, столь обожаемый Лео, запятнал себя причастностью к преступлению, которое для нее было самым ужасным, — антисемитизму. С другой стороны, для такого человека, как Лео Понтекорво, который всегда носил в кармане партбилет социалиста и который пусть даже ни разу не посетил ни одного партсобрания, но с преданностью футбольного болельщика следил за всеми перипетиями любимой партии, наблюдать за выступлением Беттино Кракси на взлетной полосе Сигонеллы было настоящим праздником.
Вот он, тип социалиста у власти, социалиста, умеющего убедить в своей правоте, современного социалиста, желающего внести передовые преобразования в левое движение, социалиста, ненавидящего коммунистов и ненавидимого ими, социалиста, которого все уважают и боятся, и именно благодаря этому уважению и страху он сможет выстоять против жалких нападок конформистов… И наконец, это тот социалист, который сумеет утереть нос зарвавшимся американцам, не позволит этим ковбоям Рональда Рейгана сесть себе на шею. Действительно, было от чего прийти в экстаз. Как видите, любовь Лео к Кракси была одним из наиболее ярких проявлений его доходящего до шивинизма пристрастия ко всему заграничному. Обожание, которое Лео испытывал к Кракси, было столь же сильно, как чувства, которые Рахиль питала по отношению к евреям. Вот почему случай в Сигонелле вызвал столь отчаянное противостояние в доме Понтекорво.
Основная стычка произошла в любимом месте обоих супругов. Как всегда вечером, Лео принял душ и брился перед зеркалом, запотевшим от пара. В это время Рахиль в своем маленьком будуаре выбирала, как обычно, дотошно платья, которые она наденет на следующий день. В конце диалога оба оказались лицом друг к другу в спальне: он с воспаленной после бритья шеей, она в ночной рубашке, сжимая в руке платья:
«При чем здесь антисемитизм? Вы вечно делите мир на евреев и не евреев!»
«Почему ты так говоришь, будто тебя это не касается! Представь, что на месте несчастного еврея оказалась бы и красивая девушка-католичка… не знаю, из Катании, твой герой, твой кондотьер, проявил ту же уступчивость по отношению к этим убийцам?»
«Какая еще уступчивость? О какой уступчивости, черт возьми, ты говоришь?! Я не вижу здесь никакой уступчивости! Напротив, я увидел в этом случае настоящую твердость главы правительства, который устал быть мальчиком на побегушках у американцев!»
«У тех самых американцев, которые помешали нацистам завершить их грязные делишки! Ты об этих американцах говоришь? Да что ты об этом знаешь? Что вы вообще обо всем этом знаете, проведя военные годы в горах, играя в бридж среди коров?»
«Я должен стыдиться… Ты мне это хочешь поставить в вину?»
«Я только хочу сказать, что мы говорим об американцах, которые нас освободили, которые нас спасли!» (Здесь голос Рахили впервые дрогнул.)
«И сколько мы еще должны оплачивать счет? „Ахилл Лауро“ — итальянская территория. Равно как и аэропорт, в котором эти мерзавцы, как всегда, хотели навести свои порядки. Почему я не могу порадоваться тому факту, что на их пути наконец-то встал ответственный правитель? Настоящий мужик, которого не так просто запугать. Который умеет держать себя с фашистами!»
«И кто здесь фашист? Американцы? Да уж, дорогой… Мне кажется, что ты путаешь некоторые понятия. Иногда ты говоришь как Рита и Флавио».
«В данном случае настоящие фашисты — это пираты, которые захватили корабль с людьми и которые, обрати внимание, пристрелили не кого-нибудь, а еврея. Я знаю только одно: твой мессия сделал все, чтобы убийца очередного невинного иудея вышел чистеньким из воды!»
«Никто не вышел чистым из воды! Теперь эти мерзавцы в наших руках!»
«То есть как в случае с Абу Аббасом?»
«В каком смысле с Абу Аббасом?»
«Разве они не позволили сбежать Абу Аббасу? Ты знаешь, где сейчас Абу Аббас?»
«Лично я не знаю. Но я уверен, что ты мне это сейчас поведаешь!»
«Наверняка кушает барашка под пряным соусом и пьет мятный чай за наше здоровье! Вот он где! Развлекается со своими бедуинами и благословляет сердобольный итальянский народ, который ненавидит евреев. А за одним столом с ним сидят вдохновители очередного истребления евреев».
«Ты, кажется, забываешь о том, что не было никакого массового истребления. Речь идет только об одной жертве…»
«Ты слышишь свои слова? Ты говоришь как они! Тебе недостаточно одного еврея? Чтобы возмутиться, тебе нужно побольше жертв?»
«Я совсем не об этом говорю! Я только хотел заметить, что, когда мы затрагиваем определенные темы, ты склонна все преувеличивать, при том, что обычно это моя прерогатива. Но стоит только заговорить о евреях и Израиле, ты даешь мне сто очков вперед. Как в тот раз, когда ты потребовала, чтобы я бросил больницу и пациентов и примчался в школу забрать ребят. Ты испугалась, что митинг против оккупации Ливии каким-то образом навредит им».
«У меня были все основания для беспокойства. Один из одноклассников Филиппо заявил ему, что мы все убийцы!»
«Чепуха».
«А смерть того ребенка тебе тоже кажется чепухой?»
«Какого ребенка?»
«Стефано Таке. Эти свиньи… Как только подумаю, что я должна была пойти в тот день в синагогу с Сэми… — Здесь голос Рахили снова задрожал. Но гнев был сильнее волнения. — Разве у тебя не закипает кровь при мысли о том, что того негодяя сейчас принимают на родине как героя за то, что он убил очередного еврея? А родители Клингхоффера должны молча проглотить оскорбление? Бедняга… Он был виноват только в том, что родился евреем. И поэтому ты радуешься? Потому что твои любимые социалисты сделали все, чтобы убийцы евреев остались безнаказанными? В этом мы, по-твоему, нуждаемся? Во власти антисемитов?»
В этот момент Рахиль не выдержала и начала всхлипывать. И только тогда Лео, не выносивший слез жены, а особенно тех слез, которые невольно вызвал он сам, прекратил спор, обняв ее и сказав: «Перестань, дорогая. Все уладится…»
Прошло всего два месяца с тех пор, как Лео и Рахиль повздорили из-за случая в Сигонелле, и вот снова, накануне рождественских каникул, они не могли договориться, брать или не брать с собой подружку Самуэля. Конечно, их спор не был столь ожесточенным, как в случае с Леоном Клингхоффером, однако его последствия были гораздо более разрушительны для них, чем смерть несчастного соплеменника. В споре, как обычно, главенствовали два тона: саркастический и мелодраматический. Местом действия на этот раз стал несущийся по Нуова-Кассия со скоростью сто километров в час «Ягуар».
«Я отказываюсь брать на каникулы подружку своего двенадцатилетнего сына!»
«Не будь смешной. Что с ними может произойти? Они ведь знают, что рядом будет бдеть бешеная волчица, чтобы никто не покусился на невинность ее волчонка! Тебе не кажется, что вседозволенность неожиданно предоставляет некоторые стратегические преимущества? Как известно, запретный плод более сладок. Вседозволенность — отличная штука!»
«Дело вовсе не в том, позволять что-то или запрещать. Мне все кажется смешным и неправильным! И поведение Самуэля неправильное…»
«Уф, ты зациклена на определенных вещах…»
«Вспомни, сколько нам пришлось всего сделать, чтобы заслужить путешествие вместе…»
«И за это ты хочешь заставить платить Самуэля?»
«Никого я не хочу заставлять платить. Я имею в виду другое. Он должен понять цену некоторых завоеваний».
«Завоеваний? Ты хочешь сделать из него Христофора Колумба?»
«Ну почему с тобой нельзя поговорить серьезно? Повторяю: нам в свое время пришлось попотеть…»
«Только потому, что твой отец не хотел уступать. Если бы все зависело от него, тебя, подобно коню фараона, похоронили бы вместе с ним… Я спас тебе жизнь! Потом, это не моя вина, что Мейеру было лень проводить занятия и он передавал их мне. Да, в двадцать восемь я уже преподавал, я приходил на факультет со своей паутиной, как Дастин Хоффман, а ты была невинной студенточкой, в которую развращенный профессор запустил свои когти. Боже, как же ты заставила меня попотеть, дорогая! Твое удовольствие, я имею в виду, твою любовь…»
«Как ты груб!»
«Но ты понимаешь, что наше первое путешествие, не тайное, было свадебным путешествием?»
«Вот именно! Это было так прекрасно, незабываемое ощущение свободы…»
«Ты права. Наверное, Самуэль и Камилла должны пожениться».
«Прошу тебя, перестань. Я просто прихожу в отчаяние от того, что ты не принимаешь всерьез мои слова! Я так думаю: то, что завоевано на поле боя, приносит больше удовлетворения».
«Я знаю, что ты так думаешь. Ты мыслишь стереотипно. Если хочешь, запрем Самуэля в кладовке на год. Когда он выйдет на свободу, он будет полон жизни!»
«Перестань!»
«Хорошо, извини. Но мне сложно говорить серьезно о вещах, которые я не считаю серьезными!»
«Потому что ты из-за своего детского энтузиазма не задумываешься о насущных проблемах».
«О каких, например?»
«Шале недостаточно просторное. Там только одна ванная комната. Камилла — девочка-подросток сложный возраст: ей понадобится личное пространство. И нам и ей будет неудобно пользоваться одной ванной комнатой. И куда мы положим ее спать?»
«Э-э, Филиппо и Сэми придется потесниться: они могут спать на раскладном диване в гостиной, а ей уступить свою комнату».
«Брось, несмотря на твое показное добродушие, тебе самому не кажется, что здесь что-то не так?»
Конечно, он это чувствовал. И теоретически он готов был признать ее правоту. Однако он не уступил по обычным причинам, по каким мужья и жены не уступают друг другу: упрямство, гордость, желание одержать верх над противником во что бы то ни стало. И в конце концов победил он. Его, так сказать, резолюция была принята в конечном счете. Легкомысленная и разрушительная диалектика победила материнское волнение и пуританские запреты Рахили. Если бы он только знал, бедняга, что, выиграв в этой маленькой супружеской стычке, он, как недальновидный генерал, положил основы для самого крупного поражения в своей жизни.
И все потому, что Камилла выбрала самый странный и компрометирующий способ отблагодарить его. За его поддержку, скажем так.
И здесь нечему было удивляться. Эта девчонка была довольно странным созданием. С ее ровесницами у нее только и было общего, что возраст. На фоне подружек сыновей, с которыми иногда сталкивался Лео, или его маленьких пациенток Камилла выделялась, как те искусственно выведенные учеными помидоры, крупных размеров и необычной формы, но ужасно безвкусные. Камилла принадлежала к тому типу девушек, про которых можно было бы сказать совершенно противоположные вещи: «Она старше своих лет!» или «Она младше своих лет!». В ее присутствии все остальные казались слишком правильными и напоминали Лео неприступных девочек из его класса в пятидесятые годы, по которым он совсем не скучал.
Мир катился назад, вместо того чтобы развиваться? Последние двадцать лет были слишком безнравственны, чтобы породить подобную реставрацию пуританских нравов в волшебном мире отрочества? Однажды Лео вернулся домой раньше обычного времени, хотел успеть на день рождения Самуэля. Атмосфера, царившая на празднике, отдавала чем-то жалким и анахроничным: шарики, пластиковые стаканчики и тарелки, бутылки с фантой и кока-колой, потом все эти тинейджеры, смущенные присутствием друг друга: девочки в одной части гостиной, мальчики — в другой, как в синагоге. Боже мой, зачем была сексуальная революция? А где спиртное? Травка? Конечно, Лео не предполагал узреть оргию, тем более он не желал бы видеть ее в своем доме. Однако он не ожидал столь гнетущей нерешительности. Самым невыносимым было видеть сборище блондиночек с розовыми браслетиками, в узких джинсах с нашивками внизу и в просторных и бесформенных балахонах, будто украденных у папы с пузиком. Они скорее походили на плюшевых медвежат, чем на девушек. Лео так и прозвал их про себя: плюшевые девочки.
Этот типаж встречался не только в его среде, но повсюду: достаточно было прогуляться по центру города в субботу вечером, чтобы столкнуться с чуть более грубыми копиями таких девочек. Все в этом мире стремилось к равенству. Исчезали по крайней мере, на уровне эстетики, классовые различия, а мода, несмотря на некоторое уважение к иерархической системе, открывала преимущества экуменизма.
Предположим, что какой-нибудь догадливый коммерсант приобрел партию кофточек из белого или розового плюша с большой надписью спереди и убедил модниц своего района, что эти куски ткани самые классные, — можешь не сомневаться, что через несколько месяцев эти кофточки распространились бы по всем улицам Рима, подобно смертельной эпидемии, а потом и по всей стране, заражая миллионы девушек. Так вот, плюшевые девочки, наводнившие гостиную и сад Лео тем вечером, могли считаться, учитывая их положение, выразительницами общественного вкуса.
И все-таки речь шла о воспитанных и приличных девочках, единственная вина которых (если они вообще считали это виной) заключалась в том, что они в свои двадцать лет были освобождены от мятежности духа, укрывшись в уютном конформизме, который, в отличие от конформизма их прародительниц, открыто признавал себя таковым. Странно, но часто самой благонамеренной эпохе, вопреки ожиданиям, присуще меньше притворства. И тем не менее Лео (и в определенном смысле Рахили) нравилось, что первой подругой, которую Сэми привел в дом, оказалась вовсе не плюшевая девочка. Супруги Понтекорво отличались достаточно филистерским образом мыслей, чтобы считать, что оригинальность сама по себе штука хорошая и поучительная.
Особым искусством этой девчушки было умение исчезать, быть незаметной. Все в ней как будто говорило о страстном желании анонимности: цвета одежды (кстати, довольно изящной и скромной), колеблющиеся между серым и бледно-коричневым. Ее подвижная и гибкая фигурка, настолько худенькая, что вызывала в памяти хрупких поэтесс начала века или голодающих пакистанских детей. Волосы, мягкие и пышные, слишком рыжие, чтобы заставить эту маленькую маоистку усмирить их, уложив в пучок на сельский манер. Цвет кожи — молочный — также придавал ей незаметности и успокаивал. Не говоря уже о тупом, упорном молчании, за которым она пряталась, как черепаха под своим панцирем.
Наверное, именно поэтому Лео и Рахиль почти не обратили на нее внимания, когда за пару месяцев до праздника Сэми в первый раз пригласил ее к ним домой. Тогда во время ужина вчетвером они были вынуждены подавлять порывы нежности и смешки, чтобы не потревожить чувства двух голубков, отложив их до того момента, как они наконец окажутся одни в кровати. Супруги Понтекорво освободились от элегантных одежд, которые Сэми, бог знает почему, требовал от всех участников того сюрреалистического ужина. Они уютно устроились на льняных простынях и, посмеиваясь, обсуждали поведение сына:
«Ты заметил, что наш малыш едва дышал? А как у него дрожал голос? А когда он наливал ей воды? А как он положил салфетку на колени…»
«Послушай, это ты купила ему тот белый пиджачок? Он похож в нем на гнома из того телесериала, которым дети меня замучили… Ненавижу этого гнома и его хозяина-педика…»
«Не могу поверить, что наш Сэми…»
«Наш Сэми что? Мужчины из рода Понтекорво все такие. Скороспелые, решительные, предприимчивые, безупречно одеты и нацелены на добычу… но ведь и воспитаны отлично».
«Мне так хотелось расцеловать его в щечки, когда я видела его взволнованное личико».
Видите, почти ни слова о девочке. К чему было обращать внимание на столь бесцветное создание, когда можно было бесконечно умиляться своим прелестным мальчиком? Разодетым, как южноамериканский плейбой, с волнистыми светлыми волосами, немного крючковатым носом, выдающим происхождение и делающим его красоту неуклюжей, симпатичной и в определенном смысле романтичной. Он был великолепен. Лео и Рахиль радовались и гордились сыном. Для них было естественным обсуждать поведение сына, забыв о его подружке.
Красноречие, которое выказал Сэми, перечисляя многочисленные достоинства Камиллы, было в тысячу раз интереснее сдержанной и скромной реакции девочки на расточаемые ей комплименты, которые она отвергала недоверчивым взглядом.
Именно поэтому тем вечером в кровати, пропитанной кисловатым запахом простыней, которые по настоятельной просьбе Лео летом меняли чуть ли не каждый день, родители комментировали смущение Самуэля. Благородство души, которым было вызвано это смущение. Они и помыслить не могли, что именно этой девчонке уготовано уничтожить все (включая льняные простыни).
Впервые Лео по-настоящему заметил Камиллу, когда ее забирали родители. Это случилось как раз на дне рождения Самуэля. Когда они пришли, Лео еще носился с фотоаппаратом на шее. Рахиль потребовала, чтобы муж предоставил в распоряжение семьи свою дилетантскую (и недешевую) страсть к фотографии. Она вынудила его исполнять утомительную роль официального фотографа этой скучной вечеринки в саду, заполненном плюшевыми девочками. Рахиль вела счет всему тому множеству фотографий, сделанных мужем за последние двадцать лет, а также не сделанных за означенные двадцать лет. Ей не нравилось, что Лео захламляет дом черно-белыми пейзажами, небоскребами на закате, снимками незначительных предметов: жалких сигаретных пачек, кофейных чашек с отбитыми краями, сандалий, забытых на пляже. В общем, натюрмортами. Натюр морт — мертвая природа. Какое верное определение. Муж фотографировал только мертвые бездушные предметы. Причем он делал это на совесть. А стоило его попросить сделать «нормальный» снимок, например сыновей, которые учатся кататься на велосипеде, жены в вечернем платье или позирующей перед Эйфелевой башней, Лувром, да где угодно, черт побери, полный пустяк… Что здесь начиналось! Когда его просили об этом, художник чувствовал себя оскорбленным.
«Зачем делать фотографии, похожие на открытки? — вопрошала она его, в отчаянии пересматривая его экстравагантные снимки после очередного путешествия. — Какой в них смысл, если на них нет людей?» Этот комментарий каждый раз возмущал художника. Как такое можно говорить, какая вульгарность! Но в тот вечер Рахиль выразилась ясно: «Не хочу фотографий со скомканными бумажными салфетками. Никаких цветочных орнаментов. Не хочу развернутой ретроспективы, посвященной черепичной крыше. Я хочу снимки своих сыновей и их друзей! Понятно?»
Понятно. И упрямому Лео ничего не оставалось, как скрупулезно выполнять убогие распоряжения заказчицы, потратив вечер на фотографирование своих сыновей и их друзей, относясь с особым вниманием к имениннику и его пассии.
Это продолжалось до тех пор, пока он вдруг не заметил странную пару взрослых, которые вошли в сад и направились ему навстречу с несколько растерянным видом.
Наконец-то достойный объект для съемки! Лео даже не смог сдержаться и крикнул: «Стойте там, не двигайтесь!» Он имел право приказывать, как художник, который после многочасового поиска наконец увидел на лице модели нужное выражение. И оба незнакомца остановились как по команде, позволив Лео наброситься на них, подобно профессиональному папарацци. Надо отметить, что они действительно были достойными моделями.
Речь шла о еще довольно молодой, но импозантной паре. Можно было не сомневаться, что он был королем беговых дорожек, а она питалась только овощами и фруктовыми салатиками из клубники, дыни и киви. Кокетливо-заговорщицкий взгляд, который синьора бросила на фотографа, может быть, говорил о том, что хорошие манеры не были ее сильной стороной, однако в аэробике ей точно не было равных.
Странная парочка была одета в желтые дубленки, подбитые мехом, которые казались совершенно неуместными теплым весенним вечером. Взгляд Лео задержался на волосах мужчины. Они ниспадали до самых плеч: такое мог себе позволить только мальчик до шести лет (кстати, при взгляде на эти волосы становилось понятным, в кого Камилла уродилась такой рыжей). Однако между этой сорокалетней парой, на чьей коже крем для загара оставил оранжевый сверкающий налет, и их лунно-бледной дочерью была большая разница.
Хроматический диссонанс, по всей видимости, был только частью того сложного противоречия, которое существовало между Камиллой и людьми, давшими ей жизнь, в которой она старалась быть как можно более незаметной. Она стыдилась родителей в той степени, в какой они были не в состоянии понять свою странность. Это объясняло, почему Камилла в тот вечер старалась побыстрее ускользнуть, тогда как они, напротив, жаждали остаться подольше. Ей не хотелось показывать своим любимым Понтекорво, насколько нелепы и смешны ее родители, они же хотели понять, что особенного в этих Понтекорво, чтобы заставить их единственную дочь проводить с ними большую часть времени.
Для Лео было достаточно увидеть родителей Камиллы и ее отношение к ним, чтобы понять, почему она, в отличие от своих сверстниц, стремилась быть незаметной, спрятаться. Если бы к ней вдруг явился джинн из волшебной лампы и спросил, что она пожелает, ответ девочки был бы прост: «Сделай так, чтобы меня здесь не было!» Джинн: «И где бы ты хотела оказаться, малышка?» — «Где угодно, только не здесь». В этом и заключалась ее суть: где угодно, только не здесь. Это желание выражали ее прекрасные глаза и хрупкое тело, которое, казалось, готово было испариться.
Чтобы понять это, достаточно было увидеть, с каким нетерпением она старалась встать между родителями и Понтекорво. Камилла как будто хотела набросить свой волшебный плащ-невидимку на самых близких ей людей, которых она так стыдилась. Будь на то ее воля, она послала бы все к черту. Отца, мать и все, что их касалось: дубленки не по погоде, огромный «Рэнджровер» со множеством наворотов, который ждал ее у дома Понтекорво. Не говоря уже о поведении отца, в котором сквозила церемонность деревенщины, желающего произвести впечатление на известного профессора.
Они потеряли ее слишком рано, подумал Лео с сочувствием стороннего человека, которому самому не довелось испытать нечто подобное. Такое случается. Да, они упустили то, что мы с Рахилью, по крайне мере пока, в состоянии удержать: любовь, уважение наших детей. Такое частенько видишь даже в больнице. Есть родители, которые держат ситуацию под контролем, другими же вертят как хотят эти маленькие чудовища. Я пока еще хоть иногда являюсь героем для своих сыновей. И совсем другая участь выпала этому мужчине и этой женщине. По взглядам их дочери ясно, что она осуждает в них все. Верно, этот смешной тип со своей прической под викинга, одетый как чукча, больше не является героем своей дочери как минимум лет пять. А если посмотреть на ту нежность, с которой он надевает на нее курточку, чтобы защитить от холода, пренебрежение дочери должно быть для него самой большой болью в жизни, обостренной тем фактом, что он не заслужил ее и не мог понять ее причин и сущности.
Какого черта, возможно, он удовлетворял любую прихоть Камиллы и сделал для нее в сто раз больше, чем родители Лео в свое время сделали для своего сына! И где, спрашивается, благодарность этой девчонки? Только взгляд, полный стыда. Клянусь, если мои сыновья когда-нибудь посмотрят на меня таким взглядом… клянусь, что… Так размышлял Лео с добродушным сочувствием после того, как он опустил фотоаппарат и представился этой нелепой парочке, после того, как он позвал Рахиль, попросив ее в свою очередь позвать Камиллу, и увидел выражение лица, с которым та посмотрела на своих родителей, которые беседовали с ним. Да, именно так размышлял Лео, отмечая не без удовольствия, что Камилла была как на иголках и делала все возможное, чтобы они с Рахилью не заметили, из какого теста сделаны ее родители. Очевидно, она считала, что Понекорво — люди другого уровня. Пока Лео размышлял обо всех этих вещах, с жалостью глядя на отца Камиллы и гордясь собой, Камилла проявила одно из своих странных качеств. Она обращалась к отцу и матери по-французски. В этом не было бы ничего странного, если бы, например, это было своеобразной внутрисемейной игрой (как у персонажей какого-нибудь русского романа). Или, предположим, ее смешение языков, превращающее семейство в подобие вавилонской башни, объяснялось бы французским происхождением одного из родителей. Но ни отец, ни мать Камиллы не имели французских корней, более того, никто из них не смог бы изобразить что-нибудь по-французски, кроме мерси или навязчивой и популярной в ту пору фразы: Oui, je suis Catherine Deneuve[5].
Причина, по которой Камилла говорила на этом языке так бегло и с хорошим произношением, заключалась в том, что с самых первых классов она посещала французскую школу Шатобриана на вилле Боргезе. В том, что девочку послали во французскую школу, не было ничего удивительного: учитывая, что речь шла о достаточно модном образовательном заведении, эти несчастные, нажившие кучу денег, но, увы, оставшиеся сокрушительно невежественными, готовы были прослезиться при мысли о том, что их дочка посещает Шатобриан, говорит на французском почти как настоящая француженка и знается с детьми послов и проч. Так, уже с шести лет они просили ее говорить по-французски только для того, чтобы слышать, как она говорит на этом языке. Большую часть летних каникул Камилла проводила на вилле Аржентарио, приобретенной ее отцом, благодаря широкой сети магазинов кожи и меха в центре. К ним в гости часто приходили так называемые «девочки их круга». Какие-нибудь Сабин, Моник, Шарлотт, единственной задачей которых было подтягивать их дочурку во французском. Беда только в том, что дочурка, воспользовавшись сим эфемерным присутствием, исключила из своей жизни родителей при помощи языка, который для их ушей звучал как загадочная музыка. Но как-то на пляже, когда Камилла и одна из «девочек ее круга» Моник без умолку трещали по-французски, отец в порыве раздражения прервал их: «Ну хватит, черт возьми!»
С тех пор Камилла взяла за привычку говорить по-французски с отцом всякий раз, когда чувствовала в этом потребность, а он, поскольку никогда и ни за что не смог бы ее наказать, униженно смирился.
Очевидно сейчас, в присутствии Понтекорво, для этого настал самый подходящий момент. Контекст был не совсем уместный (но именно это и требовалось), хотя фразы касались непосредственно ситуации: «Oui, papa, la fete a ete magnifique! On y va, maman? Je suis tres fatiguee!»[6] Лео ничего не знал обо всей этой истории с французским и удивился, что это на нее нашло. Почему она говорила с родителями по-французски? Чтобы ситуативно выйти из этого тупика? Чтобы переключить все внимание на себя и отвлечь раз и навсегда от объекта своего стыда? Или просто привести родителей в замешательство и тем самым ускорить их уход, прекратив весь этот кошмар? Лео не знал этого точно, но если таковы были намерения Камиллы, ее стратегия отлично сработала. Ее родители засобирались убегать прочь с проворностью Золушки, покидающей своего принца, в то время как эксцентричная малышка продолжала болтать с ними на изящном «старорежимном» французском. Все обернулось так неловко, что у Лео не хватило смелости спросить у Сэми, какая муха укусила его подружку. Тем не менее по равнодушной реакции Самуэля казалось, что для него подобные сцены были обычным делом.
С тех пор Лео особо не думал о Камилле и ее странностях. По крайней мере, до тех пор, пока Рахиль не объявила ему, что их младшенький в качестве необходимого условия его присутствия в Швейцарских Альпах потребовал принять Камиллу в их команду. Так Лео стал подозревать, что эта весьма странная девчушка к тому же еще скороспелая манипуляторша. Но тогда подобная мысль скорее развлекла его. Чем он гордился более всего, так это своей терпимостью.
Да и кто здесь ставит условия? Самуэль, этот двенадцатилетний мальчишка? Это он смеет ставить родителей перед выбором? Шантажировать, не имея никакого авторитета? Невозможно поверить! Какая милая шутка!
Лео ничего не мог поделать с собой. Все это его смешило и трогало. Он был не в состоянии разделить тревоги Рахили и считал их обострением материнской ревности.
Он даже не сомневался в том, что это Камилла внушила Самуэлю идею взять ее с собой в Швейцарию. Самуэль не был столь предприимчив, чтобы додуматься до некоторых вещей. Но в то время как для Рахили такое влияние являлось причиной для беспокойства, для Лео это было чем-то веселым и очаровательным. Видеть Самуэля во власти этой странной девочки было настоящим спектаклем… Учитывая отношение Камиллы к родителям, ясно, что она хотела избежать обычных рождественских каникул с ненавистными родственниками, которые бы занимались разбором чудовищно дорогих подарков и обжорством. Да, мысль избавиться от всего этого кошмара была слишком привлекательна для нее. Ее восхищало и то, что Понтекорво, если исключить некоторые послабления, которые позволял себе Лео (какой-нибудь подарок для ребят, чтобы они не чувствовали себя слишком одинокими в бескрайнем мире закоснелых католиков), по определенным причинам вообще не праздновали Рождество. Такой случай нельзя было упускать. Так вызрел ее план операции «Анзер». И завершение его было успешным.
В Швейцарии Камилла оказалась в необычной, но, в сущности, подходящей для нее атмосфере и потому почувствовала необходимость отблагодарить того человека, который помог ей в воплощении ее грез. Эта благодарность обрела форму коротенького письма. Это было одно из тех первых писем, которые привели к тому, что сейчас наш узник — после того, как сполоснул водой лицо, не смея поднять глаза и взглянуть на своего бледного двойника в зеркале, — принялся вышагивать взад и вперед по комнате, мечтая о чашке кофе, как путник, затерянный в пустыне, мечтает об освежающем журчании фонтана.
Конечно, еще до того как появилось первое письмо, Лео удостоверился в абсолютной правоте своей жены. Присутствие Камиллы навсегда разрушило четкий, как швейцарские часы, механизм. Филиппо не захотел спать на одном диване с братом. Самуэль не смел протестовать, будучи ответственным за случившееся, и не мог спать из-за чувства вины перед братом, которому требовалось больше пространства для ритуала (биться головой о подушку, слушая музыку), который еще с колыбели помогал ему уснуть.
Кроме того, Камилла не только не умела кататься на лыжах, но даже не собиралась этому учиться. А это значило, что Рахиль должна была проводить с ней целое утро. Не говоря уже о более опасных вещах. Камилла страдала от астмы (эту новость семейству Понтекорво сообщили уже после того, как они нехотя дали свое согласие взять девочку с собой). Видите ли, ее родители очень просили. В результате Рахиль была вынуждена особенно тщательно прибираться в доме по утрам, а также держать всегда под рукой ингалятор с адреналином. А в случае особенно сильного приступа шприцы и ампулы с гидрокортизоном. Ко всему прочему служанка Тельма в последний момент выкинула фортель и не последовала, как обычно, за своими хозяевами в Швейцарию. Так, Рахиль должна была выполнять прочую работу по дому, от которой раньше ее освобождало наличие маленькой милой филиппинки.
Лео в свою очередь должен был пожертвовать самой приятной частью своего дня в горах, когда он мог позволить себе немного насладиться уединением. С первого же дня в Анзере он не мог подолгу засиживаться в туалете или часами принимать душ. Как он мог расслабиться, зная, что там в маленькой, пропитанной теплым паром гостиной, в которой потрескивает и шипит пламя в камине, сидит эта девчонка? Ему казалось, что она ждет его. Предстать перед ней в халате не смущало его (семья Лео была достаточно широких взглядов, чтобы осуждать появление в неглиже). Самым сложным было развлекать Камиллу, найти общую тему для разговора. И в любом случае эта возможная беседа посылала к чертовой матери все прочие планы (прогулку с Рахилью, газеты, покупку маленьких подарков и прочая). С первых же дней Рахиль хотела, чтобы муж почувствовал, каково ей с Камиллой. Через минуту после его возвращения с лыжной трассы Рахиль вышла, настоятельно попросив его присмотреть за страдающей астмой девочкой. Лео слишком хорошо знал жену, чтобы понять, в чем заключалось ее послание к нему, когда та, выходя из дому, хлопнула дверью: «Ты очень хотел взять ее с нами? Вот теперь повозись с ней сам».
Как можно было осуждать Рахиль? Непросто приходится той, которая всегда права, но которую никогда не слушают.
Итак, во второй половине дня, кажется, наступала очередь Лео присматривать за подружкой сына. За этой конопатой доской по имени Камилла. Вот беда! Неприятность, куда ни кинь взгляд, досадное недоразумение, которое Лео не предусмотрел.
Несмотря на то что у него было два сына, ровесника Камиллы, несмотря на отделение, переполненное детишками, несмотря на то, что он привык общаться с двадцатилетними студентами в университете, Лео точно не знал, что делать с этой малолеткой.
В сущности, его отношения с детьми и подростками строились, так сказать, по определенным правилам, существующим в обществе, в котором роль Лео была строго предопределена. Секрет заключался именно в неизменности его положения.
Хотя его отношения с сыновьями не были отмечены формальностью, применяемой в свое время к Лео его отцом (приснопамятным профессором Понтекорво-старшим), несмотря на это, даже столь близкие отношения имели свои правила, были четко отлажены по так называемому старому доброму образцу. Когда Сэми и Филиппо были совсем маленькими, Лео любил разыгрывать роль мужчины, который не желает, чтобы дети путались у него под ногами. Рахиль даже в шутку прозвала его Иродом. Впрочем, нашего профессора это прозвище нисколько не огорчало и даже веселило. Иногда он выдавал реплики вроде: «С моей работой настоящим отдыхом было бы не слышать всю эту шумную детскую возню».
Кстати, со своими маленькими пациентами Лео мог изображать отцовско-покровительственное отношение, характерное для лечащих врачей, в то время как со студентами — ироничную преподавательскую формальность. Но что изобрести, чтобы развлечь эту невероятно сдержанную и загадочно сложную девочку? Лео был застенчив, как некоторые красивые, высокие и рассеянные мужчины. Оказавшись перед двенадцатилетней девочкой, с которой он должен был вести веселые и необременительные разговоры, Лео рисковал сам оказаться на месте нерешительного подростка и заставить эту недомерку почувствовать себя эдакой опытной, бывалой женщиной. Это предвиделось уже в его неуклюжих монологах. Да, самым досадным было то, что в окутанной теплой влагой гостиной, в которой он провел столько приятных минут в предыдущие годы, теперь его ждало неприятное возвращение в отроческие годы.
Смешение ролей. Вот самая большая ловушка. В первые два дня он справлялся, расспрашивая ее о Самуэле: каким он ей кажется, как он ведет себя с другими. Затем он попытался обобщить тему этого скучного разговора, поинтересовавшись, чем занимаются ребята их возраста, какие у них планы на будущее (отличный вопрос двенадцатилетней, нечего сказать!).
Лаконичность Камиллы приводила в замешательство. А еще ее большие янтарные глаза, несмотря на смущенное выражение, были столь бесстрашно устремлены на взрослого собеседника, что необъяснимым образом сильно раздражало Лео.
На третий день все темы были исчерпаны. Он израсходовал весь свой запас. Что касается Камиллы, Лео сомневался, что у нее вообще был какой-нибудь запас тем. Именно поэтому в тот день он постарался задержаться подольше в ванной, надеясь, что сильный снегопад заставит сыновей раньше вернуться домой. Но и в третий раз Камилле удалось вывести его из себя. Проклятой рождественской песенкой. С тех пор как они приехали в Швейцарию, она постоянно слушала ее. Она привезла с собой сорок пять дисков и просто захватила проигрыватель, бывший в домике. Три дня подряд Камилла слушала только эту песенку. Только ее. С короткими перерывами. Постоянно и упрямо. Лео была знакома эта детская одержимость: если Филиппо нравилась какая-либо музыкальная композиция, он мог слушать ее до тошноты. Однако страсть Камиллы была несравнимо сильнее. Она слушала знаменитую, уже вошедшую в анналы истории песенку, в которой молодой Джордж Майкл со своей прической а-ля Родео Драйв не прекращал ныть уже не знаю какое Рождество подряд. Именно эта звуковая дорожка теперь сопровождала когда-то прекрасные для Лео моменты в ванной. Мотивчик для геев! Лео мог примириться с чем угодно, но только не с дурным музыкальным вкусом. Это особенно злило Лео в Камилле и делало ее присутствие невыносимым.
Примерно с таким настроением, уже одетый и с мокрыми волосами, Лео предстал в гостиной на третий день.
И увидев эту девочку, похожую на ирландку, которая стояла у проигрывателя рядом с камином, не зная, что сказать, он сделал замечание, которое прозвучало так нелепо-литературно и архаично, что потом он готов был удавиться: «Наши братья Гонкур не испугались даже снежной бури?»
Называть этот тихий снежок за окном снежной бурей было не меньшим преувеличением, чем называть своих сыновей братьями Гонкур. И тем не менее Камилла впервые улыбнулась ему, почти с радостью.
«Почему братья Гонкур?» — спросила она. Первый вопрос с ее стороны! Наконец-то! Жаль, что Лео не знал, что ответить. Он уже давно прозвал своих сыновей братьями Гонкур. Он как-то сказал Рахили, что иногда не понимает этой привязанности между Самуэлем и Филиппо, напоминающей симбиоз.
«Тебя не беспокоит, что Самуэль не может уснуть без брата? Может быть, не стоило класть их в одну комнату все эти годы в одну кровать здесь, в шале?»
«Да нет же. Сэми просто не хочет признаться, что боится темноты и одиночества».
«Возможно, но Филиппо сказал мне, что каждый вечер Сэми просит его не засыпать раньше, иначе он не уснет. С другой стороны, Филиппо должен, как безумный или как хасид у Стены Плача, биться головой о подушку, чтобы уснуть. Отличная парочка! Все-таки они не сиамские близнецы, тебе не кажется?»
«Я же тебе говорю, что они просто дети — даже Сэми. И как все дети, они ненавидят темноту и одиночество».
«Хорошо. Но может быть, когда-нибудь мы их ненадолго разлучим? Разные школы, каникулы в разных местах?»
«Почему ты так торопишься сделать такую жестокую вещь? Это все равно рано или поздно случится…»
На слова Рахили, пропитанные горечью, усиленной воспоминаниями о погибшей много лет назад сестре, Лео ответил загадочной репликой: «Потому что я не хочу быть отцом братьев Гонкур!»
Стоит заметить, что Лео имел весьма размытые представления о братьях Гонкур. Он был совершенным образчиком того классического образования, которое уже тогда назвали «старым добрым» и для которого было достаточно, чтобы ты хотя бы знал о существовании братьев Гонкур. От тебя также не требовалось читать их произведения, но ты должен быть в курсе, что они писатели девятнадцатого века, вместе писали что-то вроде дневника и спали с одной девушкой.
Но очевидно, что намек на этих французских писателей (причем ей неизвестных) произвел на Камиллу такое впечатление, что она не переставала улыбаться от счастья, как будто после долгих лет поиска она вдруг обрела родственную душу. И ее радость была столь велика, что она даже решилась задать свой первый вопрос:
«Почему братья Гонкур?»
«Ты не знаешь, кто такие братья Гонкур?»
«Нет, но судя по имени, они французы».
«Если точнее, были французами».
Увидев вопросительный взгляд девочки, Лео вынужден был уточнить: «Они давно умерли».
Но Камиллу не интересовало, когда умерли братья Гонкур и что они вообще делали при жизни. Что-то другое привлекло ее внимание, и это стало ясно при втором вопросе (она прямо-таки разговорилась): «Сэми мне сказал, что вы много лет прожили в Париже».
Лео нравилось, что Камилла называла его на «вы». Случалось, что дети в больнице, не самого лучшего воспитания, говорили ему «ты», что его не столько сердило, сколько огорчало и приводило в замешательство. Но Камилла была воспитанной девочкой. Как бы ни были грубы ее родители, они научили ее, что к старшим нужно обращаться на «вы».
Кроме того, в своей французской школе Камилла должна была приобщиться к трансальпийской манере и любви к формальностям. Попробуй только не обратись к учителю «месье», а к учительнице «мадам». Попробуй только не обратись к ним на «вы».
«Много лет? Это Самуэль сказал? Что я прожил в Париже много лет? Что за склонность к преувеличениям у этого мальчишки! Всего лишь год. Я прожил в Париже всего лишь год».
«Много лет назад?»
«О да! Около миллиона лет назад! Представляешь, когда были Пунические войны? Когда жил Ганнибал? Вот примерно тогда».
На эту шутку она снова рассмеялась, и на этот раз Лео казалось, что от души. Он едва не поймал себя на мысли: как приятно заставить смеяться женщину! И как приятно видеть женщину увлеченной! Но когда он собирался было это сказать, как будто невидимая рука ухватила его за загривок, а не менее воображаемый голос завопил ему прямо в лицо: ты видишь женщин в гостиной? Нет? О какой это женщине ты здесь бредишь?
И почему, если Камилла всего лишь ребенок, он стал изображать из себя пожившего жизнь человека? Как он сказал? «Представляешь, когда были Пунические войны? Когда жил Ганнибал?» И она рассмеялась. Она рассмеялась, потому что Пунические войны были ей ближе, чем братья Гонкур возможно, она только недавно изучала их на уроках истории. Очевидно, ее радость объяснялась тем, что она поняла аллюзию и поняла шутку столь утонченного человека, который прожил в Париже целый год во времена Ганнибала.
«А как живется в Париже?»
«Ты никогда там не была?»
«Никогда. Хотя в следующем году моя школа организует… Возможно… Да и отец мне пообещал…»
«Я завидую тебе. Как прекрасно еще не знать Парижа».
Посмеемся. Он опять взялся за свое и начал играть. На какое-то мгновение, прислушавшись к себе, он почувствовал себя главным героем одной из комедий 40-х, которые так нравились Рахили и Самуэлю. В этих комедиях какой-нибудь худенький Фред Астер или мрачноватый Хэмфри Богарт, изображающие обычно миллионеров в кризисе, очаровывают своим зрелым шармом с долей скептицизма какую-нибудь изящную девушку с застенчивой улыбкой и красотой подростка, которая, несмотря на то, что вышла из сиротского приюта, отличается манерами юной принцессы и правильной речью. «Но возможно, ни Фред Астер, ни Хэмфри Богарт, — подумал профессор Понтекорво, возвращаясь на землю, — не позволили бы себе столь напыщенную фразу: „Как прекрасно еще не знать Парижа!“»
«Вы ездите туда часто?»
«Иногда я должен туда ездить. Это необходимо для работы. Но по возможности стараюсь избегать поездок туда».
«Почему вы их избегаете?»
Почему? Лео вдруг заметил, что сейчас он говорит правду. Может быть, он выбрал для этого не совсем подходящий момент и не совсем подходящего слушателя. Но он говорил правду. Он действительно неохотно возвращался в Париж. Кто знает почему. Опять та же история? Старинные сожаления? Оставь! К своим пятидесяти годам он добился прочного положения в жизни. Его сопровождали удача и благосостояние. Не было ничего, что бы он хотел поменять в своей жизни. И откуда эта скрытая грусть? При чем здесь грусть? Что она значит? Не хотелось бы, чтобы это оказалось какой-нибудь чепухой, вроде меланхолии, которая заставляет нас всех культивировать неуместные слащавенькие сожаления. Чувство, что мы сделали неправильный выбор, не уступили всяким романтическим бредням. Тем не менее Лео действительно неохотно ездил в Париж. В Милан — пожалуйста, в Лондон, не говоря уже о Нью-Йорке и Ванкувере. Только не в Париж.
«В этом виновата девушка?»
Это произнесла Камилла. Ее голос снова вернул Лео к действительности, вырвав его из блужданий в глубине сознания. Странно, что Камилле удалось сделать это, задав вопрос, который не имел никакого отношения к реальности. Вопрос почти неуместный.
«Девушка? О какой девушке ты говоришь?»
Лео сразу же раскаялся за свой раздраженный тон. Он надеялся, что Камилла не заметила его внезапного волнения.
«Мне это рассказал Сэми. Он сказал, что у вас в Париже была девушка».
«Ах, это говорит Сэми? А что еще он говорит?»
«Что если бы вы выбрали тогда эту девушку, он бы сейчас не родился, следовательно, он доволен, что вы ее не выбрали. А это, следовательно, радует и меня».
Жизель? Она сейчас говорит о Жизели? И Сэми разговаривал о Жизели со своей подружкой. Лео почувствовал себя неловко. Как такое возможно, что двенадцатилетняя девчонка говорит с ним о Жизели? Лео оглянулся. Вокруг все было по-домашнему, уютно и привычно. Он находился все в том же шале, которое они с Рахилью снимали в течение десяти лет. Здесь Филиппо впервые встал на лыжи, научился подниматься и спускаться по снежному склону. Запахло дымом, потому что огонь стал затухать. Снег за окном не прекращался. Откуда взялась Жизель? Лео казалось, что никто о ней не знал, он никогда не говорил о ней с Рахилью. Или говорил? Может быть, он рассказал ей о Жизели, когда они только познакомились, кто знает? Возможно. Рассказывая ей о Париже, Лео мог упомянуть Жизель, а Рахиль восстановила в своем воображении все остальное: она догадалась, что значит для него Жизель или, лучше сказать, значила. Неправильный выбор и прочие романтические бредни. Что на самом деле значила для него Жизель? Абсолютно ничего. С ней можно было хорошо потрахаться. Хорошо, но не долго. Пока хватало физических сил. Пока стояло. Вот что такое была для него Жизель. Но почему же, вспоминая о ней, сейчас он чувствует утрату, как ребенок, у которого отняли игрушку? Стало быть, недостаточно всей его хваленой мужественности, если он может быть таким слащаво-сентиментальным?
Затем Лео задался вопросом, а не была ли история с Жизелью одной из тех историй, которые Рахиль любила рассказывать мальчикам и которые приводили в восторг Филиппо? Как та история с отелем в Монте-Карло, когда он поел, а Рахиль отказалась от еды. Лео вдруг рассердился на Рахиль за ее бестактность, на ее способность разрушить все, к чему она прикоснется. За ее талант превращать фрагменты его жизни в развлечение для сыновей. А еще она смела упрекать Лео за бесстыдство! Случалось, что Рахиль говорила сыновьям об отце, как будто его не было. Иногда казалось, что Рахиль становится все более похожей на свекровь, которую она в свое время так страстно ненавидела.
А может быть, Жизель здесь была ни при чем. Может быть, эта странная девочка Камилла придумывала. Сочиняла на ходу. Вот и все. Насколько Лео удалось узнать ее за такой короткий срок, это предположение имело право на существование. Камилла не назвала никакого имени. Она сказала «девушка». Она не произнесла имя «Жизель». То, что была какая-то девушка, было нормально вообразить для натуры, которую привлекала романтика Парижа. Вообразить, и ничего более. Поэтому спокойно.
«А не выпить ли нам чаю?» — предложил Лео, чтобы выйти из неловкой ситуации, в которую он невольно загнал себя.
«Хорошая мысль… чай… Да, я бы выпила чаю», — живо ответила она.
И на этот раз реакция Камиллы была неожиданной. Но почему Лео думал, что все его слова будут восприняты этой девочкой неправильно? Откуда столько энтузиазма из-за простого чая? Уже вечерело. Снег не прекращался. Стало ужасно холодно. Чай сейчас пошел бы отлично. Но все-таки почему такая радость?
На кухне Лео удалось успокоиться. Он поставил кипятить воду, вынул из упаковки два пакетика Twining Earl Grey, нарезал дольками лимон и налил в кувшинчик немного молока. Он опасался, как бы ни появилась Камилла, чтобы, не знаю, помочь ему. Но слава богу, она этого не сделала. Она ограничилась тем, что снова запустила «Последнее Рождество».
Вернувшись в гостиную, Лео застал ее у камина, в котором почти погас огонь. Она пыталась разжечь его, бесполезно суетясь, как это делают люди, которые никогда в жизни не разжигали огонь.
«Оставь, оставь», — сказал он ей и подошел, оставив поднос на низком столике, заваленном комиксами Филиппо. Деликатно, но решительно он отобрал у нее щипцы. Ему показалось, что Камилла, прежде чем отпустить руку, немного помедлила. И почему она устроилась рядом с ним? Почему не уселась снова на диван? Сейчас она стояла слишком близко к нему, склонившись над огнем с клочком бумаги.
«Нет-нет, бумагу нельзя! Она сразу же сгорит!»
Лео почувствовал, как Камилла коснулась его своей маленькой ручкой, пока разгибалась, как будто хотела опереться на него. После того как она закончила свою суету у камина, Лео окатил острый и резкий запах рассерженной девчонки: более разбавленный и женственный вариант душка, исходящего из комнаты подростков. Он снова почувствовал в воздухе раздражающий дух соблазна. Ощущение не ушло даже тогда, когда ему удалось разжечь угасающий огонь и вернуться на диван. Вопрос заключался в том, кто кого соблазнял. Точно не он. Но с другой стороны, в поведении этой девчонки не было ни явного, ни тайного намека спровоцировать его. Но если она не собиралась провоцировать его, почему он начал думать о том, что раньше ему даже в голову не приходило?
Лео как будто только сейчас осознал, что она девушка и к тому же девушка его Самуэля. А еще он понял, что это благодаря ему она сейчас здесь, в гостиной, где семеиство Понтекорво годами проводило свои идиллические семейные посиделки. Именно он, безответственный отец, позволил сыну-подростку взять с собой на каникулы подружку, как будто он взрослый. Лео только сейчас понял то, что Рахиль пыталась объяснить ему несколько недель назад: неуместность Камиллы здесь. Как бы то ни было, осознавать это было весьма неприятно. И дело не в морали, пуританских предрассудках, стыде и всех этих ученых словах, при помощи которых Лео разбил возражения жены. Все дело в здравом смысле.
Итак, это девушка Самуэля. Его Самуэля, самого веселого и непроблемного из его сыновей, ребенка, с которым всегда было просто. Но именно поэтому не было ничего странного в том, что уже в двенадцать лет у него появилась девушка. Раннее созревание, а также эклектизм — эти черты он унаследовал от родителей, которые так им гордились. Удивительно, как этот маленький одаренный человечек мог иметь такого легкомысленного отца.
Да, это девушка Самуэля. А это означало, что между ними, пусть даже в неполной форме, должны были быть какие-то физические отношения. Простая констатация факта поразила профессора. Хорошо, он был медиком, более того — детским врачом. Кое-что он знал и представлял. Он вспомнил случай, когда к нему в кабинет в Санта-Кристине ворвалась запыхавшаяся медсестра и сообщила, что только что застала в ванной двух детишек, занимавшихся, мягко скажем, не совсем приличным делом… Но зачем использовать эвфемизмы? Детишки трахались. Эти два больных лейкемией подростка трахались. «Как взрослые», — уточнила медсестра, а Лео еще подумал про себя, как будто существуют другие способы.
Лео вспомнил, как горячо он защищал — сначала перед медсестрой, а потом перед Лореданой, своей знакомой-психологом — право несчастных детишек развлечься немного в этой жизни, которая и так у них не задалась. Он вспомнил, как яростно, с каким красноречием защищал законы природы. Жаль, что сейчас речь идет не о чужих детишках. Жаль, что сейчас, представляя своего любимого сыночка Сэми с Камиллой, наше светило не столь уверено в своей правоте.
Внезапно ему стало не по себе. Его собственные мысли привели его в замешательство. Он должен был отвести взгляд от Камиллы, опасаясь, что его взгляд слишком долго задержался на особенностях этого маленького тельца, покрытого веснушками, которое принимало ласки Самуэля и еще бог знает кого.
Запретный плод всегда сладок. Это суровая правда жизни. Если вожделение агрессивно, настойчиво, брутально — это не вожделение. Возможно, это объясняет, почему Лео чувствовал себя смущенным. У края чего-то, что он не осознавал и что отказывался осознавать.
Интересно, это чувство общности и близости, вызванное упоминанием французских писателей (Франция для Камиллы была равна понятию свободы, была воображаемым, фантастическим миром, в который она могла сбежать из реального и банального мира ее родителей), побудило Камиллу написать ему на четвертый день? Или она тоже почувствовала ту давящую и обволакивающую атмосферу запретного желания в той комнате?
Этот вопрос сейчас задает себе Лео перед зеркалом и не находит ответа. Впрочем, в третьем дне в горах не было ничего дурного, с долей иронии, пока еще оставшейся у него, подумал он. Неужели все началось именно тогда? Или речь идет о ретроспективном смешении фактов? А если это так? Возможно, Лео нужно вспомнить третий день именно таким. Возможно, ему нужно драматизировать его. Придать ему значимости через пафос. Все утратило бы смысл, если бы он не вспомнил этот третий день. Так Лео смог бы убедить себя в неизбежности случившегося позже. Он был не в силах что-либо изменить. Это его история, и все тут! Если бы все пошло иначе, тот третий день не всплывал бы так ярко в памяти. Лео не стал бы так тщательно анализировать его, как важную веху своей жизни. Да он вообще о нем не вспомнил. В общем, если бы то первое письмо никогда в жизни не пришло бы, если бы Камилла не подвиглась написать ему, сейчас, шесть месяцев спустя, Лео не стоял бы здесь и не разбирал с дотошностью педанта этот третий день.
С другой стороны, в тот незабываемый третий день произошли другие события, которые могли спровоцировать ее на ненормальный и неуместный поступок, то есть на письмо.
В конце концов, Самуэль и Филиппо вернулись раньше обычного из-за сильного снегопада, пять минут спустя после раннего же возвращения Рахили. Облепленные снегом, братья напоминали кукол на веревочках. Увидев их, Лео почувствовал внезапное облегчение.
Пять минут в компании с женой и этой девчонкой были не самыми лучшими для него.
Рахиль рассердилась, что Камилла, увидев ее входящую с сумками, даже не шелохнулась, чтобы помочь ей, а уткнулась мордочкой в свои книжки. Лео знал, насколько Рахиль раздражал тот факт, что за все время их пребывания в горах Камилла ни разу не предложила ей свою помощь, хотя бы накрыть на стол. Конечно, если бы она вызвалась помочь, Рахиль не стала бы заставлять ее делать что-либо. Но то, что Камилла ни разу не проявила подобной инициативы, выводило ее из себя. Речь шла о необременительных правилах поведения, которые Рахиль усвоила в своей скромной семье и от которых никогда не отступала. Работа считалась в ее семье единственной настоящей ценностью. Работа была залогом человеческого достоинства. Именно поэтому, когда в дом Понтекорво приходил, например, какой-нибудь плотник со своим сыном или юным подмастерьем, чтобы собрать книжный шкаф, Рахиль, запыхавшись, вбегала в комнату сыновей, где они валялись после обеда на кровати, читая комиксы или смотря телевизор, и приказывала: «Вставайте! Пришел плотник со своим помощником!» Как будто сыновья могли им чем-то помочь. Но плотник и его помощник не должны были видеть ее сыновей, предающихся постыдному безделью! Какой позор! Пусть они лучше покажутся бесполезно деятельными, чем явно бездеятельными. Пусть их видят хотя бы на ногах. Хотя бы из уважения к их ровеснику, который работает. Приведем другой пример. Бывало, к ним приходил мебельщик, чтобы поменять чехлы на диванах. Пока два тяжелых дивана несли из гостиной до грузовичка, припаркованного на бульваре, Рахиль принималась помогать (а скорее мешать) ковровщику и здоровенному детине, которого тот брал себе в помощники.
Для Рахили было лучше, если ее примут за плохую работницу, которая только мешается под ногами, чем за эдакую бездельницу-королеву, которая надменно взирает, как другие работают. Эта этика труда была привита ей отцом — трудоголиком, от влияния которого Рахиль так и не смогла избавиться. Естественно, что наглая бездеятельность Камиллы приводила ее в плохое настроение. Но что здесь можно было поделать? (И вообще, Рахиль, скажи-ка нам, что тебя не устраивает в Камилле. Что тебя угнетает. Давай, выскажи свои претензии. Прекрати скрываться. Не будь лицемеркой. Не выдумывай практические причины или принципы. Объясни, что для тебя невыносимо. Признайся раз и навсегда, что сначала было приятно, волнующе, даже умилительно видеть твоего маленького Самуэля влюбленным голубком, но со временем это стало беспокоить тебя. Сейчас, несмотря на нежный возраст женишка и невесты, дело принимает оборот угрожающий, некоторые вещи становятся недопустимыми. Объясни всем вокруг, почему уже несколько недель твоя внутренняя сирена непрерывно сигналит как безумная. Признайся, если осмелишься, что именно тебе не нравится в этой девчонке. И что никогда не понравится. Признайся, что кроме легкомысленного попустительства твоего мужа, тот факт, что Камилла не еврейка — серьезная проблема. Непреодолимое препятствие. Давай выкладывай все: не для того ты произвела на свет двух прекрасных еврейских мальчиков, чтобы отдать их первой попавшейся шиксе!)
Ранний приход Сэми и Филиппо немного ослабил напряжение, которое чувствовал Лео между двумя женщинами (одна, правда, женщина в миниатюре, но все же), находящимися не в лучшем настроении.
Едва они вошли, Рахиль обрушилась на них со своими распоряжениями. То, что она не могла поручить Камилле, она припасла для Самуэля и Филиппо. Все пойди туда и принеси то, все осторожнее не урони, не сломай.
Несколько часов спустя ребята позаботились о том, чтобы в очередной раз привести в отчаяние мать и предстать в героическом виде в глазах Камиллы. Между Самуэлем и Филиппо существовала почти идиотически-восторженная привязанность, которая одним казалась чем-то исключительным, а в других пробуждала подозрения, что ребята недостаточно умны (или недостаточно глупы?), в любом случае недостаточно подготовлены, чтобы участвовать в особом диалоге посвященных. Но именно поэтому такое сообщничество не ассоциировалось у нас ни с чем недозволенным и отвратительным.
Правда, что тайный язык составлял менее загадочную и самую очевидную часть симбиоза Филиппо и Самуэля. Этот язык состоял из множества разных элементов. Если кто-нибудь взял бы на себя труд собрать его источники, то они поражали бы своей пестротой: прежде всего фильмы, но также реплики Лео и Рахили, искаженные временем или бесконечными повторами Самуэля и Филиппо в различных контекстах, типичные выражения героев комиксов или мультфильмов, какая-нибудь грубая грамматическая ошибка, подхваченная у необразованного школьного уборщика, непристойность, преподнесенная школьным товарищем или мастером по дзюдо. Это составляло их картонный мирок. Параллельная реальность, состоящая из непрерывного, но не заразного пустословия, в которую так легко было погрузиться и из которой так трудно выйти. Игра, в которой излюбленной жертвой была Рахиль. В трудный момент она обращалась к мужу: «Ты понимаешь, о чем они говорят? Я их совсем не понимаю».
«Оставь их в покое. Это два балбеса, которые несут чепуху». Непонимание матери еще больше веселило ребят. Тогда Филиппо спрашивал ее: «Как такая глупая женщина смогла породить на свет таких замечательных парней, как мы?» В этот момент было видно, что Сэми веселит и вызывает гордость дерзость брата.
Тем не менее в тот вечер братья были особенно в хорошей форме и особенно неприятны. Что бы им ни сказали, все становилось для них поводом для очередной непонятной насмешки. И целью их насмешек стали Рахиль и Камилла (с отцом они не осмеливались шутить).
Лео уже заметил, как изменялось отношение Сэми к Камилле в присутствии брата. Когда Филиппо не было рядом, Сэми вел себя с Камиллой с неуклюжей галантностью, которую они могли наблюдать весной прошлого года, в тот вечер, когда он представил ее своим родителям, на том абсурдном ужине, когда Лео и Рахиль должны были терпеть все эти романтические свечи и прочие тошнотворные глупости. Но в присутствии Филиппо поведение Самуэля с Камиллой менялось радикальным образом. Он становился грубым, иногда невежливо не отвечал на ее вопросы. Иногда он даже отходил от нее, когда она пыталась приблизиться к нему. Все выглядело так, будто Сэми хотел показать Филиппо, что, несмотря на приезд этой девчонки, между ними ничего не изменилось. Он всегда будет на стороне своего братца. И конечно, их братскую дружбу не может поколебать его уступка такой мелочи, как любовь.
Еще один способ, который Самуэль использовал, чтобы продемонстрировать свою верность брату, — всегда ставить в меньшинство Камиллу. Как в тот вечер, когда они отказались сесть с ней рядом за стол и Сэми принялся смотреть на Камиллу с насмешкой. Такое отношение вызвало в этой обычно загадочной и непроницаемой девочке уныние. Казалось, что в ее детских глазах стоял вопрос: что я тебе сделала? Почему ты так со мной обращаешься? Почему рядом с братом ты становишься другим человеком? Чего я не могу понять?
Ощущение отчуждения привело к тому, что она отчаянно попыталась сделать нечто ей неприсущее, а именно вступить в разговор. Лео заметил, как Камилла, стремясь привлечь внимание Самуэля, попыталась вступить в беседу с банальными комментариями. Самоубийственная стратегия, учитывая поведение Сэми, которое становилось все более пренебрежительным. Вдруг, то ли сделав еще одну отчаянную попытку обратить на себя внимание, то ли стараясь намеренно задеть его, она сказала Самуэлю: «Ты красный как рак. Ты слишком долго пробыл на солнце сегодня!» Лео сразу же пришел на ум ужасающий загар родителей Камиллы. Из этого он сделал вывод, что в словах девочки крылся не слишком зашифрованный упрек.
Но Сэми не придал никакого значения этому упреку. Более того, он даже обратился к ней со стишком, естественно, чтобы развлечь брата. «Много солнца, мало солнца. Много воды, мало воды…» — громко и радостно продекламировал Сэми. Лео узнал эту фразу из «Бьянки», фильма Нанни Моретти, фильма, который его сыновья просто обожали и который стал источником дюжины цитат, пополнивших их широкий репертуар. Камиллу сильно задела очередная насмешка, в то время как Филиппо покатывался со смеху. Из-за грустного личика Камиллы, а также из-за того, что ее сыновья не прекращали жестоким и неуместным способом издеваться над ней, неся бессмысленные глупости, Рахиль намекнула мужу, слегка коснувшись его руки, чтобы он вмешался. Рахиль знала, насколько сыновья уважали отца, также она знала, что его фигура излучала какую-то особую харизму, которая наводила почти физический страх на Филиппо и прежде всего на Самуэля. Лео, не менее жены устав от их болтовни, не заставил себя долго просить:
«Прекратите!»
Дождавшись, когда сыновья умолкнут, он дал волю своему раздражению:
«Вам кажется вежливым так себя вести? Вы не чувствуете, что это совсем не забавно? Вам не кажется странным, что никто, кроме вас, не смеется над вашими репликами и цитатами? Уверяю вас и можете довериться полностью моему суждению, вы нисколько не остроумны, вы невоспитанны и попросту злы со стороны тех, кто на вас смотрит. Вы выглядите полными дураками. К тому же вы повторяетесь, сами того не замечая. Даже реплики Мела Брукст, Вуди Аллена или Нанни Моретти, которых я вас в свое время научил любить, если их повторять по сто раз на дню, становятся тошнотворными. Прекращайте это. Поняли?»
Затем он добавил уже без раздражения в голосе, но с важностью библейского пророка:
«И прежде всего я запрещаю вам смеяться над вашей матерью, которая, будучи слишком умной и тактичной женщиной, отказывается понимать вас. И приказываю вам не исключать из разговора нашу гостью».
Великий спаситель. Герой женщин! Таковым он должен был показаться Камилле. Тем, кто приходит в подходящий момент, чтобы восстановить порядок и дисциплину. Его слова оказали необычное воздействие. Самуэль и Филиппо неуверенно усмехнулись. Но выговор отца заставил их прикусить языки. Резкую смену регистра в поведении с ней Камилла смогла наблюдать, когда после обеда Филиппо вышел с матерью в кафе поесть штрудель с мороженым. Самуэль снова стал вести себя с ней слащаво-предупредительно.
А сейчас очередь Лео вспомнить то чувство умиротворения, с которым он оставил вечером после ужина Самуэля и Камиллу, развалившихся у камина. Он как будто снова слышит собственный голос: «Не лежите так близко к огню!» А также крики Самуэля: «Папа, папа! Быстрее сюда! Камилла не дышит! Папа, иди сюда, пожалуйста!» Эти крики о помощи он услышал позднее, из своей комнаты, уже лежа в постели с книжкой. Лео снова вспоминает, с какой прытью он помчался в гостиную. Он увидел там испуганного Самуэля, склонившегося над Камиллой, которая задыхалась от кашля, судорожно глотая между приступами кашля кислород, в котором так нуждался каждый квадратный сантиметр ее тела. Ее руки и лицо в буквальном смысле посинели.
Тогда вся неловкость, которую до сих пор Лео, бог знает почему, испытывал в присутствии этой девочки, внезапно исчезла. Лео Понтекорво, детский врач-онколог, привыкший иметь дело с более сложными случаями, перед сильным приступом астмы (вызванным дымом камина или нервами) повел себя с образцовым спокойствием и хладнокровием.
Он открыл створку шкафа, в котором Рахиль хранила аптечку, вынул из нее ингалятор, шприц и ампулы. Затем он подошел к Камилле, отстранил Самуэля и выполнил все необходимые действия. Сначала Лео прислонил ее руки к стене и почти силой засунул ингалятор в рот, впрыснув адреналин. Так как это только отчасти решило проблему, он взял ампулу и шприц и решительно, по-мужски, ввел в вены девочки прозрачную жидкость. Две минуты спустя все было кончено. Камилла лежала на диване и глубоко дышала. Самуэль рядом с ней не переставал всхлипывать, а Лео, спокойный, как олимпийские боги, сказал: «Пойду приготовлю вам ромашкового чая. Боюсь, вы в этом нуждаетесь».
Именно это спокойствие и невозмутимость, с которой он действовал в чрезвычайной ситуации, так поразили Камиллу. Кстати, а не было ли это притворным мужеством? И вообще, не спутала ли она профессионализм с героическим жестом? Неужели это недоразумение вселило дерзость в эту маленькую психопатку?
Возможно. Сколько раз ее родители, родители друзей, школьные учителя не знали, как себя вести при особенно сильных приступах, которые постоянно мучили ее.
В тот же момент она увидела отца своего Сэми во всей красе. Он повел себя с ней так, как она того желала. Он лечил ее так, как она того желала. Он прикасался к ней, как нужно было к ней прикасаться. Четко, решительно, но не грубо, без всякого волнения. Именно это так впечатлило Камиллу? Она даже не учла, что он играл на своей территории. Что он чувствовал себя как рыба в воде. Что это была его профессия, повседневное рутинное дело. Но откуда она могла это знать? Или она знала это? Сейчас, в измененном состоянии сознания (он вытянулся на своем ложе и положил руки под подбородок), вспоминая все события прошедшего, он начал подозревать, что она притворялась. Что она использовала свои исключительные способности актрисы и манипуляторши, чтобы симулировать приступ. Зная, что так она сможет выкурить его из норы. Так и случилось? Она загнала его с самого начала? Лео не знает этого. Он не может этого сказать. Он настолько одинок, он запутался, он стоит на краю бездны.
В общем, на четвертый день в Анзере появилось первое письмо. Первый странный признак: место, в котором оно было обнаружено. Лео вошел в комнату босиком в халате, с полотенцем на плечах и закрыл дверь. Он сбросил с себя халат, поежившись от холода, швырнул его на кровать и машинально открыл ящичек, в который в первый день приезда Рахиль сложила его трусы, носки, майки. Когда он опустил туда руку, чтобы достать трусы, он почувствовал под пальцами шершавую поверхность бумаги. Возможно, это был конверт. Лео схватил его, конечно, речь шла об ошибке или какой-нибудь шутке Рахили. Но надпись «Профессору Понтекорво», сделанная округлым и четким почерком, показалась ему еще одним недвусмысленным намеком (или, по крайней мере, кажется сейчас, когда он об этом вспоминает).
Это не вызвало бы у него такого беспокойства, если часом ранее, войдя, как обычно, в ванную, чтобы принять душ, он не обнаружил бы другого неприятного сюрприза.
На полочке под окном лежала прокладка, которую, по всей видимости, только недавно оторвали, поэтому она была не сильно испачкана. У Лео это вызвало сильное раздражение. Сначала он подумал, что это Рахиль по забывчивости оставила ее здесь. Но вспомнив, что такого не случалось ни разу за все годы их брака, он понял, что чуть-чуть выпачканная кровью прокладка принадлежала Камилле, которая забыла ее, как типичный рассеянный и неаккуратный подросток.
Но сейчас? Сейчас, учитывая письмо с неуместным содержанием, та использованная прокладка приобретала совсем другое значение. Она была оставлена там намеренно? Но зачем? Чтобы подготовить получение письма? Что-то вроде игры в поиск сокровищ с разбросанными повсюду подсказками? И в случае чего, какая награда ждала в конце игры? Или речь шла об извращенном признании в любви или об угрозе? Да и вообще, чего можно было ожидать от девицы, которая постоянно молчала, а потом болтала без умолку на чужом языке? Все это представлялось довольно неприятным. Даже неприемлемым и неприличным.
Что он должен был сделать? Вернуть ей письмо, не открывая, сурово отчитать ее, сказать ей, чтобы она больше не позволяла себе оставлять кое-какие сюрпризы в ванной и копаться в ящичке, в котором взрослые хранят, черт возьми, нижнее белье. Обратиться к ней с той же резкостью, с какой он иногда обращался к своим сыновьям, и объяснить, что девчонка двенадцати лет не должна писать письма пятидесятилетним мужчинам.
Именно это он должен был сделать. Представим, что он сделал бы это. Что тогда бы случилось? Учитывая нервозность Камиллы, она, конечно бы, расплакалась. Необычная буйность ее реакций. Вот чего стоило опасаться. А если бы Рахиль и ребята застали ее, униженную, всю в слезах? Лео пришлось бы объяснять семье множество неприятных вещей, начиная с того, что сделала Камилла. Каникулы были бы непоправимо испорчены. Потом он должен был бы терпеть обиду своего младшего сына и раздражение Рахили. И на этом история бы не завершилась. Ему пришлось бы разговаривать с родителями Камиллы, той вульгарной семейкой (викингом и его подругой), чтобы объяснить всю неприятную суть проблемы. Учитывая, как они смотрели на дочь, как относились к ней и как позволяли ей все, сколько раз на дню звонили ей, с тех пор как она здесь находилась, как порадовали ее, отправив ее в горы, несмотря на явный протест Понтекорво, для Камиллы было бы несложно убедить их, что это он склонил ее на столь неподобающее поведение. Лео попытался вспомнить, не сказал ли он чего-нибудь двусмысленного днем раньше, когда они говорили о Париже.
Все эти предположения, мысли, вопросы мучили его, пока он стоял там, мокрый, замерзший, с промокшим письмом в руках. Может быть, лучше подождать Рахиль? Может быть, лучше перепоручить это дело самой разумной на свете женщине? Да, было бы лучше Рахили поговорить с Камиллой. Было бы также лучше, если б Рахиль поговорила с ее родителями. Он не хотел вмешиваться в эту историю. Мысль о том, что его Рахиль займется всем этим, как обычно, успокоила Лео.
Стоит заметить, что если в своей профессии Лео Понтекорво отличался беспристрастностью и предприимчивостью опытного профессионала, то, столкнувшись с неприятностями вне работы, оказывался ужасающе непригодным решить практическую задачу.
С раннего детства он привык перепоручать подобные сложности своей матери, сосредоточившись на учебе и карьере. «Беговые лошадки не занимаются организацией скачек, они бегут!» Это выражение придумала его услужливая матушка.
Результат самоотверженной преданности науке и полной отстраненности от насущных проблем был парадоксален: в настоящее время, в свои пятьдесят лет, выдающийся профессор университета, отважное светило медицины, обаятельнейший оратор, обожаемый отец и верный муж не имел ни малейшего представления, где стоят в очереди на почте, чтобы отправить заказное письмо, и как оплатить коммунальные счета. Не говоря уже о том, что он приходил в ужас, когда ему надо было подписать чек.
Хорошо хоть, когда скончалась его матушка и он должен был погрузиться во все эти неприятности и взять на себя все эти обязанности, рядом с ним уже была Рахиль.
В целом это полное отсутствие конкретности и одновременно профессиональный успех как будто сделали из Лео человека, страдающего раздвоением личности. Он отлично справлялся с вещами, которые входили в круг его профессиональных интересов, и демонстрировал полную непригодность в решении всех остальных проблем, со временем приобретя суеверное предубеждение в их отношении. Самая агрессивная и изощренная бюрократия — на самом деле обыкновенное правосудие — вызывало в нем страшное волнение. Чтобы отправить его в отключку, достаточно было патрулю дорожной полиции остановить Лео для простой проверки водительских прав. Он начинал лихорадочно копаться в бардачке машины в поисках документов, как неопытный торговец наркотиками, которого остановили на таможне международного аэропорта и который делает вид, что не может открыть свои чемоданы с двойным дном, набитые кокой.
Все это объясняет, почему, обнаружив письмо и связав его с прокладкой и оба предмета с Камиллой, Лео задрожал. И почему в его перевозбужденном сознании сразу стали возникать апокалиптические теории, которые обычно отравляют жизнь параноиков. Вот почему он почувствовал себя в ловушке, представил на скамье подсудимых. Это же объясняет, почему ему достаточно было подумать о Рахили, чтобы успокоится и забыть о всех своих волнениях как о смешных проявлениях нервоза. Но прежде всего вышесказанное объясняет, почему, помедлив, он все же открыл конверт, забыв, что непременным условием для того, чтобы остаться совершенно чистеньким в этом деле, было вручить Рахили нераспечатанное письмо. Дело в том, что наконец успокоившись, он уступил любопытству и захотел узнать, что было написано в письме.
Может быть, здесь не было никаких уловок? Тогда почему она положила его в ящичек? Почему не вручила прямо в руки? Может быть, это место показалось ей наиболее надежным, где он сможет найти письмо, так чтобы никто его не видел. Но разве не это называют «уловками»? Сделать сообщником человека, с которым у тебя могут быть только формальные отношения. Какая необходимость была в том, чтобы отвечать на это послание запиской? Как бы ни был вежлив и холоден его ответ, в любом случае он становился компрометирующим документом. Чем еще может стать записка, адресованная пятидесятилетним отцом семейства двенадцатилетней девочке? Доказательством, что он ответил (а следовательно, придал значение) на провокацию девочки. Их никто бы не смог переубедить, что записка принадлежит кому-то другому.
(Видите? Каждый раз, когда Лео Понтекорво оказывался в безвыходном положении, он начинал думать об остальном мире в третьем лице множественного числа. Весь остальной мир становился безличным «они», желающими причинить ему зло, поставить его в трудное положение, загнать в угол.)
Эти новые беспокойные мысли не помешали ему вытащить письмо из уже открытого конверта.
Нелогичность его поведения заключалась в том, что опасения, которые должны были бы привести его к аккуратности и осторожности, направляли его по ошибочному пути легкомыслия и противоречия. И этот путь приводил его к бездействию. Это был замкнутый круг: страх порождал неосторожность, неосторожность выражалась в безответственном поступке. И все вместе порождало бездействие.
Подобным образом повел себя Лео несколько лет назад с одним своим помощником по имени Вальтер. Тогда он тоже попал в крайне неприятную историю. Да, Вальтер, он всегда опаздывал в университет и всегда имел помятое лицо человека, который не спит по ночам. Одаренный парень, из тех, кто очень нравился Лео и вызывал крапивную лихорадку у Рахили. («Зачем ты так часто приводишь его домой? Почему он всегда ходит к нам ужинать? Тебя не раздражает его лесть? Все эти комплименты, вся эта медоточивость». — «Да, ладно. Посмеемся. Он хороший парень, мошки не обидит. Он очень забавный. Знает кучу разных вещей. Просто он очень темпераментный. И из всех моих учеников он самый многообещающий. У него не совсем хорошо обстоят дела дома. И мне приятно помочь ему немного».)
Так вот, именно этот тип, которому так симпатизировал Лео и который был так неприятен Рахили, как-то после лекций задержался в кабинете Лео дольше обычного, чтобы попросить у профессора взаймы.
«Сколько тебе нужно?»
«Приличная сумма, Лео».
«Да, но сколько?»
«Около десяти миллионов. Но если ты не можешь…»
«Спокойно. Я же не сказал, что не могу… Но ты ведь понимаешь, что речь идет о значительной сумме. Понимаешь, что я должен поговорить с Рахилью. Знаешь, что она занимается семейным бюджетом. Ты же знаешь, что я совсем не разбираюсь в некоторых делах».
«Тогда нет, спасибо. Лучше нет. Не думаю, что меня так любят в твоем доме…»
«Не говори глупости. Рахиль тебя обожает».
«Нет, Лео. Лучше нет. Не хочу создавать проблемы тебе и Рахили».
«Успокойся. Вообще-то деньги мои. Это я их зарабатываю, трудясь каждый день. Я тебе только сказал, что должен поговорить с Рахилью, потому что она занимается подсчетами. Могу спросить, зачем они тебе нужны?»
«Э-э, это очень тяжелая и унизительная штука».
«Что же, если ты не хочешь или не можешь мне этого сказать… только вот…»
«Нет, я хочу тебе сказать. Более того, я должен тебе это сказать, я не должен ничего скрывать… Речь идет о моей матери… Да, о моей матери. С тех пор, как отец нас оставил, с тех пор, как его нет с нами… она немного не в себе. Знаешь, моя мать из тех женщин, которые полностью вверяют себя мужчине, из тех женщин, которые составляют единое целое с мужем. Они не могут существовать без мужа. Ужасно тяжело описывать ту сцену, при виде которой я присутствовал. Самое ужасное, что я не мог даже вмешаться. У меня у самого куча проблем».
«Могу представить».
«Я чувствую себя виноватым. Я не был рядом с ней в последние два года. Я не видел, что происходило. Но уже было слишком поздно…»
«Да, но поздно что?»
«Моя мама спилась. Я с трудом могу в это поверить. Не могу себе представить, что она страдает от алкоголизма. Да, именно так. Это начинается постепенно, незаметно, пока ты не увязаешь в этом болоте по уши. И уже слишком поздно… Бедная мама, все началось с этих проклятых аперитивов. Знаешь, сейчас я не могу даже слышать слово „аперитив“. Меня тошнит от этого слова. Когда она говорит мне: „А не выпить ли нам по аперитивчику?“ — я едва сдерживаюсь, чтобы ее не поколотить. Она так сладострастно произносит слово „аперитив“, что я прихожу в отчаяние».
«А сейчас как обстоят дела?»
«Ты бы на нее посмотрел, Лео. Она похожа на привидение. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, в чем дело. Она говорит, что рюмочка перед ужином полезна для ее здоровья, поднимает ей настроение. Потому что вечером ей тяжелее всего. И она должна как-то преодолеть это. Расслабиться. И вот стакан вина, „апероль“, „мартини“, прежде чем сесть за стол… Потом за этим стаканом еще один, и вот ее жизнь превращается в бесконечный аперитив, начинающийся с утра, едва она откроет глаза, и заканчивающийся вечером, когда она засыпает пьяная. Каждое утро я нахожу ее в разных углах дома. Ее кровать даже не расстелена. Она предпочитает засыпать в обнимку с унитазом, или на диване, или на кухне. Где угодно, но только не в постели. Я пытаюсь разбудить ее. Черт, она храпит как боров. И как только открывает глаза, снова набрасывается на эти проклятые аперитивы. Она начинает пить рано, от нее постоянно несет спиртным. Она никогда не бывает трезвой. Она бредит. Смеется. Плачет. У нее паранойя. Она постоянно лжет, Лео, постоянно. Все это продолжается шесть месяцев, и с каждым днем все становится хуже. Мне кажется, что она катится в пропасть. И я больше не могу, Лео. Я больше не могу».
«Ты с кем-нибудь говорил об этом? Я имею в виду, до сегодняшнего дня?»
«Я говорил об этом с Лореданой. Я спросил у нее совета с профессиональной точки зрения: в сущности, зависимость — это психическое расстройство. Она дала мне парочку адресов своих коллег, которые работают в реабилитационных центрах и занимаются зависимостями. Знаешь, все эти „Анонимные алкоголики“ и прочая фигня. Я там побывал. Я посмотрел, как они работают. Посмотрел на народ, который их посещает. Это ужасно, Лео. Настоящее зомбирование. Я не могу себе представить мать среди них. Она очень хрупкая женщина, она не привыкла страдать, страдание непереносимо для нее. Я не могу поместить ее туда. Это разрушит ее. Одна из причин, по которым она не оправилась после смерти мужа, — меньший доход. Она должна была урезать свои расходы, отказаться о некоторых привычек. Я думаю, она пьет, чтобы не видеть то убожество, которое ее окружает. Вот почему я не могу поместить ее в то место со всем этим народом. Она там не выживет. Или выйдет еще хуже, чем была».
«И что ты решил?»
«Я почти пришел в отчаяние, пока один верный друг не подбросил мне брошюрку одной клиники. Сказочное место, Лео. На побережье в Амальфи. Розовая вилла на берегу моря. Сад, примыкающий к прекрасной бухте. Я по десять раз на дню читаю эту брошюрку, и там речь не идет ни о каких алкоголиках или наркоманах. Только эвфемизмы. Мягкие, ободряющие слова. Я спросил у друга, что это за место, и он сказал, что это частная клиника, куда кладут важных людей, страдающих от всякого рода зависимостей. Знаменитости могут рассчитывать на максимальную эффективность и профессионализм с максимальной анонимностью. В прошлые выходные я даже осмотрел место, поговорил с директором и сразу же понял, что это подходящее место. Только там моя мать снова смогла бы стать моей матерью. Не знаю, понимаешь ли ты меня. Проблема в том, что полное лечение стоит бешеных денег. Мы не можем себе этого позволить, по крайней мере сейчас. Я пытаюсь продать кое-что из наследства отца. Но мне не хотелось бы продавать все по сниженной цене, потому что нужда приперла, понимаешь? Я уверен, что если выждать время, можно продать все по подходящей стоимости. В общем, теперь ты знаешь мою грустную историю. Если сейчас ты мне выдашь аванс за первый триместр, я постараюсь вернуть тебе его в течение месяца. Или как только продам дом и смогу погасить весь долг полностью. Кроме того, твои деньги будут в надежных руках: никто лучше тебя не знает, как мало я зарабатываю и насколько я смог бы увеличить свои доходы в ближайшие годы. Я был бы безумцем, если бы пожелал надуть своего начальника. Вот, Лео, мои доводы и гарантии. Это ведь чистое дело, не правда ли?»
Чистейшее для Лео, но абсолютно грязное для Рахили, которая, узнав о ситуации от мужа, не смогла сдержать сарказма:
«И ты ему, конечно, дал денег не моргнув глазом?»
«А что я должен был сделать?»
«Например, не давать ему их».
«Успокойся. Я принял меры предосторожности. Это верное дело. Сейчас Вальтер продает дом. Он вернет мне долг раньше, чем ты можешь себе представить».
«А ты сам видел этот дом?»
«Я же не агент по продаже недвижимости!»
«Он тебе показал какой-нибудь документ?»
«Я не банковский работник».
«Где этот дом, Лео?»
«Не имею ни малейшего представления. Разве так важно для тебя знать его расположение?»
«Мне важно знать, существует ли он вообще. Мне кажется, что важно знать, принадлежит ли он ему. Может быть, этот дом куплен в рассрочку. Мне кажется, нужно точно узнать, нужны ли ему деньги в связи с той слезливой историей, которую он приготовил для тебя. Или ему требуется такая сумма, чтобы расплатиться с букмекером на скачках или ипотекой. Видишь ли, зная его…»
«Не понимаю, почему мои ассистент, более того — просто хороший парень, карьера которого в моих руках, должен обманом выманивать у меня деньги».
«Хороший парень? Человек, страдающий манией величия. Болтун. Пустышка. Предположим, что его история — правда, он что, не мог отправить свою мать в какой-нибудь центр? Обязательно нужно посылать ее в пятизвездочный отель? Да еще за наш счет?»
«Я поражен, Рахиль. Поражен твоей черствостью. Поражен твоим сарказмом. Позволь сказать, дорогая, иногда твое недоверие к людям меня огорчает… Почему ты всегда придаешь значение мелочам, не обращая внимание на весь сценарий?»
«Дорогой мой, каким образом ты ссудил ему деньги?»
«Конечно, не наличными. Я выписал чек. То есть все официально. Но не хочешь ли ты, чтобы меня приняли за ростовщика?»
«И когда он должен вернуть тебе первую часть долга?»
«Ровно через месяц. Чтобы продемонстрировать мне свои добрые намерения, он мне сказал, что в первый месяц он мне вернет сумму, более-менее равную половине взноса. Успокойся, дорогая. У меня все под контролем. Говорю тебе, это чистое дело».
Чистейшее, в самом деле. За исключением того, что из-за повторяющихся промахов в академических делах Вальтера Лео вынужден был отказаться от этого своего «симпатичного» ассистента, когда тот выплатил только первую часть.
Чистейшее дело. Жаль только, Лео не мог знать, что некоторое время спустя Вальтер публично обвинит его в том, что он — ростовщик. А потом будет рассказывать судье, что этот проклятый ростовщик сначала шантажировал его, а потом уволил. Чтобы доказать правоту своего обвинения, Вальтер представит чек, подписанный Лео, который свидетельствовал о том, что этот мерзкий кровосос заставил несчастного ассистента вернуть сумму, на пятьдесят процентов превосходящую условленную ставку, воспользовавшись отчаянным положением должника. Действительно, непосильная комиссия.
Вот самый значительный и показательный пример доверчивости Лео. И самый яркий. Проблема Лео, как на работе в больнице, так и в университете, заключалась в том, что, столкнувшись с любой формальностью бюрократического характера, он настолько тупел, что в конце концов, чтобы избавиться от нее, перепоручал ее кому-нибудь другому. Каждый раз, когда кто-нибудь приносил ему документ на подпись, он быстро подписывал его, пробормотав: «Лучше займись этим ты». Как будто скорость, с которой он желал убрать документ с глаз долой, освобождала его от ответственности. Как люди, страдающие булимией и вечно сидящие на диете, быстро едят, обманывая себя иллюзией, будто организм не заметит всю ту пищу, которую они проглотили, так и Лео посвящал документации, неизбежной при его работе, как можно меньше времени. При его попустительстве могли произойти самые невероятные административные пакости, о которых он даже не догадывался. Его поведение в больнице напоминало поведение некоторых землевладельцев прошлых веков: чтобы не иметь забот или не заниматься делами, которые, по их мнению, не соответствовали их положению, они перепоручали их изворотливым или нечестным управляющим и после нескольких поколений растрат и воровства оказывались обманутыми и разоренными с заложенным и перезаложенным имуществом. Рахиль боялась легкомыслия мужа, его небрежности, противоречащей принципам, которым научил ее осмотрительнейший родитель. Но его гениальность в лечении, постоянные успехи Лео, деньги, которыми он осыпал ее, не позволяли ей упрекать его, как бы она того хотела и должна была. Хотя иногда Рахиль не могла сдержаться и задавала ему сложные вопросы относительно бухгалтерии: «Почему клиника до сих пор не выслала финансовые отчеты за ноябрь?»
«Откуда мне это знать? Я всего лишь хочу спокойно работать без всей этой ерунды».
«Ты хочешь сказать, что ты потерял эти отчеты?» И он, чтобы избавиться побыстрей от всех этих расспросов и чтобы не отрывать свой драгоценный зад от ящика Пандоры, с типичной грубостью балбеса, отвечал ей: «Ты полагаешь, что со всей этой кучей сотрудников вокруг я сам должен заниматься всеми этими делами? Отчеты найдутся».
Я думаю, что все вышеописанное позволяет лучше понять душевное состояние Лео во время его беспокойного внутреннего монолога, стоящего там с письмом в руке (уже открытым) и пребывающего в безотчетном страхе, что прямо сейчас к нему ворвутся швейцарские полицейские, чтобы арестовать его и обвинить в растлении малолетних и бог знает еще каких мерзостях.
И тем не менее…
И тем не менее, несмотря на все внутреннее смятение, побеждает возбужденное любопытство. Конечно, возбуждение всегда связано с желанием, чтобы воплотился наш самый страшный кошмар. Но с этим типом нездорового возбуждения связано нечто более банальное — тщеславие. Да, именно оно. Письмо-то было написано молоденькой женщиной уже стареющему мужчине. Если не думать о возрасте этих людей, забыть их положение в обществе, а также вынести за скобки семейные связи, они остаются женщиной и мужчиной. Он и она. В постоянных отношениях обольщения, в которых природа постоянно повторяет себя. Редкий мужчина устоит перед лестью, пусть даже исходящей от женщины, менее всего подходящей по разным причинам. Да и стоит сказать, что Лео был склонен (хотя сам бы этого никогда не признал) гордиться победами на любовном фронте. Более того, именно это тщеславие, столь сильное в нем, не позволяло ему из принципа хоть раз изменить Рахили, с тех пор как они поженились. И уверяю вас, что в нынешнем окружении Лео и в среде, из которой он вышел, такая верность была скорее редкостью. Среди старинных друзей его семьи, среди университетских коллег или в больнице не было ни одного, кто хоть бы раз не позволил себе маленькую интрижку и не поддался чарам какой-нибудь прелестной искательницы приключений во время съезда или в палате. Но только не Лео Понтекорво.
Бог знает, смог бы он на это решиться или нет. Лео предпочитал не использовать преимущества, которые давали ему университет и больница. Но несмотря на то что Лео был сосредоточен на своей работе и по-царски небрежен в остальном, это не мешало ему замечать, что он является объектом особого внимания для самых способных студенток, самых расторопных медсестер, самых предприимчивых коллег. И иногда даже матерей его пациентов, особенно когда их детишкам становилось лучше. Тем не менее для Лео было несложно не придавать значения всем этим авансам. Он уже с удовлетворением чувствовал, что его положение в обществе и крепкое и моложавое тело с густой сизой порослью на груди вызывали неодолимое плотское искушение у многих синьорин. Люди недооценивают эротическое удовольствие, которое можно получить, не уступая многочисленным предложениям, которые буквально сыплются на тебя. Окружение, в котором вырос Лео (евреи пятидесятых с неукротимой жаждой жизни), было достаточно свободных нравов, чтобы вызвать в нем, по контрасту, некоторую пресыщенность флиртом и беспорядочными отношениями. Он терпеть не мог коллег, которые пользовались своей небольшой властью для эротического шантажа, не говоря уже о тех, которые посылали к черту свою семью ради попки какой-нибудь смазливой провинциалочки. Он также осуждал тех, кто обращался к студенткам или медсестрам с двусмысленными фразами. А больше всего ему нравилось выделяться на фоне среднестатистических особей мужского пола. Вот почему игнорировать всякого рода сексуальные заигрывания входило в его понятие мужественности. Это было скорее вопросом эстетического характера, нежели моральным запретом. Бога ради! Ему достаточно было вообразить себя рядом с молодой женщиной, чтобы почувствовать, как нелепо смотрится его тело стареющего пятидесятилетнего человека.
Тем не менее каждый раз, когда Лео получал аванс за минуту до того, как отвергнуть его, или минуту спустя после отказа, он не мог не испытать двойственное чувство: радость ощущать себя желанным мужчиной, смешанная с гордостью за умение сохранять свою верность жене и принципам без особых усилий.
(Даже сейчас человеческий ресурс, подогревавший в нем склонность к умеренному, но пунктуальному мастурбированию, которой отличаются все мужчины средних лет, составляла армия всех милых дам, которым он сказал «нет».)
Вот какими чувствами был обуреваем Лео, сжимая в руках открытое письмо, намокшее от пота. Он был возбужден. Не потому, что двенадцатилетняя девчонка написала ему письмо (в ней не было ничего возбуждающего, так как и вообще в любой двенадцатилетней девчонке). Но было соблазнительно добавить в список своих виртуальных побед столь юное существо. Ощущение полной власти — вот что пагубно действует на многих успешных мужчин. Лео как будто говорил себе: не только медсестры, не только студентки. Ты можешь обладать всеми ими…
Но именно поэтому, когда он решился наконец извлечь письмо из конверта, Лео был разочарован, обнаружив маленькую записочку на французском языке следующего содержания:
«Месье Понтекорво,
благодарю Вас за то, что Вы пригласили меня и моего Самуэля. Доброта вашей семьи делает особенно приятным наше пребывание здесь.
Искренне Ваша,
Камилла».
Не требовалось говорить на безупречном французском, чтобы понять, что язык, который использовала Камилла, более подходил для делового письма, нежели для личного послания. Официозный французский и, следовательно, менее всего подходящий к случаю. Да и вообще само послание было излишней формальностью. Не то чтобы Лео ожидал открытого признания в любви, но хотя бы благодарность за то, как он поставил на место своих невоспитанных сыновей. Не говоря уже о том, с каким профессионализмом и силой он спас ей жизнь.
Но зачем было подбрасывать эту бессодержательную записочку, без какого-либо признания, в ящик с его нижним бельем? Зачем было оставлять прокладку, испачканную кровью? Что все это, черт возьми, значит?
В конце концов Лео пришел к мысли, что ничего, абсолютно ничего. Просто девочка была немного рассеянна и смущена. А он повел себя как дурак, предавшись всем этим бесполезным размышлениям. Что еще можно ожидать от девчонки, которая обращается к родителям по-французски? Это была ее манера поведения. Она каждый раз прибегала к французскому, когда чувствовала себя неуютно. Она использовала этот язык в тот день с родителями, а теперь с ним. После того, как он увидел ее такой беспомощной, хрупкой…
Лео оделся и спустился в гостиную, испытывая одновременно разочарование и облегчение. В поведении Камиллы ничего не изменилось. Она, одетая, как всегда, в свои блеклые тряпки, лежала на диване перед камином и болтала голыми ногами. Ее пятки слегка покраснели от близости к огню, который перестал потрескивать. Камилла подняла голову от книжки и на мгновение задержала на нем взгляд своих огромных глазищ, но потом сразу же вернулась к чтению. Она притащила с собой все эти книжонки про маленьких принцев, молодых будд, чаек Джонатанов, которые портят вкус читающих подростков. Столик рядом с диваном был просто завален всей этой литературной дешевкой.
Камилла, казалось, нисколько не удивилась, увидев перед собой Лео. Более того, она не предпринимала никаких попыток общения. Это означало, что ее не интересовал ответ. Или ей было достаточно заставить взрослого человека поволноваться? Что это было — шутка? Она хотела испытать его, разыграть? Все было возможно. И скорее всего, ничего бы не случилось, если бы он в свою очередь не решил поиграться.
Когда Лео спрашивает себя, зачем он это сделал, кто заставил его ввязаться в эту игру, он не находит подходящего ответа. Только ряд спутанных туманных ретроспективных объяснений. Он это сделал, потому что ему было скучно. А может быть, потому что он не обнаружил в первом письме Камиллы того, что ожидал. Из-за поражения. Неужели это маленькое разочарование разбудило в нем игривый дух, который он держал в узде десятки лет благодаря толпам молодых женщин у его ног? Тем не менее этой ненормальной девчонке, бог знает как, удалось добиться того, чего до нее не удавалось никому.
Но Лео знает, что вопрошать себя, как ей это удалось, столь же бессмысленно, как спрашивать, почему люди заболевают раком. В природе все подчиняется извращенной логике воспаления. Не только клетки твоей простаты или ободочной кишки внезапно, без предупреждения, воспаляются. Ты сам воспаляешься.
И прежде чем броситься в огонь, наш осторожный Лео снова решил испытать судьбу. Именно поэтому на утро пятого дня, перед тем как отправиться с сыновьями на лыжную трассу, он бросил в тот же ящик с нижним бельем ответное письмо, не менее краткое и не менее бессмысленное писульки Камиллы.
Игра. Всего лишь игра. Маленькая шутка в ответ на другую шутку: посмотрим, насколько ты ловкая и пронырливая, чтобы второй раз незаметно пробраться в мою спальню, и хватит ли у тебя смекалки сообразить, где я спрятал письмо. Подобные мысли развлекли Лео. Правда, потом все утро он мучился в страхе, что Рахиль перехватит послание. Это кончилось бы дурно. Какие бы он смог придумать оправдания? Как объяснить жене, что он спрятал в белье письмо, адресованное девушке его сына? Увы, некоторые вещи нельзя оправдать.
Хорошо, в этом письме нет ничего неприличного. Пусть Рахиль откроет его и увидит, что там нет ничего такого. Но сам факт того, что он написал его, что у него возникло желание написать его, а потом спрятать… одно это делает из тебя мужчину со странными и болезненными фантазиями. Так, лыжная прогулка Лео в утро пятого дня превратилась в кошмар. И это было особенно обидно, учитывая, что выдался прекрасный день: чистый свежий снег скрипел под лыжами, светило солнце, а небо отливало кобальтовой синевой.
А Лео не смог даже насладиться омлетом с ростбифом. Ему не терпелось вернуться домой и увидеть, что сталось с письмом. Проверить, на месте ли оно. Он клялся, что если найдет это чертово письмо на месте, то сожжет его вместе со всей этой глупой историей, в которую он позволил себя втянуть.
Лео чуть не сломал себе ногу, спускаясь с горы, подражая ребятам и забыв о том, что мужчина его комплекции может развить действительно опасную скорость. И все из-за нетерпения узнать, нашел ли кто-нибудь письмо (Рахиль или Камилла) или оно все еще в ящичке.
А как он несся на машине по ледяной дороге, к тому же Лео не переодел даже мокрые носки. Только припарковав машину, он снова постарался принять пристойный вид. Он вытащил из багажника кроссовки, надел их и с замирающим сердцем вошел в дом. Тишина и беспорядок в доме произвели на него ужасное впечатление. Куда ушли эти двое? Впервые он не застал их на месте. Куда они провалились? И почему в доме такой бардак? Лео побежал в комнату. Он открыл ящик. Конверта не было. Кто-то забрал его.
Когда эти двое вернулись (женщина и девочка, которых из-за хрупкого сложения и заговорщицкого вида можно было принять за мать и дочь или, по крайней мере, за тетю и племянницу), их поведение положило конец двум самым мучительным часам жизни Лео. Достаточно было посмотреть на них, таких вдохновленных, усталых и веселых, чтобы понять следующее: кто бы из них обеих ни нашел письмо, ему нечего было волноваться. Однако после стольких волнений он не мог не наброситься на них для разрядки:
«Можно узнать, куда вы провалились?»
«Ты с ума сошел? Как ты разговариваешь с нами? Извини его, Камилла, мой муж обычно не выражается так, только когда очень сильно рассержен. Нужно только понять, что его так рассердило?»
«Я не рассержен. Я просто волновался. Возвращаюсь домой. Вас нет. В доме беспорядок. После того, что случилось с Камиллой вчера вечером… Я начал думать, что…»
«Ты прав, дорогой. Просто Камилле сегодня утром вдруг захотелось прогуляться. Она казалась такой счастливой. Она попросила меня пройтись с ней. Знаешь, она никогда ни о чем не просила. В общем, мы доехали на автобусе до Крана и прошлись по магазинам, как настоящие синьоры. Вот посмотри-ка, что мы купили. Тебе нравится?»
Рахиль вынула из пакета два шерстяных свитера с горлом, один голубой, другой оранжевый: «Этот для Фила, а этот для Сэми».
Казалось, что все предубеждения, которые Рахиль имела против Камиллы, рассеялись после совместного похода за покупками. Посмотрите-ка на них — прямо-таки лучшие подружки. Такое согласие продлилось весь оставшийся день. На этот раз Камилла даже помогла Рахили приготовить ужин. А Лео, подбрасывая поленца в камин, слышал, как они смеялись, будто две школьные приятельницы. Но что же сталось с письмом? На какое-то мгновение он даже подумал: а что, если Рахиль, прекрасно зная его, тоже решила поучаствовать в розыгрыше, который казался ему таким забавным? Но нет. Рахиль не была способна на подобные шутки. С другой стороны, Лео досадовал, что Камилла увидела его вне себя. Мужчине его лет и его положения вести себя так было неприлично. Он почувствовал себя смешным. В последнее время это стало случаться с ним слишком часто, и это ему совсем не нравилось.
ОК, сейчас самое время положить конец всей этой глупой истории. Маленькая психопатка послала мне абсурдное письмо, я ей ответил в соответствии с ее странным поведением. Но теперь все. Тема закрыта. Дорогой мой, ты только изобрел еще один способ помучить себя, и это при твоей склонности к параноидальным идеям. Впрочем, классический случай. А теперь вернемся к нормальной жизни. Девчонка, конечно, не ответит.
Дорогой Лео,
ты не можешь себе представить, как меня злит тот факт, что тебе так грустно живется с женой. Я думала, что мой отец — самый несчастный человек на свете. Но познакомившись с тобой, я поняла, что бывает хуже. Поэтому я хочу спасти тебя. Спасти от всей этой мерзости, в которой ты живешь. Очень сложно описать, что я испытываю. Но это особое чувство, которое я не испытывала ни разу с самого начала своей жизни. Я люблю тебя. А сейчас я тебя люблю, потому что знаю, что и ты меня любишь. Я знаю это давно. В тот день в горах я не могла поверить, что ты мне ответил. Но когда я увидела твой ответ, я сказала себе: он тебя любит. И тогда я поняла, что должна во что бы то ни стало помочь тебе. Сейчас в мои двенадцать (скоро тринадцать) я поняла, что должна сделать в своей жизни. Я должна помочь тебе избавиться от этого брака.
От всего сердца,
Камилла.
Я должна помочь тебе избавиться от этого брака. Интересно, как бы она это сделала? Хотя да, Камилла сделала бы это. Ей бы удалось провернуть самое большое, самое бесполезное и разрушительное дело в своей жизни: разрушить брак Лео, в котором тот всегда хотел состоять. Она сделала бы это самым смешным и парадоксальным, но естественным для нее образом. При помощи этих слащавых и опасных полуграмотных писем, которыми она засыпала Лео после их возвращения с гор. Эти письма становились более длинными, более страстными и более частыми. Он находил их каждый день в раздевалке, в ящичке с нижним бельем (синьорина не отличалась изобретательностью вопреки его ожиданиям). В конце концов его уже подташнивало от них. Об их содержании можно судить по приведенным ранее строчкам: это было пятнадцатое письмо в сумме и восьмое после возвращения с Анзера.
Месяцы слов, месяцы напыщенных, несвязанных и легкомысленных фраз, в которых проявлялась вся оторванность Камиллы от реального мира. Старый добрый концепт «реальных фактов» в ее случае терял всякий смысл.
Столкнувшись с этим словесным потоком эпистолярного мусора, Лео осознал невыносимость отчужденности, в которой он находился, в которой находимся все мы. Он понял, что оказался в полном одиночестве из-за невозможности открыть кому-либо, что он стал против своей воли одним из главных действующих лиц гротескной комедии. Его положение уже было таковым, что Лео не мог никому признаться, что он потерял контроль, что с ним происходит нечто невероятное и что он ничего не может с этим поделать. У него не было ни одного доверенного лица, психотерапевта, раввина, которому бы он смог объяснить подобную историю.
Самое любимое и заботливое существо в его жизни — Рахиль, женщина, любезно заменившая ему мать, — была последним человеком, которому он смог бы рассказать ее. Если бы он решился на это, ему бы пришлось объяснять слишком много необъяснимых вещей. Во-первых, почему он ничего ей не сказал, когда получил первое письмо? Во-вторых, что побудило его ответить на это письмо и отвечать на последующие письма, даже когда дело приняло абсурдный оборот? Ему пришлось бы объяснять, как почти ребенок смог поставить мат ему, взрослому мужчине. Как он, взрослый мужчина, позволил малышке обвести его вокруг пальца? Как ей удалось так запугать и смутить его? Он должен был объяснить ей, почему отказы, которые он постоянно посылал Камилле, при внимательном анализе казались скорее показными и нерешительными. Он должен был объяснить жене, по какой причине он не отвел в сторонку эту дурочку и не сказал ей: «Послушай-ка, красавица, ты уже надоела. Не смей больше подбрасывать свои бредовые письма в мои трусы и исчезни навсегда из моего дома, моей жизни и жизни моей семьи!» Он должен был объяснить, что ему не хватило мужества, дальновидности, моральной силы, самостоятельности, доверия к близким. И что именно отсутствие этих качеств, которыми мужчина его возраста и происхождения должен обладать, привело к тому, что Лео раз за разом отвечал на письма Камиллы посланиями, в которых он очень мягко просил (или лучше сказать — умолял) ее прекратить всю эту историю. Он должен был объяснить Рахили, что его уступчивое и податливое поведение дало Камилле доказательства, будто между ними есть то, чего на самом деле никогда не было. Выражения вроде: Нужно остановиться здесь. Во что бы то ни стало. Нужно вернуться к нашей прежней жизни — давали законное основание считать, как будто между ними что-то было. Тем не менее Лео должен был объяснить Рахили, что он использовал такой тон и прибег к таким выражениям, чтобы утешить девочку. Потому что он боялся ее. Потому что он видел, в какую ярость приходила Камилла, когда он отрицал существование каких-либо отношений между ними. «Возможно, — подумал он безответственно, — если я немного подыграю ей, скажу, что мне жаль, я легче избавлюсь от нее». Но идя на такие уступки, он добился только того, что будущие читатели его писем только утвердились во мнении, что у него был страстный роман с двенадцатилетней девочкой, к тому же с невестой (если вообще можно так назвать отношения между подростками) его младшего сына.
Вся беда заключалась в том, что, когда он осознал, что происходит, уже было поздно. Следует сказать, что «слишком поздно» стало достаточно рано. У этой девчонки уже имелся десяток писем, при помощи которых его можно было припереть к стенке. Писем, в которых он просил ее прекратить связь и в которых он не решался сказать, что эта связь существовала только в голове маленькой психопатки. Только там и на страницах писем.
Как бывает с неизлечимым больным, когда болезнь на некоторое время отпускает его, дает передышку, прежде чем убить, так и у Лео был случай, позволивший ему питать иллюзорную надежду на то, что проблема разрешится сама собой. Он прожил несколько ужасных месяцев. Даже на работе дела обстояли не так, как должно. Налоговая инспекция через своих ангелов-карателей, облаченных в серое, проводила проверку доходов «Анима Мунди», частной клиники, в которой у Лео был свой кабинет педиатра. Это привело его в такое беспокойство, какое, зная нашего персонажа, вы можете себе представить.
Кроме прочего, семейная идиллия, в которой он находил утешение от профессиональных невзгод, тоже осталась далеким воспоминанием. Почти каждый вечер он лицезрел свою мучительницу на ужине. Эта шлюшка придумала грязный способ пробраться в его семью. Она была всегда с Рахилью. Казалось, ей удалось победить все предубеждения Рахили и почти завоевать ее. Лео знал, как сильно Рахиль хотела дочку. Вот она и получила свою дочку.
Каждый вечер Лео надеялся не получить больше письма. И каждый вечер его ждало разочарование. Он даже уже перестал их читать. Он открывал их и с отвращением, которое порождают безумие и ложь, пробегал глазами и прятал в ящичек бюро, закрывал их там и шел спать.
Он перестал отвечать на них: это было его последней попыткой освободиться от этой истории. Возможно, Камилле надоест писать безответные письма. Но учитывая то количество писем, которое он получил в последующие дни, подобная мера наказания, похоже, имела ровно обратный эффект и к тому же привела ее в ярость. Быть заваленным письмами уже представлялось опасным. Лео уже давно читал только первые три строки, прежде чем положить их в ящик. И этих трех строк было достаточно, чтобы понять тон всего письма. А невероятное количество посланий определенно попахивало шантажом.
Пока не пришло последнее письмо. Так было написано на конверте — «Последнее письмо!» Только поэтому Лео прочел его внимательно и до конца. Сначала он посмотрел на него с испугом. Что могло значить это последнее письмо? Она уловила намек: на этом все? Это безумие закончилось? Или, напротив, после этого письма она намеревалась совершить какой-нибудь поступок, который разрушит жизнь всех? Лео проходил с письмом несколько часов подряд. Пока наконец в три утра в ванной, с бьющимся сердцем и обливаясь потом, он не вскрыл его.
И вот оно, очередное безумное, бессмысленное, преувеличенно романтичное послание, в котором Камилла, после душераздирающего прощания, обратилась к нему с просьбой, которая показалась ему вполне разумной.
Девчонка захотела вернуть свои письма. Потом она исчезла бы со всей своей болью. Она оставила бы Самуэля и исчезла бы из их жизни. Она избавила бы эту семью, которая так много дала ей, от своего тягостного присутствия. Единственное условие — она хочет вернуть символ своей любви и своих страданий. Эти письма.
Это ему показалось более чем разумным. В пятый раз подряд перечитав последнее письмо Камиллы (последнее, слава богу!), Лео почувствовал себя в кои-то веки свободным человеком. Он снова был свободен распоряжаться своей жизнью, не думая об этой маленькой сумасшедшей. Он прочел последние четыре строчки, написанные, естественно, по-французски — Adieu, mon angre adore[7], — и ему захотелось смеяться смехом триумфатора.
Так, руководствуясь своей ненормальной наивностью, безукоризненной чистотой, Лео вернул своей мучительнице единственные доказательства того, что он стал жертвой шантажа и преследования. Он вернул их ей, даже не подумав о том, что ответственный человек, прежде чем вернуть эти письма, должен был снять с них копии. Он даже не подумал (хотя все наводило на подобные мысли, все было просто, как загадка для детей), что переписка, которую он вел с Камиллой, однажды снова всплывет в его жизни и будет представлена в ином свете, не соответствующим реальным фактам. Лео даже не подумал, что она (или ее легкоуправляемый родитель) смогут преподнести эту переписку представителям власти или журналистам, вероломно исказив ее смысл: из внушительной папки будут изъяты (чтобы не разглашать личность и защитить чувства совращенной несовершеннолетней), — напишет известный журналист в известном еженедельнике по известному делу профессора Понтекорво, — все письма Камиллы и все письма Лео, в которых он пытался освободиться от ее хватки.
Так, после существенных изменений оригинала останутся только жалкие выдержки вроде «моя малышка», «моя дорогая», то есть обращения, при помощи которых Лео пытался угодить своей преследовательнице. Эти цитаты, вырванные из начального контекста, могли произвести действительно неблагоприятное впечатление.
Но это только ретроспективные гипотезы рассказчика сей истории. Лео ничего не знает. Скрывавшийся почти три дня в своем бункере, как мафиозо, заключенный в подземелье своего замка, как свергнутый монарх, он не знает и не может знать, что происходит там, снаружи, и что будет происходить (представим себе, что он не знает даже того, что происходит этажом выше). Он не знает, почему никто не зовет его и никто за ним не приходит. Он остановился на том моменте, когда о нем что-то смутно рассказали в теленовостях. Больше он ничего не знает и не может знать. И не хочет знать.
Он догадывается, что за пределами его катакомб начинается ад. Сейчас весь мир для него враждебен. Он догадывается, что человек, обвиненный в мошенничестве, в использовании рабочего места в личных интересах, в растрате, ростовщичестве, в свете этого нового ужасного обвинения должен показаться еще более отвратительным.
Все, что у него осталось — в то время как его глаза беспощадно режет свет кровавого заката и его ждет еще одна бессонная ночь, — это девяносто метров полуподвального помещения. Наконец-то он ответил за свою беззаботность, страх, невроз, безответственность. Лео должен был разозлиться. Он должен был кричать всему миру о своей невиновности.
Но он парализован. Его не научили выражать возмущение. Он не умеет быть агрессивным, не умеет сражаться. Как нападающий, который пачками забивает голы в простых матчах, но в более жестоких схватках стушевывается. Классический тип неудачника.
Все это побуждает его к высоким размышлениям; ему кажется, что он начал понимать то, что никогда не мог понять до этого: безответное поведение своих единоверцев, которые несколько десятков лет назад позволили замуровать себя в пломбированные вагоны не моргнув глазом. Почему они позволили отвезти их в далекие и холодные страны, в которых их уничтожали, как крыс. Да, и ему сейчас ничего не остается, как позволить уничтожить себя. При этом он помнит о том, что три человека, которые были для него самыми близкими, которые всегда защищали его и которых он по-своему любил больше всех на свете, заботясь о них и обеспечивая им комфортную жизнь, полную разных возможностей, сейчас стали его худшими врагами.
Часть третья
«Дорогой мой, я не знал, что раввин Перуджа не объяснил тебе, что спать с двенадцатилетней не кошерно».
Неуместное обращение к измученному, страдающему бессонницей человеку, в чьих венах течет больше успокоительных лекарств, которые он сам себе прописал, чем крови. Тем не менее Лео пришлось подавить негодование, не говоря уже о желании развернуться и уйти. Он не сделал этого только потому, что не мог: он сам попросил об этой встрече. Он нуждался в ней.
Он не ушел еще и потому (хотя не смог себе в этом признаться), что эта фраза навеяла ему воспоминания о старых добрых временах. Она произвела на Лео отрезвляющий эффект, и он, подавив в очередной раз зреющее в нем сопротивление, остался. Он чувствует, как в желудке у него начинает бурлить, как его внутренности отпускают стальные тиски спазма, которые держали его несколько дней. Эти спазмы неожиданно успокаивают Лео, он начинает осознавать, что несколько дней не ел, не спал и почти дошел до истощения. И в тот самый момент Лео начинает понимать, как важно для человека иметь возможность спокойно есть, спать, испражняться.
Спать с двенадцатилетней не кошерно? Вот она, особая форма остроумного цинизма, отдающего задиристо-мальчишеским духом, к тайнам которого его приобщил Эррера дель Монте, в ту пору в начале 50-х, когда они, готовясь к бар-мицве[8], были самой странной парочкой приятелей, посещавших школу раввина Перуджи.
Неслучайно именно Эррера встретил его этой вульгарной фразочкой. Лео пришел к нему в студию. Эррера высокопоставленно занимал два смежных помещения на последнем этаже розового здания на знаменитой виа Венето, этом кусочке феллиниевского тротуара, который отделяет Café de Paris от Harry’s Bar. После ожидания в приемной Лео ввели в темную пещеру, в которой Эррера, его друг детства, проводит целые дни, с восьми утра до десяти вечера, с единственной целью отмазать людей, чья коррумпированность и развращенность соизмерима только с их властью.
Лео застал его сидящим за блестящим стеклянным столом, на котором царил противоестественный порядок. Спустя тридцать пять лет Эррера мало отличался от коренастого мальчишки, почти карлика, чей маленький рост стал превосходной мишенью для нападок двенадцатилетних подростков, отличающихся известной агрессивностью. Высокий и стройный, пользующийся успехом Лео был его полной противоположностью.
Далекие годы юности, когда внешний вид — это все. Когда мир делится на богов и парий. А положение в обществе зависит скорее от нежного взгляда и высоких скул, нежели от силы духа или ума. Возраст, в котором внешность говорит о тебе все то, что другие хотят знать. Конечно, отношения между ним и Эррерой строились на этом коварном эстетическом противоречии: привлекательность одного наилучшим образом оттенялась безобразием другого.
Безобразие, которое девочки находили отталкивающим, потому что оно сопровождалось нездоровым пренебрежением к гигиене, к которому, кто знает почему, склонны многие обделенные природой мальчики (они как будто стремятся придать художественную завершенность своему безобразию). Но тем не менее у Эрреры был Лео. Эррера, как многие убогие духом религиозные фанатики, утешался общением с Лео. В обмен он получал от обожаемого друга добродушно-пренебрежительное обращение. По крайней мере, так это виделось со стороны. Изнутри дела обстояли по-другому. Лео приходил в восторг от способности этого карлика превращать все в объект насмешек. Восхищался его умением проявлять темные стороны действительности. Обладая физической привлекательностью, Лео догадывался, что иконоборческий дух; которым он так восторгался в друге, был порожден постоянной необходимостью отбиваться от ударов, которые припасло ему существование в столь отвратительном для других теле. Ударов, которые сыпались на существо, столь одаренное в интеллектуальном плане, наделенное чувствительностью, которая только обострялась благодаря его жестокой и не менее умной, чем он сам, матери.
Если ты ищешь от мамочки защиты и утешения, держись подальше от матери вроде Марии дель Монте. Она ничего не скрывала от сына. Более того, она постоянно напоминала ему о том, что для него будет гораздо сложнее добиться чего-либо в жизни, чем кому-либо другому. Она рисковала разрушить Эррере жизнь. Ничего от него не скрывая. Развивая в нем трагическое ощущение собственной неполноценности. Пестуя в своем единственном сыне, к которому относилась с нескрываемым пренебрежением, заведомое разочарование, которое стало для Эрреры бастионом против любых нападок. Вот так благодаря спартанскому воспитанию синьора дель Монте сделала из сына по-настоящему непробиваемую натуру.
Лео ужасно нравилось слушать, как его друг говорит о своей матери. Он говорил о ней почти бесстыдно и в то же время с грустью.
«Мой случай — это случай Эдипа, — говорил Эррера. — Я очень люблю эту женщину, а она… не будем об этом».
«В каком смысле?» — спрашивал его Лео.
«Знаешь, почему меня назвали Эррера?»
«Почему?»
«Не потому, что кто-то любил футбол или Бальзака. Моей матери одинаково наплевать на футбол и на Бальзака. Она сделала это из-за моего картавого „Р“. Она дала мне имя, первое, которое ей пришло в голову, с тремя буквами „Р“. Зараза, она позаботилась о том, чтобы ее сыночку даже произнесение собственного имени доставляло неприятности».
«Не смеши! Как она могла знать, что ты будешь картавить?»
«Статистика. Генетическая предрасположенность. Дарвин и прочая ерунда. Мой отец картавил, мой дед тоже. В целом было весьма вероятно, что и я… И потом, как ты думаешь? Моя маленькая ведьма обладает даром предвидения! — произносил Эррера с неожиданной нежностью. — И вот, пожалуйста, Эррера дель Монте, имя, достойное противника Зорро».
Он всегда завершал фразой вроде: «Если бы эта женщина любила меня хоть на четверть того, как любил я, мне было бы достаточно».
Лео знал, что синьора дель Монте вовсе не испытывала ненависти к своему сыну. Наказания и злобные выходки, которые правомерно огорчали его, происходили от извращенной (и очень иудейской) концепции воспитания, которую можно было бы изложить одной простой фразой: «Спокойно, сынок, можешь не ждать от этого мира какой-либо пакости, которую тебе уже не сделала твоя мамочка».
Видите, фраза об интрижке с двенадцатилетней девчонкой была вполне в духе тех далеких времен.
И тем не менее подобный комментарий не имеет ничего общего с профессиональной этикой, которой серьезный адвокат должен следовать в отношении будущего клиента. Лео спрашивает себя, является ли такая бесцеремонность частью остроумной и тщательно продуманной стратегии. Возможно, Эррера, обладающий исключительной интуицией, понял, что его старый друг, по крайней мере в этот сложный период, не нуждается в профессиональной консультации или официальных словах, а еще менее в корыстном сочувствии. Подкупило и отсутствие упреков и оскорблений.
Возможно, принимая во внимание, в какой ад превратилась в последние недели жизнь того, кто для него когда-то был героем, Эррера хотел вернуть своего старого друга в атмосферу тех лет. Вытащить его отсюда и перенести в тот мир, в котором быть Лео Понтекорво было замечательно. В те времена, когда Лео прекрасно себя чувствовал, будучи самим собой. Когда он, счастливый мальчик, веселился вовсю, слушая смелые рассуждения своего несчастного друга. Эррера явно не утратил своей способности смешить Лео словами, которые сами по себе отнюдь не смешны. Более того, он отточил эту способность, сделав ее инструментом своей профессии. Искусство видеть всю твою подноготную. Понимать, что тебе нужно, еще до того, как ты сам это поймешь. И нагловато преподносить тебе это. Лео вдруг почувствовал, что он доволен, явившись к Эррере. После стольких неправильных поступков он наконец сделал верный шаг.
Он долго колебался, прежде чем обратиться к своему старому другу. На раздумья ушли недели. Он начал думать об этом раньше, чем его настиг ураган по имени Камилла. Лео, как всегда, убедился в правоте Рахили, которая объяснила ему сразу, что обращаться к юристам, представляющим больницу, — это самоубийство. И сейчас, хотя позорные обвинения девчонки пока не имеют никаких последствий, Лео уверен — что-то должно произойти. Очень скоро прокуратура даст о себе знать. На этот раз он должен быть готов. Ему требуется специалист по таким грязным делам, жесткий и беспощадный. Эррера как раз один из самых известных криминалистов города, пользующийся противоречивой славой. Настоящая акула уголовного права, которого самые просвещенные и высокомерные друзья Лео презирают до глубины души. Для них он подобен клоаке, способной поглотить, протравить, переработать и пустить в оборот отбросы всей страны.
В течение тридцати пяти лет, прошедших со времен подготовки к бар-мицве, Лео несколько раз случалось наблюдать за подвигами друга. Однажды на приеме у зубного врача, рассеянно перелистывая журнальчик для домохозяек, на одной из страниц Лео вдруг обнаружил нечеткую фотографию Эрреры на пляже.
Эррера выглядел рассерженным. Волосатый гном с брюшком. Волосы, как всегда, растрепанные и кудряшками (как будто специально завитые на бигуди). Фотограф подловил его в тот момент, когда он наносил крем на плечи телевизионной звездочки, которая в тот момент была лакомой добычей папарацци и флиртовала, чтобы прославиться, с известным Римским криминалистом. Да, Эррера казался действительно смешным. Одной рукой он пытался намазать крем, а другой отгородиться от назойливых журналюг. Лео не выдержал и рассмеялся. Он представлял себе этого разъяренного гнома во всей красе. Его негодование. Он почти слышал голос Эрреры, которого снимают: пронзительный, хриплый, дрожащий от гнева. Возможно, — подумал Лео с добродушным снисхождением прошлых лет, — ярость Эрреры была объяснима тем, что его застали в жалком положении. Гном и балерина. Красавица и чудовище. Эррера не обольщался относительно своей внешности и обладал достаточно хорошим вкусом, чтобы понять, что сцена на пляже — отвратительна. Несмотря на то что Эррера, благодаря особому дарованию и в знак протеста против Предвечного Отца, стремился к оригинальности и эксцентричности, он постоянно попадал в сети коварных блондинок. Этих жирафов ростом метр восемьдесят пять, которые, вместо того чтобы дополнять его маленький рост, делали его особенно гротескным.
В приемной у стоматолога Лео принялся размышлять, что их дружба с Эррерой закончилась именно благодаря одной из таких валькирий. Причина, по которой их ссора была столь жива в памяти Лео спустя столько лет, объяснялась горестным изумлением, которое он испытал, наблюдая, как сплоченное десятилетиями братство рушится из-за пустой интрижки, не заслуживающей особого внимания, но однако…
Нет, Лео не забыл того сентябрьского воскресенья. Да и как он мог забыть его? Это случилось примерно в середине пятидесятых. Они с Эррерой только что поступили в университет. Как обычно, в воскресенье, когда «Лацио» играл на своем поле, Лео подъехал к особняку дель Монте на виа Барберини, 15, и ожидал, когда его друг спустится, в седле своей серо-металлической «Веспы». Лео был одет, как обычно, в цвета своей любимой команды: все те же синие джинсы и поло, которые он носил с тех пор, как Эррера несколько лет назад приобщил его к безумному миру футбольных болельщиков.
На этот раз Эррера вышел из ворот не так проворно и весело, как обычно. Было первое воскресенье чемпионата. Середина сентября. Друзья не виделись с начала лета, и Лео ожидал от товарища большего энтузиазма при встрече. Напротив, Эррера казался слегка одуревшим. Кроме того, Лео отметил, что загар придавал Эррере еще более сказочный вид. Красный нос картошкой делал его похожим на Ворчуна, одного из семи гномов. На Ворчуна, который, однако, не желал ворчать, по крайней мере сегодня. По пути от дома до стадиона он был погружен в свои размышления и позволил везти себя, так и не открыв рта по дороге.
Поведение Эрреры на трибуне было совсем уж необъяснимым. Он продолжал молчать. Он робел. А ведь матч между «Лацио» и «Наполи» должен был разжечь его полемический пыл. Эррера ненавидел «неаполитанцев». По правде говоря, он также ненавидел «фиорентинцев». Не говоря уже об игроках «Милана» и «Ювентуса». А если подумать хорошенько, он ненавидел всех. И научил своего друга тому же, объяснив ему, что суть футбольного болельщика — это прежде всего ненависть. Вот почему Лео ожидал от своего друга обычного поведения: серии безвозмездных оскорблений в адрес игроков команды противников, а порой и в адрес своей любимой команды, как всегда неповторимого сквернословия, раздутых вен и ожесточенных жестов. А тут — ничего. Он удовлетворился скучной ничьей, даже не раскрыв рта. Только когда они сели на мотоцикл, он проговорился: «Знаешь, мне нравится одна…»
Эррера дель Монте влюбился? Не может быть! В каком смысле? Лео никогда не видел, чтобы друг пускал на кого-то слюни. В какой-то момент он даже стал подозревать, что его вообще не интересуют девочки. И разуверился в этом только тогда, когда Эррера подарил ему несколько открыток с полуобнаженными красотками со словами:
«Уверяю тебя, мой друг, это лучшее, что есть в моей жизни».
Эррера — онанист. Эррера — рукоблуд, умеющий иронизировать над своей слабостью. Это было понятно. Эррера — женоненавистник. Это было в порядке вещей. Но не Эррера влюбленный. Не Эррера молчаливый или лепечущий в полуобморочном состоянии фразы вроде: «Знаешь, мне нравится одна…»
У Лео даже не нашлось слов, чтобы прокомментировать это признание, как будто речь шла о диагнозе смертельной болезни.
«Моя мать, естественно, уже „благословила“ ее».
«То есть?»
«Когда она в плохом настроении, она называет ее „проклятая христианка“. Когда в хорошем — „хавер“. В счастливые моменты она говорит „твоя немка“. Она утверждает, что та гуляет со мной из-за наших денег. И много других неприятных вещей, которые я предпочту обойти молчанием».
«Где ты с ней познакомился?»
«В горах. Она работает в одном из тех провинциальных магазинчиков, в которых продается все что угодно. Газеты, сигареты, игрушки, метелки… На следующей неделе она приедет ко мне на поезде. Моя мать сказала мне, что я должен пообещать ей не приводить девушку к нам домой. Что я не должен даже упоминать ее имени. Как будто я собирался с ней говорить об этом! Представь себе, она попросила отца урезать мои расходы, пока девушка не уедет, а я не одумаюсь. И я сейчас на мели. Господи, эта женщина желает моей смерти. Будь на то ее воля, она бы заставила меня дрочить до самой пенсии. Будь на то ее воля…»
Вот он, прежний Эррера. Он только что признался, что в его жизни появилась женщина, но продолжал нудеть про свою мать и свои шалости на досуге.
«А твой отец?»
«Мой отец, бедняга, что он может сделать? Он полностью в ее власти. Не бывало еще такого, чтобы приказ нашей повелительницы обсуждался… Вот, дело в том, что… я хотел тебя попросить одолжить мне немного денег. Я тебе их верну при первой возможности, а взамен обещаю тебе один из вечеров, когда ты сможешь посмотреть на нее».
Вот как. Эррера, без сомнения, нуждался. Он желал небольшую сумму денег в долг.
«А можно узнать хотя бы, как ее зовут?»
«Валерия. Ее зовут Валерия».
Ссора между друзьями случилась ровно через две недели.
Все произошло очень быстро. Они, как всегда, возвращались с матча на «Веспе» Лео. Но даже поражение «Лацио» не объясняло мрачного настроения Эрреры. В чем же дело? Куда подевался его Эррера? Что с ним сделали? Из него как будто высосали всю энергию. Что же произошло? Ссора между матерью и Валерией? Невероятно. Самый большой стоик, которого Лео знавал в своей жизни, дал слабину? Он не выдержал атавистического конфликта между доводами матери и Эроса? Но почему Эррера так неприветлив с ним? Почему, сидя на его «Веспе», он молчит как рыба? Почему не сыплет фейерверком колкостей в адрес продувшей «Лацио» и матушки? Почему не пускается в обычные разглагольствования, которые однажды сделают его юристом, во многом превзошедшего своего отца? Но пока Лео размышлял о необычном поведении друга, тот обжег его неожиданно странной фразой. Он соскочил с мотоцикла прямо перед воротами дома и, возвращая ему взятые в долг деньги, прошипел: «Не желаю больше тебя видеть». Тем же тоном он мог сказать: «Увидимся завтра» или «Перезвоню тебе позже».
Лео едва успел спросить его: «Почему?»
«Потому что я так решил».
«Извини, но что я тебе сделал?»
«Ты мне ничего не сделал. По крайней мере, нарочно. Но ты сделал мне много чего, сам того не замечая. Возможно, случайно. Потому что иначе не мог. И это самая неприятная штука. Именно поэтому не хочу тебя больше видеть».
Лео не верил своим ушам. У него не было слов. Он был оскорблен. И если бы обида оказалась сильнее удивления, он, наверное, пришел бы в ярость. Но и Эррера был вне себя: он весь налился кровью и, казалось, готов был взорваться. Как будто этот неприятный разговор надоел ему. Он хотел завершить его, и точка. Ему нечего было объяснять. Он желал уйти.
«Ну же! Не дури! Я понимаю, что что-то произошло. Но почему я должен расплачиваться за твое плохое настроение? Мне кажется, я заслужил хотя бы какого-то объяснения… Расскажи мне, что случилось!»
Лео был действительно напуган и обеспокоен. Никто никогда в жизни не бросал его. Он не мог даже представить себе, что значит быть брошенным. Это привело его в сильное волнение, на смену которому пришло раздражение: его слова слишком напоминали слова мужчины, требующего объяснений у женщины, которая только что отправила его в отставку. По правде говоря, внутреннее состояние Лео было не так уж далеко от состояния души покинутого без всяких предупреждений и объяснений мужа. А Эррера, как будто специально, усилил его расстройство и недоумение еще одной неопределенной и пафосной фразой: «Знаешь, позавчера вечером… это было просто ужасно!» Он произнес ее с такой смиренной грустью.
Позавчера вечером? Что случилось позавчера вечером? У Лео всплыло только смутное и неуверенное, как шаг пьяного, воспоминание. И в самом деле, в тот вечер, когда Эррера познакомил его с Валерией, Лео выпил больше, чем обычно и чем нужно. Может быть, под воздействием этиловых паров он совершил что-нибудь неподобающее? Но как Лео ни силился вспомнить, ему казалось, что его поведение не выходило за рамки приличий.
Конечно, та девица смутила его своей яркой внешностью. А также своим воинственным голосом и сильным трентинским акцентом. Он едва сдерживался от смеха, наблюдая за гномом рядом с валькирией. Настоящий цирк. Но Лео был абсолютно уверен, что он ни разу не рассмеялся. Он ничем не выдал мыслей, которые могли бы задеть Эрреру. Он вел себя прекрасно. Разве что слегка перебрал спиртного. Ну и слишком много говорил. Да, он помнил даже это. И взгляд Валерии. Она внимала каждому его слову, а Эррера сидел в углу и молчал.
Чувство неполноценности. Ощущение, что он не может соперничать с другом, таким красивым, таким красноречивым, таким светским. Вот в чем было дело?
Вот почему сейчас Эррера гонит его взашей, как служанку, попавшуюся на воровстве? Конечно, речь шла именно об этом. Лео вдруг вспомнил неопределенное чувство вины, которое охватило его в конце вечера, незадолго до прощания, когда он, под воздействием спиртного и непринужденной болтовни, рассказал Валерии глупую и ненужную историю. Он рассказал ей о том, как покупал сигареты Эррере, а продавщица в табачном киоске принялась упрекать его: «Как вам не стыдно покупать сигареты своему сыну?» Боже, как Валерия смеялась! Ужасно. Боже, как не смешно было Эррере. Не менее ужасно. Кто тянул его за язык? Зачем было рассказывать эту паскудную историю? Да, было забавно вспоминать ее среди друзей. Но рассказывать ее девушке Эрреры, первой девушке Эрреры, — это было непростительно. Лицо Эрреры в тот момент! Как ему было стыдно. На нем выражалось такое унижение и недоумение.
Об этом лице Лео вспомнил только сейчас, после того как Эррера сказал ему: «Знаешь, позавчера вечером… это было ужасно…»
В тот же момент Лео понял, почему Эррера наедине с ним был всегда таким забавным, полным участия, и напротив, с другими (особенно с представительницами прекрасного пола) упорно прятался в раковину своей неуклюжести. Это объяснялось стыдом. Он стыдился самого себя. Стыд преследовал его повсюду. Возможно ли, что Лео понял это только в тот момент? Почему тогда он удивлялся, что друг пожелал исключить его из своей жизни без объяснений? В этом не было ничего удивительного. И объяснять здесь было нечего. Все это копилось годами. Нужен был только подходящий случай. Присутствие такого очаровательного приятеля усугубляло стыд Эрреры дель Монте.
Как он не подумал об этом раньше? Должно быть, очень тяжело, просто ужасно жить в стыде. С тех пор Лео потерял покой. До этого не было ни одного человека на планете, который посмотрел бы на него глазами, полными недоверия и горькой иронии.
С тех пор, с того самого воскресенья, за исключением официальных случаев или светских раутов, бывшие друзья никогда больше не встречались. Так, на приеме у зубного врача, увидев фотографию Эрреры в женском журнальчике, увидев своего друга постаревшим, но еще воинственным, Лео улыбнулся почти с нежностью. Он совсем не изменился, подумал Лео: как всегда — смесь стыда и реваншизма. Увидев, с какой яростью Эррера отгонял фотографов, он также подумал: нет, ты все такой же, мой друг. И ты всегда получал что желал! Ты богат как Крез. Ты самый успешный и сомнительный юрист в Италии. Ты можешь трахаться со всеми валькириями, которых захочешь. Но этот стыд — стыд быть Эррерой дель Монте, — увы, он неискореним.
Таким образом, было естественно, что Лео в самый трудный момент своей жизни подумал об Эррере. Эррера — вот в ком он нуждался. Он не только смог бы помочь ему справиться с бедой, но был единственным человеком, который смог бы понять состояние души Лео. Настоящий спец по стыду. Просто эксперт мирового уровня.
Все оставили Лео. Но Эррера должен был поддержать его. Потому что он знал, что значит не сметь поднять глаз, страшась встретить в глазах других отвращение, которое порождает в них твой вид.
В общем, Лео давно обдумывал идею навестить Эрреру. Попросить его о помощи. И если он не сделал этого сразу, виновата была его хандра, усиленная ощущением ничтожества, в которое он постепенно скатывался. Теперь, когда Рахиль перестала поддерживать его, сейчас, когда она оставила его, когда вела себя так, будто его не существовало, а он жил в этом подобии бункера, забитом дисками, книгами и воспоминаниями, в профессоре Понтекорво что-то стало меняться.
Если бы дело не приняло угрожающий оборот, Лео не стал бы звонить в контору дель Монте, он не назначил бы встречу с Эррерой, он не решился бы сесть в машину и доехать до его бункера на мрачноватой и бурной виа Венето.
И именно в то утро отец Камиллы явился к воротам дома Понтекорво. В компании жены и своей любимой винтовки 9-го калибра, приобретенной для охраны своих магазинов. Он намеревался выпустить весь заряд в башку этого козла. И сделать это как можно более театрально. В первых лучах зари, дабы придать эпичности своей мести. Преднамеренное убийство? Тюрьма? Пожизненное заключение? Застрелить безоружного человека? Убить его на основании неясных и общих обвинений, которые нужно было еще доказать? А затем сдаться представителям охраны правопорядка? Или же, в духе некоторых детективных сериалов, лишить себя жизни с криком: «Я не сдамся вам!» Почему нет? Есть вещи и похуже в нашей жизни. Оставить эту свинью безнаказанной, например. Его даже не арестовали еще. Что за дерьмовая страна! Один человек намекнул ему, что Лео не выходил из дому. Прекрасная крепость, наверное, здорово сидеть там, закрывшись в своих владениях!
Раньше разъяренный отец Камиллы ходил и говорил всем вокруг, что эта свинья Понтекорво за все заплатит. В нем будто поселилось заносчивое и немного эксгибиционистское негодование, характерное для малообразованных и излишне мужественных людей. Это заставляло разбрасываться его легкомысленными и мелодраматическими фразами вроде: «Я желаю видеть его мертвым!», «Я подвесил бы его на крюке, как кусок говядины!», «Некоторые преступления можно искупить только электрическим стулом», «Самый страшный грех — это предать доверившегося тебе!», «Это же извращение!», «Как только подумаю о моей крошке…». И так далее. Правда заключалась в том, что отцу Камиллы не терпелось распустить хвост перед обожаемой дочуркой, которая уже давно отвергала и презирала его.
Итак, вот он здесь, чтобы устроить свое дурацкое представление. Сначала он осаждал домофон, а потом принялся орать:
«Выходи, козел! Ну-ка выходи! Я тебя жду, я заставлю тебя выйти!»
А Лео, не менее склонный в те дни к мелодраматическим жестам, не заставил себя долго ждать. После очередной бессонной ночи не оставалось ничего лучшего, как совершить какой-нибудь бессмысленный и отчаянный поступок. Так что он предстал в майке и трусах перед тем, кто собирался его убить.
Вот такая неприличная сценка была уготована приличнейшим зрителям из числа соседей: сильно загорелый мужчина с длинными рыжими волосами и с пушкой в руках и изменившийся до неузнаваемости профессор Понтекорво в нижнем белье.
Бросающаяся в глаза худоба и неаккуратная поросль на подбородке заставляли последнего казаться еще более истощенным и похожим на кающегося грешника с картин Эль Греко. На его лице было написано: «Стреляй. Прошу тебя. Стреляй. Чего ты ждешь? Это то, чего все хотят. Это то, чего хотим мы оба». И для пущей ясности Лео становится на колени. Но вовсе не для того, чтобы попросить о помиловании. Его движения напоминают движения смирившегося и нетерпеливого смертника, который просит быстрее исполнить приговор. Изящный и непримиримый жест того, кто готов принять мученичество.
По иронии судьбы, чтобы преклонить колени, Лео выбирает именно тот кусочек земли, на котором несколько месяцев назад, в конце празднования дня рождения Самуэля, он приветствовал родителей Камиллы: тогда он приказал им остановиться, чтобы сфотографировать их. Именно так, Лео становится на колени в том самом месте, где в свое время испытал чувство снисходительного превосходства, которое у него вызвал вид этих нелепых людей. Сейчас обстоятельства поменялись явно не в его пользу. Сейчас он должен испытывать стыд. Сейчас он сдается на их милость. Сейчас властвуют над ним. С той же любезностью, с какой они тогда согласились отдать себя в распоряжение его фотокамеры, он теперь отдает себя в распоряжение их пушки. Правда, фотографировать кого-либо — дело совсем иное, чем в кого-то стрелять. Поэтому этот болтун не может сделать свое дело. Не может сделать то, ради чего он сюда пришел. Не может выстрелить.
Деморализованный этой смиренной уступчивостью, пораженный самурайским мужеством и внезапно осознав последствия поступка, который был бы совершен в присутствии столь многочисленных зрителей, он опускает оружие, по его щекам текут слезы, и он начинает всхлипывать, как ребенок. Он путается в словах. Его жена тоже начинает плакать: «Прошу тебя, малыш, пойдем отсюда, оставь его… прошу тебя, любовь моя, это никому не нужно… посмотри на этих ничтожных червей… разве ты не видишь, дорогой, что это за людишки».
Затем принимается плакать Лео. Не на коленях, а на четвереньках. Он плачет. Не зная сам почему. До сих пор ему удавалось сдерживаться (по крайней мере, не во сне) в присутствии своих близких, в своем отрешенном одиночестве, в котором он жил все эти дни. А сейчас, когда на него все смотрят, ему удается заплакать. И это то, о чем он мечтал: всхлипывать перед всеми. Как он делал ребенком, прежде чем заплакать, ожидая, что придет мать и утешит его.
От заразного коллективного плача удерживаются только Филиппо и Самуэль, которые наблюдают сцену из окна, выходящего в сад. Посмотришь на них, таких дружных, близких, стоящих почти в обнимку, как будто подбадривающих друг друга, и можно подумать, что они готовятся смотреть на казнь отца.
«Вы знаете, что ваш отец — скотина? Вы это знаете или нет? Если вы этого не знаете, я вам это говорю! Ты, Самуэль, знаешь, что твой отец — свинья? Ты знаешь, что он мне сделал? Что он нам сделал?» Так отец Камиллы обращается к сыновьям Понтекорво.
Наконец, почти без сил от усталости, он в сопровождении не перестающей всхлипывать жены садится в машину и растворяется в розоватом утреннем свете.
Только после очередного удара Лео нашел в себе мужество поднять трубку, набрать номер конторы своего старого друга и попросить его о встрече. Чтобы услышать такие слова: «В добрый час! Я думал, что ты мне уж больше никогда не позвонишь». Конфиденциальным тоном и слегка обиженным голосом друга, с которым ты часто видишься, но в последнее время немного забросил. На самом же деле, за исключением свадьбы одного кузена Эрреры, на которой они встретились года три назад, друзья ни разу не общались. Единственное, что удалось произнести Лео, было: «Дело в том, что…» Но Эррера сразу же перебил его: «Ладно, я на месте и жду тебя. Приходи и рассказывай, что случилось».
Как мог Лео рассказать, что происходит сейчас в его жизни? Как объяснить состояние страха, в котором он жил целыми днями? Клаустрофобию, сменяемую боязнью открытых пространств, когда полуподвальный этаж воспринимался то как узкая нора, вырытая под землей, то как огромная пустая площадь? И это ужасное чувство, что ты недостоин больше людского сочувствия. Что ты стал персоной нон-грата…
Только несколько дней назад Лео набрался мужества выйти, покинуть свой домашний бункер и прогуляться немного по округе. Он вдруг понял, что уже много лет не выходил никуда один. Он не знал, куда идти. Не в рестораны же, куда он обычно отправлялся с Рахилью или с другими парами друзей. Разумеется, не в кино, которое бы только усилило терзавшую его боязнь замкнутого пространства. Мир снаружи не принимал его и казался ему бесконечной и однообразной равниной.
Так он оказался за стойкой бара, который посещали ребята с Корсо Франча. Лео даже не понял, как он очутился в подобном месте. Он только помнил, как сел в машину тайком от своих и почти в трансе проехал много километров.
Итак, он оказался там. Со стаканом паленой водки в руке. Кругом стоял невообразимый шум. Его окружали молодые люди с загорелыми ногами и одетые все на один манер: в бермуды, рубашки с высоко поднятым воротничком, туфли-лодочки. Его охватило параноидальное ощущение, что все делали вид, будто не смотрят на него. От последней официантки до владельцев заведения. Они узнали его? Такое возможно? А почему нет? Насколько он знал, в этом не было ничего странного, учитывая, что с того дня, как начался весь этот кошмар, его фотография постоянно появлялась в газетах и сводках новостей.
Внезапно он почувствовал, что весь взмок от пота, а в голове пульсирует боль. Сердце бьется неровно. Он хотел попросить помощи, но боялся, что кто-нибудь скажет ему: «Сдохни, извращенец». Поэтому он вышел и направился к машине. Позади он услышал, как его кто-то зовет: «Синьор, синьор! Эй, синьор, я к вам обращаюсь!» «Вот оно! — подумал Лео. — Сейчас меня линчуют!» Он повернулся. Это была запыхавшаяся и определенно рассерженная официантка.
«Синьор?»
«Говорите…»
«Вы не оплатили счет. Мне пришлось гнаться за вами…»
«Бог мой! Извините… Вот, пожалуйста, остаток возьмите себе… и извините меня…»
Нет, мир был закрыт для него. В нем не было ничего, что не порождало бы страха. И страх был сильнее ностальгии.
И Лео правильно делал, что боялся и был начеку. Потому что, даже если он предпочитал не замечать этого, все это происходило как раз в те дни, когда эта гнусная история пользовалась особенной любовью у представителей национальной прессы, которая выворачивала наизнанку каждую мельчайшую ее деталь с претензией отыскать в ней какой-то скрытый смысл. Ну как Известному Писателю и Успешному Репортеру было устоять перед искушением и представить остроумное повествование о Падении стоящего вне всяких подозрений персонажа и о Разоблачении Обманщика. В тот август все пляжи итальянского побережья преобразились в площади, на которых толпы нетерпеливых ораторов жаждали выразить свои глубокомысленные воззрения по поводу алчности, предательства, похоти, беззакония.
В качестве примера они брали историю некоего врача, который лечит детишек, больных раком, и который не нашел ничего лучше, как наживаться на их горе, а между делом еще и соблазнять двенадцатилетних (интересно, он все-таки с ней переспал? — спрашивает не без зависти какой-нибудь развратник, проглядывая утреннюю газету).
Очевидно, плохая система здравоохранения, насилие над детьми, политические интриги, неравенство в академической среде породили в так называемом простом человеке иллюзию, будто он существенно честнее и достойнее всяких там Лео Понтекорво, имеющих власть, деньги, женщин, то есть тех, кто пользовался всеми благами жизни и поэтому думал, что ему все позволено, и кто теперь должен принять позорную смерть.
Все были единогласны в одном — подобный человек не может оставаться на свободе. Подобный человек должен быть арестован.
Вот что ждало Лео. Вот о чем он должен был спросить Эрреру, если бы он не порвал всякую связь с внешним миром, если бы смотрел время от времени телевизор, покупал газеты и отвечал на телефонные звонки, которые беспрерывно поступали на его частный телефон.
Правда, Эррера уже знает всю историю лучше самого Лео. Именно поэтому он принял друга в своем кабинете с пошловатой репликой. В классе его называли «сокровище». С той ироничной интонацией, с какой в их среде (среде еврейской буржуазии, спасшейся от преследований и проводящей свою жизнь на яхтах или долгими летними вечерами играя в карты под сенью сосновых рощиц в Кастильоне-делла-Пескайя) много лет назад было принято обращаться друг к другу среди мужчин. С чудаковатой сердечностью, с которой отец Лео мог бы обратиться к отцу Эрреры, и наоборот. Реплика явно была подготовлена, что стало ясным в процессе первой беседы и прочих бесед, произошедших в последующие недели, когда Лео должен был ровно в девять являться в кабинет старого друга детства. И Эррера мог себе позволить подобную фамильярность.
Теперь, когда он дал глоток воздуха этому задыхающемуся человеку, когда он позволил прийти в себя Лео (выдающемуся соплеменнику, которому до сих пор везло в жизни не меньше, чем Эррере, но от которого в последнее время удача стала отворачиваться), теперь пришло время обращаться с ним как с клиентом и пытаться вытащить его из беды. Но сначала уточнить кое-какие предварительные условия:
«Задаток — семьдесят миллионов. В наличных без НДС. Моя секретарша будет ждать тебя в холле отеля „Цицерон“ послезавтра в пять. Если хочешь, чтобы я помогал тебе, смирись с тем, что я стану твоим раввином, твоим исповедником, твоим психологом и, прежде всего, твоим императором. Ты должен отвечать на любой мой вопрос. И должен делать все, что я тебе скажу. Во-первых, ты должен поселиться поближе к моей конторе. Это значит, что все бумаги по делу должны приходить сюда. Во-вторых, я запрещаю тебе смотреть телевизор и читать газеты. Я запрещаю тебе отравлять свою жизнь всем этим дерьмом. В-третьих, я запрещаю тебе обсуждать произошедшее с кем бы то ни было (ты представить себе не можешь, сколько вокруг негодяев), пока не поговоришь со мной. В-четвертых…»
До этого момента легко. Газеты и телевидение — их я не смотрю уже несколько недель. А с кем я могу разговаривать, если со мной никто не общается? Подумав об этом, Лео снова чуть не впал в панику. Но его беспокойство почти сразу сменилось сладким удовольствием: снова появился кто-то, кто относится к нему как к ребенку. Кто-то, кто ставит его перед целым списком строгих запретов.
«Послушай, можешь объяснить мне одну вещь?»
«Валяй. Но не увлекайся. Обычно, прежде чем открыть рот, я предпочитаю увидеть денежки. Мое красноречие дороже „порша“.»
«Я не понимаю слишком многих вещей. Новость об этих письмах. Представленная в таком виде. На телевидении. Оставим, не знаю чей, сценарий… Вот, в общем, я ожидал, что меня вызовут в суд, ожидал повестки, вызова. Почему ничего не происходит? Иногда мне даже хотелось, чтобы что-то происходило. Меня убивает то, что ничего не происходит».
«Не знаю, что тебе сказать. Я должен изучить бумаги, обвинения… Но могу сделать предположения. Если оставить в стороне всякие унылые рассуждения о нравственности, речь не идет о таком уж страшном преступлении. Конечно, не очень пристойно писать письма девочке и получать от нее ответы. Это только дополнительный компромат на человека, против которого столько обвинений, как против тебя. И тем не менее это не преступление. Абсолютно. Совращение. Насилие. Вот это да, преступления. И если бы существовали доказательства, что ты их совершил, за тобой бы пришли! С пушкой, которая стреляет. Но кажется, у них ничего нет. Что касается других преступлений… если бы они боялись, что ты уничтожишь улики и улизнешь за границу, они бы тебя уже арестовали. Но насчет этого они спокойны. Это не в духе Лео Понтекорво — бежать. По крайней мере, того Лео Понтекорво, которого знал я. Это был Лео Понтекорво, преисполненный гражданского сознания и ответственности. Пример уважаемого буржуа. Не какой-нибудь пошлый жулик, готовый улизнуть от правосудия».
Лео показалось, что последние комментарии полны сарказма. Он услышал в голосе Эрреры почти нескрываемый упрек. Эррера пытается взять реванш?
Лео предпочел этого не замечать. Ему и так есть над чем подумать. В общем, он доволен. Он чувствует себя защищенным, в хороших руках. А разве не это сейчас самое важное? Нигилизм Эрреры, который кажется ему сейчас таким грубым, если его направить должным образом, может быть очень полезным для данного случая.
Внезапно Лео чувствует по отношению к своему другу прилив нежности.
«А знаешь, ты отлично выглядишь!» — говорит он, и в его словах звучат одновременно ложь и правда.
«Правда? Что же, в сущности, моя жизнь сложилась не так ужасно, как предсказывала моя мать».
«Я знаю. Я ведь тоже читаю газеты».
«Боже, моя мать. Вот уже год, как она меня оставила».
Лео знает и это. В свое время он прочел некролог в газете. Но учитывая, что он не отправил даже формальной телеграммы с соболезнованиями, делает вид, что поражен и расстроен.
«Что поделать, — продолжает говорить Эррера, обращаясь скорее к самому себе, чем к собеседнику. — Моей крошке было много лет, она страдала множеством всяких болезней. А в последнее время добавилась еще и старческая деменция. Я нанимал для нее сотни самых лучших сиделок. Она разогнала их всех. Она не понимала ничего, в голове у нее была полная каша. Единственное, что она знала, — это то, что она не желала умирать на руках одной из этих девочек, но хотела умереть рядом со мной, своим единственным сыном. В конце концов даже я пришел к убеждению, что это самое лучшее для нее. Так, я днем работал, а ночью сидел с ней. Ты врач. Ты знаешь, как это может быть утомительно. Знаешь, что она сказала мне вечером перед своей смертью, когда я укладывал ее в постель?»
«Что?»
«Любовь моя, я так тебя люблю! Это единственные сердечные слова, которые мне сказала моя мать за всю свою жизнь. И черт возьми, она прошептала мне их, когда ее голова почти не соображала!»
Лео снова испытал чувство близости, солидарности. Друг. Мой друг. Вот он здесь. Он вернулся.
Если первую часть своей жизни Лео провел под защитой матери, потом под заботливым и любящим присмотром жены, теперь эту роль двух самых важных женщин его жизни, которые по разным мотивам больше не подходили на нее, унаследовал Эррера. Теперь очередь этого неустрашимого адвоката, этого злого и решительного гнома сопровождать его далее по опасному пути. Есть в этом нечто привлекательное. Нечто поэтическое, что не могло ускользнуть от размягченного несчастьями человека: рядом с Эррерой началась его жизнь взрослого еврея, и с Эррерой он переживет новый ее этап и трагическое завершение.
Лео достаточно было выйти за пределы конторы своего нового адвоката, своего нового ментора, еще под бодрящим впечатлением, которое у него оставила сама встреча, нахлынувшие вдруг воспоминания и проблеск надежды, чтобы оказаться снова в экваториальном климате улицы, в зловонной гнилой атмосфере римского августа и ощутить всю тяжесть своего положения.
Лео неуклюже спешит к машине, припаркованной на одной из улочек, примыкающих к виа Венето. Успокойся, старик, ничего страшного. Ничего страшно не случилось. Более того, все прошло лучше, чем ты мог себе представить. Итак, остановись, расслабься, подумай о дальнейших действиях.
Он решил соблюсти указания, которые ему дал Эррера. Он наивно полагает, как ребенок или солдат, что если выполнить четко все приказы, все потихоньку станет на свои места. Но ему приходит на ум и другая мысль, не менее губительная, которая едва не заставляет его потерять сознание.
Деньги. Где взять такие деньги? Существенная сумма: ему по карману, конечно, но для такого сверхнепрактичного человека, как он, ужасно трудно сообразить, где ее взять. Лео не знает, сколько у него денег. Лично он никогда не задумывался о подобных вещах. Рахиль занималась всей этой бухгалтерской работой и банковскими счетами. Он знает, что хорошо зарабатывает, и имеет безграничное доверие к административным способностям Рахили. Он всегда был благодарен ей за то, что она не сообщала ему, как обстоят дела с семейным бюджетом. За то, что она никогда не совала ему под нос счета об оплате телефона или квитанции об оплате света. За то, что она никогда не держала его в курсе своих финансовых операций.
Именно так ему всегда нравилось жить: словно одному из тех монархов, пользующихся безграничным кредитом и привилегией, никогда не заботиться о вещах, о которых так много думает простой люд (да, деньги бывают важнее любви). Он знает, что Рахиль вложила какую-то сумму в недвижимость. Но это все, что он знает. Как избалованный ребенок, он пользовался всегда кредитной картой или чековой книжкой. При помощи этих замечательных инструментов он мог располагать теми деньгами, которые требовались мужчине его положения и образа жизни. Ему даже в голову не приходило, что он может превысить кредит. Он как будто был застрахован от всякого принуждения.
Сейчас он осознает, что не имеет ни малейшего представления о том, записаны ли квартиры, приобретенные Рахилью, на его имя. Он помнит, что несколько лет назад он ходил несколько раз к Эмилио, нотариусу, тоже другу детства. Лео подписывал какие-то бумаги, пока тот зачитывал, как в синагоге, скучнейшие увещевания, написанные невозможным бюрократическим стилем. Он помнит листы с напечатанными на машинке строчками, но прежде всего помнит охватившее его тогда чувство сонливости.
Очевидно, что его страх перед бюрократией проявлялся в странной форме лени и скуки, в результате которых он сейчас не знает, что подписывал. Он передал все жене и сыновьям (до настоящего момента это было бы самым правильным решением)? Дал согласие на приобретение новой собственности? Кто знает. У кого это можно спросить? Может быть позвонить тому смешному ханже Эмилио и потребовать у него отчет о том, чем он владеет? И как он это воспримет? Нет, это невозможно. Только медоточивого голоса Эмилио ему и не хватало. Но как тогда достать, не вмешивая Рахиль, семьдесят миллионов наличными? Неужели нет такого способа? У кого еще можно попросить их, если не у нее?
Его охватывает злость. В сущности, деньги его. Это он гнул спину, неустанно учился и работал все эти годы. Деньги принадлежат ему. И зачем нужно столько денег, как не для того, чтобы рассчитывать на них в случае тяжелой болезни или судебных неприятностей?
Проблема в том, что с тех пор, как в тот душный июльский вечер Лео сбежал от своих родных, оставив их в полном недоумении, он больше ни разу не разговаривал с Рахилью. Она делала все, чтобы избегать его, и ему это было скорее на руку. По крайней мере, до тех пор, пока не пришлось столкнуться с проблемами практического характера, которые он всегда легкомысленно откладывал. А теперь он должен был осознать всю свою неизмеримую бесполезность в подобных делах. К счастью, ему пришло в голову обратиться к Эррере. Но без денег Эрреры не существует. Способ обрести новую поддержку в лице Эрреры — это солидная сумма наличными. Без этого прощай возможность по имени Эррера. Попросить их у человека, самого обиженного (хуже: разочарованного), в представлении Лео, было бы все равно что требовать от отца Камиллы искренней дружбы. Но без этих денег будет разбита надежда, с которой он только начал оживать.
С тех пор как началась эта история, он никогда не приходил в ярость. Но сейчас, когда в нем накопилась вся агрессия из-за неслыханных обвинении, превративших его в парию, он решил взорваться. Он всей душой ненавидит Рахиль. Ее проклятую принципиальность. То, как она тебя слушает. Ее убеждение, что ей чуть ли не богом дано различать, что правильно, а что неправильно. А иногда столь ожесточенное нравственное чувство, которое превращает ее в неприятную особу. Зачем еще нужна ее религиозность, если не для милосердия и сочувствия? Как можно не испытывать милосердие по отношению к нему? Как можно не замечать, что с ним делают? Ее мужа постоянно терзают, у него отняли все, даже желание жить, его превратили в паяца. И это при том, что он ничего не сделал. Ничего.
И она, его Рахиль, поверила обвинениям Камиллы. Этой мелкой шлюшки, которая загнала его в угол. Этой чертовой психопатки, которая обращается к своим родителям по-французски, пишет безумные письма, которая развлекается, подчиняя себе взрослых и мучая их.
Вот почему ему необходим такой мастодонт, как Эррера дель Монте. Потому что только он со своей напористостью, умом, хитростью имеет власть разрушить весь этот абсурд, разрубить спутанный клубок лжи. Поэтому он мечтает, что Эррера возьмет головы Камиллы, ее папаши-викинга, а также того ассистента Лео, который использовал его в своих интересах, и всех тех, кто ополчился против него, и размозжит под прессом. Вот торжествующий крик свершившейся мести нашего бедного графа Монте-Кристо. Вот библейская мечта об искуплении Лео Понтекорво. Которая никогда не свершится, если у него на руках не будет денег.
Сейчас он сидит в машине и не может сдвинуться с места, на часах два тридцать, внутри салона работает кондиционер, окна подняты, снаружи страшная жара: завести мотор своего голубого «Ягуара» и тронуться, сначала посмотрев в зеркало заднего вида, — это выше его сил. Он парализован. Ему то жарко, то холодно. Он боится. Он рассержен. Он хочет денег, которые принадлежат ему, но не знает, где они и как их снять со счета.
И в неожиданном припадке патетики он говорил себе, что, в сущности, эти деньги не для него. Нет, не для него, а для чего-то, что выше его. Вот что он скажет непреклонной Рахили, если только найдет мужество обратиться к ней: «Эти деньги нужны не для меня, а для осуществления высшей цели. Для достижения справедливости. Правосудия. То, что ты, дорогая, должна любить так же сильно, как я…» Абстрактные понятия вместе с ласковым обращением к жене заставили его расплакаться.
Так этот сорокавосьмилетний мужчина, отгороженный от мира, подобно рыбе в аквариуме, в красивой удобной и дорогой машине с кондиционером, от которого веет полярным холодком, второй раз за этот длинный день обнаруживает в себе мужество и слабость, чтобы заплакать. Рыдая как сумасшедший, он вдруг замечает, как какой-то ребенок рядом с машиной веселится, наблюдая за ним. Он пытается привести себя в порядок, но, всхлипывая снова, кивает ребенку с нежной улыбкой. И через минуту жалеет о своем жесте. Вспоминает, что он не в том положении, чтобы быть с кем-то нежным, тем более с невинными младенцами.
Машинально и не без параноидального страха он оглядывается вокруг, не видел ли кто, как он улыбнулся ребенку. Шакалы повсюду. Они подстерегают свою добычу. Этот урок он, по крайней мере, усвоил. Что бы ты ни сделал, даже по неведению, — всегда найдется какой-нибудь доброжелатель, который использует это, чтобы уничтожить тебя, чтобы повесить на тебя ответственность за то, чего ты не делал. Вот что узнал Лео Понтекорво о человеческом обществе. Все существуют, чтобы уничтожать друг друга. Мы родились для того, чтобы исчезнуть.
Чем больше он думает о деньгах, которые ему нужны, тем более растет его беспокойство и гнев. «Никакой проблемы, пойду домой и скажу ей об этом прямо: „Я должен заплатить адвокату. Мне нужны мои деньги“. Она не сможет больше игнорировать меня. Ей придется дать мне ответ. Если она скажет да — хорошо. Если она откажет мне, я ей покажу, на что я способен». Эта агрессивная мысль снова успокаивает его.
Он проехал Кассию, две трети пути от центра до дома преодолены, Лео начинает с ужасом представлять, что будет, если она откажет ему.
С другой стороны, она может отказать. Рахиль изменилась. Это уже не прежняя Рахиль, как и мир вокруг перестал быть прежним миром. По крайней мере, ему так кажется. Рахиль стала призраком для него. Или он призраком для Рахили. Не имеет значения. Все равно. Вот именно, не дать ему денег, отказать в помощи — для нее это был бы лучший способ отомстить, а также обозначить всю его незначительность в ее новой жизни.
А если она просто скажет ему: «Я тебе ничего не дам. Запрещаю тебе прикасаться к нашим деньгам»? Или еще хуже — продолжит молчать? Что ему тогда делать? Да ничего! Если бы у него было получше с реакцией, он давно бы поставил ее на место. Безнадежность положения парадоксальным образом действовала на него успокаивающе. Он вернется в полуподвал, где проспал уже несколько недель. Устроится на раскладном диване. Безуспешно попытается уснуть. Подавленный всей этой духотой. Он не придет в отель «Цицерон» с деньгами. И так потеряет последнюю возможность выйти невредимым из этой истории.
Рахиль хочет ему отомстить? Таким способом? Не дав ему защититься? Да, она такая. Он знает ее слишком хорошо. Ее преданность может быть абсолютной, но если ты один раз предал ее, она будет мстить тебе вечно. Тебе ни за что не удастся вернуть ее доверие. Лео знает ее непреклонность. Он восхищается ею. Он любит ее, эту непреклонность. По крайней мере, любил до настоящего момента, так как никогда не был ее жертвой.
Он вспомнил один случай, когда Филиппо было три года и он капризничал, требуя еще один шоколадный батончик, которые он так обожал. Она сказала сыну: «Хорошо, Фили, я тебе дам еще одну порцию полдника, но пообещай маме, что больше ты ее не попросишь». Филиппо кивнул в знак согласия, чтобы заключить договор, который в тот трудный момент ребенку, очевидно, казался разумным. Да, если она даст ему еще один шоколадный батончик, он перестанет хныкать. Если бы только, проглотив свой полдник, Филиппо снова не принялся ныть.
Лео был поражен реакцией жены, которая терпеливо повторяла: «Мне это не нравится. Ты же пообещал! Ты пообещал больше не капризничать. Мы заключили договор, который ты сейчас нарушаешь. Я сейчас дам тебе еще один шоколадный батончик, более того — я тебе их дам сколько ты пожелаешь, можешь съесть их все, наешься ими хоть до тошноты, но знай: ты перестал быть честным человеком».
«Ты перестал быть честным человеком!» Сказать такое трехлетнему ребенку, который попросил еще один шоколадный батончик? Это показалось Лео настолько гротескным, что он решил вмешаться: «Дорогая, а это не слишком?»
«Оставь, Лео. Не вмешивайся. Мы заключили договор, а он его сейчас нарушает».
«Да, я знаю, успокойся. Это твой сын, ему всего три года. Он даже не знает, что такое договор. В его возрасте слово „честность“ не имеет никакого смысла. Он действует инстинктивно. Он даже не понял, что пообещал что-то. А если даже понял, то не считает свое обещание препятствием. Не давай ему полдник, если считаешь, что испортишь ему аппетит, но ради бога, не призывай на его голову свои библейские проклятия».
Вот у какой женщины он должен просить денег! Вот у какой женщины он должен просить прощения! Женщины, не способной понять трехлетнего ребенка, который не сдержал свое слово? Проклятье! Рахиль — милая, самая заботливая и услужливая женщина на свете, самая преданная жена. Но если ты допустил ошибку, тебе конец. Если ты не вписываешься в ее представления о морали (которая всего-навсего не что иное, как мелкое ханжество, характерное для дам ее круга, но затрагивающее самые высокие сферы человеческих достоинств: верность, святость данного слова и так далее), увы, если ты не вписываешься в ее представления о морали, выхода нет. Пощады не жди.
Заехав в ворота и припарковав машину в аллее своей виллы, Лео не выходит еще некоторое время, наслаждаясь прохладой кондиционера и мучая себя мыслями о предстоящем разговоре. Затем он входит в дом. Услышав на кухне шум посудомоечной машины, он направляется туда и видит ее там. Она помогает Тельме. Тельма замечает его и вздрагивает, а затем мямлит: «Добрый день, профессор». От Рахили ни слова. Она не оборачивается и даже не вздрагивает. Тогда Лео, стараясь придать своему голосу немного властности и хоть капельку значительности, говорит: «Мне нужно семьдесят миллионов к завтрашнему дню. Для адвоката». Но она никак не реагирует. «Ты слышала, что я сказал?» Конечно, она слышала. И потому что слышала — не ответила.
Так, после ужасной ночи, проведенной в полуподвале напротив двери, которая выходит на лестницу, ведущую к его супружеской спальне рядом с комнатой ребят; после ночи, когда он подумывал о самоубийстве, убийстве, бегстве и еще бог знает о чем; после ночи, когда он только и думал о том, как найти лучший способ вернуть свое место в этом доме, который, по сути, ему и принадлежит, как сделать это, если он не смеет даже повернуть ручку двери, отделяющей его от честной части его жилища; после такой вот ночи, ближе к полудню, он просыпается одетый на раскладном диване. Рядом он обнаруживает чемоданчик, полный банкнот. Он хорошенько пересчитывает их, удостоверяясь, что сумма соответствует той, которая ему нужна. Он еще может спастись.
Постепенно внушительное состояние Понтекорво стало таять под натиском огромных судебных расходов и отсутствия заработка. С интервалом в семь дней Лео оставлял на столе записку о необходимой ему сумме, а на следующий день все на том же столе его неизменно ожидал все тот же чемоданчик с деньгами.
Если в отношении пунктуальной оплаты гонорара и прочих поручений, поступавших от его адвоката-ментора, Лео был скрупулезен, того же нельзя было сказать о запрете читать газеты. И это было действительно странно. Потому что до настоящего момента Лео даже не мог смотреть на них, а значит, избегать их сейчас было бы для него естественным. До этого он интуитивно догадывался, что не знать о происходящем было единственным способом сохранить рассудок. Но не теперь, когда этот естественный механизм самосохранения был регламентирован и установлен властным и четким запретом Эрреры. Вот теперь Лео, подобно новому Адаму, не знал, как устоять перед дьявольским искушением запретного яблока национальной прессы.
Каждое утро после очередной бессонной ночи, при первых проблесках зари он вылезал из своей норы и проскальзывал в гараж, стараясь не потревожить царство своих родных, вход в которое для него был заказан, добирался до газетного киоска (расположенного дальше от того места, куда он ходил обычно, в нескольких километрах на восток от комплекса) и покупал стопку разных газет. Затем он возвращался домой и со смешанным чувством интереса и страдания погружался в эти бумажные клоаки. И хотя его случаю стали уделать меньше внимания, хотя его история скромно переместилась на последние страницы газет, и даже уже не общенациональных, а местных, тем не менее всегда встречалась какая-нибудь статейка по теме.
Лео взял в привычку читать все с большим вниманием, не пропуская ни строчки. Кропотливо, как когда-то он просматривал анализы и истории болезни своих пациентов и писал свои ученые заметки, Лео теперь подчеркивал все неточности журналистов. Кто-то из них назвал его сорокапятилетним римским онкологом. Кто-то кардиологом. Кто-то бесстрашным миланским онкологам. От статьи к статье менялся и возраст Камиллы. Этой мелкой негодяйке могло быть от девяти до четырнадцати лет.
Откапывать эти огрехи, которые вначале повергали его в отчаяние из-за их несправедливости и непристойности, постепенно стало почти развлечением, вроде разгадывания загадок или решения кроссвордов. Он подчеркивал их, вырезал и складывал вырезки в коробочку, чтобы потом с чувством удовлетворения показать Эррере. Он как одержимый занимался исследованием плохо информированной и жестокой прессы, которая не переставала мусолить его историю. Ему казалось, что так он сможет помочь адвокату, который сидел в своем кабинете и занимался его делом, используя иные, более конструктивные механизмы.
Каждый раз Эррера делал ему замечания. Зачем Лео теряет время на всякие глупости? Почему не следует его указаниям? Так все это закончится дурдомом, а не победой в процессе, которым они должны заниматься сообща.
«Отдохни, займись спортом, подумай о другом… Твоя жена не желает больше тебя видеть? Найди себе двадцатилетнюю шлюшку, с которой можно потрахаться. Если хочешь, могу подогнать одну. Расслабься, пожалуйста. Ты должен быть свеженьким, бодрым, готовым, когда будет нужно, вступить в борьбу. Я хочу, чтобы ты был В тонусе. В хорошей физической форме и здоров ментально. Понимаешь, о чем я?»
«Конечно, я тебя понимаю. Но ты только представь себе, эта сволочь пишет, будто я содействовал какой-то фирме друзей или родни, производящей молочную продукцию. Другой называет меня развратником. Третий любителем маленьких девочек, „лолит“.»
«Лео, против тебя никто не выдвинул ни одного серьезного обвинения. Разве что тот вонючий репортер. Но слава богу, процессы устраивают не репортеры!»
«А ты знаешь, сколько человек прочло эту статью? Знаешь, сколько знакомых и незнакомых людей будут считать меня чудовищем, которое сотворило все эти дела?»
«Мне кажется, что ты слегка идеализируешь среднего читателя газет. Большая часть из них едва-едва прочитывает заголовки, еще меньше утруждает себя дойти хотя бы до четвертой строки статьи. Редкие герои, доходящие до конца статьи, тотчас же забывают ее содержание, как только приступают к следующей. И ты тоже должен так делать. Забудь. Забудь всю эту историю. Ты не понимаешь всего этого, потому что это касается твоей жизни, потому что это мучает тебя, и это правильно, и потому что ты не можешь видеть происходящее, как вижу его я. Но твой случай уже выходит из моды. Ты выходишь из моды. А это, уверяю тебя, только сыграет нам на руку. Чем больше я изучаю это дело, тем больше я погружаюсь в твою историю и тем больше понимаю все недоразумения, домыслы, натяжки. В конце концов мы справимся. Я тебе это обещаю. Ты должен думать только о том, что будет с тобой, когда вся эта история закончится. Ты должен подумать о своем здоровье, своей семье, о том, как снова вернуться на беговую дорожку. Тебе наплевать на двадцатилетнюю шлюшку? Тогда постарайся поговорить с Рахилью и сыновьями. Восстанови с ними отношения. Верни их доверие. Если хочешь, я помогу тебе. Я могу поговорить об этом с Рахилью. Я суну ей под нос все неопровержимые доказательства твоей невинности и доверчивости. Я ей по полочкам разложу историю с девчонкой и докажу, что в ней нет ничего криминального, я ей докажу, что эта девчонка буквально манипулировала тобой, шантажировала тебя, доведя до отчаяния…»
«Нет, прошу тебя, умоляю, Эррера, сделаю все, что хочешь. Но не говори ничего Рахили, не трогай ребят…»
«Но почему? Полагаешь, им не будет приятно думать, что их муж и отец не то чудовище, каким его стараются представить?»
«Нет-нет, прошу тебя. Нет. Пообещай, что ты этого не сделаешь».
«Хорошо, хорошо, обещаю, не кипятись. Я ничего не скажу. Но ты не можешь продолжать избегать их. Стыдиться их. Абсолютно. Тебе это говорит человек, чьей профессией является защищать темных спекулянтов, у которых в миллион раз больше причин для стыда, но которые, бог знает почему, не умеют даже краснеть».
Но проповедь Эрреры, как водится, была гласом вопиющего в пустыне. Проблема заключалась в том, что Лео был этой пустыней. По иронии судьбы, одна из причин, по которой Лео решился обратиться к Эррере, было его убеждение, что последний лучше, чем кто-либо, сможет понять чувство стыда, от которого Лео не мог освободиться. Но очевидно, его расчет был неверен. Много изменений произошло не только в его жизни. Но также в жизни Эрреры. Он больше не был презренным карликом тех лет. Сейчас он успешный человек. Благодаря своей мужской харизме, дьявольскому уму и выдающемуся красноречию он заставил мир забыть о своем росте и внешности. И при всей своей догадливости как мог этот успешный и известный адвокат представить себе тот кошмар, в котором жил Лео в последнее время? Ту бездну, в которую он скатывался? Ведь единственная вещь, которая была дозволена ему и которой он посвятил последние дни, — постоянно испытывать стыд.
Как мог себе представить Эррера, что значит осознавать, что твои сыновья невозмутимо наблюдают за тем, как ты становишься на колени перед человеком, который собирается выстрелить в тебя? И при этом понимать, что твои сыновья чувствуют на самом деле. Кроме того, Лео едва ли смог бы объяснить рационально мыслящему человеку, что чем больше тобой овладевает чувство стыда, тем больше ты нуждаешься в нем. Ты раздражаешь его, подобно раненому, который бередит рану, чтобы узнать, насколько сильной может быть боль. Вот зачем требовались все эти бумажки, все эти скрупулезно собранные вырезки из газет: они были нужны, чтобы еще прочнее прикрепиться к чувству стыда, чтобы ни на миг не забывать о нем.
Возможно, Эррера был прав. Он действительно сходит с ума. Но был ли кто-нибудь в их окружении, кто более, чем Лео, имел право на безумие?
Он подумал о фотографии, которую безжалостно воспроизводили в статьях на странице, предшествующей тексту, чтобы подвергнуть еще более суровому испытанию напряженные до предела нервы Лео.
Эта фотография неожиданно появилась в парочке газет, описывающих его случай. Наконец-то у них есть то, что они искали, подумал он в сильном возбуждении. Вот он, их туз в рукаве. Больше не нужно придумывать искусственных улик и других гнусностей. Этой фотографии было более чем достаточно. Она могла бы послужить для рекламного ролика, призывающего уничтожить бактерию Лео Понтекорво, вредную для организма общества.
Лео даже не знал, где они раздобыли эту фотографию. Он уже слышал голос здравомыслящего добряка, коих полон свет, который убеждал его, что ничего страшного в ней нет. На этой фотографии Лео не был голым или одетым в женскую одежду, в двусмысленной ситуации, с оружием в руках или пьяным. С Камиллой или во время вручения одной из многочисленных взяток, в которых его обвиняли. Ничего подобного. Что же ты так кипятишься? — спросил бы его здравомыслящий добряк. — В сущности, на этой фотографии изображен человек, верхом на лошади, ничем не отличающийся от тысяч других господ, занимающихся старомодным конным спортом. Вот именно! — воскликнул Лео с возбуждением в своем внутреннем диалоге с воображаемым здравомыслящим добряком. — Дело именно в этом! Вот в чем секрет! Это и есть удар ниже пояса. Это фотография, обвиняющая, коварная, полная двойных смыслов и намеков.
Он, зная систему изнутри (этот великолепный и безжалостный крематорий), мог догадаться об изобразительной силе подобной фотографии. Силу, которую даже Эррера на этот раз не мог недооценивать. Со своей тонкой интуицией он должен был понять.
«Шутишь? Разве ты не обещал мне, что…»
«Да, я знаю и клянусь, что я сделал это… точнее, я попытался сделать это. Но это не так просто и не очень-то умно игнорировать такие вещи. У меня есть право контролировать, проверять. Ты не можешь уследить за всем, и твои помощники тоже. Знаю, знаю, они целыми днями работают на меня. Но они не все смогут понять в этом деле. Ты ведь согласишься со мной — чтобы понять некоторые вещи, нужны наш ум, наше образование, наш возраст…»
«Спокойно, Лео, спокойно, ничего страшного не происходит. Сейчас я взгляну на эту статью, чтобы ты успокоился…»
«Почему ты говоришь мне, чтобы я успокоился? Я не хочу быть спокойным. Я не могу быть спокойным. Как я могу быть спокойным, пока кое-кто печатает обо мне все эти гнусности?»
«Какие гнусности?»
Итак, Лео снова подсунул ему под нос статью. А Эррера, не теряя контроля над собой, продолжал говорить ему:
«А-а, я ее видел, эту фотографию. Возможно, она не передает тебя во всей красе. Возможно, ты не самый фотогеничный мужчина в мире. Но ради бога, это всего лишь фотография. Фотография по-дурацки одетого мужчины на коне. Я таких фотографий видел миллионы. Достаточно купить журнал „Лошади“, не говоря уже о „Скачках с препятствиями“ или „Укротитель“.»
Но на этот раз цинизм Эрреры не позабавил Лео, эта бьющая ключом ирония не заставила его чувствовать себя как дома в семье. Они вызвали возмущение. Заставили опустить руки. У Лео больше не было никакого желания шутить, он хотел, чтобы его воспринимали серьезно. Он хотел получать серьезные ответы. Он платил слишком много, он почти готов был оставить без средств свою семью, чтобы получить серьезные ответы. А значит, нужно было отвечать ему соответственно.
«Ладно, извини, больше никаких острот. Но клянусь тебе, мой друг, я не понимаю, о чем ты говоришь. Я не могу понять, почему эта фотография более опасна, чем те, которые публиковались до сих пор».
Как такое возможно, что он не понимает? Такой проницательный, искушенный, тонко чувствующий человек не понимает? Наверное, чтобы понять некоторые вещи, нужно полностью погрузиться в дело. Все в этой жизни имеет свой смысл. Вся эта трагедия имеет смысл. Неужели ты, Эррера, этого не понимаешь?
Лео действительно хотел бы верить в это. Но он не знал, как убедить своего адвоката, что эта фотография имеет тот пресловутый смысл. Итак, он постарался успокоиться. Или, лучше сказать, изобразить спокойствие:
«Ты уверен, что ни к чему заставлять их убрать эту фотографию? Выбросить ее. Не знаю, обвинить их всех в клевете».
«Видишь? Я не понимаю, отчего ты сходишь с ума. Что с тобой? Ты теряешь самообладание. Повторяю, это просто фотография. Достаточно не смотреть на нее. Достаточно не покупать газет и не включать телевизор. Это единственное лекарство против паранойи».
«Теперь ты считаешь меня параноиком? При чем здесь паранойя? Я параноик только потому, что отдаю себе отчет в том, что происходит, что дотошно отмечаю это. Все, что со мной произошло, тебе кажется паранойей? Ты хоть представляешь, что я переживаю? Насколько я чувствую себя одиноким? Я превратился в какого-то червя. Отверженного. Никто больше не хочет обращаться ко мне. Помнишь про конференцию в Базеле, на которую меня пригласили? Так вот: вчера какая-то тетка, какая-то дура оставила мне на автоответчике сообщение. Она говорила таким официальным голосом… И знаешь, что именно она сообщила?»
«Откуда я знаю? Что перенесли кофе-брейк?»
«Что в последний момент они были вынуждены отменить конференцию. Что им жаль, что они не знают, как такое могло получиться, что ввиду непредвиденных обстоятельств… и прочая швейцарская тягомотина…»
«И?..»
«И что?»
«В чем мораль сей басни?»
«Мораль в том, что меня выставили вон. Мораль в том, что в последнее время все только и делают, что выставляют меня вон. Включая швейцарцев. И знаешь, почему они только сейчас решили дать мне от ворот поворот?»
«Почему?»
«Но это же ясно как божий день! Потому что они увидели фотографию! Подумай об этом, Эррера! Я только и думаю об этом со вчерашнего вечера, и все выходит очень даже логично. Эта паршивая газетенка выходит и в Базеле, верно? Точно выходит, я специально узнавал. Очевидно, она попала в руки какого-нибудь наглого бюрократа. Он показал ее комитету. И только тогда комитет решил. Эта фотография их убедила. Так и вижу их всех в кружке, как они рассматривают ее, комментируют, обсуждают… Все вижу».
«А ты не думаешь, что тебя вычеркнули из списков участников конференции за то, что с тобой случилось в последние месяцы? Когда ты мне об этом говорил, ты сам был удивлен, что тебя не лишили с какой-нибудь отговоркой приглашения. И теперь вот: они это сделали».
«Да, но почему именно сейчас?»
«Потому что они вернулись из отпусков. Потому что конференция приближается. Потому что они только сейчас вспомнили про тебя. Откуда я могу знать? И вообще, какая тебе разница? Неужели ты думаешь, что на кого-то из оргкомитета снизошло откровение после того, как он случайно наткнулся на эту фотографию? И только тогда он решил отозвать твое приглашение? Ты мне об этом сейчас толкуешь? Это твое гениальное предположение?»
«Точно»
«М-да, дорогой мой друг… У тебя поехала крыша. Говорил я тебе не читать это дерьмо. От этого дерьма у тебя разжижаются мозги. Ты не первый, кого я вижу дошедшим до ручки. Ты перестал соображать. Повторяю: ты не первый, кого я вижу в таком состоянии. Я знал, что это может случиться. Хорошо, предоставь заниматься твоим делом человеку, который твердо стоит на земле: что бы тебе там ни казалось, эта фотография не говорит о тебе более того, что может сказать любая другая фотография. Да, на ней ты запечатлен в тот момент, когда занимаешься спортом. Возможно, этот вид спорта не самый популярный, более того, скажем так, он отдает некоторым снобизмом. Разве что это может разозлить кого-нибудь. Какого-нибудь провинциала, популиста. Возможно, какая-нибудь консьержка скажет какому-нибудь посыльному мясника: „Глянь-ка на этого вонючего педофила, этого вора, этого взяточника, этого жида со всеми его миллионами! Готова поспорить, что для прогулок на лошади он одевается, как английский сэр на охоту за лисами!“ Да, не отрицаю. Такое может случиться. Но из-за этого говорить, учитывая все то, что с тобой происходит, будто эта фотография — хитроумная уловка, чтобы окончательно уничтожить тебя…»
Неужели Эррера, умный Эррера, не понимал? То, что ему казалось очевидным. Или все же он понимал. Понимал и хотел представить его сумасшедшим. Ну конечно: он больше не мой друг и союзник. Ведь это он в свое время порвал со мной. Ведь это он решил, что не хочет больше со мной общаться. Мой рост, моя внешность, моя привлекательность, мое красноречие приводили его в отчаяние. Ставили его в трудное положение. Унижали его. Этот тип ненавидит меня с детских лет. Как я мог довериться ему? Как я мог вручить ему свою жизнь и все, что от нее осталось, если когда-то то, что я считал дружбой, для него было враждой? То, что я считал привязанностью, для него было завистью? Он обманом заманил меня в ловушку. Он тянет из меня деньги. А сейчас он добился первого ряда в партере, чтобы наслаждаться зрелищем моего краха. Он дождаться не мог, чтобы увидеть меня в таком жалком состоянии и полностью насладиться реваншем.
За что все это? За глупость, которую я по пьяни сболтнул Валерии, или как там ее звали? Если бы он только объяснил, что испытывал. Но он ничего не сказал. Он был горд. Он никогда не желал открывать, что у него на душе. Только в конце, когда положение стало невыносимым, он пинком выгнал меня из своей жизни. Вот так, без предупреждения, жестоко и преднамеренно. И с тех пор он ждет меня в засаде. Никогда не недооценивай проклятую обиду карликов! Чему я удивляюсь? Он ведь всегда был таким: медоточивым и двусмысленным. А теперь пришло время заставить меня заплатить по счетам. Этот вшивый адвокатишка, у которого шерсть на брюхе длиннее, чем он сам, делает вид, что помогает мне, что он понимает меня, в то время как на самом деле топит меня.
Лео вдруг осенило.
«Ты помнишь вопросы, которые ты задавал раввину Перудже по поводу иконоборчества у евреев? И ты помнишь его ответ?»
Эта фраза сорвалась у него с губ, прежде чем он понял почему.
«При чем здесь иконоборчество у евреев?»
«Перестань! Не смотри на меня так, не обращайся со мной как с психом, я совершенно здоров. Ты его помнишь или нет? Конечно, ты его помнишь, но не хочешь признаться мне. Кстати, каждый раз, когда ты спорил с раввином, я смотрел на тебя с восхищением. Возможно, я этого особо не показывал, но я был в восторге. Твоя убедительность, твоя любовь ко всему необычному, способность выступать против замшелых предрассудков…»
«Хорошо, хорошо. Благодарю тебя. Я согласен, было забавно подшучивать над тем дуралеем, подвергать сомнению его каменные убеждения, но не понимаю, как это все связано с фотографией и нашим делом… и я не помню никакого вопроса раввину и никакого ответа на мой вопрос».
Но в тот момент Лео больше не желал ничего объяснять другу. Ни напоминать, что спросил много лет назад безбородый Эррера у раввина Перуджи, ни то, что тот ему ответил. Этот обмен репликами между молодым заикающимся раввином и тринадцатилетним карликом вдруг показался Лео настолько глубоким и пророческим, что рассказывать об этом было бы почти святотатством.
Сейчас Лео был как бы в трансе, погрузившись в воспоминания: длинные, скучные уроки раввина Перуджи в полуподвале главного храма, которые он посещал с небольшой группкой ребят каждое воскресенье. Он помнил мельчайшую деталь. Игры в мяч перед пространными погружениями в религиозные таинства, во время которых Эррера давал волю всей своей неукротимой воинственности. Он вспоминал о тех матчах, во время которых еврейские мальчики с улицы имели единственную возможность встретиться с еврейскими мальчиками из хороших семей и разгромить их. А также о танцах после уроков, большая часть которых происходила в доме Понтекорво. О вечеринках, на которые Эррера не ходил из-за робости или гордости или чтобы не испортить их своим присутствием.
Как это возможно, чтобы Эррера не помнил того утра тридцать пять лет назад, когда он, за несколько дней до их обряда инициации, именно он, Эррера, спросил у раввина, почему Бог запретил евреям изображения? Почему это мрачное и капризное существо, с которым Эррера имел особые счеты, запретил своему народу изображать его? Католики всегда рисовали своего доброго Иисуса, прекрасного и живого, а нам нельзя было нарисовать даже какого-нибудь святого. Почему? Почему?
Типичный вопрос для Эрреры-подростка. Типичное для его лет праздное любопытство. Придирчивость, интеллектуальный эксгибиционизм, которые должны были компенсировать физические недостатки. И в то же самое время вызов всему вокруг. Все это вызывало в других сверстниках (а прежде всего в девочках) чувство недоверчивого непонимания, которое сочеталось с тем чувством неприязни, которое пробуждало у всех его тело.
Почему этот ужасный карлик так интересовался подобными вещами? Какая ему разница, почему Богу не угодно, чтобы его изображали, если через несколько часов они окажутся в доме у Понтекорво и будут танцевать под музыку свеженьких дисков, только что доставленных из Америки? Как мог тринадцатилетний мальчик предпочитать напыщенные вопросы Гленну Миллеру, Колу Портеру, Бингу Кросби? Если всех остальных силком вытаскивали из кроватей воскресным утром ради этих дополнительных занятий, уготованных исключительно для еврейских детей, и им было наплевать, что скажет раввин по поводу Бога и его капризов, почему же Эрреру это так занимало? Почему этот столь некрасивый и робкий мальчик становился воинственным и энергичным только во время футбольных матчей или в спорах с раввином Перуджей?
Интересно, насколько словесная дерзость Эрреры оставалась непонятной его ровесникам, настолько она нравилась раввину, который говорил ему:
«С такой головой ты должен быть раввином!» А в ответ он слышал от этого развитого не по годам тринадцатилетнего подростка: «Напротив, боюсь, что вы, Рав, возлагаете слишком большие надежды на закон Моисея, чтобы быть адвокатом».
Возлагает слишком большие надежды? Да ладно, разве так говорят тринадцатилетние? И тем не менее Эррера говорил именно так. Как по писаному.
Итак, в тот раз коварное красноречие, которое Эррера в последующие годы поставит на службу своим клиентам и использует для увеличения своего счета в банке, красноречие, одинаково убеждающее раввинов в непоследовательности Предвечного Отца, было направлено на вопрос об образах. Почему Бог не хотел, чтобы его изображали? Эррера не понимал этого. И кто знает, почему Лео — хоть и принадлежал к категории зевающих лентяев, которые во время уроков то и дело поглядывают на часы в надежде, что пытка скоро закончится, — отлично помнил как первый весьма ироничный ответ раввина: «Ну, Бедный Старик не так уж тщеславен, как говорят», так и второй, более торжественный: «Возможно, потому что Господь хочет научить нас тому, что изображения не всегда передают истинное». При воспоминании о втором ответе у Лео мурашки побежали по спине. Он почти возликовал. Как будто эти слова объясняли, как обстоят дела. Причину всего. Он был доволен, что раввин поставил шах своему лучшему ученику и что тому же самому ученику, ставшему уже знаменитым адвокатом, снова может быть поставлен шах все той же одной-единственной фразой. Да, старый добрый раввин, скажи этому нахалу, как все устроено в этой жизни. Скажи ему единственную разумную в моей ситуации вещь: изображения не всегда передают истинное.
Так Лео решился повторить, тридцать пять лет спустя, эту фразу тому, кто ему напомнил о ней: «Ты помнишь, Эррера? Изображения не всегда передают истинное. Ты это помнишь, Эррера? Прошу тебя, скажи мне, что ты это помнишь!»
«Лео, успокойся, я не знаю, о чем ты говоришь. Боюсь, что ты сходишь с ума!»
«Ну да! Какой отличный ответ! Я только сейчас это понимаю! Глядя на фотографию, я это понимаю. Я понимаю, что фотографии лгут. Фотографии — это настоящая проблема, понимаешь? При помощи фотографий эти ублюдки портят тебе жизнь. И в тот вечер, когда передавали новости по телевидению. За ведущим была фотография. Когда я услышал, что говорят обо мне, не веря своим ушам, я уставился в экран. И увидел себя там, рядом с тем типом. Это был я и не я. На той фотографии был изображен я, но на ней не было ничего от меня. Вся проблема в фотографиях. Фотографии способны принести несчастье. Это из-за некоторых фотографий твоя жена перестает разговаривать с тобой, а твои сыновья больше не желают тебя видеть, а ты скрываешься в подвале, как сумасшедший или вор. Из-за таких вот фотографий я испытываю стыд. Скажи мне, что ты меня понимаешь. Скажи мне, что ты тоже видишь, что они со мной сделали. Что со мной делают».
«Да, я вижу, прекрасно это вижу, Лео. А теперь успокойся. Присядь сюда и успокойся. Увидишь, мы заставим их расплатиться за все. Они возьмут назад свои слова».
«Нет! Ты не понимаешь! Я хочу, чтобы ты сказал, что и в тебе эта фотография вызывает такой же страх, как и у меня. Мистификация, искажение, обман. Вот их орудия…»
Хотя Лео говорил экзальтированным тоном, хотя его восприятие действительности отчасти не соответствовало реальности, нельзя было отрицать, что эта напыщенная фотография немножко лгала. Что было особенно обманчивым на этой фотографии, которую Рахиль оправила в рамочку и держала на столике у входа (кто только мог взять ее оттуда и передать ненасытным гиенам?), подальше от нескромных глаз, фотографии, которая стояла там, напоминая Лео о том, чего он больше никогда не должен делать? Фотографии, на которой Лео был изображен с безупречной выправкой профессионального ездока верхом на гнедом коне с черной гривой, голенями и хвостом и твердо сжимающим поводья.
Среди тысячи фотографий, сделанных в середине его жизненного пути, не было более неподходящей, чтобы воспроизвести человека с хорошим вкусом и исключительной самоиронией. Но кто бы мог объяснить рассеянным пожирателям газетных статей и телепередач, что этот всадник даже если и виновен в чем-то, то вовсе не в том, о чем заставляла подумать фотография.
Это Рахиль запечатлела его прошлой весной в манеже Ольджаты, когда Лео решил, спустя несколько лет бездействия и по совету знакомого диетолога, взять несколько уроков верховой езды. Уступив тщеславию новичка, скрывающего невежество правильностью снаряжения, он приобрел облегающие штаны кремового цвета, коричневые кожаные сапоги и, главное, смешной жакет в клеточку. Всякий, кто разбирается в верховой езде, увидел бы в посадке Лео признаки неопытности: пятки высоко задраны, спина изогнута, напряженность. Но сколько вокруг экспертов в верховой езде? Парочка снобов и лошадников, которые и газет-то, наверное, не читают, и телевизора не смотрят, так как предпочитают им свежий воздух.
Эта фотография должна была возбуждать в людях совсем противоположное чувство: подозрение в немалой самоуверенности, подозрение, легко перерождающееся в агрессивность и негодование. Именно от такого типа, который позирует сегодня, разодевшись, как лорд Бруммель, который не замечает, как он смешон, изображая из себя конный памятник, ты ждешь болезненных и жалких преступлений. Только такой придурок в бабских штанишках может бороться с кризисом среднего возраста, в отличие от других сверстников его круга, не приобретая эксклюзивный автомобиль или трахая инструкторшу по аэробике своей жены, а избрав дорожку коррупции, ростовщичества, педофилии…
И всем наплевать, что эта фотография не передает твоей сути. Более того, эта фотография как бы зеркальное отражение всего того, чем ты так безумно стремился казаться. Эта фотография более живая. Она более настоящая, чем ты сам. Более однозначная, чем любой приговор, более убедительная, чем любой тест, более обстоятельная, чем любая экспертиза или свидетельство. Эта фотография и есть ты, как тебя воспринимают другие. Поэтому она так волнует. Поэтому она столь могущественна. Столь жестока. Потому что она говорит миру то, что он хочет слышать: никто не ассоциируется лучше с пороком тщеславия, чем запечатленный на ней человек.
Их было четверо. Люди в форме, нарушившие покой его кабинета на цокольном этаже. Это случилось ранним утром ближе к концу сентября. Они повели себя деликатно и благопристойно. Прежде чем войти, они постучали в дверь, ожидая, что кто-нибудь проявит признаки жизни. Лео, чей сон был очень чуток, вскочил, услышав шум останавливающихся у дома машин, голоса приближающихся полицейских и домофон, затем звонок и раздражающее шарканье ног над головой, когда кто-то постучал в его дверь.
Кто это мог быть? Кто осмеливается стучать в дверь проклятого отшельника? Рахиль? Сыновья? Тельма? Может быть, сантехник? Почему нет? Может быть, не только в бачке его унитаза закончилась вода? Это могло случиться во всем доме. И вероятно, рачительная Рахиль, которая продолжала заботиться о нем, послала сантехника, чтобы тот решил проблему также здесь внизу…
Кто бы то ни был, Лео предпочел не отвечать. Он сделал вид, что ничего не слышит. Ему не удалось справиться с волнением, которое в нем вызвала идея вторжения кого бы то ни было. Он едва совладал с желанием спрятаться за диваном с цветной набивкой, который уже долгое время служил ему ложем. В сущности, за дверью мог быть кто угодно. Лео не удивился бы ничему. Даже группе громил с палками, которые пришли задать ему трепку. Или отцу Камиллы, который наконец решился… Но не опасение за свою жизнь удерживало его от ответа, а скорее внезапная стыдливость. Страх услышать собственный голос. Правда, когда он приходил в кабинет Эрреры, он говорил, и как говорил! Но как только он оказывался дома, в своем бункере, даже идея произнести хоть слово казалась ему святотатством.
Постучав более настойчиво в дверь, полицейские, потеряв терпение, вошли.
Как ни странно, их вид подействовал на Лео успокаивающе. Продолжая молчать, он с мелодраматичным жестом протянул им руки, чтобы полицейские надели на них наручники. Но один из них, совсем еще мальчик (он должен быть на пару лет старше Филиппо), сказал: «Профессор, не нужно».
Удивление Лео при виде этих мальчишек в форме было не меньше удивления самих полицейских, которые воочию убедились, что человек, стоящий перед ними, существенно отличается от того, которого они видели в газетах или по телевизору.
Стремительное падение в водоворот, уготованный ему судьбой, отобразилось на его внешнем виде: похудение и преждевременная седина в его шевелюре резко изменили его облик. Потом, что-то, должно быть, случилось с пигментацией: здоровый медный цвет его кожи приобрел синевато-серый оттенок, а кожный покров, особенно на руках, покрылся коричневатыми пятнышками, которые характерны для более почтенных лет.
Но особенно бросалась в глаза другая метаморфоза, более радикальная, которая касалась его характера и проявилась в его очередном публичном выступлении во время утреннего рейда полицейских, явившихся с ордером на арест. Лео продемонстрировал необычайную покорность, как будто он стремился доказать этой четверке недоверчивых ребят и самому себе, что было достаточно нескольких месяцев, чтобы искоренить в нем малейший след высокомерия и спеси.
Вот уже два месяца подряд он не спал с Рахилью и не видел сыновей, разве что случайно из высоких и узких окон цокольного этажа. Два месяца он не появлялся в Санта-Кристине. Ни с кем не говорил по телефону, кроме Эрреры или какого-нибудь запоздавшего любителя совать нос в не свои дела или настойчивого и безумного анонима с угрозами. Он избавил своих родных от своего докучливого присутствия, как осторожный и скромный Грегор Замза… Поэтому естественно, что он готов был принять любое живое существо, которое постучалось бы в его дверь, но также, что он мог и испугаться.
Возможно, из-за долгого уединения, неожиданности вторжения, головной боли и ужасной усталости, а может быть, потому, что, кроме прочего, спустя полтора месяца он уже стал терять доверие к чудесным способностям Эрреры, Лео проявил странную гостеприимность к тем, кто пришел арестовать его, к тем, кто стоит здесь с наручниками за поясом и готов увести его бог знает куда. Это моя новая семья, думает Лео с волнением. Вот почему он так церемонен. Возможно, он был бы благодарен любому, кто пришел бы освободить его от этого домашнего кошмара. В сущности, до этого он тоже жил как под арестом. Лео был бы благодарен даже тому типу, который названивал ему с угрозой убить его и помочиться на его труп. Он был бы признателен даже тому психу, который говорил ему фразы вроде: «Ты развлекаешься с маленькими девочками, правда? Тебе весело с ними? Но Бог видит такие дела, и я тоже их вижу. Профессор, молись, чтобы Бог призвал тебя раньше, чем ты попадешь в мои руки…» Все что угодно, включая слова этого маньяка, было лучше, чем молчание, которое мучило его больше, чем полное отсутствие близкого контакта с людьми (гладкое бедро Рахили! Боже, существовало ли оно вообще?); все было лучше тяжелых, как цемент, гнетущих мыслей и внезапных прояснений сознания, во время которых он осознавал всю безысходность своего положения. Если бы кто-нибудь из знакомых увидел Лео в тот момент, во время ареста в окружении ребят в форме, он бы вытаращил глаза, глядя на такую покорность, постепенно переходящую в волнение.
Куда подевалась пресловутая надменность Лео Понтекорво, с которой он всегда взирал на ближнего своего, с тех пор, как был первым учеником на курсах профессора Мейера? Откуда взялось подхалимство, с которым он простирался перед своими тюремщиками? Достаточно два месяца изоляции от общества, чтобы превратить великого человека в боязливое и скулящее существо.
Увы, поверьте мне, нужно гораздо меньше времени! С другой стороны, полицейские тоже оказались слишком мягкими. После того как они избавили его от унижения быть закованным в наручники, парень, самый неопытный, очевидно проигнорировав протокол и гнев вышестоящих, прошептал Лео: «Профессор, вы, возможно, не помните, но вы лечили дочь моего брата…» По тону молодого полицейского можно было догадаться, что дочь его брата сейчас пребывала в полном здравии. Она принадлежала к списку успешно исцелившихся пациентов, некоторые из которых ежегодно посещали Лео, чтобы выразить ему свою признательность.
Достаточно неуместная интимность, которая заставила более старшего вмешаться: «Послушайте, профессор, не хочу вас торопить, но вам было бы лучше взять с собой какие-нибудь личные вещи. Возможно, по крайней мере, сегодня ночью… да… в общем. Вы понимаете…»
А чего здесь непонятного, в сущности?
Стена, которая отделяет твою прекрасную супружескую спальню от тюремной камеры, в которую тебя в любой момент могут бросить, гораздо тоньше, чем тебе позволяла представить в свое время твоя предполагаемая социальная стабильность. Это ты должен был понять? Что ж, не нужно больших мозгов, чтобы это понять.
Лео позволил вывести себя из помещения так, как будто он не знал дома, в котором жил столько лет и который стоил ему немалых денег. Он испытал облегчение от того, что на длинном пути от комнаты в цокольном этаже до выхода ему никто не встретился. Вероятно, Рахиль позаботилась о том, чтобы во время ареста не было ни одной живой души. Она избавила от унижения его или саму себя и сыновей. Все прошло гладко. Когда Лео вышел на свежий воздух, в сад, стоял ясный солнечный день, какие бывают в конце сентября. Пахло свежескошенной травой. Утренний абрикосовый свет напоминал зарю в Иерусалиме: рассеянный желтый сентябрьский свет. На горизонте несколько редких белых облачков приняли форму акулы с полураскрытой пастью, готовой броситься на жертву.
Те сентябрьские дни. Он всегда их любил. Когда все в доме приходило в движение. Лео, утомленный августовской жарой, обычно приезжал с моря и возвращался на работу. Рахиль снова становилась полновластной хозяйкой дома. Филиппо и Сэми возвращались в школу. Было что-то трогательное и успокаивающее в этом вечном возвращении. Перед тем как сесть в машину и отправиться в больницу, Лео доходил до бара рядом с северным входом в комплекс, который ребята называли «дырой». Он брал себе кофе и газеты. И свежевыпеченные круассаны для Рахили и Тельмы.
Те сентябрьские дни. За несколько дней до этого наступал период, когда Рахиль занималась сбором сыновей в школу. Она ходила в канцтовары и большие магазины и покупала пеналы, тетрадки, дневники, рюкзачки. Эта традиции была особенно дорога Рахили, и она даже заразила этим сыновей. В течение всех пяти лет элементарной (или, как ее называл Сэми, «лементарной») школы, прежде чем его потребительские желания переключились на одежду, Сэми каждый год обязательно спрашивал у матери: «Ты мне купишь пенал с компасом и увеличительными стеклами?»
Она отвечала: «Посмотрим».
А он: «Посмотрим — это да или нет?»
«Посмотрим значит посмотрим».
Рахиль должна была сдерживаться, чтобы не накупить ребятам все, что они хотели. В ней был жив страх, как бы экипировка ее сыновей не оказалась хуже, чем у их одноклассников. Для Рахили школа была очень важна. В отличие от мужа она всегда любила школу. Она была примерной ученицей. Для нее школа представляла собой настоящее поприще, здесь она переставала чувствовать убожество домашней обстановки. Для Лео нет. Ему школа виделась скорее помехой. Вставать на рассвете — какая мука. Он принадлежал к категории сов, которые просыпаются не раньше полудня. И если Лео было за что благодарить небо — так это за то, что рано или поздно школа заканчивалась и он наконец был избавлен от нездоровой привычки вставать ни свет ни заря. Этот мягкий и ласковый свет сентябрьского утра должен был быть таким же, как свет в те утренние часы, когда его мать проскальзывала в его комнату, открывала жалюзи, ставила на тумбочку кофе с молоком, осторожно извлекала из-под одеяла его мягкие и распаренные ото сна ножки и надевала на них носки. Невыразимо нежный жест, который тем не менее предшествовал неумолимому пробуждению.
Лео, пока агенты полиции выводили его из калитки и усаживали в машину, спросил себя, нашла ли Рахиль в этом году сил, чтобы пойти с сыновьями покупать новые школьные принадлежности. Возможно, нет. Да и сыновья уже стали слишком взрослыми для определенных развлечений. И потом, разве могло все случившееся не отобразиться на повседневных привычках этой семьи? Лео уже не знал, на что надеяться. Он не знал, хотелось ли ему, чтобы произошедшее оставило свой след на всем, или лучше чтобы оно не оставило никакого следа. Свой след на сыновьях. Вот что представлялось самым ужасным. Он боялся даже спрашивать себя об этом. Его сыновья оставались для него страшной тайной. Они всегда были для него загадкой. И никогда не перестанут быть ею.
Хотя он жил всего лишь этажом ниже, Лео не представлял, что происходит в его семье. Он старался ничего не спрашивать у Эрреры или кого бы то ни было еще, а также не предпринимал ни малейших попыток примириться с женой. Время примирений закончилось. А ведь это она всегда делала первый шаг.
Оказавшись в одной из полицейских машин, которые пахли яблоками и луком, Лео почувствовал спад нервного напряжения, как будто его увозили подальше от кошмара.
Двадцать квадратных метров душного и влажного полумрака, куда его бросили, явно переполнены. И явно не соответствуют джентльмену его положения. Пахнет мочой, потом, протекающими трубами, ржавчиной, мокрой псиной и чем-то еще, трудно идентифицируемым. Все здесь говорит о том, что это всего лишь остановка на опасном пути в неизвестность, в который Лео был вынужден отправиться. Ему вся эта грязь и вся эта суета напомнили приемный покой больницы. Да, определенно, это место, куда привозят новых поступивших, перед тем как… перед тем как что?
Здесь должна быть какая-то ошибка. Лео помнит, что Эррера говорил ему, будто в камеру не помещают людей разных классов. Или нет? Может быть, он ничего такого ему не говорил. Может быть, Лео это все выдумал. Прибегнув к классовой теории как к последней надежде. А ты как думал, дорогой мой? Что тебя поместят в одну камеру с каким-нибудь академиком, страдающим клептоманией? С порочной баронессой? С доктором Менгелем или Сильвио Пеллико? Чего ты ожидал? Что для профессоров твоей категории, синьора с такими хорошими манерами, как у тебя, будет оборудована специальная ВИП-зона, как в аэропортах? Может быть, еще пожелаешь хорошую сигару и коньяк давней выдержки?
Нет, здесь особенно не церемонились. Да и разве должны были? Правосудие слепо (и несправедливый суд тоже). Они притащили его сюда, в тесную конуру с подозрительными и буйными типами, которые, слава богу, пока заняты своими делами. Лео было достаточно одного беглого взгляда, чтобы понять, что большинство здесь одето в майки, все остальное, как он себе и воображал: небритые днями бороды, татуировки, курчавые волосы, проколы в ушах, из которых вынули серьгу. Особая эстетика преступного мира. Банальный образ преступника. Когда Лео вошел, на него устремились рассеянные взгляды дюжины темных глаз. Поведение этих мошенников — как мог понять Лео (вот уже несколько часов он не отрывает свой зад от сального матраса, валяющегося на полу среди других таких же громоздких матрасов, которые невозможно обойти, чтобы не споткнуться) — вызвано скорее безразличием, чем застенчивостью.
Почему Лео здесь? Ему не объяснили. Да и он сам не осмелился спросить об этом. Даже у самого молодого и самого любезного полицейского, который, увы, испарился раньше своих коллег. Когда агенты уголовной полиции передавали его тюремному охраннику, Лео попытался было спросить у последнего, на каком основании он здесь оказался. Но взглянув на него, Лео отказался от этой идеи. Взмокший от пота человечек с ослабленным галстуком и фуражкой набекрень. Мускулистые руки, подрумяненные солнцем, но только до коротких рукавов рубашки, выше которых просвечивала белизна. Он явно был не тем, у которого стоило спрашивать, что происходит с профессором Понтекорво.
Итак, к кому же обратиться? Мозг Лео вот-вот взорвется от всех этих вопросов. Ужасно, когда у тебя столько вопросов и когда тебя окружает столько людей, но спросить не у кого.
Почему они пришли за ним именно сегодня, а не в июле, когда все началось? Что изменилось за это время? Почему именно в пятницу на рассвете? Перед выходными. Войдя на территорию тюрьмы, окруженную массивными, как бастионы, стенами, Лео почувствовал легкую дрожь, с ним случился небольшой приступ клаустрофобии. А ведь атмосфера здесь более расслабляющая, чем человек, подобный ему, мог себе представить. Атмосфера отпуска, как будто время внутри этих стен замерло в вечном болоте августа. Если хорошенько подумать, атмосфера, не сильно отличающаяся от той, которая ощущается обычно в сентябре по пятницам в университете или больнице. Дни еще длинные и теплые. Почему бы не воспользоваться ими? Люди еще ездят на море. Да, последние выходные на пляже. И в этом нет ничего дурного. Но зачем было тащить его сюда именно сегодня? Почему нельзя было прийти за ним в понедельник? Лео умирает от желания задать кому-нибудь этот вопрос. Его новые соседи явно более подкованы в таких делах. Но он не осмеливается обратиться к ним. Еще бы, он не дерзает даже взглянуть на них. Единственное, о чем Лео вспомнил, прежде чем его бросили сюда, — это попросить у своего мрачного надзирателя связаться с его адвокатом. Хотя бы на этот раз он последовал указаниям Эрреры.
«Если за тобой придут, — неоднократно повторял Эррера, — постарайся связаться со мной как можно раньше. Даже в четыре утра, если будет необходимо. Ты и так знаешь, что я не могу спать больше трех-четырех часов ночью. Конечно, это сомнительно. Мне кажется маловероятным, что тебя сейчас арестуют. Как я уже тебе говорил, если бы они захотели это сделать, они бы уже сделали это. Ты не обычный преступник. Ты никогда не был под следствием. Ты не можешь снова совершить преступления, и тебе нет никакой выгоды сбегать… следовательно…»
Следовательно, нерушимые логические построения Эрреры рухнули перед голой правдой фактов. По правде говоря, Эррера ему также сказал, что «предварительное заключение» (он так его и назвал) могло быть оправдано только при сборе еще более неопровержимых доказательств или при совершении нового, более тяжкого преступления.
Дело в этом? На его голову свалилось еще одно безумное обвинение? Почему нет? От всех этих людишек, которые просто чувствовали насущную потребность обвинить его в чем-нибудь, можно было ожидать очередной клеветы.
А правда заключается в том, что ответы, которые так ищет Лео, лежат в правом кармане его брюк. Именно туда он положил копию ордера, которую ему вручили в утро ареста. Там все написано. Там есть объяснение, почему его привели в это место.
Но что-то мешает ему опустить руку в карман и пробежать глазами копии листков. Он предпочитает не знать. Он чувствует себя на грани нервного напряжения, достаточно одной запятой, поставленной не в том месте, чтобы нарушить это хрупкое равновесие и заставить его скатиться в бездну. Поэтому никаких листков, и да будет благословенно неведение.
Ясно одно: Лео находится здесь уже несколько часов, а от Эрреры — никаких вестей. Может быть, ему не сообщили. А может быть, и сообщили, только он, непонятно по какой причине, не торопится. Может быть, ему сообщили и он приходил, но ему не позволяют увидеться с Лео. Или, может быть, ему сообщили и он пришел и уже работает над тем, чтобы вытащить Лео отсюда. Возможно, этот старый левантинец торгуется с судьей.
Именно с судьей. Интересно, кто этот судья? С тех пор как все это началось, Лео с трудом мог представить людей, которые затеяли все это дело. Ему всегда это казалось невероятным, — но тот, кто творил ему столько зла, мог быть обыкновенным человеком, как многие другие, что у него могли быть жена, дети, собака, кредит.
Один из полицейских упомянул судью, наделив его эпитетом «доктор». Кто знает, с сарказмом или уважением?
«Доктор пришел?» — спросил он, вручая своему коллеге-надзирателю досье по делу Лео Понтекорво. Именно тогда Лео прочел свое имя, напечатанное на папке, которой обменивались полицейские. Вот чем он стал: досье. Трудно было придумать что-либо, что лучше описывало его положение на настоящий момент, чем эти бумажки. Неплохо для человека, который всю свою жизнь сознательно держался подальше от бюрократических ухищрений. В общем, когда один тип спросил у другого, пришел ли «доктор», последовал достаточно уклончивый ответ: «Не знаю даже, придет ли он сегодня вообще».
Он не знает, придет ли он вообще сегодня? Как можно такое сказать? Как это он не знает, придет ли сегодня судья? Есть вероятность, что он не придет до понедельника? Или вообще не придет до тех пор, пока не сочтет нужным представиться? А это значит, что Лео должен будет сидеть бог знает сколько времени на этом матрасе (кстати, его мучает ужасная жажда). Он должен будет сидеть здесь и смотреть на загаженный пол камеры, в которую временно помещают задержанных, ожидающих, пока не будут соблюдены все формальности, необходимые для их перевода в место постоянного заключения.
(Да уж, «временно» — самое неопределенное из всех наречий.)
Сколько сейчас времени? Лео не знает. На входе, вместе с другими личными принадлежностями, у него отобрали часы. Судя по тому, что жара ослабла, и по вечернему свету, который просачивается в высокие зарешеченные окна, должно было пройти около восьми часов. Лео заточен здесь уже столько времени с кучей народа вокруг. И он еще ни с кем не обмолвился ни словом. Это настоящий рекорд. Ведь Лео принадлежит к тому типу людей, которые, совершая длительное путешествие на поезде или самолете, в конце концов начинают докучать соседу какой-нибудь стандартной фразой вроде «Мы вошли в зону турбулентности» или «Вы не знаете, во сколько поезд прибывает в Милан?». Но каковы должны быть условные вопросы к соседу по камере? Сколько человек ты убил? Сколько старушек ты обобрал в прошлые выходные? Что-то в этом роде?.. Лучше помолчать. Продолжать заниматься своими делами. Ждать. Что-то произойдет, что-то должно произойти.
И на самом деле что-то происходит.
Лео настораживает шум в левом углу камеры. Он поднимает глаза и кого-то узнает. Что, учитывая обстановку кажется невероятным.
Это правда он? Ты так счастлив, увидев его. Ну да, это он, боже мой, это тип, которого ловят в начале каждого учебного года, когда он мастурбирует в аудиториях, переполненных молодыми сонными первокурсницами. Неужели тебя упекли в тюрьму за такое жалкое извращение? Или, может быть, это отдел для «людей, нарушающих общепринятые социальные нормы»? Или, может быть, они знают, да, они определенно знают, кто этот тип, его незначительную, но особую роль в твоей предыдущей жизни! Программа перевоспитания включает также эту дьявольскую месть? Лео узнал его по осторожной манере сидеть. Он увидел его забившимся в свой уголок, почти незаметного, призрачного, и узнал его. Если твое основное занятие — мастурбировать в аудиториях, переполненных студентками, естественно, что со временем ты приобретешь определенную осмотрительность. Изящность манер. Ведь даже для публичного онанизма требуется немного мастерства и достоинства. И этот парень, скоротечная жизнь которого состоит из острых ощущений, да, этот парень обладает своим достоинством.
Лео был уверен, что узнал его именно благодаря его осмотрительности и достоинству, с которым тот занимался онанизмом. Лео отдает себе отчет в том, что никогда не видел его в лицо. Он никогда не заговаривал с ним. Этот парень — один из посланников того мира, в существование которого Лео всегда верил с трудом. Как будто этот тип был специально нанят для того, чтобы разнообразить жизнь других. Чтобы немного смутить покой суровых университетских аудиторий. Лео достаточно взглянуть на него, чтобы вспомнить возгласы возмущения и отвращения девушек вместе с оскорблениями и угрозами их заботливых одногруппников. Он снова видит этого типа, который выбегает из аудитории, придерживая расстегнутые брюки. Но прежде всего он вспоминает случай, когда он (тогда еще необыкновенный профессор Понтекорво) блестяще прокомментировал один из таких инцидентов репликой, которая очень понравилась студентам: «Ладно, ничего, ничего страшного… это даже правильно, что в аудитории медицинского факультета вы можете наблюдать пример физиологического мученичества!»
Хорошо, все смеялись. Вот она, его ирония, его снисходительность, его изящество. Все очень по-академически. Но так ли забавны были шутки, которыми профессор развлекал новичков, преисполненных священного горения и негодования? Или они смеялись только потому, что нет ничего забавнее, чем человеческая дегенерация в своей самой простой, пластичной и тривиальной форме?
Да, этого парня должны были поместить именно сюда, в одну с ним камеру. И этот блаженный парнишка (ему, должно быть, не более двадцати пяти лет) не избавился от своего порока даже в тюрьме. Надо признать, что это свидетельствует о его исключительном даровании создавать образы и о его мужестве. У тебя должны быть веские причины, чтобы не перестать мастурбировать в подобном месте, в присутствии этих опасных типов. Осознавая при этом, что это едва ли безопасно, как в случае со студентами. Соседи по камере уже начали ворчать, оскорбленные сим зрелищем. А сейчас они совсем озверели. Один из них уже стучит кулаками в массивную железную дверь и орет: «Уберите этот кусок дерьма отсюда, или мы сами оторвем ему яйца!»
Лео поражен пуританством заключенных. А чему здесь удивляться? Самый большой моралист в обществе — это мошенник. Этим принципом мог бы руководствоваться Эррера. Эррера, Эррера… где же ты, Эррера?
Хорошо хоть меня не узнали, думает Лео. Хорошо, что эти господа не читают газет и не смотрят новостей. Если бы они только заподозрили, что среди преступлений, совершенных этим франтом, застывшим на своем матрасе, числится насилие над девочкой… И если бы они только узнали, что эта девочка — подружка его сына… увы, ему бы не поздоровилось.
Но слава богу, они ничего не знают. Конечно, они заметили, что он не из их среды. Это неизбежно породило недоверие, которое, к счастью, не переросло в какой-нибудь враждебный выпад. Очевидно, надпись на стене прямо над головой Лео, гласящая Я НЕ ЛЕЗУ В ТВОИ ДЕЛА, И ТЫ НЕ ЛЕЗЬ В МОИ, является одной из заповедей заключенного. Философия, которую на этом витке своей жизни Лео готов принять. Завет, который товарищи по камере, к сожалению, сейчас нарушают. Учитывая, что они сейчас оскорбляют несчастного онаниста. Угрожают ему.
Лео испугался. Он не знает, на что способны эти люди. Он ничего о них не знает. Он впервые вступает в контакт с подобными представителями рода человеческого. Лео думает, что для них существует меньше сдерживающих факторов, чем для индивидов, с которыми он привык общаться. В противном случае как бы они здесь оказались?
Возможно, они выросли не в такой комфортной атмосфере, как Лео. Их никогда не фотографировали на лошади, одетыми в нелепый костюм, или с клюшкой на поле для гольфа. Они никогда не были членами яхт-клуба. Возможно, они никогда не ездили на лыжный курорт, и у них нет второго дома на романтичном Тосканском побережье. И возможно, эти люди не надевают кожаные перчатки, прежде чем сесть в свой «Ягуар». Да и вообще они, скорее всего, никогда не садились за руль «Ягуара», разве что угнанного. Они ничего не знают ни о джазе, ни о классической музыке. Они не разделяют его страсти к римской истории. Ни его политических взглядов, отмеченных умеренным и светским реформизмом. Они не комментируют с недовольством передовицы «Коррьере» или «Републики». У них нет энтузиазма по поводу фигуры Беттино Кракси, проекта обновления левого течения. Они не приходят в волнение каждый раз, когда вспоминают массовую казнь итальянских граждан в Ардеатинских пещерах. Они не знают, что значит перечитывать каждое лето «Человек ли это?»[9], всякий раз находя эту книгу еще более леденящей душу…
Причем до сих пор все это невежество особо не огорчало Лео. Более того, он даже нуждался в обществе личностей, которые бы не имели ничего общего с ним и его образом жизни. То, что восхищает в этих типах, — их сверхчеловеческая способность оставаться спокойными. В самом деле, нужно еще изобрести то, что может вывести из себя этих бандитов. Какой великолепный урок! Самый благоразумный, самый свободный из всех, которые были преподаны Лео за последнее время.
Жаль, что именно тогда, когда он начал восхищаться ими, заключенные потеряли контроль. Достаточно было молодого онаниста, чтобы взбесить их. Лео с ужасом представил, что они сейчас устроят самосуд над беднягой. Увидеть вживую, как мучают человека, было бы невыносимо. Лео захотелось закричать. Захотелось позвать кого-нибудь. Но он был не в состоянии. Кроме того, он помнит надзирателя и понимает, что лучше никого не звать: есть риск, что надзиратель сам присоединится к трепке. Да еще принесет с собой дубинку. И приведет кого-нибудь из своих товарищей.
«ОТСТАНЬТЕ ОТ НЕГО НА ХРЕН! ОСТАВЬТЕ ЕГО В ПОКОЕ НА ХРЕН! МОЖНО УЗНАТЬ, КАКОГО ХРЕНА, ЧТО ОН ВАМ СДЕЛАЛ?!»
Это был Лео, это он выкрикнул фразу, которую я привожу выше заглавными буквами. Именно он вставил в нее все эти бьющие по ушам «на хрен».
Каким абсурдным и невероятным мог показаться его поступок! Это именно Лео попытался заставить их замолчать, именно он вступился за незнакомца, именно он рискнул своей безопасностью ради сексуального извращенца, который, возможно, и заслуживал хорошего урока.
Увы, наш герой почти сразу раскаялся в своем поступке. Как только все умолкли и он увидел, что к нему направляется небольшая делегация бандитов. Глава, а также уполномоченный представитель этой делегации — из тех, кого не ожидаешь увидеть в подобной роли. Настоящим лидером мог быть тот амбал с рукой, здоровенной, как бедро Лео. Или вон тот лысый с голым торсом и татуировкой на всю грудь, изображающей Муссолини с фашистским приветствием. А эти какие-то жалкие. Главный — плюгавенький тип с красным сморщенным личиком, напоминающим поверхность баскетбольного мяча. Лео чувствует запах гнили из его рта. По нечистому, как его дыхание и цвет лица, произношению можно предположить, что он происходит откуда-то из центра Италии. Слова, с которыми он обращается к Лео, не менее угрожающие, чем те, с которыми он только что обращался к онанисту (тот тем временем опять принялся за свое любимое дело).
«А ты чего защищаешь этого педика? Я тебе говорю! Почему защищаешь этого педика? Может быть, ты тоже педик. Рожа у тебя как у педика. Да и одет ты как педик…»
«Педик» — ключевое слово. Это Лео понял. Также он понял, что подобная настойчивость в причислении его к гомосексуалистам не сулит ему ничего хорошего.
«И чем занимаются педики?»
Последний вопрос обращен не к Лео. Но к одному из шестерок плюгавого. В частности, к поклоннику Муссолини. Который, очевидно, находит вопрос слишком сложным.
«Так чем занимаются педики?» — повторяет рябой, обращаясь уже ко всей камере. Но все здесь недостаточно умны, чтобы знать, чем занимаются педики. С другой стороны, и сам «педик» немного в растерянности.
«Педики берут в рот у других педиков. Вот чем занимаются педики. Очень просто».
За этим безукоризненным объяснением, предложенным рябым профессором своей аудитории, по вопросу «чем занимаются педерасты?» следует нечто невероятное.
Лео чувствует, как кто-то хватает его за горло и тащит с матраса. Но не это удивляет его. Из всех обескураживающих событий, которые с ним произошли за последние месяцы, самое невероятное — это то, что с ним собираются сейчас делать. Именно сейчас Лео более, чем когда-либо в своей жизни, не может в это поверить: сейчас, когда эти ненормальные, разгоряченные и возбужденные призывами рябого «педики берут в рот у других педиков», тащат Лео к онанисту. Но даже это не сильно удивляет Лео. Самая небывалая вещь — это то, что, поставив его напротив онаниста, они толкают голову Лео к животу несчастного извращенца. Педики берут в рот у других педиков. Педики берут в рот у других педиков.
Лео в ужасе. В то время как эти негодяи подталкивают его голову к чреслам парня, который, в свою очередь, не кажется особенно удивленным, Лео охватывает еще больший страх. Он пытается сопротивляться. Но больше для верности трагизму ситуации, чем в надежде выйти невредимым из всей этой истории.
Представь! Представь только, если бы тебя сейчас увидели твои студенты. Что бы подумали студенты, увидев такую сцену: шайка бандюг заставляет Светило Медицины взять в рот у Извращенца. Какая великолепная сцена. Какая познавательная сцена. Какой блестящий урок. Самый лучший твой урок. И конечно, самый поучительный и трагичный.
Голова Лео все ближе к интимным частям тела извращенца, который только сейчас начинает проявлять некоторую стыдливость пытаясь отодвинуться.
Этот отвратительный запах. И чем ближе Лео, тем сильнее он становится. Лео — медик. Он привык к определенным запахам. Он знает, что неухоженное человеческое тело источает адские миазмы. Лео знает: чем ближе ты к чувствительным зонам тела, тем более невыносимы запахи. Сами по себе эти запахи совсем не возмущают его. Не отталкивают его. Но одно дело спокойно относиться к запахам, а другое — брать в рот вещь, которая является их источником. Лео хотелось бы зажать рот и нос. Но единственное, что он может сделать, — это закрыть глаза.
Педики берут в рот у других педиков. Педики берут в рот у других педиков.
Он уверен, что никогда не сможет избавиться от этих фраз. Они будут звучать у него в голове как вечная мука. Вместе с воспоминанием о том, что его вынуждают сейчас сделать. Вот почему Лео был так удивлен, когда скандирование прервал другой шум. Шум какой-то возни. Как будто согласие заключенных было разрушено вмешательством какого-то сознательного протестующего. Сейчас Лео чувствует, что хватка всех этих рук на его шее ослабла. Он вдруг чувствует себя свободным. Он свободен поднять голову, но он не осмеливается сделать это. Он слышит глухие удары одновременно с криками. Затем узнает голос мрачного надзирателя, который угрожает и бранится, брызжет слюной и рычит.
Его пришли спасти. Вот его уже тащат наружу. Сейчас Лео на ногах. Его поддерживают, слава небесам, иначе он упал бы, так как чувствует, что ноги не повинуются ему. Его сердце готово разорваться. Волосы мокрые от пота. Лео видит фаната Муссолини с подбитым глазом. Он видит избитого до полусмерти рябого, который валяется в углу. Толпу его мучителей усмирили. Головы опущены, мокрые и присмиревшие лица.
«Боже, я так и думал, что этим все кончится! Доктор сказал поместить этого отдельно. Теперь он точно надерет нам задницы!»
«Ладно, никаких проблем, шеф. Ничего не произошло… Сейчас я об этом позабочусь. Я переведу его в шестую камеру. Отдельный номер для барина».
Теперь Лео часто беседует с отцом и матерью. Уже давно так. Они пришли навестить его даже сюда, в его «отдельный номер», утопающий в молочном лунном свете. Должно быть, они прилетели сюда по воздуху с ближнего монументального погоста. Они там, в полуразрушенной неоклассической часовенке старого еврейского кладбища, на котором Лео похоронил их (мать пережила отца на десять лет). Они там, в гробнице с надписью на фронтоне «Понтекорво-Лиментани», которая обозначает, что здесь гниют останки Понтекорво и Лиментани, которых родственники уложили на вечный покой. Возможно, увидев сына в затруднительном положении, они решили проснуться. (Лео воображает, что это мать притащила сюда своего мужа за рукав или за то, что от него осталось.) И после коротких сборов прилетели к нему.
Кажется, они не собираются давать ему советов, как когда-то. Они не хотят упрекать его. Более того, они делают то, чего не умели делать при жизни: они его слушают. Они стоят и слушают его с блаженной улыбкой. Часами. Стоит сказать, что в камере не чувствуется мрачной атмосферы, которая сопровождает сцену встречи юного Гамлета с духом отца; Лео вовсе не напуган, как Дон Жуан в сцене явления призрака Командора. Ничего подобного. Как я и сказал, обстановка расслабляющая. Мало того что Лео ничего не боится, он даже необычайно разговорчив. Он уже целую вечность не ощущал такой потребности выкурить сигару. У него ее нет, но чувство — как будто есть.
Хотя и не холодно, Лео озяб. Но это приятное ощущение. Вот уже третью ночь он здесь. Один. И эта дрожь до прихода родителей — самая волнующая штука, которая с ним случилась со времени его заключения. Ему даже удалось соснуть часок-другой. Может быть, потому, что он наконец освоил искусство ни о чем не думать. Искусство стоиков. Искусство не питать надежды. Ценные навыки, способные сократить, если вообще не отменить, бремя ожидания. Каждый раз, когда ему приносят еду или приходят спросить, не желает ли он прогуляться, Лео вздрагивает. Дверь его камеры издает невыносимый шум, который заставляет его вздрагивать.
Но кроме этих панических мгновений, жизнь в камере безнадежно безопасна. И впервые с тех пор, как началась вся эта история, Лео о ней не думает. Ему наплевать даже на то, что делает Эррера. Он больше не задается вопросом, почему со времени его ареста прошло четыре дня, а Эррера так и не появился. Он больше не задается вопросом, не забыл ли Эррера о нем или кто-то (бог знает почему) мешает ему увидеться со своим подопечным. Лео не думает о том, что говорят о нем люди. Люди больше не существуют. Весь мир не существует. Только опустошенная бескрайняя равнина. Вот во что превратился мир. Лео не думает больше о судье, которого фамильярно называют «доктором», — том самом, который чувствует себя прекрасно, и Лео сомневается, что он вообще появится на работе. Подпись ордера на арест Лео. Это последнее, что сделал «доктор», перед тем как пойти на пенсию. Прежде чем сойти со сцены. Лео не думает даже о Рахили, Филиппо и Самуэле. Он начинает верить, что их никогда не существовало. А если они существуют, почему они не рядом с ним? Как возможно, что они позволили такому случиться? Какая извращенная принципиальность, какое искаженное представление о справедливости могли привести их к тому, что они проявляют ледяное безразличие к нему?
Да, здесь он наконец чувствует себя защищенным. Никто не сможет причинить ему зло. Он заметил, что его безграничная воспитанность, его спокойное поведение пробуждают в охранниках, которые приносят ему еду, странную и ценную снисходительность. Вот уже долгое время никто не был столь любезен с ним. В общем, Лео чувствует себя здесь прекрасно. Он только и делает, что дремлет. Ему нужно хорошенько выспаться. Он даже начинает верить, что тюрьму напрасно недооценивают.
Пока мама и папа не появились. Должно быть, уже поздно. Но в камере светло от луны и звезд. Снаружи проникает великолепный аромат римской ночи: речная влага и свежесть эвкалипта. И Лео не перестает говорить.
Еда здесь действительно мерзкая, говорит он сейчас. И не только еда. Здесь все мерзко. И пахнет здесь мерзко. Чтобы ты представляла, мама, это отвратительный запах, как из моего чемодана, когда я вернулся из лагеря СЕМИ. Ты помнишь, мама? Ты была просто помешана на СЕМИ. Союз еврейской молодежи Италии. Пришло время твоему сыну войти в общество. Познакомиться с твоим народом поближе. Твой сын был очаровательным ребенком, умненьким не по годам, спортивным, но тем не менее его сдерживало то, что он единственный сын. Кроме того, он обладал замкнутым характером. К тому же еврейская чрезмерная заботливость, объектом которой он являлся. Те годы в Швейцарии, конечно, спасли ему жизнь, но и немного затормозили его развитие. А вот о чем ты говорила за столом. Мы с отцом ели, а ты говорила. Ты говорила постоянно. Иногда с трудом можно было поверить в то, что ты произносила некоторые вещи. Ты — вдохновительница моей преждевременной мизантропии. (Благодаря тебе я так рано стал мизантропом.) Именно ты виновата в моей вынужденной необщительности. Ты сделала все, чтобы уберечь меня от многочисленных интриг, которые таит в себе этот мир. Но вот тебе вдруг приходит на ум, что пришло время освобождения. И что такое освобождение должно идти через кровные связи. И что может быть лучше, чтобы дать свободу избалованному сынку, чем отправить его в один замечательный еврейский летний лагерь? Ты помнишь мое отчаяние? Помнишь, как я плакал? Как не хотел выходить из машины?
«Ладно, медвежонок, посмотри, какой красивый вид открывается отсюда. Посмотри на море, на ребят. Здесь весело. А завтра приедет твой друг Эррера. К тому же мама и папа будут всего в часе езды на машине отсюда».
И правда — вид прекрасен. Какие живые цвета. Желтый — земли, голубой — моря. Да и Эррера, в отличие от того, что происходит сейчас, скоро действительно приедет. У меня мурашки по коже бегут, мама, когда я вспоминаю об этом. Однако было ужасно жарко. Не говоря уже о комарах, грязи, халатности! Жизнь в этом лагере напоминала кибуц. Хотя, может быть, в этом и была основная задумка: кусочек настоящего социализма в форме небольшой колонии еврейских ребят, обосновавшейся в сосновой роще на берегу моря. Ребята постарше заботятся о ребятах помладше. Младшие уважают старших. Рано или поздно все должны готовить на кухне. Или мыть туалет. Все обязательно должны дежурить ночью. Ночное дежурство? Точно! Факелы, палки, шепот… Как будто евреи не чувствовали себя в безопасности даже в Тоскане. Смешно, но так трогательно.
Да, мама, мне становилось весело. Ты, как всегда, была права. После первой растерянности, после того, как я преодолел брезгливость избалованного ребенка, мне стало лучше. После того, как я несколько часов проплакал, потому что вы меня оставили, я забыл вас и начал развлекаться. Мне было весело. Все эти ребята, мама. И все эти девочки, папа… И Эррера, который так комично сердился. Замечательные каникулы. А помните, как вас чуть удар не хватил, когда вы приехали забирать меня? Это был не ваш сын. Этот парень не мог быть вашим сыном. Ваш сын не был таким худым, грязным и запущенным. Ваш сын не был ребенком с улицы. Что с ним случилось? Его плохо кормили? Его заставляли слишком много работать? Они не заботились о его чистоте? Проклятый Союз молодежи!
«Я никогда не чувствовала такой вони!»
Это твои слова, мама, после того как ты открыла мой чемодан. Спустя две недели после лагеря. Как будто в этом чемодане скопился весь пот и вся грязь одной жизни. Ты помнишь эту вонь, мама?
Хотя она несравнима с вонью, которая стоит здесь. Я знаю, что вам не нравится, когда я говорю о таких вещах. Да еще так открыто. Но если не с вами, то с кем я могу так говорить? В сущности, вы ведь для этого пришли навестить меня? Именно поэтому вы здесь? Поэтому вы явились сюда во плоти. Для того, чтобы я смог наконец выговориться. Для того, чтобы я смог рассказать, дать вам знать, что происходит с вашим сыном. Что с ним делают. Вы знаете, меня чуть не изнасиловали. Ужасный тип, папа, с чудовищным акцентом и запахом попытался изнасиловать меня. Он и его шестерки попытались подвергнуть меня муке, которую я не знаю, как описать вам. Я думал, что это самое худшее, что может случиться со мной. Когда охранники меня спасли, когда избавили меня от этого кошмара, я сказал себе: это самое худшее, что со мной было. С настоящего момента все будет только лучше. Сейчас мне положена небольшая награда — немного сочувствия, которое заслужил человек, так много выстрадавший. И так несправедливо. Вот о чем я думал, когда меня избавили от этого кошмара. Какая наивность! Кошмар только начался. Теперь наступила очередь охранников развлекаться.
Они сделали ни больше, ни меньше того, что требуют тюремные правила. Прежде всего каталогизация: опознавательные фотографии, отпечатки пальцев. Они заставили меня полностью раздеться. Они отобрали у меня золотую цепочку, которую вы мне подарили на бар-мицву, обручальное кольцо, а также твои часы, папа. Потом вот так, почти голым, прикрытым только куском ткани, меня провели в душную комнатку и надолго оставили там. Их ничего не волновало. Потом они вернулись. Не одни. С ними был врач. Медик в белом халате и латексных перчатках. Он ощупал меня всюду. Да, даже залез в зад. Он засунул мне пальцы в зад, папа, как будто при осмотре простаты. И все смотрели на меня. Медик и два охранника. Они смотрели на меня особым взглядом. Как будто им недостаточно было моей наготы. Как будто они хотели раздеть меня еще больше. Если бы это было в их власти, они заживо сняли бы с меня кожу. Нет-нет, медик не был груб. Он был вежлив. Плюгавый и лысый тип, немного моложе меня. Для того, кто по профессии засовывает руки в задницы заключенных, он был достаточно приветлив, и все же что-то отвратительное крылось в его приветливости. Ты не смог бы принять человека в подобной душной комнатке, держать его там все это время, чтобы потом прийти и как ни в чем не бывало засунуть ему пальцы в задний проход с эдакой резвой обходительностью. Есть что-то демоническое в этой обходительности. Эта обходительность — самое худшее. Настоящий смертный грех.
Хорошо хоть потом меня посадили сюда. И оставили в покое. Знаете, как я удивился, увидев вас? Знаете? Мне ужасно не хватало вас. Я никогда так не скучал по вам. Возможно, потому, что вы мне все прощали. Быть сыном — самая прекрасная вещь на свете, потому сыновьям прощается все. Ты, мама, всегда в шутку говорила мне, когда я баловался: «Твои сыновья отомстят за меня». Тогда ты не знала, насколько ты окажешься права. Возможно, ты даже вообразить себе не могла непреклонность внуков (насчет невестки у тебя имелись кое-какие подозрения. За это готов дать расписку). Их бессердечность. Но как только ты становишься мужем и отцом, тебе не прощается ничего. Правда, папа? Больше у тебя нет иммунитета неприкосновенности. Все готовы наброситься на тебя. Все показывают на тебя пальцем. Все только и ждут, когда ты сделаешь неверный шаг. Да, кажется, что они только этого и ждут. Только и надеются, что папочка и муженек сотворит какую-нибудь глупость. Глупость, за которую придется дорого заплатить. Непоправимой обидой.
А сейчас Лео говорит с отцом и матерью о документальном фильме, который он смотрел с сыновьями несколько месяцев назад. Одна из последних программ, которые он посмотрел вмести с Фили и Сэми. Когда для тех двоих было еще привилегией смотреть телевизор с отцом.
Знаете, эта передача называется «Кварк». Вы не могли знать ее. Ее ведет некий Пьеро Анджела. Элегантный, подкованный, ироничный ведущий. Из тех, кто понравился бы тебе, папа. Из тех, с кем бы ты с удовольствием поговорил о политике и обществе. Не говоря уж о тебе, мама. Ты бы потеряла голову от такого человека, как Пьеро Анджела. Он очаровал бы тебя своим британским шармом.
В общем, я смотрел с вашими внуками документальный фильм производства Би-Би-Си, блестяще представленный доктором Пьеро Анджела. Должен сказать, что меня сразу же поразило название фильма. Название поистине литературное.
ПРИРОДА: ОТНОШЕНИЯ ОТЦОВ И ДЕТЕЙ.
В этом название было все. Исчерпывающий заголовок. Великолепный заголовок. Вы не думаете, что природа вся в этом? В этой вечно повторяющейся связи. В этом вечном обновлении. Если бы вы только видели эти образы. Львица с львятами. Газель с детенышами. Даже такие отвратительные твари, как удав или жаба, становятся такими заботливыми со своим потомством… Все выражало единое чувство. Яростное, отчаянное желание защищать и быть защищенным. Понимаете, мои милые души, защищать и быть защищенным. Это самое важное на свете. Это то, чего мне так не хватает. Да, я знаю, что вы меня понимаете… Видите? Вы меня не оставили. Вы здесь. Вы пришли ко мне. Иначе и быть не могло. На самом деле, иначе и быть не могло… Но не стойте там, подойдите. Да, как тогда. Именно как тогда, когда я боялся и проскальзывал в вашу комнату. Я знал, что вы будете возражать. И я любил эти возражения. Но также я знал, что в конце концов вы уступите. Я упивался абсолютной властью над вами и вашей властью надо мной… я был в восторге от кровати, которая мне казалась такой большой. От вашего матраса, набитого шерстью. Ну же, идите сюда. Устраивайтесь здесь. Вы же ничего не весите, вы очень легкие.
Так Лео заснул крепким младенческим сном, свернувшись калачиком, в объятиях отца и матери, которые не переставали ласкать его. Потакать ему. Которые не переставали нашептывать ему: не волнуйся, все хорошо, ты не один, не дрожи. Мама и папа рядом. И Лео прекрасно засыпал. Глубоким сном. Запах отцовского лосьона для бритья, камфорный аромат матери. Он тихо спал. Как никогда раньше.
Лео перебрал в уме десяток лиц и фигур, которыми он наделял в последние месяцы судью (или судей), устроивших ему все это.
Он задействовал все свое воображение! Он совершил невозможное, свернул горы. Иногда «Доктор» представлялся толстым, бледным и несчастным типом, который только и ждал, как бы досадить такому замечательному человеку, как Лео. Иногда как подвижный, сухопарый и желчный тип. Потом как невежественный и неотесанный сбир. На смену которому быстро пришел изящный раздражительный денди, безбородый выпускник юрфака, до фанатизма преданный Закону. Целая толпа человеческих типов, более или менее приемлемых, сменяли друг друга.
Но ни один из них не походил на личность, с которой он оказался лицом к лицу, после того как на пятое утро его ареста пришли охранники и повели его через длинный коридор в душное и захламленное помещение, в котором сочетание серого, бежевого и желтого цветов лишний раз подчеркивало нездоровую атмосферу.
Перед дверьми в кабинет общественного служителя Лео ждал Эррера. Эррера взъерошенный. Эррера раздосадованный. И еще более и более: Эррера разъяренный. Увидев безумные глаза своего адвоката, Лео сначала подумал, что он является объектом такой ярости Эрреры. Почему нет? Он уже привык к тому, что люди сердятся на него без причины. Вот еще одно проявление стоицизма, подумал Лео, которому его приучила тюрьма всего за несколько дней.
Но подойдя поближе, он понял, что отрывочные возгласы негодования Эрреры «это просто недопустимо! бессмысленно! абсолютно бессмысленно!» направлены не на его подопечного, а на бумаги, которые Эррера держал в руках. И которые Лео тотчас же узнал. Это была копия ордера на арест. Такого же, как тот, который он держал в своем кармане и на который не решался посмотреть. Там было все то, что Лео во время своего ареста предпочитал не знать. Собственно причина ареста. Обвинение. Почему его поместили в изолятор. Почему ему запретили видеться в течение пяти дней со своим адвокатом и любым человеческим существом…
Но самое невероятное было то, что Эррера, вместо того чтобы поинтересоваться состоянием своего клиента, был полностью увлечен этими бумагами. Как будто они являлись подтверждением его профессиональной некомпетентности и личным оскорблением. То, что Лео получил свой первый травмирующий опыт пребывания в тюрьме, для Эрреры казалось простой случайностью: арест Лео был всего лишь побочным эффектом отклонений, содержащихся в бумагах, которые Эррера столь яростно сжимал в руках.
Если бы сейчас открылась дверь и вошел судья, он готов был наброситься на него, поддавшись порыву? Неужели этот карлик уступил бы своей ярости?
Лео, естественно, надеялся, что нет. Только этого не хватало! Ведь именно Эррера постоянно призывал Лео к хладнокровию и самообладанию, а теперь сам теряет контроль.
Внезапно Лео почувствовал себя как мальчишка, которого разъяренный родитель ведет к страшному директору школы. Негодующий родитель, который желает опротестовать несправедливое отношение математички к своему чаду. Родитель, настолько увлеченный своим гневом, что перестает понимать, что за его поведение впоследствии может расплатиться сын.
Лео не нравилось такое положение дел. Ему было не совсем на руку состояние Эрреры, который не собирался разорваться от бешенства, а уже разорвался. Это случилось тогда, когда Лео Понтекорво вспомнил о том, что он Лео Понтекорво. Он чудесным образом вновь осознал свою личность и место в этом мире. Это случилось именно тогда, когда Лео снова испугался. Когда он почувствовал, что его живот крутят сильные и коварные спазмы. Он осознал, что за этим порогом есть самая важная на свете вещь. Что сейчас настанет ключевой момент всей его жизни. Для этого нужно было выложиться по полной.
Все это происходило в то время, как его адвокат не переставал ругаться: «Этот кусок дерьма надул меня! Но не беспокойся. Сейчас мы заставим его объяснить, что это за выходки, они нам расскажут, почему не дали тебе увидеться с адвокатом, как какому-то мафиозо. Спокойно, Лео. Положись на меня. Смотри на меня. Тяни время, прежде чем отвечать. Или лучше отвечай как можно меньше. Если чувствуешь, что вопрос с подвохом, не отвечай вообще. Ты понял?»
И это был великий адвокат? Не проигрывающий ни одного процесса адвокат? Акула суда? Этот разъяренный гномик, который только и умел, что довести нервы Лео до предела? Разве он не должен был успокоить его? Одна из причин, по которой он брал столько денег, разве не в том, что он никогда не теряет контроль в подобных ситуациях?
Может быть, вся проблема заключалась в том, что Эррера защищал Лео? Почему нет? Так было всегда. Что бы там ни говорили люди, ничего не проходит бесследно. Если определенная личность вызывает в подростковом возрасте двойственные чувства, не исключено, что такие же чувства она будет вызывать у тебя и в зрелом возрасте. Не достаточно блестящей карьеры, женщин, денег, чтобы полностью освободиться от застенчивого и обидчивого ребенка, который все равно живет внутри тебя. Об этом Лео был готов написать трактат.
Конечно, Лео выбрал не лучший момент для того, чтобы обрести свои прежние качества. Едва ли ему могло помочь, что бесчувствие, вялость, стоическое принятие собственной судьбы, которые охраняли его несколько минут назад, пошли к черту. Лео не был доволен, что стал самим собой. Лео в своей драме. Лео перед лицом более страшного испытания.
Именно более страшного испытания. Самого сложного и напряженного экзамена. В этом не было никаких сомнений. Нельзя было сказать, чтобы Лео с легкостью сдавал экзамены. С определенного момента чтобы добиться чего-либо в своей жизни, он должен был прикладывать немалые усилия. Он должен был сдерживать свою невероятную эмоциональность и бороться с присущей ему апатией. Он должен был уравновешивать склонность к созерцанию и яростный дух антагонизма. И кстати, о духе соревновательности, семья, из которой он был родом, в том, что касается школьных успехов, не терпела никакой неопределенности от единственного отпрыска.
Конечно, некоторые предметы шли у него легко. Греческие стихи, например. С ними он справлялся без труда. Когда Лео учился в лицее, ему достаточно было увидеть древнегреческий текст, чтобы найти верные слова, которые всплывали из глубин подсознания с необычайной спонтанностью. Все остальное было просто. Достаточно было — выудить эти слова, согласовать их на странице, наполнить смыслом и ждать восхищения учителя. У Лео был настоящий талант к греческому языку. Фантастические способности. Зачем было нужно умение переводить написанные на давно умершем языке тексты, которые прославляли давно сгнивших героев? Незачем.
Математика. Да, это была полезная штука. Или, по крайней мере, так думали все: жаль, что у Лео к ней не было никакого призвания. Страшный призрак, который преследовал его в течение всего длительного, в целом приличного, хотя не образцового, периода обучения.
Когда он оказывался перед всеми этими цифрами и значками, его охватывала почти неодолимая сонливость. А за ней следовало беспокойство. Какой смысл был погружаться в столь нечеловеческие абстракции? — постоянно спрашивал себя Лео. Впервые он получил ответ на этот риторический вопрос в пятом классе гимназии от учительницы математики, которая отправила его на сентябрь. Так этому пятнадцатилетнему бездельнику предоставили исключительную возможность помедитировать все лето над этим снотворным предметом. А если подумать, как же унизительно было для одного из Понтекорво оказаться в числе отправленных на осень. Три летних месяца, пока не смоется пятно позора, он должен был забыть об отдыхе на море и разбирать многочлены. Три утомительных и унизительных месяца. Три месяца тетрадок в клетку. Лео не мог погулять с друзьями, сходить на пляж, ему была заказана даже обыкновенная вечерняя прогулка до кафе-мороженого, потому что нужно было до конца выполнить свой долг перед обществом. Но прежде всего Лео понял, что его родители, уступчивые в остальном, в этой области не сделали бы ни одного неверного шага. Со школой никогда. Здесь они были настроены серьезно. Не понимаешь математику? Значит, ты не приложил достаточно сил, чтобы ее понять. Тебя отправили на осень? Значит, ты не пожертвовал собой достаточно. Не выложился по полной на экзамене. Слишком рано сдался.
Это был самый важный урок, усвоенный Лео за лето. А уравнения почти мгновенно улетучились из его памяти. Как и многие другие предметы, которые он выучил или знал (а знал он немало). И этот принцип искупления лежал в основе того образования, которое ему навязывали. В основе буржуазного образования. Старого образца. Более сурового, чем библейские заветы. Единственный завет этого образования торжественно гласил: «Ты должен быть лучше своего отца и должен произвести на свет потомство, которое будет лучше тебя».
Лео был породистой лошадкой и должен был вести себя соответственно. Урок, о котором он вспомнил на первом курсе университета, когда столкнулся с еще одним непреодолимым препятствием. Экзаменом по химии. Снова эта сонливость. Снова это ощущение пустоты. Снова формулы, которые смешивались в его голове и совершенно не запоминались. Какая мука! Но на этот раз Лео был уже достаточно натаскан. На этот раз Лео знал, как справиться. И он приложил все усилия, чтобы сдать самый сложный экзамен у самого жесткого препода на первом же курсе медицинского факультета. Старый черт требовал, чтобы студенты знали учебник наизусть. Он делал все, чтобы выбить тебя из колеи. К тому же он был старым другом отца Лео. Но все та же буржуазная мораль, которая вынуждала такого привилегированного студента, как Лео, отплачивать родителям успехами в университете, и препятствовала отцу замолвить словечко за своего сына перед старым другом.
Лео прекрасно помнил день, в который он сдавал экзамен. Безжалостный июльский зной. Черт знает почему, он не потел. Он помнил, как тот тип спросил его с неожиданной мягкостью, не является ли Лео сыном его дорогого друга Джанни Понтекорво. Лео, следуя указаниям отца, ответил, что нет, он сын не того Понтекорво. Он сын другого Понтекорво. Сын кого угодно, чтобы сдать этот сложный экзамен, должен быть в тех же условиях, что и все остальные. Боже, он почти не соображал, пока лгал о себе тому придурку. В голове было пусто. Или лучше сказать, его голова была забита бесполезными формулами и дурными предчувствиями. Лео явился на экзамен после четырех месяцев, потраченных на учебу. Его подташнивало. Он провел последние две ночи без сна, глотая горстями таблетки, чтобы продержаться. Он чуть не падал в обморок. Лучше бы ему дали перевести текст Фукидида. Или разобрать фрагмент из Сапфо. Тогда Лео заставил бы себя ценить, он бы показал, из какого теста он слеплен. Лео принадлежал к тому типу спортсменов, которые выкладываются по полной, когда играют на своем поле, и теряются, когда оказываются на чужой территории. И ничто так не походило на чужое поле, как та душная аудитория в форме амфитеатра, в которой один ублюдок со своими помощниками, такими же ублюдками, валили студентов с систематичным безразличием пыточной машины.
И Лео справился. Триумф из чувства противоречия. Он вышел живым и победителем из неравного боя. На этот раз он справился. И с тех пор он сдавал все экзамены, прикладывая силу воли и делая ставку на эффективность самопожертвования.
Но что бы случилось, если бы он не сдал экзамен по химии? Что бы случилось, если бы он разволновался, устал и случайно сморозил какую-нибудь глупость? Что бы случилось, если бы ублюдок швырнул ему в лицо зачетку характерным для него жестом и сказал: «Увидимся через шесть месяцев?»
Не случилось бы ничего. Ничего страшнее того, что произошло годом раньше, когда Лео отправили пересдавать математику. Его ждала бы дополнительная порция учебы. Он должен был бы отложить на несколько месяцев написание диплома, а значит, и освобождение от семьи. Он должен был бы потерпеть раздражение родителей. Их разочарование. Их гнев. И все? Все.
А сейчас? Что случится сейчас, если на допросе он даст неверные ответы? Увы, Лео предстояло узнать это.
Итак, враг был перед ним. Вот его лицо, его тело. Человек, которого Лео столько раз пытался представить, совсем не походил на стоявшего у другого края стола. Таков был обвинитель. Великий инквизитор. Торквемада.
Из-за ряда совпадений (случайных ли?) человек, открывший дверь и пригласивший их войти, вежливый, но не церемонный, предложивший им сесть за стол, был автором многих обвинений, выдвинутых против Лео. Это означало, что большая часть его рабочего времени, почти полгода, была посвящена сбору доказательств того, что Лео Понтекорво — вор, жулик и извращенец. Это означало, что именно этот человек подписал документ, из-за которого Лео прожил самые абсурдные, хотя и не худшие дни своей жизни: документ по-прежнему лежал в кармане Лео, а он по-прежнему упорно не желал знать его содержание.
Когда Лео обратился к нему, Эррера представил запрос на ходатайство. Прокурор отклонил запрос, но прежде, чем Эррера успел обратиться к судье, Лео уже арестовали.
«Этот паршивец обогнал меня!» — продолжал бурчать Эррера.
Откуда такое рвение? Почему этот человек был так настроен против Лео? Почему он так взъелся из-за истории, в сущности не сильно отличающейся от той, которая случается с другими отцами семейств, другими выдающимися медиками, другими профессорами? Лео вновь и вновь задавал себе этот вопрос. Но сейчас, когда враг сидел перед ним, когда Лео смог бы получить ответ, он почему-то не обращался больше к этому вопросу. Сейчас все казалось ему логичным и последовательным. Это была работа инквизитора. Которую он исполнял с не меньшей тщательностью и самоотдачей, чем Лео свою.
Лео перебрал все предположения, которые они выстроили с Эррерой, который, как многие юристы его поколения, был уверен, что начало всему — политические убеждения.
«Этот тип ненавидит тебя», — повторял Эррера.
«Почему ты так думаешь?»
«Это ясно из его стиля, что он тебя ненавидит. Ненавидит то, чем ты являешься. Ненавидит то, что ты делаешь. Ненавидит твою проклятую рубрику в „Коррьере“. Ненавидит твой „Ягуар“. Ненавидит твой кукольный домик, в котором ты укрылся от остального мира. Ненавидит Кракси и твой патетический идеализм в духе Кракси».
«Но почему? Объясни мне — почему?»
«Потому что!»
Но теперь, когда этот человек сидел перед ним, Лео подумал, что «потому что» его адвоката — банальность. На самом деле вопрос политических предрассудков. Здоровый вид говорил о том, что он надежный человек. Он действовал так, потому что не мог иначе. Если магистрату становится известно о каких-то преступлениях, его долг — заниматься ими и преследователь того, кто их совершил. Это диктует уголовный кодекс, но также и здравый смысл. И не нужно было знать то, что и так было известно Лео, что большая часть обвинений, выдвинутых против него, были изобретены для того, чтобы перестать ценить скрупулезность, с которой этот человек исполнял обязанности, возложенные на него обществом. Лео вспомнил, как спросил у Эрреры, общался ли он когда-либо с этим типом.
«Конечно. И не только, когда должен был встречаться с ним по твоему делу. Но еще раньше, понаслышке, его знают многие. Его перевели сюда или он сам перевелся, не знаю».
«Откуда?»
«Из Калабрии. Точнее, из Аспромонте. А там не шутят. И кажется, наш друг и там отличился, скажем так, своим упрямством. И там он ухитрился разозлить кучу народу. Именно поэтому с ним прислали внушительное сопровождение. Угрозы, оскорбления, письма с пулями. В общем, обычный мрачноватый набор, при помощи которого мафиози предупреждают тебя, что ты их достал. Наверное, поэтому его перевели. Или он сам перевелся. Представляешь непробиваемых пьемонтских идеалистов, которые мечтают со времен университета добраться до самого Юга и установить там правосудие? Он из этой породы. Воспитан на хорошей литературе. Ценитель музыки. В общем, из тех, от кого лучше держаться подальше».
«Но кроме этого, каков он? Как судья, я имею в виду?»
«Каков он? Адольф Гитлер: суровый, но справедливый».
Так, прибегнув к одной из своих циничных и гиперболических острот, Эррера дал понять своему клиенту, что тема закрыта. Речь шла о вопросе, над которым Лео не стоило ломать голову. Забота адвокатов, а не их клиентов. Хотя полная сарказма реплика Эрреры произвела странный эффект, преобразив в глазах Лео сущность человека, стоящего напротив. Имя Гитлера пролетело мимо ушей. Осталась только пара определений: суровый, но справедливый. Если это действительно так — суровый и справедливый, — что ж, тогда Лео нечего было бояться.
Если не считать формальных приветствий, следователь еще не обратился ни с одним словом ни к Лео, ни к Эррере. На данный момент он был занят тем, что вполголоса давал указания тем, кто, должно быть, были его коллегами, или подчиненными, или помощниками. Один, совсем юный, сидел за пишущей машинкой и, возможно, печатал протокол. Второй, постарше, проверял работу магнитофона с большими бобинами на тумбочке рядом со столом. Они, вероятно, из уголовной полиции. Два помощника. Это чувствовалось по их большой, но в то же время душевной почтительности по отношению к следователю. Лео пришло на ум, что работа в государственных учреждениях должна быть отмечена духом сотрудничества и сплоченности. Как будто бы речь шла о хорошей семье, возглавляемой суровым, но справедливым родителем.
Наконец, там была одна женщина. Тоже достаточно молодая. Отсутствие солидности и худоба удивительно сочетались с темно-каштановыми жесткими волосами. Возможно, она была ассистенткой следователя. Сейчас эти двое переговаривались. Возможно, они будут участвовать в допросе.
Эта атмосфера сосредоточенности и ожидания вызвала у него ощущения близкие тем, что предшествуют хирургической операции. Хотя Лео и не был хирургом, он любил присутствовать на операциях, которым часто подвергались его маленькие пациенты. Чтобы, кроме прочего, убедиться, что эти мясники не ведут себя слишком вольно. Так вот, как себя чувствует ребенок до того, как на него подействует наркоз, среди всех этих взрослых, которые переговариваются друг с другом, готовятся, дают советы друг другу. Эти взрослые, одетые как космонавты, которые вот-вот будут что-то делать с тобой.
Даже свет в этом кабинете, яркий и искусственный, напоминал свет операционной.
Лео, обратив внимание на то, как женщина смотрела на следователя, был убежден, что она влюблена в него. Более того, влюблена по уши! Намертво. А как могло быть иначе? Кто бы не влюбился в такого человека? Наконец-то Лео позволил себе рассмотреть его как следует. Чтобы понять, в чем именно заключено необъяснимое очарование. Пока следователь общался с женщиной и сидел к Лео спиной.
Есть мужчины, у которых брюки, из-за выпрямленной спины, ниспадают с безупречной и поэтому невыносимой прямотой. Такие мужчины без задницы, как правило, не обладают состраданием, имеют весьма ограниченные запасы эмоций и прежде всего холодны, точны и лишены загадки, как решенный ребус. Вот о чем говорил плоский и жесткий зад следователя: он говорил все о суровости этого молодого человека, но мало о его темпераменте.
Когда он наконец повернулся к нему лицом, Лео был поражен исходящей от него мужественностью. Не выше метра семидесяти пяти, скорее суховатый, чем спортивный, следователь носил голубую рубашку с открытым воротом и рукавами, засученными по локоть. Летние льняные брюки кремового цвета составляли часть костюма, пиджак от которого висел на спинке стула. Безупречно круглая и бритая наголо голова напомнила Лео актера, который так нравился Рахили, как же его звали? Ах да, Юл Бриннер. А еще ярко-голубые, как у голландцев, глаза.
Какая ностальгия по жизни. По его жизни. Эти чувства внезапно переполнили душу Лео. При виде мужчины, который прекрасно чувствовал себя в своих штанах без ремня. При виде мужчины, которому было позволено свободно заниматься своим делом. При виде мужчины, полного сил, энергии, профессионализма, власти, Лео почувствовал зависть. Ему вдруг захотелось — на мгновение, но очень сильно и страстно вернуть все, что у него увели из-под носа. Дом, гардероб, студентов, срочные вызовы в больницу, он вспомнил удачи и неудачи, конференции, перерывы на кофе между одним заседанием и другим, он подумал о Рахили, Филиппо, Самуэле, даже о Флавио и Рите, он вспомнил запах торта, только что испеченного Тельмой, отпуск в лагуне или в горах, субботы и воскресенья, но также и вторники, он подумал о великом Рэе, о голосе великого Рэя, прежде всего о нем… На мгновение вернулось все. Все то, что он потерял. Вместе со страхом. Со страхом перед странным обрядом, который ему предстояло пройти и в котором ему была отведена главная действующая роль. Прощай стоицизм. Прощай фатализм. Такова жизнь. В своей насыщенной и недвусмысленной форме. В ней фатализм был бесполезен, а философия становилась потерей времени.
А что Эррера?
После того как он выместил всю свою злобу перед дверью, оказавшись в кабинете, он внешне успокоился. Это не могло не понравиться и Лео. Синьора Понтекорво беспокоило, что его адвокат в сравнении со следователем казался бессильным, одиноким, лишенным авторитетности.
«Адвокат дель Монте», — сказал следователь голосом, который, увы, не соответствовал его виду: недостаточно твердым, недостаточно густым, не под стать великому человеку. Раздражающе высоким. С явным туринским акцентом.
«Адвокат дель Монте, если вы не возражаете, я бы начал…»
«Хорошо, но прежде я бы хотел…» — ответил Эррера спокойно, но с суровостью, которая одновременно понравилась и не понравилась Лео.
Следователь сразу же его перебил, как будто не слышал его просьбы:
«Адвокат, если вы не имеете ничего против, мы пропустим чтение обвинительного акта, так как вы с ним ознакомлены. Я полагаю, что и вы, и профессор Понтекорво имели достаточно времени… Кстати, что касается времени мы и так его немало потеряли».
Ознакомлены с обвинительным актом? Что за странное выражение. Лео догадывался, что они пропустят предварительные формальности и сразу перейдут к сути. К допросу. Не зачитывая обвинение. Что отдаляло еще на некоторое время момент, когда он узнал бы, в чем его обвиняют и за что бросили в тюрьму. Лео начал тихонько поглаживать карман брюк, в котором лежали листки.
«Не имеем ничего против, доктор».
«Профессор, безусловно, ваш адвокат должен был вам сообщить, что несколько дней назад я отправился в ваш дом для еще одного расследования…»
«Кстати… — снова вмешался Эррера. — Вы понимаете, что у нас не было даже возможности поговорить с профессором Понтекорво… в общем, я ожидал…»
Тон Эрреры опять насторожил Лео. Он показался ему натянутым, как у человека, который едва сдерживается, чтобы не взорваться. Совсем не таким, как должен быть в данной ситуации, и противоположным блаженному спокойствию следователя.
Между тем Лео был доволен, что они оба обращались к нему «профессор». Ему казалось, что он имеет дело с воспитанными людьми. Людьми одного с ним класса. Магистрат, Адвокат, Профессор. Прекрасный триумвират. Чем больше Лео пребывал в этом кабинете, тем большим доверием он проникался к этому человеку. Ему хотелось отвечать в тон. Потому что речь шла о честном человеке. Помнишь? Суровом, но справедливом. С такими людьми Лео мог иметь дело. Не враг, но противник. Не засушенная училка математики, которая в свое время отправила его на пересдачу. Не монстр, который преподавал химию в университете. Не Камилла и даже не папаша этой проклятой девчонки. Не аноним, угрожавший по телефону. Не продажные писаки, которые упражнялись в том, чтобы опорочить его доброе имя. В общем, не все те люди, которые желали ему зла и которыми был переполнен свет. Суровый, но справедливый человек. Ищущий истину. Так, Лео хотелось схватить за рукав своего адвоката и сказать ему: «Оставь, не придирайся, дай сказать следователю. Проясним это дело и разойдемся по домам».
«Доктор, вы отдаете себе отчет в том, что мы с профессором не смогли ни поговорить, ни даже увидеться в последние дни…» — начал Эррера, как будто намекая на препятствия, а не на меры предосторожности, которые помешали ему встретиться с его клиентом в последние пять дней и ночей.
«Итак, что вы намерены делать, профессор? Вы хотите воспользоваться правом не отвечать на вопросы? Признать вину? Оправдаться?» — спросил следователь.
На этот раз Лео не знал, что прозвучало в его голосе: сарказм или рекомендация. Была ли в нем скрытая угроза? Единственное, что он знал наверняка, — этот тон ему не нравился, и он явно был вызван язвительностью Эрреры.
«Скажу только…» — настаивал Эррера.
Зачем так тянуть? — спрашивал себя Лео. Зачем раздражать следователя, который казался таким спокойным? На самом деле Лео не терпелось отвечать. У Лео никогда не было такого желания отвечать, как в тот момент. Сейчас, когда перед ним сидел человек, готовый задать правильные вопросы, на которые можно дать правильные ответы.
«Итак, адвокат, начнем или нет?»
Краем глаза Лео заметил, что Эррера начал поддаваться, но с осмотрительностью.
В это время общественный служитель повернулся к молодой женщине, которая без промедления протянула ему внушительную пачку документов. Чувствовалось, что ее собирали несколько месяцев.
«Итак, профессор, вчера в вашем доме был проведен обыск. Я лично возглавлял его. Обыск продлился несколько часов в присутствии вашей жены».
Он говорил это безличным голосом, как будто зачитывал протокол. Хотя было очевидно, что он ничего не читает.
Рахиль? Следователь и Рахиль познакомились? Они были одновременно в одной комнате? Они разговаривали? Пока он гнил в тюрьме? Это было нечто, что он с трудом мог себе представить. С тех пор как он сидел напротив следователя, Лео впервые почувствовал враждебность по отношению к этому человеку.
Что это было? Ревность? Или стыд? Или все вместе?
Конечно, Лео с трудом представлял, как Рахиль и следователь ходят по дому и роются в его вещах. Он спросил себя, как Рахиль выдержала очередное унижение. После того как у Лео целых два месяца не было никаких отношений с женой, он почти с уверенностью мог сказать, что не имеет ни малейшего представления, что это за женщина. Вот такие дела. Ему потребовалось двадцать лет, чтобы узнать ее, и несколько месяцев, чтобы забыть. Поэтому ему пришлось приложить столько усилий, чтобы представить, как она отреагировала на вторжение группы громил во главе со следователем в святая святых ее дома. Ему на ум даже пришла безумная мысль, что в приступе своего абсурдного трудолюбия она пришла к ним на помощь, как это случалось с обойщиками или плотниками. Другая, не менее безрассудная мысль подсказала ему, что Рахиль могла протестовать, учитывая ее вспыльчивый характер. Кричать, что они не смеют, что это невозможно, что она не потерпит… Более вероятным было предположение, что она уступила воле этих людей. Ее муж страшный преступник, это он поставил их в такое положение своей безответственностью, равной его порочности: с ее стороны было правильным позволить этим людям делать столь унизительные вещи. Потому что только такой серьезный и унизительный процесс смог бы пролить свет на эту бесконечную историю.
Обыск. Есть ли на свете более унизительная штука? Лео вспомнил, как однажды в январе они с Рахилью, Тельмой и мальчиками вернулись после двухнедельного отпуска в Анзере и обнаружили, что в доме все перевернуто вверх дном. Пока они отсутствовали, сюда проникли воры и совершили ограбление. Лео помнил пронзительные вопли Тельмы: «Синьора!.. Синьора!..» Он также помнил овладевшее им чувство гнева и унижения. Чувство гнева и унижения, которое овладело всеми ими. Смесь недоверия и обиды. Как это возможно? Запустить руки в их вещи? Деньги, картины, драгоценности Рахили, телевизор из детской, его часы, даже некоторые его диски и многое другое. Но не так уж важны были сами предметы, их можно было купить. А если нет, тогда можно было прекрасно жить и без них. Проблема заключалась во вторжении. Безобразном вторжении. Они запустили свои руки в самое дорогое место. Гнездышко, построенное для того, чтобы защищать и лелеять семейство Понтекорво. Это было самое страшное.
Лео стало до тошноты противно, когда он представил, как следователь и его приспешники под снисходительно-печальным взглядом Рахили копаются в его вещах.
И в этот момент следователь, который до сих пор вел себя безупречно, вдруг сказал слова, которые показались, Лео совсем неуместными:
«Должен заметить, профессор, у вас действительно замечательная коллекция дисков».
Что он себе позволял? Он пытался острить? Или говорил всерьез? В обоих случаях это было позорно и неуместно. Как? Ты бросаешь меня в тюрьму, почти уничтожив, а теперь принимаешься говорить о дисках? О моих дисках? О моих дисках и моей жене? Как будто хочешь подчеркнуть, что, пока я здесь гнил, ты развлекался в моем доме, с моей семьей? На мгновение Лео даже представилась сюрреалистичная картина, которую он тотчас же прогнал из своего воображения из-за ее абсурдности — следователь поменялся с ним местами, занял его место в жизни, обосновался в его доме, чтобы слушать его бесценные записи.
Тем не менее Лео еще надеялся, что он неверно расслышал слова следователя. Или неправильно их понял. Он скорее готов был услышать вопрос: «Где вы были после обеда в такой-то час?» Он готов был услышать вопрос: «Кто может подтвердить, что вы там были в тот день?» Он готов был услышать все стандартные вопросы, которые обычно задают в детективах, которые издает «Мондадори» (в юности Лео поглощал их пачками). Но он не был готов говорить о дисках. Кроме того, он был поражен, что Эррера, который до сих пор влезал во все к месту и не к месту, еще не приструнил этого ублюдка. А тот спокойно продолжал свои трюки:
«Ваша коллекция записей Рэя Чарльза на самом деле бесценна. Там есть просто редчайшие диски!»
Нет, в том, что тетя Адриана годами присылала Лео из Штатов некоторые «бесценные» записи Рэя Чарльза, не было ничего удивительного. Самое удивительное заключалось в том, что этот тип — жестокий преследователь мафиози, неподкупный обвинитель — не прекращает говорить об этих записях. А адвокат Лео (акула суда) упорно продолжает молчать. А помощник прокурора беспрерывно пишет каждое слово начальника, не бросив на него ни единого подозрительного или удивленного взгляда. Это розыгрыш? Или абсолютно новая техника на допросе, только что вывезенная из Соединенных Штатов, чтобы заставить «расколоться» как виновных, так и невиновных? Сначала развлекаешь их разговором об их хобби, а затем загоняешь в ловушку? Будь начеку, Лео. Будь начеку.
«Благодарю вас, господин следователь», — процедил Лео, пытаясь вложить в свои голос весь сарказм, на который он был способен. Надеясь, что он заденет не только следователя, но и Эрреру. Или заставит их образумиться.
«И книги, профессор, должен я сказать. Весьма неплохая подборка. У вас есть вкус».
Эррера — опять молчание.
«Знаете, я полистал эти книги, — прибавил следователь. — Более того, мы их все внимательно просмотрели, — поправился он, окинув взглядом всех присутствующих, как будто они находились не в колонии строгого режима, а в изысканном клубе библиофилов. — И мы составили очень четкое представление о ваших вкусах, профессор. О ваших предпочтениях. Действительно рафинированных, профессор».
У Лео не было сил ни отвечать, ни благодарить его. Профессор, профессор. То, что вначале казалось ему признаком уважения, признанием его социального статуса, сейчас раздражало.
«Мы заметили также, что вы имеете привычку подчеркивать в книгах. Карандашиком, естественно. Конечно, конечно, ручкой было бы настоящим варварством. А карандашик и стереть можно».
«И что?» — набравшись мужества, спросил Лео. В этот момент он почувствовал, как Эррера тянет его за рукав. Как будто призывая его к порядку. Правда, он вспомнил, что Эррера призывал его не говорить ни да ни нет. «Никаких комментариев. Говори как можно меньше». Он повторял ему это до тошноты. Но это была ненормальная ситуация. Следователь говорил о книгах. О книгах, в которых избранные места были подчеркнуты карандашом. Возможно, у Эрреры не было права вмешиваться в допрос, чтобы перевести его в нужное русло? Или, может быть, только Лео чувствует нелепость происходящего?
«Итак, профессор, я выделил некоторые фразы, которые вы подчеркнули, и они показались мне очень интересными. Они достойны комментария и наводят на размышления. Например, послушайте вот это. „Норма римского права, согласно которой девица, достигшая двенадцати лет, могла выходить замуж, была принята Церковью и до сих пор действует по умолчанию в некоторых штатах Америки. Возраст 15 лет считается законным для вступления в брак повсюду. Нет ничего плохого в том, утверждается в обоих полушариях земного шара, если какой-нибудь сорокалетний урод, с благословения местного священника и набравшись спиртного, снимет мокрое от пота нижнее белье и вонзит свою „шпагу“ в юную супругу. В умеренном климате девушки созревают к концу двенадцатилетнего возраста“. Интересно. Вы не находите это интересным, профессор?»
«По правде говоря, я не понимаю, почему вы зачитываете мне эти отрывки. Я не знаю, о чем идет речь. Я даже не знаю, из какой это книги».
«Не понимаете? Тогда, позвольте, я зачитаю вам еще один подчеркнутый вами отрывок. Из той же книги, того же автора. „Брак и сожительство до достижения половой зрелости вовсе не являются исключением по сей день в некоторых регионах Индии. У народности лепча восьмидесятилетние старики вступают в половые связи с девочками восьми лет, и это не осуждается. Наконец, Данте безумно влюбился в Беатриче, когда той было девять лет…“»
Следователь продолжал читать. Лео начал понимать то, что должен был понять уже давно. Это было не так уж и сложно. Подчеркнутые им отрывки, по мнению прокурора и его помощников, являлись доказательством извращенности Лео. Это все, что он имел? Именно поэтому арестовали Лео? Потому что он подчеркнул некоторые отрывки в книге? А если бы он подчеркнул отрывки, в которых говорилось бы о массовом уничтожении армян, его бы обвинили в геноциде? Вот в чем было дело?
«Доктор, — вмешался наконец Эррера, — я не вижу никакой связи с тем, что…»
«Не видите связи, адвокат? И вы тоже, профессор? Вы тоже не видите? Тогда вот вам еще одна из ваших книжек. Она тоже довольно известна. Послушайте-ка это. Этот отрывок тоже подчеркнут. „Сорокалетний мужчина обесчестил двенадцатилетнюю девочку: может быть, среда вынудила его на это?“»
«Я по-прежнему ничего не понимаю, — говорил Эррера. — Что вы хотите от профессора?»
«Это очевидно, — сказал Лео, забыв об осторожности и еще больше разгневанный. — Не понимаешь, Эррера? Господин следователь намекает. Господин следователь пытается приложить все свое мастерство, чтобы составить психологический портрет преступника».
«Молчи, — сказал ему Эррера. — Ради бога, молчи!»
«Нет-нет, не молчите. Продолжайте. Скажите мне. Вы думаете, что я занимаюсь именно этим? Именно это мы делаем сейчас? Психологический портрет? Очень интересно. Правда очень интересно. Да, кстати. А вот другие прекрасные штуки, которые мы нашли в вашем кабинете в полуподвальном этаже. Они были спрятаны за вашими бесценными дисками».
Следователь попросил женщину передать еще один пакет, из которого вынул несколько смятых порнографических журналов. Лео сразу же их узнал. Он купил их во время долгого путешествия в Соединенные Штаты, куда он отправился один на конференцию. Эротические и порнографические журналы. Их заголовки намекали на юные лета моделей, которые были изображены на обложках в откровенных позах. «Только вчера ей исполнилось 16». «Лолиты» и т. д. Для Лео было настоящим ударом увидеть эти журналы, несколько лет провалявшиеся за его дисками. Не потому, что они имели какое-то значение, не потому, что они что-то доказывали. Все здесь присутствовавшие отлично знали, что эти журналы не являлись запрещенным чтивом. Журналы для взрослых, которые любой совершеннолетний мог спокойно купить в любом киоске. Тем более такой ответственный взрослый, как он, сделал все, чтобы спрятать их от своих несовершеннолетних сыновей.
Причина, по которой Лео был так поражен, заключалась в том, что он понял: сцена обнаружения всей этой порнографии произошла в присутствии Рахили. Лео подумал об унижении Рахили. Конечно, сейчас все жены, достойные этого названия, знают, что их мужья иногда нуждаются в подобных вещах. Все здравомыслящие жены понимают, что одно дело — супружеские отношения, другое — мастурбация. И несмотря на то, что мастурбация отвратительна, она в тысячу раз лучше супружеской измены, постоянной или случайной. Но мысль о том, что Рахиль увидела эти журналы. Мысль о том, что они были найдены при ней. Мысль о том, что после такой находки на нее могли посмотреть с осуждением. Мысль о том, что она могла представить мужа, который мастурбировал на все эти картинки в ванной. На всех этих девиц. Увы, эта мысль казалась невыносимой. Она унижала, уничтожала и еще более злила его.
«И это ваши доказательства? Вы хотели спросить меня, неужели уважаемый и солидный профессор сорока восьми лет с прекрасной женой и двумя прекрасными сыновьями еще занимается онанизмом? И тем не менее — да, он иногда этим занимается. И в чем проблема?»
«Мне кажется, я не говорил о проблемах. Никаких проблем. Это ваши слова. Я ограничиваюсь только тем, что показываю вам некоторые принадлежащие лично вам предметы. Как вот этот, например».
На этот раз следователь схватил альбом с картинами и фотографиями.
«А что вы мне скажете об этих статьях? Они тоже принадлежат вам и найдены в вашей домашней библиотеке».
«Что я вам о них скажу? Покажите мне их. Это альбом с выставки, которую мы с женой посетили несколько лет назад в Швейцарии. Одного из самых известных современных художников. Балтуса. А это… посмотрим. Это открытки. Они тоже, не помню, с какой выставки. Это фотографии одного великого писателя. Писателя, которого незаслуженно считали детским. На самом деле он был исключительным художником, чьей слабостью было фотографировать девочек-подростков. Я их лечу, а он их фотографировал. Его звали Льюис Кэрролл. Меня зовут Лео Понтекорво. Эта фотография, если не ошибаюсь, изображает Алису Лидделл, которая играет роль нищенки. Об этой, где она играет на скрипке, я не знаю, что вам сказать. Но мне она кажется очень красивой, очень выразительной. Я нахожу достаточно волнующими как дымчатые тона фотографии, так и грустный вид этой девочки. Я так представляю Алису в Стране чудес. Именно так. Знаете, я всегда обожал эту книгу. Я даже заставил своих сыновей прочесть ее. И я все мог себе вообразить, все, кроме того, что сам окажусь когда-нибудь в стране чудес. Потому что именно так называется это место, верно? Страна чудес? Вы знаете ее, доктор, страну чудес? Конечно, вы ее знаете. Вы утонченный человек, господин следователь. Вы прекрасно знаете, что фотографии Льюиса Кэрролла не имеют никакого значения. Также вы прекрасно знаете, что альбом Балтуса тоже не значит ничего такого. Балтус рисует только голых девочек? Льюис Кэрролл их фотографирует? Попробуйте их арестовать, если сможете. Попробуйте-ка войти в страну чудес».
«Профессор, не вам решать, кого я должен или не должен арестовывать. Кроме того, у меня есть и другие вещи, которые я могу вам показать».
«А теперь о чем идет речь? Вы дадите мне послушать ангельский хор? Или последний диск Дзеккино д'Оро[10]?»
Лео продолжал изображать сарказм, а Эррера не вмешивался. Он сидел с остекленевшим взглядом, как будто увидел кошмар.
«Я не думаю, профессор, что в вашем положении вы можете позволить себе острить», — отрезал ледяным тоном следователь.
Затем, спустя некоторое время, он достал еще одну пачку фотографий и разложил их на столе перед Лео.
«Вы сделали эти фотографии?»
Лео взял одну из них с выражением разочарования и сарказма. Затем все остальные.
«Да, это мои фотографии. И что?»
Это были фотографии с дня рождения Самуэля… прошлого года. Точнее, это были фотографии, которые его заставила сделать Рахиль и которые, если бы на то была его воля, он никогда бы не стал делать. Что в них было криминального? Что было незаконного в том, чтобы уступить назойливым просьбам жены? С первого взгляда Лео ничего не понял. Он не понял, на что намекает следователь. Эти фотографии не значили ничего. Только то, что его жена была помешана на сувенирах. Таков был характер Рахили: она хотела, чтобы от каждого случая, который она считала важным событием, оставалась хоть одна фотография. Ее страх перед неумолимой текучестью всех вещей на свете, ее мелкобуржуазное почитание идолов подвигали ее на собирание малейших свидетельств всего. Они заставляли ее собирать кучи ненужного мусора и никогда ничего не выбрасывать. Достаточно было, чтобы один из ее сыновей, надев новый пиджак или галстук отправлялся на праздник, и она просила Лео сфотографировать этого неуклюжего кавалера. Достаточно было, чтобы все семейство Понтекорво собралось идти в Оперу или на обряд посвящения сына какого-нибудь друга, и Тельма или другой несчастный, попавшийся под руку, должен был увековечить сей важный момент их жизни.
Пока Лео быстро просматривал пачку фотографий, которую следователь сунул ему в руку, он заметил, что автор этих снимков подозрительно сосредоточил свое внимание на одной из девочек, присутствующих на празднике. Тогда он понял. Так вот в чем дело! Очередное доказательство. Возможно, Лео должен был объяснить следователю, что это именно виновник торжества настоял на том, чтобы его отец-фотограф уделил побольше внимания его девушке. Разве в этом было что-то скабрезное? Ничего. На самом деле ничего.
Но самое ужасное заключалось в том, что Лео, который уже несколько минут сидел напротив следователя и рядом со своим безмолвным адвокатом, еще не было предъявлено никакого особого обвинения. Ни единого вопроса о его предполагаемых преступлениях. Только инсинуации. Только набор надуманных доказательств, собранных группкой некомпетентных крючкотворов, слишком зацикленных на психологии, чтобы считаться серьезными людьми. Итак, в чем же его обвиняют? Лео был уверен, у них должны быть более существенные доказательства. Если бы у них не было таких доказательств, они бы не смогли притащить его сюда. Нет, они бы не смогли разрушить жизнь человека, имея в руках только эти ничего не значащие и превратно истолкованные безделушки. Лео был уверен, что есть что-то еще. Не может быть, чтобы больше ничего не было. Итак, к чему вся эта пытка? Зачем весь этот бесконечный пролог? Почему бы не перейти сразу к выводам? К сути? Где туз в рукаве? Вот чего Лео не мог понять и что подстегивало его сарказм и его негодование.
В сущности, если хорошенько подумать, единственный вопрос, который до сих пор ему задали — пусть даже не прямо, — носил немного странный и философский характер и звучал примерно так: почему ты Лео Понтекорво?
Именно это хотел выяснить следователь. Это хотел спросить у него следователь, который ходил вокруг да около, не решаясь набраться мужества. Это выглядело так, как будто он имел что-то против Лео только потому, что тот Лео. И конечно, было сложно очиститься от преступления подобного рода. От преступления быть Лео Понтекорво. От преступления жить до сих пор как Лео Понтекорво и, если будет необходимо, умереть как Лео Понтекорво. Как можно оправдаться при подобном преступлении? Остальное — все это барахло, которое они продолжали подсовывать ему под нос, — только предлог, бесполезная трата времени.
В какой-то момент Лео почувствовал себя уставшим. В какой-то момент у него пропало желание объяснять. В какой-то момент все показалось ему таким пустым, надутым, притянутым за уши. Он спросил себя, неужели в мире существует столько доказательств его извращенности, или личная жизнь каждого человека может быть так мастерски искажена.
«Профессор, — спросил вдруг следователь. — Вы знакомы с Донателлой Джанини?»
Донателла Джанини. Конечно, он знал Донателлу Джанини. Упоминание об этой женщине сразу перенесло его в место, чистое, аскетичное, приносящее пользу, сильно отличающееся от того, в котором он сейчас находился. Донателла Джанини. Она была одной из медсестер Санта-Кристины. Одной из самых способных. Одной из самых расторопных, готовых всегда прийти на помощь, одной из самых предприимчивых и сообразительных. Ее любили все в отделении: пациенты, родители больных, врачи, ее коллеги-медсестры и ее помощники. В общем, все. Одна из самых приятных и харизматичных старших медсестер, которая посвящала себя работе полностью.
«Знаете, что сказала нам Донателла Джанини?» — спросил следователь, вынимая из очередного конверта очередной листок.
«Как я могу об этом знать?»
«Она сказала, что вы в своем отделении поощряете сексуальные связи между несовершеннолетними больными».
«Но это не так… не так… Донателла не могла сказать подобную вещь… Если только вы не намекаете на ту историю, которая случилась несколько лет назад… но я сказал так, к слову… Донателла застала двух ребят… она пришла, чтобы сказать мне об этом… она была сильно удивлена… и я ей сказал только… но не в том смысле… не в том смысле, в котором имеете в виду вы… Донателла не могла сказать такое… Мы правда поспорили о том случае. Я кое-что сказал, но так, к слову, в абстрактном смысле. Чтобы раззадорить ее. Это была провокация».
При слове «провокация» Эррера решил вмешаться. «А теперь хватит, Лео. Помолчи… Доктор, достаточно. Мой клиент имеет право не отвечать. Достаточно».
«Вовсе не достаточно, Эррера. Ты не понимаешь. Ты не понимаешь, что со мной творят. Ты не понимаешь, что они творят ужасные вещи. Это абсурдно. А ты ничего не понимаешь и ничего не говоришь. Я дал тебе кучу денег, чтобы ты что-нибудь сказал. Я сделал тебя богатым, чтобы ты защитил меня. А ты бьешь баклуши. Ты ничего не говоришь».
«Лео, я сказал — хватит!»
«А я сказал, что ты не понимаешь! И никто не понимает и не сможет понять. Если только не погрузится в это с головой, не почувствует изнутри. Эти люди только и делают, что говорят мне абсурдные вещи. О подчеркнутых страницах в книжках, о каталогах с выставки, о дисках. А ты притворяешься, что ничего странного не происходит. Эта смотрит на меня, будто перед ней сидит Менгель… Тот пишет… а я… Абсурд — это ужасно. А хуже всего — надуманность».
«Лео, перестань… Господин следователь, предлагаю остановиться на этом».
«Нет! Я не намерен останавливаться на этом!» — сказал Лео, вставая.
«Профессор, вынужден вас попросить сесть на место и сменить тон».
Лео услышал, как дверь за спиной открывается и кто-то входит. Обеспокоенный охранник?
«Я не намерен останавливаться на этом, — повторил Лео. — Как же так? Несмотря на все наши стратегии? Все наши разговоры? Сейчас ты ничего не скажешь? Ты сидишь здесь и все время молчишь? У тебя же всегда есть в запасе советы для меня. Ты всегда ворчишь на меня за что-нибудь. Ты всегда знаешь, что делать. Только не в этот раз. В этот раз ты не знаешь…»
«Прошу тебя, Лео… Давай-ка правда остановимся на этом».
«Ничего мы не будем останавливаться. Ты понял, что мы не будем останавливаться? Я целыми месяцами не говорю. Я целыми месяцами только слушаю других, как наказанный ребенок. Целыми месяцами я послушно выполняю то, что мне сказано, притворяюсь, что все, что со мной происходит, имеет какой-то смысл. И что я в каком-то смысле это заслужил. Уже давно я позволяю тебе насмехаться надо мной, позволяю этим людям издеваться надо мной. Я больше не могу. Это невыносимо. Это настоящий ад. Ты не знаешь. Ты не знаешь, что здесь творится. Было бы неплохо сделать заявление о том, что здесь творится… Но ты, Эррера, ты за кого? Можно узнать, на чьей ты стороне?»
«Лео, если ты продолжишь в том же духе, я буду вынужден отказаться от обязанности защищать тебя».
На этот раз вскочил Эррера, но его действия произвели не столь устрашающее впечатление на присутствующих.
«Ты только об этом волнуешься? Как отказаться от обязанности защищать меня? Не иметь ничего общего со мной, со всем, что со мной происходит? Боишься попасть в мой ад? Что же, будь спокоен. Это касается только меня… Поступай, как считаешь нужным. Но я только хотел сказать тебе, что думаю».
«Не здесь, не сейчас. Как тебе еще это объяснить? Послушайте, господин следователь, лучше, если…»
«Я же сказал тебе, Эррера. Я пытался объяснить тебе это. Они обманывают тебя, используя фотографии. Они выкладывают перед тобой какую-нибудь фотографию и думают, что все о тебе знают. Они полагают, что поняли всю твою подноготную. Эти фотографии — истина для них. Если бы только можно было жить, не оставляя никаких следов после себя! Если бы мне только удалось объяснить вам, что значит быть загнанным в ловушку двенадцатилетней девчонкой…»
«Что вы имеете в виду, профессор, когда говорите „загнанным в ловушку“?»
Какое коварство… Смешно. Ужасная двусмысленность слов. Разрушительная сила подобной двусмысленности. Чем больше ты оправдываешься, тем больше тонешь. Чем больше пытаешься быть ясным, тем более мутным все становится. Наверное, Эррера прав, из этого ничего не выйдет: лучше молчать. Но я больше не могу молчать. У меня никогда не было такого желания высказаться.
«Быть загнанным в ловушку, доктор, значит быть загнанным в ловушку. Я не знаю, как еще иначе объяснить это. Чувствовать, что вам угрожают, что вас шантажируют, что вами управляет нечто несоизмеримое, пугающее и неконтролируемое…»
«Вы говорите о своих побуждениях, профессор? Вы их сейчас имеете виду?»
«Нет, я говорю не о моих побуждениях. Я не думаю, что у меня есть неконтролируемые побуждения. Не думаю, что когда-либо их имел. Не больше, чем любой другой человек, обладающий здравомыслием. Я говорю о жестоком, отвратительном, бессмысленном поведении одной двенадцатилетней шлюшки, которая черт знает почему решила разрушить мою жизнь. Уничтожить все, что я создал, все, что я люблю. Вот так, по какому-то дьявольскому капризу…»
Лео почувствовал комок в горле, ему хотелось плакать. Но он также чувствовал, что нашел верный путь. Он говорил правду. Разве не это должны делать порядочные люди? Говорить правду.
«А кто эта „шлюшка“, профессор? Кого вы называете шлюшкой?»
«Лео, прошу тебя, прекрати! Лео, я умоляю тебя, не отвечай!»
«Вы прекрасно знаете, доктор, кто эта „шлюшка“. Я даже имя ее не хочу произносить. Я вам больше скажу. Мне даже страшно упоминать ее имя. Да, такому крупному и взрослому человеку. Мой рост почти два метра, а я не могу произнести имя этой шлюшки».
Лео, несмотря на то, что у него пересохло во рту, а вся спина была мокрая и бешено колотилось сердце, еще соображал достаточно хорошо, чтобы заметить, что каждый раз, как он произносил слово «шлюшка» (и, боже, с каким чувством облегчения он его произносил!), тощее тело молодой помощницы следователя вздрагивало, как от электрического разряда. Лео чувствовал взгляд этой девушки, да, именно девушки — ей было не более тридцати лет, — полный негодования и недоверия. Почему слово «шлюшка» волновало ее так сильно? Она была помощницей государственного служащего. Она должна была слышать более отвратительные слова и видеть вещи похуже. Лео стал подозревать, что это касается одной из женских фрустраций, которые так ненавидела Рахиль. Эти неуравновешенные, страдающие паранойей бабы, готовые трактовать самый невинный жест мужчины как проявление домогательства. Этот тип девиц, лишенных чувства юмора, которые чувствуют на своих костлявых плечах весь груз тысячелетних унижений, которые претерпели женщины.
Что думала о нем эта девушка? Несложно было догадаться: он был врагом, с которым нужно бороться. Ирония судьбы заключалась в том, что там, снаружи, очень многие люди начинали думать, что он является врагом, с которым нужно бороться. И это было невероятно, учитывая жизнь, которую он вел, учитывая все его добродушие, его характер, редчайший талант относиться ко всем снисходительно. Может быть, именно поэтому столько людей ненавидели его. Его ненавидели, потому что он был не способен ненавидеть, а кто не умеет ненавидеть, не умеет защищаться. Его неспособность ненавидеть была непростительна. Да, возможно, это объясняло многие вещи.
Так, увидев помощницу следователя, вздрагивающую каждый раз, когда она слышала слово «шлюшка», Лео спросил себя, а что, если Камилла в будущем станет именно такой женщиной. А что, если все, что она сделала, станет шагом к тому, чтобы превратиться в такую женщину. Женщину, которая ненавидит. Он в первый раз реально думал о побуждениях, которые толкнули Камиллу совершить то, что она совершила. В последние месяцы Лео был слишком занят тем, что пытался освободиться от мертвой хватки этой психопатки, и не задавался вопросом, а что происходит в ее голове все это время. Что подвигает ее на борьбу. Любовь? Ненависть? Коварство? Месть?
Единственное, в чем можно было не сомневаться, что помощница следователя отзывалась ненавистью на каждое слово «шлюшка», произносимое Лео. Каждая «шлюшка» была для нее как удар бичом. Это понравилось Лео. Он как будто осознал некую тайную силу. Силу приводить эту бабу в раздражение. Силу внушать ей отвращение и заставлять ее чувствовать себя хуже. Это преимущество привело к тому, что Лео стал по несколько раз повторять это определение, почти через каждые два слова:
«Нет, не просите меня произносить его. Имя этой шлюшки для меня действительно непроизносимо. Я его даже не помню. У меня в голове осталась только шлюшка, шлюшка, шлюшка, шлюшка…»
Все, чтобы увидеть страдания этой женщины, этой будущей Камиллы!
И тогда следователь решил говорить, на этот раз торжественно-официально, четко произнося каждое слово и листая бумаги широким жестом. Он делал это с удовлетворением, с которым учитель математики пишет на доске верный ответ сложного уравнения:
«Девочка двенадцати лет, которую вы, профессор, называете столь непростительно вульгарным образом, возможно, та самая, которая обвиняет вас в попытке изнасилования?»
Стало быть, вот каково обвинение. Стало быть, поэтому его арестовали. Это было написано на листке, который лежал непрочитанным в кармане Лео пять дней. Камилла обвинила его в очередном преступлении, которого он никогда не совершал и даже не думал совершать. Камилла, старательная и сознательная девочка, довела до совершенства свой шедевр.
Часть четвертая
Он сразу же увидел ее на внутренней стене дома, красиво подсвеченную мягким красноватым светом осени, еще свеженькую: какой-то уличный художник нанес ее во время его отсутствия, возможно даже прошлой или позапрошлой ночью. И ни у кого не хватило такта смыть ее: речь идет о граффити, на которой в наивном стиле нарисован мужчина на лошади. Эдакий Марк Аврелий в изображении любителя. На шее мужчины и лошади — удавка.
Вот как? Они желают ему смерти? И не только ему, но и его воображаемому любимцу? Лошадке с той проклятой фотографии. Лео попытался намекнуть Эррере, что в конечном счете он оказался прав. Что та фотография имела большое значение. Но именно в тот момент, когда Лео говорит об этом Эррере, он вдруг понимает, что лично ему это не важно. Убеждать Эрреру. Спорить с Эррерой? Разве есть в этом какой-то смысл?
Для Эрреры было непросто добиться освобождения Лео. Особенно после того провального допроса. Особенно после глупых выходок Лео. Особенно после того, как последнего должны были поместить в колонию строгого режима. Лео пробыл в ней двадцать дней. Так ему сказали: двадцать дней. Хотя в его восприятии и двадцать минут могли показаться двадцатью годами. Но в любом случае Эррера справился. В конце концов он нашел выход.
И именно Эррера приехал за ним. Как триумфатор, он предстал перед тюремными воротами на своем «пятисотом» черном «Мерседесе». Все должно было быть с размахом. Мания величия — слабость Эрреры. Вот он, за рулем этого трансатлантического лайнера на колесах. Одного из тех шикарных и несоразмерно больших автомобилей, которые быстро выходят из моды и несколько лет спустя становятся предметом гордости цивилизованных цыган или бандитов средней руки.
И вот они вместе молча смотрят на стену.
«Я сейчас же позову кого-нибудь, чтобы смыть рисунок».
«Оставь. Не важно».
Покорность становится для Лео почти пороком, но она не мешает ему с яростью захлопнуть дверь монументальной машины Эрреры, когда он выходит из нее и направляется, один, к входу, ведущему в полуподвальное помещение. Как и ожидалось, Лео встречают без оркестра. Еще бы! После всего того, что произошло. После тюрьмы, новых обвинений, свалившихся на его голову. Если Лео нуждается в человеческом тепле, пусть пока довольствуется обществом человека с удавкой, изображенного на граффити.
Именно это он и сделал. Он привязался к нему, как ребенок к облезлому плюшевому мишке. Он все чаще становится на скамейку и через все то же высокое окно кабинета-тюрьмы смотрит на своего нового приятеля.
Проходят дни, недели. Лео худеет, с каждым днем он становится все тоньше и тоньше. У него отрастает борода, белая, густая, как у старца, борода, достойная Моисея. Эта борода — его ответ миру? Его вид соответствует его новому образу жизни и новому мировоззрению. Даже одежда Лео, с тех пор как он вышел из тюрьмы, стала более сдержанной. Он носит трикотажный спортивный костюм, который никогда не надел бы в старые добрые времена. Вот он, неотвратимый и последовательный путь к исправлению.
Скоро зима. Войско из темных, огромных туч, после победного шествия с Урала через Северную Европу, Альпы и Апеннины, добралось до дома Понтекорво и остановилось где-то там, на горизонте, готовое дать бой. Оно принесло с собой первые холода и дожди. Галереи, увитые декоративным виноградом, который совсем недавно пестрел густой оранжевой и красной листвой, уже обнажились и превратились в остов из сухих прутьев, напоминая окаменевший лес.
Лео испугался похолодания, не зная, сможет ли он рассчитывать на сострадание Рахили, которая обычно долго не включает отопление (она не включит его, по крайней мере, до середины декабря). Она уступит только после многочисленных протестов сыновей. Так, Лео, особенно по утрам или после четырех пополудни, все чаще случается дрожать от холода. Здесь внизу влажность опасна для здоровья. Когда ему холодно, он надевает поверх свитера старую лыжную куртку. Он вытащил ее из кладовки, где Рахиль хранит старую одежду, которую никто больше не носит (таких вольных понятий, как «выбрасывать» или «дарить», просто не существует в лексиконе хозяйки).
Куртка пропахла нафталином, но это не огорчает Лео. В кладовке он также отыскал смешной шерстяной берет серого цвета. Из тех, которые носят спортсмены-бегуны или рыбаки, которые любят порыбачить на заре и боятся застудить уши. Иногда вечером Лео случается уснуть, надвинув берет на лоб, и проснуться так утром. Это приводит его в необъяснимый восторг. Он чувствует себя морским волком.
Эррере не пришлось прилагать много усилий, чтобы убедить своего все более лаконичного подопечного не ходить часто в суд (между тем процесс уже начался). Лучше не показываться лишний раз, объяснил ему Эррера. Более разумно в данном случае, если будут рассматриваться действия осужденного, чем сам осужденный во плоти… и прочая и прочая… Эти уловки больше не способны обмануть Лео, эти стратегии отталкивают его. Эррера для него не более чем болтун, он уже показал Лео, из какого теста он слеплен. Он выдохся. Теперь он может говорить и делать все что угодно. Может объяснять или молчать. Лео все равно.
Единственная просьба, которая осталась у Лео к своему адвокату, — рассказывать подробно о каждом заседании суда. Эррера звонит ему вечером, и Лео заставляет его рассказывать все и с усердием примерного ученика записывает. У него всегда есть с собой блокнот (также извлеченный из кладовки Рахили для старого барахла), в который он с предельной точностью вносит отчеты своего адвоката. И пока Эррера говорит, Лео представляет зал суда, в котором разворачивается процесс, в котором народ обсуждает все то, что он сделал или не сделал, все то, что он сказал или не сказал. Где свершается суд? В одной из многочисленных зал Дворца правосудия? Лео представляет мрачное, торжественное строение, бессмысленное копошение, запах капучино из кофемашин. Суета муравейника. Все говорят громко или шепотом. Никогда нормально.
По крайней мере в описании Эрреры зал суда представляется Лео искусственным, как павильон киностудии. Пол уложен брусчаткой, как какая-нибудь средневековая улочка Рима. А фонари такие же, как на какой-нибудь римской площади. Вот именно, площадь. Форум. Место, где собирается народ. Место, где народ спорит. Место, в котором во имя народа принимаются решения о жизни человека.
«Все граждане имеют равные права и все равны перед законом, несмотря на пол, расу, язык, религию, политические взгляды, общественное положение». Пожалуйста, выдержка из статьи номер 3 нашей конституции. Такой четкой, непререкаемой, справедливой. Лео представляет эти слова, выбитыми золотыми буквами на стене между местом для подсудимого и судей: ВСЕ РАВНЫ ПЕРЕД ЗАКОНОМ.
Утверждение верное, но также абсолютно неуместное. Кому есть дело до закона? Закон можно применить и получше в этом мире. Если представить, что одни люди думают о других. Что одни люди делают с другими.
Кстати о людях: если послушать Эрреру, дело Лео Понтекорво привлекает все меньше публики. Но Лео это больше не интересует. Он желает знать все, что говорят. Эррера удовлетворяет его любопытство, предоставляя ему подробнейшие отчеты.
А Лео, слушая их, больше не возмущается несправедливым наветам, которые в его отсутствие так и сыплются на его голову. Он развил в себе странную привычку ко лжи и парадоксальное отвращение к правде. Действительно, это единственная вещь, которая приводит его в бешенство: когда Лео чувствует запах правды, он начинает дрожать. Было достаточно малого… Достаточно было, чтобы Эррера сказал Лео, что он представил суду авиабилет, доказывающий, что Лео не мог быть в тот день, который называет его бесстыдная обвинительница, с ней по той простой причине, что он находился на конференции онкологов в Анверсе… Достаточно было, чтобы Эррера ему рассказал, что после предъявления билета он также обещал найти не менее тридцати свидетелей, готовых подтвердить, что профессор Понтекорво (так Эррера упорно продолжает называть его) был там, на конференции, на светской вечеринке с известными коллегами, и пил шотландский виски, курил кубанские сигары — угощение известных фармацевтических фирм. Достаточно было малейшего упоминания в этой зале его двусмысленного и богатого событиями прошлого, чтобы Лео почувствовал головокружение. Как будто правда возвращала его к тому человеку, которым он был прежде и с которым он уже давно порвал. А поэтому к черту правду и сосредоточимся на выдумках.
Лео продолжает есть по ночам. Какая-то добрая душа оставляет ему готовую еду в духовке, и он, как вор в собственном доме, крадется на кухню за запасами. В первый раз, когда он нашел эти блюда, приготовленные специально для него, у него сразу же пропал аппетит. Лео был растроган бескорыстной добротой анонимного благодетеля, полагая, что он не заслуживает ее, и сбежал с кухни. Но постепенно и это становится привычкой, и желудок требует своего. Каждую ночь, незадолго до полуночи, он заходит на кухню, открывает духовку, берет то, что ему оставили, и спускается в свою пещеру.
Когда он нехотя ест эту теплую еду, Лео случается думать о смерти, и он пытается совместить старый добрый материализм образованного человека с утешительным пантеизмом некоторых личностей, которые перед смертью иногда обращаются к какой-нибудь изощренной восточной философии.
Мне ничего не остается, как рассыпаться в прах, говорит он себе. Да, со мной не случится ничего: я всего-навсего превращусь в прах. Но это не значит, что я исчезну: более того, клетки, из которых состоит мое тело, пропитают все вокруг. Разлетятся, подобно пыльце. Как чудесно! Это что-то вроде инстинкта привязанности к тем, кто останется. Я здесь, Рахиль, мое обожаемое сокровище, любовь моя, я не оставлю тебя. Прах, в который я обращаюсь, будет витать над тобой, над нашими сыновьями… атомы моего разлагающегося тела всегда будут с вами. Они будут сопровождать вас повсюду. Они будут ласкать вас.
Обычно эта мрачноватая форма сентиментализма заставляет его отложить вилку и схватить ручку. И писать. В то время он только этим и занимался. Особенно ночью, как когда-то поэты. Типичная для людей его класса привычка — писать, когда дела идут скверно. Успешный человек никогда не возьмется за перо, дабы прославить свою хорошую жизнь. Он скорее поедет на Бора-Бора или на рыбную ловлю в открытое море! Но писать? Нет уж, об этом мы вспоминаем, только когда дела принимают скверный оборот. Писать — удел несчастных. Пишут, чтобы привести дела в порядок. Пишут, чтобы оставить след. Чтобы вся эта пустота обрела форму и цель. Теперь, когда его процесс потерял остроту, когда о нем начинают забывать, он больше не нуждается в адвокате, который восстановил бы его репутацию. Ему больше не требуется оправдание в глазах общества. Учитывая поведение его семьи, он не может рассчитывать даже на прощение близких, а значит, стоит попробовать писать. Возможно, это последний способ установить истину. Но Лео больше не интересует истина. Вот почему вместо того чтобы сесть за письменный стол и сочинять мемуары, полные ненависти и возмущения, вместо того, чтобы расставить все точки над i; вместо того, чтобы использовать ручку как палицу, на что он имел бы полное право; вместо того, чтобы использовать свой ораторский талант в борьбе против лжи; вместо того, чтобы описывать, как стая бюрократов из больницы вовлекла его в подозрительные махинации; вместо того, чтобы описать, как один из его ассистентов, которому он помог, сначала его обманул, выманив деньги, а затем обвинил в ростовщичестве; вместо того, чтобы описать, как одна шлюшка заманила его в ловушку и как отец этой шлюшки дьявольски использовал письма с целью представить его извращенцем; вместо того, чтобы описать, как целая судебная система исказила его историю, чтобы превратить его в символ коррумпированности всей страны; вместо того, чтобы написать, как его жена, которую он так любил, уважал, которой никогда не изменял, которой дал все блага, которые только мечтает получить женщина от своего супруга, без предупреждения осудила его на жизнь отшельника; вместо того, чтобы написать, как его сыновья стерли его с лица земли… Да, в общем, вместо того, чтобы написать то, что он имел право и должен был написать, Лео принялся размышлять о Лейбнице.
Да, наш друг принялся философствовать, вспомнив старые концепции, вызубренные еще в лицее. Из всего, чему его могла научить жизнь, Лео запомнил только то, что люди — это неделимые монады, частицы «без окон и дверей».
Да, возможно, это правда, монады, как говорит Лейбниц, не имеют ни окон, ни дверей. Но подвал, в котором заточил себя Лео, по крайней мере, один выход имеет (хотя с каждым разом его все трудней преодолеть), а также ряд окошечек, пусть даже маленьких. Они расположены высоко, и из них частично можно видеть внешний мир.
Эти два окошечка, эти два проема являются единственной связью с тем, что Лео, несмотря на все, пытается любить: Рахиль, Филиппо и Сэми. Жаль, что единственная вещь, которую эти две щелочки позволяют ему видеть, — это только ноги любимых им людей. Самые счастливые моменты его длинных и скучных дней — это те моменты, когда он видит ноги своих сыновей и жены, которые идут через аллею к машине. В семь утра Лео, проведя ночь почти без сна, приникает к окну, чтобы увидеть эти ноги, и эти любимые ноги пересекают аллею, резво или с трудом, в хорошую погоду или в дождь. А затем они делают скачок, чтобы исчезнуть во внедорожнике Рахили. Наконец, Лео видит, как серый «Лендкрузер» делает маневр на небольшой, выложенной камнем площадке напротив сада и выезжает за ворота. Это мгновение переполняет Лео восторгом. По непонятной причине абсолютно противоположное чувство он испытывает, когда тот же «Лендкрузер» вечером возвращается домой и ноги Филиппо и Самуэля более резво, чем утром, выскакивают из машины и бегут к входу. Или приостанавливаются на минуту, чтобы погонять мяч, пока Рахиль добродушно замечает: «Время заняться домашними заданиями. Разве вам не хватило игры в теннис? Вам никогда не хватает?» А они кричат: «Пять минут!»
Все как обычно. Никого не волнует тайный узник. Как будто он никогда не существовал. Как будто им удалось вычеркнуть его из своей жизни. Некоторое время назад ребята еще вели себя с оглядкой. Старались не показываться, играли в мяч подальше от окон. Но со временем они ведут себя менее осторожно. Кажется, будто они и впрямь забыли, где живет отец.
И именно те мгновения, когда его семья возвращается домой, становятся для Лео самыми невыносимыми. Он чувствует себя на краю чего-то ужасного. Если бы он только прислушался к себе, он бы открыл эту дверь, поднялся бы по лестнице, снова начал бы жить с ними. Но он уже боится, что они не узнают его. Или еще хуже, что не заметят его. Как будто он превратился в призрак.
Уже наступило Рождество. Он видит украшенные рождественскими игрушками елки и магнолии своих соседей, переливающиеся огоньки и дорожки, выметенные Мухаммедом, садовником-пакистанцем, который обслуживает всю округу. Он видит, как мамочки украдкой выносят из машин мешки с подарками. Лео не может поверить, что все началось год назад. Ему невыносимо думать о том, сколько всего изменилось с тех пор, и он не удерживается от того, чтобы не взглянуть на нарисованного на стене человека с удавкой и найти в этом странное утешение.
Я не могу забыть тебя. Ты вся моя жизнь, когда я чувствую себя так. Когда я думаю о тебе, мне достаточно только взглянуть на тебя, и все хорошо. Все становится на свои места.
Приходит Новый год. Лео, как всегда, приникнув к окну наблюдает, как ночное небо взрывается разноцветными фейерверками, которые отсвечивают мерцающими огоньками на граффити с висельником: озаренный всем этим разноцветным и психоделическим освещением, он оживает и, кажется, вот-вот что-то скажет Лео. Яркие вспышки. Бешеный лай собак. И наконец, в полпятого утра — тишина. 1987 год. Может быть, все уладится. Может быть, 1987 год будет иным. Может быть, вся проблема именно в 1986 годе. Может быть, Рахиль только ждала конца года. Для нее важны некоторые вещи. Предрассудки. Каббала. Для нее это — все. И возможно, она права. Через несколько минут она войдет с сыновьями. Они приготовили для меня этот сюрприз. Они придут поздороваться со мной. Все вместе. Как мы всегда это делали. Все утро 1 января 1987 года Лео ждет, что кто-нибудь войдет к нему. Но никто не приходит. А дни идут своим чередом.
Единственное чудо, которое ему подарил Новый год, — снег. Снег в Риме. Лео все там же и смотрит в окно. И вдруг тот, такой знакомый ему, кусочек мира, ограниченный оконными створками, преображается. Медленный и плавный вальс небесной манны, в силах которой замедлить течение времени и обездвижить пространство. Образ вечного возвращения, способный взволновать нашего бородатого философа-поэта. Сценарий настолько неожиданный для него, что он даже не чувствует обычного желания придать происходящему какой-нибудь философско-эзотерический смысл. Мир только показывает, насколько он может быть чистым, непорочным и прекрасным. Здесь есть все. И нечего больше говорить или объяснять. Лео часами не отрывает глаз от окна, наблюдая за неумолимой нежностью, с которой снег преображает каждый предмет вокруг — аллею, сад, дорожки, каменную площадку — в белое и зыбкое одеяло. Он сглаживает все неровности, смягчает острые углы: вот он, оздоровляющий эффект тридцатисантиметрового снежного покрова. Единственные элементы, которые выделяются на белом, все более мягком и ровном поле, — это засохшие клумбы Рахили, которые снег превратил в белые лунные кратеры. Снег держится два дня. Затем начинает таять. А после остается ужасная грязь. Как после разложившегося человеческого тела.
Ночь. Время около половины четвертого (часы, которые Лео всегда считал самыми тяжелыми) — шумная сигнализация виллы начинает свой дробный, назойливый, беспрерывный перезвон. Лео спрыгивает с раскладного дивана. С тех пор как ее установили (около года назад после ограбления некоторых вилл в округе), она звенит в первый раз. Лео помнит техника, который устанавливал сигнализацию, странноватого парня, который в свое время объяснил ему, что, поскольку механизм надежный, иногда он будет звонить без особой причины. «Как это без причины?» — спросил Лео. Чтобы услышать в ответ: вот так, без причины, от какого-нибудь неосторожного движения или из-за погоды: в дождь, от молнии, от ветра, грома. Лео развлекло, что этот тип относился к аппарату, как к живому организму, у которого может внезапно поменяться настроение.
Но услышав сейчас, посреди ночи, отчаянный рев, казалось, Лео понял, что он означает. Звук напоминал визг свиньи, которую режут. Душераздирающий звук.
Что бы ни случилось, сигнализация начинала звенеть. Если в дом залезли воры, этот звон обратит (или уже обратил) их в бегство. Если же речь идет о ложной тревоге, тем лучше: Рахиль или один из сыновей выключат сигнализацию. Они тоже были, когда техник объяснял, как она работает. С другой стороны, если никто не придет, чтобы выключить ее, она продолжит звонить, потом остановится, чтобы через некоторое время снова завестись. И так до бесконечности.
Когда звон первый раз прекратился, Лео вздохнул с облегчением. Но как только сигнализация снова начинает свой перезвон, он пугается. Что происходит? Где Рахиль, ребята, Тельма? Может быть, они не знают, как выключить механизм, или он сломался? А может быть… О нет, он не хочет даже думать об этом… Возможно, какой-нибудь преступник взял их в заложники (Лео сразу же представляет ужасного типа из камеры, который чуть было не надругался над ним).
В свое время Лео решил установить сигнализацию — несмотря на возражения Рахили, которая была против всяких технических новшеств и не могла себе даже представить, что какой-нибудь негодяй будет угрожать ей или ее семье — прочитав в газете о каких-то сукиных детях, пробравшихся ночью на виллу по дороге Кассия, неподалеку от въезда в Ольджату. Лео до сих пор помнит все детали ограбления. Преступники связали и избили хозяина, потребовав от него ключ от сейфа. К тому же они изнасиловали на его глазах жену и шестнадцатилетнюю дочь. А также наложили в его супружескую кровать.
Между тем сигнализация продолжает звенеть, и никто не хочет ее выключить. А содержание той ужасной прошлогодней статьи навязчиво всплывает в воображении Лео вместе с лицом человека из камеры. Что случилось? Они вошли? Они угрожают его семье, избивают его родных? Возможно, они насилуют Рахиль, Тельму или одного из сыновей? А он что должен делать? Набраться мужества, открыть дверь, подняться вверх, понять, что происходит и вмешаться? На какое-то мгновение им овладевают странные мысли. Героический поступок. Да, возможно, это исправило бы ситуацию. Если бы он их спас, он завоевал бы себе место того человека, каким был прежде и каким потерял всякую надежду стать снова. Это стоило бы свеч, даже если бы он умер. Посмертная реабилитация.
Сигнализация умолкает снова. Это молчание леденит душу не менее ужасного шума. Лео приникает ухом к двери. Ничего. Ни единого шороха. Как будто никто ничего не заметил.
Может быть, на этот раз они выключили сигнализацию и вернулись в кровать. Вот он, подходящий момент. Я мог бы сходить наверх и проверить. Если меня застанут, у меня будет оправдание. Извини меня, Рахиль, скажу я ей твердым голосом, я хотел проверить, все ли в порядке. Я только хотел удостовериться… Да, вот подходящие для нее слова, если бы я только решился сдвинуться с места, открыть дверь, подняться на этаж выше и сделать несколько шагов в гостиной. Вот слова, если он наткнется на сонную Рахиль в ночной рубашке.
И именно в тот момент, когда он грезит об этой ночной встрече, сигнализация снова начинает трезвонить. Нет, они не выключили ее. Они ничего не услышали? Возможно, даже услышав, они не в состоянии ее выключить. И он снова начинает волноваться, пока ему на ум не приходит новая идея.
А что, если они уехали? Да, вот в чем дело. Почему бы им не уехать? И в самом деле, в последние дни в доме было необычно тихо. Никого шума поломоечной машины или шарканья ног. Сейчас первая неделя февраля. Скоро День святого Валентина. Период, когда Рахиль отвозит ребят кататься на лыжах. Возможно, они на лыжном курорте. Да, конечно, они катаются на лыжах. Все ясно. Но тогда кто оставил ему еду на обычном месте? Возможно, Рахиль поручила кому-нибудь оставлять мужу еду. Одному из своих «пажей». Это она их так зовет. Одно удовольствие смотреть, как эта маленькая женщина, которую все уважают, раздает своим «пажам» поручения с мягкостью, полной власти, а их привязанность к ней более чем очевидна. Вот почему несколько дней Лео находит холодные блюда. Вчера вечером немного сыра. Сегодня вяленое мясо. Должно быть, так…
Шум. Ему кажется, что он слышит какой-то шум. Этот шум снова заставляет его дрожать. А чего еще ожидать, в сущности? Нужно открыть дверь и подняться по лестнице. Он делал это миллион раз. Почему сейчас он не может это сделать?
Пусть даже проклятая сигнализация всю ночь продолжала включаться и выключаться с ровными интервалами, пусть даже он был зол на себя и на весь мир, пусть даже его рука не отрывалась от дверной ручки, Лео все эти часы просидел там, как будто окаменел, прислонив ухо и щеку к двери, чувствуя горький привкус собственной трусости. Засыпая и просыпаясь бесконечное число раз. Пока какие-то звуки, раздающиеся из сада, не разбудили его окончательно.
В одно мгновение он вспомнил все, что случилось. Лео вскакивает на ноги. Чувствует сильную боль в боку после ночи, проведенной на полу, приникнув ухом к двери. Прихрамывая, идет к окну и смотрит на улицу: сцена, которую он видит, вызывает жаркий спазм в его желудке.
Ноги людей, которых он любит больше всех и которые не желают больше знать о нем ничего, по-прежнему там. Они как ни в чем не бывало шагают по аллее к «Лендкрузеру». Лео видит руку Филиппо, сжимающую плитку молочного шоколада, который Рахиль дает ему каждое утро еще с тех пор, как он был совсем маленьким. Затем он видит красную опушку и серые спортивные штаны Сэми, который поспешно бежит к машине.
Что случилось прошлым вечером? Почему, если они все были здесь, никто не выключил сигнализацию? Почему никто даже не пошевелился? Почему? Почему? Лео никогда не узнает об этом.
На следующий день — зеленые почки на американской лозе обещали верное приближение весны — в Лео вдруг зародилась надежда. Смутное, абсурдное, абсолютно неуместное чувство. Но как бы то ни было, надежда. А ведь он уже давно не надеялся ни на что. Возможно, со временем он научился ценить то зыбкое, неустойчивое удобство, которое давало отчаяние. Отчаяние, которое приводит тебя к поступкам и решениям, исполненным достоинства.
Вот уже несколько недель подряд он не слушал подробности процесса, которые ему предоставлял каждый вечер Эррера. Во время этих рассказов Лео молчал. Все эти обвинения, выдвинутые против него. Всего пять обвинений. В самом деле, слишком. Какое внимание к его персоне. Вся эта жажда покопаться в его личной жизни, которая, в сущности, не так уж сильно отличается от жизни остальных. Все это было отвратительно.
Продолжительные заседания суда должны были быть достаточно жестокими. Из-за своей оскорбительной повторяемости. Из-за бюрократической фальши. Зачем об этом столько говорить? Зачем пережевывать одно и то же снова и снова? Зачем тянуть кота за хвост? Неужели никого не тошнило от всего этого дела, кроме него? Как можно было жить, постоянно обсуждая их? Как можно было тратить свою жизнь на то, чтобы разбирать, в чем прав, а в чем виноват Лео Понтекорво?
Его жизнь в пересказе всех этих судейских крючкотворов представала настолько же мрачной, насколько блистательной — в исполнении Эрреры. Всем было нужно именно это? Увы, только не Лео. Он больше не мог. Его силы были на исходе.
Нет, он не имел ничего против поведения этих людей закона. Ничего плохого не было в том, чтобы исполнять свои профессиональные обязанности. В сущности, если хорошенько подумать, он сам столько лет прекрасно жил рядом с безнадежными больными и трупами. С людьми, которые страдали и оплакивали свои страдания. И для него было большим завоеванием, что такая близость к боли и смерти не повлияла на его жизнь. Он сам не был болен, не готовился к смерти, он был только лечащим врачом, которому несколько раз приходилось смиряться с силой природы: с ее стремлением к обновлению через разрушение. Это сложно принять. Но если ты медик, ты должен научиться не думать о некоторых вещах, прежде чем вступишь в возраст, когда придет время подумать о вечном. Ты должен усвоить это смолоду. То есть сразу же. Как только начнешь работать в больнице. Цинизм? Зовите это как хотите. Инстинкт самосохранения, здравый смысл. Так это называл Лео. Очень скоро он научился быть равнодушным к смерти. Она стала частью его работы. Как палач, как солдат, как могильщик Лео разделял две части своей жизни. Он мог быть счастлив, живя рядом со страшным. Как шизофреник. Он руководствовался правилом мусорщиков: «Это грязная работа, но кто-то должен ее делать».
Лео отлично помнит один из вечеров, когда он вернулся домой, расстроенный из-за смерти одного пациента. Хотя это был не первый раз, когда он видел умершего ребенка и безутешных родителей. В конце концов, его работа предполагала иметь дело с умирающими детьми. Это был далеко не первый случай в медицинской практике тридцатипятилетнего онколога. У него за плечами был приличный опыт таких, леденящих душу, случаев. И по правде говоря, речь не шла о каком-то особом ребенке. Но почему же Лео почувствовал себя так плохо из-за смерти именно этого мальчика? Лео не знал. Дело в том, что этому ребенку удалось чем-то тронуть Лео. Дело в том, что этот ребенок почему-то стал для него особым. Но было ясно и то, что если бы профессор Понтекорво не научился не думать о случае с тем ребенком, он не смог бы заниматься прочими, которые поступали в больницу после него.
Его звали Алессандро. Возраст — девять лет. Это был живой, доброжелательный ребенок, из тех, которые умеют смеяться, несмотря ни на что. Из тех, которые могут преподать тебе отличный урок выдержки и здравомыслия. Из тех открытых людей, которые легко говорят о том, что с ними происходит и что могло бы произойти с откровенностью и мужеством взрослого человека. Он нравился медсестрам и вообще держался молодцом для своих девяти лет.
У него был заболевание, связанное с кровеносной системой, причем не из самых тяжелых. Может быть, Лео привязался к этому мальчику как раз потому, что его можно было вылечить. И казалось, что дело пошло на поправку: Алессандро становилось лучше. Его болезнь стала отступать. Лео выписал мальчика из своего отделения с чувством удовлетворения. Он чувствовал себя полубогом.
Но спустя несколько месяцев родители Алессандро снова привозят сына на «Скорой помощи». Они были на море, на пляже, когда у Алессандро из носа вдруг пошла кровь, а им не удавалось остановить ее. Потом обморок. Бред. Сильный жар. Лео вызвали, когда он тоже был на море на выходных. Он должен был сразу отправиться в больницу. Он был нужен родителям Алессандро. Он был нужен Алессандро.
Лео не требовалось ждать результатов анализов, чтобы понять, что это тяжелый случай. Рецидив болезни. Сильный, безжалостный, как все рецидивы. И совершенно несвоевременный. На этот раз лечение не помогло. Все пошло не так. Почему? — спрашивал себя молодой доктор. Потому что. Потому что каждый случай уникален. Потому что каждый пациент отличается от своего соседа по палате. Потому что утешаться статистикой — это научное извращение, которому нельзя поддаваться. Разумный медик обязан знать врага в лицо. Разумный медик обязан знать, насколько коварен и непредсказуем его враг — человеческое тело. И он обязан знать, что нет ничего более хрупкого, чем человеческое тело. Говорят, что душа — это загадка, тайна. На самом деле тело не менее загадочная и таинственная штука.
Итак, несколько недель спустя Лео сообщил родителям, что их сын умер, — тем самым родителям, которым всего несколько месяцев назад он говорил, что жизнь Алессандро вне опасности, что нужно следить за его здоровьем, но ему больше ничего не угрожает, что он будет жить, пусть даже иначе, чем остальные. После этого профессор Понтекорво снял с себя халат, вернулся в машину и поехал в свой дом на море с прекрасным видом на лагуну, где его ждала молодая жена, которая баюкала новорожденного сына и журила его старшего братика. Картина торжества жизни.
Приятное и одновременно отвратительное зрелище. Оно вызвало в нем чувство вины. Он почувствовал себя грязным. В какой-то момент он чуть было не впал в морализм, который помешал бы ему наслаждаться радостями семейной жизни, радостями своей жизни. Но потом он понял, что это неправильно: его работа — это его работа, его жизнь — это его жизнь. Они часто пересекались. Они сосуществовали… сосуществовали, подвешенные над пропастью на тоненькой ниточке. Чтобы не сойти с ума, их нужно было разделять.
То же самое правило действовало и для заседающих в суде. Зал суда напоминал его отделение. Бой был неравным. Чужие говорили с напыщенной серьезностью о вещах, которые не изменят течение их жизни. На этот раз им была противопоставлена его жизнь: он был неизлечимым больным в этой ситуации. Он был ребенком, который рисковал своей жизнью. Все вокруг него было мизансценой.
И теперь он понимал больных, которые переставали бороться и, казалось, обретали внутренний покой. У них не было сил даже жаловаться. Единственное, что их заставляло страдать, — это процедуры, которые только продлевали их агонию. То, что с ним делали в зале суда, было всего лишь поддерживающей терапией, в какой-то момент он больше не мог выносить ее и хотел освободиться. Поэтому он оставался дома, в своей норе. Спокойный и умиротворенный. По крайней мере, до того дня.
В тот день в нем зародилась странная надежда, вызванная, как ни странно, звонком Эрреры, который сообщил плохую новость. Эррера позвонил на его личный номер. Камилла пожелала дать повторные показания. Это значило, что они готовы к финальному матчу: психиатр и родители заставят ее сказать неприятные и ужасные вещи.
«Почему ты так думаешь?»
«Боюсь, что они предъявят более тяжкое обвинение. Они могут изобрести еще какую-нибудь ерунду. Я хочу, чтобы ты был готов. Это может быть что-нибудь действительно ужасное для тебя и твоей семьи. Если эта мелкая психопатка сделает заявления определенного типа, это может разжечь любопытство прессы».
«О каких заявлениях ты говоришь?»
«О более тяжких обвинениях».
«Более тяжких?.. Разве те обвинения, которые мне вменяют сейчас, недостаточно тяжкие? Что можно еще придумать? Что я одурманил ее наркотиками? Что с ней была какая-нибудь подружка из детского сада?»
«Лео, не говори глупости. Перестань шутить. Только не по телефону! Я не знаю, что еще они придумали. Я знаю только то, что тебе сказал. Пока это слухи. Но лучше быть готовыми. И оставаться хладнокровными».
Лео выслушал спокойно очередное безумие. Сарказм, с которым он принял эту новость, доказывал его спокойствие. После упреков Эрреры он больше не комментировал происходящее.
Как только он положил телефонную трубку, им овладела самая примитивная ярость. Единственное чувство, которое он мог испытывать, — подавленное негодование. Что еще они хотели с ним сделать, эта шлюшка и ее неотесанный папаша? Им было недостаточно всего этого? Чем же удовлетворить их жажду мести?
Месть. Может быть, пришла его очередь отомстить? Тогда Лео охватило неукротимое желание отомстить этой девчонке.
Необходимо сказать, что в ярости Лео не было ничего позитивного. Он был движим только разрушительными эмоциями. Пришел конец тем временам, когда он утешался мечтаниями о восстановлении доброго имени. Вот уже долгое время Лео не воображал, как он спускается с мраморных ступенек Дворца правосудия, осыпаемый розами и приветствуемый аплодисментами и слезами. Прошла целая вечность с тех пор, как он представлял лица Рахили и сыновей, которые с гордостью смотрят на него. Надежда на это почти испарилась. Он не видел никакого света в конце туннеля. В конце туннеля его ждал еще один туннель. А за ним еще один и так далее.
Но сейчас, когда его охватила ярость, вместе с ней затеплился и огонек надежды: она приобрела менее благородную, но более вдохновляющую форму. Он захотел увидеть, как раскроется ложь этой девчонки, как ее сотрут в порошок. Он хотел увидеть, как Эррера предаст ее публичному поруганию. Только такая жестокая сцена способна была порадовать его сейчас. В общем, именно злость заставляла надеяться. Чувство мести поддерживало надежду.
А ведь всего за несколько часов до звонка Эрреры Лео предавался мрачным размышлениям о наиболее эстетичном способе уйти из этого мира, по возможности без особого шума. Не то чтобы это была конкретная мысль, скорее времяпрепровождение, которым развлекался в последнее время. Одним словом, он подумывал о самоубийстве. Но само слово казалось ему слишком резким. Слишком буквальным… он предпочитал думать о мгновенной смерти.
Если бы он был типом, вроде отца Камиллы, одним из тех фашистов с пушкой в руках… если бы только жил на последнем этаже какого-нибудь шикарного дворца… если бы в тот раз послушал внимательней, что рассказывал Луиджи, анестезиолог, о смертельной дозе лекарств… если бы только решился надеть петлю…
Не то чтобы Лео надоело жить. Жизнь нравилась ему. Ему нравился тот образ жизни, который он вел. Иногда ему даже случалось мечтать о том, как он становится прежним Лео до того, как эта непристойная история разрушила все. Добрый бог снов свидетель тому, насколько определенная часть личности Лео любила ту прежнюю жизнь. Те невинные и недооцененные в свое время удовольствия цивилизованной жизни. В его новой жизни не было ни мгновения, когда бы Лео позволил себе не признать этого.
Лео с ностальгией вспоминал многие моменты своей жизни. В пятницу вечером, когда Рахиль приезжала за ним в больницу: он был слишком усталым, чтобы садиться за руль, и оставлял свою машину на парковке. Ослаблял галстук и садился в автомобиль Рахили, которая обычно приезжала с небольшим опозданием. Они едва успевали на киносеанс, вбегая в зал в последний момент, искали свои места, спотыкаясь о ноги других зрителей.
После фильма они всегда шли ужинать в одно и то же место: тогда в мире существовала только La Berninetta. Лео заказывал стакан ледяного пива, овощи во фритюре, пиццу «маргариту магнум» и обязательно кростату с потрошками (весь секрет в песочном тесте, — каждый раз объяснял Лео жене). Затем наступала очередь сигары с кофе, а потом Лео, полусонный, возвращался домой на машине. Вот что я имею в виду под удовольствиями жизни. Дремать в машине рядом со своей Рахилью после идеального вечера и недели самоотверженной работы.
Нет, Лео умел ценить удовольствия жизни. Он ничего не имел против жизни в целом, только против того странного оборота, который она приняла в последнее время. Мысли о самоубийстве были не чем иным, как вонючим отбросом ментальной усталости. Его мозг занимала неотвязная мысль: а что было бы, если бы все сложилось иначе? Слишком большая нагрузка для одной головы. Лео не хотел умирать. Лео просто хотел немножко выключить мозг. Он хотел задремать рядом с Рахилью в машине в надежде, что путь до дома продлится целый год. Но учитывая, что это было невозможно, оставался план Б. Запасной выход. Этот план, этот выход, именно потому, что он слишком хорошо знал смерть и за свою жизнь видел столько мертвых, заставляли его дрожать от страха.
Он был охвачен этим страхом, когда позвонил телефон. И ему было достаточно обменяться парой фраз с Эррерой, чтобы почувствовать, как страх проходит. А на смену ему приходит жажда жизни: жизненные силы в виде негодования против той мерзавки и ее безумия. И сильное желание уничтожить ее.
Именно тогда ему пришло в голову, что где-то в доме должно было остаться письмо Камиллы, как всегда полное страсти и угроз. Лео не удалось прочесть его полностью. Но он был уверен, что как раз в первых строках эта психопатка написала ему, что пришло время отдаться человеку, которого она любила. То есть ему. Жаль, что это письмо было написано пару недель спустя, после предполагаемого насилия, в котором его обвиняли. (По крайней мере, так ему казалось.) В общем, это письмо не только освобождало его от самого грязного обвинения, но также доказывало ненормальность девчонки, ее коварные намерения… в целом разрушало надуманность обвинения. Перед Лео в одно мгновение пронесся тот вечер, когда он обнаружил письмо на обычном месте. Он начал читать его. Возможно, из-за раздражения и страха перед столь откровенным предложением он не заметил, как Рахиль вошла в комнату.
«Что ты читаешь?» — спросила она.
«Ничего. Отчет от администрации Санта-Кристины».
«Они начали писать отчеты ручкой с фиолетовыми чернилами?»
«На самом деле это только набросок, который мне прислал директор, чтобы просмотреть его, прежде чем распечатать остальным», — отрезал он, не теряя самообладания.
И особо не задумываясь и не закончив чтение, он куда-то спрятал это письмо. Да, но куда? Он сидел на кровати. Возможно, он спрятал его в то место, которое находилось ближе всего, в ящичек прикроватной тумбочки, в большую папку, набитую другими бумагами. Да, оно должно быть там. А где еще, если не там? С ума сойдешь вспоминать об этом сейчас. Но хоть раз его рассеянность, его неорганизованность могли принести благо? Да, письмо должно было быть там. Неопровержимое доказательство безумия этой девчонки. Письмо, которое могло доказать, что если в этой истории кто-то и был подвергнут насилию, надругательству — так это он.
Он был так рад возможности, которую жизнь внезапно предложила ему, и ему так не терпелось найти это доказательство. Его так вдохновляла идея возмездия. Но в то же время наш бедный таракан был настолько напуган перспективой совершить путь от своего подвала до комнаты и наткнуться на одного из тех трех людей, которых он меньше всего жаждал встретить сейчас… Именно поэтому ему не удавалось ничего сделать, как только сидеть в своей норе и раскачиваться на грани нервного срыва. Со временем страх встретиться лицом к лицу с Рахилью, Самуэлем или Филиппо, стал его предрассудком. Лео знал, что единственное место в доме, оставленное ему его самыми непоколебимыми тюремщиками, — это кухня. Туда он мог приходить только в ночные часы и строго по расписанию, где-то с одиннадцати тридцати до часу. И этого было более чем достаточно, учитывая, что лестница от его подвала, вела прямо на кухню, которая в эти часы была уже пуста, вымыта и прибрана.
Поэтому сейчас он стоял там, не осмеливаясь и шагу ступить, чувствуя головокружение, как будто он должен был решиться на какое-то опасное предприятие. Но он желал как можно скорее удостовериться, что письмо на месте. Прошло слишком много времени. Настолько много, что все могло измениться. Никто, например, не мог гарантировать, что его спальня осталась прежней, как он ее помнит. Возможно, Рахиль решила избавиться от всех вещей мужа. Да, этого нельзя было исключать.
В конце концов Лео так же, как в ту ночь, когда включилась сигнализация, позволил осторожности и трусости взять над ним верх: разочарование, которое он испытал бы, не обнаружив письма на месте, было бы сильнее того, которое было вызвано чувством собственного бессилия, невозможностью дойти до нужного места. Его трусость снова проявилась во всей красе.
Или она была такой до четверга. Если в жизни его близких ничего не изменилось, четверг — идеальный день. После обеда Тельма выходила, Рахиль отвозила ребят в секцию по теннису, а после обычно шла к парикмахеру. А значит, у Лео было не меньше трех часов для осуществления своей миссии.
Так, в четыре тридцать, в один весенний день Лео поднимается на этаж выше. Он переступает границу, которую несколько месяцев не осмеливался преступить: порог, который отделяет кухню от остального дома. Но то, что он оказывается в месте, которое долгое время было потеряно для него, не вызывает в Лео особо сильных эмоций. Более того, было что-то горестное в столь ярко выраженной стерильности. Кроме того, он чувствует себя почти оскорбленным всей этой чистотой. Они здесь, вверху, хоть представляют, как живется в тараканьей норке? Они знают, какой таракан там живет? Удивительно, как быстро в семьях приживается притворство. Как мало для этого нужно. Как будто с того вечера ничего не изменилось. Лео спокоен. Он настолько разочарован, что даже перестал бояться. А если кто-нибудь войдет? Пусть входит. Я взрослый мужчина и знаю, как встретить того, кто войдет.
Наконец, он в своей спальне. Ему достаточно открыть дверь, чтобы узнать голубую полутьму этой комнаты, которая нравилась Рахили. На этот раз его охватывают более сильные эмоции. Есть что-то смягчающее и расслабляющее в этой атмосфере. Возможно, мягкие кресла с оранжевой обивкой у окна или два абажура в стиле ар-деко, купленные на рю де Сенн в Париже по возвращении из свадебного путешествия, а возможно, хлопковые покрывала карамельного цвета, палисандровые доски паркета… бог его знает… все это вместе делает комнату такой уютной, какой Лео ее не помнил. И как будто только сейчас он почувствовал невероятную сонливость и усталость, накопившуюся за все время его жизни-нежизни. Ему захотелось снять покрывало и забраться под одеяло. Ему захотелось лечь в свою постель и больше не просыпаться. Он был так взволнован, что почти забыл о причине, по которой пришел сюда: письмо, процесс, Камилла, весь этот мусор…
Чтобы отвлечься и в то же время обновить ощущения радостного ожидания, которое начинает ослабевать, он входит в гардеробную. Но на этот раз его ждет сюрприз. Если сначала Лео оскорбил тот факт, что ничего не изменилось, сейчас пришло время обижаться на некоторые перемены. Маленькая комнатка, размером со шкаф, с двумя зеркалами на противоположных стенах, была очищена от малейшего следа его присутствия на этом свете. Куда пропали его рубашки, твидовые костюмы, шарфы, ботинки, пальто, шляпы, перчатки? Это гардеробная разведенной женщины, вдовы. Лео начинает испытывать странную ненависть к Рахили. За ее аккуратность, достойную усердной официантки из уличного кафе. За ее проклятый морализм. За ее упрямство. За ее маниакальное пристрастие к чистоте. Потому что именно оно подсказало ей мысль выбросить все вещи мужа из этого шкафа. Там, где раньше висела его одежда, сейчас ровным рядом на вешалке — жакеты, пальто, юбки Рахили, которые, если взглянуть на них с определенного ракурса, напоминают элегантных дам, стоящих в очереди на почте.
От вида умноженной зеркальным отражением жены у Лео идет кругом голова. Он присаживается на низкую тумбочку. Вместе с сильным разочарованием он чувствует странное, неуместное блаженство. Он начинает прерывисто дышать. Он совсем не желает привыкнуть к обретенному вдруг аромату. Аромату его жены. Очень знакомый запах, которому, если хорошенько подумать, уже лет двадцать. Чтобы удержать его, Лео задерживает дыхание на несколько минут, а затем утыкается носом в рукав одного из плащей Рахили. Он в отчаянии. Как во времена отрочества, когда ему хотелось мастурбировать. Сколько времени он не делал этого? Слишком много. Его сексуальность, его мужское начало были подавлены перенесенными унижениями. Постоянное беспокойство оказало на него отупляющее воздействие.
И вот сейчас он снова хочет Рахиль, неожиданно, и даже еще сильнее, чем во времена, когда она, будучи порядочной еврейской девушкой, не давала ему. Да, никогда Лео не желал Рахиль так страстно. Даже тогда, когда их история только начиналась, а она отказывалась заниматься с ним сексом в машине и у нашего молодого профессора едва не лопались штаны. Даже тогда он не желал ее так страстно.
Лео чувствует себя как мальчишка, которому не много нужно, чтобы встало. Достаточно уступить инстинкту вынуть его из брюк, потрогать немножко… И вот он возбужден и в отчаянии. Его голова только тем и занята, что перебирает приятные воспоминания из супружеской жизни. Нет ничего ужаснее ностальгии по супружескому сексу. Нет большего извращения, чем трогать его, вспоминая о жене. Об этом думает Лео. А также о том, как они сделали это с Рахилью в первый раз. О препятствиях, которые они преодолели за эти годы. О том, как он лишил ее девственности спустя несколько дней после свадьбы. О первом разе, когда она взяла в рот. О первом разе, когда он выпустил семя ей в лицо. О первом разе, когда сделал ей куннилингус. О первом разе, когда взял ее сзади. Да, все первые разы в одно мгновение, уткнувшись носом в ткань ее плаща. Лео не потребовалось особых усилий, чтобы извлечь этот запах. Достаточно было посильнее прижать рукав к носу и вдыхать.
Но сейчас ему на ум приходят посторонние мысли. В нем зарождаются ревнивые чувства. Как себя вела Рахиль эти месяцы? У нее были другие мужчины? Какая-то постоянная связь? После событий последних месяцев Лео понимает, что может случиться все что угодно. Даже самое невероятное подкарауливает тебя за углом, посмеиваясь.
Лео начинает мучиться от ревности. В конце концов он не выдерживает, вытаскивает из штанов член и предается подростковой утехе. Он делает это, как делают все мужчины. Как это делают все мужчины, научившись этому лет в тринадцать и навсегда. Ничего странного. Таковы мужчины. Он может встать в самый неподходящий момент и в самом неподходящем месте. С самого начала, с тех пор, как твое тело узнает власть загадочных спазмов внизу живота и тебе хочется, чтобы они повторялись снова и снова… пока ты не пожелаешь прервать эту странную одинокую гимнастику, облегчившись. Это способ уравновесить силы. Последний источник энергии для нервов на пределе.
Это похоже на то, как бывает у евреев, которые, вернувшись с похорон какого-нибудь недавно почившего родственника, чувствуют необходимость что-нибудь съесть. Это жизнь, которая заявляет о своих правах. Жизнь, которая требует, чтобы ее уважали и посвящали себя ей. Но также это единственный способ, который остается тебе, чтобы справиться с пустотой и преодолеть искушения. Плохая оценка в школе? Твоя девушка бросила тебя только из-за того, что кто-то там прокатил ее на порше «Каррера»? Тебя беспокоит таяние ледников или обезвоживание планеты? Не трусь, парень! Беги в туалет и потрогай его. Займись онанизмом. Расслабься. Энергично и активно. Это самый лучший выход. Священное действо, проклятое и благословенное одновременно. Звериный инстинкт, подобный тому, который движет кобелем, метящим дерево. Только на этот раз деревом является старая гардеробная Лео, осиротевшая без его ценной коллекции костюмов и переполненная рассеянным запахом Пенелопы.
Но когда он почти достигает оргазма, его отвлекает какой-то шум сзади. Кто-то наблюдает за ним? Он быстро оборачивается, но никого не видит. Снова шум. Легкий, как шорох падающего на пол платья. Паника. Его кто-то видел? Пока он онанировал перед плащом жены? Тельма? Или один из сыновей? Или сама Рахиль? Ему показалось? Никого не было? Беспокойство снова торжествует над мужественностью. Лео снова хочет бежать в свое укрытие.
Я больше не выйду. Клянусь. Да, это был последний раз.
Затем приходит лето: на месяц раньше, как иногда случается в Риме. Лео Понтекорво проводит свои дни в противоречивых чувствах: им с новой силой овладевает фатализм, и ему кажется, что за ним кто-то наблюдает круглые сутки. Какая-то тень. Какой-то дух. Нечто сверхъестественное. Это ощущение не покидает его с тех пор, как ему пришлось прервать приятное занятие, которым он занимался перед плащом жены в гардеробной. Возбуждение пропало, но не чувство присутствия чего-то, что повергло его в бегство.
Ему не хотелось даже есть. Несколько дней он не появлялся на кухне, где кто-то оставлял ему еду. На пятый день голодовки он нашел посуду с едой у дверей своей комнаты. И с тех пор так повелось. Он был доволен, что посуду оставляли там. Ему не желали смерти. Было очевидно, что тот, кто оставлял еду, не желал его смерти, его исчезновения. Очевидно, этому существу нужно было, чтобы Лео жил, существовал. Но тем не менее с каждым днем Лео ел все меньше. Он открыл для себя удовольствие обходиться без пищи.
Затем пришло настоящее лето. В его лучшем проявлении. Из сада доходили ароматы цветов и фруктов. Ребята только-только должны были закончить школьные занятия. И одним из самых любимых развлечений Лео было смотреть из окна на их ноги, которые играли в саду в мяч. Он узнавал ноги Филиппо и ноги Самуэля. Это было так трогательно — узнавать их. Наблюдать за чудом повторяющихся движений, на которые Лео не уставал смотреть. Он испытывал сильную боль, когда игра завершалась и команда четыре против четырех, которая каждое утро составлялась из его сыновей и их друзей, расходилась, чтобы встретиться там же на следующее утро в тот же час. Самуэль играл в защите. Его ярость и настойчивость в нападении на противника противоречили его капризному и непоследовательному характеру. Хотя до настоящего момента у Самуэля хорошо получались многие вещи, он не производил впечатление мальчика, который может сильно чем-то заинтересоваться и полностью посвятить себя одному делу. Выкуп, который ты платишь за легкий успех в жизни. Если бы Лео и Камилла не преподнесли ему своеобразного подарочка год назад, его жизнь сложилась бы превосходно. По крайней мере, по мнению отца.
Лео часто задавал себе вопрос — что происходит в голове его сыновей. Что они чувствуют? Какие у них желания? Кто они? Дистанция между любимыми людьми не менее загадочна, чем глубины океана. Какие прекрасные фразы приходили на ум нашему узнику. Самуэль, его Сэми, по крайней мере, как казалось Лео, родился под счастливой звездой. Поэтому было удивительно, что он прилагал столько стараний в игре в футбол: он не принадлежал к числу упорных людей, как это часто случается у тех, у кого и так все легко получается. В сущности, и стиль игры Филиппо не соответствовал его характеру. Филиппо во время игры становился величественным и харизматичным. Совсем не таким, как в жизни. В жизни он не умел показать себя с лучшей стороны.
И именно во время одного из матчей случился эпизод, который стал очередным испытанием для нервов Лео. А также для его мужества и трусости. Во время игры произошло столкновение. Между Филиппо и Сэми. Они никогда не играли в одной команде. Сэми не выносил упреков Филиппо, равно как и Филиппо не выносил свободного стиля и излишнего напора брата. Поэтому среди юных футболистов Ольджаты существовало мнение, что братья Понтекорво должны всегда играть друг против друга. Именно из-за напора Сэми, столь ненавистного Филиппо, случилась катастрофа. Сэми ударил со всей силой по щиколотке брата. И судя по движениям и стонам Филиппо, он что-то ему сломал. Странный звук, то ли плач, то ли смех, полный испуга и недоверия, какой обычно издают спортсмены, особенно молодые, когда оказываются бессильными перед тем фактом, что они сломали себе кость. Лео прекрасно видел из своего места, которое можно было бы назвать привилегированным, болтающуюся ногу сына. Также он видел другого сына в отчаянии, который не переставал взывать: «Мама, мама… скорее, скорее!»
Лео, будучи не в меньшем отчаянии, чем его сыновья, даже в этот момент нашел время для самоуничижения: Самуэль позвал не его, а мать. В самый кризисный момент. В какое-то мгновение Лео пришла на ум безумная мысль, а не умер ли он: может быть, он уже мертв и сам об этом не знает. Возможно, именно это и есть смерть. Упорно считать себя живым, в то время как остальные вокруг не замечают твоего существования. Он вспомнил один черно-белый фильм, который он когда-то смотрел, об одном мертвом, который не догадывался о том, что он умер. Может быть, присутствие, которое он ощущал вокруг себя, было не более чем тень прошедшей жизни. Может быть, от него самого осталась только тень. Тень другой тени.
Но нет, он не был мертв. О нем попросту забыли. Для них, между Лео и этим пауком, который свил паутину рядом с окном, не было никакой разницы. Лео снова испытал искушение выйти. Прийти на помощь к сыну, сломавшему лодыжку. Утешить второго, сказать ему, что это не его вина. Что он не должен принимать это так близко к сердцу. Что такое случается. И пока Лео думал, что сказать Самуэлю, чтобы утешить его, ему пришло на ум, что, по правде говоря, всякие несчастья происходили чаще всего с Филиппо. Они как будто преследовали его. Если Всемогущий Бог в тот день замыслил пожертвовать костью мальчика, который играл в мяч в саду своего дома, это непременно должна была быть кость Филиппо Понтекорво.
Сложные отношения с миром. Он был как бы не от мира сего, и в этом была проблема Филиппо. Возможно, именно его боязнь мира сделала его таким замкнутым и неразговорчивым.
Когда Филиппо было четыре или пять лет, он радовался только большим книжкам, которые Рахиль дарила ему на день рождения: те невинные комиксы Уолта Диснея с названиями, изобилующими «я», вроде «Я Утенок», «Я Мышонок», «Я дядюшка Скрудж». Филиппо перечитывал эти книжки, как раввин Тору. Он перелистывал их сотни раз. Как будто все самые важные для жизни вещи можно было почерпнуть из приключений Утенка в Клондайке. Или из некоторых неловких выходок этого персонажа. Или из той дерзкой легкости, с которой Мышонок разгадывал загадки.
Сначала Рахили приходилось проводить вечера за чтением внушительных томов. По одной истории за вечер. Таков был уговор. Филиппо рассматривал картинки и слушал мать как будто в первый раз, как будто он не знал концовки. Скоро Рахиль могла наизусть рассказывать ему эти книжки. Но даже этого ребенку было недостаточно. Настолько, что иногда он с трудом брал книжки, почти размером с него, и терпеливо просматривал их, как будто старался запомнить мельчайшую деталь каждого рисунка. Иногда он смеялся, иногда грустил.
В какой-то момент, перед тем как Филиппо должен был пойти в школу, Лео попытался научить сына читать. Ему хотелось, чтобы тот мог самостоятельно обращаться с этими книжищами. Он хотел, чтобы его сын мог сам читать эти комиксы, которые знал почти наизусть. Лео хотел научить его этому вовсе не потому, что сам устал читать сыну, или потому, что желал избавить Рахиль от подобного неудобства. Нет, он желал, чтобы Филиппо открыл для себя, что значит наслаждаться чтением независимо.
И Лео был поражен не только его неспособностью к обучению, но также протестом, с которым его сын встретил столь прозаическое дело. Как будто чтение и письмо для Филиппо были поражением. Как будто они разрушали магию рисунка. Да, скоро Лео пришлось смириться с фактом, что единственное упражнение, которое мог выполнить его старший сын, — это сравнивать рисунки, питаться образами. Филиппо напоминал доисторического человека, не умеющего писать, но имеющего развитое чувство формы.
Проблемы с обучением письму и чтению, которые проявились у Филиппо в первом классе, когда его учительница, довольно подкованная особа, распознала в нем признаки дислексии, были не последними препятствиями в его бесконечной войне против этого мира, в которую превратилась его юная жизнь.
Именно американская учительница сообщила Рахили о проблемах Филиппо с заучиванием букв (в то время у римской буржуазии было модно посылать детей учиться в иностранные школы). Стоял даже вопрос о том, насколько разумно записывать Филиппо в школу, в которой не преподавали на итальянском. Мисс Доусон принадлежала к тому типу крепких дам из Новой Англии, которые, несмотря на ярко выраженный акцент, говорят на правильном итальянском с безупречным построением фраз и богатым словарным запасом.
«Знаете, ему сложнее учиться, чем другим ребятам. Около восьмидесяти процентов учеников школы — носители языка. Это нормально, что у оставшихся двадцати, к которым принадлежит и Филиппо, будут возникать определенные трудности. Но если ко всему прочему добавляется еще и проблема с алфавитом…»
«Что вы имеете в виду?»
«Что Филиппо не различает d, b, p. И несмотря на все мои подсказки, он ничего не понимает. Хотя это само по себе не так уж и страшно. Это нарушение, которое можно преодолеть. Я знаю многих талантливых и успешных людей, которые страдали от этого же…»
Рахиль вовсе не утешили размышления мисс Доусон, а еще меньше мужа, который прокомментировал слова учительницы следующим образом:
«Если хорошенько подумать, p, b и ds — очень похожи. Мне всегда казалось, что Филиппо не склонен вдаваться в такие тонкости».
И так было всегда между Рахилью и Лео: когда она волновалась, он начинал шутить, и наоборот. Только сейчас Лео знал, что эта реплика тогда больше помогла ему, чем жене. Но что за проблемы были у этого ребенка? Почему у него всегда было что-то, что ему мешало? Почему то, что у других выходило просто и естественно, ему давалось с трудом?
С другой стороны, еще до мисс Доусон Лео догадался, что что-то не в порядке. Различие между b и d. Лео пустил в ход тысячи примеров, чтобы показать сыну, что это разные вещи.
«b похоже на человека с большим животом, — говорил он ему. — А d — на человека с большим задом». И чтобы быть яснее он показал сыну на собственный живот и зад. И хотя Филиппо посмеялся над его жестом, он так и не научился различать эти согласные. Явно, что это было выше его. Целый подвиг.
Учительница сказала, что она не знает, как поступить. Еще и потому, что отставание в учебе делало Филиппо исключительно агрессивным по отношению к другим одноклассникам, которые к тому моменту уже выучились читать. Но в то же время мальчик чувствовал стыд и уныние.
«Позавчера он ударил одноклассника», — сказала мисс Доусон Рахили.
«Ударил? Как ударил? Почему?»
«Боюсь, что тот мальчик стал дразнить Филиппо, потому что тот не умеет писать».
Когда Рахиль рассказала это Лео, он вспомнил, как в тот вторник, отводя сына в школу, он спросил у него: «Тебе нравится играть с Франческой?» Франческа была логопедом.
«Да, — ответил Филиппо. — Но я не хочу больше играть с ней по утрам».
«Почему?»
«Потому что потом я опаздываю в школу».
«Что же, лучше не опаздывать? Хотя почему тебя это волнует? У тебя есть оправдание. Если бы у меня в твои годы было оправдание, чтобы приходить попозже в школу! Если бы оно было у меня сейчас…»
«Но если я прихожу с опозданием, мне говорят, что я больной».
«Кто говорит, что ты больной? Почему? Ты абсолютно здоров».
«Мне говорят, что я больной, потому что я опаздываю и потому что играю с Франческой».
Тогда Лео подумал, что наверняка матушка какого-нибудь одноклассника Филиппо наговорила своему чертовому сынку, что Филиппо Понтекорво опаздывал в школу по средам и вторникам из-за болезни. Что у него проблемы с чтением. Это разозлило Лео. Проклятые матушки. Их дети. Все эти людишки. И бедный мой малыш Филиппо — ты тоже проклят.
Лео помнил об этом: дислексия была только одним из тревожных признаков. А до этого были еще проблемы с речью.
Лео и Рахили пришлось ждать четыре года, прежде чем они дождались от Филиппо осмысленной фразы. Он отвечал односложно или мычанием. Сначала они подумали, что его отставание от ровесников в речи объясняется застенчивостью и сдержанностью характера. Филиппо родился исключительно спокойным младенцем, из тех, кто мало плачет и много спит. Родители надеялись, что сын молчит только потому, что ему нечего сказать. Этим себя утешали Рахиль и Лео в первое время. Не волноваться раньше времени было правильным поведением для ответственных и современных родителей. Филиппо запаздывал в необходимости словесного выражения. Не так уж и плохо. Для того чтобы выразить свои потребности, ему было достаточно жестов, слова должны были прийти позже. Филиппо был таким. Одним из тех, кто жил сам по себе.
Однако скоро Рахиль и Лео перестали верить в эту утешительную историю. Филиппо исполнилось три года, и бог знает сколько пришлось родителям приложить усилий, чтобы он с трудом смог произнести один раз «мама» и «папа». Они устали слушать «тя», которое на особом языке Филиппо обозначало любого взрослого человека, обладающего хоть минимальным авторитетом: родителей, дедушек и бабушек, нянек. Для Филиппо они все обозначались словом «тя». Его невозможно было заставить произнести другие слова. Но родители не теряли надежды: «Малыш, скажи хотя бы тя-тя, да, скажи это два раза — тя-тя. Этого достаточно. Это уже будет большим шагом вперед».
Это было в духе Лео, вести сложные беседы с сыном, который вообще не был расположен к каким-либо разговорам. Таким образом, он также следовал указаниям Лореданы, которая, прежде чем дать ему номер телефона логопеда, сказала: «Говори с ним как можно больше. Без устали. Филиппо должен слышать, как ты говоришь. И увидишь, что в конце концов он сам заговорит».
И вот усердный папаша развлекает сына долгими и бесполезными рассуждениями. В эти мгновения Филиппо смотрел на него с изумлением. И если Лео отчаянно настаивал: «Та-та, та-та-та — это не сложно», тогда ангельское личико сына краснело. Он угрюмо отворачивался к стене и начинал ритмично биться об нее головой.
Филиппо стыдился. Он прекрасно осознавал, что с ним происходит. И то, чем он отличается от остальных, разговорчивых детишек, и то, какую боль он причиняет родителям. И это заставляло его стыдиться. Поэтому, когда отец сильно настаивал на том, чтобы он говорил, это заканчивалось ужасным нечеловеческим мычанием, которое обычно испускают глухие. А еще он бился головой об стену.
Стыд. Это чувство доказывало, что его мальчик в самом деле чувствительный ребенок. Жизнь была слишком жестокой штукой для такого, как Филиппо. Казалось, что все могло ранить его. И бешенство, которое охватывало его время от времени, гневное отчаяние, в которое он впадал каждый раз, когда не справлялся с задачами, совершенно естественными для остальных, составляли сильный контраст с его ангелической красотой. Как можно было не влюбиться в его красоту? Мягкие и золотистые волосы, голубые глаза, круглое розовое личико. В супермаркетах и ресторанах все смотрели на него. Он был поп-звездой для всех молоденьких женщин, которые останавливали его повсюду и умилялись: «Какой чудесный ребеночек! Какой ангелочек! Какой сладенький. Так бы и зацеловала его».
Каждый раз, когда молодые и благосостоятельные родители вывозили на прогулку в колясочке своего маленького принца в элегантных и строгих одежках, люди останавливались, чтобы посмотреть на него и сделать комплемент гордым Рахили и Лео. А ему было все равно. Филиппо никак не реагировал на всю любовь, на все восхищение, на всю нежность, которые он был способен вызвать. Он был полностью лишен тщеславия, обычно присущего слишком красивым детям. Он оставался безразличным, непроницаемым, погруженным в себя. Подобное поведение вызывало во взрослых, которые жалели его, еще большую нежность. В нем была внутренняя красота. Если бы для этой жизни хватало бы только красоты и самодостаточности, иной раз думал Лео, у Филиппо было бы большое будущее. Но к сожалению, кроме красоты и самодостаточности существовали другие вещи: социальная жизнь заявляла о своих правах, окружающий мир стоило принимать во внимание. Никто, даже столь прелестный ребенок, не может позволить себе не ответить на постоянные запросы окружающей среды. Именно поэтому было необходимо, чтобы он заговорил, так же, как однажды стало необходимо научиться писать. И тем не менее это проявление свободы и самодостаточности так вдохновляло. Почти все дети начинают ныть в машине. Они нетерпеливы. Спустя некоторые время становятся невыносимыми, нестерпимыми. Они протестуют, брыкаются, требуют внимания зверскими воплями. Филиппо явно не принадлежал к числу мелких надоед. В машине он принимал серьезный и умиротворенный, даже почти меланхоличный вид. Он смотрел в окно с поэтическим рассеянием. Если его звали, он смотрел на тебя, не меняя выражения лица, а затем снова отворачивался к окну. Поведение, которое Лео и Рахиль находили очаровательным и в то же время достойным похвалы.
В сущности, Филиппо всегда был независимым человеком. Лео помнил, как, выходя из ванной, он обнаруживал малыша с его светлой челкой («в духе гитлерюгенд», — шутил наш гордый папаша среди друзей) ползающим по кровати. В то время его любимой игрушкой, от которой он не мог оторваться, были трусы отца. Он смотрел на них, надевал их на голову, возил ими по полу. Он часами мог играть с этими трусами. И не было игры, которая развлекала бы его больше. Лео звал его. Но уже были видны первые признаки его застенчивости и трудности в общении. Чем больше его звали, тем больше он погружался в себя и в свою игру.
Тогда Лео впервые столкнулся со странным поведением сына. С тех пор он стал проявлять болезненное внимание к другим детям, сверстникам Филиппо. И только тогда он заметил, насколько Филиппо отличается от нормальных детей. Это переполнило его душу стыдом. Стыдом, которого Лео стыдился. И которому Рахиль противопоставила всю свою гордость (хорошо: ее сын странный — и что с того? Зато кто из нормальных детей был таким красивым?), а также желание не прятать его, а наоборот — показывать.
Лео помнил боль, которую он почувствовал, когда Филиппо исполнилось четыре года. Рахиль, подстегиваемая логопедом («нужно создать ему атмосферу комфортного и дружеского общения»), решила отпраздновать его день рождения, устроив праздник в саду. Филиппо родился в мае: в те дни сад был весь в цвету и благоухал всеми ароматами, а погода как нельзя лучше подходила для детского праздника. Лео непременно хотел присутствовать, побуждаемый любопытством и желанием посмотреть как Филиппо поведет себя со сверстниками.
На самом деле Лео не был доволен этой идеей. Праздник лишний раз подтверждал странность его сына. Все вокруг повторяли ему, что не говорить до четырех лет — это нормально. Что до четырех лет не о чем беспокоиться. И вот Филиппо исполнилось четыре года, а он продолжал молчать. Хорошо хоть он выучил слова «мама» и «папа». Но для Лео этого было недостаточно. Он чувствовал себя вправе беспокоиться. Он имел право показывать свое беспокойство. Жаль только, что сие право, предоставленное ему судьбой, не приносило ему облегчения.
Этот проклятый день рождения! Сколько волнений! Впервые Лео увидел все воочию. С тех пор как Филиппо стал ходить в американский детский сад, Лео всегда удавалось придумать какую-нибудь отговорку для себя или Рахили, чтобы манкировать случаями, когда сын участвовал в увеселительных мероприятиях. Он не был на празднике Хеллоуина (за много лет до того, как этот праздник стал популярен во всей Италии), избавив себя от вида очумелого зомби, который сидел в углу и грыз сладости. Он также не пошел на рождественский утренник, во время которого его сын исполнял роль («мастерски», по словам Рахили) неподвижного тюльпана, который, вопреки сценарию, с приходом на сцену зимы отказался завянуть вместе с остальными, вызвав у публики дружный смех, а у матери смущение и волнение.
Лео не присутствовал на всех этих детских праздниках, чтобы лишний раз не убеждаться в полной неадекватности своего сына. Он был не здесь, даже когда весь мир готов был выразить ему восхищение. Его дисгармонии, его экстравагантности.
Было действительно печально видеть, как его Фили в присутствии столь разговорчивых товарищей чувствовал себя чужим и, казалось, сосредоточился на какой-то своей постоянной игре. Он не выпускал из рук эти проклятые книги. Проклятый утенок, проклятые «кря-кря-кря»! Что в них такого особенного? Почему, мой малыш, ты всегда с ними и не выходишь к нам, мы ведь так любим тебя?
В какой-то момент мамы других детишек, почувствовав себя неловко из-за странного поведения виновника торжества, собрали своих ребят и повели их к Филиппо.
«Не хотите немножко поиграть с ним?» — спросила одна из них. И Лео стало невероятно больно. В голосе этой женщины прозвучала оскорбительная жалость. После настойчивых просьб три ребенка собрались вокруг Филиппо. Мамы вернулись к своей болтовне. Лео обратил внимание, что трое ребят, подошедших к сыну, непринужденно разговаривали, как будто старались вовлечь в разговор Филиппо. Но тот никак не реагировал. Пока один из детей не выдержал и обратился к остальным с фразой, которую Лео не смог забыть: «Оставьте его. Он ничего не понимает. Филиппо глупый».
Маленький ублюдок! Вот уж эта детская жестокость. Детская прямота. Для Лео это было ударом. Дружелюбное общество. Нет ничего дружелюбного в обществе. Общество жестоко. И Лео прекрасно это знает.
Когда у тебя маленький ребенок (особенно если это первый ребенок), ты серьезно воспринимаешь его проблему, как будто это проблема взрослого человека, которую почти нельзя разрешить… И ты почти не замечаешь, что, пока ты мучишься подозрением, что твой сын никогда не заговорит — потому что до сих пор он не научился этому и, возможно, никогда не научится столь сложному для него делу, — он день за днем начинает разговаривать все свободнее. Но на горизонте появляется другая беда, которая тебе, опасливому папаше, кажется столь же непреодолимой, как предыдущая. Так случилось и с Филиппо.
В конце концов Рахиль оказалась права. Спустя некоторое время Филиппо начал говорить. Сначала с трудом, мило и смешно коверкая слова. Вместо «мне не нравится» он говорил «ме не нратся». Иногда он путал глагольные формы. Например, ты говорил ему: «Я ошибаюсь или мой Филиппо сегодня слишком много съел?» И он сердито отвечал: «Ошибаюсь, ошибаюсь!» А затем он выучился говорить невероятно хорошо.
Но после того как он научился точно и четко выражать свои мысли словами и еще до того, как он проявил свою неспособность понимать алфавит, Филиппо заставил Лео и Рахиль поволноваться другой своей странности.
Они заметили, что, прежде чем уснуть, Филиппо взял странную привычку биться головой о подушку. Очень часто он делал это в определенном ритме, под музыку. Все началось с тех пор, как Рахиль приобрела цветной проигрыватель для детей, который был очень популярен в те годы. И Лео воспользовался им, чтобы вставить туда старый сингл Рики Нельсона, один из редчайших дисков, которые присылала все та же старая тетушка из Америки своему итальянскому племянничку с тех пор, как он был еще мальчонкой.
Этот диск был выпущен в 1957 году. В те времена Рики Нельсон был идолом подростков. Сингл назывался Bip-Bop Baby (какая смелая аллитерация!) и несколько недель держался во главе списка хитов в США. Что и подвигло заботливую тетушку Адриану приобрести диск и отослать его племяннику. Это была легко запоминающаяся приятная песенка, типичная для того времени. Она всегда нравилась Лео. Может быть, потому что была связана с каким-то воспоминанием, хранившимся в романтической шкатулочке его юности. Конечно, он не мог себе представить, что его начнет тошнить от этой песенки, после того как его сын заставит его прослушать ее сотни раз. Для Филиппо существовала только эта песня. Горе тому, кто заставил бы его прослушать другую. Пусть даже того же времени. С теми же аккордами. Даже того же автора. Тогда он приходил в ярость. Он желал только Bip-Bop Baby. И ничего иного. Это была его новая одержимость. Новый способ отгородиться от всего остального мира.
Хорошо, говорил себе Лео, все дети такие — одержимые и консерваторы. Упрямые реакционеры в миниатюре. Но одержимость Филиппо этим диском казалась прогрессирующей патологией. Как если бы он бился головой о подушку с равными интервалами, прерываясь иногда для того, чтобы поставить диск с начала. Где он только брал столько энергии? И какой смысл был во всех этих бессмысленных усилиях?
Няньку Сэми и Филиппо звали Кармен. Это была грубоватая и гордая уроженка Кабо-Верде, которую мальчики обожали и которой Рахиль (по крайней мере, до тех пор, пока Кармен не стала проявлять признаки неуравновешенности) полностью доверяла. Именно Кармен впервые придумала название этой странности. Перед тем как пожелать спокойной ночи «своим» мальчикам и через минуту после того, как она гасила свет в их комнате, она просила Филиппо: «Не работай слишком много!» Затем она увещевала его братика, который лежал с краю кровати: «А ты, Сэми, не копируй его!»
Работать. Вот какое название придумала Кармен мании Филиппо биться головой о подушку. И в самом деле, иногда вечерами, когда Лео и Рахиль возвращались с какого-нибудь званого ужина, заглядывали в комнату сыновей, прежде чем пойти спать, и слышали странный шум, они испытывали что-то вроде нежности к их маленькому работнику. Рахили этот шум напоминал прядильные мастерские, которые работают всю ночь. А Лео вспоминал о «Новых временах» Чарли Чаплина. А однажды Лео предположил: «Может быть, это форма атавистического иудаизма?»
«В каком смысле?»
«Ну, как хасиды у Стены Плача. Он мотает головой, как они. Может быть, в нашей семье наконец родился великий раввин».
«Не говори глупости. Логопед говорит, что это может быть легкая форма аутизма. Она говорит, что это не такая уж страшная вещь, но она объясняет его проблемы общения с окружающим миром…»
Неужели это так? Неужели этот благословенный ребенок постоянно должен чем-то отличаться от остальных? Неужели всем этим медикам, бродящим во тьме, так необходимо придумывать названия его странностям?
Когда Лео возвращался после ночного вызова домой, ему нравилось заглядывать к сыновьям и смотреть, как они спят. Он заходил в их комнату, и его сразу же окутывал волнующий запах свежеиспеченных печений. Он старался не разбудить их. Сначала он садился у нижнего яруса кровати, на котором, как ангелочек, спал Самуэль, гладил ребенка по руке, поправлял ему одеяльце. Затем Лео поднимался и повторял то же самое с Филиппо. Но достаточно было слегка коснуться его, чтобы запустить эту дьявольскую машинку. Вот Филипо, даже не просыпаясь, начинал биться головой о подушку. Это всегда заставляло Лео волноваться, он сразу же выходил из комнаты, как будто не желал в очередной раз убеждаться в ненормальности своего сына. Но к этому волнению примешивалось также и чувство гордости. За твердый характер Филиппо. За его мудрость и терпение. Столь редкие у маленьких детей.
Лео всегда поражала выдержка сына. Его необычайное смирение со всем, что его вынуждали делать родители. Он никогда не жаловался и проявлял просто стоический характер. Как будто из-за того, что его подвергали всем этим испытаниям, он выработал своеобразное смирение со своим несовершенством. Все эти усилия, чтобы выучиться говорить. Все эти усилия, чтобы заснуть без ритмичных ударов головой о подушку, потому что это заставляет волноваться маму и папу. Все эти усилия… Но зачем?
Возможно, они слишком давили на бедного мальчика. Возможно, следовало бы простить Филиппо его невинные недостатки. Но что поделать, если в некоторых случаях он и Рахиль не могли не вмешиваться? И если смирение Филиппо упрощало их задачу? Он не принадлежал к тому типу детей, которым без конца нужно повторять: мы делаем это для твоего же блага. У него изначально было заложено в мозгу, что жизнь ребенка — это постоянная, упорная операция по исправлению дефектов. К тому же он уже был убежден, что представляет собой существо, полное недостатков.
Но неужели так уж было необходимо, чтобы в течение всего детства он все послеобеденное время проводил вместе с матерью в приемной очередного специалиста? Или, может быть, маленький Фили расплачивался только за то, что родился во время несносного перфекционизма и в семье медиков, стремящихся выправлять каждый вывих? Двух буржуа, неспособных принять тот факт, что их сын может выражаться иначе, чем предписывает вонючая норма и банальное красноречие?
Иной раз Лео спрашивал себя, а не потворствует ли он слишком воле Рахили. Он знал, насколько она гордится стоицизмом своего сына. Так она была воспитана. Считать, что способность к личной жертве — человеческое качество. Естественно, безропотность Филиппо в ее понимании была достойна похвалы. Очень часто вечерами Рахиль рассказывала Лео, как хорошо себя вел Филиппо у логопеда или психолога.
«Он такой спокойный, не промолвит ни единого словечка. Иногда улыбается мне. Постоянно листает свои комиксы. Смотрит на других детей в приемной с удивлением. Как будто спрашивает меня взглядом: „Почему они так капризничают?“ Наш Филиппо — настоящий маленький мудрец».
«Куда ты его водила поесть?» — спрашивал Лео, желая поменять тему разговора. Он знал про негласный договор между матерью и сыном: если он хорошо себя вел, когда его забирали после школы, чтобы отвести к очередной докторше, она взамен должна была отвести его поесть в какое-нибудь место по его выбору. Филиппо обожал есть. У него всегда был хороший аппетит. И типично детские вкусы: сэндвич, бутерброды, чипсы, кока-кола, молочный коктейль, шоколадные пирожные, булочки с кремом…
«Мы ходили в „Хунгарию“. Он ел гамбургеры и чипсы. Потом мы пошли к доктору. И по пути он читал мне газеты. Или, по крайней мере, пытался это делать. Иногда он произносит странные слова, несуществующие слова, но достаточно подумать немного, и ты понимаешь, что речь идет об общеупотребимом слове, в котором он перепутал слог или гласную…»
Подобные истории, которые Лео выслушивал каждый вечер, не потому, что ему нравилось слушать их, питая пустую надежду, что однажды Рахиль скажет ему: «Все хорошо, наконец-то Филиппо читает спокойно, с превосходной дикцией, достойной Витторио Гассмана[11]», производили на него ужасное впечатление. Иногда они приводили его в ярость, иногда заставляли питать ненормальную нежность. Но никогда не оставляли его равнодушным.
Мысль о том, что его сын большую часть внешкольного времени своего короткого и одинокого детства проводил, подвергаясь мучениям, которые назначали ему доктора, заставляла его негодовать и сомневаться в правильности выбранной им и Рахилью политики вмешательства.
Покорность, о которой рассказывала ему Рахиль, жадность, с которой он поглощал гамбургеры, смешные ошибки при чтении газет только раздражали Лео. Конечно, конечно, он должен проявлять больше понимания. Разве он сам не был врачом, лечащим тяжелобольных детей? Причем эти дети не выжили бы без него. Очень часто они не выживали в любом случае. Филиппо же прекрасно обошелся бы без всех этих логопедов и психологов.
К тому же маленькие пациенты Лео не были его сыновьями. Со временем он привык к тому, что его профессия предполагала постоянно сталкиваться со страдающими детьми. Именно поэтому он не выносил страдающего ребенка у себя дома. Нет, ему определенно не нравился стоицизм Филиппо, равно как и упорство Рахили. Парадоксально, но он предпочел бы от них обоих немного попустительства. Да, именно, уступить своим слабостям для Лео показалось бы совершенно нормальной реакцией.
Кроме того, Лео знал, что, не будь он ростом метр девяносто, не будь импозантным мужчиной, не добившись с годами столь замечательного положения в обществе, не будучи вынужденным придерживаться определенной манеры поведения в присутствии жены, он расплакался бы, выслушивая отчеты Рахили, проникнутые нежностью и смирением, о нескончаемых трудностях, которые ежедневно преодолевал их сын.
Святые небеса, его Фили иногда казался таким беззащитным, неспособным противостоять даже малейшему препятствию!
Как-то утром, на море на вилле в Маремме, где Понтекорво проводили все летние месяцы, Рахиль обнаружила Филиппо в комнате прислуги, в которой обычно во время отпусков жила нянька. Он неподвижно лежал на кровати в кроссовках, майке и спортивных штанишках. От него исходил солоноватый запах человека, который занимался спортом и не успел принять душ. Рахиль поразило не столько то, что она нашла сына в таком месте, сколько та безмерная радость, с которой он встретил мать. Филиппо готов был расплакаться. Прошлым вечером, вернувшись из гостей, Лео и Рахиль не заметили, что Филиппо спал не в одной комнате с Сэми. Сейчас Филиппо объяснил им, что, придя домой после игры в мяч на пляже, он прилег на некоторое время здесь, на кровати Кармен, и не заметил, как уснул. Когда он проснулся, его окружала ужасная и беспроглядная тьма.
«Но, малыш, неужели ты не мог пойти в комнату брата?»
«Мне казалось, что я ослеп!»
«Ослеп? Почему?»
«Потому что вокруг было очень темно. Я всю ночь пролежал с открытыми глазами, пытаясь различить хоть немного света. Но бесполезно».
«Ставни закрыты. Кроме того, мы находимся в лагуне. Естественно, здесь более темно, чем в Риме. Извини, но разве ты не мог включить свет?»
«Да, я думал об этом. Я всю ночь продержал руку на выключателе».
«И почему ты не нажал на него?»
«Потому что, если бы свет не зажегся, я бы убедился в том, что действительно ослеп».
«Ну что за глупыш!»
Итак, в очередной раз образ его сына, который всю ночь продержался за выключатель, так и не решившись нажать кнопку из-за страха ослепнуть, вызвал в Лео отнюдь не радостные чувства в отличие от его жены. Вот очередной пример его боязни и неспособности реагировать. Бедный Филиппо. Как, должно быть, ужасно ощущать себя слепым все это время. Но почему он не позвал их? Просто потому, что их приход мог тоже подтвердить его слепоту. Поэтому было лучше ждать зари. Но что значил весь этот страх? Чего он стоил? Какие препятствия он создал бы в будущем? И может быть, это была их с Рахилью вина, что они внушили сыну мысль о его неполноценности? Именно они внушили Филиппо: ты, дорогой наш сын, неполноценный ребенок. Ребенок, которому на роду написано падать, разбиваться, болеть.
«Ты разве не знаешь, малыш, как трудно ослепнуть? — объяснил ему позже Лео. — И знаешь, почему многие люди, даже желая этого, не могут покончить жизнь самоубийством?»
«Почему?»
«Потому что умереть гораздо сложнее, чем это может показаться. Заболеть тоже сложно. Наше тело — это удивительный механизм, способный выдерживать и приспосабливаться. Особенно в твоем возрасте».
Только произнеся эти умные слова, Лео спросил себя, насколько они были уместны для ребенка восьми лет. Лео также случалось задаваться вопросом, каково это для подобного ребенка иметь братика, который являлся полной его противоположностью. Который научился говорить раньше положенного времени, спал глубоким спокойным сном, свободно писал и читал, был первым учеником в школе, побеждал в спортивных играх и всем нравился. Что значило для старшего брата иметь младшего, который развлекался на праздниках, организованных родителями для него? Незаметного мальчика, которому жизнь уготовила пытки у логопедов, психологов, неврологов? Сэми был сыном, о котором мечтают многие: веселым, дерзким, забавным. Возможно, он не был столь красив, как Филиппо: его прелесть была подпорчена неправильностью черт. Но эти едва заметные несовершенства делали его едва ли не более симпатичным.
Братья могли бы ненавидеть друг друга. Для этого было много предпосылок. Когда Сэми только появился на свет, за ним всегда кто-нибудь присматривал. Рахиль боялась, как бы Филиппо своим странным поведением не причинил бы какого вреда брату. Все располагало к тому, чтобы между ними возникли соперничество и зависть.
Но как бы не так! Они были самыми дружными и верными братьями, каких Лео видел в своей жизни (имеется в виду среди детей). По утрам они вместе ходили в школу. А после занятий вместе возвращались домой. Старший заразил младшего своей любовью к комиксам, тогда как младший приобщил старшего к коллекционированию спортивных футболок. Они оба разработали свой особый тайный язык. Он был нужен для того, чтобы противопоставить себя остальному миру, а также придать их братской солидарности почти мистический и эзотерический смысл.
И сейчас один не мог жить без другого. Лео усматривал в этом нечто болезненное, а Рахиль давала этому разумные обоснования. В конце концов жизнь разделила бы их, сделав независимыми друг от друга. Дух освобождения не менее роковой (и в определенном смысле не менее печальный), чем тот, что подвиг бы Самуэля и Филиппо оставить их родителей, чтобы создать, если судьба предоставит им такую возможность, новую семейную ячейку, абсолютно независимую от изначальной. Разве это не самая большая жизненная трагедия?
Почти за два года до того, как он оказался перед очередным моральным выбором — выйти из своей пещеры и прибежать на помощь сыну, который катался по лужайке с раздробленной лодыжкой, или остаться здесь, приникнув к окну, — Лео попросил Рахиль сопровождать его вместе с сыновьями на конференцию по онкологии, которая проходила в Лондоне в начале сентября. Чтобы убедить Рахиль, он сказал ей, что его доклад запланирован на вечер четверга. Так у него будут целые выходные, чтобы показать ей город, в котором, хвастался Лео, он знал каждую лужу. Как и все буржуа, Понтекорво были преданными англоманами. Как и у всех буржуазных семей (за исключением английских, я так думаю), у Понтекорво было до смешного стереотипное представление о британском образе жизни: грубоватом, как твид, жестком, как табак «Данхилл», мягком, как усы адмирала Королевского флота, и изящном, как афоризмы Джорджа Бернарда Шоу…
Именно поэтому Лео был особенно доволен своим почти десятилетним союзом с профессором Альфредом Хэтэуэйем, специалистом по онкологии, человеком с убедительным голосом и добродушным видом, который работал в крупной сети, объединившей несколько больниц в западной части Лондона. Каждый год Альфред организовывал за счет Королевского университета Холлоуэй конгресс, на котором Лео играл первую скрипку. Лео видел в коллеге, в профессоре Альфреде, что-то вроде соратника в большой гражданской войне, которую в те годы вела детская онкология, чтобы завоевать свое место под солнцем.
В этом году, почти перед самым Рождеством… разве не прекрасно было бы съездить с ребятами? Они бы развлеклись всякими глупостями, которые нравятся туристам… Походили бы по магазинам, поели бы странные жирные блюда.
Все было готово, когда Рахиль вдруг слегла с простудой.
«И что делать?»
«Я почти умираю».
«Не говори ерунды, что нам делать?»
«Мои планы на выходные — лежать в постели, завидуя вам, пока вы будете есть вкусные булочки».
«Без тебя это невозможно. Весь четверг я буду на конгрессе. Вечером я должен пойти на ужин с Альфредом и прочими шишками. Я не смогу взять с собой ребят. И было бы здорово, если бы ты была со мной».
«Ты всегда жаловался, что у тебя нет времени пообщаться побольше с детьми. Что не можешь побыть с ними вместе. Что они растут без тебя… Вот тебе представился случай. Да и мне пойдет на пользу немножко отдохнуть от них. К тому же для них это очень важно. Самуэль перевозбужден, не знаю, о каких брюках и ботинках он болтал по телефону. Филиппо тоже донельзя доволен, так он сможет купить „Тайную любовь“, или как там это называется…»
Рахиль постоянно путала названия книг, фильмов, комиксов. Это было важной частью иконоборческой стратегии, характерной именно для римских евреев, которой противостояла точность ее мужа, носящая совсем не римский характер. В частности, комикс, который упомянула Рахиль и которым в последнее время бредил Филиппо, были нашумевшие «Тайные войны» Джима Шутера, опубликованные издательским домом «Марвел» в Соединенных Штатах и Великобритании как раз в том году (итальянская версия вышла позднее, когда Лео уже давно стал жить своей отшельнической жизнью).
«И потом, извини, — вернулась к прерванному разговору Рахиль. — Уже не первое лето мы отсылаем их в путешествие одних! Неужели они не смогут побыть один день в комфортабельной лондонской гостинице или погулять в окрестностях? Не волнуйся».
«Дорогая, ты не можешь себе представить, как мне жаль, что ты…» — жалобно протянул Лео.
За несколько недель до этой беседы, когда речь шла об организации поездки, Лео и Рахиль приобрели авиабилеты. Филиппо уже летал на самолете один раз с отцом на короткое расстояние Рим — Милан. Самуэль пока нет: уже этого было достаточно для беспокойства.
Лео должен был лететь бизнес-классом, так как за билет платили организаторы конференции: зеленые кресла, немного просторнее эконом-класса, более качественное обслуживание и питание, более любезные стюардессы, стоимость, превышающая стоимость нормального билета раза в четыре. Лео хотел прихватить в более аристократическую часть самолета все свое семейство. Рахиль это, естественно, возмутило.
«Мне это кажется неуместным».
«Но прости, тебе не кажется смешным лететь разными классами? Почему бы нам не почувствовать себя важными господами?»
«Я бы не хотела, чтобы мои сыновья на борту самолета чувствовали себя маленькими барчуками. Мне это кажется отвратительным. Неприличным и невоспитанным».
«Вот досада! Как всегда! Почему ты всегда ведешь себя одинаково?»
«Тот же вопрос я могу задать и тебе».
«Но хотя бы раз мы можем сделать что-то вместе? В сущности, это первый раз, когда Сэми летит на самолете. Мне хотелось бы быть рядом с ним».
«Никто тебе это не запрещает».
«Да, но после взлета».
«Ничего страшного. Значит, твой сын взлетит без тебя и во время полета будет есть из пластиковой посуды».
«Но ведь взлет — особый момент, наиболее…»
Ему не дали продолжить.
«Я больше не хочу говорить об этом. Если вы купите билеты первого класса, поедете в Лондон без меня».
«В самолете не бывает первого класса. Есть бизнес-класс».
«Не важно, как это называется».
«Хорошо. Тогда я попрошу секретаря купить билеты эконом-класса и для меня».
«Нет, зачем? Тебе же оплатят билет. Ты едешь туда по работе. Ты должен приехать свежим и отдохнувшим. Ты заслужил побольше комфорта. Это совсем другое дело. Но тратить такие деньги на два с половиной часа полета мне кажется противоречащим всякому…»
Рахиль так и не сказала, чему именно… Здравому смыслу? Морали? Логике? Мы никогда этого не узнаем.
Конечно, несмотря на спор о билетах, у Рахили не было иных причин не ехать в Лондон, но внезапная простуда решила за нее.
Итак, Лео оказался в аэропорту перед стойкой регистрации в компании сыновей, немного хмурых из-за отсутствия матери. К тому же перед ним стояла сложная задача найти места в самолете.
«Если вы ничего не расскажете маме, мы сделаем последнюю попытку».
«Господин Понтекорво, есть только одно свободное место в бизнес-классе», — сказала работница регистрационной стойки.
«Следовательно?»
«Следовательно, я могу посадить с вами только одного из сыновей. В противном случае…»
Лео посмотрел на ребят. Чтобы они сами решили. Филиппо безразлично пожал плечами, как будто хотел сказать: пусть в бизнес-классе летит брат, мне все равно… В то время как лицо этого любителя роскоши Сэми светилось от радости.
Единственным требованием Филиппо было место у окошка. Удовлетворить его было несложно. Теперь он сидел там, с наушниками и плейером «Сони», из тех, что уже давно вышли из продажи (однако в то время они считались последним словом техники, Лео приобрел их в Гонконге), прислонившись лбом к иллюминатору, и только крыло самолета мешало его взгляду потеряться в бесконечности.
Нельзя было посетовать и на поведение Сэми, отделенного от брата двадцатью креслами. Настоящий выскочка, подумал Лео с нежностью: он не отказался ни от одной услуги, предложенной ВИП-клиентам «Алиталией». Начиная с бокала шампанского, предложенного ему красивой молодой стюардессой, который Сэми принял с легким вежливым кивком.
Лео, подмигнув девушке в форме и принимая бокал из рук сына, сказал: «Шампанское недостаточно крепко для него, дайте ему немного виски. Естественно, со льдом».
Стюардесса, поняв намек, принесла ему стакан кока-колы с тремя кубиками льда.
Сэми насладился взлетом, сжавшись от страха и удовольствия в героический момент, когда шасси оторвались от земли. Декабрьское утреннее небо было ослепительно-ясным. Лео, прислонившись подбородком к плечу сына, лицо которого было повернуто на восток, наблюдал за тем, как разделительная линия между морем и побережьем становится все более отчетливой. От причудливой мозаики, составленной из желтых, бежевых, зеленых, коричневых лоскутков, рябило в глазах. Две тонких белых борозды от двух кораблей, которые бесстрашно отправлялись в открытое море, напомнили Лео парочку юрких сперматозоидов, направлявшихся к цели. Это заставило его вернуться к мыслям о работе. Он достал записную книжку. Ему нужно было сосредоточиться.
К сожалению, Сэми и минуты не мог усидеть на месте. Раза три он сходил в туалет. Затем он шумно развернул наушники, предложенные ему все той же стюардессой, и так же шумно принялся разворачивать наушники отца. Он постоянно крутил ручки и жал на клавиши дистанционного управления. Но высшей точки его возбуждение достигло, когда принесли поднос с обедом. Лео никогда не ел в самолете. Но стало очевидно, что его второй отпрыск не унаследовал привычки отца. Более того! Сэми намазал маслом оба куска хлеба, которые лежали в корзинке, принесенной ему стюардессой, а также куски из отцовской корзинки. Он буквально вылизал тарелку с лазаньей и разрезал на мелкие кусочки ростбиф, потом даже не попробовав его. Сэми проглотил сливовый пудинг, потребовав добавки в виде двойной порции сливочного мороженого. Пока стюардесса с оловянным кофейником не намекнула, обращаясь к Лео: «Кофе для всех, господин?» И Лео: «Да, но будьте любезны разбавить его кофе теплой водой».
Когда они пролетали над Лазурным Берегом, казалось, что Сэми наконец успокоился. Но как только Лео решил погрузиться в работу, маленький надоеда рядом с ним снова оживился:
«Что ты делаешь?»
«Повторяю урок. У меня домашнее задание на завтра, — попытался сострить Лео. — Знаешь, иначе твоему папе придется говорить без подготовки на английском языке… а это не так-то просто, всегда лучше говорить на родном».
Привычку говорить с сыновьями о себе в третьем лице Лео перенял от отца. Именно приснопамятный синьор Понтекорво-старший научил его, что с детьми говорят так. Папа делает это, папа делает то… Речевой оборот, который из-за своей безличности и педагогической эффективности легко становился помпезным.
«Но заметки написаны по-итальянски», — дотошно отметил Сэми.
«Заметки — да. Для папы так проще. Но говорить я должен буду по-английски».
Самуэль постоянно спрашивал почему. С тех пор, как научился говорить. «Почему птицы летают?», «Почему машины сами ездят?», «Почему муравьи едят эту бабочку?», «Почему мы спим?», «Почему мы едим?», «Почему у мамы светлые волосы, а у папы черные?». Такими вопросами Сэми надоедал всем взрослым, попадавшимся ему на пути. Бесконечные бессмысленные вопросы, на которые можно было дать тавтологические ответы вроде: «Потому что так устроен мир». Но Рахиль и Лео отвечали обстоятельно. «Машины ездят сами, потому что человек изобрел двигатель внутреннего сгорания», «Мы едим и спим, потому что иначе не смогли бы жить», «Муравьи по той же причине, что и мы, должны питаться. Как и мы, они составляют цепочку в пищевой цепи. Возможно, бабочка ударилась обо что-то и случайно упала рядом с муравейником: несчастный случай привел к тому, что она стала идеальным блюдом для муравьев».
Но Самуэля не удовлетворяли все эти ответы. Один ответ порождал другой вопрос, более метафизический по сравнению с предыдущим. И хотя иной раз это раздражало окружающих, тем не менее свидетельствовало о предрасположенности Сэми к философскому осмыслению мира.
Если для его старшего брата овладение языком было постоянной и утомительной борьбой, Сэми справлялся с этим легко: тот факт, что он очень рано научился выражать свои мысли, казался родителям почти чудом. С первых же дней своей жизни Сэми терзал их своими самыми большими двумя страстями: желанием найти связь между всеми вещами в мире и желанием спрашивать. Эти два взаимосвязанных устремления превратили его в неутомимого журналиста и любителя все сравнивать: «Кто плавает лучше: я или Филиппо?», «Кто чаще летал на самолете: мама или папа?», «Кто сильнее — я или мой друг Джакомо?».
Увлечение сравнениями свидетельствовало еще об одной страсти, весьма характерной для Понтекорво, — страсти к соревнованию. Страсти, от которой, казалось, Филиппо был полностью избавлен. Страсти, которой по разным причинам готовы были потакать и Лео, и Рахиль.
«А это что?» — спросил Самуэль, ткнув пальцем в один из пунктов на листке отца.
«Название моего исследования».
Тогда Сэми, всмотревшись в записки отца, начал читать хорошо поставленным голосом:
«Три фазы объявления диагноза онкологическим больным детского возраста».
После некоторого замешательства он спросил: «Что это значит?»
«Я же тебе сказал — это название моего исследования».
«Да, но что оно значит?»
«Ты не понимаешь какое-то конкретное слово? Или всю фразу?»
«И то и другое».
«И какое слово не понимаешь?»
«Диагноз».
И тут наш несостоявшийся эллинист начал свою лекцию: «Это слово греческого происхождения. Как многие слова, которые используют врачи. Оно состоит из предлога δια, который означает „через“, и слова γνώσις, которое означает „знание“. Это способ, при помощи которого доктора определяют и классифицируют патологию после ряда анализов, взятых у пациента».
Заметив непонимание в глазах Сэми, Лео продолжил: «Вспомни, когда у тебя бывает температура, ломит в костях, першит в горле, а мама посылает тебя в школу?»
«Да».
«Вот. А если ты придешь к папе и скажешь: „Папа, у меня температура, ломит кости, першит в горле“, сначала папа попросит у тебя кучу денег. А потом, учитывая симптомы, возможно, скажет тебе, что у тебя грипп. Это диагноз, поставленный со слов пациента. Грипп — это диагноз. Только вот диагнозы, которые должен ставить папа, — обычно более сложные и, как бы тебе это сказать, более… драматичные».
«Драматичные? Почему?»
«Потому что они более сложные и касаются более серьезных и коварных, чем грипп, заболеваний. И потому что внушают пациентам и их родителям грустные мысли».
«А что значит онкологические больные?»
«Это как раз больные, которыми занимается твой папа».
«А педиатрический возраст?»
«Это значит, что речь идет о детях».
Причина, по которой Лео пускался во все эти разглагольствования и скрывался за всеми этими цветастыми эвфемизмами, заключалась в том, что ему было тяжело говорить о своей работе с сыновьями. Не то чтобы он хотел предостеречь их от профессии, которая во всех смыслах была экстремальной. Скорее он суеверно боялся, говоря с ними о болезнях, как бы не заразить их. Сделать их более уязвимыми. Уподобить их всем другим детям планеты, то есть всем нежным созданиям, зависящим от каприза судьбы, готовыми заболеть и умереть в любой момент.
Лео, будучи сыном родителей-ипохондриков, предпочел не быть отцом-ипохондриком. Прекрасно помня о том, как тяжко было ощущать гнет родительских увещеваний, он решил избавить своих сыновей и себя самого от этого бремени. Но чтобы следовать до конца выбранной стратегии, он должен был убедиться, что несмотря ни на что Сэми и Филиппо не участвуют в нормальном жизненном цикле: они должны были оставаться неуязвимыми для всякой болезни, пока он жив. Именно это было основной причиной, по которой он воздерживался говорить в их присутствии о своей работе. По этой же причине он воздерживался от того, чтобы говорить с кем-либо о своих детях в больнице. Между этими мирами не должно было существовать никакой связи. Его жизнь как будто протекала в двух отделенных друг от друга пространствах. Его сыновья не могли быть «пациентами детского возраста». Его сыновья были его сыновьями, и все.
«Итак, о чем ты будешь рассказывать на конференции?» — спросил у него Сэми, отрываясь от банки кока-колы.
«Представлю отчет по результатам исследований за последние два года, проведенных благодаря инновационным технологиям, введенным в отделении, и помощи выдающихся коллег, включая твоего папу. Результаты действительно вдохновляющие».
«Например?»
На этот раз Лео поколебался, прежде чем ответить. Не столько потому, что у него закончились иносказания, сколько потому, что вопрос сына заставил вспомнить его обо всей борьбе, которую он вел в последние годы против закоснелой системы, чтобы иметь наконец возможность работать в условиях, которые ему казались более подходящими и правильными.
Инновационные технологии. Вот оно, слово, ненавистное для бюрократов больницы Санта-Кристина. Инновации. Вот причина, по которой он должен был тратить столько сил в последние годы, спорить, ссориться с коллегами, приносить жертвы, рисковать карьерой. Упорство, за которое, возможно, когда-нибудь он поплатится, но которое сейчас принесло необычайные результаты. И Лео не терпелось обсудить их с коллегами из других стран.
Основное открытие в лечебной практике, которое Лео применял в течение пяти лет до этого (немного с запозданием по сравнению с более передовой Америкой или другими европейскими странами), заключалось в использовании венозного катетера: инструмента, позволявшего вводить в тело его пациентов, проходящих курс химиотерапии, необходимые для выживания лекарства, а также так называемые «поддерживающие препараты». Все это не терзая лишний раз хрупкие молодые вены, рискуя испортить их на всю жизнь.
Не менее революционным открытием было — объявление диагноза пациенту. Для его введения Лео должен был побороть еще более упорного врага: родителей и их отчаянную волю. Именно родители не желали, чтобы врачи объявляли диагноз их детям. Какая в этом необходимость? Разве не достаточно уже того факта, что они больны? Разве не достаточно того, что их уже подвергли всем этим мучительным и разрушительным процедурам? А теперь они должны были еще знать о болезни, которая убивала их, об опасности, которой подвергалась их жизнь, о лечении, которое им предстояло?
И все-таки — да, думал Лео. А с ним целое направление в медицине, поддерживаемое достаточно авторитетной и активной группой детских психологов.
Лео стоило только представить, сколько вздора он рассказывал пациентам в первые годы своей лечебной практики, стоило ему только представить, сколько сил он потратил, чтобы запомнить весь этот вздор, чтобы держать его под контролем, стоило ему только представить, с каким недоверием его пациенты, особенно подростки, смотрели на него, пока он плел все эти небылицы… стоило только представить все это, как Лео почувствовал тошноту.
Лео все еще помнил мальчика, которому в свое время он поставил диагноз (или лучше сказать, придумал диагноз) «воспаление брюшной полости», которое можно было очень быстро вылечить «немножечко болезненным» лекарством. Этому мальчику было столько же лет, сколько Сэми. И как-то раз во время одного из приемов тот ребенок, дождавшись, когда родители отойдут подальше, прошептал Лео на ухо: «Доктор, пожалуйста, не говорите моей маме, что у меня рак. Она думает, что у меня воспаление».
Вот сколько времени еще терпеть подобное злостное притворство? Диагноз следовало объявлять пациентам. Какими бы маленькими они ни были, они имели на это право. Конечно, конечно, вместе с психологами следовало рассматривать каждый случай отдельно: между шестилетним ребенком и подростком существует колоссальная разница. Нужно учитывать также социальное положение семьи ребенка, уровень культуры. Нельзя ко всем относиться одинаково. Следует настойчиво повторять, что каждый пациент — это индивидуум. Каждый индивидуум — это единственное и неповторимое сокровище.
Таковых принципов, по правде говоря, очень еврейских, придерживался Лео, когда объявил войну старым установкам и старой гвардии. Он дошел до того, что ввел подобную практику в своем отделении. Вот почему, после того как он это сделал, ему потребовалась команда психологов, которые сопровождали бы его в дальней дороге под названием «фазы объявления диагноза детям с онкологическими заболеваниями».
И каким бы абсурдным это ни казалось (возможно, потому, что он был не готов, или потому, что летел в этот момент над ледяным и бурным Ла-Маншем), сейчас Лео объяснял причины своей борьбы и преимущества победы в этой борьбе своему младшему сыну. То есть одному из двух детей в мире, которым Лео предпочел бы не рассказывать, как обстоят дела. Одному из детей, которых профессор Понтекорво предпочел бы оградить от жесткой правды действительности, прибегая к удобному методу круговой поруки:
«Имей в виду, что заболевание, которым занимается твой папа, слава богу, очень редкое среди детей. По сравнению со взрослыми, которые заболевают им, никакого сравнения. В моем отделении наберется не более шестидесяти пациентов. В медицинском центре Риккардо, друга твоего папы, около тысячи пациентов. И это дает мне возможность, в отличие от моих коллег, в отличие от Риккардо, лично и почти каждый день заниматься каждым больным. И я считаю возможность заниматься ими лично и каждый день существенным фактором. Секретом многих благополучных исходов. Вот об этом будет говорить завтра твой папа со своими коллегами».
«Почему?»
«Потому что сравнивать результаты моих трудов с результатами трудов других врачей со всего мира важно, как для моей, так и для их работы. Это называют совместной работой».
«Что значит „совместный“?»
«Э-э, „совместный“ — ключевое слово. Оно обозначает, что мы все собрались, чтобы сделать что-то вместе, или лучше сказать: нам следует сделать что-то вместе».
«Да, но что это значит?»
«Это значит сотрудничать. Я и мои коллеги, например, я и Альфред, — сотрудники. Невозможно быть успешным работником без сотрудничества».
«А твои пациенты всегда хотят знать, что у них?»
«Это сложный вопрос, Сэми. Действительно очень сложный вопрос. Здесь все очень запутано. Есть такие, которые хотят знать, а есть такие, которые даже не представляют, что значит „знать“ или „не знать“. Это зависит от многих вещей. Но это не так уж и важно».
«Тогда что важно?»
«Важно наладить систему — мы это называем планом лечения, — чтобы она помогла нам, родителям пациентов и самим пациентам создать условия, наиболее подходящие для лечения. Так, мы решили составить план из трех пунктов. Сначала мы пишем диагноз. Мы не будем объявлять его, пока не напишем. Затем мы объявляем его родителям и рассказываем им схему лечения, которая была бы наиболее быстрой и эффективной».
«Что значит схема лечения?»
«Процедуры. Лечение, которое пациент должен пройти. Затем мы ставим в известность родителей о возможности успешного исхода данной терапии для данного типа заболевания. В конце нашей беседы мы убеждаем родителей в необходимости рассказать о диагнозе их детям. И это, поверь, — самый сложный момент. Это даже хуже того момента, когда ты говоришь родителям, чем больны их дети. Весь гнев и отчаяние, которые они сдерживали до сих пор, взрываются в один момент. Иногда в ужасных масштабах. Иногда случается, что тебе говорят, что ты не можешь себе позволить просить об этом, не имеешь права, тебя называют палачом, доктором Менгелем».
«А кто такой доктор Менгель?»
«Доктор Менгель был нацистом».
«А кто такие нацисты?»
Насчет этого вопроса у супругов Понтекорво существовал негласный договор. В сущности, им пора было уже объяснить сыновьям, какой опасности они подвергаются в этом странном мире только за то, что они евреи.
«Ты задаешь слишком много вопросов. О нацистах мы поговорим в другой раз. Сейчас я расскажу тебе о реакции родителей».
«Ах да, реакция родителей».
«Она может быть действительно непредсказуемой и агрессивной. Тогда вмешиваются психологи. Их задача — убедить родителей, что это правильно как с этической, так и с терапевтической точки зрения, чтобы их дети знали, чем они больны и какой опасности подвергаются».
«И им всегда удается убедить их?»
«Я бы сказал да! У них просто дар убеждения. И здесь начинается третий этап. Когда маленькая делегация, состоящая из меня, психологов и родителей, направляется к ребенку. И поверь мне, странным образом — это самый легкий этап, потому что ребенок обычно очень восприимчив. Потому что, в отличие от родителей, он хочет знать. Потому что, в отличие от родителей, он еще готов принимать несчастья, которые случаются с ним. Когда дети совсем маленькие, они не совсем понимают, что ты им говоришь, и через некоторое время отвлекаются и перестают тебя слушать. Подростки плачут. Да, по большей части плачут».
«А что ты им такое говоришь, что они плачут?»
«Говорю им, что нашел больные клетки, не знаю, например, в брюшной полости. И что эти клетки объединятся с другими, чтобы взбунтоваться против тела. И чтобы их победить, нужно кое-что сделать. Конечно, мы делаем это не так грубо, как я тебе рассказываю. Мы рассказываем все это постепенно. Сначала говорим ему одну часть. Второй раз добавляем еще что-то. И так далее. Мы говорим ребенку, что он может на нас рассчитывать, что он может спрашивать у нас все что угодно, и мы ответим на все его вопросы».
«А потом что случается?»
«Случается, что пациент начинает доверять тебе. Он знает, что ты его не обманешь. В сущности, он и так догадывается, что с ним происходит что-то серьезное. После всех анализов, которые он прошел в нашей больнице, после того, как сами же родителя окружили его чрезмерной заботой в последние недели… После всего этого лучше быть честными с ребенком. Он имеет право на то, чтобы с ним говорили открыто».
«Но зачем говорить ему об этом во что бы то ни стало?»
«Отчасти потому, что по статистике лечение сознательного пациента проходит эффективнее, чем бессознательного. Кроме того, это дело принципа. Каждый из нас имеет право знать то, что с ним может случиться. Приведу тебе один глупый пример: если бы у тебя после еды в зубах остались кусочки шпината, ты бы предпочел, чтобы папа тебе сказал об этом или чтобы все это увидели и стали смеяться над тобой, а ты бы даже и не знал, что над тобой потешаются?»
«Я бы предпочел, чтобы ты мне это сказал».
«Именно. Это то же самое. Достаточно один раз рассказать правду и не выдумывать басни. Тогда ребенок будет тебе доверять. И между вами возникает сотрудничество. Также когда мы выписываем лекарство, мы всегда говорим о его побочных эффектах. Мы говорим: „Послушай, от этой таблетки у тебя может заболеть живот, а от этой выскочить сыпь на губах и так далее“…»
С каким красноречием Лео рассказывал все это сыну. С каким увлечением. С красноречием человека, который ставил свою работу даже выше столь любимой им и достойной любви семьи. Может быть, потому что на работе он всегда чувствовал себя уютней, чем дома, где его иногда мучила постепенно растущая неуверенность.
В своем онкологическом отделении для детей профессор Понтекорво ничего не боялся, никогда не ошибался, был краток и эффективен. Кроме того, выражение в «своем» стоит понимать буквально. И не только потому, что Лео при авторитетной поддержке своего учителя, профессора Мейера, сделал существенный вклад в основание этого отделения, но и потому, что в какие-то тридцать девять лет он получил в наследство управление этим отделением. Он стал самым молодым главврачом. Предприимчивым и волевым главным врачом. Главным врачом, который никогда не перекладывал обязанности на других и предпочитал сам «пачкать себе руки». Который никогда не щадил себя, не ставил непреодолимых барьеров: пациенты могли обращаться к нему круглосуточно.
Стоит сказать, что такая преданность работе была возможна благодаря снисходительности Рахили. Она явно не принадлежала к типу жен, вечно жалующихся на то, что их мужей нет дома, что они слишком много работают и думают только о карьере. И не потому, что она возлагала какие-то особые надежды на карьерный рост Лео, а потому, что она была адептом культа труда, привитым ей отцом: труд мужчины — это святое. Порядочная женщина и хорошая жена должна всячески облегчать обязанности мужа, не связанные с работой. Менять подгузники, отводить детей в школу или помогать им делать домашнее задание по математике — не мужское дело. Муж должен думать только о работе. И жена должна сделать все, чтобы обеспечить ему право на этот своеобразный эгоизм.
Рахиль отлично с этим справлялась с тех пор, как ее мать и сестра отошли в мир иной, а она стала своему отцу как бы женой. С тех пор то, что было только теорией, осуществилось на практике: ее долгом дочери (ставшей по вине неожиданной трагедии «единственной дочерью») было избавлять отца от малейшего дополнительного бремени. Иногда синьор Спиццикино по неотложному делу мог остаться на фабрике допоздна. Но в этом случае он даже не беспокоился о том, чтобы позвонить дочери. Которая, в свою очередь, терпеливо ждала на кухне: вода для пасты почти вскипела, соус готов, глубокие тарелки расставлены на столе, и в воздухе витает дух нежного фатализма.
Тот самый дух витал и на вилле Понтекорво несколько лет спустя, когда Рахиль ждала возвращения Лео из больницы. Она накормила детей и уложила их спать. Потом отослала спать прислугу. При этом сама не взяла в рот ни кусочка (вопрос принципа). Так случалось пять или шесть раз в месяц, когда супруги Понтекорво оказывались одни ночью на кухне. Лео молчал, Рахиль молча возилась с половником и дымящимися тарелками супа.
Но этого было недостаточно: в первые годы брака Рахиль боролась с привычкой мужа спать допоздна. Правила хорошего работника на самом деле обязывали мужчину с обязанностями Лео приходить в больницу первым и уходить последним. Именно так ведет себя настоящий начальник. Именно так он осуществляет контроль над всеми подчиненными и в то же время показывает им пример.
Именно такое поведение Рахили позволило Лео почти полностью посвятить себя отделению с самого момента его основания. Для Лео лечение больного начиналось с того момента, как тот переступал порог больницы… Начиная с меблировки. Цвета стен и пола. Никаких сюсюканий. Никаких ярких красок. Никаких детских обоев. Мы не в Диснейленде.
Все, что требовалось, — это светлое и просторное помещение. Чистое и уютное, в котором родители и дети чувствуют себя спокойно. Но в котором нет ни намека на веселое времяпровождение. Лео долго боролся за то, чтобы три соседних кабинета, предназначенные для химиотерапии, выходили в единственный больничный садик. Оливы, плакучие ивы, магнолии — это было единственным утешением детей, в то время как их отравляли.
Другой одержимостью Лео были запахи.
«Здесь не должно вонять больницей!» — повторял он медсестрам, санитаркам и уборщицам. Запах дезинфекционных средств, вареной курицы и печеного яблока — вот что подразумевал Лео под «вонью больницы». И не дай бог, если, войдя в больницу, Лео уловил бы этот унылый и убивающий запах. Самый спокойный в мире человек терял контроль над собой. Он приходил в такую ярость, что любой, кто знал его в других ситуациях, мог бы сильно удивиться. В своем отделении Лео был настоящим деспотом. Настоящим швейцарцем. Он был очень дотошен и никому не давал спуска. Он не прощал неаккуратности, неточности и карал любую форму безответственности. Он вступал в конфликт с администрацией, профсоюзом, с энтропией римской больничной системы в вопросах приема на работу персонала и обеспечения текучки кадров (Лео прекрасно знал, как сложно выдержать подобную работу и не сойти с ума или не превратиться в циника). Пресловутая вежливость Лео с подчиненными компенсировалась жестокостью, с которой он мог уволить одного из них за какой-нибудь своевольный поступок. Лео хотел заставить весь персонал подрезать волосы почти под машинку, как в армии. Но не имея подобной власти, ему удалось заставить их носить шапочки. И не ради гигиены, а из общечеловеческой солидарности. Для детей, особенно для девочек, уже было большой психологической травмой терять волосы, не хватало еще усугублять ее видом шевелюры какой-нибудь легкомысленной медсестры.
В целом беззаботность Лео в бюрократических вопросах совсем не соответствовала практической организации его отделения, которая, мягко скажем, была не очень гибкой. Как будто существовало два Лео Понтекорво: один безвольный и нерешительный, другой — решительный и аккуратный до педантичности.
И это было одним из противоречий. (Или наоборот: в этом не было никакого противоречия.)
По сравнению с его непреклонностью в организации и его беззаботностью в бюрократических вопросах на самом деле в медицинском искусстве (он так любил называть свой род деятельности) Лео проявлял необыкновенную гибкость и удивительный эклектизм. Враг всяческих медицинских направлений, он не принадлежал ни к одной из медицинских школ, он приспосабливался к ситуации, как хамелеон. Он на отлично выучил урок своего парижского наставника: рак отличается от всех остальных болезней тем, что это не какой-то инородный элемент атакует тело, но какая-то часть самого тела: мятежная, склонная к саморазрушению часть, один из членов семьи, который решил покончить с собой. Рак — это не часть нас самих. Рак — это мы сами. Вот почему каждый отдельный случай заболевания требует особого лечения. Требует особого внимания. Для каждого организма существует свой собственный рак. Именно поэтому курс лечения должен быть адаптирован под пациента, а не наоборот.
Когда Лео понимал, что ребенок не может больше выносить определенную терапию, он делал все, чтобы поменять ее или облегчить. Когда он видел малышку, измученную костно-мозговой аплазией, одним из самых страшных последствий химиотерапии, он давал ей несколько недель передышки. Он ждал, пока костный мозг не начнет снова нормально выполнять свои функции и производить необходимое количество белых телец, в которых нуждается иммунная система. Потому что профессор Понтекорво ни на секунду не забывал о том, что самые эффективные средства лечения рака, то есть химиотерапия и облучение, каждое по-своему, самая вредная отрава, с которой надо было обращаться с искусством алхимика.
Это была та форма гуманности, которую Лео применял к пациентам и которая сделала его более чувствительным по сравнению с его коллегами, в психологическом аспекте этого дела. Его отделение было первым в Италии, которое пополнило свой персонал психологами. Лео заключил особый договор с главным специалистом-психологом, доктором Лореданой Соффичи: она посвятила его в таинства детской психологии.
Говорить правду пациентам. Не лишать их ответственности. Не питать иллюзий. Привлекать их к борьбе. И в то же время побуждать их идти вперед, как будто ничего не случилось. Это были слова доктора Соффичи. Лео разделял с этой женщиной желание, чтобы пациенты могли наслаждаться возможностью продолжать жить, играть, учиться. Новые игрушки, которые Лео покупал для Филиппо и Сэми за границей, обязательно оказывалась и в игровой палате отделения, и вместо того чтобы казаться кладбищем старых игрушек для сиротского дома, она выглядела комнатой избалованного ребенка.
Лео во всем доверял Лоредане. Ему нравилось участвовать в семинарах, которые она организовывала в стенах больницы для школьных учителей. Ему нравилось слушать ее выступления. Он отмечал, как резковатые объяснения этой женщины отражали его многолетний практический опыт. Лоредана призывала молодых и робких преподавателей уделять внимание мельчайшим деталям поведения и ничего не недооценивать. И этот призыв, несмотря на его банальность, казался Лео очень разумным.
«Вы должны понимать, что любой ребенок изменчив, а ребенок, подверженный стрессу круглые сутки, особенно раним. И не недооценивайте обиду. Возмущение. Гнев. Всегда имейте в виду зависть. Зависть больных по отношению к здоровым. Вы здоровые, а они больные. Вы согласитесь со мной, что это неестественно. Несправедливо. Не думайте, что они не осознают этого. Они прекрасно это понимают. И поэтому могут ненавидеть вас. И нет ничего ужаснее ненависти больного по отношению к здоровому. Особенно в том возрасте, когда эмоции преобладают над разумом. И тем не менее, несмотря на то, что достаточно одной вашей фразы или жеста, чтобы обидеть их или заставить страдать, они заслуживают правды. Если один из учеников не пришел на урок, потому что плохо себя чувствует или потому что не сделал его, нет смысла скрывать от него его участь. Не будьте двусмысленны, не рассказывайте байки. Знайте, что они более готовы к смерти, чем вы».
После этих лекций у Лео сформировались свои убеждения. Ему нравились идеи такой личности, как Лоредана Соффичи, одновременно сострадательной и прямолинейной, четкой и мечтательной, и он пришел к выводу о необходимости сообщать диагноз пациенту. И сейчас из самых благородных побуждений, находясь в самолете по пути в Лондон, он пытался объяснить своему младшенькому, почему притворство хуже рака.
Но затем случилось нечто странное. Именно тогда, когда самолет стал заходить на посадку в аэропорт Хитроу, именного тогда, когда стюардесса по связи стала призывать пассажиров занять свои места, привести спинки сидений в вертикальное положение, закрыть столики и пристегнуть ремни безопасности. Именно в этот момент Сэми, с волнением, настолько чуждым этому ребенку и которое именно поэтому глубоко поразило Лео, просто и ясно спросил отца:
«Папа, а если бы со мной вдруг что-то случилось, ты бы мне это сказал? Правда, папа, ты мне бы сказал?»
Скорее из-за беспокойства, которое прозвучало в голосе сына, чем из-за его слов, Лео почувствовал смущение, нерешительность, он не знал, отвечать сыну искренне или какой-нибудь остроумной фразой перевести разговор в более легкомысленный регистр. В конце концов, спрятавшись за пример с листиками шпината, он сказал:
«Клянусь тебе, что у тебя ничего не застряло в зубах!»
Но Сэми не удовлетворился этой фразой. Сэми не ослабил хватку. Сэми невозмутимо продолжал:
«Обещаешь, папа? Обещаешь?»
«Что?» — нетерпеливо спросил Лео, раскаявшись, что посвятил сына в некоторые секреты своей профессии.
«Что ты мне скажешь. В случае, если со мной что-то произойдет, ты мне об этом скажешь. Ты мне это обещаешь, папа? Обещаешь?»
И Лео, рассерженный настойчивостью Сэми, не глядя ему в глаза, отвернувшись к надвигающемуся пригороду Лондона, пообещал.
(Именно о том обещании, о том беспокойстве думает сейчас Лео, смотря на взволнованного, как тогда, Сэми, который бежит на помощь старшему брату, только что сломавшему лодыжку. Лео спрашивает себя: этот четырнадцатилетний парень по-прежнему задает все эти вопросы? Он надеется, что нет. Он надеется, что он больше не делает этого. Он надеется от всего сердца, что не стал в глазах сына самым большим вопросом. Самым коварным и волнующим. Вопросом без ответа. Лео почти не может дышать. Это то, что случается с нашим телом, когда нами вдруг овладевает чувство жалости и вины.)
В среду утром, в начале декабря 1984 года, трое «мужчин» из семейства Понтекорво, почти окоченевшие, оказались перед вертящимися дверьми отеля «Браунстоун», где их встречал с поклоном странный тип, одетый в форму из зеленого бархата с золотыми нашивками и в смешном цилиндре на голове.
Маленькая табличка у входа (черный фон, золотые буквы) уведомляла клиента, что это старинное здание из песчаника, расположенное в квартале Белгравия, было приспособлено под отель мажордомом лорда Байрона в середине девятнадцатого века. Лео останавливался здесь впервые почти тридцать лет назад с отцом, и с тех пор он всегда выбирал этот отель для своих поездок в Лондон. Он любил маленькую, уютную, обитую плюшем гостиную, бар с поджаристыми тостами и кофе, плотный ковер цвета мальвы, обшивку стен из темного дерева, блестящие латунные ручки и потрескивающий в камине из розового мрамора огонь, приглушающий шум машин с улицы.
Лео был доволен, что его сыновья увидят его в таком месте, во всем блеске. Ему очень нравилось, когда они восхищались им. И в этой старой гостинице он мог продемонстрировать двум мелким соплякам свое умение «быть частью высшего света». Которое заключалось, например, в том, что его узнал смешной паж в лобби. Или в словах, с которыми к нему обратился администратор гостиницы, тощий тип с соломенными волосами и щеками, покрытыми розоватой сеткой сосудов, вот-вот готовых взорваться: «Welcome, Mr. Pontecorvo!»
Затем настала очередь Лео на почти безупречном английском напомнить служащему за стойкой, почти раздраженным тоном для пущего эффекта, что мистер Понтекорво каждое утро в половине седьмого желает горячий кофе по-американски, маффин, свежий номер «Коррьере делла Сера» и «Таймс». И не меняя тона, он спросил у сыновей (бог знает почему по-английски), что они хотели бы на завтрак.
До этого все шло замечательно. Но Лео вдруг разволновался и не сразу смог попасть ключом в замок своего номера полулюкс на четвертом этаже, так как внезапно осознал, что впервые остался с маленькими сыновьями один на один без Рахили. Это ощущение было подобно тому, что испытывает муж-девственник в первую брачную ночь.
Уже прошло немало лет с тех пор, как Филиппо представлял самую большую проблему для семейства Понтекорво. В тот период Лео проводил с сыновьями больше времени, и не только с Филиппо, но и с младшим Сэми по причине астмы. Но потом Филиппо перестал создавать проблемы, и тогда их отношения изменились. Они становились все более формальными. Для Лео наступил период жизни, когда успешные в карьере мужчины жертвуют ради нее семьей. Его дни складывались из сплошных обязанностей: больница, кабинет, университет, конференции, статьи в специализированных журналах и газетах… На сыновей оставалось мало времени. А они не нашли ничего лучше, чем замкнуться в своем кружке.
И так, неожиданно и без всякого предупреждения, они предстали перед папочкой уже подростками. И он заметил это только сейчас, у дверей лондонской гостиницы. Кто эти создания? Что он знает о них? Кроме дня рождения и внешних характеристик, что он знает об этих ребятах, которые носят его фамилию, имеют с ним общих предков и унаследовали его гены? Филиппо — ангельского вида тринадцатилетний полноватый подросток, одержимый комиксами и мультфильмами, не особенно спортивный, но неплохо играющий в качестве защитника в школьной футбольной команде, успеваемость средняя. Сэму одиннадцать лет. Он очень общительный, куча друзей, ранняя склонность к удовольствиям жизни. Лидер среди своих одноклассников. Жизнь его была столь же легка, как его поджарая фигура.
Это все, что знал Лео о своих сыновьях. А было много людей, которые знали о них гораздо больше. И вот они оба перед ним, и ему предстоит узнать о них все за один раз.
Даже на уровне внешности все изменилось. Лео был очень нежным отцом. Когда Филиппо был еще грудничком, он часто брал его на руки. Ему нравилось нянчиться с ним, щипать его за щечки, ласкать гладенькие, будто выточенные ножки, нюхать холодным носом ароматную складочку между щекой и шейкой. Лео нравилось будить сына, когда ему случалось посреди ночи вернуться домой из больницы после срочного вызова, играться с этим забавным хорошеньким и немного замкнутым младенцем. Но со временем, что естественно, эта физическая близость пошла на убыль. Лео не принадлежал к числу палочек, которые целуют детей или которых целуют дети. Не то чтобы у него никогда не было желания прижать к себе одного из сыновей. Просто он интуитивно догадывался, что они из-за своеобразной мужской стыдливости были бы недовольны. Поэтому он воздерживался от подобных жестов.
Ощущения, которые он испытал перед входом в номер отеля, были таковы: он чувствовал, что его сыновья неприятно изменились, вопреки его ожиданиям. В них чувствовалась какая-то угловатость, которую Лео, будучи привязанным к идее детской ароматной мягкости, заметил впервые. Голос Сэми был низким и хрипловатым, как голоса всех ребят-подростков. На щеках и подбородке Филиппо уже пробивался пушок. От их тел исходил солоноватый запах организма в полном гормональном развитии.
Лео постарался спрятать свое волнение за гиперактивностью. Он начал разбирать чемоданы, приказав сыновьям почти категоричным тоном делать то же самое. Потом принялся педантично объяснять им, как разгладить складки на брюках, которые они извлекли из чемоданов (закрыли дверь в ванной, брызнули горячей водой, обдали паром и — на вешалку). После этого, чтобы занять время, он заказал в комнату высококалорийный завтрак.
В конце концов, чтобы не делить с сыновьями время ожидания еды, Лео разделся и наполнил ванную водой, вылив в нее жидкое мыло изумрудного цвета, которое предоставляла гостиница. Он погрузился в воду по горло. Но даже это не уняло его беспокойные мысли о предстоящих днях в компании сыновей. Не желая даже слышать, чем они там занимаются за стеной, он включил кран и с головой погрузился в теплую воду. Там, внизу он наслаждался тяжелым и успокаивающим шумом водопада, который, однако, так и не смог отвлечь его от мыслей о сыновьях, которые ждали его за стеной, присмиревшие и молчаливые.
Но вот, выйдя из ванной, окутанный ароматным паром, завернувшись в махровый халат с золотой каймой на карманах, он увидел, как его сыновья на кровати в одних трусах спорили из-за пульта. С облегчением Лео сказал себе, что, может быть, изменения, произошедшие с его сыновьями имели и положительные стороны: например, мальчики стали более самостоятельными, чем он воображал. Они не нуждались в нем, чтобы жить и развлекаться.
Наконец-то колокольчик.
Вошла проворная кореянка с тележкой. Она была одета в костюм горничной девятнадцатого века с фартучком и в чепце. Театральным жестом она подняла покрывало с оловянного подноса, на котором, как дублоны из сокровищницы, горкой лежали пышные сэндвичи в окружении картофельных чипсов и латука. Эта изящная восточная женщина также открыла бутылки с кока-колой. И в завершение она поднесла Лео кожаную папочку с чеком, который мужчина в халате подписал небрежным жестом и почти не глядя.
После плотного завтрака и ванной Лео охватила приятная томность и вялость. Ему достаточно было прислонить голову к подушке, чтобы почувствовать, как силы совершенно оставляют его. Однако окончательно справиться с чувством беспокойства ему так и не удалось.
«Папа, а можно нам заказать еще пирожное?»
Голос Самуэля.
Почему бы и нет, подумал Лео, возьмите что хотите.
«Папа, можно нам заказать торт?» — настойчиво повторил Самуэль.
Лео открыл глаза. Улыбнулся. Кивнул в знак согласия.
В сущности, подумал он, окончательно успокоившись, отсутствие Рахили имело и свои преимущества: без этой бережливой дамочки я научу этих сопляков, что значит жить на полную катушку.
«Вы можете делать все, что пожелаете», — он говорил, как Вилли Вонка, принимавший детишек на своей фабрике шоколада. Фабрикой шоколада Лео был Лондон: Лондон ледяной, переливающийся всеми цветами радуги и ироничный, заваленный всевозможными товарами и манящий всевозможными удовольствиями. Город всегда на высоте, который знал, что значит праздновать Рождество. Это меняло все. Отсутствие Рахили из проклятия превращалось в благословение. «Вот что мы будем делать, — подумал Лео, — все, что нам нравится. Какая радость! Какое веселье!»
Он принялся мечтать о четырех прекрасных днях, которые ожидали его. Днях, когда он сможет вернуться и с сыновьями в те годы, которыми он наслаждался с женой: особое удовольствие приобщать дилетантов к радостям потребительской жизни.
Но в очередной раз ожидания Лео оказались слишком оптимистичными. Странным образом тем, что помешало этому длинному уикэнду стать незабываемым, оказалась прекрасная, трогательная и почти страстная привязанность, которая неразрывно объединяла его сыновей. Лео столкнулся с этой проблемой в первый же вечер. После того как Филиппо вызвал горничную, чтобы заказать пирожное, Лео услышал от Сэми вопрос, намерен ли он сдержать свое обещание.
«Какое обещание?»
«Ты сказал нам, что отведешь нас на мюзикл».
«Я же тебе сказал, — довольно ответил Лео. — Мы можем делать все что хотим».
Так он отправил Филиппо к консьержу заказать билеты на «Джентльмены предпочитают блондинок» на этот же вечер. А затем он достал из своего портфеля несколько папок и уселся в красное кожаное кресло.
Итак, Лео устроился в кресле, завернувшись в халат, и принялся подправлять карандашом некоторые места из своего доклада, как вдруг Сэми спросил его: «Но куда делся Филиппо?» Он спросил это голосом, в котором слышалось плохо скрываемое беспокойство. Сначала Лео подумал, что это беспокойство вызвано опасением, что нет билетов. И стал успокаивать сына: «Спокойно. „Джентльмены предпочитают блондинок“ показывают каждый вечер. Если на сегодня билеты распроданы, у нас полно времени. Обещаю тебе, что в любом случае мы достанем билеты, можно даже попросить Альфреда». Но краем глаза он заметил, что его слова совсем не успокоили Самуэля, который принялся ходить из одного угла комнаты в другой, как муж роженицы, который терзается в приемной роддома в ожидании рождения первенца. Потом он снова набрался мужества и спросил отца, куда мог запропаститься Филиппо.
«Я же тебе сказал, что не знаю! Возможно, он стоит в очереди. Возможно, пошел в бар выпить что-нибудь. Он мог встретить друга или женщину своей жизни… он мог выйти прогуляться».
«Не предупредив нас?»
«А почему он должен это делать? Твой брат — почти взрослый».
«Мама хочет, чтобы мы всегда предупреждали ее».
Тогда Лео вспомнил об одном споре с Рахилью, которому он не придал большого значения.
Она говорила ему об излишней мнительности Сэми: «Он слишком волнуется, прежде всего за брата. Стоит только Филиппо выйти хоть на минуту, он начинает нервничать. Он начинает думать о самом плохом. Однажды он даже разбудил Филиппо, опасаясь, что тот умер».
Это было слабым местом более удачливого сына? Это была едва заметная трещина на самой благородной и почти совершенной вазе из его коллекции? Мнительность, подозрение, что все может сложиться наихудшим образом, совсем не беспристрастное ожидание самой разрушительной и жуткой трагедии…
Пока Лео припоминал этот разговор с Рахилью, Филиппо как ни в чем не бывало вернулся в номер. Сэми набросился на него с расспросами, как ревнивая жена, прождавшая всю ночь возвращения мужа:
«Что ты делал все это время?»
«Эй, какого хрена ты наезжаешь на меня?»
Хотя Сэми казался расстроенным, он был удовлетворен. Когда Филиппо улегся в кровать, Сэми пристроился рядом с ним, свернувшись клубочком, как котенок. В номере стояли две двуспальные кровати. Одну из них с листками и карандашом в руках занял Лео, на другой разместились ребята.
Филиппо принялся читать путеводитель по Лондону, а брат начал доставать его. В такой навязчивой манере, которая, казалось, перечеркивала его удовлетворение от возвращения Филиппо.
За этим последовала еще одна странность.
«Ты мне дашь понюхать свой живот?» — попросил Сэми у Филиппо. Лео спросил себя, не ослышался ли он. Филиппо ответил на это, как будто он отвечал на самую обыкновенную и нормальную просьбу: «Если ты принесешь мне лед для кока-колы, я дам тебе понюхать руку пять раз».
А это что за история? — спросил себя Лео. Его сыновья обнюхивали друг друга? Зачем? Это ему показалось довольно странным, чем-то животным и даже хуже: отдающим гомосексуализмом. Это совсем не нравилось ему и придавало привязанности братьев какой-то болезненный оттенок. Почему Сэми так резко отреагировал на позднее возвращение брата? И почему они всегда держались друг друга? И прежде всего, почему они обнюхивали друг друга? И как один мог шантажировать другого этой возможностью понюхать?
Сейчас, когда Лео видел своих сыновей без Рахили, без ее иронии, с которой она смотрела на них, без ее способности сделать ситуацию менее драматичной, его сыновья казались ему очень странными. И этот факт немало раздражал его. Нет, ему не нравились странные выходки сыновей. Если хорошенько подумать, ему вообще не нравились странные вещи. В любой форме. Он всегда боялся их. Оригинальность — вещь хорошая, бесспорно, но в умеренных количествах, без экстравагантности.
Поведение Лео всегда колебалось между эксцентричностью и высокомерием, но никогда не переходило в странность. В конформизме всегда есть нечто успокаивающее. Нет ничего более естественного в том, чтобы быть тем, кем тебя хотят видеть другие. Зачем провоцировать ближнего своего? Зачем вести себя странно, если не для того, чтобы скрыть какой-то недостаток? Какой-то дефект?
В те годы, когда Филиппо стал впервые проявлять некоторые странности, Лео даже стали приходить на ум смутные мыслишки, а не идет ли речь о неприятном счете, предоставленным ему генетикой за то, что он смешал свою благородную кровь с женщиной не своего круга.
И сейчас, много лет спустя, он припомнил слова своей матушки, которой он заявил о своем желании жениться на Рахили: «Ты это потом заметишь!» Да, она именно так и сказала: «Ты это потом заметишь!» Что-то вроде проклятия, о котором Лео подумал при первых проявлениях ненормальности своего первенца и сейчас, наблюдая за странным поведением сыновей. Это имела в виду его мать под словами «ты заметишь». Ты, сыночек, столь ненавидящий ненормальность, станешь ее жертвой. Именно поэтому ты будешь просто погребен под ней, она будет окружать тебя день и ночь.
Лео вздрогнул от звонкого смеха Сэми, который извивался под братом, пока тот щекотал его. Эта сценка показалась Лео такой отвратительной и невыносимой, что, вопреки своему обычному поведению, он повысил голос: «Прекратите сейчас же, черт вас возьми! Это совсем не смешно!» Но сразу же после этого замечания он расстроился. Лео не нравилось изводить сыновей упреками. Он никогда никого не ругал. Он терпеть не мог тот эффект, который производили на людей повышенные тона его голоса, его сразу же охватывало глубокое чувство вины.
Именно поэтому остаток вечера, когда он отвел их на мюзикл в Королевский театр, а затем в бар «Бомбей», Лео старался не думать о странном поведении сыновей, а также пытался загладить свою невольную резкость обещанным потаканием их капризам. Он с удовлетворением отметил, с каким удовольствием Сэми смотрел «Джентльмены предпочитают блондинок», не отрывая взгляда от Оливии Ньютон-Джон в роли Лорелей Ли, которую когда-то играла Мэрилин Монро.
Не упуская ни одного слова, ни одной ноты, ни одного движения всех этих певцов и танцоров, он следил за ними почти в экстазе. Отбивая ногой такты. В конце спектакля он первым вскочил на ноги и аплодировал до последнего. Ладони покраснели, глаза блестят. По дороге в ресторан Сэми не переставал напевать Bye-Bye Baby и постоянно, чуть ли не натыкаясь на столбы, перечитывал список песен на диске, который он заставил купить отца.
Реакция Филиппо на мюзикл была достаточно прохладной в сравнении с братом, зато он с энтузиазмом заказал вторую порцию цыпленка табака, быстро прикончив первую.
В целом все, казалось, стало на свои места. Лео снова стал сознательным и образцовым родителем, который никогда не кричит на своих любимых мальчиков, едва переступивших порог подросткового возраста, которые пользуются всеми благами, предоставленными им любящим состоятельным папочкой.
Но перед сном атмосфера снова испортилась. Старший сын Лео имел отвратительную привычку засыпать с наушниками, слушая всю ту же устаревшую музыку, и продолжал биться головой о подушку. Он просто не мог обойтись без этого. Поэтому, после того как Лео выключил свет и пожелал спокойной ночи, он ничего не сказал, услышав этот досадный шум, обозначавший, что Филиппо бьется о подушку головой. Он начал выходить из себя только тогда, когда заметил, что Самуэль придвинулся к брату сзади и начал повторять его движения. Его сыновья, вместо того чтобы спать, крутятся в постели как какие-то педики. Один это делает, потому что не может иначе. А другой из нездорового подражания ему. Лео не знал, что хуже, но в любом случае ему это было невыносимо. Но Лео знал, что должен контролировать себя. Он не хотел больше испытывать чувство вины. Чтобы не слышать сыновей, он даже закрыл себе уши руками. Затем спрятал голову под подушкой. Затем вышел в ванную. Потом снова вернулся в кровать. Пока не понял, что на самом деле его раздражает не шум, производимый сыновьями, а с чем этот шум ассоциируется. Ему было мало просто не слышать их: он желал, чтобы они стали нормальными. Именно это заставило его вмешаться. Лео включил абажур. Вздохнул и закричал: «В конце концов! Прекратите это! Вы выведете себя как психи!»
Если для Самуэля было не так уж сложно прекратить то, чего он обычно не делал, для Филиппо это было страданием. Но тем не менее с тех пор все дни каникул он даже не попытался сделать это. Он лежал не двигаясь. С трудом пытаясь уснуть. Без сомнения, ему не удавалось. Но не только из-за этого ночь превратилась в кошмар: Лео терзало чувство вины. Все то, что психологи, педагоги, учителя, логопеды, профессора запрещали делать ему с самого рождения Филиппо, он сделал за один день. Он запретил ему выражаться. Он упрекнул сына. Он указал ему на то, что его поведение странное. Он дал ему название. Дал ему понять, насколько это неприятно. Но в любом случае уже было поздно исправлять ошибки. Если в первую ночь странные привычки сына выводили Лео из себя, все последующие ночи он мучился осознанием того, что Филиппо старательно пытается себя сдерживать. Ему так и хотелось сказать сыну: «Ладно, сынок. Все это не важно. Продолжай». Но как? Он и так уже сделал все, чтобы ухудшить положение дел. И так выходные, которые Лео желал сделать незабываемыми в воспоминаниях своих сыновей, превратились в список «упущенных возможностей и мелких неприятностей». Остаток этих маленьких каникул им владело мрачное настроение. Бессонные ночи Филиппо стали для него немым упреком, принявшим вид вежливого терпения и упорного отсутствия энтузиазма. Возможно, из-за перенесенных в детстве страданий, возможно, из-за своего характера, но этот парнишка мог быть по-настоящему упрямым и непреклонным. Окей, казалось, сказал он отцу, ночью я не буду вытворять глупостей, но за это весь день ты будешь иметь рядом с собой соляной столб. И только Богу известно, как горек был этот урок для Лео.
С тех пор много чего произошло: Анзер, первые обвинения, выходки Камиллы, публичный позор, окончательный разрыв с семьей, тюрьма, процесс, самоизоляция… Возможно ли, что только сейчас Лео вспомнил о тех днях, когда он не смог очаровать сыновей, как хотел, когда все пошло не так, как надо? Возможно ли, что только сейчас он вспомнил о том, насколько отвратительным показалось ему зрелище ненормальности его сыновей? Наблюдать, как они обнюхивают друг друга, как бьются головой о подушку, чтобы уснуть. Его сыновей так легко было разочаровать и так трудно завоевать их доверие.
Должно быть, несчастный случай с Филиппо заставил его вспомнить о Лондоне и о том, что имело значение. Сейчас он видел своих сыновей в нескольких сантиметрах от себя, они были в очередной критической ситуации, переживали очередную травму: старший со сломанной ногой, младший — напуганный болью брата, не говоря уже о чувстве вины за произошедшее.
Воспоминание о тех днях в Лондоне и о его нерешительности в те дни подвигали его на действие. Наконец-то какое-то действие после стольких лет бездействия. Он был почти готов выйти. Но именно в тот момент, когда он уже почти сделал первый шаг (столь сложный для него), откуда-то появилась Рахиль. В тот момент, когда она склонилась над Филиппо и начала что-то делать с уверенностью человека, получившего медицинское образование, Лео наконец-то увидел ее лицо. Он осознал, что не видел его почти год. Она показалась ему очень красивой, так же как и сыновья.
Нет, он был не в силах испортить эту красоту (что может быть прекрасней матери, помогающей своим сыновьям) своим жутким видом. Нет, он не сделал бы этого. Последняя возможность, дарованная ему Богом, — воссоединиться со своей семьей, сгорела за несколько секунд. Благодаря Рахили, которая пыталась приподнять скулящего от боли Филиппо, и Самуэлю, который с надоедливостью, столь хорошо знакомой Лео, вопрошал ее: «Мама, ведь не случилось ничего страшного, правда?»
Это была последняя картинка, которая предстала у него перед глазами. Равно как и остальные, пока кто-то не заставил его упасть у двери. Незаметно.
Мы уже достаточно хорошо знаем Лео, чтобы сообразить, что вид подобных картин должен расстроить и возмутить его. А тот, кто все это задумал и устроил, после того как задумал и устроил все остальное, был, судя по всему, настроен серьезно. Неизвестная сила вовлекла его в эту извращенную игру, в которой Лео совсем не хотел участвовать: впервые они осмелились изобразить его семью. Что бы это значило? Прелюдия к дальнейшему развитию событий? Изменение перспектив и амбиций? Предупреждение? Угроза? Они устали мучить его самого и решили взяться за самых дорогих ему людей, за тех, кого он любил больше всего на свете?
Да, именно за тех, кого он любил больше всего на свете. Хотя в данный момент Лео имел на это право, но он не мог разлюбить Рахиль, Фили и Сэми, даже ценой мучений. Лео Понтекорво не был обидчивым или мстительным человеком. Эта особенность его характера вынуждает меня заметить, что картина, открывшаяся его взору, могла произвести на него самое тяжелое впечатление. Возможно, он разозлился бы. И нашел бы силы выйти из укрытия и вернуться к своей жизни. Но автору, увы, не остается ничего, как только делать предположения: из-за стечения определенных обстоятельств Лео увидел только часть этой сценки и не смог оценить ее в полной мере, как остальные.
Хотя автор сего повествования довольно дотошно описал все сценки и образы, в сознании Лео они представали, за исключением последней, несколько рассеянно и без уважения к хронологическому порядку. Первым был эпизод в горах с оставленной в ванной прокладкой — о нем он вспомнил несколько дней спустя после выхода из тюрьмы. За этим последовало бегство вниз по лестнице. Но то, что заставило Лео начать сомневаться в ясности своего сознания, стало впечатление, будто он стал персонажем бульварного романа.
А существовало ли нечто или некто, преследовавший его? Кто-либо вел за ним наблюдение? Ни на минуту не оставляя его одного? Немой свидетель ключевых моментов его деградации как личности, утраты его общественного положения? Было ли нечто, что хотело заставить его осознать неизбежность происходящего?
С самого начала все эти картины и их таинственный создатель пугали Лео, как пугает нечто, лишенное смысла. Но по прошествии нескольких недель или месяцев он даже смирился с идеей присутствия чего-то или кого-то вокруг. Иногда он даже пытался дать этому какое-то объяснение. Спросить у этого незримого духа совета. Иногда даже встать в позу. Хотя сразу понял, что духу были безразличны его выходки. Ему было нужно, чтобы его объект находился в вечном напряжении. Не было ни единой картины, которую нельзя было бы назвать БЕСПОКОЙСТВО.
Хотя это присутствие, возможно, и не было столь обманчивым и насмешливым, как представлялось Лео. Возможно, это был единственный ресурс, который у него остался. Когда пришла очередь картины, на которой предстали его отец и мать, явившиеся в тюрьме, Лео дошел даже до того, что готов был поверить, немного умиленный и размягченный, — а не был ли один из родителей тем самым прячущимся в тени автором бульварного романа?
Лео неоднократно задавал себе вопрос, а не тот же самый дух приносил ему каждый вечер еду, которая поддерживает его жизнь. С другой стороны, невозможно было не задаться вопросом, а не он ли запустил сигнализацию, которая промучила его весь день? Это его рук дело? Может, он требовал к себе внимания? А что сказать о граффити на стене с изображением человека с удавкой, которую Лео увидел по возвращении домой?
В любом случае, в тот момент как последний образ тихо соскальзывал вниз по двери, ноздри Лео, находящегося на грани мучительного полусна-полубодрствования, вдруг почуяли аромат кофе.
И его охватило совершенно непонятное и неуместное ощущение блаженства. Возможно, потому, что уже давно никто не приносил ему кофе и он почти забыл его аромат. Возможно, потому, что Рахиль и сыновья, как обычно, уехали на августовские каникулы. А сейчас, в последние дни лета, они вернулись и с небрежностью, граничащей с невоспитанностью, стали заполнять собой дом, громко хлопая дверцами машины, во весь голос призывая Тельму, топоча и бегая над головой нежеланного жильца, запертого в полуподвале, изнуренного (этого они не могли знать, но могли себе представить) тропической жарой, с помощью которой город изводил своих многочисленных жертв.
В общем, если закат принес с собой тишину, рассвет начался с аромата кофе, который заставил ликовать организм Лео. Удовольствие, которое не развеялось даже тогда, когда Лео распахнул глаза на все тот же беспокойный потолок. Более того, чтобы не утратить этот утренний дар, Лео закрыл глаза, обхватил подушку со страстью влюбленной девочки и продолжил дремать. Аромат кофе может рассказать тебе все о твоей жизни с особенной задушевностью. Столько лет он возвещал о прекращении ночных мучений, о возвращении мамы в твою жизнь после часов бессонницы. Утром, возможно из-за ночной рубашки и отсутствия макияжа, в угловатой красоте твоей матери проступало что-то ливанское. Такой была твоя мать, которую ты любил, мать, которая каждое июньское утро, когда ты входил в кухню, сидела за столом, а на нем, в самом центре, как древний идол, возвышался кофейник, с годами почерневший от пламени. Из него, из этой несравненной статуи, из этого итальянского дизайнерского шедевра исходил сильный и одновременно мягкий утренний запах: жизнь, которая оживает и начинает бежать рысцой. Неожиданно нахлынувшие воспоминания и ощущения от напитка, который в те времена был тебе запрещен. И который с годами стал топливом, необходимым для любой твоей деятельности.
Подъем ни свет ни заря, чтобы успеть на занятия профессора Антинори.
«Это время, когда работают судмедэксперты. А также патологоанатомы. Час, когда вампиры и оборотни идут спать и приступаем к работе мы», — говорил этот безумец, запуская руки в грудную клетку Микки. Так студенты-третьекурсники прозвали трупы, которые они каждый раз аккуратно препарировали, как будто это было одно и то же тело.
Старый труп, который, согласно легенде, с незапамятных времен принадлежал кафедре судебной медицины или патологоанатомии. За спиной у старого доброго Микки была целая история. Говорили, что он наследие одной из последних войн. Как бы то ни было, он был собственностью этого полусадиста профессора Антинори, чьим любимым развлечением во время своего курса, казалось, было производить впечатление на студентов-новичков, показывая им эту вязкую и отталкивающую тайну жизни и смерти, которая носила имя Микки. Это нежное прозвище трупу прицепил один из итало-американских студентов. Потому что он напомнил ему одного дядюшку из Queens. Дядюшку Микки.
Ты до сих пор помнишь этот вкус во рту, который ты ощущал, прежде чем войти в царство Антинори и дядюшки Микки. Кофе. Из университетского бара в атриуме, выстроенном в помпезном фашистском стиле, почти пустом в столь ранний час. Кофе грязно-коричневого цвета, густой, с дерьмовым послевкусием, но действенный именно из-за своего неприятного вкуса. Отличающегося от того изысканного, который был связан с твоей супружеской жизнью. Одно из требований молодого, очаровательного, верного мужа касалось кофе. На нем Рахиль не должна была экономить. Самые дорогие сорта арабики, самой изысканной обжарки. И прежде всего требовалась свежесть. Кофе нужно было покупать каждую неделю, чтобы обеспечить свежесть и аромат. Аромат кофе напоминает тебе о воскресных днях — да, о воскресных днях, когда тебе не нужно идти на работу. Ты еще нежишься в постели и слышишь издалека, как плещутся ребята. Рахиль купает их, а они устраивают свои детские игры. Филиппо пять лет, а Сэми — три годика. Рахиль купает их в одной ванночке. И только один день в неделю ты позволяешь им войти в свою ванную. Ту самую, которую ты сделал по своему вкусу: белый кафель, аромат лаванды, большие льняные полотенца цвета ржавчины и, конечно же, ванная в центре, огромная и круглая, будто предназначенная для римского проконсула. Именно туда, в этот маленький бассейн, Рахиль сажает Филиппо и Сэми во время их воскресных омовений. Каждый раз, прежде чем войти в воду, они капризичают, но потом их ни за что оттуда не вытащишь. Они нежатся в твоей ванной, пока ты нежишься в мягком, ароматном полусне. Но вот этот запах поражает тебя, пробуждает. Приближается Рахиль с кофейным подносом. Ты чувствуешь, как виски стучат, легкий толчок между лопаток и теплый рот наполняется слюной. Вот он, рефлекс Павлова в действии. Наркотик прибыл: ароматный кофеин, растворенный в воде. И на этот раз сцена повторяется без малейших изменений. Рахиль приходит с подносом в сопровождении Филиппо, немного сердитого и красного после купания, в своем голубом халатике детского размера. «Лео, Сэми тоже хотел принести тебе кофе. Но мы не можем его найти. Он куда-то исчез…» Слова Рахили всегда одни и те же. Сэми конечно же прячется за ее спиной. И его трудно не заметить: он единственный, кто думает, будто его не видят. И это его право, трехлетнего наивного ребенка. Именно поэтому ты включаешься в игру. Ты делаешь вид, что беспокоишься, и начинаешь звать его: «Сэми, Сэми, ты где? Куда подевался этот ребенок?» На лице у Филиппо заговорщицкая улыбка, которая как будто говорит: «Мы с тобой прекрасно знаем, где он, но если ему нравится представляться невидимкой, позволим ему сделать это». И вот Сэми выскакивает из-за спины матери и, еще мокрый после ванной, запрыгивает в постель. А за ним и Филиппо.
Твои сыновья здесь, в твоей кровати, но они не осмеливаются ни обнять, ни даже коснуться тебя, они возятся на половинке кровати, которую обычно занимает Рахиль. Комната еще погружена в желтовато-голубую полутьму. Рахиль ставит поднос на тумбочку и включает абажур. Ты знаешь, что она не выносит темноту. Если бы дом принадлежал только ей, он был бы всегда освещен.
«Нет, дорогая, пожалуйста. Только не абажур. Открой шторы, но не включай абажур». Наконец-то кофе. Дети слезли с кровати, обошли ее и оказались перед тумбочкой. Они ссорятся из-за того, кто положит в кофе сахар. Они ссорятся слишком шумно, на твой взгляд, ты почти теряешь терпение. Слава богу, вмешивается Рахиль: «Итак, Филиппо, ты положишь сахар, а ты, Сэми, его перемешаешь. Понятно?» Понятно. Именно это они и делают. Пока снова не вмешивается Рахиль. «Хорошо, Сэми, так очень хорошо. Не размешивай сильно, а то кофе остынет». Ты держишь чашку в одной руке, а в другой блюдце. Ты подносишь напиток к губам. Фили и Сэми снова забрались на кровать на сторону Рахили и устроили там свою возню. Рахиль мягким движением бедра дает тебе понять, что хочет присесть рядом с тобой. Ты немного отодвигаешься. Теперь, наконец, кофе. Не самый лучший. Он остыл, но все равно немного жжет нёбо. Но это твоя жизнь. Как эта кровать. Это твоя жизнь, вся твоя жизнь. Так Лео вдруг понимает, какой сильной может быть ностальгия. Внезапный и неукратимый порыв жизни. Лео хочет все, он страстно желает все. Он хочет, чтобы его дети снова стали маленькими. Сцена меняется: теперь это не воскресное утро, а вечер пятницы, очень поздно, зима. Внезапно погас свет, снаружи бушует непогода. Свет фонарей, который проникает сквозь большие окна виллы, преобразили дом в сцену из средненького фильма ужасов. Ты в кровати и знаешь, что это только вопрос времени. А вот и они. Один за другим. Филиппо и Сэми делают все, чтобы скрыть страх. Не спросив разрешения, они забираются в кровать между тобой и Рахилью. Они немного мешают, но засыпают почти сразу. Ровное дыхание, разнеженные, и порозовевшие… Все это исчезло навсегда. Навсегда — это слово приводит его в беспокойство. Его охватывает странное чувство, нечто среднее между счастьем и отчаянием. Нечто, чему он не может дать имя. Странное ощущение, большая кровать, которую он представляет, его супружеская кровать, с точки зрения пространства, находится всего лишь этажом выше, но с точки зрения времени она расположена в другой геологической эре. Сейчас ему кажется, будто эта кровать расширяется. И теперь в ней спят не только его маленькие сыновья. Теперь в ней также он, совсем малыш. Избалованный, обласканный, любимый всеми ребенок сороковых. Мамочка только и делает, что нянчится с ним. Она не оставляет его даже ночью. Она ждет, когда ее Лео уснет. Сейчас эта кровать безразмерна. В ней помещается вся его семья, вся его история, вся его несчастная судьба. Целые поколения Понтекорво. Глаза Лео горят, он понимает, как чувства переполняют его, он почти не дышит. Он хочет пойти к своим сыновьям, к Рахили, попросить их о мире. Он хочет закричать им в лицо:
«Это счастье! И вы не можете прогнать его взашей. Счастье — это все. Я это знаю. Сейчас я это знаю. Слишком поздно, но я знаю это».
Теперь он понимает, что такое то незримое присутствие, которое его всегда преследовало. И этот дух, который никогда не покидал его. Это Бог. Потому что Бог должен существовать. Последний год ада, в котором он жил, — это Бог. Забвение, в котором он жил.
Преступления, в которых его обвиняют. Донос. Камилла.
Все это имеет имя. И имя этому — Бог.
Все ужасные и немыслимые события, которые с ним произошли, доказывают идею существования Бога.
Кофе, запах кофе — это Бог.
Вот он какой, Лео, которому никогда не удавалось быть одному, который всегда жил под опекой, на этот раз он не может даже умереть один. У него не хватает духу. Бог с ним, как мама или Рахиль. Теперь, когда две женщины, столь важные в его жизни, оставили его, он нуждается в ком-то еще. Он не в состоянии поверить, что люди могут жить в абсолютном одиночестве. Что люди могут жить так, чтобы о них никто не думал и не заботился. Это одиночество непостижимо для него. И так по полуподвальному этажу дома Понтекорво распространяется Бог во всем своем спокойном фарфоровом свете. Бог — это Великая Мать. Бог — это Великая Жена.
Именно так Лео мечтает умереть: в теплых и незримых объятиях Бога. И пока он мечтает о смерти, он чувствует запах кофе. Завернувшись в одеяло на воображаемой кровати. Более чем странный саван. Жаль только, что ему не удается полностью избавиться от беспокойства, несмотря на сон о смерти и мире. Жаль, что даже во сне Лео не усвоил самый важный урок: не существует никаких важных уроков.
И вдруг сон прерывается каким-то звоном, похожим на отдаленный звон будильника. Это телефонный звонок. Ему звонят на частный номер. Это уже десятый звонок, насколько Лео отдает себе отчет. Едва держась на ногах, он подходит к столу. Он не верит, что кто-то может звонить именно ему, что кому-то интересно поговорить с ним, но поднимает трубку и говорит голосом, который он слышит как бы издалека, из могилы: «Алло? Это кто?»
«Профессор Понтекорво, это я — Лука! Малыш Лука, Лукино!»
«Лукино?»
«Профессор, только не говорите, что вы меня не помните! Лука, Лукино. Я вам звоню каждый год в один и тот же день. Двадцать восьмого августа, в тот день, когда…»
Ах да, Лукино. Какой Лукино? Просто Лукино. Тот самый Лукино. Который несколько лет подряд, где бы он ни находился, каждое двадцать восьмое августа звонит Лео Понтекорво, чтобы в очередной раз выразить свою благодарность. Лука движим самыми лучшими побуждениями. Он думал, что это очень вежливо — звонить каждый год, что это очень честно и благородно — делать это в тот день и тот же час. Он думал, что это доставляет Лео удовольствие. Или нет: как всех навязчивых людей его интересовало только собственное удовольствие. И вещь, которая доставляла ему это удовольствие, было поднимать трубку каждое двадцать восьмое августа в восемь тридцать и звонить доктору, который когда-то спас его шкуру.
Остеосаркома, как помнил Лео, одна из самых опасных форм, поразивших правую ногу Лукино, которому тогда было пятнадцать лет. Диагноз Лео был безжалостен: возможно, удастся спасти мальчика, но не его ногу. Тогда никто особо не миндальничал. Хирурги резали все, что попадало им под руку.
Лео ошибся. Оптимист Лео впал в грех отчаяния. После лечения, после исключительно щадящей операции, проведенной доктором Риккарди, Лукино удалось избавиться от кошмара. Конечно, с тех пор он слегка прихрамывал и всю жизнь был осужден опираться на палку, но тем не менее он был спасен.
И с тех пор как Лукино был выписан из отделения профессора Понтекорво, он не переставал звонить ему каждое двадцать восьмое августа. Не то чтобы Лео напоминал ему, сам Лукино помнил об этом. Он жаждал выразить своему Спасителю (именно так Лукино прозвал доктора Понтекорво) свою безграничную благодарность за возможность жить на этом свете. И кстати, он хотел, чтобы Спаситель знал, что его жизнь с тех пор сложилась просто замечательно. Что тяжелый опыт научил его ценить любое, даже самое незначительное мгновение своего существования. Ему так хотелось познакомить его со своими двумя сыновьями. Потому что в определенном смысле его сыновья были и вашими сыновьями. Вашими? Чьими? Вашими, профессор. Вашими, Спаситель. Лукино привил своим соплякам культ Спасителя. «Знаете, как они вас называют, профессор? Дядюшка Спаситель. С уважением, естественно. С огромным уважением. Они ведь могут вас так называть?» Лукино начал приучать своих сопляков к культу Спасителя. Дядя Спаситель. С уважением разумеется. С огромным почтением. Вы не возражаете, если они будут называть Вас «дядюшка Спаситель»?
Это пошловатое представление повторялось каждое двадцать восьмое августа, около восьми тридцати утра, почти четверть века, вызывая в Лео легкое отвращение и испытывая его терпение, которому он был обязан своим воспитанием. Но холодные, граничащие с надменностью ответы нисколько не смущали Лукино и, казалось, напротив, вдохновляли его еще больше. Каждый раз все повторялось. Каждый год все то же назойливое приглашение: «Почему вы не заедете к нам в гости, профессор? С вашей женой. К нам домой. В деревню. У нас маленький дом. Ничего особенного. Совсем простой. Но это счастливый дом, в котором живут честные люди. Здесь свежо, а не как в городе, где всегда жарко. У нас всегда есть свежее, настоящее вино. Моя жена отлично готовит. И она так хочет с вами познакомиться. Не говоря уже о моих сыновьях. Для моих сыновей вы — Бог, профессор».
Лео, которому всегда было тяжело сказать нет, придумывал всевозможные отговорки, иногда не совсем вежливые, чтобы не принимать приглашение. Он с трудом скрывал отвращение, которое вызывал в нем медоточивый голос Лукино. А также гадливость, которую вообще вызывал в нем этот человек. Он с трудом переваривал общие места, которыми изобиловала речь Лукино, а также буколическое описание его семейства. Вся эта показная скромность. Риторика простых вещей. Сельская жизнь. Святые угодники, иногда Лео хотелось взвыть. Каждый раз, когда он клал трубку после очередного звонка Лукино, он был просто вне себя. И каждый раз он спорил с Рахилью, которая взяла Лукино под свое покровительство.
«Тебе удалось? Ты снова отказался? Что на этот раз ты придумал?»
«Оставим, на этот раз он был особенно настойчив, он просто совершенствуется в искусстве убеждения. Наверное, он брал уроки по риторике. Возможно, заочные».
«Скорее всего, заочные. Потому что он не может позволить себе дневную форму обучения. Потому что он не может себе позволить учиться в Сорбонне, как наш профессор».
«И что ты этим хочешь сказать? Я тоже не учился в Сорбонне».
«Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Тебе претит мысль о любой возможности смешения. Ты, конечно, строишь из себя демократа, постоянно повторяешь слова „терпимость“, „свобода“, но на самом деле всегда остаешься снобом. Ты сын своей матушки. Ты делишь людей на классы. Единственное различие между вами, что она, по крайней мере, не пыталась это скрыть».
«Ты ошибаешься! Ты несправедлива. У меня нет ненависти к низшим классам, у меня нет ненависти даже к этому червяку».
«Этому червяку? Разве это не классовая ненависть?»
«Нет, это не классовая ненависть. Это вывод, сделанный на основании общения с этим милым человеком. Он просто невыносим. Не говоря уже о его родителях».
Именно родители Лукино. Он достойный сын своих родителей, воплощение дурного воспитания и назойливости. Лео не забыл их обеты падре Пио. Еще бы, как он мог их забыть. Они только и говорили ему об этом.
«Подумайте только! — говорила мать Лукино. — С тех пор как наш сынок заболел, мой муж перестал пить вино. Ни глотка. Даже за ужином. Обет падре Пио».
Что еще могло быть столь неприятно нашему поклоннику научно-рационального мировоззрения. Кроме классовой ненависти. Лео терпеть не мог таких людей. Не менее, чем обеты и святых. Лео готов был поручиться, что родители Лукино — антисемиты. Это было ясно как божий день. Религиозная одержимость. Приверженность самым нелепым суевериям. Неужели они так видели Бога? Неужели они так думали задобрить его? Отказавшись от вина? Боженька, клянусь тебе не брать ни глотка, а ты мне за это даруй свою милость. Так они думали? Если бы Лео был Богом, он с удовольствием бы им ответил: «Мне наплевать на твое пристрастие к спиртному. Сдохни от алкоголя. Какое дело мне до тебя?»
К сожалению, родители Лукино совершали подношения не только Богу. Были также дары природы, которые они ежедневно несли доктору, дабы отблагодарить его за сына: колбасы, молочные продукты, грибы, яйца, бутыли домашнего вина. Они превратили его отделение в базар. Один раз он даже попытался вежливо намекнуть им на это. Что так не принято вести себя в больнице. Бессмысленно превращать ее в продуктовую лавку! Некоторое время Лео владели иллюзии, что они усвоили его урок. По крайней мере, до тех пор, пока они не стали присылать ему все эти дары на дом! Где только они раскопали его адрес? Как они смогли позволить себе такое!
В последние годы именно Рахиль отвечала на эти звонки. Это было типично для нее избавлять Лео от самых досадных неприятностей. В начале каждого года Рахиль проводила очень важный для нее ритуал под названием «замена записной книжки», и одним из первых мероприятий, вносимых в новую книжку, становился звонок Лукино 28 августа. Совершенно бесполезное действо: ей не нужно было смотреть в записную книжку, чтобы вспомнить, что в 8.30 в назначенный день позвонит Лукино. А кто же еще? Рахиль относилась к нему с большим терпением и любезностью, чем муж. Она позволяла Лукино выговориться, выразить все его почтение к Лео. Затем Рахиль отвечала на более конкретные вопросы о жизни Спасителя. И наконец, спрашивала у Лукино, как поживают его детишки — мальчик и девочка, — она помнила даже их имена и дни рождения. И отклонив очередное приглашение от имени мужа (к сожалению, уже приглашенного на международный конгресс или находящегося по неотложному вызову в больнице), изящно избавлялась от надоедливого собеседника.
«Лукино? Откуда у тебя этот номер?» Это был единственный вопрос, который Лео удалось сформулировать: при этом он мямлил, как француз, говорящий по-английски.
«Мне его дала ваша синьора». Да, Лукино принадлежал к числу таких типов, которые использовали устаревшие выражения вроде «ваша синьора». Однако вовсе не выбор старомодного словечка настолько поразил Лео, что он не бросил сразу трубку.
«Тебе его дала моя жена?» — проговорил он все теми же пересохшими губами.
«Да, профессор. Две минуты назад».
Для Лео это было доказательством того, что Рахиль входила. А значит, запах кофе, с которого начался его торжественно-метафизический бред, был не сном.
«Две минуты назад», — сказал Лукино. Это значило, что, по крайней мере, две минуты назад (что было потом, он знать не мог) Рахиль думала о Лео. Несколько минут назад его жена осознавала тот факт, что Лео не просто существовал в какой-то части вселенной, но жил этажом ниже, в помещении, до которого можно дойти, спустившись по лестнице, или куда можно проникнуть, позвонив на частный номер. Несколько минут назад Рахиль говорила о нем с Лукино. И возможно, самым естественным тоном. Как будто с последнего звонка Лукино ничего не изменилось.
Итак, Лео попытался представить Рахиль, только что вышедшую из душа, в летнем халатике, который он сам ей подарил, во рту еще аромат кофе, представить, как она берет телефонную трубку с аппарата на тумбочке в своей комнате этажом выше. Лео приложил все усилия, чтобы вообразить эту простую банальную сцену. Но ему не удалось. Невероятно, как некоторые совершенно простые вещи могут оказаться невообразимыми.
Недоверчивость Лео не сильно отличалась от недоверчивости подростка, который во время переменки в школьном коридоре встречает вдруг самую красивую девочку в классе, и та не только с улыбкой здоровается с ним, но даже вспоминает его имя. И этот подросток на грани обморока от радости только и делает, что повторяет про себя: итак, она знает, кто я, она знает, что я существую, итак, я для нее не просто призрак.
Именно в таком исступлении пребывал сейчас Лео.
«Вы представить себе не можете, профессор, как мне приятно разговаривать с вами. Мы не созванивались целую вечность. Вы каждый год заняты. Наконец-то я застал вас свободным. Хорошо, что вы уже вернулись из отпуска, что вы не на конференции, не вышли из дому и не остались в больнице».
Лео спросил себя, а не иронизирует ли Лукино. В этом случае это было бы большим коварством. Если Лукино знал, что сейчас переживает Лео, все, что с ним случилось за последний год (да и как это было не знать? кто там снаружи не знал этого?), тогда эта ирония была просто невыносима: отвратительное коварство.
«На этот раз вы не убежите от меня, профессор!»
«Нет, на этот раз я здесь, Лукино», — голос Лео выражал блаженное смирение.
«Я рад, что вы мне отвечаете именно в этот раз. И знаете почему?»
«Нет, Лукино, не знаю».
«Потому что у меня для вас предложение. Я хочу вас кое о чем попросить. Одну вещь… Если вы снизойдете до того, чтобы ее сделать, это будет для нас чудеснейшим подарком».
«О чем ты говоришь, Лукино?»
«Одна замечательная идея, профессор. А также исключительно оригинальная».
«Достаточно сказать».
«Премия, профессор».
«Премия?»
«Да, премия».
«О какой премии идет речь?»
«Премия в области наук и искусств».
«Премия в области наук и искусств?»
«Да, премия в области наук и искусств. Или как мы ее называем?»
«Лукино, когда ты используешь „мы“, ты кого имеешь в виду?»
«Меня, мою семью, людей из маленького городка, в котором я живу. Мы должны поговорить об этом с мэром, но это только формальность. Мы уверены, что он примет с энтузиазмом эту идею… В общем, знаете, кому мы хотим посвятить эту премию, профессор?»
«Нет, Лукино, у меня даже малейшего представления нет. Но могу сделать предположение. Гарибальди. Падре Пио? Матери Терезе из Калькутты?»
«Нет, никому из перечисленных вами!»
«И тогда кому?»
«Вам, профессор. Премия за достижения в области наук и искусств Лео Понтекорво».
Это был просто перебор. Лео должен был только убедиться, дошел ли Лукино до высшего предела коварства или тупости. Все это казалось насмешкой судьбы, которая для Лео была столь же сюрреалистичной, как все то, что происходило с ним в последний год. Он даже спросил себя, а не является ли сам звонок Лукино всего лишь игрой воображения параноика. В какое мгновение он увидел себя со стороны несуществующим персонажем, плодом его больных фантазий. Может быть, это был последний акт. Последний акт преследования. Потому что за трагическим всегда идет гротескное. За драмой — пародия.
«Понимаете, профессор, в этом случае ваше личное присутствие необходимо. На этот раз вы не сможете сказать мне нет. Я придумал отличный способ пригласить вас к себе. Мы думаем созвать жюри, и было бы здорово, если бы вы его возглавили. Жюри из магистратов, журналистов, а также людей науки, таких как вы, профессор. Сколько бы дельных советов вы смогли бы нам дать! По любому вопросу!»
Да, возможно, это все дурной розыгрыш. Комитет из магистратов, журналистов и ученых? Это не более чем розыгрыш, придуманный человеком, который никогда не был способен на подобное коварство?
Или нет. Это не шутка. Возможно, Лукино не смотрел новости по телевизору. Или не смотрел их именно в те дни, когда рассказывали о деле Понтекорво. Возможно, Лукино и газет не читал. Действительно, с какой стати он должен их читать? Он и так знал, что нужно знать. Зачем интересоваться тем, что происходит в мире, когда достаточно знать о том, что происходит рядом. Возможно, что Лукино ничего и не знал. Возможно, и жители его городишка ничего не знали. Или кто-нибудь слышал о медике-извращенце пару месяцев назад, но не запомнил имя главного персонажа этой гнусной истории. Таким образом, Лукино, будучи весьма предприимчивым гражданином, решил придать блеска своей дыре при помощи премии, которую решил назвать в честь медика, о котором он постоянно говорил, который был его спасителем, и ему даже в голову прийти не могло, что этот выдающийся профессор имеет что-то общее с медиком-извращенцем.
В общем, он издевался над Лео или говорил всерьез? Лео не знал, во что верить. Но в одном он был абсолютно уверен: в любом случае радоваться было нечему. Предложение Лукино лишало Лео возможности считать его историю забавной. Эта история представлялась бредовой, хотя и показательной, символичной. Но увы, не как История, которая была у всех на слуху, история, которую трудно забыть, очередное дело Дрейфуса или Торторы. История Лео, стечение случайных обстоятельств, которые превратили его жизнь в настоящий кошмар, касалась только одной личности, которая никого не интересовала, кроме вовлеченных в нее людей.
Эпизод из светской хроники, так сказать, самая незначительная в мире вещь. В его истории не было ничего трагичного. В его страданиях не было ничего эпического. Именно поэтому, даже если бы Лукино удалось воплотить в реальность свой проект, никто бы не возражал. Потому что гражданский позор Лео не вызвал бы ни в ком большого возмущения. Святой боже, несмотря на то, что он столько времени жил в заключении, несмотря на то, что отказывал себе в пище, несмотря на то, что он буквально убивал себя, его жизнь не имела никакого значения.
А в памяти грядущих поколений он сохранился бы только благодаря какой-то вшивой премии в честь Господина Никто. М-да, это было весьма драматично. Возможно, это была самая драматичная штука во всей его истории. И Лео это почувствовал с такой силой, что единственное, что он смог сделать после того, как посмотрел на свое запястье, ставшее тонким и хрупким, как у скелета, так это бросить трубку. Короткие гудки продолжались еще два часа, в то время как шумный аккомпанемент грозы — прелюдия ливня, который, казалось, призывало все живое там, снаружи, — выбивал последние ненужные дроби. Именно Тельма рассказала мне, что заставило ее в тот день, двадцать восьмого августа, открыть запретную дверь подвального помещения. Вторгнуться в царство профессора Понтекорво.
«Вода, — сказала она мне. — Вся эта вода». Это случилось из-за летнего ливня, который разразился ближе к восьми вечера после отдаленных раскатов и вспышек молнии и принес облегчение после убийственной духоты предыдущих двух месяцев.
В сущности, в этом не было ничего удивительного. В подвальном помещении проблемы с системой слива возникали постоянно. Особенно в ноябре, когда дождь мог идти неделями. Пол подвального помещения всегда был залит водой. С тех пор как Понтекорво жили в этом доме, им приходилось менять и ремонтировать раз десять.
Это объясняет, почему Тельма, как всегда утром, открыв дверь кухни, выходящую на лестницу в подвал, и заметив, что на полу в маленьком коридорчике напротив двери в небольшом озерке плавает еда, особо не удивилась.
Это объясняет, почему она, будучи рачительной хозяйкой, взяла ведро с тряпкой и принялась вытирать всю эту отвратительную бурду.
Но это также объясняет, почему, после того как она отжала мокрую грязную тряпку, она заметила, что вода коварно стекает под дверь. Тогда Тельма задалась вопросом, почему из этой секретной комнаты вот уже несколько дней не слышно никакого шума.
Тельма рассказывала, что, умирая от страха, она все же решилась постучаться в дверь. Сначала очень осторожно, потом настойчивей. Потом она стала стучать во всю силу и звать: «Синьор… Синьор…» Никакого ответа. И снова: «Профессор… Профессор…» Молчание и запах сырости — все, что исходило из этой комнаты.
У нее не хватало духу войти. Она не осмеливалась. Хотя если подумать хорошенько, никто бы ей не помешал сделать это. И никто не запрещал ей этого. Все это время никто ей не говорил: «Тельма, ты не должна входить в эту комнату». Хозяйка никогда не говорила ей этого прямо. Хотя это ничего не значило, Рахиль и так не отдавала ей приказы. Предполагалось, что ты сама догадаешься. Должно быть, Рахиль обладала чем-то вроде дара телепатии, а может быть, он был у тебя и ты понимала, что хочет эта женщина. При помощи телепатии хозяйка этого дома умудрялась сообщить всем в доме (включая Тельму), что следует и чего не следует делать. С прошлого лета и в течение всего года действовал приказ, понятный всем, — не входить в одну комнату. Помещение на полу-подвальном этаже стало запретной зоной, вражеской территорией.
Тельме нравилось чувствовать себя частью семьи. Пусть даже она была недавно на службе у Понтекорво и совсем недавно заменила Кармен (знаменитую няньку мальчиков Понтекорво, о которой с некоторых пор почему-то предпочитали не говорить).
И это значило много для уже немолодой женщины, оказавшейся в Италии, думала Тельма, женщины, которая знала пару слов по-английски и совсем не говорила по-итальянски, женщины тридцати семи лет, некрасивой, низкой, застенчивой, родившейся и выросшей в убогой деревушке в ста километрах от Манилы, которая была известна только тем, что там выращивали кур. В этой деревушке женщины надрывали спины на току, а мужчины беспробудно пьянствовали и курили. Ужасный запах, в котором выросла Тельма и к которому она нежно привязалась. Насколько он ужасен, она поняла только тогда, когда сравнила с тем запахом, который окутал ее, когда Тельма впервые попала в Ольджату. В то место, в котором пахло как в раю в любое время года. Летом там пахло пылью, хлоркой и свежесрезанной травой. Осенью свежий запах мха и грибов смешивался с резковатым запахом увядшей листвы; зимой, чтобы чувствовалось, что это настоящая зима, на полную силу включали отопление и камины, которые источали свой особый запах. А весной… весной, сложно сказать, чем пахло, но этот запах заполнял все вокруг: жасмин, гелиотропы, лаванда… Жизнь здесь была прекрасна, это было настоящее счастье — просыпаться здесь утром, а вечером идти спать, даже если речь шла о весьма удаленном месте.
Прежде всего от площади на другом конце города, где располагалась церковь, в которой на воскресную мессу собирались все филиппинцы-эмигранты, проживавшие в Риме. Бедная женщина, ей нужно было сменить три автобуса и потратить почти час с четвертью, чтобы добраться до церкви. Но обмениваясь впечатлениями со своими соотечественниками и товарищами по несчастью, Тельма все больше и больше понимала, как ей повезло работать в доме у Понтекорво.
Конечно, у Понтекорво была куча недостатков. Они были странными, требовательными, в конце концов, они были евреями. Последний факт был особенно странным. Тельма представить себе не могла, что в мире существуют люди, которые не верят в Христа, не празднуют Рождество или Пасху (точнее, празднуют Пасху в другое время). И для нее было странным, что каждый раз во время еврейских праздников она, тем не менее, помогала Рахили украсить дом должным образом и приготовить типичные блюда, не всегда аппетитного вида. Но иудаизм Понтекорво не представлялся особой проблемой. У Тельмы была подруга, которая работала в доме у одной синьоры. Так вот, та синьора запретила ей повесить в своей комнате распятие. Нет, синьора Рахиль никогда бы не позволила себе подобной грубости.
Понтекорво были всегда вежливы, не устраивали истерик, не были подвержены перепадам настроения. Не обвиняли тебя в том, в чем ты не был виноват. Это было настоящей удачей. Некоторые хозяева очень любили это делать. Особенно скучающие хозяйки часто бывали непредсказуемы. Тельме рассказывали много историй про таких дамочек и их детей. Капризы, самодурство, оскорбления… Только не мальчики Понтекорво. Они были воспитаны и почти добры. Всем заправляла синьора Рахиль, это она так хорошо их воспитала. Она не разрешала, чтобы ребята играли в мяч в жаркие полуденные часы, когда Тельма отдыхала. Она делала им замечания, если они небрежно просили о чем-то, забыв сказать спасибо или пожалуйста.
Боже. Синьора Рахиль. Тельма обожала эту женщину. В свое время она одолжила ей кругленькую сумму, чтобы отправить на Филиппины, потому что крышу дома, в котором жили ее четыре брата-бездельника, в буквальном смысле смыло муссонным тайфуном. Не говоря уже о том случае, когда Жасмин, ее молодая беспутная кузина, стащила кошелек у своего хозяина. И что же: Рахиль не только убедила работодательницу Жасмин не заявлять на нее в полицию, возвратив до последнего цента краденое, но даже пообещала принять ее в дом Понтекорво на некоторое время.
Нет, синьора Рахиль совсем не походила на тех дамочек, которые иногда заявлялись в дом Понтекорво или на которых работали ее подруги или кузины. Синьора Рахиль не была какой-нибудь бездельницей. Она вставала в десять утра только тогда, когда у нее болела голова или она была не в духе. Когда Тельма просыпалась, она всегда встречала ее на кухне, пьющей кофе из стеклянного стакана. Она уже занималась составлением расписания дня. Рахиль говорила ей фразу вроде: «Вот и сегодня мне придется нацепить кепку таксиста». Тельма с трудом понимала вещие фразы Рахили, улыбаясь и остерегаясь отвечать или комментировать. В конце концов, она помогала синьоре сделать что-нибудь по дому: помыть тарелку, вытереть стакан, наполнить кофейник. Тельма подменяла ее, и Рахиль позволяла ей это делать.
Замечание Рахили о кепке таксиста, должно быть, намекало на то, что она весь день будет развозить семью по городу. Она должна была отвезти в школу сыновей, потом забрать их оттуда, потом отвезти их в бассейн, в теннисную секцию, к стоматологу, к окулисту; потом отправиться на рынок за покупками, а еще страховки, банк, нотариус. Отнести туфли в починку. Кроме того, предстояло навестить старую тетушку, впавшую в старческий маразм, которая каждый раз принимала Рахиль за воровку и осыпала ее страшными ругательствами. Но главным образом все эти перемещения по городу имели своей целью доставить всяческие удовольствия мужу. Например, однажды, когда профессор Понтекорво вернулся из путешествия в Рим, Рахиль обязала Тельму приготовить суп и вареное мясо, чтобы он подкрепился. Кроме того, профессор желал, чтобы простыни и полотенца меняли каждый день. Профессор, который вовсе не был строгим, тем не менее был очень избирателен в том, что касалось еды. Ужин должен быть приготовлен как следует. И если случайно мясо выходило пересушенным, гусиная печенка недостаточно сочной, а помидоры недостаточно вкусными, паста слишком разваренной… он не давал тебе спуску.
Вот почему в последнее время жизнь синьоры казалась Тельме лишенной чего-то важного. В семье должно было произойти что-то ужасное. Что-то, о чем все говорили. Что-то, о чем Тельма предпочитала помалкивать, не поддаваясь на провокации информированных подруг. Что-то, что существенно изменило принципы домоводства. В один из дней профессор стал жить, скрываясь в подвальном этаже. И Тельма не знала точно, сделал ли он это по собственной воле или его вынудили. На ум ей пришел случай, когда в ее деревне разразилась эпидемия менингита, и тогда с улиц в один момент исчезли все старики и дети, которых не выпускали из дома. Пару раз, когда в дом с обыском приходила полиция, Тельма сильно испугалась. А однажды, прибираясь в комнате синьоры, Тельма заметила, что все вещи ее мужа куда-то пропали. И не только одежда, все предметы, которые говорили бы о его существовании как будто испарились. Что случилось? Что такого натворил профессор? Тельма с трудом могла поверить, что столь любезный и красивый человек, который, бог знает почему, всегда обращался к ней по-английски, этот человек, который просто излучал властность, этот человек, который умел жить одновременно так просто и так изысканно, совершил что-то ужасное. Хотя Тельма не совала нос в чужие дела, хотя она не очень хорошо понимала итальянский язык, чтобы уловить все оттенки смысла разговоров между матерью и сыновьями, пока она накрывала на стол и убирала со стола, она поняла, что профессор был исключен не только из жизни своей семьи, но также из их разговоров. И это испугало Тельму до смерти. Вот почему, когда вода стала затекать под дверь, Тельма не знала, что делать. Она не знала, войти ли самой, позвать синьору или, как она всегда делала, оставить все как есть. Не вмешиваться.
Но в конце концов она решилась. Она пошла поискать кого-нибудь. В гостиной не было ни души, и она казалась особенно пустой. Как это случалось каждый год в начале лета, из нее убирали ковры и шторы, которые украшали помещение в другие времена года. Но уже близился сентябрь. После разрушительного шторма, который так походил на шторма, случавшиеся в ее стране, воздух посвежел. Исчезла мошкара. Скоро в дом налетят мухи, но сейчас никаких насекомых. И не только насекомых, не было вообще никого.
Тельма заглянула в сад. На кухню. В столовую. Затем, набравшись духу, зашла в жилую часть дома, где располагались комнаты хозяйки, ребят и гостей. Если бы не листья, которые разметал ветер по полу, комната хозяйки была бы в безупречном порядке. Этого точно нельзя было сказать о комнате Филиппо и Сэми. Прежде чем войти в нее, Тельма постучалась. Она всегда боялась застать мальчиков голыми. Когда она наконец открыла дверь, она почувствовала обычный запах и увидела обычный беспорядок. Филиппо и Сэми только что вернулись с летней стажировки из Англии. Хозяйка в этом году не ездила на море, она переехала на несколько дней в дом старой тетки, чтобы присмотреть за ней. Но в любом случае синьора Рахиль позаботилась о том, чтобы мальчики не лишились каникул и летних курсов. Они вернулись днем ранее, как всегда, похудевшие и возбужденные. В их недоразобранных чемоданах лежали грязные майки, мятые штаны, потрепанные кроссовки. На стуле валялись мокрые полотенца и халат. А также огромное количество дисков, купленных в Англии. В ванной царил тот же бардак. Казалось, что ребята искупались не только в ванной, но и рядом.
Итак, Тельма впала в отчаяние. Ей показалось, что ее оставили одну. Она вернулась в сад, чтобы позвать кого-нибудь, но там никого не было. Едва не плача, она спустилась в полуподвальное помещение. Положение дел ухудшилось, вынудив Тельму попробовать снова: она постучала один раз, потом еще и еще, каждый раз сильнее. В какой-то момент ей показалось, что за дверью слышится какое-то движение, но, возможно, это был всего лишь ветер.
Наконец, нарушив запрет, в душевных терзаниях призывая Иисуса, как будто только он мог дать ей сил и в то же время прощение за это нарушение, Тельма попыталась открыть дверь в полной уверенности, что она заперта на ключ.
Но дверь была открыта.
Комната напоминала болото. Это был тот самый запах влаги и гниения, который напомнил Тельме рисовые плантации ее далекой родины.
Тело профессора было там, на полу, лицо и грудь погружены в это болото, из которого виднелась жалкая спина, напоминающая аллигатора на бойне.
Впрочем, последнее сравнение принадлежит автору сего произведения, а не Тельме, которая, учитывая обстоятельства, не нашла ничего лучшего, как испустить истошный вопль, столь часто описываемый в детективах всего мира.
И пока Тельма вопит, мне на ум приходит вопрос, вот сейчас, когда Лео больше нет: мир внезапно стал лучше? Сейчас ошибка исправлена. Исчезли вместе с ним порок, коррупция, нарциссизм, преступления? Не говоря уже о легкомыслии, невежестве, безответственном оптимизме, слепой вере в удачу. Что же, сейчас все наверняка наладится.
Да, знаю, что сейчас я иронизирую и даже грубовато. И делаю я это для того, чтобы тот, кто понимает, понял. Потому что у меня есть что вам сказать. Тук-тук! Вы меня слышите? Именно вы: три непорочных и неприкосновенных существа, живущих этажом выше! Непогрешимые хранители общественной морали, оставившие его гнить здесь внизу. Правда, правда, Лео понадобилось слишком много времени, чтобы умереть. Но теперь, когда он, наконец, сделал это, ваша очередь прибраться в комнате и заплатить по счетам.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
Примечания
1
Канаста — род карточной игры (прим. перев.).
(обратно)2
Первенец (иврит).
(обратно)3
Беттино Кракси — итальянский политик, премьер-министр Италии в 1983–1987 гг.
(обратно)4
Традиционное блюдо римских евреев, основные ингредиенты которого — кабачки и чеснок.
(обратно)5
Да, я Катрин Денев.
(обратно)6
Да, папа, праздник был чудесный. Мам, ну мы идем? Я очень устала.
(обратно)7
Прощай, мой обожаемый ангел.
(обратно)8
Обряд инициации. Церемония, которая обозначает вступление еврейского юноши 13 лет во взрослый возраст.
(обратно)9
Книга Примо Леви.
(обратно)10
Международный конкурс детской песни.
(обратно)11
Витторио Гассман (1922–2000) — итальянский режиссер, актер театра и кино.
(обратно)
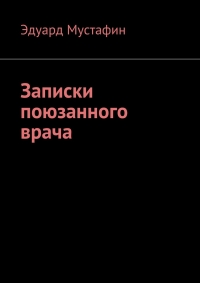



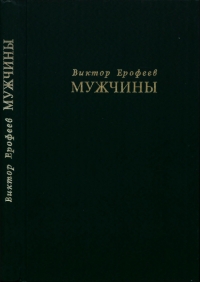




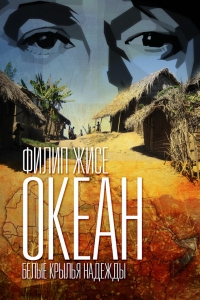
Комментарии к книге «Ошибка Лео Понтекорво», Алессандро Пиперно
Всего 0 комментариев