Об авторе
Альберто Савинио — настоящее имя Андреа Де Кирико (1891–1952) — итальянский писатель, художник, музыкант, чье творчество отмечено чертами европейского авангарда начала века. В 1910–1914 гг., живя в Париже, А. Савинио сближается с Аполлинером, Дягилевым, Кокто, Пикассо, Бретоном, написавшим впоследствии, что братья Андреа и Джорджо Де Кирико «стояли у истоков той формы искусства, которая позднее получила название сюрреализма». В 1918 году выходит первая книга А. Савинио «Гермафродит», включающая стихи и прозу на нескольких языках, в том числе, на русском. Затем следуют сборники рассказов «Вся жизнь», «Дом по имени Жизнь», роман «Анджелика или Ночь в мае», книга эссе «Новая энциклопедия» и др. Интерес к творчеству А. Савинио, упавший в послевоенные десятилетия в связи с развитием в итальянской культуре неореалистических тенденций, возрождается в конце 60-х годов и не угасает по сей день. Сочинения этого художника, названного Леонардо Шашей «крупнейшим итальянским писателем XX века после Пиранделло» издаются и переиздаются не только в Италии, но и за ее пределами.
Поверхность и глубина Альберто Савинио
Его посмертная судьба в литературе до знакомого парадоксальна. Безоговорочное признание Альберто Савинио как одного из родоначальников сюрреализма и припозднившаяся литературная канонизация этого «несвоевременного» художника лишь спустя четверть века после его кончины в 1952 году. Причем воздание вполне заслуженных почестей сопровождается с такой же до боли знакомой эйфорией, которую мы — теперешние — прекрасно понимаем (и потому прощаем.) «Речь идет, — утверждает, например, Леонардо Шаша, признанный мэтр итальянской словесности, которому вовсе не свойственно расточать понапрасну комплименты, — о крупнейшем итальянском писателе этого века, после Пиранделло». Позднее (1977) он же заявит: «Савинио со всей очевидностью является самым интересным нашим писателем в период между первой и второй мировыми войнами». На первый взгляд подобные утверждения воспринимаются как сенсация. Тем более что даже в итальянских литературных атласах вы не всегда отыщете местечко, город, остров или материк под названием «Савинио». Впрочем, «сенсация» эта — из разряда неизбежных. С 70-х годов начинается последовательное переиздание прозы Савинио (первой ласточкой стал сборник рассказов «Вся жизнь», 1969). Одна за другой выходят монографии и статьи о нем виднейших итальянских критиков и литературоведов. Савинио активно переводят на европейские языки (во Франции изданы чуть ли не все его основные произведения). С завидной регулярностью в крупнейших культурных центрах Европы и Америки устраиваются выставки живописи и графики Савинио. Возрождаются постановки его пьес и балетов. А ведь всего каких-нибудь десять лет назад — в начале 60-х — в последнем июльском номере газеты «Паэзе сера» (который накануне феррагосто — обязательного летнего отпуска — никто толком и читать-то не будет) полузаметной, стиснутой броскими фотографиями модных кинозвезд проходит ностальгическая статья близкого друга Савинио, поэта Либеро Де Либеро, о полузабытом писателе и художнике…
Словом, после смерти Альберто Савинио благополучно состоялись и его сакраментальное забвение, и воскресение (по сей день продолжающееся), как и подобает настоящим художникам в любые времена.
Но это время для Савинио следует считать уже метафизическим.
«Физическое» время Андреа Де Кирико (Альберто Савинио — невольный псевдоним писателя, под которым он и вошел в анналы европейской культуры) начинается в 1891 году, когда в семье итальянского путейского инженера, прокладывавшего первые железные дороги в Греции, рождается второй мальчик, вслед за первенцем Джорджо. Тем самым Джорджо Де Кирико, которому суждено стать провозвестником и одним из самых ярких представителей авангарда в изобразительном искусстве XX века. Младшему брату была уготована на этом пути параллельная судьба.
Начало ее овеяно Музыкой. С раннего детства Андреа обнаружил несомненное музыкальное дарование. В двенадцать лет он получил диплом с отличием по классу фортепьяно и композиции в Афинской консерватории, в пятнадцать написал свою первую оперу «Кармела» (на собственное либретто), которую отметил П. Масканьи. После смерти отца Де Кирико-младший продолжает музыкальное образование в Мюнхене, под руководством М. Регера. В 1910 году он приезжает в Париж уже сложившимся музыкантом и сразу обращает на себя внимание И. Стравинского и С. Дягилева. Там же он близко сходится с Г. Аполлинером, М. Жакобом, П. Пикассо, Ж. Кокто и другими «апостолами» зарождающегося искусства XX века. Находившийся в то время в Париже итальянский писатель и художник-футурист Арденго Соффичи причислил сочинения молодого композитора к проявлениям футуризма в музыке. В действительности музыкальные опыты Савинио не имели ничего общего, скажем, с футуромузыкой Ф. Б. Прателлы — автора музыкальных манифестов футуризма. Спустя много лет Прателла признается, что бунтарскому духу футуризма соответствовала скорее музыка Стравинского, чем его собственная. Но и Стравинский лишь незначительно повлиял на формирование Савинио-музыканта, воспринимавшего Музыку как «эманацию реальной метафизики». Большинство музыкальных произведений Савинио «озвучивают» его же тексты. Один из них — «Песни Предсмертья» (1914) высоко оценил Аполлинер, напечатавший его в журнале «Суаре де Пари». В этих «драматических сценах» Рисорджименто среди других действующих лиц участвуют персонажи без голоса, глаз и даже лица, одновременно разрабатываемые Джорджо Де Кирико в живописи («Тревожные музы», 1916; «Гектор и Андромаха», 1918 и др.). Именно в «Песнях Предсмертья» Савинио совершает знаменательный переход от Звука как выразительного средства к Слову и Форме (ему принадлежат и декорации этой музыкально-драматической мистерии). Отныне Савинио посвящает себя преимущественно писательству и живописи. Он отходит от Музыки, ощутив ее «чужеродность» и даже «опасность». Отходит по соображениям, которые не без налета дадаистской иронии и мистики изложил в программном эссе «Музыка — начало чужеродное». Программа программой, а среди собственно музыкальных произведений Савинио еще появятся балеты «Персей» (в постановке М. Фокина), «Смерть Ниобы», «Жизнь человека», оперы «Орфей-вдовец» и «Христофор Колумб», фортепьянные и другие сочинения. И недаром в эпиграфе к сборнику своих музыкально-критических статей «Музыкальная шкатулка» он напишет: «Без музыки немыслима подлинная культура. Музыка учит нас жить в самом глубоком и метафизическом смысле слова. И лишь та культура будет совершенной, в которой все, что ни есть — люди и вещи, станет созвучно музыке».
Своеобразный музыкально-психологический фон ощутимо присутствует в обширном творчестве Савинио — писателя и художника. В 1918 году выходит его первая книга «Гермафродит» — полифоническая смесь стихов, зарисовок, рассказов и воспоминаний на нескольких языках (включая итальянские диалекты, латынь, греческий, турецкий, русский). Жанр книги обозначен автором в подзаголовке — Концерт. Безусловное событие в истории итальянской литературы первой четверти века, «Гермафродит» — своего рода протосюрреалистский коллаж — остался практически незамеченным. Точнее, нераспознанным, ибо и сегодня это раннее произведение Савинио воспринимается как возможный опыт будущей литературы. В нем довольно рельефно прослеживаются то особое «реальное функционирование мысли» (Бретон) и образные приемы, которые позже составят отличительные черты поэтики сюрреализма: отказ от описательности, неожиданное сближение разнородных ассоциаций, кажущаяся детская «неприкаянность» мысли, создание некоей промежуточной реальности между сном и явью и так далее. В конце жизни Савинио заметит о книге: «В ней родилось все, что сделало меня самим собою».
К моменту публикации «Гермафродита» Савинио возвращается в Италию из регулярной армии, куда вместе с братом ушел добровольцем. Дальнейшая биография Савинио выглядит как послужной список добровольца в творчестве: около двадцати томов прозы, несколько пьес, десятки живописных и графических работ, эскизы и декорации к собственным балетам и постановкам Россини и Игоря Стравинского, незатухающая журналистская и редакторская деятельность. Творческий диапазон Савинио невероятно, уникально широк. Однако в нашей табели о рангах он «числится» прежде всего как писатель и художник. И как таковой, получает признание Андре Бретона (Савинио — единственный из итальянцев, включенный в его «Антологию черного юмора»): «Вся современная мифология, пока еще только создающаяся, берет начало в творчестве двух художников, нерасторжимых по духу, — Альберто Савинио и Джорджо Де Кирико». В данном случае под «современной мифологией» теоретик сюрреализма подразумевает прежде всего собственное детище. Савинио не берется оспаривать утверждение главы сюрреализма, однако чувствует известную потребность высказать свое мнение на сей счет. Комментарий Савинио, помещенный им в предисловие к сборнику «Вся жизнь», весьма существен для прояснения философского смысла его поэтики и ее отличия от ортодоксального сюрреализма Бретона.
«Сюрреализм в моем понимании, — пишет Савинио, — это представление бесформенного, то есть того, что еще не обрело формы; это выражение бессознательного, то есть того, что еще не организовано сознанием. Что касается моего сюрреализма, если это вообще можно назвать сюрреализмом, то он представляет собой нечто прямо противоположное, доказательством чему служат мои многочисленные прозаические и живописные произведения. Мой сюрреализм не ограничивается представлением бесформенного и выражением бессознательного, но стремится придать форму бесформенному и сознание бессознательному».
Фундаментальная разница между сюрреализмом Бретона и «сюрреализмом» Савинио (по сути своей философическим письмом в прозе и живописи) заключается в моменте сознательности. «Психическому автоматизму» классического сюрреализма Савинио-метафизик противополагает созерцательность, открывающую новые «поверхности» как реальной, так и зареальной действительности. «Мои живописные работы не кончаются там, где кончается живопись; они продолжаются, — замечает Савинио. — И это понятно. Ведь они родились еще до того, как были написаны». Таким образом, идея формы не преобладает у Савинио над формой идеи. Результаты поэтики не берут у него верх над результатами искусства. В этом проявляется, в частности, программный антиидеализм Савинио, древнегреческая предметность его реализма, согласно которому искусство должно постоянно пребывать на земле, а подлинный художник не ударяется в бега от земных начал, но «именно на земле и в земном — достаточно только руку протянуть — находит тайну и лиризм, изумление и глубину».
Однако художником, живущим в согласии с земными ценностями, Савинио никак не назовешь. Расходясь с А. Бретоном в путях постижения и раскрытия мира, Савинио схож с ним в главном качестве: мифологизации бытия. И небытия тоже. В этом смысле его «Энциклопедия» являет собой антологию новых мифов взамен идолизированных старых. Савинио как бы утверждает непоследовательность истины, ее раздробленность и парадоксальность. Единая истина — это одно из величайших заблуждений человечества («Единство»). Чтобы доказать это, Савинио действует методом «от абсурдного»: насмехаясь над непогрешимостью истины (мифа), он готов убедить нас даже в полной ее противоположности. Из таких парадоксов сознания сотканы невероятные узоры «Новой энциклопедии»: Аполлон — бог эстетизма, поверхностный и бессодержательный щеголь, гермафродит. Сократ — поборник плебейских инстинктов, антихудожник, «повивальная бабка» самопознания, которому мы обязаны всей лживостью искусства и низостью жизни. История — темный подвал, в который мы сбрасываем наши деяния, дабы обрести новую душу за неимением нового мира. Европа — могила Господа Бога. Христианство атеистично. Европейский ум разделяет единство и политеизирует Бога. Дух Европы живет в Сибири. Последняя стоянка «европеизма» — Америка. Философия молотка Ницше, его «воля к власти», идеи о государстве и войне суть формы чистейшего лиризма. Марсель Пруст — не более чем хроникер чахнущего общества. Троцкий — твердолобый мещанин с обывательским взглядом на искусство. Оригинал — жалкая копия собственного портрета. Серьезность — матерь глупости. И т. д. Подлинную свободу Савинио видит в непрерывной и легкой игре ума: только игра и дилетантизм позволят человеку пристать к берегу высшего разума, начать жизнь в мире чистого, «европейского» духа, восстановить нарушенное равновесие между реальностью и воображением.
Чем объяснить столь убедительное возвращение Савинио в литературную панораму Италии XX века? Одна из основных причин, очевидно, в том, что и литература и читатели (в случае с Савинио — профессиональные читатели) устали иметь дело с «простейшей» действительностью и не хотят мириться с ее монополией на жизненный объем человека. Савинио — один из немногих итальянских писателей, расширяющих человеческий мирообъем до такой бесконечности, в которой «назидания моралистов, доктрины философов, деяния отцов общества — все, что ни есть в этом мире важного, «серьезного», «значительного», почитаемого и необходимого, будет восприниматься как музейная редкость, как документ эпохи варварства и рабства» («Свобода»).
Творчество самого писателя лишь весьма условно можно считать документом его эпохи. Документальность предполагает хронологию. Меж тем как писательство Савинио — это пример осмысления или переосмысления мира, в котором фактор времени размыт и декоративен. В рассказах Савинио время зачастую вообще упраздняется. Связь между их внутренним временем, остановившимся, как в рассказе «Уголок», где-то на 9.45, и внешним, «чужим» временем, прерывиста. Относительность времени для Савинио — это поиск нового жизненного измерения человека, погоня за невидимой формой себя самого вне себя самого, попытка распознать глубину, еще не ставшую поверхностью.
Отсутствие времени влечет за собой и отсутствие истории. Произведения Савинио внеисторичны, поскольку автономны по отношению к общепринятой истории и могут изменять ее, ускоряя или обращая вспять, по своему образу и подобию («Выродок»). Там же, где реальная история и возникает («Жизнь»), она воспринимается словно декорация его метафизического театра жизни. Авторское самоощущение не выносит сопоставлений с фоновой историей, считая ее нонсенсом, чьей-то нелепой выдумкой. Единственная приемлемая форма внутриисторического развития для Савинио — это совершенствование мысли на протяжении отдельно взятого жизнетворчества («Пруст»).
Пребывая вне времени и истории, Савинио выходит за пределы их одномерности и переносится в некую сюрреальную сферу, свободную от всякого рода теократических догм и физических законов, отягощающих человеческое существование. За счет этого создается новая, «неевклидова» геометрия духа, живая «демократия истины», в которой человек обретает естественное и абсолютно независимое ощущение самого себя. Как тут не вспомнить известную дневниковую запись Даниила Хармса: «Я хочу быть в жизни тем же, чем Лобачевский был в геометрии».
Многомерность прозаического и живописного пространства Савинио — спасительный виток спирали, одухотворяющей рациональную плоскость круга[1].
«Человек мыслит плохо, — приходит он к выводу, — потому что мыслит замкнуто. Он то и дело возвращается к одним и тем же мыслям и принимает за новые мысли оборотную сторону уже обдуманных мыслей. Такова классическая мысль. Мысль закрытая. Мысль консервативная… Тот, кому хватит смелости отринуть эту «божественную» замкнутость, разорвет круг и вступит на свободный и прямой путь, у которого нет цели, нет конца, ибо он бесконечен».
Одинокий голос Альберто Савинио, словно голос Последнего Человека («Уголок»), преодолевает замкнутую самодостаточность земного круга, устремляясь из глубины к бесконечной сумме поверхностей:
ГОЛОС ЧЕЛОВЕКА. В глубинах бесконечности лишь то есть истина, что стать должно поверхностью. Все остальное — ложь, боготворимые материи, что мечутся без завтрашнего дня и беспрерывно отвергаются как бесполезные.Вышедшая сегодня на поверхность глубина А. Савинио оказалась небесполезной. Его опыт не остался на дне океана литературы. Опыт писателя, создавшего Энциклопедию остановившегося времени.
Г. Киселев
Из «Новой энциклопедии» Эссе
Аполлон. 1930–1931
Apollinaire — Аполлинер
Единственный поэт нашего времени, который по легкости и глубине вдохновения, по непринужденности и ясности выражения, по созвучности естественным, сверхъестественным и подъестественным стихиям, по чувству земного бессмертия, по родству с тайнами земли, неба и души, по зоркости взгляда и его запредметности, по олимпийской меланхоличности ума, по преодолению всякой жажды познания, открытий, побед над природой и людьми, по безучастности к жизни, по жизни по ту сторону жизни; и по чистоте голоса, по целомудренности чувств, по простоте узоров, по красоте песни может стоять рядом с Сафо, Анакреонтом, Алкеем. Эти строки я пишу в своем доме в усадьбе Поверомо и смотрю из окна на вязы, каменные дубы, платаны, тополя, что поднимаются из песка, мускулистые и густолиственные. Кто сказал, что песок бесплоден? Кто сказал, что на песке нельзя строить? Нет места, столь же богатого растительностью, столь завершенно отстроенного, как песчаная Версилия. За каменными дубами я вижу молодого водопроводчика, занятого ремонтом моего артезианского колодца. Обтянутый подрагивающими бицепсами, он подобен морскому богу в панцире из гибкой бронзы. Поначалу вода вырывается на поверхность с фырканьем и яростью, обильными плевками, землянисто-черная — это поэзия до Рембо, в единоборстве с грязью жизни и в поисках «озарений»[2]. Наконец — триумф водопроводчика-полубога и увенчание его трудов — на поверхности появляется чистая вода; она струится легко и спокойно — это поэзия Аполлинера, это вода, какой ей должно быть всегда; вокруг нее собираются женщины с искрящимися сосудами, дети со сложенными лодочкой ладонями, мужчины, чьи лица и шеи избороздила морщинами жажда. Этот пример помогает понять лучшую сторону капитализма. Отцы трудились для того, чтобы сыновья могли наслаждаться. Скажу еще проще: чтобы сыновья могли жить. Отчего принято считать, что блаженство в жизни надобно заслужить страданием? Отчего о жизни вечно судят по ее адским крайностям, а не по ее среднечеловеческому началу? Или наоборот — по ангельским или райским крайностям? Речь идет о том, чтобы со знанием дела, с чувством меры, с умом «соблюсти золотую середину». Не наслаждаться. Но и не страдать. Ясно, что здесь мы имеем в виду лишь «достойных» сыновей. Именно эта поэтическая атараксия Аполлинера породила дурную славу бесполезности его поэзии, меж тем как на самом деле она является его поэтической завершенностью, идеалом, к которому следовало бы стремиться всем поэтам ради создания поэтической цивилизации. Я не хочу сказать о Викторе Гюго, что он плохой поэт: я хочу сказать, что он нецивилизованный поэт.
Его звали Вильгельм Аполлинарий Костровицкий. Однако, чтобы упростить свое поэтическое имя, а заодно убрать из него варварский оттенок фамилии Костровицкий, в качестве фамилии он взял свое имя, словно на заказ созданное для поэта. Не знаю, впрочем, что было для Аполлинера важнее: подчеркнуть свое фонетическое родство с Аполлоном или с известным слабительным средством «Аполлинарис». Аполлинер не замыкался на каком-то одном жанре. С одинаковой легкостью писал он и прозу, и стихи. Стихи свободные и строго дактилические; белые стихи и стихи рифмованные. Он знал, что между прозой и просодикой существует всего лишь техническая и практическая разница. Он знал, что поэзия — это сливки прозы, то, что остается от прозы после длительного и тщательного процеживания. Он знал, что слова измеряются стопами, а строки связываются рифмами из соображений их удобоваримости, подобно тому как лекарственные порошки помещаются внутри облаток, которые Академия Италии предлагала назвать «чальдини» — но не по имени завоевателя Гаэты[3]. Он знал, что стихотворение заключает в себе мысли и образы; вторые, к сожалению, чаще, чем первые; или позволяет легче их запоминать. Запомнить в прозе «Любовь, любить велящая любимым»[4] было бы попросту невозможно. Благодаря стихотворной форме мы запоминаем то, что по природе своей не запоминается («Трубы Тартара хриплый звук»[5]). Порой стихотворение придает афористичное звучание самой приторной глупости и часто используется в непоэтических целях, ради того, чтобы завуалировать малокровие мысли и скудость фантазии (см. Поля Валери). Чтобы стихотворение было более действенным, а его смысл более запоминающимся, его следовало бы распевать, как во время литургии или как это принято у французских декламаторов. Стихотворение авторитарно и само предписывает законы. Оно служит для того, чтобы навязать народу волю вождя. Оно безапелляционно и окончательно. Даже если поэт восклицает: «о, зелень крон, журчанье ручейков», эти убогие слова и их убогий смысл все равно приобретают непреходящее значение. (Разновидность — единственная известная форма изменчивости стиха — не имеет диалектического значения.) В качестве религиозного и законодательного инструмента сегодняшнее стихотворение называется лозунгом.
Аполлинер умер в 1918 году, в Париже, в своей крохотной квартирке, приютившейся под самой крышей дома номер 208 на бульваре Сен-Жермен, подобно тем пташкам, что селятся на теле носорога и чирикают себе, выклевывают у себя блошек, живут своей жизнью, в то время как их толстокожая планета живет своей собственной. Умер он от «испанки» и от тяжелого ранения на фронте, после которого перенес трепанацию черепа. Он умер в самый день перемирия, когда парижане предавались безудержной радости. Плыть против течения было драмой его жизни. Француз волею судеб, Аполлинер любил во Франции лишь то, что было в ней латинского. Франкская сторона Франции интересовала его как достопримечательность. Занимал его также и англосаксонский мир. Равно как славянский, балканский и мир колоний. Я уж не говорю о древних культурах, в особенности о мало изведанных. Что же до преисподней, то невозможно вообразить, какое она вызывала у него любопытство. Этот вечно жаждущий знаний человек многие годы посвятил изучению демонологии. Обладая глубокой культурой, он отдавал предпочтение писателям Великого Века: Корнелю, Расину, высокопарной, трагедийной поэзии на котурнах, отразившей августейший лик Рима. Впрочем, между Римом и Аполлинером существовала и чисто физическая связь: поляк по материнской линии, по отцу Аполлинер был римлянином и ватиканцем. Друзья называли его «le pape»[6]. Бюст Аполлинера смотрелся бы вполне по-семейному в галерее императоров, риторов и летописцев римского Музея Терм. Римским было и его тело: крепкое и плотное. Ему нравилась итальянская кухня, а пельмени он любил приправлять сам. Он не любил щеголять своей культурой. Одному из собеседников, говорившему о Расине с видом знатока, Аполлинер заметил с искренним изумлением: «Racine?.. tiens… etait-ce un poete?»[7] Он был крайне застенчив. Как-то раз на концерте моей музыки Аполлинер решил оказать мне честь и произнести в мой адрес несколько слов. Он встал у фортепьяно, покраснел до корней волос, но не выдавил ни звука из всей своей громады чемпиона по классической борьбе. Воспитание он получил у отцов маристов в княжестве Монако. Он исколесил Европу вдоль и поперек. Служил у парижского биржевого маклера. Работал у издателя скабрезных книжонок. Был обвинен в краже «Джоконды», провел десять дней за решеткой (надзиратели поили Аполлинера отваром из желтых кувшинок, чтобы охладить пыл его чувств) и написал в камере одно из самых проникновенных своих стихотворений «А la prison de la Sante»[8]. Иностранец, он обязан был каждый месяц отмечать в участке удостоверение личности. Он ушел добровольцем на фронт, был ранен в голову, находился между жизнью и смертью в итальянском госпитале в Отейле, был удостоен ордена Почетного легиона. Сам себя он называл le Malaime[9]. Наконец он повстречал женщину, которая его полюбила и на которой он женился. Но словно Тамерлан при виде моря, он умер на пороге своего счастья. Его мать, покуда могла, вела весьма легкомысленный образ жизни и в конце концов превратилась в приманку при игорных домах. Он любил ее с детской нежностью; и с братской нежностью любил он своего брата Альбера, эмигрировавшего в Мексику.
Джузеппе Унгаретти[10] находился в Париже в краткосрочном отпуске. Перед отъездом он спросил у Аполлинера, что ему привезти с фронта. «Пачку тосканских», — ответил Аполлинер. Через несколько дней война кончается, и Унгаретти возвращается в Париж. Он поднимается к Аполлинеру и несет ему обещанные сигары. На улице неимоверная жара. Тучное тело поэта уже начинало разлагаться.
В тот же день умирает Ростан. Две «поэтические» похоронные процессии движутся по украшенным флагами улицам Парижа. «Полька» идет за катафалком сына, нарядившись точно королева карнавала. Тем, кто старается ее утешить, она отвечает: «Мой сын — поэт? Бездельник, вы хотите сказать. Ростан: вот это поэт!»
Спустя год умерла и она. В Мексике за ней последовал Альберт, которому через моря и континенты Аполлинер отправлял свои идеографические послания.
Apollo — Аполлон
То, что Аполлон родился на плавучем острове, пагубно отразилось на его характере. Мы не уделяем должного внимания почве, на которой живем, поверхности, на которую опирается наше тело, положению, которое эта поверхность вынуждает нас принимать, воздействию, которое это положение оказывает на наш нрав. Альбер Тибоде[11], критик-микроскопист, установил четкое соответствие между поэтической манерой Рембо и его привычкой падать навзничь где-нибудь в поле или на обочине дороги и созерцать из этого положения брюхо облаков. Много лет назад жесточайший ишиас на несколько месяцев приковал меня к постели. Так вот, приноровившись работать лежа, я вскоре почувствовал, что начинаю «прустовствовать». Неустойчивость Делоса, того самого плавучего острова, на котором Лето разрешилась под сенью пальм двумя близнецами, зачатыми от Зевса, объясняет характер Аполлона и его сестрицы Дианы. Следовало бы изучить характер людей, родившихся на корабле: я крайне удивился бы, если бы у них не оказался Аполлонов характер. Аполлон — самый легкомысленный из олимпийских богов; самый пустой и наименее значительный. Аполлоны изобилуют среди нас. Достаточно взглянуть вокруг: сколько повсюду миловидных мужчин с миндалевидными глазами, распахнутыми как окна (то есть ничего не видящими ни в себе, ни вне себя), широкоплечих и узкобедрых, неотразимо красивых и совершенно никчемных. Разумеется, я не стану называть имена. У других богов есть хотя бы какая-то профессия; некоторые же, как Вулкан например, даже занимаются ремеслом. Аполлона, этого громоздкого щеголя, не пригодного ни к одному серьезному занятию, сделали мусагетом, просто-напросто не зная, на что еще он годится. Иначе говоря, его сделали водителем муз — обязанность, от которой с негодованием отказался бы всякий мужчина, окончательно не потерявший чувства собственного достоинства. Кроме того, Аполлон является гонителем тьмы, носителем света и самого солнца. Но кто даст гарантию того, что свет лучше тьмы? Мне в темноте думается лучше. От Аполлона пошли мания солнцепоклонничества и самый этот эпитет «солнечный», который, казалось бы, весьма многозначителен, а в действительности не значит ровным счетом ничего. В поэзии Аполлона представляют Джордж Байрон, Шелли, Габриэле д'Аннунцио. Когда задумываешься о тщетности света, возникает желание спуститься в погреб. Чтобы реабилитировать свет и спасти его от неминуемой компрометации, Ницше выдвинул мысль о «потемках» света, а также о том, что полдень гораздо глубже, чем полночь. Несмотря на это, его Заратустра, близкий родственник Аполлона, является одним из самых неуклюжих и неудавшихся персонажей мировой литературы. Не пора ли сказать всю правду? Аполлон — это бог эстетизма. Все что ни есть в мире несостоятельного, напыщенного, истерического, сделало его своим божеством. Мы же стоим на стороне змея Пифона. Скульптурные изображения Аполлона наглядно передают суть его характера — поверхностного и бессодержательного. Так называемый Аполлон Бельведерский являет собой портрет игрока в гольф. Что же до статуи Аполлона Мусагета в юбке, то, напоминая одновременно и мужчину, и женщину, она определяет тем самым двойственный, бесполый характер светоносного бога. Что еще? Немужественность Аполлона находит свое четкое соответствие в неженственности Дианы. Насколько в той мало женщины, настолько и в этом мало мужчины. Такое же равновесие обнаруживается и среди смертных; точнее говоря, такое же соответствие нарушенных равновесий: сестра гермафродита, естественно, является гермафродитной. Разумеется, и в этом случае я не могу назвать имен. Диана-охотница из Лувра, в короткой юбочке и в окружении своры собак, со всей очевидностью являет тот тип неженственной женщины, которая, как и все неженственные женщины, стала заниматься спортом.
Содом.1929
Baudelaire — Бодлер
В свое время мне довелось написать буквально следующее: «Искусство давало свои представления на высочайших и недостижимых подмостках — по ту сторону рампы, которая излучала непреодолимый свет и строго отделяла искусство от жизни; искусство окрашивало их в цвета, состав которых неведом на земле; оно принимало формы и облики, имевшие приблизительно такое же сходство с природными формами и обликами жизни, какое в календаре существует между буднями и праздничными днями, в древних монархиях — между подданными и королем, а на птичьем дворе — между курами и павлином. Вслед за тем, в девятнадцатом веке, расцвели три художника. Каждый из них по-своему приложил усилия к тому, чтобы погасить эту рампу, приблизить подмостки искусства к театру жизни, позволить подняться на них самим людям, в их повседневной одежде и без всякого грима, представить драмы и фарсы обыденной жизни. Этими тремя художниками, сблизившими искусство с жизнью, были Бодлер — в поэзии, Моне — в живописи и Бизе — в музыке. Впрочем, точно еще не известно, в чем состояла задача их творчества: в том, чтобы привнести в поэзию жизнь или, наоборот, в жизнь — поэзию. Я придерживаюсь второго мнения».
В данном случае остановлюсь только на Бодлере. Остановлюсь на особенностях и значимости его поэзии. Я не собираюсь выяснять, был ли Бодлер величайшим или зауряднейшим поэтом (лично мне он не кажется таким уж великим). Для меня гораздо важнее выяснить роль Бодлера в «политике» поэзии. Ибо как раз она, эта роль, огромна.
Речь идет не о реформе поэтической формы, а скорее о провозглашении нового состояния в поэзии. Поэт уже более не вдохновленное существо, задача которого в иных или даже в особых случаях сводится исключительно к восприятию или пассивности, присущей разве только Пифии; теперь он сам становится «творцом» поэзии. Поэт внимает уже не музе, но лишь голосу собственной души. Бодлер — это Коперник поэзии. Он знаменует коперниковскую эру в поэзии, которая до той поры была утонченно и бесповоротно птолемеевской. Почему же столь значительная перемена в истории поэзии никем не была замечена? Существует глубокая неприязнь по отношению к Бодлеру, глубокая, неизлечимая неприязнь. На днях я сам был свидетелем того, как один мой приятель, кстати интеллигентный человек, аж побелел от ярости при одном только упоминании о Бодлере и тут же противопоставил ему Джованни Пасколи[12], подобно тому как черному противопоставляют белое, тени — свет, как при упоминании о нечистой силе суеверные люди плюют через плечо. Этот пример говорит не о противоестественности самого такого сопоставления (нельзя же всерьез сравнивать яблоко со спичечным коробком да еще затевать по этому поводу спор), а о том, насколько еще живуча и глубока неприязнь к Бодлеру. Какова же причина этой неприязни? Возможно, она вызвана формой его поэзии? Или ее «безнравственностью», которую с самого начала выдумали только для того, чтобы скрыть истинную подоплеку враждебности к поэзии Бодлера и отвести в сторону подозрения? Нет. Все дело в том, что Бодлер, так же как Коперник и Чарльз Дарвин, убил божество.
Поскольку Бодлер учит, что поэт способен все делать сам, без наставников и посредников, Аполлон, благодаря Бодлеру, тускнеет и умирает; увядают музы и замолкает их стройный хор; распускается двор Парнаса. Невольно задаешься вопросом: какая такая стыдливость, какая сдержанность, какое лицемерие и «священный ужас» не позволяют выявить причинно-следственную связь между астрономией Коперника, революцией 1793 года и поэзией от Бодлера до наших дней? И почему упорно не признается грандиозный переход стихотворчества во всем мире из десницы Божьей в руки человека? До Бодлера поэзия пребывала в состоянии невинности и нетленности. (Поэтому не без основания, не без четкого «физического» основания поэзия считалась бессмертной.) Поэзия находилась в положении юного Шакьямуни[13] до того, как он увидел знамения старости, болезни и смерти. Самые сильные, самые возвышенные отображения боли и смерти у Гомера, Данте, Шекспира не несли в выражавших их словах изведанность боли, изведанность смерти. Поэзия хранила чистыми руки. Она смотрела и не прикасалась. Все происходило по ту сторону неназванной рампы. И потому поэзия была восторгом, потому она была сном (счастливым сном, даже если он воспевал людскую трагедию). И потому поэзия играла в жизни священную, но при этом активную роль (иные мысли, самые заветные, самые таинственные, могли быть высказаны только в стихах). С приходом Бодлера прежняя поэзия утрачивает в народе эту свою сокровенную, священнодейственную роль, и народ теряет к ней интерес, забывает ее. Из-за ее свойства обособляться перед лицом жизненной драмы.
Эта непосредственная изведанность боли и смерти в поэзии Бодлера, отсутствие в ней метафизического могущества, отсутствие высочайшего покровительства; ее земная необособленность от людей, чьи надежды и иллюзии бледнеют при солнечном свете и обнаруживают жалкий грим (?), их оживляющий; ее пребывание под небом, лишенным божества, — это ли не причина, по которой поэзия Бодлера называется декадентской?.. Впрочем, и этого еще мало. К сказанному следовало бы добавить: «смертная поэзия», в отличие от той — бессмертной. Но в чем же больше величия: в бессмертии или в смертности? В моей голове давно уже вертится мысль об одном греческом боге (Гермесе), который устал от бессмертия, от своего «бесполезного» бессмертия, и хочет стать человеком, чтобы смочь умереть. Так и поэзия: в один прекрасный день она почувствовала, что устала от бессмертия, и снизошла до поэзии Бодлера, чтобы смочь умереть.
Capro (espiatorio) — Козел (отпущения)
Древние иудеи брали козла, перекладывали на него свои грехи и отправляли в пустыню, полагая, что тем самым облегчили душу и очистились. Этого козла, которого мы называем козлом искупления или отпущения, иудеи называли Азазель. Сам же ритуал, похоже, не иудейского происхождения, а скорее заимствован у древних египтян, поскольку менее многочисленный и цивилизованный народ перенимает обычаи у более многочисленного и цивилизованного народа, живущего с ним по соседству. Это подтверждается еще и самим именем Азазель, которое, по мнению раввинов, не является иудейским именем. Как бы то ни было, козел Азазель остается примером того, как разрешить моральную проблему (греховность) посредством практического действия (возложить собственные грехи на козла Азазеля и таким образом избавиться от совершенных прегрешений). Обычно человек не в состоянии иметь дело с идеями в чистом виде, поэтому ему необходимо придать им видимую, вещественную форму. Немногие вправе удивляться тому, что существуют козлы отпущения, а тем более потешаться над этим обычаем, ведь и поныне жизнь большинства из нас изобилует всякого рода козлами отпущения. Искусство, в конечном счете, тоже создается с помощью козлов отпущения; поэтому чисто абстрактное искусство, в котором «козел отпущения не виден», искусством даже не считается, особенно в латинских странах. Выдвигается довод, что искусство — это не философия. Однако подобный довод лишен всякого смысла, ибо та же философия, чтобы быть понятнее, обращается к козлам отпущения. Это явствует из философии Платона (хотя бы в «Теэтете») и прежде всего из философии Шопенгауэра, обязанной невероятной силой своего убеждения многочисленным козлам отпущения, к которым она обращается. Что еще? Чистая идея вызывает подозрение; именно поэтому пифагореизм, спиритуализм, идеализм вообще воспринимаются с некоторым недоверием. Наивысшим состоянием цивилизации должно, очевидно, быть такое состояние, когда все жизненные вопросы будут разрешаться посредством легкой игры чистых идей, без малейшей потребности в козлах отпущения, придающих идеям вещественность и плотскость. Нет смысла говорить, сколь благотворно было бы для нашего здоровья состояние, при котором вовсе не обязательно потрогать для того, чтобы поверить. Но доживем ли мы когда-нибудь до такого состояния? Я хочу сказать: находится ли подобное состояние в пределах человеческих возможностей? Вот где собака зарыта. Основной аргумент антиспиритуалистов заключается в том, что человек по своей природе не имеет ни возможности, ни права жить и помышлять о жизни в мире чистого духа. В это помышление католик включает и горечь греха, ибо, помышляя о жизни исключительно спиритуальной, человек помышляет некоторым образом о самообожествлении, а посему сохранение козлов отпущения является в конечном счете необходимым условием для поддержания порядка и сохранения иерархии. Добавлю, что если заслуга в изобретении козла отпущения принадлежит не иудеям, то она не принадлежит и египтянам. Более того, она вообще принадлежит не человеку, а лисе. У лисы нет грехов, зато часто бывают блохи. И вот каким образом она от них избавляется. Лиса вырывает пучок травы и делает из него катышек. Затем аккуратно зажимает этот катышек в зубах и входит в реку. По мере того как лиса погружается в воду, блохи перебегают на сухую часть ее тела. Потом лиса погружается в воду с головой, оставляя на поверхности только морду. Тогда в поисках спасения блохи перебираются на травяной катышек. Наконец, лиса полностью уходит под воду и в тот же миг отбрасывает катышек с блохами, который уносится течением прочь. Как знать, быть может, лиса называет этот комок травы, усеянный блохами, Азазель.
Civilta (alimentare) — Культура (питания)
Когда вы щупаете пульс человечества, когда составляете истории болезни, когда вычерчиваете сравнительные таблицы, когда пытаетесь установить «да» или «нет», «плюсы» или «минусы», вы, аналитики Истории, выбираете в качестве точки отсчета то, что считаете наиболее достойным для определения действительного или предполагаемого превосходства одного народа над другим. Но как ни грустно в этом признаться, вашим излюбленным критерием оказывается финансовая мощь. Ныне богатство есть качество посредствующее, и судьба его крайне изменчива. И если вы действительно решили определить объективный уровень цивилизованности данного народа, вам следовало бы подыскать другие, более надежные критерии для сравнения; и выбирать их следовало бы прежде всего из тех, что теснее связаны с «естественной» жизнью человека. Один из них — способ питаться. Как известно, Италия славится, помимо всего прочего, собственной, самобытной культурой питания. Это лишний раз свидетельствует о том, что из всех прочих культур итальянская культура является самой испытанной и законной. Если бы позволительно было взять питание в качестве мерила культуры, мы, итальянцы, вправе были бы рассматривать Германию и Англию, как рассматривал их Тацит. «Скажи мне, как ты ешь, и я скажу тебе, кто ты». На своем веку мне довелось познакомиться с кухнями обоих полушарий, и могу заверить, что итальянская кухня является самой логичной и «человечной» из всех: в блеске ее кухонной утвари как бы отражаются фундаментальные качества нашей расы. Питание у нас стало формой культуры, и это видно не только по тому, как продукты питания готовятся к столу, но и по чистоте, достоинству и честности, с которыми различные продовольственные товары представлены на наших рынках и в наших продовольственных магазинах. Если в один прекрасный день живопись и скульптура в Италии сумеют сравняться со стилем нашей культуры питания, мы сможем сказать, что снова имеем великую живопись и великую скульптуру.
Coscienza — Самопознание
Я никогда не доверял Сократу. (В краткой истории философии Шопенгауэра, составленной им для личного пользования, есть следующее тонкое замечание: «Не доверяю тем, кто не оставил ни одного письменного свидетельства собственной мысли».) Я никогда не доверял Сократу, но все же не так сильно, как с момента моего открытия и определения неисчислимого ущерба, нанесенного самопознанием человечеству. Этим милым подарком мы обязаны ему — человеку со вздернутым обрубком вместо носа, поборнику плебейских инстинктов и скудоумия, и его коварному, предвзятому толкованию Аполлонова «Познай самого себя». Самопознание уже существовало, но существовало как порок, который человек таил в себе и не намеревался вскрывать. И вот пришел он, недовольный, мстительный, завистливый плебей, антихудожник (хотел бы я взглянуть на эти статуи сына Софрониска[14]!), и превознес сей порок, узаконил его, дал ему право проявляться во всем его бесстыдстве — право возносить себя до небес. Всей пошлостью, глупостью, низостью, всей подлостью и убогостью жизни, всей лживостью искусства, которые неистовствуют с той поры и которые нам, досократовцам, все еще навязывают сегодня, мы обязаны ему — этой «повивальной бабке» самопознания.
Deliberazioni — Постановления
«Персы имеют обыкновение обсуждать наиважнейшие свои дела во хмелю, а наутро, с похмелья, возвращаются к тому, что сочли дельным накануне: коли находят дельным с похмелья — то принимают, коли нет — отвергают. Иной же раз напротив: прежде на трезвую голову дела вершат, а уж потом — во хмелю». Так утверждает Геродот в первой главе своей «Истории». Тот же способ выносить решения Тацит приписывает и древним германцам. Когда Геродот прочитал свою «Историю» на Олимпийских играх, она вызвала такой восторг, что всем девяти ее книгам были единодушно присвоены имена девяти муз. Трудно представить себе историка наших дней, скажем, Йохана Хёйзингу[15], с таким же успехом читающего свою «Осень средневековья» на Олимпиаде в Антверпене, Берлине или Лос-Анджелесе. Почему же сейчас невозможно то, что было возможно «тогда»? Первая книга «Истории» Геродота посвящена, как и полагается, Клио, которая по-гречески пишется kleio и означает «я закрываю». Имя самой суровой из девяти муз объясняет истинную роль истории, состоящую в том, чтобы постепенно «закрывать» наши деяния в прошлом, дабы сбросить с наших плеч их тяжкий груз и дать нам возможность каждое утро обретать новую душу, за неимением нового мира.
Donna (superiore) — Женщина (высшего типа)
Некоторым женщинам удается превзойти общий, крайне невысокий уровень женской умственной жизни. Но даже после того, как они превзошли этот уровень и получили право называться женщинами высшего типа, они не утрачивают природной женской «слабости», выражающейся прежде всего в неспособности женщины найти верный путь. (Впрочем, в основе любой формы слабости лежит все та же неспособность найти верный путь.) Итак, женщина высшего типа превосходит уровень обычной женскости — да, но далее она идет по пути, фатально являющемуся ложным, извилистым, «неверным». Творчество женщин высшего типа, литературное или живописное, может быть любопытным, привлекательным, даже пленительным, но в конечном счете оно неизбежно оказывается легковесным и бесполезным, так как лежит в стороне от верного пути. (Надо ли добавлять, что под «верным путем» я вовсе не разумею путь в направлении некой расхожей морали, а под «полезным» творчеством — творчество, содержащее в себе некую пользу: гражданскую, общественную, общечеловеческую или духовную?) Поэтому в женщине высшего типа — неважно, пишет ли она, рисует или просто говорит, — ощущается какой-то надрыв, какая-то избыточность, своеобычность, восприятие вещей шиворот-навыворот, перегиб. И этот надрыв необходим. Необходим, чтобы оживить, привести в движение, сделать притягательным что-то, что само по себе этого не заслуживает и само по себе «не тянет». Это все равно что пытаться врыть в землю амфору, которая иначе не устоит. Однако подобная жизнь эфемерна и обособлена в своей недолговечности. Отсюда — потребность в демонизме у женщин высшего типа. Отсюда — и то неприятное впечатление, которое производит на меня женщина высшего типа. Ее колючесть. Ее способность вступать в отношения с окружающим миром не иначе как с помощью колкостей. Впрочем, точно такое же состояние можно обнаружить и у мужчин — у женственных мужчин. Наиболее характерные примеры этого типа мужчин встречаются среди сюрреалистов: Андре Бретон, Сальвадор Дали… Надо заметить, что сюрреализм является весьма благотворной почвой для мужчины, неспособного найти верный путь. Из чего, однако, не следует, что сам по себе сюрреализм — это неверный путь. Как раз наоборот.
Donne — Женщины
Не знаю, может, в иные времена мужская дружба и отличалась искренним чувством. Сегодня такого чувства больше нет. По крайней мере, во мне. В своих современниках я не нахожу ничего, кроме черствости, неприязни, подозрительности. Так кому же еще, как не женщинам, выскажем мы те самые глубокие, самые задушевные, самые потаенные слова, с которыми Иисус Христос обращался к детям, потому что взрослым не дано их понять?
Enfasi — Напыщенность
Госпожа М. Д. садится за стол и восклицает: «Как я устала!» Затем она поглощает несколько ложек супа и взрывается возгласом: «Как горячо!» В выражение этих двух физических состояний госпожа М. Д. вкладывает всю душу. Если бы мы располагали психометром, то есть инструментом для измерения уровня психической силы, он, наверное, показал бы нам, что, произнеся эти незамысловатые фразы, госпожа М. Д. полностью опустошила свою душу. Подобное состояние крайне опасно, особенно если в этот момент от госпожи М. Д. потребуется абсолютное «присутствие» духа. Госпожа М. Д. профессиональная актриса. Тон ее речи напыщен, красочен, выразителен. Одного значения слов ей недостаточно. Только с помощью звучания каждого слова она воплощает в звуке его суть, характер и облик. Это «зримая» речь, речь для глаз. Так как подобная манера самовыражения всегда вызывала у меня отвращение, постараюсь объяснить причину этого отвращения. Выразительную речь принято считать красивой. На самом же деле она безобразна, а главное, бескультурна. Подлинная культура ведет ко все более умственной жизни (и к счастливым последствиям умственной жизни: порядку, систематичности, тишине), а кроме того, к устранению жеста. Более культурные народы изъясняются только словами; менее культурные — словами и одновременно жестами. Эмоциональная напыщенность, голосовые модуляции, речевая экспрессия суть не что иное, как остаточные явления полуионической речи первобытного человека, а также жеста, перешедшего в звук. Это голосовая жестикуляция. Знак того, что мы все еще не доверяем чистому значению слова. Что все еще не можем побороть в себе обезьянье начало. Подлинно культурные люди будут изъясняться не только без жестов, но и без эмоциональной напыщенности и голосовых переливов. Они не будут придавать звуковой форме слова характер, окраску или выразительность. Точно так же будут играть и актеры «культурного» театра; актеры, которые полностью истребят в себе шутовское паясничанье. Так и писатель, одолевший в себе обезьяну, будет писать невыспренно, невыразительно, бесцветно. Понятие литературной красоты до сих пор еще вдохновляется образом обезьяны перед зеркалом.
Equivoco — Двусмысленность
Соната для фортепиано № 26, соч. 81, Бетховена разделена на три части. Каждая часть имеет свое пояснительное название: Прощание, Разлука, Свидание. Над тремя начальными нотами первой части (Прощание) Бетховен собственноручно начертал слово Lebewohl, что, собственно, и означает «прощай». Из всех озаглавленных сонат Бетховена, таких, как Патетическая, Аппассионата, Аврора и Пасторальная, сочинение 81 — единственное, которое носит оригинальное название, данное ему самим композитором. Ничто не сравнится с патетическим описанием каждой из трех частей сонаты. Печаль расставания, заключенная в Adagio и прорывающаяся в Allegro; последние слова прощания, настойчиво повторяемые несколько раз, чтобы как можно глубже запечатлеться в сознании того, кто отправляется в путь; замирающие вдали звуки охотничьих рожков. Вслед за тем — горесть Разлуки, утешаемая время от времени сладостью воспоминаний. Наконец — радость Свидания, столь пылкая в начале и более сдержанная в конце, разрастающаяся до всеобщего счастья в торжественно-медлительном Poco Andante финала. В моем представлении эта чудесная музыка благодаря своему изумительному звукоряду раскрывала драму двух влюбленных, которые вынуждены расстаться, провести какое-то время в разлуке, но в конце концов снова соединяются. Каждая нота живо передавала мельчайшие подробности этой драмы. Слушая первую часть (Прощание), я невольно рисовал в своем воображении сцену любовного расставания, напоминавшую Поцелуй Гайеца[16]. Но вот совсем недавно я узнаю, что названия всех трех частей Сонаты № 26 относятся к отъезду эрцгерцога Рудольфа вместе с императорским двором из Вены в мае 1809 года ввиду приближения французской армии, к периоду отсутствия эрцгерцога и венского двора и к возвращению эрцгерцога и двора в австрийскую столицу 30 июня 1810 года после заключения мира. А я-то был буквально влюблен в Сонату № 26, соч. 81, по причинам, изложенным чуть выше. Это лишний раз свидетельствует о том, что влюбиться можно и в тень. Остается лишь отметить странный случай, когда музыка, написанная, так сказать, по поводу, находит столь ласково-проникновенные интонации для описания отъезда, отсутствия и возвращения некоего эрцгерцога. Что же в нем было такого особенного, в этом эрцгерцоге Рудольфе, чтобы вызывать у мужчины с романтическим складом души те чувства, которые обычно вызывает разве что любимая женщина?
Ermocrate — Гермократ
Скупец. Диктуя завещание, он самому себе назначил наследника венец. (Эпиграмма из «Антологии»[17].) Допустим. Однако же тот, кто объявляет наследниками жену и детей, лишь немногим уступает в скупости Гермократу. Пожалуй, менее скуп тот, кто объявляет наследниками внуков; и соответственно не так скуп тот, кто объявляет наследниками кузенов, далекого дядюшку, троюродного брата, друга, просто знакомого, неизвестное лицо и так далее, пока, наконец, мы не дойдем до того, кто объявляет наследником своего злейшего врага. Только такой человек не скуп. В отношении скупца также необходима переоценка ценностей. Скупость есть добродетель, и не так-то просто стать скупцом (при этом мы не принимаем в расчет скупых по природе). Скупец — сильный человек, в противовес транжиру — человеку слабому. Не случайно поэтому скупцов на свете — раз, два и обчелся, а транжиров — хоть пруд пруди. Не говоря уже о том, что скупца отличает аристократическое начало (сохранять вещи означает придавать им ценность). Меж тем как в транжире преобладает плебейская душонка. Народы тоже делятся на скупцов и транжиров: первые стоят выше вторых.
Europa — Европа
Европа — это могила Господа Бога. Самое точное и вместе с тем самое глубокое определение Европы. Сколько раз Господь Бог устремляется на завоевание Европы, столько раз Он умирает. Путь свой Он держит из Азии — Его естественной обители. Господь Бог рождается в Азии и умирает в Европе. Удивительно, что Господь Бог умирает столько раз? Ведь Он, как известно, бессмертен. Но смерть в Его жизни — всего лишь неприятный эпизод. Скорее удивляет то, что Господь Бог, признанный столькими людьми как Высший Разум, упорствует в попытке колонизировать эту смертоносную для Него землю. Неужели и Бога ничему не учит опыт? Судя по последним событиям, а также по тому, как в свете этих событий ведут себя «ответственные лица», становится совершенно ясно, что самих людей опыт учит немногому. Бог же познается через людские умы. Истина в том, что Господь Бог — это не Разум. Разум учит разделять, а Бог — это единство.
Та же участь, что выпала на долю Господа Бога, выпала и на долю азиатской чумы. По свидетельству гигиенистов, на протяжении столетий чума доходит до порога Европы и там останавливается. Останавливается не потому, что натыкается на санитарный заслон, а просто из отвращения. Впрочем, остановить чуму Европе удавалось не всегда. Однажды это глубокое дыхание Азии овеяло Европу от Геллеспонта до Геркулесовых Столпов[18]. Произошло это тогда, когда Европа уже переставала быть Европой. Но стоило ей снова стать Европой, как европейские врата закрывались на пути чумы. «Задача» Европы заключается в том, чтобы довести себя до максимального «европейского» предела. Если бы нацизм — по сути своей, порождение Азии, возникшее как опухоль в сердце Европы, — не был истреблен самой Европой, то спустя столетия no entrance[19] чума вновь овеяла бы Европу от Геллеспонта до Геркулесовых Столпов. Вырезать тоталитаризм есть для Европы прежде всего вопрос личной гигиены. Как в человеческом организме, так и в организме географическом физическое состояние определяется прежде всего психическим состоянием: оно либо прямо порождает недуг, либо косвенно способствует его порождению, либо препятствует ему. Да, но как понимать: «сама Европа истребила нацизм»? Как понимать: «нацизм — по сути своей, порождение Азии»?
Мишле[20], не помню по какому поводу, называет немцев «ces asiatiques de l'Europe»[21]. Полагаю, Мишле не находился во власти всевозможных представлений физиологического толка вроде мнимого славянского происхождения пруссаков. Иначе его определение сплющится, как раздавленный шапокляк. Одним из самых надежных признаков «европеизма» является либеральное восприятие жизни. У немцев такое восприятие отсутствует. В 1827 году[22], когда исповедование либерализма считалось, помимо всего прочего, признаком хорошего тона, Пруссия и Австрия отвергли призыв лорда Каннинга прийти на помощь Греции.
Бог в используемом здесь значении не является Богом в значении «Любовь». Это Бог в значении высшей, централизующей власти. Единственное значение, совместимое с идеей Бога. Бог-Любовь — это абсурдный симбиоз. И Церковь его увековечивает. Она сочетает принцип власти с христианским жизнеощущением. Образует синтез, соединяя два антитезиса. Примиряет две непримиримости. Совмещает две несовместимости. Как она этого добивается? Очень просто: она этого «не добивается». Истина в том, что в этом дуэте один из голосов отодвинулся на второй план. Какой именно? Наверное, правильнее будет сказать, что принцип власти поглотил христианское жизнеощущение.
Такого рода поглощение Церковь осуществляет с высочайшим мастерством. Она поглотила язычество. (Заметьте: поглотила, а не уничтожила.) Она поглотила Святого Франциска. Она поглотила Джованни Боско[23]. Она поглощает всякую ересь. Мало-помалу она поглощает открытия практических исследований. Пищеварительная способность купола колоссальна. Он не только воспроизводит по форме птолемеевский небосвод, но и проявляет таким образом свою не менее важную функцию вместилища. Организм купола обладает недюжинным обменом веществ. Сколь ничтожны в сравнении с ним прочие институты с их стерильной мимикрией! Фашизм тоже попытался поглотить социализм[24]; и все бы хорошо, да только социализм встал ему поперек горла.
Всякая попытка привнести в свою природу христианское мироощущение идет во вред принципу власти. Опыт реформатской церкви учит этому.
Христианство — ипостась человеческая, и только человеческая. Самое человеческое из всех человеческих чувств. Передающееся от человека к человеку. По горизонтали. Чувство, которое каждый человек испытывает к другим людям и воспринимает от других людей. (Всем сердцем стремлюсь я к разрастанию христианского жизнеощущения, которое приведет к христианскому сопричастию со всякой тварью и вещью вне человека: животными, растениями, ископаемыми; и с частицами, составляющими всякую тварь и вещь, вплоть до клеток и атомов и за пределами клеток и атомов: только тогда будет достигнуто полное и глубоко христианское ощущение жизни.) Так оставьте же христианство — эту ипостась «человека» — нам, людям. Нарушая естественное состояние христианства, вздымая его из горизонтального положения в (вертикальное) положение власти, мы не только искажаем его природу, но и истощаем его животворные источники, ослабляем его силу. Христианство является продолжением нас самих в человеческой общности и во всем сущем на земле. Христианство — это соединение себялюбивых начал отдельно взятых личностей. Это обмен себялюбивыми началами. Смешение этих начал. Это наше собственное себялюбие в чужом себялюбии и чужое — в нашем. Это наша собственная жизненная энергия, объединенная с энергией других людей. Это слияние всех человеческих жизненных энергий; и будет слиянием всех человеческих и нечеловеческих энергий. Неописуемая студенистая масса, в которую если уж влипнешь, так влипнешь как следует. Не задуматься ли нам, братья по общему студню, не задуматься ли нам об атомной физике как о «научном» доказательстве христианского мироощущения? Не поприветствовать ли здесь конец этой чудовищной бесконечности? Не отпраздновать ли слияние материи и духа, души и плоти, физического и метафизического?
До Христа эта энергия называлась, на языке Платона, Эросом. Лукреций воспевал ее в Венериной душе. Христос углубил эту энергию и чувства, ее выражающие, расширил круг обычных человеческих интересов, пробудив сладострастное чувство сострадания и еще более сладострастное чувство милосердия; еще более «очеловечил» это самое человечное из чувств. Чувство, которое именно в силу своей невероятной человечности не выдерживает всего того, что человечным не является. И прежде всего — власти, единой и централизующей; этого тормоза, паралича, тупика. Еще меньше выдерживает оно метафизическое отображение власти — Бога. Христианство атеистично. И если я атеист, то не по убеждению, а потому, что я христианин.
Европа убивает Бога. Два последних богоубийства, совершенных Европой, называются Гитлер и Муссолини. Значит, Гитлер — это Бог? И Муссолини — Бог? Да. Бог, увиденный вблизи, — это Муссолини. Бог, увиденный вблизи, — это Гитлер. Гитлер, увиденный издалека, — это Бог. Муссолини, увиденный издалека, — это Бог. Игра в близко-далеко срабатывает как на расстоянии Муссолини-Бог и Гитлер-Бог, так и на расстоянии Гитлер-человек и Муссолини-человек. (Никакой игры слов здесь нет.) С Муссолини я познакомился в Милане в 1918 году; тогда он был еще обыкновенным человеком. Мне по природе несвойственно идолопоклонство. Мое отвращение к малейшему проявлению идолопоклонства, как-то: «отец» Данте или «божественный» Платон — вынуждает меня недооценивать самые достоинства Данте и Платона. И даже если бы это было не так, то сам факт, что я знал Муссолини как обыкновенного человека, уберегал меня от признания Муссолини в ранге божества. Тот не Бог, кто родился на наших глазах.
Такова Европа, увиденная с воздушного шара. Ибо нельзя смотреть на эту Трагедию Континентов глазами муравья.
Европейский ум наделен особенным свойством: разделять и разъединять. (Принцип разделения британской дипломатии преследует не только политическую цель властвовать: прежде всего он выполняет функцию членящего ума.) Это «природное» свойство европейского ума и европейского «духа». Даже когда Европа действует «не по своей воле», она непроизвольно продолжает разделять и разъединять, тихо и неприметно. Европейскому духу ненавистны всякого рода сгустки. Какой бы сгусток ни образовался в Европе, он обречен на рассасывание под воздействием этой деятельной антипатии. В Европе далеко не все «европейское». Наоборот. В Европе много неевропейского. Однако все неевропейское в Европе обречено на крах благодаря антипатии со стороны всего европейского.
Тот, кто хочет понять смысл этих слов, опрокидывает некоторые сложившиеся представления. Разобщать не означает разрушать. Разобщающее действие благотворно. Европейский дух, который в своем самом тонком, самом глубоком, самом «европейском» проявлении разделяет, разъединяет и разобщает, выполняет целебную функцию. Здесь мы снова сталкиваемся с призраком Господа Бога. С Его неумолимым призраком. Мысль о том, что объединять — хорошо, а разделять — плохо, есть мысль, вдохновленная образом Божиим. В птолемеевском понимании жизни слово «объединять» имело магическое значение, по которому Бог разумелся как единство, как всеобщее единение. В коперниковском понимании жизни единство — это ошибка, противоположение естественному мироустройству, препятствие на пути непрерывного течения жизни, ее непрерывного изменения.
Бог как препятствие жизни. Как тормоз прогресса. Даже если Европа и принимает Бога — главным образом, как форму интеллектуального декорума (ставшего со временем признаком хорошего воспитания), — то не настолько всерьез, чтобы позволять Ему чинить ей препятствия. Стоит ли как-то еще объяснять причину европейского «прогресса»?
Краткая история первой мировой войны: «европейское начало», представленное Англией, Францией, Италией и другими союзниками», сражается с неевропейским началом, представленным Центральными Империями и их союзниками — болгарами и турками. Сражается и разбивает его.
Краткая история второй мировой войны: «европейское начало», представленное Францией, Англией и Соединенными Штатами, сражается с неевропейским началом, представленным Нацизмом и Фашизмом, и разбивает его. На этот раз — что весьма важно — европейское начало приходит извне. На этот раз Европа приходит из Америки, чтобы уничтожить нависшую над Европой угрозу неевропейского начала.
Этого примера должно быть достаточно, чтобы успокоить тех, кто опасается конца европейского духа в результате третьей мировой войны или славянской экспансии в Европе.
Европейский дух не умрет, если территория под названием Европа будет уничтожена. Европейский дух не замкнут внутри географических рамок под названием Европа. Европейский дух жив, а значит, мобилен. Везде побывал и везде останавливался европейский человек. Он движется с востока на запад. У такого движения есть свои психологические основания. Оно подталкивается симпатиями и отталкивается антипатиями. Европейский человек устремлен на запад. Влекомый светом. Его манит за собой заходящее солнце. Он движется вслед за солнцем. Чтобы поспеть за ним. Чтобы не потерять его свет. Глубинной чертой его характера является западничество. Он отвергает все восточное. Впервые он возгорается и сверкает в Греции. Затем начинается его шествие, ведомое солнцем. Он переносится в Италию. Из Италии — во Францию и в Англию. Из Англии, через Атлантический океан, дальше — в Америку, последнюю стоянку европеизма. Существует сугубо европейское психологическое обоснование тому, что при взгляде на Адриатическое море мое сердце омрачается, а при взгляде на Тирренское море — окрыляется надеждой. Край, где расцветает сегодня европеизм, — это Америка. И как таковая, Америка двинулась на «историческую» территорию Европы, чтобы в открытом бою уничтожить два азиатских образования, два инородных тела, две смертоносные опухоли, поедавшие ее ткань.
Соединенные Штаты выполняют сегодня ту же европейскую функцию, какую выполняла в свое время Греция. Свет, воссиявший в Греции, а затем в Италии, Франции и Англии, сияет ныне в Соединенных Штатах. Кто бы мог подумать?.. И тем не менее…
Всякая остановка европеизма по ходу его движения с востока на запад становится на всем своем протяжении пиком Крайнего Запада. Крайним Западом были в свое время Греция, Италия, Франция, Англия. Каждая остановка европеизма как бы не допускала ничего более «западного». Как бы не выносила ничего между собой и линией горизонта, за которой скрывалось солнце. Словно только она была вправе отдавать каждый вечер последние почести заходящему солнцу. Когда же место стоянки европеизма истощалось, звание Крайнего Запада переходило к другому месту, к другой стоянке. Когда истощилась Древняя Греция, звание Крайнего Запада перешло к Италии. Когда истощилась Италия, звание Крайнего Запада перешло к Франции. С тех пор как истощилась Франция (а с ней и вся «географическая» Европа), звание Крайнего Запада перешло к Америке.
Продолжит ли европеизм свое шествие с востока на запад? Отплывет ли он от побережья Калифорнии, пересечет ли Тихий океан, как однажды уже пересек Атлантический; высадится ли на Крайнем Востоке, который является для него Крайним Западом?.. На том берегу Тихого океана человек меняет окраску: снаружи и изнутри.
«Пусть изучение греческой и римской литератур станет основой высокой культуры! Древние памятники культуры Китая, Индии, Египта суть лишь достопримечательности; знать их и знакомить с ними — благое дело; но для морального и эстетического становления культуры польза от них невелика» (Гёте).
Европа остановилась на американском побережье Тихого океана.
Будет ли Европа когда-нибудь счастлива? Станет ли она когда-нибудь «полностью» европейской? Тонкую и кропотливую работу проводит Европа, чтобы спастись от неевропейского начала, которое непрерывно проникает в ее организм и отравляет его. Досократовская Греция — вот самый чистый европеизм. Самое европейское состояние Европы. Хотя и в досократовской Греции существовали неевропейские начала: Пифагор и пифагореизм. Тем не менее идеи (неевропейские) души и тела, материи и духа, физического и метафизического, ада и рая пока еще не оказывали разлагающего воздействия на европейский ум. Жизнь была зримой, рассудочной, воспринималась такой, какая она есть, в своей физической бесконечности, а не такой, какой она должна быть в представлении неевропейского ума, «чтобы быть достойной Бога».
Восхваляя Грецию, мы восхваляем первое европейское состояние Европы. Впрочем, в той же Греции следует отличать более греческое (более европейское) от менее греческого (менее европейского). Более греческим в Греции является досократовское время. Менее греческое берет начало с Платона. В той же досократовской Греции также следует различать более греческое (более европейское) и менее греческое (менее европейское). Более греческим в досократовской Греции является то мироощущение, которое находит свое выражение у Фалеса, Гераклита, Эмпедокла. Менее греческим — Пифагор и пифагореизм. Пифагор не грек. Пифагор и пифагореизм представляют ветвь индуистского спиритуализма, проникшего в Грецию и в Европу. И Европа знает это. Знает и не доверяет Пифагору. В пифагореизме Европа чувствует нечто нечленораздельное, неотображенное, «не свое». Шопенгауэр в краткой истории философии, написанной для личного пользования, замечает: «Я не доверяю мыслителю, который не оставляет после себя письменных свидетельств собственной мысли». Шопенгауэру следовало добавить, что Пифагор и не мог оставить письменных свидетельств собственной мысли. Мысль Пифагора ускользает от запечатления на письме. Эта мысль сама по себе аграфична. Европейская же мысль, напротив, в высшей степени графична. Она неизменно и точно выписана. Даже тогда, когда она не написана.
Эллинистичнейший Платон привносит в Грецию азиатское начало в форме единого Бога и самосознания (наместничества единого Бога внутри человека; инструмента, с помощью которого единый Бог господствует над человеком и внутри его). Европейский ум разделяет единство и политеизирует Бога.
Словно мутный поток рядом с кристально чистым потоком, пифагореизм, меняя время от времени наименование и называясь то мистицизмом, то экзотеризмом, то спиритуализмом, течет параллельно европеизму. Ныне же, тайком ото всех, пифагореизм свил себе гнездо в марксизме.
Европа понимает, если это «европейская» Европа, что никакая идея не бывает «главной». Что никакая идея не достойна того, чтобы ее ставили выше других идей. Что ни одна идея не заслуживает того, чтобы быть центральной, чтобы ее считали самой верной, самой красивой, лучшей идеей. Такова «демократия» идей — единственное условие прогресса. Стоит только идее остановиться, как тотчас образуется тромб, преграждающий быстрое и легкое течение идей, сдерживающий прогресс; а вокруг «неподвижной» идеи образуется гангренозное кольцо. Взгляните на некоторые области Испании, Италии, других южных районов Европы, не тронутые прогрессом: ржавчина разъедает в них и людей и вещи, а в центре каждой такой области вы найдете застывшую идею. Идея жива, покуда движется. Остановившись, идея разлагается и сеет вокруг себя смерть. Сегодня кое-кто хвалит юг Италии за то, что он не так загроможден идеями, и приводит его в пример того, как надо жить. Ошибка. За вольное безразличие здесь выдается апатия умственного рабства. Юг Италии не только не загроможден идеями, хуже — он парализован одной-единственной идеей (Бога, короля). Вплоть до всеобщей спячки. И если об этой идее не трубят на каждом углу, то лишь потому, что уже с незапамятных времен она пребывает в полной неподвижности. Отчего, впрочем, не становится менее вредной.
Превосходным состоянием европейского духа является дилетантизм. Лишь европейский ум созрел настолько, чтобы видеть в дилетантизме решение жизненного вопроса. Лишь он настолько мудр, что понимает: жизнь — это не проблема. Настолько просвещен, что признает: жизнь не таит в себе проблем. Лишь европейский ум знает, что жизненные вопросы — это всего лишь повод для развлечения, приятное времяпрепровождение, упражнение для ума. Лишь европейский ум настолько уравновешен, что не просвечивает жизнь с одного конца инфракрасными лучами, а с другого — ультрафиолетовыми. Настолько умудрен, что — без сокрушений — приходит к следующему выводу: жизнь не преследует никакой цели, не стремится ни к каким завоеваниям, не рассчитывает ни на какую награду, не жаждет никакой победы; а всякая цель, завоевание, вознаграждение, победа суть не что иное как спортивный азарт. Лишь европейский ум не отягощен жизненными проблемами. Если же по воле случая в голову европейца и западет дурное семя проблематизма, то он найдет себе проблему где-нибудь за пределами Европы. Как, например, Олдос Хаксли. Нужно ли говорить, в каком источнике этот бедняга надеется утолить свою проблемистскую жажду? Существует лишь один источник сублимированного идиотизма, одна Мекка суемудрия — Индия.
В Европе много говорят о Боге, но Бога в Европе нет. Особенно же много о Нем говорилось раньше. Впрочем, Господь Бог бывал в Европе. И подолгу там останавливался. Чудовищны следы Его пребывания на этой недружелюбной территории. Мрачные воспоминания остались после Него.
Но сейчас в Европе нет Бога. Кто это и что это — Бог, о котором говорят в Европе, — никто толком не знает. Это и все, и ничто. Все и никто. Нечто расплывчатое. Неуловимое. Растяжимое до бесконечности. Крайняя неопределенность, лишающая Его всякой возможности утвердиться и в то же время уберегающая Его от самых искусных отрицаний. Поэтому даже в тех случаях, когда доказательства Его сущности таковы, что позволяют эту сущность отрицать, Он по-прежнему остается. Это сущностное предание о Боге не в состоянии преградить никакой барьер. Оно проникает всюду. Входит в любую дверь. Проходит сквозь самые непроницаемые тела. Всплывает в самых невообразимых местах. Вовлекается в совершенно несвойственные ему материи, в совершенно чуждые ему ситуации. Примерно с полгода назад, в Милане, я слышал, как один выдающийся математик утверждал, что атомная физика, теория относительности и квантовая физика являются теми же доказательствами существования Бога. Ясно, что, сведенный к подобной бесформенности, Господь Бог уже не препятствует объективности и пластичности, необходимым для европейского самовыражения. И все же не с этим размытым теизмом несовместим европеизм. Примером тому — Франсуа Мориак. Теист и вместе с тем писатель острый и твердый, как стилет, он само воплощение европейского писателя. И если в стольких наших писателях, исповедующих теизм, так мало европейского, то это не потому, что они теисты, а потому, что они дрянные писатели.
Европейский человек «не теряет присутствия духа», даже если ему не хватает стимула абсурда; даже если ему не хватает стимула войны. (Война есть действие, доведенное до степени абсурда.) Более того: чтобы «загореться», европейский человек не нуждается ни в абсурде, ни в войне. А чтобы быть самим собой, ему не нужно и «загораться». Европейский человек воплощается полнее именно в состоянии невозгорания. Именно вне абсурда и вне войны европейский человек становится самим собой. Только европейский человек обладает этим свойством. Ибо только он является «цельным» человеком, живущим не за счет внешних раздражителей, а за счет собственной энергии, воли, разума. Только европейский человек не нуждается в идеологиях (религии, коллективной мистике и т. д.). Неевропейский человек (араб, азиат) существует не иначе как в состоянии горения. Лишь абсурд (Бог, верования, мифы, сказания) и война «воспламеняют», приводят его в состояние готовности. Радиоуправляемый человек. Если ему недостает внешнего излучения, он впадает в чисто вегетативное состояние. Странное впечатление (хотя после всего, что было сказано, ничего странного в этом нет) производит такой, скажем, народ, как арабы: после целой эпохи бурной активности они валятся на землю и столетиями дрыхнут на солнцепеке. Тоталитаризм — это не европейский образ жизни. Сначала он обезличивает и опустошает человека, а затем воспламеняет его благодаря мощному и непрерывному облучению абсурдом и войной. Тоталитаризм в Европе — это чудовище. Он может родиться в Европе, ибо и в Европе рождаются чудовища. Но Европа истребляет его. Любой тоталитаризм обречен в Европе на смерть. Самый европейский европеец — это англичанин.
Европейский мужчина «не теряет присутствия духа», даже если ему недостает мужественности. (То же относится и к европейской женщине.) Европейский мужчина не носит усы словно вывеску (а европейская женщина — груди). Пол у европейцев не является священным принципом (предметом гордости, чести). Только европейскому человеку дана половая диалектика, половая демократия, половой либерализм — половой дилетантизм.
На полях неевропейцев, усеянных холмиками грудей, возвышается гигантский вздыбленный фаллос с торчащими по бокам усами наподобие двух черных сабель. Посреди Европы, на изысканно-поджаром диване, в окружении удобных и безмолвных приборов, освещенный косым, рассеянным светом, дремлет Гермафродит.
Столь безмятежный сон есть признак силы и уверенности.
Неевропейский мужчина воспринимает собственный член как пушку, скипетр, меч правосудия.
Католическая церковь представляет собой колоссальное преобразующее устройство. Она облагораживает и преобразует применительно к Европе Абсурд, идущий из Азии. Именно в этом смысле католическая церковь чрезвычайно полезна и благотворна для Европы. Именно в этом смысле католическая церковь является глубоко «европейской». Меж тем взгляните на подступы к Европе: православная церковь, получая Абсурд, возвращает его в чистом виде.
Целебное, разобщающее воздействие, оказываемое ныне Европой, называется социализм. «Европейское детище». Все говорят о «социальных» и экономических целях социализма — целях второстепенных. Но никто не говорит о его главной цели, о его «тайной» цели — уничтожать, рассасывать любые социальные сгустки. Социализм, как последнее проявление европеизма, уничтожил, вызвал распад тоталитарных опухолей — явлений неевропейских. Точно так же уничтожит он любую новую опухоль. Он будет поддерживать Европу в состоянии распада — единственно здоровом состоянии.
Таковы самые европейские черты Европы. Неизменно обретаемые ей с тех пор, как Юпитер в облике быка останавливался здесь, словно в уютной холостяцкой квартире; обретаемые независимо от расстояния, в любой части света, даже в противоположном его конце. Черты, которые то появляются, то исчезают. Тайные или явные. Чаще тайные, чем явные. Но разве это так важно? Когда мы говорим «Бетховен», мы не чувствуем, как из глубины нашей памяти всплывает Соната № 2 для фортепиано, соч. 49. Черты, которые не обнаружить ни в ком и ни в чем, что не является европейским.
Famiglie — Семьи
Из отроческих воспоминаний Франческо Де Санктиса[25]: «По утрам мама осыпала меня бесконечными ласками. Она отнимала младенца от груди и, смеясь, подносила грудь ко мне, как бы говоря: — Ты помнишь?» Спрашивается, что же показывал ему отец.
Figli — Дети
Решив воскресить в памяти воззрения Антона Чехова на искусство, я перечитал «Чайку», где эти воззрения, собственно, и содержатся. Перечитал и не обнаружил ничего, что заслуживало бы особого упоминания. Кроме следующей реплики Треплева: «Надо изображать жизнь не такою, как она есть, и не такою, как должна быть, а такою, как она представляется в мечтах». Реплика эта является по сути дела предварением теории сюрреализма. Но речь сейчас не об этом. Константин Треплев, герой «Чайки», приходится сыном актрисе Ирине Аркадиной. Это одаренный молодой человек, избравший карьеру писателя. Однако после нескольких проб пера, после нескольких сентиментальных искусов, после нескольких «жизненных» испытаний он отказывается от своего земного жребия и кончает с собой. В этой меланхоличной пьесе, как и в других вещах Чехова (к примеру, в рассказе «Володя»), поражают «свободные» отношения между сыном и матерью. И неважно, что мать Треплева, как и мать Володи, женщина легкомысленная и занята больше собой, чем собственным сыном. Треплев и его мать разговаривают друг с другом не так, как, по нашему представлению, должны разговаривать сын и мать. Они говорят как два друга, как два сверстника. Эта свобода в обращении и поведении особенно меня поражает; ведь даже когда мне перевалило за сорок, чтобы поговорить с матерью или хотя бы предстать перед ней, я должен был преобразиться. Разительно отличие так называемого «иезуитского» воспитания от воспитания либерального, от того «семейного либерализма», который в противовес строгости и «косвенной форме» иезуитского воспитания укоренился в протестантских и «развитых» странах. Русские, будучи представителями молодой культуры, также восприняли «семейный либерализм» с присущим им порывом, с которым они воспринимают любую «новизну», — так восприняли и осуществили они коммунизм, изобретенный и разработанный другими. Под воздействием этого либерализма разлаживаются самые организмы жизни (в сущности, вся человеческая деятельность состоит в том, чтобы противостоять естественному и «бесцельному» течению жизни; и только либеральное сознание благоприятствует этому течению и прилаживается к нему); все становится «горизонтальным», как в чеховской «Чайке»; все течет, все плывет без руля и без ветрил. Именно для того, чтобы преградить отчаянное течение человеческого бытия, мы, чьи предки имели право казнить или миловать своих детей, возвели на пути этого горизонтального течения людей и вещей идеальное вертикальное строение. Мы создали из семьи уменьшенную модель «Града Божия»[26], согласно которой дети видят в собственном отце «жреца» этого человеческого и одновременно божественного и глубоко «естественного» жизненного уклада; а в собственной матери — супругу жреца. Так о какой же дружбе, о каких свободных и непосредственных отношениях, о какой доверительности может вообще идти речь? Свобода в обращении и поведении подспудно влечет за собой и возможность интимной близости. Именно поэтому, на наш взгляд, сквозь свободу в отношениях и манере общения между отцом и дочерью, сыном и матерью проглядывают ростки чудовищного «мирризма»[27] и столь же чудовищного эдипова комплекса.
Germanesimo — Германизм
12 сентября 1943 года. Я в своем доме в усадьбе Поверомо близ города Массы на севере Тосканы. Встаю с постели, распахиваю ставни. День — еще невинное дитя. Наивный утренний ветерок проясняет все вокруг. Все искренно, все истинно. Я понимаю деревья, воздух, небо. Природа распускается. В этот час и люди, наверное, понимают друг друга лучше. Люди и души. Но, к счастью, я один. Драгоценное одиночество. Никто не задумывается над тем, сколь необходимо человеку одиночество. Никто не задумывается над тем, сколь необходима человеческому организму, сколько жизненных сил экономит определенная доза ежедневного одиночества. Она очищает нашу жизнь, удаляет из нее шлаки коллективизма. Общественная, коллективная жизнь отравляет человеческий организм. Мы сильно обеспокоены вредом алкоголизма или курения, но никого почему-то не беспокоит вред, наносимый нам коллективизмом. В отрочестве и более зрелом возрасте каждый самостоятельный человек должен несколько часов в день проводить в одиночестве — и непременно в тишине. Необходимое дополнение к гигиене жизни. Этот волнующий утренний воздух обостряет нашу чувствительность. Мы начинаем глубже осознавать окружающий мир. Душа открыта для откровений. Я трепещу при мысли, что кто-то может появиться в этот момент. Тогда все пойдет насмарку. Несомненно, именно в такой вот утренний час Зигфриду явился язык птиц. Но почему, собственно, «явился» и как язык вообще может «явиться»? И все же это так. Только в такие мгновения наши чувства утончаются настолько, что обретают новые возможности. Звуки становятся тогда зримыми, и ухо «видит». Является тело звука и его скелет. Птицы щебечут на вязах, дубах, платанах, тополях и соснах, окружающих мой дом. Нынче утром я тоже понимаю язык птиц. Понимаю настолько хорошо, чтобы понять: язык птиц не следует понимать. Вагнер совершил оскорбительную ошибку, насильно доведя восприятие языка птиц до его совершенного слияния с языком людей. Вагнеру свойственны подобные ошибки. Даже не столько ошибки, сколько ляпы. Нынче утром я чувствую, что готов к пониманию языка птиц, к его глубокому пониманию, к пониманию его «в себе». И чем лучше я его понимаю, тем неумолимее он отдаляется от языка людей, к далеким границам нечеловеческого. Внезапно по лесу разносится голос. Человеческий и одновременно нечеловеческий. Он мгновенно переносит меня по ту сторону знакомого и привычного мира. Словно в чаще этого леса, где все самое невероятное, самое жуткое совершается разве что белкой или змеей, словно в этой чаще разнеслись эхом зловещее карканье птеродактиля или холодящий душу свист плезиозавра. Допотопный голос нарушил всегдашнее безмолвие леса. Птицы разом смолкли при внезапном «явлении» этого чудовищного голоса — голоса вне времени, ворвавшегося к нам из сгинувшего мира; даже деревья ошеломлены и дрожат: дрожат тополя, белостволые, как обнаженное тело долговязого подростка; трепещут замаскированные стволы платанов, содрогаются опоясанные ржавчиной стволы сосен. Я возвращаюсь в реальность, упраздненную сном и чистотой этого утра, подобно тому как невинность упраздняет грех. Роли переменились: день, вместо того чтобы прогнать кошмар, на сей раз ввергает меня в кошмарное наваждение. Наша бодрствующая жизнь превратилась в эти дни в абсурдный, тревожный сон. Немцы заняли казармы, гостиницы и дома Форте дей Марми. Колонны их грузовиков, артиллерии и боевых машин проносятся по главной улице города и его набережной с невыносимым, истеричным ревом. Почти все машины разрисованы жирными желтыми пятнами наподобие жабьей кожи. На некоторых наброшены крупные маскировочные сети. Сидящие в них люди тоже все в желтом; кое на ком — пухлые армейские комбинезоны. Уподобившись некоему чудовищному созданию — чему-то среднему между гигантской ведовской лягушкой и устрашающего вида водолазом, немецкий солдат сумел слить воедино собственный характер и внешность. Немца всегда отличали театральность и дьяволизм. Его режиссерский гений умело играет на всем чудовищном. Жуткое обмундирование солдат лишний раз говорит о том, насколько в сути своей немец-завоеватель глуп и поверхностен. Он пытается внушить страх даже своей внешностью. Как-то раз на турнире по вольной борьбе в Cirque de Paris я видел борца, который для устрашения соперника выбрил себе голову под зебру: полоска волос — полоска голой кожи. Но он так никого и не напугал. Этот борец вполне заслуживал звания немца; однако по какой-то случайности он оказался китайцем. Чтобы развеять эффекты, на которые немец тратит столько сил и средств, достаточно включить в зале свет. На протяжении двадцати столетий европейцы ведут с германизмом войну. И эта война есть не что иное, как непрерывное усилие, поневоле предпринимаемое европейцами, чтобы возжечь свет, который германцы пытаются всякий раз потушить. Значит, борьба Индры против Аримана[28] бесконечна? Ариман не умирает, он всего лишь меняет имя. Его зовут то Аттилой, то Аларихом, то Барбароссой, то Вильгельмом II, то Гитлером. При этом он неизменно принадлежит к германской расе. Может быть, именно поэтому немцы так привязаны к аризму? Или — игра слов напрашивается сама собой — к ариманизму? После двадцати столетий адского труда европейцы, наверное, вправе почувствовать себя усталыми и решить раз и навсегда покончить с этими неисправимыми светоборцами. Однако люди не только смертны, но и забывчивы и, будучи отцами, уже не помнят того, о чем думали, будучи детьми. Особенно в Италии немецкий миф, «ужасный» немецкий миф остается совершенно незамеченным. Впрочем, итальянцы многого не замечают, даже слишком многого. Самое большое зло, от которого страдает Италия, главная причина всех ее бед кроется в неведении. Когда я говорю о европейцах двадцативековой давности, я, естественно, имею в виду римлян. Римляне вписываются в понятие Европы. Скажу лучше: римляне являются творцами, хоть и бессознательными, того интеллектуального единства нескольких народов, связанных общими гражданскими и моральными идеями, которое выражается в понятии «Европа». Понятие «Европа» не следует ограничивать рамками географии.
Оно выходит за географические пределы европейского континента и распространяется везде, где есть европейцы и где повторяется европейское состояние жизни, то есть существует возможность интеллектуального единства нескольких народов, связанных общими гражданскими и моральными идеями. Так, понятие «Европа», или как бы сама Европа, продолжается в Америке, в Австралии, в Индии, в Сибири, в Южной Африке и в Северной Африке. В будущей войне, которую, впрочем, он же и готовил, Муссолини предвещал конец Европы. Почему? Теперь Европа существует больше вне Европы, чем внутри Европы. Над Европой никогда не заходит солнце. Теперь Европа неуязвима. Об этом не подумали ни Гитлер, ни Муссолини. Они не подумали о том, что, идя на Европу войной, они обречены на поражение, ибо неуязвимая Европа, Европа, «которая повторяется на пяти континентах», в конце концов обязательно победит. Даже если им удастся, как, собственно, и случилось, установить свое господство на Европейском континенте. Ту же ошибку совершил Аларих, полагавший, что, завоевав и разрушив Рим, он овладел им. В подобного рода заблуждения неизменно впадают люди тьмы, слуги зла. Не так-то просто определить, в чем состоял европеизм Муссолини. Европеизм и Муссолини — понятия противоположные. Муссолини был врагом европеизма. Свое стремление уничтожить европеизм он выразил словом «Антиевропа». Я не боюсь уничтожения Европы. Я не боюсь уничтожения европеизма в результате уничтожения Европы. Разве в территории дело? Меня интересует самый «дух», названный «европеизмом» лишь потому, что возник в той части земли, которая называется Европой. Конец Европы берет начало с того самого момента, когда Колумб открыл Америку. С этого дня европеизм начал странствовать и колонизировать. Именно благодаря своим странствиям европеизм обогащается и усиливается. Если бы европеизм не покинул приютившую его поначалу территорию, то есть земли, расположенные в восточном бассейне Средиземного моря, от него давным-давно не осталось бы и следа. Как определить состояние, при котором та или иная почва способна впитать европеизм живым и плодовитым? На мой взгляд, этим состоянием является в первую очередь «западничество». Почва тем благотворнее для европеизма, чем больше в ней западничества, то есть чем больше она убеждает в том, что вне ее не существует ни просвещенных стран, ни жизни вообще; что вне ее не происходит ровным счетом ничего, кроме захода солнца — самого значительного события человеческого дня. Остановимся мысленно на заходе солнца. Когда солнце заходит, животные погружаются в сон; лишь человек просыпается — это пробуждение к его внутреннему дню. Это важнейший момент в жизни человека, момент высочайшей человечности, чрезвычайно важный для всего человечества, для всей цивилизованной жизни. Заря не вызывает вдохновения. Именно закат наводит человека на мысль об «этической» необходимости труда, о том, что здесь, на Земле, он должен вести жизнь более высокую и духовную; жизнь, которая отличалась бы от незатейливого существования бессловесной твари, попавшей на Землю вместе с быком, змеей и моллюском. Именно в момент захода солнца человек ощущает непередаваемую тоску по жизни и думает о том, как продлить жизнь после захода солнца, после смерти, после самого себя. Заря открывает человеку существование Бога; закат учит человека, что он сам может стать Богом. Заря несет человеку религию (ex Oriente lux[29], религии идут с Востока); закат дает ему культуру и прогресс. Однако западничество не является неким физическим и неизменным состоянием. Западничество преходяще и в каждой стране проявляется по-своему. Одно время Греция была западнической, теперь она считается восточной. Западнической в свою очередь была Италия, сегодня же Рим — это южный Вавилон. Мы уже чувствуем, как ослабевает западный дух Парижа и Лондона. Что это означает? Это означает, что ослабевает западничество самой Европы, что слабеет европеизм Европы. В этом «смысл» войны против фашизма и нацизма. Именно из-за пределов Европы пришел европеизм, чтобы сразиться с антизападничеством и уничтожить его, точнее, уничтожить антиевропеизм, укоренившийся в Европе под видом фашизма и нацизма. В «погоне за солнцем» европеизм, то есть идея, что человек способен продлить жизнь по ту сторону смерти, сделать ее лучше, «воздушнее», пересекает сегодня моря и океаны. Он находится в поиске такого места, где западничество могло бы прочно обосноваться на некоторое время и оставить мысль о том, что вне этого места не существует ни просвещенных стран, ни жизни вообще и что там не происходит ничего, кроме захода солнца. Как не уподобить это кружение европеизма шарообразности Земли? Задумаемся над «нелепой» участью земных творений: коль скоро их судьба предопределена самой формой нашей планеты, они не могут иметь ни начала, ни конца и обречены на бесконечное и тщетное движение по кругу. Разве одного этого не достаточно, чтобы оправдать неотвратимое несчастье человека, его извечную разбросанность, извечную погоню за надеждой? До сих пор я говорил о «европеизме», а не о культуре. Европеизм — это форма культуры sui generis[30]. Восточные культуры — ассирийская, вавилонская, египетская — представляли собой замкнутые культуры божественного (теократического) характера. Они могли поучать — Египет действительно многому научил Грецию, — но они не могли сотрудничать. Европеизм, напротив, является формой сотрудничающей культуры. В этом его фундаментальное качество. В этом его «самобытность». Европеизм — это культура не теократическая, а преимущественно человеческая и, следовательно, восприимчивая к развитию и совершенствованию. Европеизм — это форма чисто человеческой культуры, настолько человеческой, что всякое проникновение в него божественного, всякая попытка установления в Европе теократии становится препятствием для европеизма, стопором культуры. Враг европеизма есть Бог. Врагом европеизма являются церкви или же институты, созданные для того, чтобы насаждать в качестве господствующей идею Бога. Врагом европеизма являются иудаистская церковь, православная церковь, католическая церковь, протестантская церковь, какая бы то ни было церковь вообще, теософизм, антропософизм, масонство — любой институт, ставящий себе целью навязать идею Бога. Однако в Европе у европеизма есть враг посильнее, чем церкви: германизм. Немецкий народ, живущий в центре Европы, не является европейским народом. По Мишле, Германия — это Азия Европы. Немецкая культура отливает черты германизма не в общем горниле, в котором сливаются стихии, в совокупности составляющие европеизм. Прежде всего это теократическая, а не человеческая культура, сравнимая с такими древними восточными культурами, как ассирийская, вавилонская и египетская. Сродство германской культуры и теократических культур древнего Востока подтверждается ужасающими примерами. Один из таких примеров, самый чудовищный и самый «убедительный» — депортации народов, осуществленные Германией в XX веке; депортации, на которые не осмеливался ни один народ после заката Вавилона, Ниневии и Мемфиса. Не следует придавать особое значение тому, что над германизмом не довлеет идея некоего Бога. В теократических культурах Бог не является условием sine qua non[31]. Под Богом разумеется центральная, абсолютная идея. Бог германской теократии — это сама Германия, «немецкий миф». Кроме того, германизм олицетворяет порой центральную и абсолютную идею божества в одном человеке, о чем свидетельствуют примеры Вильгельма II и Гитлера. Поскольку германскую культуру отличает прежде всего теократический характер, сама Германия не является частью европеизма, то есть нашей культуры человеческого характера. Германизм может учить другие европейские народы, он может обогащать культурное и научное достояние Европы свойственными ему чертами, но он не может ни сотрудничать с другими народами Европы, ни деятельно способствовать становлению и развитию европеизма. У Германии есть европейская идея, но это идея ее собственной Европы, Европы германизированной, Европы, сделанной из германских материалов и вдохновленной германским духом. Германия не понимает «европейской» Европы. Нагляднейшим доказательством неспособности Германии сотрудничать с европейскими народами являются ее настойчивые попытки колонизировать Европу; меж тем как прочие народы-колонизаторы, прежде всего Англия, колонизируют «вне Европы». Еще одно доказательство заключается в том, что германский народ является единственным великим народом Европы, который ни разу не выступил, с оружием ли в руках или каким-то иным образом, за независимость другого европейского народа или по крайней мере на его благо. В 1827 году лорд Каннинг призвал европейские державы создать лигу в защиту греков, истребляемых турками и египтянами. Франция голосует «за», Россия — тоже «за», и лишь Австрия и Пруссия «против», «верные», как замечает Г. А. И. Фишер (История Европы, т. III, «Либеральный эксперимент»), «своей глубокой ненависти к свободе». Германия — это не просто неевропейская нация, расположенная в центре Европы, а враг европеизма и, в более широком смысле, враг человечества. В моем сознании запечатлелся «необычный» звук того голоса, что эхом разнесся по лесу. Этот голос резко возвращает меня к страшной реальности. Немецкие дозоры вошли вчера вечером в лес и разбили лагерь вокруг моего дома. Невозможно вообразить более вопиющего осквернения целомудренности этого дома, «человеческого» благородства этого леса, окружившего мой дом своей защитной порослью. Впрочем, этого следовало ожидать. Наступление немцев неизбежно, как неизбежно наступление морского прилива. В первые два дня этого наваждения, этой чудовищно парадоксальной оккупации немцами Италии, мы полагали, что поток немецкой армии устремится по параллельным морскому побережью руслам дорог. Мы полагали, что этот ужасающий поток не захлестнет тех, кто, подобно нам, живет в глубине леса, в некотором удалении от главных дорожных магистралей. Поэтому моя жена предложила Пьеру Каламандрею[32] и синьоре Каламандрей, чей дом стоит как раз на набережной, переселиться на какое-то время к нам. Такие же предложения были сделаны маркизе Оренго и графине Гаудьозо — соответственно теще и свояченице моего друга Джакомо Дебенедетти[33]. Увы, все это оказалось иллюзией. Спустя два дня после начала вторжения немцы вошли в сосновый бор, углубились в лес, вырыли небольшие окопы для огневых точек и завершили прочие военные приготовления. Наконец вчера, когда уже начинало смеркаться и все мы — Мария, я и дети — сидели на террасе нашего дома, двое немцев появились в нашем саду. Прежде чем толком их разглядеть, мы заметили сквозь листву, как какие-то люди направляются по тропинке, соединяющей наш сад с дорогой поместья Поверомо. Нам и в голову не пришло, что это могут быть немцы. Их появление поразило нас так, словно мы увидели людей из другого времени, с другой планеты. Теперь я понимаю, что немцы испытывают «социальную» необходимость принимать облик («скрываться под маской») добродушия, быть столь «неизменно вежливыми» («ils sont tres corrects»[34] — такого отзыва добились они о своих солдатах, занявших Францию), стараться говорить в чужой стране на чужом для них языке, внимательно интересоваться чужой историей, чужими обычаями, чужой природой. И все это потому, что германцы «хотят что-то скрыть». Что-то, что они в большей или меньшей степени осознают. Они чувствуют, что должны выглядеть не такими, какие они есть на самом деле. Представая перед другими народами, они чувствуют, что должны казаться чистенькими. В силу этой своей внечеловечности. Нужно ли говорить, что в этот собирательный портрет я не включаю поэтов, писателей, философов, художников, то есть интеллигентов, как таковых? Разумеется, достойными звания интеллигента я считаю лишь тех, кто сумел превзойти самые низкие, «инстинктивные» черты собственной расы и избавился от них. Интеллигенты образуют собственный подвид, где бы они ни родились и ни жили. Интеллигент-«националист», будь то Шарль Моррас[35] или какой-нибудь Жозеф Фабр (чей перевод «Песни о Роланде», «cette epopee du patriotisme»[36], я читаю в эти дни), — любой интеллигент, ставящий выше своего статуса интеллигента статус итальянца, француза или немца (эти жизненные недоразумения), не имеет права гражданства в граде интеллигентов. Показательны в немецких интеллигентах нетерпимость к статусу немца и его отрицание. Гёте в Риме «рождается заново»; Шопенгауэр гордится тем, что в его библиотеке французских книг больше, чем немецких; Гейне эмигрирует в Париж и начинает писать по-французски; Ницше нарочито подчеркивает свое польское происхождение. Я снова возвращаюсь к мысли о допотопном мире. При виде немецких солдат в глубине нашего сада у меня возникло жуткое и необъяснимое впечатление, будто передо мной люди каменного века, неожиданно оказавшиеся среди нас, среди наших обычаев и привычек, наших жилищ и усадеб, обжитых веками «человеческой цивилизации»; у меня возникло впечатление, будто передо мной бесконечно первобытные создания, с которыми невозможно установить решительно никаких отношений, вполне безобидные внешне и при этом способные решительно на все. Именно сознание и груз этого отличия от других людей подталкивает их к тому, чтобы быть не такими, каковы они на самом деле, чтобы уподобиться другим людям. Именно поэтому немец испытывает отвращение к самому себе. Причина его вечной драмы, его непрерывных и безрезультатных усилий, его постоянной потребности завоевывать чужие территории, порабощать другие народы кроется именно в этой потребности «выйти из самого себя», преобразиться. В этом суть «германской драмы», невероятно искаженной всевозможными вымыслами.
Аполлинер. После 1929
Считается, будто он стремится поработить другие народы потому, что чувствует себя выше их и хочет уподобить их себе. На самом же деле он стремится завоевать другие народы для того, чтобы смешаться с ними и исчезнуть как немец. Жажда, а точнее, «необходимость» завоеваний, испытываемая немцем, обусловлена его комплексом неполноценности. Европа, о которой мечтал Гитлер, то есть германизированная Европа, постепенно поглотила бы немцев и в конце концов «переварила бы» их, разрешив таким образом проблему германизма. Так в процессе этого гигантского пищеварения Европа постепенно поглотила бы эту назойливую, неугомонную, надменную, опасную «неевропейскую» расу, подобно тому как Англия в свое время поглотила порцию германцев, превратив их в англичан; как Северная Франция в свое время поглотила порцию германцев, превратив их во французов; как Северная Италия в свое время поглотила порцию германцев, превратив их в итальянцев. Но скольких усилий стоил бы Европе такой довесок! Желудок Европы не вынес грозящей перспективы этого жуткого пищеварения. Такое кушанье, как немцы, даже если поглощать их для того, чтобы переварить и превратить в европейцев, способно отпугнуть самые могучие желудки. Тот необычный голос, что эхом разнесся по лесу, был криком одного из немецких солдат, разбивших вчера вечером лагерь вокруг моего дома. За первым криком последовал второй — уже из другой точки леса; затем третий, четвертый — и все из разных концов леса. Теперь я могу представить, сколько же там немцев. Я чувствую себя окруженным, заточенным, плененным. Из-за деревьев блеснуло на солнце чье-то обнаженное тело. Вчерашние солдаты были высоченного роста. На них были высокие сапоги и шорты, рубашки цвета хаки с закатанными выше локтя рукавами и каскетки с плоским козырьком. Солдаты Гитлера отказались от клепаных касок своих отцов — символа пруссачества. Возможно, немцы полагают, что так они стали свободнее, что они превратились в более «республиканскую армию», более «национальную», более «народную». Чудовищное лицедейство нацизма — выдавать себя за «народный» режим или же (играя на двусмысленностях) за режим, претворяющий в жизнь «здоровые» постулаты коммунизма. Меж тем как в нашем понимании основной принцип народного режима заключается в искоренении национализма, изжитии идеи и чувства родины, что влечет за собой изжитие идеи превосходства собственного народа и, следовательно, расизма. Нацизм — «народный режим» подобен свободному разуму, подчиненному идее Бога. Но осуществить этого не удалось. Под этой свободной, «спортивной» формой все, что ни есть в прусском солдате тупоголового, отлаженно-систематичного, механического, жестокого и безжалостного, проявляется еще нагляднее. На голове немецкого солдата по-прежнему неизгладим след от клепаной каски. Один из солдат держал в руке ведро. Подойдя к нам, он знаками дал понять, что хочет набрать воды. Я достаточно хорошо знаю немецкий, чтобы объясниться с этим солдатом, но все же предпочел изображать полное невежество и держаться от него на прежнем расстоянии. На языке психологии эту форму намеренного невежества можно назвать «защитным невежеством». Коль скоро инфицированные фашизмом итальянские генералы продали Италию и, безоружную, сдали ее солдатам Гитлера, у нас нет другой защиты, как не замечать, не слышать, игнорировать захватчика. Мария встала и провела немца в дом, чтобы показать, где находится водопроводный кран. Вернувшись к нам, она сказала: «Он поблагодарил меня и улыбнулся». Мария проговорила это так, словно хотела сказать: «Я повстречалась с жирафом, и жираф неожиданно заговорил». Откуда-то доносится лошадиное ржание. Эта звучная лошадиная дрожь напомнила мне, что накануне вечером немцы вошли в усадьбу Буонвино, расположенную по соседству с нашей усадьбой, и теперь загоняют туда лошадей. Из всех животных звуков ржание — как вспышка молнии среди бела дня. Есть в ржании что-то электрическое. Впрочем, в лошади все электрическое: и подрагивание кожи, и рывки ног, и внезапные бешеные взмахи головы, словно только что по ее телу неожиданно прошел разряд электрического тока. Из-за деревьев виднеется лошадь. Она привязана уздечкой к сетчатой изгороди усадьбы Буонвино. Скорей всего этих лошадей отобрали у версильских крестьян. Тем не менее моя лошадь не проявляет ни малейшего беспокойства: стоит себе преспокойненько, вовсе не так «наэлектризована», как того следовало ожидать, и лишь слегка удрученно поводит головой. Впредь я уже не стану говорить, что лошадь — это благородное животное; а тем более умное. Немецкие солдаты продолжают односложно перекликаться по всему лесу — как дикие лесные звери. Ощущение, что находишься в доисторическом мире, становится все сильнее. В чем же «необычность» этих голосов? Свежий и чистый утренний ветерок рассеивает застилавшую взор пелену: все вокруг становится прозрачным, и передо мной открывается внутренняя суть вещей. Я могу видеть сквозь листья деревьев. Могу заглянуть в недра земли. Могу открыть то, что таится в небесной глубине. Но что же таится в небесной глубине?.. Ничего. Я открываю небытие глубины. То, что заставляет нас верить в существование глубины, есть не что иное, как расстояние между нами и «некой» поверхностью. Между нами и «глубиной» нет решительно ничего, кроме ряда «поверхностей». «Глубина» — это тоже «поверхность». В это утро меня больше обычного поражает гортанное звучание немецких голосов. Пожалуй, «гортанное» лишь приблизительно передает качество звучания немецких голосов. Все разносящиеся по лесу голоса обладают одним и тем же качеством. У всех у них один и тот же «дефект». Все они звучат с некоторым «усилием». Из глубины памяти до меня долетают отзвуки разных немецких голосов. Я вновь слышу голоса немецких певцов. Голос тенора Лоренца в «Зигфриде». Все они, и голос Лоренца в том числе, имели одинаковый «дефект»: все звучали с одинаковым «усилием». Голос не выходит из гортани естественно и легко. На своем пути он должен преодолеть какое-то сопротивление, что ли, пройти через некую диафрагму. Впрочем, здесь я должен предоставить слово «специалистам». Но можно ли доверяться специалистам? Можно ли доверяться их умственным способностям? Можно ли надеяться, что в результате их исследований действительно будет сделано какое-то открытие? Немецкий голос как бы вынужден протискиваться сквозь кольцо (отверстие), слишком узкое и несоразмерное своему объему, несоразмерное прежде всего тому впечатлению, значимости, силе и «назначению», которых от него ждешь. Каждый немецкий звук, каждое слово как бы переживают предсмертную агонию. Немецкий голос исполнен внутренней воли, но его словно «сдавливают» при выходе из гортани. Он как бурный речной поток, неожиданно попадающий в жерло водопровода, выход из которого требует мучительного усилия. Немецкий голос наводит на мысль о неморожденном народе, который только недавно обрел дар речи. Этот голос болезненно недоразвит и несовершенен. В нем слышатся отзвуки голоса глухонемого. Быть может, именно здесь, в немецком голосе, который обычно называют гортанным, не углубляясь в причины этой гортанности, быть может, именно здесь кроется суть немецкой драмы. Быть может, именно в этом первопричина извечного немецкого надрыва, того «сдавленного» усилия, той воли, которая никак не может выразиться свободно и до конца и поэтому выходит из себя, свирепеет, таит гнев и злобу. Быть может, в этом причина германской «надутости», разбухлости, вспученности. Быть может, в этом причина немецкого «колбасизма». Быть может, в этом подоплека той участи, на которую обречен немец, вынужденный тратить десять, чтобы получить единицу (в отличие от итальянца, который тратит единицу, а получает десять). Всмотритесь сквозь столетия в деяния немцев: их результат никогда не соответствует затраченным на них усилию и труду, а зачастую и вовсе оказывается отрицательным; и сравните их с деяниями итальянцев: даже самые незначительные из них приводят тем не менее к внушительным результатам. Быть может, именно в этом причина немецкого истеризма. Прислушайтесь к голосу Гитлера во время его обращений к немецкому народу — и в этом сдавленном, харкающем голосе вы получите всю драму немецкой «неосуществимости». Операция на язычках немецких детей, возможно, разрешила бы проблему этого несчастного и опасного народа. (Опасного потому, что несчастного.) Своего рода «обрезание язычков». Возможно, она вывела бы немецкую расу из состояния мучительного смятения. Превратившись в свободных людей, немцы уже не будут испытывать тягу к отчаянным поступкам; они будут довольны собой, успокоятся, позабудут о своей воинственности и посвятят себя мирным делам ради своего блага и блага других людей. Думал ли когда-нибудь Розенберг[37], что единственный способ «спасти» немцев — это подвергнуть их обряду обрезания?
Impressionisti — Импрессионисты
Художники давно уже работают не в одиночку, а на пару: они и Случай. Иной раз вздремнет художник перед мольбертом, а проснется — картина уж готова: то поработал Случай. Вы скажете: значит, это не художник, а шарлатан. Ничуть не бывало. Первым, кто пригласил Случай и усадил его за мольберт как соавтора, был Леонардо. Помните его ехидные советы почаще смотреть на плывущие облака или на пятна, растекшиеся по стене? Впрочем, что может быть нагляднее такого Случая, как светотень? И какие только случайности не скрывает он за собой…
Intelligenza — Ум
Совершенный, уравновешенный, плодовитый ум — явление настолько исключительное; усилие, предпринимаемое человеком, чтобы подняться по ступенькам ума, настолько мучительно и отчаянно; вред от несовершенного ума настолько значительнее, чем вред от откровенной и незлобивой глупости, что невольно начинаешь сомневаться в истинной ценности и пользе этого хваленого, желанного ума. Не есть ли горячность, честолюбивая страсть, которые вкладывает человек в поиски ума, убедительнейшее доказательство того, что ум является чуждой, несвойственной человеку чертой? Больше всего на свете человеку хочется того, чего у него нет, чего он не может и не должен иметь. И разве в числе того, чего так страстно желает человек: любви, здоровья, богатства и почестей, — ум не есть самое большое, самое Главное Желание? С другой стороны, глупость — эта золушка, — бедная, скромная, презренная, поносимая, милая глупость является тем состоянием, к которому обращена истинная, стихийная, непреходящая, глубинная любовь человека. Если в качестве примера уместно взять любовный дуализм тех ненасытных кретинов, которые, имея жену, позволяют себе роскошь содержать еще и любовницу, то можно смело утверждать, хотя бы в метафизическом смысле, что свою сердечную склонность человек делит между Умом (любовницей) и Глупостью (женой), точнее, «спутницей жизни», ибо никогда еще это близкое по значению понятие не приходилось так кстати. Из всех разочарований ума: блажи, коварства, измен и затрат (ведь роскошная эта любовница влетает в копеечку) — только она, добрейшая и великодушная глупость, утешит нас. После всех грешков и огрехов нашей затянувшейся молодости только она, терпеливая и преданнейшая глупость, ожидает нас у домашнего очага, чтобы в сладостной идиллии разделить с нами умиротворение старости.
Liberta — Свобода
Человек борется, чтобы обрести свободу. Борется со всем, что препятствует обретению свободы. Он боролся против феодализма. Боролся против привилегий знати и духовенства (французская революция). Теперь он борется против капитализма. Ну а потом?.. Не худо бы уже сейчас знать, с какими препятствиями столкнется человек после того, как одолеет капитализм, чтобы достичь полной и совершенной свободы. Какой будет свобода после капитализма, нетрудно предугадать. Она все еще будет смутной. Что же предстоит сделать, чтобы прояснить свободу? Свобода никогда не будет идеально ясной до тех пор, пока по миру носится хотя бы слабый отголосок Божественности. Пока окончательно не угаснет последний отблеск Божественного, то есть всего того, что возвышается над человеком и представляет для него тайну, вызывает у него внутренний порыв, вдохновляет его и указывает ему цель. Свобода не будет полностью достигнута до тех пор, пока в человеке теплится еще последнее воспоминание о причинно-следственной связи, о том, что жизнь вообще и всякая вещь в частности имеют конец. Пока не будут окончательно забыты вопросы, которые человек задает себе перед фактом рождения, смерти, искусства, «тайн»: «Почему?», «Что это значит?» Пока не развеется последнее предположение о том, что вещи таят в себе смысл. Пока жизнь не достигнет состояния полной незначительности и высшей легкости. Пока человеческий разум не придет к чистому лиризму. И тогда «Илиада», «Божественная комедия», фрески Сикстинской капеллы, назидания моралистов, доктрины философов, деяния отцов общества — все, что ни есть в этом мире важного, «серьезного», «значительного», почитаемого и необходимого, будет восприниматься как музейная редкость, как документ эпохи варварства и рабства.
Lutti — Траур
Во время торжественных траурных церемоний полагалось не только надевать траурную одежду и выбривать голову, но и обрезать конские гривы, как это сделали фессалийцы по случаю смерти их полководца и освободителя Пелопида: вкруг тела его сложили они ворох всякого одеянья, снятого с противника; затем посрезали конские гривы и себе самим волосы посрезали тоже. Александр Ферейский пошел еще дальше: он не только повелел срезать гривы у коней и мулов, но также и на стенах зубцы, дабы и города казались плачущими и, как в старину, приняли бы стриженый и презренный вид (Плутарх. Жизнеописание Пелопида, 33–34). Всякое излишество есть смех. Смех — зубцы на крепостных стенах, смех — городские башни. Впредь я буду воспринимать Болонью и Сан Джиминьяно как «смеющиеся» города. Смех Турина — это шпиль Моле Антонелльяна; смех Парижа — Эйфелева башня. Смех непочтителен, поскольку являет излишек радости, а потому дразнит и оскорбляет. Возможно, именно в этом «истинная» причина того, что Мопассан терпеть не мог Эйфелеву башню и намеревался покинуть Париж, лишь бы избавить себя от созерцания cette vilenie[38]. Вот еще почему каноны градостроительства не допускают, чтобы одно здание возвышалось над другими; не очень-то приятно, когда повсюду хохочут. Посмотрите, как смеется крестьянин, человек древнейшего воспитания: он прикрывает рот рукой. Хорошее воспитание — это траур.
Madre — Мать
Рим, март 1944. Некто разыскивался полицией по одной из тех многочисленных причин, по которым в те времена люди разыскивались полицией. Однажды, когда он находился в доме своей матери, туда нагрянула полиция. Перепуганная горничная бросилась предупредить хозяйку, что в дверях стоят трое полицейских с автоматами. На что мать ответила ей спокойным голосом: «Скажите им, что моего сына здесь нет; об остальном я позабочусь сама». Полицейские не удовлетворились таким ответом и решили обыскать квартиру. Осмотрели все комнаты: ничего. Зашли в ванную: и там пусто. Однако в глубине ванной комнаты была еще одна дверь. Тогда один из полицейских поинтересовался, что там. Горничная ответила, что это дверь уборной. Полицейский рывком распахнул дверь, но тут же отпрянул с возгласом: «О, извините!» — и закрыл за собой дверь: на стульчаке сидела пожилая синьора. После того как полицейские покинули дом, разыскиваемый, которого мать поместила за дверью уборной, вышел из своего убежища. В данном случае поражает не столько смелость и хладнокровие этой женщины перед лицом опасности, сколько ее тонкий психологический расчет: она верно рассудила, что любой мужчина, даже если он полицейский, инстинктивно отшатнется при виде женщины, сидящей на стульчаке унитаза. Остается отметить то усилие, которое должна была сделать над собой пожилая синьора, чтобы задрать платье и сесть на стульчак в присутствии собственного сына. Но на что только не пойдет мать ради спасения родного дитяти?
Memoria — Память
Мы, итальянцы, говорим: «conoscere a memoria» — «знать на память» или «conoscere a mente» — «знать наизусть». Французы говорят: «Connaitre par coeur»[39]; англичане: «То have by heart»[40]. Что из этого следует? Что итальянец более склонен к умственной деятельности, чем француз или англичанин? Как бы то ни было, французская форма вызывает симпатию. Приятно, когда то, что мы знаем на память, то есть без помощи каких-то посторонних приборов или документов, мы знаем «через сердце», иначе говоря, любим; словно «помнить» означает «любить», как это, собственно, и есть на самом деле. В этом смысле английский даже точнее, так как to have by heart буквально означает «иметь в сердце». Иными словами, то, что мы помним, мы храним в самом органе чувств.
Musica (estranea cosa) — Музыка (начало чужеродное)[41]
Я видел, как дирижер упал с дирижерского возвышения. Дело было так. Я сидел в зале «Адриано» на своем всегдашнем месте — в девятом ряду, кресло номер девять. Мое кресло расположено прямо за креслом моего приятеля Габриэле. Голова Габриэле абсолютно аэродинамична, что позволяет этому выдающемуся психиатру развивать при беге очень высокую скорость. Строение черепа моего приятеля действует на меня столь притягательно, что каждое воскресенье во время симфонических концертов, как бы ни захватывала меня звучащая музыка, внимание мое постоянно переходит с плеч дирижера на череп Габриэле и обратно. Однако в то воскресенье мое внимание сосредоточилось исключительно на одном полюсе притяжения.
Сила очарования аэродинамической головы уступила куда более притягательной силе искусства молодого дирижера.
За дирижерским пультом «Адриано» я видел его впервые. Это был высокий и чрезвычайно худой молодой человек. Такая костлявая, всепоглощающая худоба обычно наводит на мысль о монашестве, аскезе, дьявольщине, магии и смерти. Он был втиснут в плотно облегающий фрак, будто вложенный в черные ножны человеко-кинжал. Длинную шею дирижера замыкал белоснежно-фарфоровый раструб воротничка. Его голова походила на голову Медузы Горгоны: длинные, черные как смоль волосы кишели на ней, змееподобно ниспадая на лоб и извиваясь перед глазами. Его конвульсивные движения напоминали судороги гальванизированной лягушки или неистовую пляску куклы-марионетки. Я был полон внутреннего сопереживания резким движениям этой медузообразной головы. Она казалась мне гигантским яйцом в руках у невидимой величавой хозяйки, которая трясет им около уха: не испорчено ли? Я боялся, что в результате этой невообразимой тряски мозг дирижера отделится от черепной коробки и начнет болтаться, точь-в-точь как желток протухшего яйца. Передо мной был гофмановский герой, чудом уцелевший персонаж «Крейслерианы», затерявшийся в этом мире рационалистов, где сами музыканты стали походить на счетоводов и упражняются в сочинительстве утонченно-птолемеевской музыки, то есть музыки холодной и рассудочно выстроенной. Дирижировал он без палочки, как будто палочка была для него помехой, препятствием, несуразностью. Его тонкие руки то взмывали, то опускались словно гигантские сухие листья, сорванные ветром, а пальцы вытягивались в невидимые нити и обвивались вокруг различных групп инструментов, подобно тому как жильные струны обвиваются вокруг колков.
Первым номером программы значился один из концертов Вивальди. Так как я опоздал к началу, то уже не мог войти в зал. Более того, из-за этого опоздания со мной произошел весьма странный случай. Вход в зал «Адриано» (вместо «вход» моя машинка напечатала «вдох»: неужели таинство каламбура подвластно и пишущим машинкам?) представляет собой двустворчатую дверь. За дверью на металлических кольцах висит плотная портьера. Так вот, приехав в «Адриано» уже во время исполнения Концерта Вивальди, я потянул на себя створку двери с намерением потихоньку проникнуть в зал и очутился в темноте между дверью и портьерой. Однако здесь я почувствовал, что из зала моему дальнейшему продвижению пытается воспрепятствовать билетерша. Положение мое было совершенно гамлетовским, а борьба через портьеру напомнила мне сцену убийства Полония. Возможно, я и одержал бы верх, но все же отказался от победы, дабы моя соперница не подумала, будто я намеренно затеял эту борьбу, чтобы пощупать ее сквозь портьеру. Снова, в который раз, моя природная застенчивость обернулась против меня.
Затем исполнялась Четвертая симфония Брамса, музыканта сурового и вместе с тем по-отечески нежного и сердечного. Какое предчувствие было у меня в тот момент? Позади дирижера на двух деревянных лакированных стойках с набалдашниками висел толстый шнур, и казалось, что сам подиум перенесен сюда из церкви специально для того, чтобы предохранять дирижера от падения. Во время первой части симфонии, по мере того как она распускала нежнейшие свои лепестки, я думал о том, насколько же безопаснее положение театрального дирижера: из оркестровой ямы торчат только его голова и плечи, точь-в-точь как у черепахи, выглядывающей из своего панциря. Я думал о дирижерах, управляющих оркестром сидя, как профессора во время лекций или как я сам, когда пишу очередную картину. Я думал о том времени, когда дирижеров в известном смысле вообще не было, а управление оркестром вверялось первой скрипке: она то звучала сама, то отмеряла такт с помощью смычка, то давала певцам сигнал к вступлению. Думал я и об оркестре «без дирижера», существовавшем некогда в России, подобно армии без генерала. Но прежде всего я думал о такой музыке, которая успокаивает, не пробуждает страстей, не опрокидывает вас волной звуков. А так как после симфонии Брамса в программе значились «Смерть Изольды», «Дон Жуан» Штрауса и еще несколько вещей столь же пылких и бурных, я невольно представил себе ровную и безмятежную программу, состоящую исключительно из менуэтов, рондо и паван. Стоит ли так безрассудно отдаваться на произвол музыкального ада?
Первая часть симфонии завершилась без каких-либо неожиданностей. По залу прокатился вздох… скорее облегчения, чем удовлетворения: так зверь переводит дух после недавнего напряжения. Затем последовала короткая пауза, и дирижер начал вторую часть. Здесь я уже чувствовал себя гораздо спокойнее, ибо сам характер этого «анданте модерато» не внушал мне серьезных опасений. В каком же именно месте это произошло? Внезапно дирижер исчез из поля моего зрения. У подножия дирижерского подиума возникла какая-то суматоха. Зал содрогнулся от резкого грохота: как по команде, все разом вскочили со своих мест — словно пшеничные колосья в результате невероятного растительного извержения. Видел ли я, как упал дирижер? Не помню. Весьма смутно я представляю себе не человека, нет, а громадную черную самописку: перегнувшись пополам и застыв в таком положении, она заваливается вперед. Целиком сосредоточившись на «анданте модерато», я как бы отрешился от происходящего. Дирижера вынесли на руках мимо опрокинутых пюпитров и расступившихся музыкантов. Поднявшийся гул словно вихрь разгуливал по всему залу. Мой приятель Габриэле обернулся ко мне и произнес:
— На эпилепсию вроде бы не похоже.
Я и сам понимал, что не похоже. С эпилепсией я знаком «на собственном опыте». Осенью 1917 года я попал в военный госпиталь № 108 в Салониках. Так как все остальные отделения были переполнены, меня поместили в эпилептическое отделение. Ночи напролет я проводил в ярко освещенной палате под неусыпным наблюдением атлетически сложенных санитаров. Как-то вечером в нашу палату привезли контуженных. Одному из них пришлось надеть смирительную рубашку. Время от времени он издавал один и тот же пронзительный, «женский» крик. Однажды ночью я вдруг проснулся и в слепящем белом свете увидел на простынной белизне своей койки совершенно белого сопалатника с соседней койки. Он бился с пеной у рта, как рыба в сетях.
— Тогда что же?
— Скорее всего липотимия, — ответил Габриэле.
Моих познаний в греческом вполне достаточно, чтобы понять: «липотимия» означает просто «обморок». Это одно из словечек тайного языка врачей. Но вслух я этого не сказал. Как не сказал и того, что знал и видел только я один. А видел я, как Музыка, словно длинная тень, нависла над дирижерским возвышением, схватила крючковатыми руками дирижера за шею и сбросила его с подиума. Затем в поднявшейся суматохе невидимая Вампирша удалилась, опустив рукава своего халата.
Музыка — это чужестранка в нашем мире, непрошеная гостья. Условия ее существования настолько отличны от наших, что всякое естественное сосуществование с музыкой оказывается невозможным. А если и возможным, то лишь при условии полного отказа от самих себя, нашей полной и безоговорочной капитуляции. И все же мы сосуществуем с музыкой. Да, сосуществуем… Но точно ли с музыкой? И каковы условия ее существования? Мы этого не знаем. Слишком отличаются они от наших условий, а наших интуитивных возможностей еще недостаточно, чтобы раскрыть их для себя. Существо музыки ускользает от нас. И будет ускользать всегда. Всегда, потому что музыка не есть что-то «наше». Музыка не входит в круг того, что составляет совокупность человеческих интересов. А механизм познания действует лишь по отношению к тому, что так или иначе отвечает человеческим интересам. Есть то, что мы знаем, и то, чего мы не знаем. Все, что мы знаем, отвечает человеческим интересам, иначе бы мы этого не узнали. Из того, чего мы не знаем, что-то отвечает человеческим интересам, а что-то нет. То, что отвечает человеческим интересам, мы рано или поздно узнаем. Это и есть медленное накопление познания, залог движения вперед. То же, что не отвечает человеческим интересам, мы не узнаем никогда. Сюда входит и музыка. Поэтому и существо музыки навеки останется для нас неведомым.
Что же это за таинственная «вещь», существующая только во времени? Каким образом можем мы установить отношения с тем, что существует только во времени, сделать его своим — создать из него искусство? Мы думаем, что владеем музыкой, а на самом деле это музыка владеет нами.
Для того, чтобы и из музыки сделать искусство, то есть подвластный ему инструмент, человек вынужден был приручить музыку, оскопить и изуродовать ее. Он вынужден был сделать земным неземное, остановить ускользающий эфир, придать форму тому, что по природе своей бесформенно. И прежде всего человек вынужден был придать музыке — этой загадке, существующей исключительно во времени, — еще и видимость существования в пространстве. И он задал ей ритм, подобно тому как взнуздывают дикую лошадь или втискивают в корсет дородное тело. В этом — громадное значение ритма в музыке. Потому что ритм располагает — по крайней мере, считается, что располагает, — музыку в пространстве, тем самым очеловечивая ее, предоставляя ей земное гражданство. Для нас ритм — это «гарантия» музыки, гарантия того, что музыка приручена, усмирена, что отныне мы можем считать ее «чем-то своим». Но абсолютна ли такая гарантия? Музыка без ритма для меня «неслыханна». Единственная музыка, которую способны вынести мой разум и мои нервы, это отчетливо ритмичная музыка, то есть музыка, отличающаяся некоей человеческой организацией и в глубине похожая на нас. Ведь ритм — это элемент человеческого в музыке, гарантия ее пребывания в земной юдоли, ее возвращения на землю, утвердительный ответ на вопрос о повторяемости всего сущего — человечнейший из вопросов. Однако по отношению к самой музыке ритм является элементом чужеродным и навязанным. Музыка переносит его с трудом и стремится от него избавиться. Именно поэтому менее ритмичная музыка (Дебюсси) есть самая «музыкальная», но одновременно и самая «нечеловеческая» музыка.
Сущность музыки настолько неуловима для понимания, что человек пробует объяснить ее с помощью доступных воображению категорий. Пифагор, например, уподобляет музыку числам («toi aritmoi de ta pant'epeoiken»[42]), Гёте представляет ее в образе «текучей архитектуры» (впрочем, здесь Гёте имеет в виду «искусственную» музыку, то есть музыку замкнутую и организованную по образу и подобию искусства), а Шопенгауэр рассматривает ее как отражение чистой воли. Но к чему пытаться познать непознаваемое?
К чему объяснять необъяснимое? Единственное применимое к музыке определение — это Вечно Непознаваемая.
И не без оснований. В непознаваемости музыки кроется причина ее силы, тайна ее очарования. И если человек с таким удовольствием поддается воздействию музыки, то происходит это прежде всего благодаря тому иному и неизвестному, что она содержит. Есть сходство между человеком, который поддается воздействию музыки, так как чувствует в ней противоположность самому себе, и смуглолицым, курчавым южанином, поддающимся очарованию молочнокожей, белокурой скандинавки, в которой он видит то, чем сам не является, но чем мечтает стать. Поддаться воздействию музыки означает подчиниться тому, что неизвестно и потому притягательно.
Наши отношения с безумной
Я отрицаю возможность иного философского решения вопроса о музыке, кроме признания невозможности его решения. Остается изучить этот вопрос как «явление психологическое». С призраками не сражаются. Наши отношения с музыкой должны определяться особыми правилами поведения. Многие ли из нас правильно ведут себя, соприкасаясь с музыкой? Опасность, которую музыка представляет для человека, требует от него некоторых профилактических знаний, коих у человека не наблюдается. Я не знаю, есть ли у музыки собственный разум, но в сравнении с тем представлением о разуме, которого придерживаемся мы, музыка — это безумное искусство, и предаваться музыке так неосторожно, как это делают музыканты и меломаны, есть также безумие. Именно безумием музыки объясняется необходимость сложной и строгой теоретической или технической музыкальной структуры, этой громадной клетки, в которую хотят заточить Жар-птицу. Но она все равно выпорхнет из клетки. Безоглядное самозабвение в музыке порождает такие формы безумия, которые не только не принимаются должным образом во внимание, но и считаются высочайшим проявлением восторга, экстаза и вдохновения. Возможно ли целиком посвятить себя искусству, которое в первую очередь преграждает путь мысли, запрещает думать? В 1915 году, когда мне было двадцать четыре года, я, будучи музыкантом, отошел от музыки из страха. Отошел, чтобы не пасть жертвой ее очарования. Чтобы окончательно не отдаться на ее произвол. Потому что на себе испытал гнетущие последствия ее воздействия. Потому что после очередного музыкального приступа я пробуждался, как от бессонного сна. Потому что музыка одурманивает и одурачивает. Потому что она делает человека своим рабом. В этом, очевидно, и заключается главная причина ее небывалого успеха, ибо в противоположность утверждениям энциклопедистов, мечтавших о свободе для человека, человеку нравится чувствовать себя невольником, находиться в рабстве физическом и рабстве метафизическом, ощущение какового музыка дает сполна.
Обо всем может мечтать человек, обо всем может он «безрассудно» мечтать. Например, об изготовлении статуй с помощью электричества. Или о сочинении звуковых поэм с помощью ветра, пропускаемого через специальные трубы. Остается только установить, что можно, что нужно и чего нельзя делать согласно неким «Правилам хорошего тона в области Искусств», которые пока еще никак не проявляются в нашей жизни и необходимость которых я так остро ощущаю. У Жана Мореаса[43], восхваляющего греческий политехнизм, спросили однажды, почему древние греки не попытались изобрести летательный аппарат. «Они не сочли это необходимым», — ответил он. В самом деле, летательный аппарат сокращает расстояния, но не прибавляет ума; разве что наоборот. Есть что-то схожее между летательным аппаратом и музыкой. Чтобы замаскировать то, что музыка является болезнью, грехом, началом по отношению к нам чужеродным и опасным для нашего здоровья — подразумевая под здоровьем совершенное овладение самими собой, — предпринимались, предпринимаются и будут вечно предприниматься попытки выдать музыку за что-то еще. За что? Ну, скажем, за «математическое построение».
Куда идет музыка? Куда устремляются звуки, проносящиеся над нами, как грозовые тучи? Не спрашивайте об этом у музыкантов: они вам этого не скажут, они не сумеют вам этого сказать. А почему они не сумеют вам этого сказать, вы прочтете в их мутных глазах, подернутых катарактой, которой заволокла их музыка.
Наверное, и у звуков своя судьба, но судьба, отличная от нашей. В этой жизни наша судьба оказывается строго кругообразной, «возвратной»; она окружает нас и наше окружение, питает нашу веру в земную вечность. Так стоит ли вмешиваться в то, что отличается от нас, и играть с этим? Настанет час, и Чужеродное Начало отомстит за себя.
Настанет час, и Чужеродное Начало разорвет свои путы и вновь обретет первозданную свободу. С наступлением вечера мы освещаем наши дома электрическим светом. В один прекрасный вечер брат Лоренцо Вьяни[44] повернул выключатель, чтобы зажечь свет в своей комнате, и рухнул на пол, пораженный электрическим разрядом: это была месть Электричества.
Тысячи и тысячи людей «играют» с музыкой. Они то отливают из нее всевозможные формы своих сочинений, то заставляют звучать ее плененный голос, то с упоением слушают пение этого укрощенного зверя. Но вот однажды, подобно длинной тени, Музыка возникает рядом с молодым дирижером, хватает его за шею и сбрасывает с дирижерского возвышения. Такова месть Чужеродного Начала.
Neurastenia — Неврастения
У Герберта Уэллса есть рассказ об одном джентльмене, который лишился удельного веса[45]. В своей комнате он либо болтался под потолком, словно воздушный шарик, либо, хватаясь за мебель, спускался на пол и, как сом, заплывал под письменный стол из красного дерева, чтобы снова не воспарить к лепнине карнизов. Когда он выходил из дома подышать свежим воздухом, ему приходилось набивать карманы свинцовыми болванками и вдобавок держать в каждой руке по чемодану с булыжниками. Всякий раз, как я сталкиваюсь с неврастениками, я вспоминаю об этом пустотелом персонаже Уэллса. Они друг друга стоят. Внешне несхожие, их «драмы», в сущности, представляют собой одну и ту же драму. Неврастеник — это тоже человек, потерявший вес. Но не удельный, а психический, что куда серьезнее. Страдания неврастеника с трудом поддаются определению. Да и сам неврастеник не скажет, что он чувствует, какая немочь его гложет. А уж описать ее он и подавно не сможет. Он словно тот новобранец, который, желая показать, что у него болит сердце, хватается за живот. Из всех болезней неврастения менее всего проявляется внешне. Это самая неясная, самая расплывчатая, самая «импрессионистская» болезнь. Что же до диагноза «неврастения», то это самый общий, самый темный, самый пустой диагноз; и надо ли говорить о том, насколько общи, темны и пусты диагнозы других болезней. Как-то раз спросил я одного знакомого неврастеника, не чувствует ли он себя пустым. Его потухший до этого взгляд мигом оживился. Блуждающие до этого зрачки остановились и сосредоточились. Он понял! И голосом чревовещателя с исповедальной стыдливостью ответил мне: «Да». Внешний вид неврастеника (неоправданная живость телодвижений, неоправданная живость ума) выявляет состояние незанятой души. И если неврастения чаще свирепствует среди женщин, чем среди мужчин, так это потому, что женская душа чаще не занята, чем мужская. Помимо того, что неврастеник пуст внутренне, он еще и чувствует, что живет «в пустоте». Экстравагантное создание, призрак, по иронии судьбы все еще сохраняющий тело с тех пор, как был живым человеком. Для неврастеника, пожалуй даже в большей мере, чем для Соломона, все — суета сует, в которую снова и снова настойчиво, исступленно, безжалостно возвращается напоминание о «чем-то необходимом», о принципах, о вере в жизнь, о законах, о точном, надежном и строго упорядоченном мире. Монотонное «почему», причем вовсе не философского толка, снова и снова возвращается к нему, словно луч прожектора, шарящий по его бесполезной, неприкаянной жизни. Сумасшествие явилось бы для него идеальным выздоровлением. Но оно неосуществимо. Что проку неврастенику в отдыхе или бодрящих средствах? Уж скорее они ему навредят. Безделье, умственный застой, «недуманье» лишь растягивают «его» пустоту. Они создают вокруг него идеальную и от этого еще более невыносимую пустыню. Меж тем как «пустота» неврастеника жаждет заполниться. Заполниться еще более гнетущей, более плотной, более тяжкой действительностью; более мрачными мысленными заботами, а может и тревогами. Невозможно представить себе неврастеника Канта. Полная душа, как полный желудок, успокаивается. Решив «превзойти» действительность, не то что отдельные люди, а целая культура, целый мир (северный мир) заболел неврастенией: он потерял психический вес, опустошился. И ныне пребывает в том состоянии, о котором все мы прекрасно знаем (Кризис).
Nietzsche — Ницше
Фридриха Ницше обвинили в том, что он вдохновил эпоху насилия. Диктаторы присвоили себе его слова. В один прекрасный день, решив сделать Муссолини приятное, Гитлер послал ему в дар полное собрание сочинений того, кто провозгласил пляску на черепе высшим завоеванием человека. Тот же Бенито Муссолини спас Nietzsches Archiv[46] от распродажи, когда тринадцать лет тому назад хранительница архива фрау Элизабет Фёрстер-Ницше испытывала серьезные денежные затруднения. В знак своей мнимой идеологической общности с Фридрихом он выслал ей чек на сто тысяч лир. На чем же все-таки основано подобное обвинение?
На распространенной ошибке в истолковании. Точнее — в стиле. Еще точнее — на распространенном недостатке умственного воспитания. Более того: воспитания tout court[47]. (Недостаток здесь в смысле defectus[48].)
Оказываясь перед живописным произведением, не воспроизводящим картины действительности, умственно необразованный человек задается вопросом: «Что это значит?»
Умственно необразованный человек во всем усматривает какую-то цель. Он считает, что всякая земная вещь подчинена определенной цели и что цель эта указана в значении самой вещи. По его мнению, чем выше интеллект и глубже ум, тем настойчивее мысль и целенаправленнее действие.
Это предположение содержит в себе и меру веры. (Каюсь в созвучии, но прошло уже то время, когда нечаянная рифма, желанная в поэзии и угловатая в прозе, вынуждала меня избегать прямой формулировки мысли.) Содержит оно и психическое обоснование существования Бога.
Умственно необразованный человек объединит ценность и цель. Он не допускает, что жизнь может и не иметь цели, что в жизни может и не быть Бога. Он полагает, что действия, «лишенные цели», свойственны людям легкомысленным или вовсе безумным. Он не в состоянии понять, что бывают и действия — «великие» действия, — лишенные всякой цели. Вследствие чего умственно необразованный человек не понимает лиризма — вещи, ясное дело, «бесцельной». Он не признает лирика как тип человека — этот «высший» тип человека.
Между тем лиризм — это форма жизни, свойство ума; это действие по ту сторону какой-либо цели, по ту сторону всего того, что принято считать целью практической, физической и метафизической жизни. (Бог тоже является практической целью; более того — главной и высшей практической целью, которую когда-либо ставил перед собой на земле человек.)
Люди смешивают то, что нуждается в цели ради самооправдания, и лиризм, который не нуждается ни в какой цели, ибо находится по ту сторону любой цели. В результате этой путаницы рождаются самые нелепые ошибки, вроде обвинения Ницше в жестокостях и злодеяниях, совершенных тоталитарными государствами в доказательство их силы, их реализма, отсутствия у них всякой сентиментальности.
Ницше — это лирик. Это типичнейший пример лирика. Это наиболее завершенная в лирическом отношении личность, которую я знаю. Равно как и его творчество, сама его жизнь суть фактические проявления лиризма. Его филологизм, его философизм, его философия молотка, его воля к власти, его политицизм, его идеи о государстве, о войне — все это тоже формы лиризма; и если я не говорю, что и сама поэтика Ницше есть также форма лиризма, то лишь потому, что в столь тонких материях рискую оказаться непонятым. Поэтому филологию, философию и политику Ницше следует рассматривать как more lyrici[49], свободные от какой-либо целенаправленности, понимаемые как игра. Ибо Ницше — лирик. И только лирик. Он остается лириком, даже когда говорит о Бисмарке или Криспи[50]. И Бисмарк, и Криспи становятся в его устах лирическими темами. Он «всего лишь» лирик, не ставящий перед собой никакой практической цели. Вернее всего будет сказать, что поэтика Ницше «отвлеченна». Отсюда и мысль его, и слово следует воспринимать как чисто лирические озарения. Сталкиваясь с ницшеанской мыслью, никогда не следует задаваться вопросом: «А что это значит?» И тем более воспринимать и истолковывать ее в буквальном смысле, применительно к «практической» и «целенаправленной» сфере деятельности. Это все равно как замешивать пироги на порохе. Или ваять статуи из пудры.
Представляю себе изумление, затем боль и, наконец, отчаяние Ницше, этого лиричнейшего из людей, перед лицом «ответственности» за насилия, войны, массовые уничтожения людей, депортации, истязания, убийства; за надругательство над духом — и «духовностью».
Быть может, именно смутное предчувствие этой чудовищной ответственности и привело Ницше к умопомешательству?.. Для этого хватило бы и меньшего.
Ничто, о темные люди, не преследует в словах Ницше ту цель, о которой «думаете вы». Хорошо бы ввести правило, позволяющее избегать этих безнравственнейших ошибок. Отделить плевелы от пшеницы. Запретить, чтобы темные люди смешивались с людьми-светочами и прибирали к рукам их «непостижимые слова».
Olfatto — Обоняние
Пока писал, маленькая стрелка часов приблизилась к часу. Правда, не так быстро, как того хотелось бы. Через дверь доносятся многообещающие запахи кухни. Еще немного — и обонятельный посул станет реальностью. Я рад, что не принадлежу к народу острова Тапробане, теперешнего Цейлона, где, по свидетельству Мегасфена[51] (посланника Селевка Никатора к царю Сандракотте, в его столицу Полиботру; а также автора записок о хождении в Индию, из коих сохранились лишь немногочисленные отрывки у Арриана и у Страбона[52]), жили люди без ртов, питавшиеся исключительно «посредством обоняния».
Prosa — Проза
«C'est la prose qui est le thermometre des progres litteraires d'un peuple»
(Stendhal: Rome, Naples et Florence)[53]О поэтическом языке сложилось весьма двусмысленное представление, совершенно не соответствующее причинам, определившим его возникновение. Поэтому не мешало бы время от времени вспоминать об этих причинах и задумываться, почему вначале человек заговорил в стихах, а уж потом только в прозе. Происхождение поэтического языка — это еще и урок скромности. Освежив в памяти эти причины, так называемый «поэтический мир» увидит, как рассеются его туманные пределы, и обретет ясные формы и четкие границы.
Человек заговорил стихами не из поэтических, а из практических соображений. Чтобы придать своим словам больше выразительности и значимости. Позднее, когда человек изобрел новый способ продления собственных слов, каковым явилась письменность, поэтический язык потерял практический смысл и, казалось, должен был исчезнуть. Тем не менее он сохранился, вопреки существованию письменности. Словно ему было досадно умирать. Поэтический язык сохранился по причинам, отличным от первоначальных, породивших его. По причинам, не столь уж необходимым, как прежде, а главное — не столь практическим. Он сохранился по тем двусмысленным и неопределенным причинам, о которых говорилось вначале. Лишившись своего практического смысла, поэтический язык изыскал тогда новый и крайне сомнительный смысл, окутал себя мистической дымкой, напустил на себя величественный, священный вид. Что, в конечном счете, не уберегло поэтический язык и поэзию вообще — как понимаем ее мы — от сильного подозрения в их полнейшей бесполезности.
О причинах, побудивших человека использовать поэтический язык до того, как он изобрел письменность, вы можете спросить у любого актера: он объяснит их лучше, чем я. Он объяснит вам, что, подобно актеру, человек говорил когда-то в другой, более высокой тональности, позволявшей его голосу долетать до самой «галерки», а слову — проникать в глубь сознания слушателя и надолго там задерживаться. Иначе говоря, поэтический язык должен был запечатлеть в памяти то, что заслуживало этого запечатления. Это была своего рода звукопись, помогавшая внушать идею божественного, прививать законы, фиксировать наиболее важные события. Не случайно законы Ликурга[54] были написаны именно в стихах.
Поэтический язык — это наиболее сжатый и емкий вид речи. Это выборка наиболее подходящих и звучных слов. Это наиболее впечатляющий и запоминающийся выразительный прием. Миллионы итальянцев помнят строку «Ты в путь корабль снаряди и странствовать пустись по миру»[55], но попробуйте переложить ее прозой — и вряд ли о ней еще когда-нибудь вспомнят. Поэтический язык — это способ загрузки словами «трюмов» памяти. Однако он требует подгонки слов под один ранжир и нередко ведет к их искажению[56]. Однажды некто попытался заставить кур нести квадратные яйца, чтобы упростить их упаковку. Поэтические слова сродни квадратным яйцам.
Затем изобрели письменность, которая должна была ознаменовать конец поэтического языка. Ведь слова сохраняются дольше и надежнее на письме, нежели в памяти, — в стихотворной форме, то есть в форме упорядоченных и размеренных фраз, иногда соединенных между собой созвучиями или равносложными словами (вспомните о сочетаниях слов с ударением на третьем слоге от конца в стихах Кардуччи). Ведь письменность не просто сохраняет надежнее, а сохраняет все и без особого труда: даже «Новую науку» Джанбаттисты Вико, даже сочинения Гегеля, даже самые дремучие, самые непролазные опусы.
Переход от устной формы речи к письменной произошел не вдруг, а постепенно. Древние греки, к примеру, перед тем как ввести у себя алфавитное письмо, уже применявшееся к тому времени семитами, пользовались топорной и тяжеловесной силлабической письменностью, отдельные памятники которой обнаружены на Кипре. Еще раньше человек пользовался идеографическим письмом, являющимся в некотором роде письменной или, вернее, рисуночной формой поэтического языка, так как она представляет для зрения тот же предметный образ, что и поэтический язык представляет для слуха. Переход от слуха к зрению также знаменует собой прогресс, совершенный человеком при переходе от устной формы речи к письменной, ибо из двух благородных чувств, зрения и слуха, зрение все же благороднее слуха. «Слух есть чувство низшее по сравнению со зрением, — пишет Поль Гоген в одной из заметок в журнале «Стихи и проза» № XXII за 1900 год. — Слух не в состоянии одновременно воспринимать более одного звука; меж тем как зрение воспринимает и в то же время упрощает все». По поводу общности между поэтическим языком и идеографическим письмом нелишне будет вспомнить, что именно к идеографической форме письма (хоть и усовершенствованной благодаря развитию письменности) вернулся Аполлинер, когда захотел вернуться к изначальным и незамутненным формам поэзии.
Однако важнее всего отметить ту перемену мышления, которую вызвало изобретение письменности. Вместе с письменностью рождается проза. Точнее — рождается мысль. Ибо поэзия не думает. Мысль — это игра сходств и различий. До письменности человек не думал; а если и думал — то образно. Он взвешивал образ в уме, а затем выражал его словами. После изобретения письменности отпадает необходимость выражать представления в поэтической форме. Мысль еще пользуется словом, но пользуется им «насквозь». Мысль уже не внутри слова; не внутри звуковой оболочки слова — она доходит до разума сквозь слово.
Сопоставим два различных психических состояния звучащего поэтического языка и безмолвного языка письменности. Звучащий язык — это язык императивов, абсолютов, догм. Он не учитывает членения мыслей, не допускает сравнений, не развивает интеллект, рождающийся как раз из сравнения.
Малограмотный человек не доверяет слову написанному — мол, все это от лукавого. Он читает его вслух, чтобы ощутить звучание слова, единственную его составную часть, которой он доверяет. Так же ведет себя и ребенок. Какие выводы можно сделать из этого примера? О чем говорит тот факт, что слово настойчиво продолжает сохраняться как звук? О чем говорит тот факт, что многие писатели, почти все писатели, больше того — крупнейшие писатели или, по крайней мере, те, кто считаются таковыми, все еще пользуются словом в его дописьменном виде? Это говорит о том, что они до сих пор не привыкли к слову написанному и безмолвному, к слову — бесцветному вестнику мысли. Это говорит о том, что они все еще не доверяют написанному и беззвучному слову. Это говорит о том, что им все еще неведомо громадное, необычайное значение прозы; значение ровного, горизонтального письма; письма, в котором у слова уже нет ни голоса, ни плоти; в котором слово является лишь средством безмолвной и почти невидимой передачи зловония и благовония мысли и потому предоставляет мыслям полную свободу действий, возможность соединяться и противостоять друг другу, поочередно стимулировать и обогащать друг друга, разветвляться и вновь сливаться в единый поток, сметающий на своем пути вертикальные и обособленные мысли; поэтому они все еще пребывают на уровне тех, кто воспевает слова, и упорствуют в этом своем анахронизме; и свободному течению мыслей, зарождающемуся из безмолвной, аморфной, безымянной и безличной прозы, они противопоставляют слово «красивое» (Д'Аннунцио) или слово «уродливое» (Верга), но при этом сильное и самовластное; слово, которое создает непреодолимое препятствие на пути читательского внимания, будто строгое предостережение, дошедшее до нас с тех времен, когда письменность еще и не родилась — та самая письменность, что смыкает человеку уста и заставляет работать его мозг.
Proust — Пруст
Всего Пруста я одолеть не смог. Из каждого цикла я прочел один, от силы два тома. Да и те не до конца. Служит ли это препятствием для оценки творчества Пруста? Не думаю. Творчество Пруста обширно, но единообразно. От книги к книге можно наблюдать, как оттачивается литературное мастерство Пруста, но не мысль и не ум его. Я же верю в совершенствование мысли на протяжении творчества одного и того же писателя. За примерами не надо далеко ходить: достаточно одного Флобера, прошедшего путь от «Искушения святого Антония» до «Бувара и Пекюше».
Я не собираюсь рассматривать творчество Пруста с поэтической стороны. Скорее — с психологической и светской. Кому-то такой подход может показаться неверным; я и сам это признаю. Но коль скоро речь идет о французском авторе, к тому же не о поэте, а о романисте, это, на мой взгляд, единственно возможный подход. Значение французского романа заключается главным образом в его историчности и документальности. Кроме нескольких авторов, кроме нескольких книг, стоящих особняком и представляющих собой знаменательные и непреходящие явления литературы со всех точек зрения и прежде всего с точки зрения поэтической (как, скажем, «Госпожа Бовари»), вся французская романическая литература свелась бы на нет, если бы не изображала «историю нравов».
В этом французы проявляют себя как народ, в котором удивительно развито чувство истории и нации. С величайшим радением пекутся они о жизни и здоровье своей расы, определяя ее черты, следя за ее изменениями, подтверждая документально ход ее истории. Впрочем, вся романическая литература, не только французская, изображает прежде всего «историю нравов». Именно такова предпосылка возникновения русского романа; ту же цель преследуют немногие немецкие романы; не отличаются от них и задачи горстки итальянских романистов (вроде Фогаццаро, Роветты и иже с ними; что же до авторов первого ряда, таких, как Манцони, Ньево и Верга, то их творчества я не касаюсь, ибо оно стоит выше весьма низкого в целом уровня «истории нравов»). Однако что мы видим сегодня? Сегодня русские находят сюжеты в Америке или на Капри (эта статья писалась в 1923 году); немцы (включая Маннов) описывают не жизнь немецкого народа, а ее иллюзорную, искусственную сторону. Что же касается нынешних итальянских романистов… Меж тем во французской литературе подобного исчерпания материала и писателей не наблюдается. Французский роман по-прежнему следует своим путем, чешет, так сказать, напрямик, точно железная дорога по заданному маршруту. Скажу больше: в то время как у нас «история нравов» остановилась на «Флорентийских хрониках»[57], во Франции хронисты невозмутимо продолжают составлять свои описи и документации. В других местах от хронистов не осталось и следа, а если они каким-то чудом и сохранились, то опустились, как говорится, до того, что освещают в газетах полицейские и больничные «будни». Во Франции же хронисты выжили и называются теперь романистами. Вся интеллектуальная французская жизнь разворачивается в виде хроники: и искусство, и литература, и медицина, и наука, и светская жизнь. Не стану спешить с выводами. И решать, достойны ли французы подражания в этой их хроникомании. Я всего лишь привожу некоторые факты. И не просто из любви к фактам, а с целью попутно проиллюстрировать творчество одного из последних и крупнейших французских chroniqueurs[58]: Марселя Пруста.
Душа и тело. 1940–1941
Преуменьшаю ли я значение писателя и оскорбляю ли Пруста, называя его chroniqueur? Не думаю. Одна из наивысших и настойчивейших похвал, расточаемых в адрес Пруста его почитателями, состоит именно в том, что в нем усматривают скрупулезного и правдивейшего бытописателя французского общества. Добавлю, что Пруст описывает далеко не все французское общество, а лишь часть его; к тому же истощенную, чахнущую, исчезающую часть. Видимо, и сам Пруст ощущал агонию того общества, которое он описывал с такой бесконечной симпатией и родственным чувством, — и вот уже в стиле хроникера проступает нежная грусть, умиленное сострадание, почтительная заботливость человека, снимающего с лица умершего гипсовый слепок.
С другой стороны, это объясняет тревогу и упорство, с которыми Пруст спешил завершить свое документально-автобиографическое сочинение. Беспокойство Пруста было вызвано не только неумолимо поглощавшей его смертью, но и боязнью не довести до конца историю его умирающего общества, память о котором иначе утратится навсегда.
Поэтому было бы неверно называть творчество Пруста автобиографическим: помимо того, что это творчество автобиографично, оно еще и биографично, даже многобиографично. Это зеркало характеров, зеркало нравов, зеркало общества. И коль скоро это общество находится при последнем издыхании и не сегодня завтра может бесследно исчезнуть, то зеркало, навеки и неизгладимо отразившее облик умершего, становится прочным залогом долгой жизни великого хроникера.
Едва ли в мировой литературе отыщется другой такой писатель, который, подобно Марселю Прусту, был бы так прочно связан со своим обществом. Мне могут возразить: а как же Бальзак? Бальзак был прежде всего фантазером, а над реальностью его персонажей витает дымка мечтательно-романтической натуры их автора. Мне заметят: а как же русские авторы? Отвечу, что, кроме Гоголя (которого, впрочем, нельзя причислять к романистам, ибо он возносится до эпоса), другие русские писатели, такие, как Толстой и Достоевский (если ограничиваться самыми крупными именами), преследовали либо социальные, либо мистические цели: искупление, постижение души и так далее. Что же касается Пруста, то он жил как вместе с обществом, так и для общества, которое отобразил в своих романах. Он не ставил перед собой иной цели, кроме досконального и законченного описания своих светских персонажей, списывая их непосредственно с натуры или же создавая похожих на них призраков. Его творчество начисто лишено заранее намеченной цели; оно не разрабатывает никакой концепции, не выдвигает никаких принципов, не ссылается ни на какую идею, не содержит никаких посылок: ни моральных, ни социальных, ни этических. Некоторые его хвалебщики утверждают (эту находку, если не ошибаюсь, следует приписать Полю Морану[59]), будто творчество Пруста отличает некая моральная, даже моралистическая направленность; а выражается она прежде всего в беспощадном изобличении Прустом грязных сторон своего общества, его пороков, его особенных нравов, половых аномалий отдельных его персонажей и в первую очередь барона Шарлюса. Однако в доскональном и обильном описании пороков вообще, и сотадизма[60] в частности, я, наоборот, усматриваю явное наслаждение, испытываемое Прустом-писателем и Прустом-человеком. Из того немногого, что мне известно о его жизни, можно заключить, что он был естественно предрасположен не к здоровой, животной жизни, а к тем ее извращенным формам, которые именуются утонченностью, изысканностью, декадентством и так далее.
В книгах Пруста, кроме собственного описания событий и типажей, ничего больше нет. Заурядная хроника. Самодельная документация. Сама литература почти исчезает у этого литературнейшего из писателей. Вывереннейший, изысканнейший стиль Пруста нацелен только на то, чтобы уплотнить документацию. А как же иначе! Ведь в конечном счете Пруст был художником и никогда не стал бы писать как афонский монах. Впрочем, знаменитая прустовская самозабвенность, с избытком насыщающая его романы; их полная неподвижность; поэтические озера, разбросанные то тут, то там среди чащобы фактов, — суть не что иное, как короткие передышки, небольшие паузы, divertissements, которые писатель предоставляет самому себе. Для того, чтобы дать выход поэтическому чувству, переполняющему его грудь. С одной стороны. А с другой — он не в силах противостоять стремлению, свойственному любому писателю, достойному этого звания, — стремлению мифологизировать реальность.
Выше я заметил, что общество, описанное Прустом, — это лишь часть всего французского общества. Другой его части тоже грех жаловаться на отсутствие усердных летописцев, снискавших всеобщее признание. В отличие от прустовской, она вовсе не собирается отходить в мир иной и проживет еще немало лет. Мало того: благодаря своим органическим свойствам она обновляется и совершенствуется изо дня в день. Возможно, именно здесь кроется причина, по которой летописцам этого живого и цветущего общества не удалось добиться значимости и славы Пруста. Покуда жив оригинал, неизвестно, как быть с его изображением. Однако, как таковые, летописцы этой части французского общества, на мой взгляд, не уступают Прусту. У наших соседей их хоть пруд пруди: тут тебе и романисты, и новеллисты; и все они — в известной мере летописцы. Даже не знаешь, кого именно привести в пример. И все же из этой ватаги я бы выделил двух писателей, которые представляются мне наиболее одаренными: Тристана Бернара и Анри Дюверуа[61]. Первый создал своими «Похождениями благовоспитанного молодого человека»[62] Великую Хартию французской буржуазии; второй в многочисленных своих рассказах отразил не меньше сторон французского общества, да так тонко, умело и правдиво, что книги его составляют достойный тандем с картинами Альбера Гийома[63] — живописца истории и нравов, этого «классического» Домье.
Добавлю в заключение, что умение наблюдать и описывать до того развито у французов, что даже те безымянные писаки, что тискают свои сочиненьице на страницах «Petit Parisien» или «Petit Journal», в сущности, представляют собой множество маленьких Прустов. Не столь утонченных и литературных, зато более живых и, быть может, полезных.
Realta (e illusione) — Реальность (и иллюзия)
В 1890 году персидский шах совершил ознакомительную поездку по Европе. Во время путешествия державный вояжер вел дневник, считающийся и поныне образцом персидской прозы. Хоть мы и не персы, но отдельные заметки из дневника августейшей персоны все же представляют интерес и для нас. «Во Франции я нанес визит бывшей французской императрице. Она стара и дурна собой, но я ей этого не сказал: зачем лишний раз доставлять ей огорчение? В Берлине я пошел в оперу в сопровождении моих визирей. На сцене были король и какая-то женщина, которая не переставая пела. Под конец ее водрузили на костер и заживо сожгли. Мне и моим визирям такая развязка доставила превеликое удовольствие». Шах остался в полной уверенности, что певицу берлинского «Опернхаус» действительно сожгли заживо. Думал ли Вагнер, сочиняя «Валькирию», что создает такую до неприличия натуралистическую мелодраму? Бездны непонимания разделяют людей. Даже если один из них — не персидский Шах.
Ritratto — Портрет
О написанных мною портретах Либеро де Либеро[64] сказал, что это те же суждения. На большую похвалу я и не рассчитывал. Портрет — это своего рода «распечатление». Раскрытие персонажа. Это «он» в состоянии сверхъясности. Это «он», каким он сам себя никогда не увидит в зеркале, каким его никогда не увидят близкие, знакомые, друзья, прохожие на улице, не подозревающие, что он такое на самом деле. Говорят, фотография точна, — фотография никогда не достигнет такой точности, такого глубинного проникновения: у нее лишь один глаз. Но и двух глаз художнику мало, ибо он поочередно смотрит то одним, то другим глазом. Художнику нужен третий глаз — глаз разума. Портреты «в три глаза» встречаются крайне редко. Сколько ни ищи, все равно ничего не найдешь, кроме Дюрера, Гольбейна… Однако подобные портреты опасны: они смертельны. Они запечатляют персонаж — будь то король или угольщик — навечно. Тем самым убивая его как живое существо. Именно нарисованный человек становится истинным, живым человеком. Другой же, подлинник, «натурщик», выпадает в осадок, превращается в мертвый вес. И если по завершении портрета у него оказывается настолько дурной вкус, что он все еще продолжает жить сам по себе, то эта его жизнь становится фикцией, ошибкой, недоразумением. Даже если, не найдя в себе мужество покончить с теперь уже избыточной жизнью, он начинает малодушно походить на собственный портрет.
Rivoluzionari — Революционеры
Когда Лев Троцкий, лишенный всех постов и лавров, следовал под конвоем к турецкой границе, к нему пробился американский журналист, чтобы взять у него интервью. Журналист застал Троцкого погруженным в чтение. «Это Анатоль Франс, — пояснил ему изгнанник. — Анатоль Франс — мой любимый автор. Он не только блестящий стилист, но и глубокий мыслитель». Когда осознаешь, что это мнение высказал профессиональный революционер, человек, который был «практиком» русской революции и теоретиком «перманентной революции», лишний раз убедишься, насколько обманчива бывает внешность и как под «революционной» коркой великого множества людей скрываются самые твердолобые, самые ретроградные, самые обывательские натуры.
Sogni — Сны
Прежде я не обращал на сны почти никакого внимания. Сознательно. Я презирал сны. Намеренно. Скорее даже из прихоти, а не потому, что того заслуживали сами сны. Я остерегался снов. Я не доверял снам, как чему-то обманчиво-легкому, манящему своей поверхностной глубиной, а на деле оказывающемуся всего-навсего абсурдной, мутной, начисто лишенной смысла игрой. (Обратите внимание на необычный, но верный смысл внешне нелепого сопоставления: «поверхностная глубина».) Я с презрением относился к тем, кто, начиная с Пифагора, верит в сны; кто верит, что из снов можно извлечь некий смысл, наставление, истину. Я не признавал то объяснение сна, которое дает Фрейд. Я не придавал значения «самопроизвольному» признанию сна как поэзии подсознательного (сюрреализм). Я испытывал отвращение ко сну; отвращение, подобное тому, какое внушает болото, подернутое прелой ряской; черная, лоснящаяся вода подземного водоема; сумрачное место, в котором вас подстерегают отвратительные твари и неведомые опасности. Я сравнивал сон — правда, скорее инстинктивно, чем осмысленно, — со средневековьем (со средневековьем как идеей и смыслом), с тем жутким и одержимым средневековьем, которое даже в самом ясном и счастливом подсне не в состоянии разродиться большим, чем «Новая жизнь»[65]. Я воспринимал возобновление снов во время нашего ежедневного сна как периодический и обязательный возврат в средние века, как периодический «приговор к средневековью», как вечный приговор к темноте, пустоте и абсурду. А главное, я отказывался признать «глубину» сна, его «черную» глубину; я, который всегда искал глубину в ясности и «тайну» превращал в сверкающую игру. Сны занимали меня настолько мало, что я вообще перестал о них думать и в конце концов вовсе о них забыл. И хотя я знал, что сна без снов не бывает (неужели этот ониризм сна и впрямь вечен?), я жил как человек, который никогда не спит, а лишь перекидывает мостик из ничего между явью и явью.
А что же теперь?..
Теперь, начиная с недавнего времени, мои сны пробуждаются, проклевываются, противостоят бденной жизни, обращают на себя внимание. Они наступают на меня и пользуются своей немотой, чтобы занять господствующее положение в моем молчании. Мало-помалу они обретают плоть и окружают меня кольцом. Мои сны охраняют меня, словно почетный караул. Сны являются мне в виде высоченных конических персонажей, очень выразительных и разговорчивых, хоть они лишены и лица, и дара речи. Раз от разу они становятся все радушнее, а главное, все убедительнее. В их манерах нет и тени навязчивости; они ведут себя исключительно по-дружески. И теперь я уже жду мои сны, жажду их, не могу без них. Что все это значит? Что таит в себе этот соблазн? Зачем снам эта власть надо мной? Сны, которых я так старательно избегал, которые с такой легкостью отгонял от себя, теперь нежно льнут ко мне и «с любовью» напоминают о себе.
Только что во сне я видел сон. По одному из главных эпизодов этого сна я назову его «drehe Horn». В нем всего лишь четыре действующих лица: Э. С., его жена Р. П., почтальон, Г. Р. (которая во сне не показывается) и я. Декорации довольно просты; как в какой-нибудь комедии Гольдони: одноэтажный домик, два окна со стороны фасада, слева входная дверь, перед домиком улица. Во сне я знаю, что в домике живет Э. С. вместе со своей женой Р. П. Я стою напротив домика, на этой стороне улицы. Замечу, что Э. С., его жена Р. П. и Г. Р. существуют на самом деле и во сне они абсолютно такие же, как и в действительности. Э. С. — это известный писатель, мой друг; во сне он так же слегка прихрамывал, как и в жизни. Единственным персонажем, которого «выдумал» сон, был почтальон; хотя и он отчасти напоминал нового письмоносца, что появляется в нашем квартале дважды в день: плечи откинуты назад, брюхо выпячено, а на брюхе — брюхатая от писем сумка; едва завидев меня на улице или в окне моего кабинета на первом этаже, он выпаливает в мой адрес громогласные титулы: «День добрый, дотторе!.. День добрый, профессоре!.. День добрый, коммендаторе!»
Сюжет моего сна крайне незамысловат. Из глубины улицы появляется почтальон, протягивает мне желтую телеграмму, сложенную пополам, и почтовую ведомость, в которой я расписываюсь. В телеграмме всего два слова: «drehe Horn». Она отправлена Г. Р. и адресована Р. П., жене Э. С. Чтобы получить телеграмму, Р. П. высовывает голову над крышей домика (единственный «ирреальный» момент сна). Затем приходят еще две телеграммы аналогичного содержания, и доставляет их все тот же почтальон. Третью телеграмму получаю уже не я, а Э. С., который тем временем, прихрамывая, подошел к двери собственного дома и собирается ее отпереть. Э. С. расписывается в почтовой ведомости с явным недовольством.
Вот и все.
Я моментально сообразил, что текст телеграммы «drehe Horn» написан по-немецки и означает «приветствую жертву». Кроме того, я подметил, что слово drehe начинается с маленькой буквы, a Horn — с большой, поскольку первое слово — глагол, а второе — существительное. Приход телеграммы ничуть меня не удивил, так как я «знал», что Г. Р. решила направить жене Э. С. несколько телеграмм одинакового содержания.
Стоило мне проснуться, как смысл телеграммы изменился. В действительности «drehe Horn» означает не «приветствую жертву», а «поверни рог». И это «поверни рог» в реальности могло быть как-то связано с действием сна, которое во сне разворачивалось между указанными персонажами, однако на самом деле относится не к Э. С. и не к его жене Р. П., а к одной моей дальней родственнице и ее мужу, занятым в настоящее время бракоразводным процессом по обоюдному согласию сторон; именно ей-то Г. Р. (в реальности связь между Г. Р. и моей родственницей существует) вполне могла бы отправить несколько повторных телеграмм такого содержания: «Поверни рог».
Если толковать этот сон, исходя из действительности, как это обычно и бывает, то в таком случае мы получаем: I — отрывок из воспоминаний о некоем реальном событии; II — персонажа (Г. Р.), который в реальности имеет отношение к указанному событию; III — двух персонажей (Э. С. и его жену Р. П.), которые во сне заняли место, принадлежащее в реальности моей родственнице и ее мужу. Наконец, мы имеем почтальона, выполняющего роль обычного статиста, и меня самого в роли зрителя. Ибо во сне понятия «зритель» и «зрелище» разделены гораздо отчетливее, чем в реальности. Для спящего человека сон является в гораздо большей степени «зрелищем» (театром, «действом»), чем для бодрствующего человека — действительность. Если бодрствующий человек смотрит на окружающие его предметы и по большей части не видит их, спящий человек не упускает ни малейшей детали из сонного зрелища.
К чему истолковывать сны, непременно исходя из того, в чем они схожи с реальностью? К чему брать реальность в качестве модели сна, а сон — в качестве отражения реальности? Эта расхожая ошибка уводит нас в сторону от истинного понимания сна. Подобную ошибку совершают женщины, которые, желая «возвыситься», повторяют то, что делают для этого мужчины.
Чтобы истолковать и поныне туманный язык этрусков, нужно «стать этруском». Так почему же еще никому не пришло в голову, что если для бодрствующего человека сон — «это головоломка», то для спящего человека сон — это не головоломка? Чтобы понять сон, нужно стать спящим человеком.
Чтобы понимать сны, нужно свыкнуться с мыслью, что не всегда шкала ценностей и значений жизни наяву соответствует той же шкале ценностей и значений сна; наоборот: во сне эта шкала зачастую оказывается совершенно иной. Чтобы понимать сны, нужно допускать, что во сне «А» может и не быть первой буквой алфавита, а 20 и 4 вовсе не обязательно составляют в сумме 24. Чтобы понимать сны, нужно отказаться от колонизации снов истинами бденной жизни. Чтобы понимать сны, нужно уважать самостоятельность сна. Чтобы понимать сны, нужно научиться особой азбуке снов; точно так же, как нужно выучить греческий алфавит, чтобы научиться читать по-гречески. Чтобы понимать сны, мы должны принять их собственные ценности и значения. Чтобы понимать сны, нужно уважать независимость снов. Чтобы понимать сны, мы не должны привносить в сон наш разум, но давать возможность сну привнести в нас свой. Чтобы понимать сны, мы должны не привносить в сон наше знание, но давать возможность сну привнести в нас свое знание. Чтобы понимать сны, нужно очистить их от всего, что не входит в их собственное знание, а является сколком нашего знания, знания бденных людей, по ошибке перешедшего в сон. Чтобы понимать сны, нужно отказаться понимать сны.
Во вчерашнем сне слились отголоски моего знания в яви и «собственное» знание сна. Следует отличать одно от другого. Ошибка психоанализа заключается в том, что он не признает самостоятельности сонного знания и считает, будто и самостоятельная часть сна состоит из отголосков нашего сознания, перешедших в подсознание, словно в надежный тайник.
Воспоминания бденной жизни, переходящие в сон, суть примеси сна, некая мимикрия сна. Загадка сна не в этом. Не в этом его главный смысл. Каковы «исконные» воспоминания сна? Из какого «хранилища памяти» они берутся? Какой «мир мыслей» вмещает и хранит их? Что это за язык, который я знаю только во сне и на котором drehe Horn означает «приветствую жертву»? То, что drehe Horn значит что-то и в немецком языке, то есть в одном из языков бодрствующей жизни, является для меня простым совпадением; если только мы не допускаем, что у языков может быть двойное значение: одно для жизни наяву, а другое для сна. Впрочем, это «слишком человеческое» предположение. К тому же оно противоречит мысли, в которой я утверждаюсь все больше и больше, что во сне все «исконно», а значит, и язык или языки, на которых говорят его персонажи.
«Р. П. высовывает голову над крышей домика, чтобы получить телеграмму». Таков единственный ирреальный момент моего сна. Замечу, однако, что мне ни разу не доводилось ощущать человека как обитателя дома — и дома как обиталища человека — столь ясно, убедительно, логично и очевидно, как при виде над крышей домика головы Р. П. (узнаваемой с первого взгляда по корзине смоляных с проседью волос, нахлобученной на макушку словно сорочье гнездо); ее голова казалась мне верхушкой самого домика, а домик — продолжением тела Р. П., облаченного в диковинный казакин. С тех пор как в моем сознании укоренился этот образ, у меня не идут из головы строки Джузеппе Джусти: «Да, здравствует Улитка//Домашняя Тварь»[66].
Для чего нужны сны?
А для чего нужны мысли?.. Для чего нам дана способность мыслить, то есть создавать то, чего нет во времени, что «никак иначе и нигде иначе не существует»? Как Россия — понимая под ней народ, не отягощенный благоразумием, осмотрительностью, здравомыслием, присущими народам, ведомым традицией, — как Россия осуществляет то, что Европа лишь мысленно прикидывает, но не находит в себе достаточно мужества, или терпения, или просто желания, или наивности, или даже неосторожности осуществить, так и сон воплощает то, что наша мысль не имеет возможности — или мужества, терпения, наивности — воплотить. Добавлю к этому — и бессознательности, отдавая должное психоанализу.
Сны воплощают то, что моя мысль — мысль бодрствующего человека — не в состоянии воплотить. Теперь я начинаю понимать, почему сны окружают меня такой любовью, несмотря на мою былую враждебность к ним, несмотря на все то отвращение, которое я испытывал к снам. Теперь я начинаю понимать, почему сны так настойчиво взывают ко мне. Для того, чтобы я сумел к ним привыкнуть. Чтобы я мог переместиться в сны. Они делают это в преддверии моего «полного» перемещения в сны.
В чем же будет разница?..
Наяву моя жизнь и без того все больше напоминает жизнь сомнамбулы. Наяву я все больше живу в своих мыслях, чем в окружающей меня действительности. Наяву я вполне уже могу назвать все факты и воспоминания моей реальной жизни «примесями» и «мимикрией» моей бденной жизни.
Мне, как никому другому, будет легко умирать, если сны — это и есть та жизнь, что ждет нас «потом». И если бы жизнь наяву не была такой рассеянной, суетной, а главное, короткой, возможно, мы смогли бы с помощью небольшого усилия и тренировки легко и непринужденно переноситься в сны, как на курорт или на отдых; и проводить там «в общении» часть отпущенной нам жизни; и назначать там встречи с далекими и близкими друзьями; и собираться все вместе под сенью радушия снов, под сенью «бессмертия» снов, как собираются в уютной, теплой и светлой комнате, когда за окном мороз, а в ночи вас поджидают дымящиеся клыки и горящие глаза волков.
Telegrafo — Телеграф
Геродот сообщает, что жители Эфеса, осажденного Крезом, сыном Алиатта, посвятили свой город Артемиде. Дабы заручиться покровительством богини, они протянули нить между ее храмом, расположенным за городскими воротами, и крепостной стеной. Как видно, телеграф изобрели гораздо раньше, чем думают. И какой телеграф!
Tolleranza — Терпимость
Язычники не ведали того чувства, которое мы называем состраданием и которое составляет одну из основ человеческого сообщества. Рожденные в мире, где уже не одно столетие твердят о сострадании, а иногда и проявляют его на деле, мы попросту не в состоянии представить себе жизнь без этого чувства. С другой стороны, язычники проявляли полную терпимость в отношении верований; примечательно, что между язычниками никогда не вспыхивали религиозные войны. Так что же лучше: сострадание или терпимость? Думаю, что присутствие второго чувства с лихвой компенсирует отсутствие первого.
Tragedia — Трагедия
Время, когда жил первый трагик, изобиловало чудесами. Герои — эти новоявленные боги — только-только воспарили к престолам бессмертия. Лишь немногие из этих мускулистых идеалистов бродили по белу свету, очищая землю от последних чудовищ. На земле, не возделанной еще мифическими трудами Цереры, свежи были следы от исполинских ног Алкида и копыт Пегаса. Связь между упорядоченной жизнью человека и беспорядочной жизнью природы еще не прервалась. Прежде чем направиться к престолам бессмертия, последний герой заповедал первому трагику истребить оставшихся чудовищ. Было условлено, что отныне истребление чудовищ будет осуществляться не на деле, а на словах. Кому-то смешно? Слово гораздо разительнее дела. Поэтому и трагедию мы понимаем не иначе как форму борьбы со злом. То, что в христианскую эпоху мы называем злом и добром, до христианства называлось природой и искусством. Трагедия — это борьба против природы как зла, которое необходимо исправить; а если исправить его нельзя — то искоренить. Это единоборство с природой, в каком бы виде она ни выступала: в форме убийства (убийство — это тоже природа), прелюбодеяния (прелюбодеяние — это тоже природа), насилия в любом его проявлении, ибо любое проявление насилия — это природа, и одного этого уже достаточно, чтобы показать, почему насилие враждебно искусству. Нужно ли после этого объяснять, отчего трагедия является первой формой искусства? Выполнив свое назначение — преобразовать природу в искусство (или, выражаясь христианским языком, зла в добро), трагедия теряет всякий смысл. И действительно: трагедии больше нет и никогда больше не будет. Все трагедии, созданные после Трех Греков[67], включая и трагедии Шекспира, — это чистая литература. В не меньшей степени, чем трагедии Кокто. Борьба со злом ведется в мире уже механически, и, несмотря ни на что, машина под названием Культура работает неустанно и безостановочно.
Возникновение трагедии по сей день окутано мраком. Творческая «необходимость» трагедии первична по отношению к творческой «необходимости» искусства и четко отличается от нее. Скажу больше: искусство исключает трагедию. Всякий истинный художник воспринимает трагическое, как Геракл — Гидру. Сын Алкмены вместе с другими укротителями и истребителями чудовищ составляют первое поколение художников Греции. Я расцениваю жертвоприношение трагоса[68], как символическое повторение победоносного «подвига», убиения «монстра», победы человека над «природным трагизмом».
Не будем забывать, что древние греки, призванные совершенствовать личность и искусство, приносили животное в жертву с помощью огня и меча (евхаристический смысл жертвоприношения в данном случае неважен). В этом они отличались от жителей Востока — египтян, индийцев и так далее, которые поклонялись животному. Одного этого различия довольно, чтобы показать, насколько чужды жителю Востока личностное начало и искусство, в силу чего он не испытывал необходимости уничтожить «монстра», покончить с «природным трагизмом»; наоборот — он пытался всячески ублаготворить «монстра», расположить его к себе, жить с ним в полном согласии, заключить с чудовищем презренный союз.
Греки — первые и единственные, кто имел в сонме своих богов художников; первые и единственные, кто видел в искусстве разрешение жизненных вопросов; первые и единственные, кто понимал, что искусство должно разрешать жизненные вопросы. Последующие поколения земных художников имеют на небе только покровителей и заступников вроде Святой Цецилии. Разница ощутима.
Трагедия как искусство начинается с Еврипида — с творчества, которое уже не является непосредственным изображением всемирного трагизма (Эсхил) или трагизма человеческого (Софокл), но представляет собой мнемоническое, интеллектуальное, ироническое, одним словом, «художественное» выражение трагизма жизни. Иначе говоря, трагедия Еврипида — это природа (зло), взятая в плен и посаженная в клетку, чтобы даже дети могли рассматривать ее безбоязненно. (Природа, сиречь зло, увиденная вблизи и по эту сторону решетки, теряет всю свою устрашающую силу, а заодно и значительную долю очарования.) Однако разумный миропорядок подтверждается только фактами; поэтому недаром за эсхиловской трагедией (непосредственным изображением всемирного трагизма) следует софокловская трагедия (непосредственное изображение человеческого трагизма); а вслед за ними — еврипидовская трагедия (опосредствованное изображение всемирного и человеческого трагизма), знаменующая начало интеллектуального искусства: нашего искусства.
Трагедии Эсхила не изобилуют нравственными идеями. Да и те немногие идеи, что в них есть, заимствованы у Гомера, жившего не в трагическую, а в культурно-интеллектуальную эпоху — щедрую, стало быть, на нравственные идеи. Лишь одна из них — идея справедливости — взята не у Гомера, а по праву принадлежит Гесиоду. Эсхилу ни к чему были нравственные идеи. Цель его произведений не доказывать, а изображать: «трагизм говорит сам за себя». Это страшная, ошеломляющая, необъяснимая сторона природы (которую никто и никогда не объяснит). Цель трагедии — изобразить именно эту сторону природы и показать, что ее нужно остерегаться, что человек должен ее уничтожить. Предтечи Эсхила славили и воспевали страшную и необъяснимую сторону природы: то был хоральный лиризм. Аттическая трагедия Эсхила преобразовала эти статичные восхваления в действо и представление; впрочем, разница чисто формальная. Покорность человека фатуму остается неизменной. Она составляет основу, доминанту, вдохновляющее начало эсхиловской трагедии. В ней нет движения идеологии. Движение идеологии придет с Еврипидом. Трагедии Еврипида исполнены отчаяния; они следуют по неизменному руслу, неумолимо устремлены к фатальному исходу. Счастливое и «желанное» для человека разрешение, триумфальная идея освобождения от фатума и одновременно прямое соединение смертных с бессмертными, жизнь, «разрешенная в искусстве», появляется лишь у Еврипида. Родившись с Эсхилом и возмужав с Софоклом, сценическая трагедия обретает художественную форму только благодаря творчеству Еврипида. Хотя теперь уже правильнее было бы называть ее по-другому.
Эсхиловский ум в большей мере воспринимает, чем творит. На него властно воздействуют чары испуга и изумления. По сути своей Эсхил был импрессионистом. Я бы не хотел, чтобы подобное определение прозвучало как оскорбление в адрес отца трагедии. Данте, Шекспир, Достоевский — эти собратья Эсхила — тоже по-своему импрессионисты. (Речь идет об импрессионистах души, а не взгляда.) Чтобы установить глубинное сходство между Шекспиром и Эсхилом, достаточно вспомнить сцену первую второго акта «Евменид». Мы чтим это величайшее варварство искусства, но вовсе не пытаемся «спасти его» от его же варварства. Варвар — это тот, кто живет, то есть воспринимает и отражает, но не думает (добавим к этому: «и не говорит»; или говорит на «другом» языке, что все равно как если бы он не говорил). Трагик не думает. Если бы он думал (творил посредством мысли), он не был бы трагиком. Мысль разрушает зло, в каком бы виде оно ни выступало, даже если это самое пленительное произведение искусства. Шекспир вызывает всеобщее восхищение именно потому, что он не думает. Именно потому, что он не думает, Эсхил пользуется безоговорочным признанием.
Эсхил был посвящен в таинства. Мы предпочитаем придерживаться оценок Аристофана, а не Климента Александрийского[69]. Нет ни малейших сомнений в том, что Эсхил был прекрасно сведущ в таинствах магии. Античная героическая магия служила для него источником вдохновения. По преданию, его обвинили в том, что он предал и профанировал таинства, выведя на сцену титанические усилия, сверхчеловеческие страдания и безумные надежды Прометея. Все его трагедии имеют магическую подоплеку, в особенности «Прикованный Прометей», трилогия «Лай», «Эдип» и «Семеро против Фив», навеянная мотивами древнейшей эпической поэмы «Фиваида» и следовавшей за ней драмой сатиров «Сфинкс». Эсхил свято верил в магическое происхождение Фив, основанных Кадмом — изгнанником великих Египетских Фив. Он верил в магическое происхождение новых Фив, которые возникли как бы сами по себе, созвучно первобытным письменам; тех кругообразных Фив, что были обнесены квадратной крепостной стеной с семью воротами, подобно семи вратам магического неба. Великие жрецы магии — это и семь полководцев: подстрекаемые Полиником («виновником раздоров многих»), они идут на приступ священного града; их щиты украшает всевозможная символика. Не будем забывать, что взаимная ненависть между сыновьями Эдипа и Иокасты возникает в сновидении.
Эсхил — не чистый грек. Азиатскость затемняет его рассудок. Должно быть, и сам он ощущал себя отчасти варваром, отчасти метеком[70]. И пытался оправдать свое происхождение. Сократ выполняет свой долг солдата как суровую необходимость: Эсхил же сражается при Марафоне и Саламине с бешеным отчаянием, «идет на рожон», словно жаждет искупить некую вину. Видимо, можно провести параллель между иноземством Эсхила и Аполлинера.
Мужество помнят его марафонская роща и племя Длинноволосых мидян, в битве узнавших его, — гласила эпитафия на могиле Эсхила в Геле.
Трагедии Эсхила просты, коротки и незамысловаты. Каждое их слово подолгу разносится гулким эхом. Все его творчество сливается в единый гул. Это древнейшее поэтическое звучание и по сей день отзывается в ушах читателя; но стоит только продекламировать трагедии Эсхила, как они теряют свой азиатский налет, кажутся приторными даже самым выносливым слушателям. Неистовые потуги эстетов никогда не смогут побороть нашу славную, мирную, плодовитую скуку.
Эсхил изобразил страшную сторону вселенной; Софокл изображает страшную сторону человека. Завеса магии пала. Фатум все еще властвует над миром, но скорее уже по инерции. В трагедиях колонезца[71] появляется новый мотив: сострадание. А вслед за ним, по нисходящей, и полный набор низменных человеческих чувств.
Внимание Софокла целиком сосредоточено на человеке как на деятельном и мыслящем существе. В «Антигоне» устами фиванских старцев Софокл прославляет добродетели своего излюбленного героя: его разум и мужество, которые покоряют силы природы. Боги и полубоги не находят признания в мировидении Софокла, во всяком случае, в качестве сценических персонажей. Лишь однажды, в «Филоктете», среди dramatis personae[72] фигурирует полубог (Геракл).
«Антигона», сделавшая своего автора префектом на Самосе, сюжетно продолжает трагедию «Семеро против Фив». Идея справедливости, предпосланная Эсхилом, находит свое развитие и разрешение в патетической драме колонезца. Вина Лая[73] достигла крайних последствий. Право перестало мигрировать. Аполлон умиротворен.
Примечание. Ницше испещрил 223 страницы, чтобы понять, как и почему родилась трагедия. Однако с ним приключилась та же история, что и с Жаком-Элиасеном-Франсуа-Мари Паганелем, рассеянным географом из «Детей капитана Гранта»: с огромным рвением изучал он испанский язык, а когда наконец довольно прилично им овладел, то обнаружил, что на самом деле выучил португальский. «Рождение трагедии» Ницше[74] — это всего лишь разговоры вокруг да около, бесконечные пересуды, длинные разглагольствования по поводу двух вдохновляющих стихий — поэзии и музыки, смысл которых не столько в том, чтобы выявить происхождение древнегреческой трагедии и определить ее природу, сколько в том, чтобы стать путеводителем по музыкальным драмам Вагнера. Скажем точнее: это всего-навсего хитроумная уловка влюбленного, ибо в период написания «Рождения трагедии» Ницше рассматривал музыкальную драму своего «великого» друга как конечную и совершенную форму трагедии, которая возникла в Древней Греции и в которой теперь произошло полное слияние драматической и лирической стихий. Стоит ли говорить, что упования Ницше не оправдались? Если мы хотим измерить ошибку Ницше с точностью до миллиметра, достаточно хотя бы вспомнить, что высшим проявлением древнегреческой трагедии он считал сочинения Вагнера, то есть наименее «греческие» сочинения, которые только можно вообразить. В одном из мест «Рождения трагедии» Ницше самого вдруг охватывает сомнение: действительно ли Гёте, Шиллер и Винкельман поняли Древних Греков «сквозь призму германскости»? Усомнимся в свою очередь и мы: а понял ли их сам Ницше?.. Отложим на время этот вопрос, тем более что позже Ницше признал свою ошибку и порвал с Вагнером. Так, может, злиться надо не на Вагнера, а в первую очередь на самого себя? В этом смысле сатрапов западной культуры неизменно отличал синдром Колумба: взяв курс на юго-восток, они полагали, что откроют Грецию, меж тем как, сами того не подозревая, открывали нечто «другое»; так и Колумб: намеревался открыть Индию, а вышло, что открыл Америку. Именно «другие» открытия Винкельмана, Гёте, Ницше и составляют истинный предмет гордости этих исследователей, не обращавших свой взгляд на восток. Что же касается Греции, то она осталась за семью печатями. В качестве доказательства неэллинизма Вагнера в нашей статье о танце мы писали о полном отсутствии в сочинениях Вагнера самого духа танца. Впрочем, тому есть еще более простое и веское (моя пишущая машинка напечатала «вязкое») доказательство: если Вагнер ставит 100, а получает 10, то Древний Грек ставит 10, зато получает 100. Как знать, может, в один прекрасный день нам суждено открыть чисто «физический» ориентализм Вагнера, точно так же как совсем недавно довелось открыть и физический германизм Льва Толстого.
Греция раскрывается перед тобой, «когда меньше всего этого ждешь». Когда распахиваешь дверь и обнаруживаешь в «той самой» заброшенной кладовке колодку для снимания сапог в форме лиры. Греция раскрывается перед тобой, когда ты разбираешь игрушку. Или наблюдаешь за безукоризненным прилеганием к шкатулке ее крышки. А особенно «не ее». Когда видишь, как на зеленом бильярдном сукне три шара из слоновой кости соединяются в безупречном карамболе. Ницше полагал, что открыл источник трагедии в противопоставлении дионисийского и аполлоновского начал. Однако ему и в голову не пришло, что в этом противопоставлении отсутствует предмет, ибо в Греции ничто не может родиться иначе как из предмета. Он не подумал о том, что в этой Стране Предметов, ставшей благодаря своим художникам Страной Игр, именно предмет порождает дух, а не дух порождает предмет. Очевидно, он спутал Грецию с окутанными мраком религиозными державами Востока, а рождение трагедии — с плывущим в водах яйцом.
Ницше было бы гораздо легче выявить истоки древнегреческой трагедии, доведись ему, как довелось на днях нам, посетить новую квартиру на виа Лима, 48, в которую въехала наша приятельница Леда М. В так называемой «парадной» комнате этой квартиры две ее стены так удачно сочетаются в форме кулис, что при виде их мы невольно воскликнули: «Здесь может возродиться трагедия!»
Только читатели, лишенные остроумия и обреченные на беспросветную серьезность (эту августейшую матерь глупости), примут за остроумие многозначительность и глубину этого «неостроумного» остроумия. Только те, кто не знает, что театр — это, в сущности, не что иное, как «салонная игра».
Для такого рода игры Греция располагала естественной и в совершенстве подготовленной сценой. На ней не нужно было расставлять таблички типа «Бирнамский лес» или «Дом Брабанцио»[75], так как, кроме естественной сцены, Греция предоставляла своим самодеятельным трагикам гору, храм, море и прочие декорации, которые поочередно служили для мук Прометея, снов Эриний или истерических припадков Электры.
Искусство — это высшая форма счастья; но счастье питается и представлением зла. В своих раковинообразных театрах древние греки наслаждались злом, представленным на сцене, подобно тому как когда-то европеец чувствовал себя в большей «безопасности», узнавая из иллюстрированных журналов о китайских реках «без русла», сметавших в своем безудержном разливе целые селения вместе с их жителями.
Вся Греция сотворена в форме раковины, обращенной закрытой спиралью на запад, а створками своих гаваней — на восток. Наверное, и первые театры располагались точно так же; задник был развернут к западу, а зев сцены — к востоку. Откуда исходят и Зло, и Трагедия.
Unita — Единство
Единство — это глубочайшее из заблуждений, в которое когда-либо впадал человек. Над поисками единства «билась» еще досократовская Греция. Но тогда, по крайней мере, каждый искал единство по-своему; а множество единств спасает от Единства, как множество богов спасает от Бога. Кроме того, досократовцы искали единство в том, что было у них «под рукой». (За исключением Пифагора, который, собственно, греком и не был. Что же до Анаксагора, то его единство, его нус[76] можно считать неким elan vital[77].) Именно здесь и кроется разгадка всей проблемы: не отрываться от того, что находится под рукой. Это первейший закон искусств. Искушенный художник знает: многое из того, что в мыслях кажется прекрасным, в пластическом воплощении оказывается никаким. Если истина существует, она не может быть чем-то, чего нельзя выразить пластически. Таков критерий не напрасной жизни. Следует остерегаться выходить за рамки пластического. В конечном счете, этим объясняется то, что лишь человек европейского типа является художником. Так, каждый человек становится художником собственной жизни, а каждая жизнь — пластическим фактом. В этом — «глубина» человека греческого типа, человека европейского типа. Его «физическая» глубина. Человек неевропейского типа (индус), не будучи художником, отваживается на прорыв за пределы пластического и проваливается в пустоту — в конечном итоге живет в пустоте. Странно! Именно в пустоте люди разместили самые прочные, самые величественные гарантии самих себя, своей жизни, своей настоящей и будущей судьбы. И речь здесь не о том, чтобы отрицать бесконечность или устраняться от нее, а о том, чтобы рассматривать бесконечность как бесконечное продолжение всего сущего, чтобы не создавать разрыва между тем, что есть, и бесконечностью, чтобы не воспринимать то, что мы называем конечным, иначе, чем то, что мы называем бесконечным. Речь о том, чтобы не расценивать бесконечность как нечто иное. Разница между европейцем и неевропейцем заключается в том, что первый рассматривает бесконечность как продолжение конечности и воспринимает их однородно; второй же проводит между конечным, то есть самим собой, и бесконечным «водораздел пустоты». Одного этого фундаментального различия достаточно, чтобы объяснить фундаментальное различие между судьбой европейца и судьбой неевропейца во всех ее проявлениях. Тем не менее европеец испытывает угрозу со стороны неевропеизма. Европеец постоянно рискует впасть в абсурд неевропеизма. А впасть в неевропейскость для европейца — это все равно что впасть в безумие. В то время как европеизироваться означает для неевропейца пристать к берегу разума, а значит, и счастья — единственного счастья, которое дано нам в этом мире. Я надеялся, что игры в истину, которые предлагает нам сегодня физика, умудрят человека европейского типа в его играх ума. И тогда он достигнет наконец такого интеллектуального состояния, которое будет свободно от абсурда и подобно самому чистому интеллектуальному состоянию досократовской Греции. Я искренне питал эту надежду еще и потому, что уже на протяжении почти ста лет многие мыслители и особенно художники, а также философские и художественные течения готовили и направляли нас к миру, свободному от абсурда. Однако я разочаровался в своих надеждах. Те же правофланговые свободы остановились, напуганные той же свободой, на которую они так уповали, и вернулись на исходные позиции, в который уже раз спасовав перед лицом Абсурда. Абсурд же, как и прежде, продолжает затуманивать европейский мозг. Выходит, лучше журавль в небе, чем синица в руках! Неужели и впрямь не прожить человеку без абсурда?
Vita — Жизнь
Первый этап (1904). Газеты полны сообщений о русско-японской войне. «Мукденское сражение» — репортаж с места событий Луиджи Барцини[78]. «Иллюстрацьоне итальяна» отводит целую полосу под цветное изображение гибели крейсера «Варяг», в одиночку сразившегося с неприятельской эскадрой. Нивазио Дольчемаре[79] водрузил руки поверх простыни и держит в них развернутый номер «Иллюстрацьоне», отпечатанный на лощеной бумаге. Вот так и рождаются ошибки: великие ошибки Истории. Фраза «Нивазио Дольчемаре водрузил руки поверх простыни» наводит на мысль о том, что Нивазио Дольчемаре лежит в постели. Ошибка. Нивазио Дольчемаре вовсе не в постели, а у парикмахера. И упомянутая нами простыня — вовсе не та самая простыня, в которую мы обволакиваемся каждый вечер, чтобы свыкнуться с ожидающей нас однажды — и на веки вечные — плащаницей, а та, посреди которой парикмахер помещает голову клиента, словно риф посреди пенистых волн, чтобы обработать ее как полагается. Умирающий крейсер изображен посреди страницы в позе оленя, окруженного собаками; из четырех высоченных труб крейсера отлетает душа в виде легкого дымка. И чудится Нивазио, будто корабль накренился не столько потому, что подвержен неприятельскому обстрелу, сколько потому, что повержен предательской тяжестью своих несообразно высоких труб, лишивших его равновесия. (Сочетание «подвержен — повержен» употреблено намеренно.) Впрочем, почему бы и нет? Как мы, перед тем как заснуть, кладем ушко на подушку («ушко-подушка» — аналогично предыдущему случаю), так и корабли, намаявшись за день, могли бы укладываться бочком на воду, то есть на свою подушку; и тогда ночью по пустынной и безмятежной морской глади плавали бы в лунном свете множество спящих кораблей и корабликов с парящими горизонтально над водой килями и рангоутами. И вот уже Нивазио Дольчемаре воображает себя маститым корабелом. Он представляет корабли без дымовых труб (начало нашего века — это эпоха Без: безлошадный экипаж, беспроволочный телеграф; в свою очередь, но уже в другом смысле «без», отмирала эпоха романсов без слов); на их месте ему видятся горизонтальные бортовые дымоотводы, слегка загнутые назад, наподобие тюленьих ласт. Кстати, сквозь все эти фантазии просматриваются некоторые зачатки аэродинамики. И все же не стоит относиться к этому всерьез: такого рода фантазии вполне на уровне «мечтаний в кресле парикмахера». Самые нелепые, самые невероятные и одновременно самые тонкие мысли приходят нам в голову, пока мы находимся в руках парикмахера. Следствие вынужденного положения, в также principium tormentorum[80]. В конце концов наши мысли — мысли пишущих людей — были бы куда блистательнее, приучись мы работать под пыткой: скажем, стоя на одной ноге, как болотная дичь, или покачиваясь вниз головой на качельной перекладине. Если мы и впрямь хотим, чтобы наши мысли были красивее, а главное, редкостнее, мы ни за что не должны поддаваться искушению и сменять неудобное положение на удобное, ибо свобода и удобство «обуржуазивают» мысль. Идеальным положением для генерирования выдающихся идей является положение Святого Лаврентия на решетке[81]; впрочем, одной решетки все же маловато: нужно еще и голову на плечах иметь. Неожиданно взгляд Нивазио Дольчемаре застилает тень: это парикмахер резким взмахом расчески откидывает челку прямо ему на глаза. Под плотной завесой волос («как у Магдалины» — думает Нивазио Дольчемаре) его мысли учащаются и заостряются; теперь это уже густой, искрящийся лес мыслей, мыслей-искринок. Нивазио Дольчемаре сравнивает свои мысли с искрящимися фантиками, в которые заворачивали тогда леденцы: стоило только их развернуть, как получался небольшой фейерверк. Затем столь же внезапно ножницы парикмахера подрезают челку Нивазио Дольчемаре, и свет вновь озаряет его глаза. Кто этот миловидный подросток с белым матовым лицом, задумчивыми, глубоко посаженными глазами и пышными волосами, ниспадающими иссиня-черными завитками на бледный лоб? Гирлянда нарисованных цветов пересекает зеркало по диагонали и раскалывает его надвое несуществующей трещиной. Чувство глубокого умиления и непередаваемого блаженства охватывает Нивазио, точно сладкое парное молоко разлилось по его жилам. Постепенно вся цирюльня начинает переливаться искрами зеркальных отражений. Благоухание туалетной воды и аромат пшикающих освежителей лишь усиливают это ощущение. Лето еще в самом начале. Вечер смягчает день. Город как-то вдруг озарился огнями. Слышны приглушенные голоса прохожих, откуда-то доносятся обрывки женской перебранки, заглушаемые трамвайным треньканьем и перегудом первых безлошадных экипажей. Нивазио Дольчемаре видит себя «таким», каким он видит себя сейчас в этом треснувшем под нарисованными цветами зеркале. Он видит свое будущее — будущее музыканта, сулящее ему славу, женщин и любовь, еще более прекрасную, чем любовь Вагнера к Матильде Везендонк. (Занавес.)
Второй этап (1924). Нивазио Дольчемаре сидит на диване рядом с Матильдой. Но не с той, некогда вожделенной, Матильдой Везендонк. Впрочем, теперь все равно не до того, ведь в мае 1915 года Нивазио Дольчемаре оставил музыку и решил посвятить себя словесности. (Петролини[82] говаривал в шутку: «Лично меня погубила война»; для Нивазио Дольчемаре — музыканта это было суровой действительностью, ибо война 1915–1918 годов в самом деле погубила его музыкальную карьеру.) Нивазио и Матильда молчат. Хотя за несколько минут до этого Нивазио о чем-то оживленно говорил. Но весь этот словесный поток был лишь продолжением других, столь же полноводных словесных потоков, изливаемых Нивазио во время бесчисленных прогулок с Матильдой по бульварам и паркам, а также бесчисленных писем, написанных глубокой ночью с бьющимся от волнения сердцем. Когда же наступило молчание, столь желанное и столь боязливо ожидаемое, Нивазио почувствовал с некоторым беспокойством (в котором, однако, не было и тени неожиданности — настолько уже проверена его неисправимая робость), что настал черед первого поцелуя. Словно в беспамятстве Матильда припадает к его груди (Нивазио уступает инициативу Матильде в силу своей робости, своей постоянной неуверенности в том, что, как и когда ему нужно делать; но это еще и хитрость, ибо робость Нивазио Дольчемаре, как в свое время робость Стендаля, превратилась в искусство, точнее даже, в оружие, которым Нивазио ловко и лицемерно пользуется). Впрочем, Матильда не просто припадает к груди Нивазио, а скорее кидается ему на грудь. Кидается так, что Нивазио непроизвольно запрокидывает голову и упирается ею в стену. В то же мгновение он чувствует, как по его затылку пробежал странный холодок, словно между кожей и стеной нет защитного слоя волос. Нивазио Дольчемаре в задумчивости замирает, и его первый поцелуй с Матильдой омрачается неприятной догадкой: «Я лысый?» (Занавес.)
Третий этап (1943). Нивазио Дольчемаре идет по неосвещенному бульвару. Время от времени он замедляет шаг и осторожно нащупывает ногой сход с тротуара на мостовую. Неподалеку от его дома из темноты к нему обращается чей-то мужской голос: «Простите, вы не поможете мне закинуть на плечо этот проклятый чемодан? С самого вокзала тащу эту громадину; совсем из сил выбился». Нивазио Дольчемаре различает в сумерках военного, а рядом с ним — огромный чемодан. Нивазио Дольчемаре готов оказать помощь. Он подходит ближе. Пока Нивазио Дольчемаре нагибается, чтобы взять чемодан, военный зажигает карманный фонарик. Осветив лицо Нивазио Дольчемаре, от неожиданности он вскрикивает: «Ой, что вы, не надо, не надо…» В ответ на изумление военного Нивазио Дольчемаре собирает все свои силы и, рискуя надорваться, хватает тяжеленный чемодан, отрывает его от земли и великолепным рывком взваливает его на плечо военного. (Занавес.)
Три этапа в жизни Нивазио Дольчемаре. Какие изменения происходили в ней от этапа к этапу! Только почему же всякий раз Нивазио Дольчемаре узнавал об этих изменениях по внешним признакам? На неосвещенной улице военный попросил помощи у прохожего; однако, увидев его лицо, он отказался от помощи старика. Да, но кто же этот старик? Нивазио Дольчемаре не чувствует, что хоть сколько-нибудь изменился с тех пор, как однажды вечером сидел в кресле парикмахера и держал в руках гибель «Варяга». А если и изменился, то теперь он ощущает себя еще проворнее, раскованнее, свободнее; теперь он готов ходить хоть по стенам. Так в чем же тогда дело? Нивазио Дольчемаре думал, что существует один Нивазио Дольчемаре, а оказалось, что их двое: один уходит, а другой остается. Нивазио Дольчемаре чувствует, что в один прекрасный день, может быть завтра, один из них, исчерпав остаток сил, распластается на земле и застынет навеки; другой же — тот единственный, кто его интересует, единственный, которого он «знает», свободно и уверенно пойдет дальше. И тогда он по-настоящему даст волю своему желанию ходить по стенам; и не только по стенам, а по горам и земным недрам, по небу и звездным россыпям; он даст волю своему безудержному порыву к безграничной свободе и бесконечной любви; и ему откроются иные узы крови, братства и любви — все узы крови, братства и любви этих и иных времен, этих и иных миров.
Рассказы
Автопортрет в детстве. 1927
Вся жизнь
…Ну и что, что я маленький?.. И потом, это по-вашему я маленький… И вообще, что значит маленький?.. Разделение на больших и маленьких выдумали вы, потому что вам так удобнее… Вы завладели всеми сокровищами мира и прячете их, боитесь, что мы их отнимем… А может, и без всякой причины — без всякой «конкретной» причины, как вы говорите… Просто из удовольствия отнимать их у нас, ведь мы можем распорядиться ими куда лучше… Думаете, я ничего не знаю?.. Вот потому-то вы и делаете строгое лицо… Думаете, я не догадываюсь, почему у вас всегда такие строгие лица?.. Вы твердите, будто взрослые — народ серьезный. Они никогда не смеются. Они вечно о чем-то думают, чем-то озабочены. Согнутся в три погибели, наморщат лоб и сидят, подперев рукой подбородок, точно кладбищенские статуи. Но я-то знаю, что на самом деле все по-другому… Вы не хотите, чтобы мы доверяли друг другу; вам нужно отгородиться от нас со всех сторон, чтобы мы не раскрыли ваших уловок… Я знаю… Ваша серьезность!.. Однажды я вас застал… Подсмотрел в замочную скважину… Нет! нет! не наказывайте меня! мне больно!.. Вы не можете меня наказывать; вы же сами говорили, позавчера, я слышал, когда я не хотел глотать этот проклятый горький порошок, вы сами сказали, что меня нельзя наказывать, потому что теперь я больной… Я подсматривал в замочную скважину, я видел… я застал вас врасплох… И вы не были серьезными, пока я на вас смотрел; вы не знали, что я вас вижу… И вы смеялись, шутили, играли, как играем мы… совсем не так, как играем мы… Иногда я неожиданно вхожу в вашу комнату, и вы не сразу меня замечаете… Но как только вы меня замечаете, у вас становятся совсем другие лица — лица родителей… Почему?.. Почему между нами вечно какая-то преграда: ее не видно, но преодолеть ее все равно нельзя?.. Почему между нами вечно эта пустота, этот страх, эта постоянная угроза?.. Может, вы чувствуете в нас врагов, точно так же, как мы чувствуем в вас врагов… Может, вы догадались, что мы хотим лишить вас власти… добраться до того, что вы от нас прячете… хотим сами стать хозяевами… Когда же вы чувствуете, что мы становимся сильнее, тогда, чтобы остановить нас, вы заявляете, будто мы больны, укладываете нас в постель, пичкаете слабительным, заставляете глотать эти гадкие порошки, запрещаете играть… Я-то знаю, что вы, взрослые, плохие… Все мы, малыши, как нас именуют, знаем это… Когда же наконец вы позволите мне ходить?.. Долго вы еще будете держать меня в постели?.. Вы опять обвели меня вокруг пальца… Каждый день мама говорила, что завтра обязательно поднимет меня… Я верил: ведь все, что вы говорите, вы говорите так уверенно, что волей-неволей поверишь… Но дни идут, а мама как ни в чем не бывало… Тогда я понял, что это пустые слова; вы, взрослые, вечно наобещаете нам, маленьким, с три короба; и ведь сами знаете, что не сдержите слова; вам лишь бы отделаться от нас, особенно если мы загоняем вас в угол и вы уже не знаете, куда деться, что ответить… Разве не так?.. Уже несколько дней мама больше не обещает, что завтра поднимет меня… Она поняла, что я понял, что она говорит неправду, и ей стыдно признаться в этом… Но я все равно встану… Я не могу больше ждать… Я понял, что от вас уже ничего не дождешься… Я встану, я должен встать… Меня ждут дела… неотложные дела… И я не могу «отлынивать» от них, как говорит папа… Я не могу больше откладывать их на потом… Да, да, дела; очень серьезные и важные… Думаете, только у вас могут быть очень серьезные и важные дела?.. Слух об этом распустили вы сами, чтобы им же и прикрываться… А все потому, что нас разделяет эта проклятая преграда… Свои дела вы называете делами, а наши — играми… А известно ли вам, что наши дела куда серьезнее, куда важнее, чем ваши… Они переделают весь мир, перевернут его… И вам страшно… Да, я встану… вы не можете мне этого запретить, только не шлепайте меня, потому что сейчас я болею… Но даже если вы запретите, я все равно встану: я встану, пока вы меня не видите, пока за мной никто не смотрит… Я должен встать… должен спуститься в сад… должен увидеть, что происходит с крепостью и лабиринтом… Когда-то я начал их строить, а вы заставили меня все бросить… вам вздумалось уложить меня в постель… Если не охранять, кто-нибудь зайдет в сад и разрушит, растопчет мою работу… Потому что вам, взрослым, нет до нее никакого дела, вы упорно не принимаете ее всерьез… Вы нарочно говорите, что все это глупости… вы хотите разрушить нашу работу, нисколечко о ней не заботясь… Я встану: я немедленно встану… Нет, лучше завтра… Завтра будет на день больше, и я стану взрослее… Взрослее и, значит, сильнее… Нет, не сегодня… Утром, когда папа ушел на службу, а мама пошла звонить врачу, возле меня осталась одна Виджиа… Вы доверяете Виджии, вы уверены, что Виджиа присмотрит за мной, как присматриваете вы… Но когда вас нет, Виджиа совсем не следит за мной и начинает клевать носом… Но ничего этого вы не знаете, и для вас это не имеет никакого значения… Все у вас так… Главное, ничего не знать, а остальное — трын-трава… Вы ничего вокруг себя не замечаете… Вы не замечаете, что мир устроен не так, как хотели бы вы, как думаете вы, а совсем наоборот… Ко вы этого не знаете, и поэтому для вас это не имеет ровно никакого значения… Виджиа дремала, и я попытался встать с постели… Хотя нет — всего лишь приподняться… Я даже высунул из-под одеяла ногу… Мне показалось, что у меня нет ноги… Я почувствовал вокруг себя пустоту… Старик с тирольской трубкой в рамке на противоположной стене окутался туманом; я не различал его лица… Вся комната закружилась, стала переворачиваться… Я рухнул на подушку… Виджиа, наверное, проснулась, потому что я почувствовал, как она укладывает мою ногу обратно в постель… Но я не умер… Теперь вы видите?.. Я не умер… Вы и на этот раз сказали неправду… Вы говорили, что стоит мне встать, как я тут же умру… Ничего подобного… Вот только комната вся закружилась, закружилась… Но завтра я стану взрослее… Взрослее и сильнее… И я встану… Сойду в сад… Буду охранять мою работу, которую не доделал из-за вас… Я должен все довести до конца… крепость… лабиринт… Там еще уйма дел, особенно в лабиринте… это трудно, очень трудно… В него можно будет войти, но выйти уже нельзя: никогда… Вот доделаю лабиринт — вернусь домой; только тогда… А может, и не вернусь… Да-да, не вернусь… Все равно до тех пор, пока я с вами, мне никогда не удастся сделать то, что хочу… Я все время у вас под пятой… Вы отговариваетесь тем, что я еще маленький, что мне надо набраться ума-разума, — и все это вы говорите так, словно произносите приговор; чтобы не дать мне сделать то, что я намерен и что никогда не смогу сделать, пока живу здесь, пока вы держите меня под пятой, пока всячески мне мешаете, пока завидуете мне, пока ненавидите меня… Я должен уехать… Я знаю… Я знаю, куда поеду… Если я скажу вам куда, вы запретите мне… Вы ответите, что все это сумасбродство и глупости… Еще бы, по-вашему, только вы занимаетесь серьезными вещами… Если я попрошу у вас разрешения уехать, вы ни за что не согласитесь… И потом, почему именно у вас надо просить разрешения?.. Зачем вообще нужно просить разрешения?.. Затем, что вы мои родители и я обязан вас слушаться?.. Так говорите вы, но кто выдумал все эти правила?.. Вы сами их выдумали, потому что вам так удобно… Но я-то понял, что эти правила выдумали вы сами, для вашего же удобства, и больше не верю в них… Я уеду и без вашего разрешения: уеду вопреки вашей воле… Если вы и впрямь такие добренькие, какими хотите казаться, если вы и впрямь так меня любите, как уверяете, то вы обязательно признаете мою правоту, когда узнаете, когда увидите, что я сделаю после того, как уеду от вас; вы признаете мою правоту и восхититесь мной. Только тогда вы поймете, кем был ваш сын и чего он стоил… Я отправлюсь по ту сторону горы… Я пройду по самой ее вершине: там, где что-то растет… Виджиа говорит, что это рощица… Но ей-то откуда знать?.. Там, за горой, раскинулся огромный белоснежный город… Я приеду туда и стану взрослым… Все ждут меня… И я буду сражаться. Один против всех… Я переделаю уйму неслыханных дел… Я буду высоким, белокурым… Все будут любоваться мной и приветствовать меня… А рядом со мной будет Матильдина… Она будет любить меня, а я буду ее защищать… И такой будет вся жизнь… Изумительной… Вся жизнь…
— Почему он замолчал?
— Он умер.
Выродок
Кончено. Мертвая тишина опустилась на дворец. Триумвиры революционного комитета — три охотника после удачной охоты — восседали за необъятным мраморным столом. Опасно затишье после яростной битвы. Недавнюю слепоту сменяет прозрение. Одного только жаль: «кровопийцы, сосавшие народную кровь», сами отдались на растерзание…
— Как ягнята! — проревел Калькокондилли, хлестнув плеткой по голенищам сапог.
Голос тираноубийцы угас. Тишина сжала стены так, что они заскрипели. Мертвые мстят за себя. Этой опасности никто не предусмотрел. Чтобы как-то приободриться, верзила Ракич взгромоздил ноги на изысканный стол, за которым едали в свое время министры и послы. В его лице, отягощенном несоразмерной челюстью, проступало что-то звериное. Ракич запахнулся в овчинный тулуп. Где-то за стенами дворца еще кипела резня. Но как выйти из этого зала, как выбраться из него? Королевские стулья с высокой спинкой заключают тебя в объятья вампира. Под окнами — невозмутимый сад. И ни одной вороны на снегу!
— Тут и того — окочуриться недолго, — проворчал верзила. — А что, водка в этом чертовом логове имеется?
— Людей-то мы, худо-бедно, перебили. А вот как быть с вещами? — вмешался желтолицый Еретов, поднимая воротник шинели.
Илья Калькокондилли уставился на носки своих сапог из свиной кожи. Он что было мочи напрягал взгляд, но ничего не видел. Его мысли застопорились на «мести мертвых». Из глубины своего молчания и неподвижности они протягивают руку и разят наверняка.
— Тсс! Слышите? — прошептал Еретов с дрожью в голосе. Трое революционеров разом обернулись: откуда-то из тишины долетали отголоски непристойной песенки.
Мирко Ракич вразвалку вышел из зала и тут же вернулся: оказалось, что горланил красногвардеец, драивший парадную лестницу. Глаза Милана Еретова сверкнули: это известие он принял как предзнаменование.
— Заткни ему глотку! — взревел Калькокондилли.
— Не трожь, — процедил в ответ желтолицый. — Это песня нашей свободы.
Илья Калькокондилли склонил голову. Ему вспомнилась сцена убийства. Убийство тирана свершилось мгновенно. Сколько в этом было позерства! Он стоял один, в парадном костюме, выпрямившись во весь рост перед троном. Не было сказано ни единого слова. Пораженный залпом из десяти револьверов, он молитвенно осел на колени и покатился по ступенькам трона, зажав меж ног свою саблю. Красногвардеец продолжал петь.
Наследника престола застали в банном халате в тот момент, когда он брился. Если бы мятежники не увидели этого собственными глазами, ни в жизнь не поверили бы, что наследник бреется сам. Он обернулся на шум у двери и улыбался, точно в ожидании шутки. Красногвардеец всадил ему штык прямо в рот. Наследник рухнул как подкошенный, даже не вскрикнув. Мыльная пена окрасилась кровью.
— А где же тиранша? — выпалил Калькокондилли. — Если не прихлопнем тираншу, революция пойдет прахом.
Революционная ненависть мятежников сосредоточилась на этой мерзкой и неуловимой женщине; на той, которая под надменно-непроницаемой красотой изваяния таила нрав развратной Мессалины[83] и свирепость гиены. Так передавали люди, видевшие ее воочию и хорошо ее знавшие.
Затем слово взял Еретов:
— Пока вы шарили по верхам, я сбежал вниз: присмотрю, думаю, за входом. Примостился, значит, сбоку от парадной лестницы и жду. Вдруг мимо меня как ураган пронесся. Сам я тираншу отродясь не видывал. Ну а тут такое дело… Короче, пальнул я наугад. Она и шмякнулась. Навзничь. На ней, значит, рубашка. Сама — простоволосая. Упала — и покатилась по лесенке-то — аккурат до того места, где я засел. Кровищи… Все ступеньки залило. Вот теперь, значит, отмывают…
И он указал в сторону парадной лестницы: песня смолкла. Еретов замер. От неожиданной тишины он осекся на полуслове. Судорожным движением потуже затянул ремень на кожанке.
— Ты чо? — осведомился Калькокондилли.
— Я? Ничего! — проблеял в ответ Еретов, нелепо вытаращив глаза.
Легкий, но отчетливый шум повторился. Теперь уже все трое затаили дыхание. Калькокондилли вскочил со своего места и прилип к стене. Рукой он указывал на ковер. Ракич и Еретов сидели не шелохнувшись.
— Там! Там! — прошипел Вождь.
Ракич приподнял ковер. Под ним оказалось кольцо люка.
— Пусть поет! Пусть поет! — рявкнул бородатый верзила и неожиданно затрясся в приступе сумасшедшего хохота. Никто не стал его успокаивать. Он обезумел от страха.
Откинув крышку люка, мятежники один за другим стали спускаться по винтовой лестнице, уходившей во тьму подземелья. Впереди шел Калькокондилли; в одной руке он держал револьвер, в другой — ту самую плетку, которой загонял народ на свержение тирании. Воздух подземелья был пропитан эфиром.
— Дай-ка фонарь.
Ракич достал из тулупа карманный фонарик и протянул его Вождю.
— Ладно, уже не надо.
По подземелью разливался тусклый свет. Постепенно размытые очертания стали вырисовываться отчетливее. Подземелье выходило в сад.
Чахлая металлическая растительность замерла в призрачной неподвижности. Едва кто-то задевал за листья, как они позванивали, словно колокольчики. Зеркальный свод подземелья отражал футбольный мяч, лошадку-качалку, разбросанные на песке игрушки.
— Ну и местечко! — пробормотал Калькокондилли.
Листья вырванного с корнем кустарника зазвенели хрустальным переливом.
— Вон оно! Вон оно! — завопили в один голос Милан Еретов и верзила.
Родители. 1947
«Оно» прошмыгнуло так быстро, что никто не успел разобрать: человек это или зверь. Калькокондилли наудачу жахнул из револьвера. Выстрелы разнеслись глухими деревянными хлопками. Рядом заливался водянистой трелью соловей, отбивая такт хвостом и металлическим клювом. Трое преследователей пересекли сад и вошли в анфиладу хрустальных комнат. «Что-то» убегало по гулкому подземелью. Его бегство сопровождалось глухим звуком отодвигаемой старинной мебели. Раскидистые буфеты поблескивали диковинными глазастыми игрушками. То тут, то там были разложены старые географические карты с плывущими по морям каравеллами и островерхими башнями городов. Рядом с мудреными механизмами для научных потех распузились исполинские глобусы. Чуть поодаль вытянулись, словно трупы повешенных, обвислые марионетки; свисали с потолка фрегаты с поднятыми парусами и флагами; сверкали гимнастические снаряды.
Наконец они добрались до последней, тупиковой комнаты, цвета морской волны. Присев на глянцевом полу, «тот самый» поднял руки и нежно поглаживал бедра огромной стеклянной куклы.
Калькокондилли прицелился — и куклу разбрызгало на мелкие осколки. Обезьяньим прыжком возлюбленный куклы взлетел на шкаф и замер в ожидании, слегка подавшись вперед. Из всех углов, с настенных полок и из книжных шкафов прочие стеклянные куклы уставились на своего маленького хозяина сверкающим, острым взглядом. Калькокондилли поднял плетку и указал на странное существо:
— Выродок!
— Стало быть, это не байки? — прохрипел верзила.
— Ясное дело, не байки, — заключил Еретов.
И тут все трое вспомнили то, что раньше казалось сущей небылицей: таинственные любовные похождения тиранши, ее неслыханные совокупления с судомоями, неграми из колониальной гвардии, племенными жеребцами из королевских конюшен.
Коротенькие ручки уродца едва доставали до бедер. Туловище венчала плоская голова со скошенным лбом. Ноги полусогнуты, как задние конечности четвероногих. Перепончатые, шириной с ладонь ступни. Длинные, словно окостеневшие брови. Два огромных зрачка подрагивали в такт раскачиванию головы. На уродце была желтая шелковая безрукавка. Дряблая кожа живота фартуком свисала до самых колен.
— На кой черт его тут держать? — вырвалось у Еретова.
— Не забывай, — объяснил Калькокондилли, — что тиран был большим любителем всего м-м… классического. И это «чудище» при собственном дворе вроде как напоминало ему про всяких там Минотавров, что водились у этого, как его, царя кипрского Миноса. Тиран мнил себя шибко образованным и был донельзя самолюбив.
Верзиле не по вкусу были все эти дедовские побасенки про Минотавров, и он попросту вынул из кобуры наган.
— Ну так как? Кончать его, что ли?
— Отставить! — зычно скомандовал Калькокондилли. — Оно нам еще пригодится. Мы выставим его на всеобщее обозрение в Музее Мракобесия. Освобожденный народ должен видеть, каких ублюдков плодоносило чрево той, которая одним своим взглядом решала казнить или миловать.
Калькокондилли подошел к шкафу и ткнул концом плетки в живот мерзкого чудовища. Оно отпрянуло к стене, раскинуло руки и протяжно зашипело.
— Пошли отсюда! — надсадно вскрикнул трибун, кривясь от ужаса.
* * *
Когда юный Калькокондилли вышел из дворца, никакой революции уже не было: революции вообще никогда не было.
Тем временем «выродок» — красавец блондин, подпоручик лейб-гвардии гусарского полка, — брал в долг три тысячи крон у первой фрейлины тиранши, поскольку накануне — так, по крайней мере, он уверял эту женщину, тоже, кстати, его любовницу, — он все напрочь спустил за карточным столом в баре «Люкс».
Старый рояль
Кавалер Путиньяни, синьора Путиньяни и синьорина Путиньяни вышли на виа Рипетта. Здесь глава семейства передал командование мини-отрядом синьорине Ильде.
Она лучше всех знала этот район и вскоре подвела папу с мамой ко входу в Филармонию.
Привратник не стал вдаваться в излишние расспросы и только отрывисто бросил:
— Насчет рояля?
— Совершенно верно, — пробормотал в ответ кавалер Путиньяни, пораженный такой прозорливостью местного стража.
Возглавляемые облампасенным ясновидцем, трое посетителей проследовали через монастырскую наготу длинного коридора и вошли в небольшое помещение, отведенное для концертантов.
Красный диванчик и пара кресел прижались друг к другу на прямоугольном островке ковра, словно потерпевшие кораблекрушение. Рощица пюпитров вздымала к потолку обнаженные ветви. Зачехленный контрабас спал, подпирая грифом стену. Стены комнаты были сплошь увешаны изображениями пианистов, сгорбленных над клавиатурой, точно велогонщики на подъеме, скрипачей, приросших щекой к скрипке, и виолончелистов с зажатыми меж ног виолончелями. Дождем ниспадали на диван пожелтевшие ленты лаврового венка.
— А вот вам и инструмент, — возгласил привратник и привычным движением обнажил клавиатуру черного рояля.
Синьора Путиньяни с восхищением взирала на изумительную челюсть инструмента.
— Немецкая работа, — добавил привратник. — Перекрестные струны, войлочные подушечки — все как одна новенькие. Другого такого вам не найти!
— Надо бы опробовать, — заметил кавалер и кликнул дочь: — Ильда!
Ильда меж тем прошла в глубь комнаты и, насколько это позволяла кармазиновая портьера, заглянула в концертный зал. Под серым чехлом, в омовении холодного света, струившегося откуда-то сверху, на сцене возвышался преемник низложенного рояля.
— Ильда, — повторил кавалер. — Сыграй нам что-нибудь!
Ильда стала отнекиваться:
— Да я не умею… да у меня ничего не получится, — и, словно курица, выклевывающая блох, нырнула подбородком в слабенькую грудь.
— То есть как! А «Любовный трепет», а «Воспоминание о Капри», а «Идут берсальеры», те самые, что ты все время играешь у тетушки Клотильды?
Но Ильда только вихляла задом и выламывала за спиной голые руки.
— Да ладно, не надо, — вмешался раздраженно привратник и, проведя большим пальцем по всей клавиатуре, извлек из нее ручеек звуков. Ручеек еще долго журчал в вышине, затем начал удаляться и наконец иссяк.
Зачарованные, Путиньяни молчали. И вдруг другой ручеек звуков, приглушенный и таинственный, донесся из концертного зала: это молодой рояль прощался с уходившим навеки ветераном.
* * *
На следующий день лестница дома, где жили Путиньяни, огласилась страшной руганью. Усилиями бригады грузчиков рояль взбирался наверх черепашьим шагом.
На лестничной площадке пятого этажа изрыгающий проклятия кортеж окончательно застрял: дальше лестница сужалась настолько, что не то что этот мастодонт, но и узенький спинет не вписался бы в ее пролет.
— Хозяин, дальше дело не пойдет, — заявил бригадир грузчиков. Робея в присутствии вышедших на лестницу жильцов, кавалер Путиньяни посулил грузчикам неслыханные чаевые.
Бригадир успокоился, и с помощью хитроумной системы веревочных блоков старый рояль медленно выплыл из окна, покачиваясь в пустоте. Затем он опустился на открытую террасу, всю в цветущей герани, и наконец вошел в гостиную Путиньяни.
* * *
Под умиленными взглядами кавалера Путиньяни и синьоры Путиньяни маленькая Ильда играла гаммы, то поднимаясь, то опускаясь по ступенькам звуков.
* * *
Мука.
Гаммы мажорные и гаммы минорные, гаммы мелодические и гаммы гармонические, гаммы в терции и гаммы в сексту, гаммы в октаву и гаммы хроматические.
Терзание.
Кончив играть гаммы, маленькая Ильда приступала к упражнениям Пишны, особо рекомендуемым для разминки пальцев.
Пытка.
После упражнений Пишны юная пианистка переходила к шутливой сонатине Куллака.
Страдание.
* * *
Старый рояль содрогался от негодования. Он, которого за время его славной карьеры касались пальцы Падеревского и Бузони, на старости лет вынужден терпеть эти неумелые, вялые ручки! И в долгие ночные часы одиночества, в окружении бархатных пуфиков и бумажных цветов, бронзовой собаки с зажатыми в пасти часами и увеличенной фотографии молодого Гоффредо Путиньяни в форме берсальера, рояль воскрешал в памяти былое.
Из многих музыкантов, которых он знал, лишь тот худощавый пианист — поляк или чех, он точно не знал, но, во всяком случае, иудей — лучше других умел его укрощать. Под молотящими ударами тех костлявых пальцев тогда еще молодой и полный сил инструмент трепетал как живой.
Ах, что это были за мгновения! Когда же пианист, весь мокрый, пошатываясь, вставал из-за рояля, струны еще продолжали дрожать под шквал аплодисментов.
Все это вспоминал старый рояль. И в страстном желании вновь почувствовать на своих пожелтевших клавишах прикосновение тех славных пальцев его корпус скрипел, словно дуб во время бури, и далекая, таинственная музыка пронизывала длинные металлические струны.
* * *
Коммендаторе Корпас, проживавший этажом ниже, встретил на лестнице кавалера Путиньяни.
— А знаете ли вы, что ваша дочь — необыкновенная пианистка?
— Ну, это еще только начало, — расплылся Путиньяни в благодарной улыбке. — Девочка она старательная и свое возьмет.
— Какое там возьмет! Да она просто гений, настоящее чудо! Вчера мы с женой буквально наслаждались ее игрой. Какая мощь! Какая легкость! Какая глубина чувств!
— Вчера? — озадаченно переспросил кавалер. — Но ведь вчера мы были во Фраскати…
* * *
За похвалами коммендаторе Корпаса посыпались дифирамбы от синьоры Струа с четвертого этажа; затем — от нотариуса с третьего, от бухгалтера со второго, от акушера с первого, от консьержки, от других соседей. Последние сомнения кавалера Путиньяни рассеялись. Фортуна улыбалась ему. В уме служащий налогового ведомства уже составлял прошение об отставке на имя мерзавца начальника.
* * *
Воскресенье. Семейство Путиньяни возвращается с утренней мессы.
На третьем этаже в душу кавалера закрадывается подозрение. На четвертом подозрение перерастает в уверенность. На пятом Путиньяни прижимает к себе жену и дочку. На пороге своей квартиры он шепчет:
— За мной, на цыпочках! — и распахивает дверь в гостиную.
* * *
На глазах у ошеломленных членов семьи Путиньяни старый рояль воспевает былую славу. Головокружительно подскакивают клавиши, длинные арпеджо проносятся по всей клавиатуре, корпус дрожит, как паровой котел, хвост рояля раскачивается, как у плывущего кита.
И музыка усиливается.
Басы лопаются с пронзительным визгом, струны извиваются словно змеи, молоточки фонтаном брызжут из корпуса рояля, войлочные подушечки реют по гостиной.
Музыка доходит до апогея.
Неимоверным усилием старый рояль поднимается над полом, повисает в воздухе и, выбив застекленную дверь, вдребезги разбивается о террасу.
Музыка смолкла.
* * *
Так, мягким осенним полднем, на террасе, сплошь в цветущей герани, старый рояль завершил свою славную карьеру под небом прозрачным и чистым, как око богини.
Домашний концерт
Весна 1944 года подходила к концу. Ночной Рим спал при погашенных фонарях. Приземистые ограды его парков протянулись длинными рядами беззубых десен: их железные решетки выкорчевали на военные нужды. Мы вынуждены были жить в условиях войны, противной самому нашему естеству, и напоминали людей, собранных в некоем здании, которому, ни для кого не секрет, суждено было рухнуть. Тем не менее эти люди сохраняли свойственные им присутствие духа и отрешенность от материального мира. Высшее доказательство незыблемости жизненных устоев.
В тот год, перед тем как уединиться на лето в своем хлебородном умбрском имении, мой друг Иджео Сиделькоре по обыкновению решил собрать у себя на вилле, что неподалеку от базилики Святой Аньезе, компанию старых друзей. Вилла Сиделькоре входит в знатное семейство прадедовских особняков, окруженных благородными деревами. Особняки эти, подобно стаду исполинского пастуха, рассеяны в нижнем течении виа Номентана. Владельцев виллы в свое время освободили от уплаты налогов, так как росшие в их садах эвкалипты были признаны действенным профилактическим средством против нашествий одноклеточного паразита, известного под названием плазмодий, и представляли собой целебный щит на подступах к городу.
Вечера в доме Сиделькоре были известны всему Риму; часто на них исполнялась изысканная, редкая музыка.
Я пришел чуть позже назначенного часа. Обе гостиные кишели народом. В гуще приглашенных я приметил сицилийского князя, слегка перекошенного на сторону по причине искривленного позвоночника; испанского пианиста, болтливого как сорока и проворного, как рекордсмен по машинописи, что выяснилось чуть позже за клавиатурой «Стейнвея»; искусствоведа Эрмете Фавонио в сопровождении дочки и еще пару мелких сошек. Среди последних выделялась одна девица необычайно высокого роста, изогнутая вверху, словно скрипичный гриф, к ней никто не подходил, настолько казалось, что она где-то там, в вышине, пепельно-русая с оттенком седины, окруженная ореолом изумления.
На столике рыжего мрамора, окаймленного бронзовым узором, вздымавшемся на четырех газельих ножках, рядом с роскошно переплетенным томиком «Дуинезских элегий»[84] покоилась партитура «Персефоны» Стравинского, небольшая книжица лондонского издательства «Честер».
Не чувствовалось еще ни всеобщего сближения, ни теплоты общения. Гости вяло блуждали из одной гостиной в другую без всякой видимой цели, напоминая то ли аквариумных рыбок, то ли причудливо вздыбившиеся парусники, которым никак не удается зайти в порт. Иные, более решительные, пробирались в глубь дома, вплоть до атриума с мозаичными дельфинами; изогнутая лестница вела оттуда в верхний этаж, где, словно распятые, раскинулись на кроватях полосатые пижамы и пенящиеся кружевами длинные рубашки, ожидая с распростертыми объятиями своих ночных обитателей. У подножия лестницы, оперев большой палец ноги на низкий мраморный пилястр, быстроногий Меркурий держал в вытянутой руке светящийся шар.
Атмосфера вечера продолжала оставаться холодной. Создавалось впечатление, что собравшиеся в этих гостиных не могут установить причину, по которой они собрались. Иджео Сиделькоре переносил от одной гостьи к другой свое лицо — нечто среднее между подсолнухом и электрическим скатом; свои глаза — глаза сказочной ночной птицы; свой голос, слегка приглушенный, будто перед тем, как преодолеть изгородь зубов, он пробивался сквозь невидимую пергаментную диафрагму. Каждую, точно цветами, он одаривал букетиком приветливых, узорчатых слов. На лицах мужчин застыла отрешенная улыбка, какая бывает у полузнакомых или вовсе не знакомых людей. Что до меня, то, немного полавировав из гостиной в гостиную, я пришвартовал свой челнок к двойному бую в лице профессора Фавонио и его дочки и был счастлив завести ученую беседу с этим выдающимся искусствоведом. Это была моя первая встреча с Эрмете Фавонио. Однако, будучи наслышан о его громкой славе, общепризнанном глубокомыслии и непререкаемом авторитете, особенно по части нашей живописи Кватроченто и Чинквеченто, я испытывал рядом с ним такие же ощущения, какие может испытывать разве что утлый челн, причаливший наконец после долгого и изнурительного плавания к живописному приморскому городку с белоснежными строениями и пышно цветущими садами вдоль берега прелестного залива.
Эрмете Фавонио начал говорить, и в какое-то мгновение мне почудилось, будто загадочный туман опустился между нами. Впрочем, вскоре я убедился, что туман этот образовался из самих речей Эрмете Фавонио, который ни бельмеса не смыслил в искусстве и, как жемчужины в ожерелье, нанизывал одну несуразность на другую. Кроме того, у него был больной желудок, а также неприятная манера подносить к собеседнику лицо гораздо ближе, чем следовало бы. Дыхание искусствоведа, веявшее при разговоре с ним мне в лицо, казалось, исходило не из человеческого рта, а из клоаки. Я попытался заговорить о Рафаэле, так как знал, что несколько лет назад Фавонио опубликовал об этом художнике краткую монографию, прослывшую «исчерпывающей». При упоминании о Рафаэле Эрмете Фавонио снисходительно улыбнулся и кивнул в знак согласия поддержать беседу. В этот момент его дочка, казавшаяся мне дотоле воплощением простоты и невинности, прервала робкие отцовские потуги на красноречие в самом их зародыше и с горячностью, невообразимой для столь кроткого внешне создания, принялась доказывать, что Рафаэль — это «пройденный этап» и что только начиная с Сезанна вообще можно говорить о живописи.
Профессор Фавонио время от времени утвердительно кивал и улыбался благосклонной и слегка застенчивой улыбкой. Я буквально оцепенел. Я полагал, что увижу перед собой жреца искусств, а вместо этого обнаружил эдакого сикофанта[85], который глумился над общепринятыми истинами и потакал дешевой фанатичке модернизма. Я отошел от них, во-первых, чтобы более не слышать всей этой галиматьи, во-вторых, чтобы не вдыхать изо рта этого уникального искусствоведа зловонный душок продуктов питания, разлагавшихся в его желудке. Направляясь в глубь первой гостиной, я поравнялся с госпожой Сиделькоре, любезно беседовавшей с супругой перекошенного князя. Госпожа Сиделькоре — низенькая пожилая дама с кротким, телячьим нравом; проходя мимо нее, даже я при своем средненьком росте смог взглянуть на нее сверху и с бесконечной нежностью увидел сквозь редкие седые волосики череп новорожденного младенца.
Я остановился у рояля, облокотился на глянцевую черную крышку благородного инструмента и подумал о голове наших матерей. Я подумал о голове наших старых матерей. Я подумал о голове наших старых матерей, что оголяется и уменьшается изо дня в день и в конце концов превращается в крохотный розовый бутон. Он венчает их жалкое тело, дрожащее и прозрачное, из которого локтеподобно выпирают наружу угловато-остроконечные кости. И с куда большей грустью подумал я, что в один прекрасный вечер этот крохотный розовый бутончик склонится на подушку да так неподвижно и замрет на ней.
Я подумал о том, как по окончании этого вечера госпожа Сиделькоре поднимется по изогнутой лестнице в свою спальню; как она, этот крошечный скелетик, которому недолго уже осталось ходить, есть и говорить, юркнет в ночную рубашку, ожидающую ее на кровати с распростертыми объятиями; как завяжет она на своей голенькой головке цветастую косынку; как ляжет почивать с мыслью о живом сыночке и о двух мертвых дочках; с нелепым кроликом на голове, навострившим оба уха прямо над ее лбом, чуткая к шагам Той, которая должна явиться с минуты на минуту. Глядя на нее и оставаясь при этом незамеченным, я мысленно с ней попрощался: «Доброй ночи, госпожа Сиделькоре».
Госпожа Сиделькоре любезно беседовала с супругой перекошенного князя и все это время не теряла из вида своего сыночка Иджео. Ее кроткие телячьи глаза не отрывались от него ни на миг. Как две черные глазницы потухшего маяка, следили они за каждым его движением, вслушиваясь зрительно в обрывки смутно долетавших до них слов. Но что же видят глаза госпожи Сиделькоре?
Троих детей произвела на свет госпожа Сиделькоре: двух девочек, Анелу и Линелу, и мальчика Иджео. Третьего и последнего. Обе дочки подрастали быстро, одинаковые и прекрасные, как два грациозных тополька на берегу реки, горделиво отражающихся в чистом и тихом потоке. И подобно тополям, дочери госпожи Сиделькоре были облачены в гладкую и прозрачную кору.
Превосходство мужчины.
Когда в родильном отделении клиники Матута Матер акушерка поднесла госпоже Сиделькоре нечто вроде фаршированной свиной ноги по-моденски, красноватой и плоской между ножками и игрушечным венериным холмиком, и при этом проговорила: «Ах, какая прелестная девочка!», госпожа Сиделькоре почувствовала себя всепоглощающе и изнеможенно счастливой. И, чтобы не растерять ни крупицы этого всепоглощающего и изнеможенного счастья, она закрыла глаза и в изнурении откинулась головой на подушку. Схожее чувство счастья, но не столь сильное, как прежде, госпожа Сиделькоре ощутила два года спустя, когда акушерка поднесла ей вторую фаршированную ногу по-моденски, такую же красноватую и плоскую между ножками и игрушечным венериным холмиком. Но когда спустя пять лет в рассеявшихся холодных парах хлористого этила профессор Маткони, — знаменитый гинеколог, прославившийся как благодаря своему огромному опыту, так и благодаря нежным воспоминаниям, которые он каждый раз оставлял в душе молодых мам, прибегших к его помощи, — когда он поднес госпоже Сиделькоре третью фаршированную свиную ногу по-моденски, она отличалась от двух предыдущих тем, что на месте плоской ложбинки между ножками торчало подобие червячка с пуговкой на конце, точь-в-точь как на фехтовальных рапирах. Радость госпожи Сиделькоре была совершенно не сравнимой с радостью прошлых родов. Это была иная, новая, высшая радость. Ибо теперь цель ее жизни после столь долгого ожидания, после столь тщательной подготовки, которая от начала до конца пронизала всю ее жизнь и коренилась в бесформенной памяти предшествующих поколений, готовивших к этому ее, женщину, цель ее жизни — этот червячок с пуговкой — была наконец достигнута.
Кора, облачавшая дочерей госпожи Сиделькоре, была не только белой, но к тому же тонкой и прозрачной. И чем выше поднимались эти две совершенно одинаковые девушки, тем белее и прозрачнее она становилась. Наконец обе девицы подросли, вытянулись и утончились настолько, что — словно не получая достаточно питательных соков из своих тополиных стволов, слишком тонких, чтобы насытить такую высоту, — согнулись, припали к земле и в один прекрасный день тихо-тихо, как две хрупкие веточки, плывущие по течению, уплыли по той самой реке, что протекает из жизни в смерть.
Остался один мальчик. Один. Но мать не впала в отчаяние. Осмелюсь даже сказать «не впала в отчаяние из-за такой малости». Матери обладают неисчерпаемым запасом возможностей, и если это необходимо для блага их детей, они способны превращаться в жонглеров, фокусников или волшебников. Однажды госпожа Сиделькоре спросила: «А правда, что Анела и Линела уплыли?» И так как никто ей не отвечал, она ответила сама: «Да, правда. Ну и что?» А почему она дала своим дочерям такие странные имена, так никто никогда и не узнал. Более того, на самом деле госпожа Сиделькоре ответила самой себе вот что: «Нет, неправда: Анела и Линела никуда не уплывали». И, немного подумав, прибавила: «Кому, как не мне, их матери, лучше об этом знать?» С той поры госпожа Сиделькоре «обрела» двух своих дочерей в сыне Иджео. Она обрела их обеих. И была рада как никогда, ведь трое детей в одном доставляют куда меньше хлопот, чем каждый в отдельности; за ними и уследить легче, да и потискать их удобнее.
Ну, а что же обещанная музыка? Кстати, чуть не забыл: мой друг Иджео Сиделькоре на этот раз обещал порадовать нас отборной программой: гвоздем ее должна была стать армянская певица.
Немного фантазии, читатель, и ты вообразишь вслед за мной, что уже услышал обетованную музыку, точно так же как госпожа Сиделькоре воображает, будто соединила троих детей в одном.
Было бы, однако, ошибкой думать, что это соединение троих детей в одном являлось исключительно плодом бредовой фантазии. Метафизическое соединение постепенно воплотилось в соединение физическое. Незаметно Иджео стал одновременно мужчиной и женщиной. И даже голос, жесты, вкусы, плавность черт и округлость бедер воспринял он от Анелы и Линелы; больше того: Иджео оказался гораздо женственнее, чем были при жизни Анела и Линела. Поэтому нельзя сказать, что глаза госпожи Сиделькоре, как две черные глазницы потухшего маяка, следят через всю гостиную за своим сыном Иджео; следует сказать, что глаза госпожи Сиделькоре, как две черные глазницы потухшего маяка, следят через всю гостиную за тремя своими детьми: Анелой, Линелой и Иджео, соединенными в одном, самом драгоценном.
Нам был обещан музыкальный вечер, но ни до кого не долетало и слабого отголоска музыки. Впрочем, лично я не испытывал ни капли неудовольствия от подобного музыкального вечера без музыки. Пришло время концертов без музыки, беззвучных концертов, равнозначных натюрмортам в живописи. В чем состоит главный недостаток концертов? В том, что для всех устанавливается строго определенная и одинаковая программа. Сплошь и рядом нам приходится слушать музыку, которая или вовсе нас не интересует, или вообще для нас невыносима. И все это только потому, что она включена в программу наряду с музыкой, которая мила нашему сердцу и любезна нашему слуху. В прошлом сезоне пошел я как-то раз в зал «Адриано» на «Альбораду» Равеля, а вместо этого услышал какой-то там симфонический фрагмент Отторино Респиги, совершенно мне безразличный, потому лишь, что оркестровые группы «Альборады» не подъехали вовремя. Сравнительно недавно, на концерте в базилике Максенция, между Симфонией до минор Брамса и «Эгмонтом» Бетховена я вынужден был проглотить рапсодию «Финляндия» Сибелиуса и уж не помню как называвшуюся симфоническую поэму какого-то молодого автора, имя которого я так никогда больше и не услышал. И о чем только думал тот, кто однажды окрестил Сибелиуса «скандинавским Брамсом»? Вожделенные беззвучные концерты смогут сопровождаться, к вящему удовольствию публики, всевозможными играми в угадывание, когда по выражению лиц друг друга слушатели будут поочередно угадывать музыку, которую они в данный момент слушают про себя. Я отдал должное фантазии и вкусу своего друга Иджео Сиделькоре; его идее устроить вечер, на котором нам предлагалось созерцать искривленный позвоночник господина благородных кровей, медузоликое изумление девицы в форме скрипичного грифа, блаженную тревогу матери, видящей троих детей в одном, и на котором не было и намека на музыку. Иджео, мой юный друг, меньшего я от тебя и не ждал.
Едва я мысленно сформулировал эту похвалу моему другу, как Иджео немедленно принялся ее опровергать. Он выдвинулся на середину второй гостиной, слегка склонил к плечику лицо, напоминавшее нечто среднее между подсолнухом и электрическим скатом, и, призывая тем самым нас, его гостей, к полной тишине и вниманию, изрек сквозь пергаментную диафрагму: «Асясыуысте неого ососныуыки». Его слова были восприняты одобрительным ропотом, сдобренным жидкими аплодисментами.
Коротко поклонившись в ответ на ропот и хлопки, Иджео направился в глубь второй гостиной, где находилась дверь в солярий. По ночам солярии теряют всяческий смысл, и в тот вечер солярий виллы Сиделькоре был временно приспособлен под зверинец. Со своего места я мог различить через дверь солярия часть туловища Иджео Сиделькоре. Судя по движениям его плеча и согнутой руки, я заключил, что мой юный друг прилагал немалые усилия, чтобы вытащить из солярия чье-то тело, оказывавшее ему упорное сопротивление. Одновременно до меня доносился звон цепей; этот звук подтвердил мою догадку: в солярии держали плененного зверя. Наконец раздалось победное «А!», и усилия моего друга увенчались успехом. Из глубины этого элегантного загона для быков Иджео вытащил быка, оказавшегося при более внимательном рассмотрении лоснящейся черной бычицей, обмотанной в лохмотья. Бычица двигалась опустив голову и переваливаясь с боку на бок. Иджео доволок это бесформенное создание до середины гостиной и там уже предоставил ее самой себе.
Бычица неподвижно застыла на широко расставленных ногах, с беспокойством и подозрением озираясь вокруг и хлопая глазами так, словно впервые увидела свет.
В это время пианист подошел к роялю и стал внимательно изучать нотную тетрадь, которую Иджео положил на пюпитр. Происходящие на моих глазах события помогли мне уяснить смысл слов, произнесенных чуть раньше Иджео Сиделькоре. Дополнив их недостающими согласными, я получил следующее высказывание: «А сейчас вы услышите немного восточной музыки».
У бычицы была смуглая маслянистая кожа, желтые белки глаз и жгуче-черные, казавшиеся зелеными, волосы. Густая дубрава, покрывавшая ее череп, сгорела в некогда разбушевавшемся пожаре; от нее уцелел лишь спутанный, дряблый пучок длинных, обугленных веток, свисавших ей на глаза, забивавшихся в уши, стекавших как смоляная река вниз по шее и наверняка еще дальше, под платье, по излучине спинного хребта. Ее тучные ступни нависали над кромкой подошв и пузырились из-под ремешков узеньких туфелек из лакированной кожи. Смуглые руки, скрытые почти до локтя газовыми рукавами-фонариками, грузно свисали по бокам, точно нагуталиненные палицы. Массивные кольца, увешанные металлическими бляшками, опоясывали ее широкие лодыжки: звон этих орудий рабства и долетел до меня перед тем, как Иджео выволок бычицу из загона.
Я подошел к роялю и услышал, как испанский пианист, обращая внимание Иджео на нотную тетрадь, указывал ему на нелепость западной гармонизации, помещенной под мелодической линией в четверть тона, волнистой, плавной и изменчивой, как рябь на воде при порыве ветра.
Завершив подготовительную часть, пианист взял начальные аккорды.
При этих звуках певица вся судорожно искривилась, словно какая-то таинственная волнообразная сила пронизала ее полное, лощеное тело, похожее на тело моржихи, только-только вылезшей из воды. Ее огромные агатовые зрачки, искрящиеся как горящие угольки в желто-зеленом нимбе глазных белков, отрешились от окружающей действительности и уставились в неопределенную точку где-то между противоположной стеной и потолком, ставшую теперь средоточием ее сумрачной, судорожной, страждущей музыкальной грезы. Ее пухлые темные руки, походившие на две крупные вареные свеклы в кожуре, соединились и вдавились одна в другую; ее короткие пальцы-колбаски, на которых поблескивали варварские кольца, сцепились и стали медленно извиваться, как приземистые рептилии в любовной схватке; ее рот, перегороженный внушительным частоколом желтых лошадиных зубов, раскрылся в выражении непередаваемой муки; наконец из него донесся протяжный стон, вой голодной собаки, зловещий ночной голос, истерзанный клыками самой боли, когтями самого отчаяния; он то поднимался ввысь, то опускался на мелкозубчатую четвертетоновую пилу звуков, то зависал в воздухе, как одинокий мохнатый глаз, парящий в созерцании смертельной бездны. В конце концов он снова полез вверх по неуловимым ступенькам восточной гаммы. Не останавливаясь на достигнутых пределах, он преодолел их, устремился еще дальше, еще выше, добрался до наивысшей, головокружительной отметки и оттуда, с душераздирающим и одновременно торжествующим надрывом, ослепительно ясно чеканя каждый слог, трижды возопил: «Асланум! Асланум! Асланум!»
В тот же миг раздались три настойчивых удара в дверь гостиной, которую незадолго до этого затворил мажордом, чтобы не дать рассеяться отзвукам восточной песни. Певица тотчас умолкла. Ее антрацитовые зрачки радостно блеснули, она взметнула обе руки, как вскидывают в знак приветствия весла, и выкрикнула: «Аслан!»
Створки двери распахнулись сами собой, и явился Магомет. Голова Магомета была гладко выбрита; лицо обрамляла ярко-рыжая волосатая пена, сквозь которую виднелся один лишь рот с безупречно подогнанными друг к другу губами, пунцовыми, как вишни, и пухлыми, как персики. Меж двух щечек-яблочек наподобие корабельного ростра непристойно выпирал нос, загибавшийся на кончике, словно для того, чтобы напиться из пенистой рыжей бороды. Огонь его глаз, опутанных мелкой сетью морщинок, искрился под пылающим козырьком бровей. Золотые кольца пронзали длинные мочки ушей и покачивались в огненной заросли волос.
Необыкновенная тишина воцарилась при этом неожиданном появлении. Певица вперила взгляд в своего аслана и затаила дыхание. Магомет переливался многоцветием красок, сиял блеском золота. Кривая турецкая сабля полумесяцем висела у него на боку на слабо натянутых ремешках и, казалось, вот-вот была готова упасть. Узорчатые золоченые рукоятки ятаганов торчали из-под алого шарфа, опоясывавшего его талию и вздувавшегося на животе. Он стоял выпрямившись во весь рост, в туфлях с загнутым носком на крошечных ножках. Его глаза медленно вращались в орбитах; подобно острию кинжала, касались они одного за другим каждого гостя госпожи Сиделькоре. При этом глаза Магомета нарочито не замечали певицу, целиком поглощенную его созерцанием. На какое-то мгновение его взгляд остановился на мне — точно так же муха садится на мраморную фигурку, принимая ее за сахар, но вскоре улетает, сообразив, что сахаром здесь и не пахнет. Этого мимолетного соприкосновения оказалось для меня достаточно, чтобы ощутить холодную проницательность, всепроникающую силу губительных лучей, испускаемых его зрачками.
За спиной воинственного пророка, ощетинясь пиками, теснился небольшой отряд ратников с полированными головами; длинные усы воинов, словно водоросли, свисали над их сомкнутыми губами.
Неожиданно и без единого звука пророк нарушил хрустальную неподвижность. Властным движением он поднял руку и сопровождаемый своими янычарами проследовал на середину гостиной. Хотя оба лагеря не соприкоснулись, завороженные этим движением гости госпожи Сиделькоре, сама госпожа Сиделькоре, ее сын Иджео и я сам, как дрожащие призраки, попятились вдоль стены к противоположному концу гостиной. Там мы и остановились, так как задняя стена препятствовала дальнейшему отступлению.
Из студенистой хляби нашего ужаса мой взгляд выхватил на столике с газельими ножками «Дуинезские элегии» Райнера Марии Рильке и небольшую партитуру «Персефоны». И тогда, перед лицом надвигающейся варварской Азии, мне открылась вся немощность, вся бренность нашего просвещенного и утонченного европеизма.
Магомет поднял руку. Маленькую детскую руку. Миниатюрность конечностей поражала в этом тигроподобном человеке и еще более подчеркивала его чудовищность. Магомет поднял руку и указал пальцем на высокорослую девицу, окруженную ореолом изумления. Двое воинов отделились от свиты пророка, схватили девушку за локти и принялись выдирать ее из нашей желатиновой кучки. Однако пепельно-русая девица стала упираться; она съехала на ковер, зацепилась правой ногой за третью ножку рояля; ее выпученные от ужаса глаза молили о помощи, ее рот округлился, как у рыбы за стеклом аквариума, но не издал ни единого звука. И только тогда мне стало ясно, что неприступная эта дева была немой.
Легкая досада шевельнула зрачки Магомета и сдвинула их к носу. Из этого я заключил, что пророк страдает периодическим косоглазием.
«Эта особа отказывается от чести быть моей женой? — Магомет говорил мягким баритоном на безупречном итальянском со слабым налетом венецианской кантилены. — Еще ни одна женщина не отваживалась на подобное».
Тогда мужчины, слившиеся в перепуганную студенистую массу, несмотря на то что все они были физически немощны и совершенно не способны на какое-либо мускульное усилие, а один из них к тому же был явным инвалидом, сделали то, что сделал бы в подобных обстоятельствах любой порядочный мужчина и что в один прекрасный день сделают, как хотелось бы в это верить, европейцы, если вооруженная и сплоченная Азия ринется на невоинственную и разрозненную Европу. Иными словами, все они двинулись на защиту пепельно-русой девицы, и, благодаренье небу, еще раз сверкнула искра чести.
Да что толку? В одно мгновение этих пылких импотентов скрутили басурманские воины. Предводитель отряда, самый рослый воин с лицом гиены, вынул из ножен турецкую саблю, словно стрелу из колчана, поднял ее горизонтально и одну за другой срезал наши головы с такой ловкостью и аккуратностью, что я невольно пришел в восторг, несмотря на определенное неудобство, которое испытывал в результате подобного обезглавливания.
С известным беспокойством смотрел я на свою голову, катившуюся под рояль, и старался запечатлеть в памяти точное ее местонахождение, дабы суметь отыскать ее по прошествии этого скверного эпизода. Никогда еще я не осознавал так ясно, как в тот момент, сколь это тяжко — потерять голову.
Предводитель отряда повернулся к Магомету, коснулся правой рукой ковра, затем дотронулся той же рукой до рта и лба и наконец указал на госпожу Сиделькоре.
— Падишах, — спросил воин, — а что будем делать со старухой?
Магомет метнул на госпожу Сиделькоре быстрый взгляд. «Забирай и ее, — ответил он. — Мы сделаем из нее султаншу-валиде — султаншу-мать».
Чуть выше я, кажется, сказал, что с известным беспокойством смотрел на свою голову, катившуюся под рояль. Но сейчас хочу поправиться и сказать, что это моя голова, катившаяся под рояль, смотрела с известным беспокойством на мое туловище и старалась запечатлеть в памяти точное его местонахождение, дабы суметь отыскать его по прошествии этого скверного эпизода.
На первый взгляд мне кажется удивительным, что мое туловище продолжало оставаться в вертикальном положении, будучи отделенным от головы. Но сколько вещей кажутся нам удивительными в воображении, а на практике вовсе не оказываются таковыми. Мы были убеждены, что человек, падающий с какой-то высоты, прежде умирает от удушья, и уж потом только разбивается, однако практика парашютистов доказала нам обратное. Что же касается моей головы, то хоть она и была отделена от туловища, но все же сохраняла жизнеспособность. И тут я вспомнил предание о голове Орфея, которая одиноко плыла по водной глади и распевала орфические песни.
Наши головы, лежавшие на полу, поочередно переглядывались. Я повнимательнее всмотрелся в стоявшее тело профессора Фавонио и отметил, что из всех нас он был единственным обезглавленным, который не казался при этом укороченным.
Моя голова остановилась рядом с головой юного Иджео. Он обратил на меня кроткий взгляд и, как будто извиняясь, произнес: «Весьма сожалею, что наш музыкальный вечер принял такой неожиданный оборот, но кто же мог предугадать вторжение этих невеж?»
«Говорите тише, — зашептал я. — Они прекрасно понимают по-итальянски».
Иджео показал мне взглядом, что Магомет и его воины стоят к нам спиной. Вполголоса я продолжил:
«Вам совершенно не за что извиняться. Никто не станет обвинять вас в этом неприятном инциденте. Впрочем, то, что произошло сегодня вечером в вашем доме, для меня не ново. Мне известны и другие случаи музыкального внушения, когда музыка видоизменяет реальность по своему образу и подобию. Я всегда считал, что с некоторых точек зрения музыка является самым опасным из искусств. Как-то раз одна моя приятельница, слушая ноктюрн Шопена, превратилась в Ночь. Лицо ее стало бледным, как луна, она окуталась тонкой вуалью и, переполненная грустью, поднялась в воздух. Так и восседала она над городом, спящим с задернутыми занавесками. Конечно, вызывать подобного рода эффекты способна лишь глубоко чарующая музыка, и если вы вдруг попробуете вызвать их с помощью такой музыки, как «Доктор Фауст» Ферруччо Бузони…»
Я прервался на полуфразе. В этот момент пророк и его воины вышли из гостиной, волоча за собой, словно набитых опилками кукол, наших женщин, обращенных в рабынь. Но как только это сверкающее и ужасающее шествие пересекло порог гостиной, оно непонятным для меня образом обернулось одним-единственным человеком. Был он низкоросл, седоволос и лысоват и, хотя стоял ко мне спиной, все равно не мог скрыть от меня свой облик восточного лавочника.
Мое обезглавленное тело двигалось в потемках; но движениями его управляла голова, точно так же как маневрами корабля в море можно управлять по радио с суши.
Обнаружив голову совсем рядом, я потянул ее вверх за жидкие волосики, которые пока еще коронуют мой череп, и сунул ее под мышку. Затем я вышел в дверь второй гостиной, миновал столовую, где несколько мух выкачивали своими крохотными хоботками крем из снежных пирамид безе, выстроенных на десертном столе, и очутился в атриуме с мозаичными дельфинами перед седоволосым коротышкой, которого моя голова видела из-под рояля со спины.
— Кто вы такой и что здесь делаете?
Мой внезапный вопрос, должно быть, прозвучал весьма властно, ибо седоволосый коротышка весь передернулся от страха, встал по стойке «смирно» и бойко отрапортовал, как солдат генералу:
— Я господин Албаджан.
— Албаджан?
— Да, Гриша Албаджан. Муж той самой госпожи, которую господа Сиделькоре любезно пригласили в свой дом исполнить несколько песен нашего края. Я пришел забрать жену и отвести ее домой.
Господин Албаджан был не менее смуглокож, чем та, которую я окрестил «бычицей» при ее появлении из солярия. И его глазные белки, судя по их окраске, свидетельствовали о серьезном расстройстве печени. Кроме того, господин Албаджан носил усы и бородку с проседью; волосики вокруг его рта, широченного, как чрево ослицы, от никотина казались охряными. Время от времени он загораживал рот рукой, чтобы откашляться: в этом глубоком кашле клокотал надсадный хрип заядлого курильщика.
— Простите, господин Албаджан, — произнес я. — Не будете ли вы так любезны перешагнуть через этот порог?
Господин Албаджан устремил на меня изумленный взгляд, но, плененный властностью моего тона, молча подчинился.
Произошло то, что я и предполагал. Переступив порог и войдя в гостиную, кроткий, забитый, услужливый господин Албаджан превратился в тигроподобного, величественного Магомета, окруженного отрядом ратников.
— Благодарю, — сказал я уже не так высокомерно. — А теперь, господин Албаджан, не угодно ли снова сюда.
При всей своей уверенности в том, что этот ужасный Магомет был всего лишь плодом моего воображения, я все же предпочитал воспринимать его в образе плюгавенького восточного купчишки.
Магомет повиновался, переступил порог, разделявший гостиную и мозаичный атриум, и вновь предстал в облике кроткого, забитого господина Албаджана.
Этого мне было вполне достаточно. Я пришел к заключению, что, подобно дверям автоматических лифтов, в дверном косяке гостиной виллы Сиделькоре находится элемент таинственной энергии, совершающий при соприкосновении с человеческим телом это чудесное превращение.
Довольный своим открытием, я ушел «по-английски», как выражаются некоторые, или «непровожаемым гостем», как выражаюсь я сам.
Дойдя до пересечения виа Номентана и бульвара Горация, я остановился в ожидании ночного автобуса. Наконец автобус подъехал. Я сел в него и подошел к кондуктору взять билет. Кондуктор смерил меня взглядом сверху донизу и пробурчал:
— Входить в автобус с головой в руках воспрещается.
Я взглянул на себя: моя голова все еще находилась под мышкой. Обычно я не терплю всякого рода наставлений, но на сей раз молча проглотил это замечание. В римских автобусах того времени приняты были некоторые строгости в отношении внешнего вида пассажиров, и коль скоро в автобус запрещалось садиться без пиджака, то было бы вполне справедливо распространить подобный запрет и на посадку без головы.
Я тоже исповедую принцип Джованни Боско и всех тех, кто хочет жить на свободе: закон прежде всего.
Я водворил голову на плечи, испытывая при этом некоторую неловкость оттого, что кондуктор застал меня в таком неполноценном виде, и крайне удрученный примостился в самом темном углу автобуса, который тем временем, грохоча, устремился в ночь.
Уголок
Вот уже третий месяц, как я живу в этом уютном домике под названием Уголок. Приехал сюда я не по своей воле: меня привезли. А привез меня Джиджино — мой лучший друг. Доверяйте друзьям! В тот день, когда Джиджино усадил меня в свою машину, чтобы доставить в Уголок, Рим уже забродил от назревавшей жары. Воздух пьянил, точно насыщенный винными парами переспелого винограда. В грузный полдень все вокруг отливало пепельно-серой мутью. Небо, улицы, дома и предметы двоились у меня в глазах, как у завзятого пьянчужки.
Пока рука Джиджино шарила возле правого бедра в поисках ручного тормоза, ее владелец обернулся ко мне с улыбкой. Я взглянул на его рот и на месте белоснежных воинственных зубов обнаружил клавиатуру лихорадочного фортепиано. Я не замедлил поделиться с Джиджино моим открытием. Сквозь шум мотора, отвечавшего грозным рычанием на утреннюю гимнастику педали газа, я прокричал: «Опусти крышку своего «Блютнера»! Пока не опустишь — мы не сможем сыграть». Тут Джиджино перестал улыбаться. Видно, он не понял, что «сыграть» означало в данном случае «тронуться».
Впрочем, я ошибался. На самом деле в тот момент меня мучила острая зубная боль, превращавшая в моих глазах окружающий мир в сладостный и одновременно бредовый мираж.
Из немногих сохранившихся у меня зубов особо выделяется зуб мудрости, прочно окопавшийся в глубине левой нижней челюсти. По свидетельству моего дантиста, этот зуб представляет собой одну из последних жевательных цитаделей, на которую я еще могу рассчитывать. Прежде чем объявить мне это известие, мой дантист, обычно такой оживленный, вдруг нахмурился. Он постучал по означенному зубу мудрости кончиком металлического молоточка, точно желая испытать его прочность, и наконец произнес: «Этот коренной мы должны сохранить любой ценой». Державное «мы» придавало его словам дополнительный вес. Так что вердикт эскулапа глубоко запал мне в душу как истина в первой инстанции.
Мой дантист — немецкий еврей, давно уже обосновавшийся в Риме. Несколько лет назад он удостоился высокой чести лечить зубы Его Святейшества Пия XII. Он не только первоклассный зубной врач, но еще и страстный любитель музыки. Помню как-то раз, этой весной, пришел я к нему по персональному приглашению. Но не для того, чтобы занять привычное место в весьма удобном зубоврачебном кресле с блестящей плевательницей, а для того, чтобы устроиться в куда более спокойном кресле его гостиной и присутствовать на скромном домашнем концерте. Во время концерта Максим Амфитеатров и Орнелла Пулити Сантоликвидо исполнили с присущим им мастерством сонату для виолончели и фортепиано Хиндемита, а какой-то испанский баритон с темной лоснящейся шевелюрой, как у бычков из Трианы — школы молодых тореро, бархатным голосом спел Ave Maria, написанную самим хозяином дома.
Перед тем как ехать отдыхать, предусмотрительные люди обязательно покажутся своему зубному врачу. Раньше я не обращал особого внимания на подобные меры предосторожности еще и потому, что редко отдыхал за городом. Но на сей раз, прежде чем отправиться в Уголок, тоже решил показаться моему дантисту.
Последний окинул взглядом мой распахнутый рот (его освещал небольшой отражатель, свисавший с блестящего шара из майолики прямо над моим носом), постучал там и сям металлическим молоточком, задержался на драгоценном зубе мудрости и как раз на нем обнаружил начатки кариеса. Не долго думая, он подступился к нему со сверлом, слегка углубился в выемку тончайшей иглой, поднес ее к расширенной ноздре, чтобы определить на запах степень гниения; снова немного поработал сверлом; наконец, развел пестиком на стеклянном кружке фарфоровый замес, старательно заделал им дупло; после чего радушно пожал мне руку и добавил на прощание, что теперь я могу ехать «со спокойной душой».
Мы выехали в час пополудни следующего дня. Джиджино еще катил вдоль ватиканских стен, как вдруг пронзительная боль взрезала мою левую нижнюю челюсть. Вне всяких сомнений, боль исходила от залеченного накануне зуба мудрости. Я метнул в рот пару таблеток прихваченного на всякий случай анальгина и запил их несколькими глотками чего-то горячего из термоса, входящего в продовольственный арсенал Джиджино. После этого боль резко скакнула вверх. И хотя я вполне отчетливо понимаю неосуществимость такого рода грез, мне все же пригрезилось, что моя новоиспеченная пломба взлетает на воздух подобно крошечному вулкану, а вместе с пломбой взлетает и сам зуб мудрости, а вместе с зубом мудрости — и вся челюсть, а вместе с челюстью — моя голова. Наконец-то я свободен и спасен!
Ничто так не помогает понять дух разрушения, столь яростно пронизывающий некоторых исторических персонажей, скажем, Нерона, Аттилу и Чингисхана, как сильная физическая боль. В действительности это даже не столько реальные персонажи, сколько невыносимая боль, принявшая человеческий облик. Боль так сильна, что человек, ее воплощающий, сам превращается в некую цельную боль и уже не знает страданий. Человекоболь. Болелюбовь. Невероятно высокая болелюбовь. Такая высокая, что человекоболи уже недостаточно чувствовать ее одной — она хочет вовлечь в это чувство, как в возвышенную любовь, и остальных людей. Весь мир прославляет вселенскую любовь Христа, окончившего свою земную жизнь на кресте во имя любви к людям. Однако никому не приходит в голову прославить этих великих разрушителей, стремящихся понять человечество через высочайшую боль и слиться с ним во всеобщей гибели. Их называют чудовищами. Несправедлив человек. Точнее, неспособен обойти жизненный круг и увидеть жизнь со всех сторон. На жизнь он смотрит, как на луну: различая только ее освещенную сторону.
До места мы добрались уже под вечер. После первого гудка клаксона ворота бесшумно распахнулись сами собой. Мы медленно проехали по аллее, обсаженной двумя рядами высоких деревьев. Колеса нашего автомобиля шелестели по ковровой дорожке аллеи. Неожиданно сквозь густую листву забрезжил огонек. Так это и есть тот самый Уголок? Мы подъехали слишком близко, и я крайне смутно различал его очертания. Поднявшись на несколько ступенек, я почувствовал, что меня шатает. Джиджино уехал. Красный фонарик его авто исчез за деревьями. Я очутился в слабо освещенном покое. Никто меня не встречает. В голове роятся назойливые мысли. Чего бы я только не дал, чтобы избавиться от них. Но голова — не мусорная корзина: не так-то просто ее опорожнить. Жаль! Я наскоро подкрепился тем немногим, что было приготовлено на краю большого голого стола. Я торопливо жевал только правой стороной, боясь потревожить хворый зуб мудрости. Затем, даже не раздевшись, я упал на чью-то кровать и забылся мертвым сном: я, зуб мудрости, моя голова, все на свете. Когда же наутро я проснулся и совершенно отчетливо увидел то, что накануне было туманным и расплывчатым, я понял, что попал в ловушку. Почему?
На прощанье Джиджино обещал, что вернется на следующий день. Но он не вернулся. Ни на следующий день, ни потом. Прошло больше двух месяцев, и я его уже не жду. Впрочем, что и кого мне еще ждать?
Этот уютный домик, так необъяснимо распахнувший передо мной свои двери, полностью соответствует своему названию. Уголком его окрестили скорее в геометрическом смысле, чем в смысле укромного местечка, где можно уединиться от внешнего мира. Сам домик представляет собой приземистое строение с белыми стенами, свежевыкрашенными зелеными ставнями и пока еще ярко-красной черепицей. Он образует безупречный прямой угол с оградой у северной границы обширной усадьбы. Часть усадьбы отведена под сад; часть — под луг; остальное место занимает нетронутый, дикий лес.
Первое, что я испытал, приехав в Уголок, было чувство стыда. Я сразу же ощутил на себе отпечаток этого ребячливого названия. Никто не должен знать, что я очутился в доме под таким несерьезным названием. Иначе в глазах моих родственников, друзей и знакомых я покроюсь несмываемым позором. Поражаюсь людскому бесстыдству. Бесстыдству тех людей, которые, ничуть не смущаясь, выражают свои любовные чувства по отношению к женщине, а может, и к мужчине в присутствии собственных родителей. Бесстыдству тех, кто в присутствии собственного отца или хуже того — матери «распускается» настолько, что заводит разговор о половых органах и их взаимодействии. Точно такое же впечатление произвел бы на меня тот, кто принялся бы рассказывать человеку, чьим мнением он дорожит, что поселился в местечке под названием Уголок. Увы! Моя застенчивость подчинена строгим правилам и ко многому меня обязывает. Поначалу я хотел было выдумать ложный адрес и, сговорившись с почтальоном, сделать его своим сообщником. Но вот уже три месяца, как я здесь, а почтальоном даже и не пахнет. Я знаю, что каждое утро он развозит почту на велосипеде по окрестным дачам. Только у дверей Уголка он никогда не останавливается. Видно, пребывание в Уголке предполагает полную отрешенность от внешнего мира. Я слышал, что есть такие клиники, где лечат воспоминаниями. Эдакая диета на основе выжимок из памяти. Подкормка воспоминаниями. Пациент полностью изолирован от контакта с другими людьми и живет исключительно за счет воспоминаний. Внешне такое лечение скорее смахивает на заключение, но на самом деле сильно от него отличается, так как погружает больного в такое состояние, когда он никому ничего не должен, то есть в состояние совершенной свободы. И Богу он тоже ничего не должен. Ведь Бог — не в воспоминании, иначе говоря, не внутри человека, а перед человеком, как финишная ленточка перед бегуном. В воспоминании Бога нет; в лучшем случае там могут быть осколки Бога, кусочки Бога, сложив которые мы еще не получим полного Бога, убедительного Бога, а главное — привлекательного Бога. В идее этого лечения ясно прослеживается образ вулканических озер, питаемых не речными водами, а подземными ключами. Не обошлось, наверное, и без влияния терапии «подобное — подобным», своего рода переливания крови больного из одной руки в другую.
Со всех четырех сторон усадьба обнесена невысокой стеной, утыканной через каждые три метра прочными бетонными столбиками. Между столбиками натянута колючая проволока в густой камышовой оплетке. Вправо и влево от домика, ощетинившись железными шипами, разбегаются высокие стены. В конце правой стены — обшитые железом ворота; в конце левой — небольшая дверь, тоже в железном чехле. Рядом с воротами зияет пасть гаража. Правда, вместо положенного автомобиля в гараже обосновался обрезанный баркас с палубой на носу, корме и вдоль бортов, приспособленный для парусных гонок. Испытанное средство для морских прогулок покоится на бетонном полу вдали от родной стихии, накренившись на правый борт так, словно летит по пенистым волнам под скрип парусов. Но ныне баркас недвижен, разоблачен, и его больше не омывает соленая вода. Иногда я пододвигаю к самому порогу Уголка кресло и часами неподвижно смотрю на выступающий из полутьмы гаража нос отставного баркаса. Я пытаюсь представить, как он вдруг тронется с места, заскользит голубым килем по песчаному карьеру, где днем резвятся дети и жарятся на солнце сверкающие моржовым глянцем купальщики, и устремится дальше — мимо домиков и двух проселочных дорог, мимо ворот, сада и соснового бора. Но тут я замечаю на носовой палубе обрубок мачты и понимаю, что эта отчаянная вылазка стоила бы баркасу огромных усилий и даже мук.
Чтобы понаблюдать за сосланным в гараж баркасом, я выбирал самое удобное кресло. Высокое, массивное, обрамленное резным лакированным деревом. Стеганая спинка кресла походила на щит, усеянный выпуклыми шишечками-сосками, наподобие торса многогрудой Дианы Эфесской. Мясистое сиденье было продавлено по форме ягодиц. Внушительные подлокотники пучились от щедрой набивки, обтянутой розовой тканью в красный цветочек, — точь-в-точь как кожа гигантского младенца, больного краснухой. По внешнему сходству с томной распутницей, развалившейся на диване борделя в ожидании посетителя, я назвал это кресло Лулу. Я надеялся, что мы окажемся добрыми друзьями, но вскоре вынужден был изменить свое мнение. С некоторых пор я остерегаюсь попадать в объятия Лулу. При соприкосновении с моим телом Лулу начинала распаляться. Железные пружины ее внутренностей охватывала дрожь. Набивка раздувалась, как женская грудь от любовной ласки. Подлокотники сжимали мне бока и бедра. В последний раз понадобилось яростное усилие, чтобы высвободиться из ее объятий. Я чуть было не задохнулся. И слышал при этом умильный зов на венецианском наречии, вырывавшийся из ее беззубых десен: «Миленочек… Миленочек ты мой… Я ж тя чмок-чмок… я ж тя кус-кус… я ж тя ням-ням…» Пылая от стыда и ежась от отвращения, я выбежал в сад и опрометью бросился в гараж. Не меньше часа простоял я в этом убежище, прислонившись к щеке баркаса. С трудом переводя дух, я пытался собраться с мыслями. В то же время я наслаждался нелепым, феерическим зрелищем, которое представлял из себя со стороны: лысый и седой, ни дать ни взять Дафна, преследуемая Аполлоном. С тех пор я держусь от Лулу подальше. Смотрю на нее только в профиль. И боюсь, как бы она не бросилась на меня. А то, чего доброго, вздыбится на задних колесиках да как кинется… Если уж надо пройти прямо перед ней — обхожу стороной. И сажусь теперь только на деревянные стулья. Жесткие, твердые, тощие. И выбираю самые тощие, твердые, жесткие. Чем стулья жестче, тверже, тощее, тем безопаснее для меня их половые рефлексы.
Первой моей мыслью было бежать из этого домика, в котором меня подстерегают неведомые опасности да и вообще дело, кажется, нечисто. Но это не в моих силах. Никто открыто не принуждает меня оставаться, никто не мешает выходить, когда мне заблагорассудится, из этой домашней чащобы, заключенной в пояс верности, словно жена рыцаря, и все же я чувствую себя пленником. Чувствую остро и безошибочно. Под неусыпным оком невидимых тюремщиков, во власти необъяснимых сил.
И только во сне это наваждение рассеивается. С тех пор как я здесь — негласный, но фактический пленник, — словно в отместку мне снятся сны о свободе. О свободе и о любви. Прошлой ночью мне приснилось, что я совокуплялся с великаншей. Огромной и безымянной; неподвижной и поистине исполинских размеров. Нечто вроде розового младенца величиной с гору, щедро наделенного женскими прелестями. Или абсолютной чемпионки всего человеческого рода, застывшей в телесном безмолвии. Ее ляжки напоминали колонны; груди вздымались, словно два мягких холма, попеременно отдававших мне свое тепло; гигантские ступни упруго и горячо упирались мне в лицо; раскатистый, бурлящий смех клокотал, как неудержимый речной поток. Самое свободное совокупление — до, во время и после, — которое я когда-либо совершал. Прибавлю сюда и мое волнение. Нежнейшее волнение. Волнение, какого никогда не испытать с другой женщиной, сливающейся со мной не только телом, но и душой. Насколько сильнее это волнение, насколько глубже смысл невинности! Ибо то, что мы называем душой, есть дуновение зла внутри нас; там же, где нет зла, нет и души.
В полусне, переносящем меня каждое утро как бы из огня в холод, из свободы в неволю, через окно спальни доносится резкий двухтактный скрежет пилы. Потом где-то с шумом падает спиленное дерево под зычные возгласы лесорубов, бурно приветствующих победу над очередным породистым представителем растительного мира.
«Сон про великаншу» поверг меня в растерянность. Поначалу я даже не знал, как его истолковать. Но спустя пару дней я внимательнее обычного взглянул на изголовье моей кровати, затянутое бирюзовым шелком с золотистыми звездочками, и сон о великанше мгновенно прояснился.
Тот, кто натянул эту ткань в изголовье предназначенной для меня кровати, явно хотел поместить над моей головой образ хоть и урезанного, но небосвода. Что за средневековая блажь! Что за мания величия! Какое скудоумие, а заодно и отсутствие метафизического чувства жизни. Голову спящего человека должно окружать плотной, непроницаемой материей; голове не пристало болтаться среди звезд.
Но да Бог с ним, с небосводом. Я тем не менее благодарен неизвестному устроителю Уголка за то, что он подобрал для меня такую узкую, жесткую, дугообразную, непорочную кровать. Молодую кровать. Она еще хранит душевную чистоту, душевную «твердость», «здоровую» душевную твердость молодости. В подобном месте, где меня подстерегают столько скрытых ловушек, я боялся обнаружить широкую, похотливую, старческую, продавленную, растерзанную в пылу любовных сшибок, невообразимого содома и гоморры, ночных кошмаров, горячечного больного бреда, предсмертных судорог кровать, которая под покровом сна медленно и нежно засосет меня, как мухоловка засасывает свою жертву.
Два утра кряду я простоял у окна, наблюдая за обреченным на гибель сосновым бором, что раскинулся по ту сторону земельного участка, отделяющего Уголок от соседней усадьбы. По лесу, словно двуногие звери, маячили высокие медноволосые убийцы деревьев; казалось, вместо глаз у них — по две ослепительно белых таблетки аспирина, вдавленных в черную, как смола, маску лица. Их обнаженные по пояс тела, такие же заскорузлые и темные, как чешуйчатая железная кора тех самых сосен, которых они убивали топором, пилой или петлей. Я слышал их хриплые выкрики на принятом между ними тарабарском языке.
Окно моей спальни, как, впрочем, и все окна Уголка, забрано прочной вертикальной решеткой, крестообразно перечеркнутой тонкими металлическими прутьями. Ухватившись за два самых мощных вертикальных прута, я смотрел сквозь этот тюремный атрибут и вдруг почувствовал, что прутья поддаются моему усилию. Стоило мне чуть поднажать, как вся решетка выехала из оконных торцов и гармошкой сложилась по центру окна.
Жгучая боль омрачила это неожиданное открытие. Железные прутья, словно спицы зонтика, прищемили мне пальцы. Я бросился в кладовую и помазал посиневшие фаланги маслом. И вот спустя несколько дней сижу царапаю эти записки, сам не знаю для кого, зажав кончик ручки в зубах. Две пухлые белые груши из тряпок болтаются безжизненным грузом по обе стороны стула, выглядывая из рукавов пиджака, как противовесы канатоходца. Хотя, может, так оно и есть? Но как это выяснить?
Значит, решетка — это тоже хитроумная уловка. Очень странно! С того момента как перед глазами нет этого тюремного механизма (со вчерашнего дня решетка сложена посредине окна, и теперь с обеих сторон оно свободно), я еще острее ощущаю себя пленником.
Отдернув руки от смертоносной решетки, я взглянул под влиянием какого-то смутного инстинкта на часы, лежавшие, как всегда, на письменном столе. Часы показывали 9.45. Потом я пошел в кладовку, помазал пальцы маслом и замотал ладони тряпками. Когда я вернулся в комнату и снова посмотрел на часы, они показывали 9.45. При этом часы не стояли. Мои часы вполне исправны. И всегда прекрасно ходили. Так в чем же дело? Может, во всем виноват морской воздух, оказывающий такое вредное воздействие на часовые внутренности? Нет, нет. Вообще-то мои часы считаются наручными (но я ношу их в кармашке жилетки и ни за что на свете не опущусь до идиотского жеста, состоящего в том, чтобы согнуть локоть на уровне носа и поднести запястье к самым глазам); к тому же они еще и водонепроницаемые.
Так в чем же дело?
Сегодня… Хотел было пометить дату этого важного открытия, но… Какой нынче день?.. Сегодня я наконец раскрыл тайну моих часов. Мои часы, хронометр марки «Юпитер» (для чего нужно называть часовой завод именем отца людей и богов, когда существует специальный бог, ведающий этими механизмами, — Хронос?), не испорчены. И вовсе не стоят. Они исправно ходят, только всегда показывают одно и то же время: 9.45 — местное время Уголка, обязательное, постоянное и неизменное. Заводить и перезаводить часы бесполезно, как бесполезно трясти их корпус, открывать заднюю крышку, точно створку устрицы, и продувать зубчатые колесики. Стрелки моих часов до тех пор не начнут кружиться вокруг циферблата, пока я не вынесу часы из этого дома. Но смогу ли я выйти из него сам?
Недавно, прогуливаясь возле гаража с баркасом, я был привлечен ярким цветовым пятном на земле, особенно ярким на фоне травы и сосновых иголок. Я нагнулся. Это был совершенно неизвестный мне коралловый цветок. С виду он напоминал настоящий коралл, хотя был мягче и бледнее и по цвету скорее приближался к румянцу живого мяса. На вершине стебелька покачивалась шляпка. Но не цельная, а сплетенная из ветвящихся нитей, как редкая корзина. Он очаровывал и цветом, и манящей грацией тонкой ручной выделки; но одновременно и отталкивал своей болезненной, гниющей мясистостью. Я дотронулся до него концом небольшой бамбуковой трости, которую всегда беру с собой на прогулку (мне было противно самому касаться этого странного цветка, пусть даже носком ботинка), и он согнулся пополам, надломился и упал на землю, обнажив сочную внутренность в яркую черную крапинку. Вслед за тем воздух наполнился таким резким зловонием, что я в ужасе отшатнулся.
Интересно, в ходу ли еще у онкологов параллель между опухолью и грибом? Меня так и тянет снова взглянуть на этот жуткий цветок, но я не отваживаюсь. Я не отваживаюсь подходить к нему и жду, когда песчаная почва иссушит и поглотит его. Я не отваживаюсь смотреть на него из страха, что мой взгляд прилипнет к этой мерзкой корзине, сплошь покрытой опухолями, и обовьется вокруг ее стебля. Я не смотрю на этот цветок, но думаю о нем. И вижу, как он растет. Как обнажается и сбрасывает с себя кожу. Женщина-опухоль. Сплошное оголенное тухлое мясо. Розоватое с белыми прожилками. Я вижу, как это существо отрывается от земли и движется в мою сторону. И поднимается по трем ступенькам Уголка. И неумолимо приближается ко мне. И загоняет меня в глубь комнаты. И прижимает спиной к стене. И обнимает влажными розовыми ветвями, похожими на разлагающиеся кишки. И целует меня своими гнойными устами. И вдыхает в меня смрад смерти.
Вчера днем был в сосновом бору. Из-за стены до меня доносились удары топора вперемежку с мерным, пронзительным повизгиванием пилы. Немного погодя в гробовой тишине послышался свист. Поначалу протяжный и слабый, он быстро разросся, окреп и внезапно оборвался шумным падением срубленного дерева.
Я взглянул на обступавшие меня высокие чешуйчатые стволы сосен. За стеной по-прежнему разносились победные животные возгласы лесогубцев. И я почувствовал, как по стволам деревьев пробежала дрожь. Я услышал треск их чешуи, подобный звенящему шороху множества гремучих змей. Но это была не трусливая, а гневная дрожь ненависти. Клятва мести. Затем сосны вновь затворились под грубой корой, замкнулись в своем древесном безразличии.
Я не сводил с них глаз. В растительном мире строевая или мачтовая сосна есть самое безмозглое дерево. Безмозглое и вдобавок эстетствующее. Помесь страуса с русской борзой. Вечно молодящаяся старая развалина. Позер, работающий под атлета. Эдакий спортсмен перед объективом фотоаппарата. Честолюбивый долговязый аристократ. Длинная ржавая труба, выстреливающая из верхнего жерла густой игольчатой шапкой. Сгорев в бесшумных бесконечных взрывах, сосновые иглы падают на землю и постепенно образуют у подножья ствола прочный наст железной окалины. Врываясь в сосновые шапки, ветер просеивается сквозь них и жалобно свистит тонкими струйками. Впрочем, сосна скорее даже не страус и не русская борзая, а древообразная змея. Змеящаяся вертикально вверх.
В саду, где меня удерживает какая-то таинственная сила, сосны, эти средневековые, феодальные деревья, несут караул словно тевтонские рыцари; в тени их стволов, на ржавом земляном ковре солнце прочертило себе путь полосками света.
Нынче утром, лежа в постели, я услышал слово: «Решетник».
При этом я почувствовал легкое дуновение на щеке и слабый зуд в ухе.
Кто произнес это слово и что оно значит?
Я встал, раскрыл толковый словарь, который на всякий случай захватил с собой, и в статье «решетник» прочел: «Разновидность грибов красно-кораллового цвета, переплетающихся между собой в виде сети».
Кто произнес над моим ухом название этого гриба?
Неожиданно я узнаю в нем жуткий коралловый цветок. Но кто открыл мне его название? Кому это было нужно и зачем? Я все отчетливее чувствую, что кто-то неотрывно и зорко следит за мной, старается показать мне то, что сам я не в состоянии увидеть, подсказать то, до чего я сам не додумаюсь, направить меня по верному пути.
Пустота вокруг меня обитаема и разумна.
За сосновым бором раскинулась тополиная роща. Как-то раз я даже дошел до нее. Передо мной, как на параде, выстроились тополя. Белые телята, вытянутые в высоту; гермафродиты растительного мира. Под мельхиоровой корой тополя прячут длинные, плоские конечности, прижатые к стволу. В один прекрасный день они стянут с себя кору, как стаскивают чехол с зонтика, раскроют серебряные ручки, расставят крохотные ножки, покрытые нежной молочной корочкой, и сделают первые шаги.
Дальше тополиной рощи я ни разу не забредал. Иногда за деревьями мелькнет какой-то коротышка, ростом с ребенка. Иногда где-то залает собака. По ночам вдалеке сквозь листву мерцают до самого рассвета три ряда окон, поставленных один на другой. Может быть, это замок, где всю ночь напролет гремит бал. Однажды мне даже послышались бодрящие звуки полонеза. Потом музыка смолкла, и в сумерках раздались ласковые голоса Марины и Лжедмитрия. Над темными кронами сосен луна медленно чертила по небу огромную дугу.
Сегодня утром я наконец принял решение, зревшее во мне давно. Я не могу больше находиться в неведении о моем истинном положении. Свободен я или заточен? Но для того, чтобы узнать и понять мое истинное положение, я должен прежде всего выйти за пределы усадебной ограды и увидеть самого себя внутри ограды. Удастся ли мне это? Повторяю: никто и ничто не запрещает мне выйти, когда мне заблагорассудится, через одну из трех дверей, соединяющих Уголок с внешним миром.
Главное — поместиться в некой точке сада, откуда я мог бы увидеть себя извне и дополнить мою физическую сущность такой силой длительности в данном месте (такой силой «состояния в данном месте»), которая позволила бы мне выйти за пределы ограды в то время, как моя физическая сущность длилась бы еще внутри ограды. Это больше, чем погоня за собственной тенью: это погоня вне меня самого, за невидимой формой меня самого.
Я тщательно выбрал наиболее подходящее место. Справа от двустворчатых железных ворот оплетка из камыша кое-где зияет прогалинами и позволяет взгляду просачиваться сквозь нее. Я встал в нужное место и концом бамбуковой трости очертил вокруг себя круг на песке. Сделав это, я отворил одну створку ворот, вышел на участок, огибающий границу усадьбы, и поискал взглядом сквозь оплетку из камыша нарисованный мною круг. Круг был виден отчетливо.
После этого я перешел ко второй стадии операции. Я вернулся в усадьбу и встал в круг. Затем я быстро выбежал за ограду, в ту самую точку, откуда можно было увидеть круг.
Я проделал этот маневр несколько раз, и всякий раз все быстрее и быстрее. Я попробовал пробежать свой маршрут с закрытыми глазами, чтобы выучить его наизусть. Наконец мне это удалось.
Я приступил к третьей и самой сложной стадии операции.
Снова встал в круг. Закрыл глаза.
Закрыл все, что можно закрыть над и под моей кожей. Я превратился в живой скафандр. Чтобы сойти в бездну. Я слил все ручейки своего внимания в единый поток. Всем своим существом, всеми мыслями я погрузился в то место, где находился. Я почувствовал, что ухожу корнями в почву, как окружающие меня сосны…
Теперь оставалось спросить: «Когда же?» Но я уже не мог. Я уже находился за пределами того состояния, при котором можно определить «когда». Для успеха операции нужно было отправляться в путь, но отправляться «тайком от самого себя».
Что-то, далеко-далеко вне меня, дало мне знать, что я прибыл. Я открыл глаза…
Круг был пуст.
Я повторил попытку. Вернулся в усадьбу. Встал в круг. Еще глубже погрузился в очерченное пространство. И когда сигнал, пришедший теперь из еще более удаленного далека, известил меня о прибытии, приоткрыл глаза…
Я приоткрыл глаза и смутно разглядел…
Я разглядел белые брюки и круглую лысую голову, сверкающую лучистыми очками.
Почти в тот же миг проблеск меня самого рассеялся.
Рассеялся. Но сам я с ног до головы покрылся электрическими полосами. Изнутри меня распирали слезы. От того чуда, которое я вызвал из мрака неизвестности отчаянным усилием; чуда, творцом которого был я; творцом и одновременно жертвой.
Созерцание самих себя, кроме, разумеется, отражения в зеркале, вызывает у людей самое жгучее любопытство и непередаваемое волнение. Нечто подобное я испытал, когда впервые услышал свой голос из граммофонного раструба. Но насколько теперь все это неожиданнее, насколько сильнее впечатление!
Надо было немного передохнуть. И подождать, пока «рванувшие галопом часы», в которые я превратился, не обретут размеренный ход. О, мое трепетное состояние благодати! Рядом со мной кто-то пел. В изумлении я огляделся по сторонам, так как не сразу догадался, что поющим был я сам. Третья попытка удалась вполне. Из невероятного далека я почувствовал на сей раз, что отправляюсь в путь. Я открыл глаза…
Человек. Стоит в круге, выпрямившись во весь рост. Без единого движения. Одна рука поднята. Указательный палец показывает на небо.
Затем видение исчезло: то ли потому, что рассеялось, то ли потому, что я лишился чувств.
Теперь мне известно мое истинное положение. Я знаю, кто я на самом деле. Я увидел себя. Я сумасшедший в саду сумасшедшего дома.
Знаю я и то, что в этом саду я не один. Когда сквозь прогалину в камышовой оплетке я увидел самого себя, неподвижно стоящего посреди сада с поднятой рукой и указывающего на небо пальцем, мне показалось, будто между деревьями были и другие люди: мужчины и женщины. Отчетливее всего я разглядел одну женщину. Внешне она была очень похожа на Элеонору Дузе[86]: вся в белом, словно жрица, руки безжизненно опущены, голова запрокинута так, что шея и подбородок находятся на одной линии. Двигалась она медленно, не обращая внимания на окружающие предметы и следя лишь за призраками, которых рисовало ее воображение.
Остальных я рассмотреть не успел. Впрочем, мне почему-то запомнился деревянный человек на шарнирах. Такой, знаете ли, классический полковник с закрученными вверх кончиками усов; одетый наполовину в гражданское, наполовину в военное, как отставной офицер: брюки со штрипками, китель с воротником стоечкой. Передвигался он короткими прыжками по ковру из сосновых иголок, широко расставив согнутые в коленях ноги, словно скакал на невидимом коне.
Где же мои товарищи по заточению? Я их не вижу, но они есть. Чтобы снова увидеть их, я должен опять погрузиться в состояние сверхвосприятия, позволившее мне видеть не только их, обычно невидимых, но и меня самого вне меня самого. Хотя, честно говоря, у меня нет особого желания повторить эту попытку. Я чувствую, что второго раза мне не пережить.
Наконец-то я понял, в чем состоит «безмятежность» этого места. Его невероятная притягательная сила и непреодолимая центростремительность. Почему здесь совершенно не нужны сторожа; почему ограждение усадьбы и решетки на окнах существуют только «для вида».
Одиночеству, как состоянию, благоприятному для спокойствия, здесь придается такое значение, что в Уголке позаботились о том, чтобы пациенты не видели друг друга. Поэтому каждый из них полагает, что он тут один.
Я не разделяю такого подхода. Я считаю, что спокойствие, одиночество и тишина одинаково не спасают от сумасшествия; вместо того чтобы противодействовать — способствуют ему, обогащают и питают его, создают для сумасшедшего соразмерную ему среду.
Сумасшествие и есть спокойствие, одиночество, тишина. Это чудовищное спокойствие, чудовищное одиночество, чудовищная тишина разума.
Будь по-моему, я бы лечил сумасшествие с помощью внешнего воздействия, которое нарушало бы спокойствие, населяло одиночество, наполняло шумом и грохотом тишину. В этом саду день и ночь гремели бы военные марши, дзинькали тарелки, громыхали барабаны, звенели цимбалы. Отовсюду доносился бы невообразимый шум. Везде сновали бы люди и машины, настоящие и механические животные. Все переливалось бы яркими огнями и красками.
У сумасшедшего уже не было бы ни времени, ни возможности быть сумасшедшим.
Ибо сумасшествие — это сокращение умственного пространства. Сжатие умственного времени. Разрушение умственной перспективы.
Сумасшествие — это неведение прошлого и будущего. Это неведение последовательных планов перспективы: видна одна только рампа; кулисы же и тем более задник уже не видны. Все, о чем он говорит и думает, сумасшедший располагает в настоящем; все видимое он переносит на передний план.
Что было бы с видимым миром, если бы из него исчезла перспектива и все видимые формы сплющились бы перед нашим лицом? Это было бы сумасшествием зрения.
Сумасшествие — это еще и уменьшение числа идей. Чем больше в голове человека идей, тем больше у него возможностей сохранить умственное равновесие. Это все равно что плыть по морю истинного и ложного в окружении множества спасательных кругов (идей). Чем меньше у человека идей, тем меньше у него возможности удержаться на плаву. Человек, у которого лишь одна идея (диктатор), держится на плаву исключительно за счет небольшого пробкового слоя на подошвах своих сапожищ. Ниже одной идеи начинается сумасшествие. Потому что ниже одной идеи идея не кончается, но начинаются осколки идей, обрывки идей, остатки идей, отбросы идей. Опускаясь ниже одной-единственной идеи, диктатор впадает в сумасшествие и тащит за собой народ, его породивший и следовавший за ним как за самой живой, сильной и выразительной частью себя. Ибо, бесполезно это скрывать, и всякие отречения задним числом никого не обманут, диктатор — это душа народа, олицетворенная в одном человеке. Это выражение худшей стороны народа; выражение зла, которое несет в себе народ; это язва, опухоль, но это и выражение всего самого глубинного, самого темного и одновременно самого сильного, что есть в народе. Именно в этой человекоопухоли народ выражает свою глубинную суть, именно ей доверяет он свою совесть, именно на нее возлагает собственную ответственность. Облегчая тем самым совесть и избавляясь от ответственности. Когда же диктатор низвергается в пропасть, в которую его сталкивает одна-единственная идея (его сумасшествие), народ, также влекомый диктатором в пропасть, останавливается на самом ее краю. Потому что народ уже не отягощен грузом совести и бременем ответственности. Это позволяет ему обрести удивительную легкость и подвижность, дает возможность совершенно невинно и искренне отречься от диктатора; иными словами, позволяет ему отречься от самого себя и обратиться, после низвержения диктатора в пропасть, к прямо противоположным ему людям, к прямо противоположным диктатуре политическим формам. Только ли неутолимая жажда власти переполняет диктатора? Нет. Его переполняют все пороки, все зло, вся гниль породившего его народа. Он — человекоопухоль. Он, этот человек, взваливает на себя все зло, всю порочность народа. Когда из своего нутра народ производит на свет диктатора, это значит, что зло образовало в нем пробку и он хочет скатать его в комок, в химус (в человека), чтобы таким образом избавиться от него. Смерть диктатора есть отторжение зла и очищение организма, исторгнувшего из себя зло. Чувствуешь ли ты себя легче, здоровее, чище, итальянский народ, после того, как исторг из себя и отшвырнул в сторону свое зло, своего диктатора? Смотри же! Если ты хочешь пользоваться благами этого отторжения, не отрекайся от своего диктатора. Не говори и не вопи на каждом углу, будто ты всегда был против него; будто он, чуждый тебе, согнул, поработил и изнасиловал тебя. Исполнись высокого, искреннего благородства и уважения к истине и скажи, что твоим диктатором был ты сам. Только так, теперь, когда ты освободился от этого «самого себя», словно облегчился, только так обретешь ты право чувствовать себя свободным и очищенным.
— Все верно, — произнес чей-то голос за моей спиной. Я обернулся: никого. Голос продолжал: — Лично я не отрекаюсь от своего диктатора, и теперь, когда поняла это, могу сказать, что не он породил меня, а я породила его — сидевшее во мне зло. Приехав сюда, я освободилась от своего зла, как от рвотной массы.
Я узнал голос Элеоноры Дузе. И спросил ее:
— Это вы о Габриэле[87]?
Из пустоты золотой голос ответил:
— Да.
И добавил:
— Для нас, женщин, освобождаться от зла еще важнее, чем для вас, мужчин. В нашем сумчатом организме, созданном больше для того, чтобы получать, а не давать, зло накапливается и переполняет нас до удушья.
Как я заботилась о своем диктаторе! Во время моего первого турне по Соединенным Штатам импресарио и слышать не хотел о том, чтобы в репертуаре были пьесы Габриэле. Он говорил, что они жутко занудные, что зритель на них не пойдет, и, сказать по чести, он был недалек от истины. Но я стояла на своем: или по-моему, или никак. В конце концов моя взяла. Так что кроме «Дамы с камелиями» и «Кукольного дома» мы давали то «Джоконду», то «Мертвый город»[88]. Зал был пуст, но я все равно выходила на сцену, а после спектакля мчалась на телеграф и отправляла ему в Италию телеграмму о шумном успехе, а заодно и чек с воображаемым авторским гонораром из собственного кармана.
Пока Элеонора говорит, ее голос постепенно заглушается неясным подземным гулом. Гул медленно нарастает, и последние слова я разбираю уже с трудом.
С тех пор как я живу в Уголке, природа пребывает в странном безмолвии. Не слышно ни раскатов грома, ни шума дождя, ни шелеста ветра. Небо застыло в неизменной голубизне. Только по ночам слышишь иногда, как где — то вдалеке рокочет море. Когда я гашу свет и проваливаюсь в вязкий желатин сна, меня поражает и одновременно умиляет то, как волнуется и пыхтит море в мокрой, пенистой бессоннице, словно эпилептик, приговоренный к бесконечному припадку.
Однако не проходило и дня, чтобы этот безоблачный покой не нарушался продолжительным гулом. При каждом внезапном толчке земля начинала дрожать, сотрясая и слабые корни Уголка. Затем шум сменялся долгими, угасающими перегудами и тонул в бездонном небе, похожем на перевернутый океан.
После каждого толчка тот же голос, что произнес над моим ухом название этого ужасающего кораллового цветка — решетника, известный мне теперь как голос Элеоноры Дузе, объявил, что рудокопы взорвали мину в одной из каменоломен у подножия близлежащих гор, вонзающихся в небо остриями высоченных вершин, с которых, как глазурь на пирамидальном торте, стекает сверкающая белизна ледяных шапок.
И все же, несмотря на вкрадчивость голоса Элеоноры, такое объяснение показалось мне неубедительным. От этих подземных встрясок веяло чем-то неизъяснимо гибельным, совсем иным, чем во время обычных взрывов на мраморных рудниках: оглушительных, но каких-то добрых и полезных.
Вчера, после одного особенно мощного толчка, все двери и окна в Уголке разом распахнулись. Толпа воздушных жителей хлынула в дом. Воздушный поток оторвал меня от пола и швырнул в кресло. Стиснутый в объятиях Лулу, я увидел, как из земли поднялся огромный черный гриб и зонтиком раскрылся в небе. Пока грохот этого извержения волнами относило прочь, голос Элеоноры, вкрадчивее обычного, произнес:
— Сегодня рудокопы взорвали еще одну мину.
Я был настолько оглушен, что даже не заметил, как Лулу принялась неистово облизывать меня, выделяя при этом обильную густую слюну. В этот момент слева пробился еще чей-то голос и резко оборвал Элеонору:
— Никакие это не мины. Уж я-то в этом разбираюсь: как-никак артиллерист, полковник в отставке.
Отчаянным рывком я высвободился из мерзких объятий Лулу.
Вне всякого сомнения, это был голос того самого полковника с закрученными усами, который гарцевал на несуществующем коне.
— Это немцы тут все заминировали, — пояснил голос военного. — Бывало, наступит на мину ребеночек — их здесь вон сколько играет, — так все вокруг и взлетит на воздух.
И тут же прибавил:
— Во-он падают останки детей в кровавом розовом дождичке.
Я побледнел и, хотя не видел лица Элеоноры, почувствовал, что побледнела и она.
То были шумы внешние, но существует еще шум «внутренний».
Эту сторону моей жизни определяет зубная боль и ее неизменные спутники: невралгия, сверление, пломбирование, удаление и так далее. Неожиданно в сознании возникает отчетливое воспоминание из недавнего прошлого — ощущение, испытанное мной сквозь немоту заморозки, разлившейся по безучастной, съежившейся челюсти после тройного укола новокаина во время изнурительно долгого удаления коренного зуба: сотрясение зубного канала, затем рывок, высвобождение корней и, наконец, их медленное скольжение по каналу. Теперь я чувствую, как уже не во мне, а в этой земле, в которую пустил свои слабые корни Уголок, происходит то же сотрясение глубины, тот же рывок высвобождения и то же скольжение корней по выходному каналу.
Голос Элеоноры изрек:
— Деревья готовы отправиться в путь. Что же будет с нами? Господи, да будет воля Твоя.
Поначалу до меня не дошел смысл этих странных слов. Актеры и актрисы декламируют не смысл слов, а их форму. И это правильно. Смысл слов не имеет формы, а значит, и не нуждается в декламации. Декламировать означает облекать формой слова, придавать форму по сути своей бесформенному. Искусная декламация — это ваяние звуков, звуковая культура. И нет нужды говорить, что в пластике художественного слова Элеонора Дузе не имеет себе равных. Я не видел Дузе, ибо здесь, в Уголке, она невидима, как невидим отставной полковник, как невидим я сам, как невидимы другие гости этого маленького закамуфлированного дома умалишенных; но «рисунок», «живопись» ее голоса выдавали ее жесты. Когда в конце она произнесла: «Господи, да будет воля Твоя», я увидел смирение и веру, в совершенстве переданные мимикой, движением глаз, рук — всем ее телом, превратившимся в тончайший выразительный инструмент.
Бог — какое удобство! Какой неиссякаемый источник риторики! Какой вдохновитель изящества! Возможно, Бог окончательно лишится содержания в тот день, когда люди привыкнут выражаться не столько жестами, сколько словами и будут пользоваться словом, исходя из его смысла, а не выразительности.
Как-то раз приехал я на денек к своим друзьям в Каррару. Ночевать меня поместили в «розовую комнату». Над моей кроватью нависал балдахин, расшитый золотыми звездами, а сбоку вместо тумбочки стояла скамейка для молитвенного коленопреклонения, обитая густой медвежьей шкурой. Как стул приглашает нас сесть, лестница — подняться или спуститься, а обнаженная женщина — оплодотворить ее, так и скамейка для молящихся приглашает преклонить колени. Назначение скамейки, усиленное мягкостью медвежьей шкуры — никто не постиг значения в молитве коврика так глубоко, как мусульмане, — а главное, отсутствие посторонних взглядов (многое в этой жизни мы делаем только потому, что пока мы это делаем, нас никто не видит) побудили меня, совершенно чуждого всякой форме молитвы, встать на колени. Впрочем, это был всего лишь миг; я тут же пришел в себя и наутро покинул дом моих друзей. Но если бы я подольше погостил в этом доме и провел еще несколько ночей в «розовой комнате», то, наверное, подвергся бы искушению снова преклонить колени на скамеечку, а коленопреклоненная поза, наверное, привела бы меня к естественному и неизбежному следствию коленопреклонения, то есть к молитве. И тогда летопись отечественной словесности, видимо, пополнилась бы еще одним случаем обращения к вере.
Я подошел к двери, выходившей в сосновый бор. Рыжие стволы сосен корчились в отчаянных судорогах. Их чешуйчатая кора трещала, топорщилась и лопалась от подземных конвульсий корней. Из спутанных крон вырывался протяжный зов; его отголоски доносились со всех сторон света: с севера, юга, востока и запада. И все они повторяли одно слово — «Деревья», но на разных языках: «Alberi!.. Arbres!.. Baument!.. Trees!.. Дерева!..» Откуда-то послышалось даже греческое: «Dendra!», но едва различимое и далекое.
Меж тем внутри меня звучал голос Элеоноры Дузе:
— За это застывшее время — 9.45 — пролетели миллионы столетий, и вот уже царство человека на земле подошло к концу. В этот промежуток, если вообще позволительно употребить столь узенькое словцо по отношению к столь безбрежному периоду времени, конец царства человека ознаменовал собой и конец всяких рас. Белая раса достигла предела собственного упадка и ни разу больше не воспрянула духом; пришедшая ей на смену желтая раса тоже прошла свой путь. Даже раса чернокожих, последняя из четырех, поднялась и спустилась по кривой своей судьбы. После этого настало царство других высших млекопитающих: лошадей, быков, собак. Но длилось оно совсем недолго и было скорее межцарствием, ибо животные эти представляли собой прежде всего подражания человеку, а подражания живут короткую жизнь теней. Отныне же наступает царство деревьев.
— Деревья! Деревья! Деревья!
— Пока мы, люди, занимались в этой жизни исключительно собой, совершая преступления и убийства, росли и крепли другие формы жизни, о которых мы и не подозревали. Никто из нас не сомневался в собственном превосходстве, в собственном неограниченном господстве; именно в этом утверждался в первую очередь наш коллективный инстинкт.
Мы чувствовали себя уверенными и замкнутыми в царстве человека. Словно непреодолимая граница отделяла нас от животных, растений, не говоря уже о камне, воде и воздухе. Словно мы одни могли преодолеть эту границу, а остальные — нет. Пробовал ли кто-нибудь определить степень эволюции деревьев нашего времени по сравнению, скажем, с каменными папоротниками пермского периода? За это время деревья тоже проделали немалый путь; они показали, что и у них есть душа; между тем, когда я разъезжала по миру, играя в пьесах Ибсена, люди сомневались, есть ли у женщины душа, как сомневаются, кстати, и поныне. На подобную тупость эти отверженные отвечают насилием. Вы слышите их? Упаси нас Боже от их гнева! Первыми, кто разорвет кожуру тишины и неподвижности, будут сосны.
— Почему?
— Потому что они более честолюбивы, — заключила Элеонора.
Это были последние слова, которые я от нее услышал. И не знаю, услышите ли вы еще что-нибудь от меня.
Комья земли вылетали из-под стволов деревьев. Высокие сосны склонялись над низкорослыми собратьями, чтобы общими усилиями вырваться из земли. Первые корни, показавшиеся на поверхности, шипели и извивались, словно ножки гигантских насекомых: выбравшись на землю, они сделали первые шаги. Некоторые деревья, потеряв корневую опору, зашатались и вот-вот упали бы, но вовремя подоспевшие товарищи поддержали их. Это было первое проявление солидарности среди деревьев.
Не с неба несется теперь страшный ветер, а с силой вздымается от земли.
Вот уже все сосны высвободили свои корни и движутся плотной стеной.
Начался марш деревьев.
(Музыка.)
ГОЛОС ПОСЛЕДНЕГО ЧЕЛОВЕКА,
(Говорит по-французски, чтобы деревья поняли его на этом последнем из международных языков.)
Que l’expérience
d’un monde qui s’achève, passe
au monde qui commence.
Arbres, écoutez![89]
(Глухой гомон собирающихся вместе деревьев.)
Connaissez-vous le nom trè vénéré?[90]
ГОЛОС ДУБА, ПРЕДВОДИТЕЛЯ ПЛЕМЕНИ ДЕРЕВЬЕВ.
Profondeur[91].
ГОЛОС ЧЕЛОВЕКА.
Nom sans objet.
Car profondeur n'est
que surface en formation[92].
(Ропот в бесконечном море крон.)
ГОЛОС ЧЕЛОВЕКА.
Connaissez-vous la grande méprisée?[93]
ГОЛОС ДУБА-ПРЕДВОДИТЕЛЯ.
Surface.[94]
ГОЛОС ЧЕЛОВЕКА.
En elle tout est,
et reflète
sa face.[95]
(Пауза.)
De l'infini profond n’est vrai
que ce qui est appelé
à devenir surface.
Le reste est faux, où les matières divinisables
roulent sans lendemain,
et repoussées sans cesse
comme inutilisableas[96].
(Пауза.)
СПРАШИВАЕТ ДУБ-ПРЕДВОДИТЕЛЬ.
As-tu quelque chose encore à dire? J’écoute[97].
ГОЛОС ПОСЛЕДНЕГО ЧЕЛОВЕКА.
Non, rien. Arbres, voici la route[98].
Дом по имени Жизнь
Он не в силах был унять охватившее его смятение. Он торопился. В этот непривычно ранний для него час Аницетона поразила галантерейная лавка сестер Бергамини: железная ставня опущена, тент свернут, а его оторванный край полощется на холодном ветру как крохотный, жалкий флажок. На улице ему повстречался один-единственный прохожий: какой-то старик шел длинными зигзагами, вычерчивая на тротуаре подобие молнии, и что-то невнятно бурчал себе под нос с озабоченным видом. Поравнявшись с Аницетоном, старик с удивлением вскинул на него глаза, церемонно приподнял шляпу и воскликнул: «Да здравствует молодость!» Аницетон вздрогнул, отшатнулся к стене и, ничего не ответив, зашагал быстрее.
Встреча со стариком лишь усилила царившее в нем смятение. Он остановился. Хотел было вернуться, но вовремя понял, что придется обгонять старика, ковылявшего еле-еле; а вдруг тот снова гаркнет: «Да здравствует молодость!» Ему стало не по себе. Сделав над собой усилие, он направился в сторону вокзала, словно навсегда расставаясь с…
Накануне он поставил будильник на пять. Быстро и бесшумно оделся. Перед тем как выйти, подкрался к комнате матери и прислушался. Из комнаты не доносилось ни звука; не было слышно даже тяжелого материнского дыхания. Видно, под утро ее сон и впрямь сбрасывал с себя ночную тяжесть и становился невесомым. Когда Аницетону случалось возвращаться домой за полночь, дом напоминал ему кузнечный горн, неровно пыхтевший стесненным дыханием. Аницетону было больно и стыдно. Ступая по коридору на цыпочках, он недоумевал, как этот могучий, животный рокот может исходить из такого щупленького, ничтожного тельца, тем более что в постели, уже без парика и вставной челюсти, в косынке с нелепо торчащими надо лбом концами — кроличьими ушками, мать выглядела совсем крошечной и высохшей.
Парадная дверь оказалась запертой. В углу лежала свернутая трубочкой циновка. На пороге он обернулся и выхватил взглядом почтовый ящик, на котором значилось имя матери: «Изабелла Негри». Он посмотрел на него так, как смотрят в последний раз на отчий дом. Виа Плинио была пустынна и пронизана еще ночным холодом. Уехать, не попрощавшись с матерью… Казалось, он оторвался от земли, от жизни, от чего-то родного и доброго и теперь свободно парит над миром, на свой страх и риск.
Неужели все это только потому, что он отправляется на прогулку по озеру Маджоре?
Он дошел до вокзальной площади. А вдруг с матерью что-нибудь случится? Вдруг по возвращении он уже не застанет ее в живых?.. Вздор!
Мать… Земля…
В Ароне он сел на прогулочный пароходик. Через открытый палубный люк он увидел, как в машинном отделении заходили шатуны. В этот момент к нему обернулся кочегар с двумя белыми глазницами на вороном лице, и Аницетон отпрянул от люка. Потом он завороженно следил за лопастями пароходного колеса, рассекавшими белесую от пены воду. Из оцепенения его вывел суетившийся со швартовом матрос. «Мешаем отплытию», — отрывисто бросил он в адрес Аницетона. Пароходик плавно отделился от пристани.
Билет первого класса ставил его обладателей в привилегированное положение, но одновременно и кое к чему их обязывал. Аницетон поочередно засовывал в карман то одну, то другую руку, переставлял ноги то так, то сяк, облокачивался на поручень, упирал руки в бока, с видом знатока смотрел на озеро, наблюдал за чайками, подлетавшими к самой воде, чтобы ущипнуть ее клювом, любовался берегами, оживленными то тут, то там виллами, лесистыми склонами гор с обнаженными вершинами, за которые цеплялись пролетавшие мимо облака. Знаменитый пейзаж вызывал у него должное уважение. Аницетон был доволен собой.
Завтракали на острове Пескатори. За соседним столиком сидела влюбленная парочка из Скандинавии. Скрестив правые руки, они пили на брудершафт, а левыми пытались поймать ладони друг друга под столом. Осушив графин вина, Аницетон почувствовал приятный дурман в голове. Когда-то и он… И он пил с девушкой на брудершафт… у нее были светлые волосы… ее звали Изабелла… В уме он пересчитал остававшиеся в кармане деньги, но, так и не определив точной суммы, заказал яичницу с джемом, которую официант стал готовить в его присутствии над струйками бирюзового пламени.
На острове Белла, смешавшись со стайкой туристов, семенивших за гидом и жадно ловивших каждое его слово, Аницетон лицезрел древнюю, точно из губки, свайную постройку, ложе с балдахином, на котором почивал Наполеон I, нисходящие уступами сады, населенные разными статуями.
В Стрезе он сошел с рейсового парохода-парома, заполненного крестьянками, распевавшими под фисгармонию деревенские песенки. Юноши в белоснежных сорочках, богатырского сложения девушки выталкивали в озеро двухвесельные ялики и весело гребли, перекликаясь резкими, как у чаек, голосами.
В саду гостиницы «Борромейские острова», под сенью пестрых зонтов пили чай другие девушки-богатырши и юноши в белоснежных сорочках.
Аницетон был одет в черное и чувствовал себя рядом с ними подавленно. Чтобы проскользнуть незамеченным, он ускорил шаг. Неожиданно в его душе пробудился неописуемый восторг, безграничная вера, предчувствие великого жребия. И он все шел, шел, шел.
Неожиданно остановился. Впереди дорогу переползала змея: пружинистое кольцо то сворачивалось, то разворачивалось.
Медленно и осторожно Аницетон сделал несколько шагов. Змея не сдвинулась с места. Аницетон подошел ближе. Змея была раздавлена посредине. В пыли отпечатались следы автомобильных колес.
Аницетон не мог оторваться от этого завораживающего ужаса.
Отойдя на некоторое расстояние, он ощутил странный холод, неприятный озноб разлился по всему телу.
Оставив позади местечко Палланца, он продолжил путь и вошел в маленький городишко под названием Интра, сплошь утыканный остроконечными гребнями крыш. Вечерело. Слева от города открывалась долина, к которой вела извилистая дорога. Куда дальше? Двигаясь вдоль берега озера, Аницетон повторял маршрут прогулочных пароходиков, возвращавшихся туда, где был его дом. Но неведомый путь непреодолимо влек его за собой. Аницетон не стал долго раздумывать.
Дом по имени «Жизнь».
Скоро исчезли последние признаки жилья. Со всех сторон Аницетона обступала сплошная стена леса; ночные сумерки сгущались. В последнем отблеске уходящего дня, как будто самый этот отблеск обратился в звук, Аницетон услышал скрипку.
Где он слышал этот мотив раньше?
Аницетон двинулся в путь по ниточке звука.
Вскоре он увидел виллу; даже не виллу, а ярко освещенный дом в несколько этажей.
Аницетону кажется, будто в окнах дома отражаются и сверкают закатные блики. Но, приглядевшись, он замечает, что и боковые окна светятся так же ярко. Да и солнце давно зашло, небо постепенно затягивается темно-синей поволокой ночи, а слабого розового свечения, что еще брезжит на западе, вовсе не достаточно, чтобы вызвать такой ослепительный блеск. Ломтик луны одиноко теплится в вышине. Нет, это не частный особняк. Наверное, гостиница. Все номера заняты. И сегодня на борту праздник…
Почему он сказал «на борту»? Мысленно он сравнил этот ярко освещенный дом с океанским лайнером, плывущим ночью в бескрайнем морском просторе, рассекая густую мглу огненными лезвиями бортовых иллюминаторов. Аницетон расчленяет невольное сравнение и старается его осмыслить. Слова «на борту» слетели с уст сами собой, и, как это часто с ним бывает, он пробормотал их вслух. Аницетон очнулся. Он вернулся к действительности от звука собственного голоса. Аницетон в изумлении. Он озирается по сторонам. Почему люди стыдятся говорить вслух наедине с самими собой? К счастью, рядом ни души, а дом слишком далеко. Привычка рассуждать вслух появилась у него от постоянного одиночества, от отсутствия друзей, от отсутствия товарищей.
Аницетон и его мать живут вдвоем. Одни. Пока Аницетон был маленьким, их отношения были очень близкими; они все время общались; между ними не было никаких недомолвок; им нечего было стесняться, нечего скрывать друг от друга. Теперь Аницетону двадцать. Их совместная жизнь онемела. Вслух Аницетон произносит лишь самые необходимые слова. На вопросы матери он или вовсе не отвечает, или небрежно роняет в ответ два-три слова; часто огрызается, чтобы исключить всякую возможность общения. Он страдает от этого, но иначе поступить не может. Он страдает потому, что чувствует, как день ото дня отношения с матерью черствеют, перестают быть близкими и доверительными. Он уже знает, что скоро они станут совершенно посторонними людьми, обреченными вечно жить вместе. И он оплакивает смерть их дружбы — самой утешительной, самой драгоценной из дружб. Почему в сыне, живущем вместе с матерью, обязательно возникает это унизительное чувство, этот страх быть осмеянным? И еще эта скука, — как ее скроешь? — эта постыдная необходимость во всем соглашаться: в мыслях, вкусах, суждениях?
Никаких сомнений: в доме праздник. Ведь не зря оттуда по-прежнему доносится звук скрипки. Все тот же мотив, услышанный еще на дороге. Теперь он звучит громче и отчетливее. Мелодия медлительна и однообразна. Ужасно знакомая мелодия. Где-то он ее уже слышал. Но где?
Перед домом — ухоженный сад. Аницетон остановился у калитки. Прежде чем войти, он хотел бы кого-нибудь увидеть. Но в саду никого. Может, позвать? Неудобно, еще побеспокою… Сейчас, наверное, все слушают скрипача.
Нет, кажется, в саду кто-то есть. Как обратить на себя внимание? Из-за куста вылетает крупная птица.
Где же звонок? Звонка нет. Аницетон решается открыть калитку. В конце концов он не какой-нибудь там бродяга. Да и визитные карточки у него при себе: их заказала для него мать. В уголке каждой визитки оттиснута миниатюрная баронская корона.
Калитка поддается легко: она уже отперта. С чего это к вечеру в голову Аницетона лезут всякие нелепости? Вот и сейчас, когда путь свободен, ему кажется, что он на берегу моря и пройдет по воде словно по суху.
По бокам аллеи из сумерек выступают округлые очертания клумб. Шапки самшитов и гирлянды вьющихся растений выстроились в почетном приветствии. Широкие лоснящиеся листья тропических деревьев склонили свои опахала. На робкую поступь Аницетона галька отвечает «господским» поскрипыванием. Аницетон чувствует, что и его костюм, который незадолго до этого мать перекрасила в черный цвет, и его пыльные башмаки — словно родимое пятно на холеном теле этого сада. Аницетону хотелось бы носить белый пиджак и черные брюки. И быть высоким блондином. И так предстать перед благородным обществом, собравшимся в этом доме. Перед прекрасными, но безразличными и холодными дамами. Перед надменными, точно амазонки, девушками, питающими к таким мужчинам, как он, разве что презрение.
А костюм у него — стыд и срам. Правда, не надень он утром эту перекрашенную хламиду, так и пришлось бы идти в сереньком пиджачишке с хлястиком, который мать перелицевала у портного-привратника из соседнего дома, а чтобы незаметен был перенос правого кармана, поставила другой карман слева. А его зимнее пальто? Воротник и обшлага рукавов до того обтрепались, что мать обшила их бархатом. И еще подшучивает над этим позорищем: говорит, что с бархатными обшлагами Аницетон напоминает поэта-романтика.
Чем ближе к дому, тем отчетливее слышен звук скрипки. Теперь ясно, что он доносится откуда-то с верхних этажей. Но почему скрипач повторяет один и тот же мотив? Аницетон замедляет шаг и останавливается, надеясь и в то же время боясь встретить кого-нибудь.
Перед входом сгрудились плетеные кресла и шезлонги. Под цветным матерчатым навесиком мерно раскачивается качельная доска, словно кто-то только что с нее соскочил.
И кресла, и шезлонги, и качели еще хранят «человеческое тепло». Они сохраняют позы и формы своих хозяев. Вот здесь беседовали двое: мужчина и женщина. Оба плетеных кресла почти одинаковые, и все же мужское кресло отличается от женского едва уловимыми признаками. Аницетон представляет себя в мужском кресле, а в женском… Но почему, почему до сих пор это всего лишь мечта — та любовь, что переполняет его душу?
Даже имя усугубляет убогость и несуразность его жизни. Такие имена, как Аницетон, напрочь перечеркивают любую судьбу. Самое подходящее имя для маменькиного сынка — мужчины, который в сорок лет гуляет с мамочкой под ручку; а жизнь-то уже вся позади. Вот если бы его звали Джанкарло или Уберто… Аницетон слышит, как чей-то женский голос зовет его: «Уберто-о!»
Имя «Аницетон» вполне можно принять за шутливое прозвище. В тот день, за обедом, он принялся было объяснять этим девушкам (напоившим его, в конечном счете), что на самом деле имя это греческое и означает оно «непобедимый». Они так и покатились со смеху. Аницетон готов был хоть сквозь землю провалиться. Хорошо, положим, из Аницетона можно сделать Ницетона, Ицетона, Цетона, наконец. Но куда деться от упрямого созвучия с «ацетоном»?
Вот в этом глубоком кресле с нишей для головы — этакой сидячей сторожевой будке; в старинном домашнем кресле, напоминавшем старомодную тетушку в бесчисленных оборках и плотно облегающем маленькую головку кружевном чепце, кто-то не раз находил уединение, погрузившись в чтение или раздумье. Теперь в том же кресле Аницетон воображает себя на месте уединившегося незнакомца, безразличного к кокетливым девицам и совсем не такого, как все его сверстники — поверхностные и пустые.
Справа четыре господина слушают о чем-то оживленно говорящего пятого. Слева еще трое пьют за столиком чай.
Почему же с другого столика до сих пор не убраны пустые чашки с кружочками кофейной гущи на дне? Почему нож никак не оттолкнется от края масленки? Почему на чайной ложке все еще подрагивает блестящая медовая слеза? А возле чашек топорщатся смятые салфетки?
Из дома еще никто не выходил. Наверное, и не выйдет, пока играет скрипка. Тогда тем более стоит… Аницетон подходит к двери. Недалеко стоит третий столик. На столике — разноцветные бутылки; перед ними, словно офицер перед взводом солдат, — пузатый, в соломенном узоре сифон сельтерской с угрожающе поднятым торпедообразным жерлом. То тут, то там на столике вытянулись рюмки; некоторые пусты, хотя на донышке окрашены пунцовой жижицей; некоторые налиты до половины — плавает на поверхности лимонная долька — и покинуты сотрапезниками.
Что же это за дом, внешне такой солидный, где аперитив, чай и завтрак подаются одновременно? Видно, прислуга здесь совсем никудышная, потому и у калитки, и в саду, и у входной двери ни души. Тут, думает Аницетон, вспоминая излюбленное французское выражение матери: on entre corame dans un moulin[99], заходи кто хочет. Почему эта скрипка все время повторяет один и тот же мотив? Аницетон размышляет над новой аналогией — между однообразным мотивом скрипки и монотонным скрежетом мельницы.
Напрасно Аницетон ищет возле двери звонок. Звонка нет. Вместо него — бронзовая рука, маленькая, изящная женская рука. Аницетон неохотно дотрагивается до нее. Он боится, что рука схватит его руку и не даст вырваться.
Вместо этого бронзовая рука стучит в дверь. Аницетон в растерянности. Он никак не ожидал, что эта точеная женская ручка способна так громко и властно стучать. Но еще больше он растерялся, когда почувствовал, что заваливается вперед. Дверь оказалась чуть приоткрытой, и Аницетон еле успел ухватиться за косяк.
От стука бронзовой руки звук скрипки внезапно оборвался. Аницетон замер на пороге вестибюля. Его взгляд переходит с дверей, выходящих в вестибюль, на верх лестницы.
Но и там никто не показывается. В этот момент за его спиной раздается слабый стон.
Аницетон резко оборачивается и видит, как дверь медленно закрывается сама собой.
Аницетон смеется над своим испугом. Он смотрит — с еще трясущимся подбородком — на хитроумный механизм, приделанный к двери: пружина постепенно распрямляется. На эмалевой табличке надпись: «Не закрывайте дверь: Блюнт сделает это за вас». По мере того как стон затихает, словно жалобное поскуливание отмучившегося зверька, Аницетон думает, что если бы дверные петли слегка смазать, то не было бы этого противного скрипа. Но разве дождешься этого от прислуги, которая даже не удосужилась убрать со столов после завтрака, меж тем как время ужинать?
Когда дверь закрылась, скрипка зазвучала вновь. Теперь она звучит ясно и громко. Должно быть, скрипач находится в одной из комнат верхнего этажа. Но почему он все время повторяет один и тот же мотив?
В скупой обстановке вестибюля бросается в глаза странная пестрота стилей. Ларь эпохи Ренессанса примостился бок о бок с хрустальным столиком; ножничный стол «Савонарола» составляет дуэт со сверкающим металлическим стулом, трубчатые ножки которого причудливо загнуты буквой S.
На черном мраморном шаре, установленном поверх низкой колонны у подножия лестницы, застыла на крылатой ноге стройная фигура Гермеса, грациозно держащего светящуюся сферу.
Широкая лестница, застеленная полосатой дорожкой с красным кантом, повторяет ту же странную разнородность стилей. От первого до второго этажа лестница пробегает два марша; на кованой железной решетке перил закругляются в виде тюльпанов завитки в стиле модерн. Всего Аницетон насчитал еще три этажа. Со второго на третий ведет лишь один марш с решеткой из вертикальных прутьев вперемежку с окружностями и трапециями. Между третьим и четвертым вместо перил поблескивают длинные стальные трубы.
На втором этаже скорей всего располагаются спальни. Аницетону было бы ужасно неприятно, если бы его вдруг застали в этой самой деликатной части дома. Еще, чего доброго, за вора примут. Хуже того: подумают, будто он проник сюда, чтобы застать в интимной обстановке…
Но кого?
Аницетон кашлянул раз, кашлянул два… Может, позвать? Наверное, не стоит. Да и кого звать, как звать? «Эй, в доме?» или «Есть тут кто живой?» Полная нелепица.
Шум его шагов мог бы привлечь чье-то внимание, но Аницетон почему-то проходит вестибюль на цыпочках. Он входит в залитую ярким светом гостиную. Гостиная пуста. Тем не менее чувствуется, что совсем недавно здесь были люди. На подлокотнике старинного кресла, сужающегося в талии, точно женщина, стиснутая корсетом, оставлено рукоделье. Аницетон неподвижно стоит посреди гостиной. Через ноздри в него проникает приятное волнение — легкий аромат женщины. В вазах стоят еще влажные розы. Чуть дальше, на шарнирном, почти зубоврачебном кресле лежит раскрытая книга. Что же читала незнакомка? Аницетон подходит ближе. Это «Слушай меня, Клио» Альберто Савинио, в роскошном переплете с рисунком автора, на котором Клио изображена с головой собаки, «замыкающей» за дверью Истории знаменательные события и факты. «В этом доме, — подумалось Аницетону, — я не обнаружил еще ни одной закрытой двери. Что бы это могло значить?»
В курительной Аницетон вдыхает вьющийся сладковатый запах «Честерфильда». Сигарета прикорнула на краю пепельницы. Пепла нагорело с ноготок. Струйка синеватого дыма тянется вертикально вверх, сворачиваясь на полпути в миниатюрное кольцо Сатурна. Вокруг ломберного стола четыре стула; на каждом игровом месте по горстке марок. Карты розданы и открыты: минус пять около дымящегося «Честерфильда», пять напротив; фул семерок слева, фул восьмерок справа. Но выигрыш не тронут; ставка по-прежнему в центре зеленого сукна.
А что там за портьерой?
Недоеденный обед. В тарелках — куски курицы: грудка, волокнистая и белая, как не тронутые загаром женские ноги; ножки цвета лакированного красного дерева; подальше — пустые салатницы и блюда с зеленью и овощами. Посредине стола — простенький низкий канделябр для двух свечей; зато второй канделябр, высокий, на массивной ножке, с раскидистыми подставками для свечей, точно семисвечник из синагоги, украшен фруктами и амурами. Все свечи горят.
На столе в комнате прислуги стоит серебряная тарелка с остатками курицы: хоровод из картофелин разорван в нескольких местах. На одной из полок Аницетон замечает известное бодрящее средство «Антиастеник», которое мать регулярно дает ему два раза в день, слегка разбавляя водой, чтобы он хоть немного «ожил». Аницетон рад увидеть здесь пузырек «Антиастеника». Он берет его. Аницетону кажется, что он встретил если не друга то по крайней мере старого знакомого. На белой наклейке выведено карандашом:
Изабелла…
Аницетон замирает с поднятым в руке пузырьком. Изабелла… Это же та самая девушка… белокурая… с которой он выпьет на брудершафт на острове Пескатори. Разве ей тоже надо «оживать»? Она болела? Она слаба здоровьем? Может, он застанет кого-нибудь на кухне? Тщедушный ручеек воды струится из крана в тазик, в котором плавает на боку рыба с остановившимся, мутным взглядом. На газовой горелке стоит кофейник. На мраморный стол водружен огромный торт в шоколадной шубе, сплошь утыканной свечами. Аницетон считает свечи: двадцать. Значит, Изабелла его ровесница?
Звук скрипки. Аницетон совсем о ней забыл. Почему снова все тот же мотив?
Проходя по гостиной в обратном направлении, Аницетон видит кресло-качалку, которое не приметил вначале. К черному кругу сиденья четырьмя алыми бантиками привязана подушечка. С кресла только что сошли: оно еще покачивается. Отчего Аницетону кажется, будто это «любимое» кресло бабушки? В старости бабушка Изабелла сохранила девичью живость, взбалмошный нрав и привычку разыгрывать внучат. Возле кресла-качалки на турецкой скамеечке лежит раскрытая книга; на страницах — очки с заушниками. Аницетон нагибается: это «Сентиментальное путешествие» в переводе Дидимо Кьерико[100].
Не обнаружив обитателей дома ни в гостиной, ни в столовой, ни в кухне, Аницетон считает себя вправе подняться на второй этаж. Поравнявшись с лампоносным Гермесом, Аницетон обходит его стороной: он боится, как бы вестник богов не шарахнул его по темечку своим светящимся шаром. Аницетон вступает на лестницу. Но почему это он идет по краю ступенек? Аницетон смелеет и переходит на полосатую дорожку: он «попирает» ее как хозяин. Какое странное ощущение! Словно идешь в воспоминаниях. Постепенно Аницетон начинает чувствовать, что имеет какие-то права на этот безлюдный, ярко освещенный дом.
В коридор второго этажа выходят открытые двери нескольких комнат. Аницетон набирается смелости и кричит: «Есть тут кто-нибудь?» В ответ доносится звук скрипки. Прежде чем пойти по этажу, Аницетон бросает последний взгляд на оставшийся внизу вестибюль, будто с палубы корабля в последний раз смотрит на порт, в который никогда уже не вернется.
Первая комната окрашена в детский розовый цвет. Ребенок только что вышел. Еще чувствуется его запах — запах цыпленка, посыпанного тальком. В центре комнаты манеж с деревянными бортиками и матрасиком, на котором Изабелла может спокойно играть… Он и впрямь подумал «Изабелла»? Аницетон замечает карандашную отметку на розовой стене: рост, число, имя. То самое имя.
А что, если она в ванной? Аницетон отворяет розовую дверцу. В лицо пахнуло теплым паром. По воде скользят пенные купавки; полотенца развешены на белоснежных стульях. На пороге Аницетон оборачивается и смотрит на отметку числа и роста. Но почему скрипка все время повторяет один и тот же мотив?
Теперь Аницетон идет уже не наугад. Теперь он «знает», кого ищет в этом доме. Дрожащей рукой, сгорая от нетерпения, Аницетон открывает заветную дверь…
Мать заказала для него у плотника Садуна наклонную письменную доску, чтобы он писал стоя и не горбился за письменным столом. Эту доску Аницетон вдоль и поперек испещрил разными надписями и рисунками; сначала он вырезал их перочинным ножиком, а потом заливал чернилами. Делал это он скорее от скуки, навеянной строкой из латинской поэзии, уроком истории или задачкой по геометрии.
Наклонная доска прикреплена к стене высоко над полом, чтобы Изабелла не сутулилась… Но насколько же она «чище»! Сразу видно, что здесь занимается барышня. На доске том «Жизнеописаний» Корнелия Непота[101] открыт на странице 126. Рядом тетрадь; ленивым почерком набросаны несколько строк: «Когда же будешь готов пойти войной, то совершишь ошибку, если не поставишь меня…» После слова «меня» стоит жирная клякса, переливающаяся на свету как горящий глаз. Аницетон нагибается: клякса еще свежая.
Переход в соседнюю комнату через коридор лишь продлил бы эту игру в прятки, сделал бы ее еще мучительнее. В два прыжка Аницетон оказывается у внутренней двери и открывает ее.
По всей комнате беспорядочно разбросана одежда: на стульях и креслах, на канапе и даже на комоде. В глубине комнаты массивный платяной шкаф. Дверцы шкафа распахнуты. Во внутренних зеркалах отражается слепящий свет; меж ними, как в театре, живут, повиснув в рядок, платья и костюмы: утренние и прогулочные, вечерние и дачные, с украшениями и без, летние и зимние, демисезонные и на все случаи жизни.
На полу как попало валяется обувь: сапожки с боковой застежкой и горные ботинки, лакированные туфельки и специальные «ортопедические» туфли на высокой пробковой подошве. В пухлой книге на тумбочке зажат серебряный разрезной нож. Аницетон смотрит на название книги: «Гнев»[102]. Значит, и она тоже? На кровати разложено белое подвенечное платье — длинное, с распростертыми рукавами, точно сама невеста без головы и без рук, прокатанная плющильным валиком, называемым в Пьемонте грушедавилкой. У кровати пара серебряных башмачков: один башмачок стоит прямо, другой улегся на бок, как тонущий кораблик.
Аницетон хватает платье. Он хочет спасти невесту. Платье еще хранит ее тепло. Аницетон утыкается в него лицом; он пьет этот запах. Аницетон опрометью выбегает из комнаты — дверь открыта; у него вырывается крик: «Изабелла!» Наверху продолжает играть скрипка.
Чтобы «спасти невесту», он стремглав взбегает на третий этаж. В нерешительности Аницетон останавливается перед сквозным рядом теряющихся вдалеке комнат. Одна из них завалена глобусами, географическими картами, компасами, секстантами, микроскопами, снастями для рыбной ловли, ружьями, патронами, охотничьими сумками; в другой — кубистские картины, бюсты муз и языческих богов, анатомические атласы, манекены с лавровым венцом на деревянном черепе; следующая увешана увеличенными фотографиями: Стравинский за фортепиано, Грета Гарбо в роли Христины Шведской, Леонардо да Винчи в спортивном костюме и с фотоаппаратом «Лейка» через плечо.
Наконец, дотронувшись до очередной дверной ручки, Аницетон почувствовал, что это «их» комната.
Постель — «их» постель — разобрана. Его пижама, ее ночная рубашка — такая прозрачная, такая тонкая, что, взяв ее… Аницетон берет рубашку, еще теплую ее теплом, пахнущую ее запахом, и ночная рубашка — более податливая, чем она, — целиком собирается в его руке.
На ее ночном коврике распластался иллюстрированный журнал, выпавший из обмякшей спящей руки. На раскрытой странице изображен отрешившийся долговязый Ангел, уронивший свое небесное тело в земное кресло.
Если Аницетон еще в чем-то сомневается… Накануне, перед тем как поставить будильник на пять часов, Аницетон почувствовал ноющую зубную боль, принял таблетку цибальгина и положил пачку с лекарствами в ящичек тумбочки.
Аницетон выдвигает ящичек: пачка на месте.
Теперь Аницетон уверен. Он уверен, что за этой дверью…
Да: она была в этой комнате. В воздухе еще звенит стук ее каблучков, звук ее голоса. Что еще? Ее плач…
Наклонная письменная доска опущена; висит на двух резиновых кишках. Стул только-только отодвинули. А что делает рядом с листом бумаги его самописка? Ведь она прекрасно знает, что он не любит, когда трогают его вещи. Аницетон берет самописку и убирает ее в карман. Он смотрит на лист бумаги. Неужели он стал хуже видеть? Чтобы разобрать написанное, Аницетон вынужден нагнуться: «Наша маленькая Изабелла…» На лист бумаги капнула слеза; она размывает два последних слога. Аницетон опирается на доску, чтобы не упасть. Но даже в этом полуобморочном состоянии он отмечает про себя, что из имени «Изабелла» исчезло прилагательное «белла» — «красивая». Нужны ли еще слова?
Аницетон медленно поднимается на последний этаж. Звук скрипки уже совершенно отчетливо доносится из последней комнаты в конце коридора. Аницетон открывает первую дверь. Это спальня. Как и все остальные комнаты, она ярко освещена, но в отличие от них кажется нежилой. Сразу видно, что на кровати, застланной шелковым покрывалом винного цвета, давно никто не спал. Аницетон приподнимает разодранное, изъеденное молью покрывало: под ним матрас в мокрых пятнах и подушка без наволочки. На тумбочке пустая бутылка, накрытая стаканом. На салфетке вышито красными нитками: «Спокойной ночи». Аницетон открывает дверцу тумбочки: бледным глянцем сверкнула опрокинутая ваза. Аницетон вспоминает опрокинутые факелы на мемориальном кладбище в Милане; вспоминает солдат, склоняющих ружья во время генеральских похорон. Его взгляд встречается со взглядом портрета на стене. На портрете изображена седая старуха. Чьи это глаза? Где он видел эти глаза? «Скольких женщин» эти глаза? На ночной коврик упала книга: из-под тумбочки выглядывает только половина. Аницетон поднимает книгу и кладет на салфетку. Это «Моральные сочинения» Леопарди, издания 1860 года. Аницетон выдвигает ящик: парик, вставная челюсть… Как же так? Этого не может быть!
Сколько времени провел Аницетон у этой постели? Перед тем как выйти, Аницетон останавливает взгляд на вышитом пожелании салфетки; но книга загородила несколько букв, и теперь видно лишь «Спокойчи».
Аницетон открывает дверь второй комнаты: слепящий свет и пустота. Открывает третью комнату: слепящий свет и пустота. Открывает четвертую: слепящий свет и пустота.
Так продолжается до конца коридора. Аницетон устал. Он чувствует невыносимую тяжесть. Он стоит перед комнатой скрипача. Звук скрипки совсем близко… Дальше идти некуда — это последняя комната. Монотонный мотив по-прежнему повторяется с неумолимой настойчивостью. Аницетон знает, что за дверью он встретит всех обитателей дома. Всех, кого до сих пор не удалось повстречать. И он хотел бы не открывать эту дверь. Не видеть этих людей. Не показываться этим людям. А главное, не видеть настойчивого, монотонного, неумолимого скрипача. Но как это сделать? Он устал…
Он открывает дверь.
В комнате никого. Никого из обитателей дома. Никакой мебели. Никакого…
Посреди комнаты тощенький железный пюпитр. На пюпитре раскрыты ноты, а перед ним —на уровне плеч человека, которого нет, в воздухе висит скрипка; по струнам то вверх, то вниз ходит смычок: то вверх, то вниз, то вверх, то вниз; то вверх, то вниз.
Аницетон уже по ту сторону изумления и страха. Осталась только усталость.
Медленно поднимается правая страница нот…
Вместе с ужасом к Аницетону мигом возвращаются утраченные жизненные силы. Столько раз повторявшаяся мелодия подошла к концу. Новая мелодия начнется на следующей странице, быть может, совершенно чистой.
Аницетон выскакивает из комнаты. Не добежав до парадной лестницы, он замечает справа открытую дверь, а за ней — лестничную площадку. Аницетон бросается вниз сломя голову. Он спускается по лестнице черного хода ровно на столько этажей, на сколько поднялся по парадной лестнице. Наверное, эта дверь выходит в сад. Дверь не поддается. Аницетон толкает изо всех сил. Неистовый ветер, как непрошеный гость, врывается внутрь и отбрасывает его назад.
Ветер растрепал ему волосы. Аницетон вынимает расческу и зеркальце. В зеркальце отражается лицо старика. Нынче утром, когда он уезжал из Милана, ему было двадцать, а матери шестьдесят. Теперь ему самому уже шестьдесят…
Аницетон начинает понимать охватившее его утром смятение. Когда он хотел вернуться и попрощаться с матерью. Значит, в этом ярко освещенном, пустом доме он прожил всю свою жизнь?
Аницетон поправляет реденькие седые волосы и оглядывается по сторонам. Минуту назад ему казалось, что он спустился до конца лестницы. Но он ошибся. Обшитые досками стены отсвечивают прозрачным лаком. В хрустальной бутылке, вставленной в специальное гнездо от качки, плещется бирюзовыми переливами вода. Кровать откидная; на изнанке простыни печать пароходства.
Дверь поддается уже легче. Ветер стих. Палуба мокрая. Отлетающие от борта брызги попадают прямо в лицо. Горизонта не видно. Кругом сплошные белесые гребешки убегающих в сумраке волн. Гулко рокочет море.
Аницетон думает, что если этот корабль и есть корабль смерти, а это море — море вечности…
Он чувствует огромное облегчение.
Примечания
1
Мысль В. В. Набокова: «Спираль — одухотворение круга». (Здесь и далее, кроме оговоренных, — прим. перев.).
(обратно)2
Название цикла стихотворений в прозе Артюра Рембо (1854–1891).
(обратно)3
Говорят, что вначале Леонарди сочинял свои вирши в прозе, а потом терпеливо перелагал их в стихи. (Прим. автора.) Под «завоевателем Гаэты» имеется в виду итальянский генерал эпохи Рисорджименто Э. Чальдини (1811–1892).
(обратно)4
Д. Алигьери. Божественная комедия, Ад, песнь 5, 103. 16
(обратно)5
Т. Тассо. Освобожденный Иерусалим, IV песнь, III строфа.
(обратно)6
папа римский (франц.).
(обратно)7
Расин?.. погодите… это, кажется, поэт? (франц.).
(обратно)8
«В тюрьме Санте» (франц.).
(обратно)9
Нелюбимый (франц.)
(обратно)10
Джузеппе Унгаретти (1888–1970) — итальянский поэт, один из главных представителей герметизма.
(обратно)11
Альбер Тибоде (1874–1936) — французский критик, теоретик литературы.
(обратно)12
Джованни Пасколи (1855–1912) — итальянский поэт.
(обратно)13
Один из основателей буддистского вероисповедания, последний земной будда.
(обратно)14
Софрониск — скульптор, отец Сократа.
(обратно)15
Йохан Хёйзинга (1872–1945) — нидерландский историк, главное произведение — «Осень средневековья» (1919).
(обратно)16
Франческо Гайец (1791–1882) — итальянский живописец.
(обратно)17
Имеются в виду так называемая Палатинская Антология — сборник греческих эпиграмм, составленный Константином Кефалой (конец IX в.), или ее обновленный аналог, выполненный в XIII в. Максимом Планудой.
(обратно)18
То есть от Дарданеллы до Гибралтара.
(обратно)19
вход воспрещен (англ.).
(обратно)20
Жюль Мишле (1798–1874) — французский историк.
(обратно)21
эти европейские азиаты (франц.).
(обратно)22
Речь идет о национально-освободительной борьбе (1821–1829) Греции против турецкого владычества.
(обратно)23
Джованни Боско (1815–1874) — католический святой.
(обратно)24
Желая спрятать украденную жемчужину, негр глотает ее. (Прим. автора.)
(обратно)25
Франческо Де Санктис (1817–1873) — итальянский историк литературы, критик и общественный деятель, участник Рисорджименто.
(обратно)26
«О Граде Божьем» (De civitate Dei contra paganos) — трактат Блаженного Августина (354–430), написанный им под впечатлением взятия Рима королем вестготов Аларихом в 410 году.
(обратно)27
От Мирры — мифической матери Адониса, дочери кипрского царя Киниры, вступившей в связь с собственным отцом.
(обратно)28
Дух зла в древнеиранской религии.
(обратно)29
с Востока идет свет (лат.).
(обратно)30
в своем роде (лат.).
(обратно)31
непременным (лат.).
(обратно)32
Пьер Каламандрей (1889–1956) — итальянский юрист и публицист.
(обратно)33
Джакомо Дебенедетти (1901–1967) — итальянский писатель и критик.
(обратно)34
они очень корректны (франц.).
(обратно)35
Шарль Моррас (1868–1952) — французский писатель и политический деятель.
(обратно)36
эту патриотическую эпопею (франц.).
(обратно)37
Альфред Розенберг (1893–1946) — один из главных идеологов расизма в «третьем рейхе».
(обратно)38
этой мерзости (франц.).
(обратно)39
Букв.: знать сердцем(франц.).
(обратно)40
Букв.: иметь в сердце (англ.).
(обратно)41
Эссе взято из сборника «Музыкальная шкатулка» (1955).
(обратно)42
Таковое подобает числу (греч.).
(обратно)43
Жан Мореас (1856–1910) — французский поэт, по происхождению грек.
(обратно)44
Лоренцо Вьяни (1882–1936) — итальянский писатель и художник.
(обратно)45
Речь идет о рассказе Г. Уэллса «Правда о Пайкрафте».
(обратно)46
Архив Ницше (нем.)
(обратно)47
просто (франц.).
(обратно)48
дефект (лат.).
(обратно)49
Здесь: лирические образы (лат.).
(обратно)50
Франческо Криспи (1818–1901) — итальянский политический деятель, поборник антидемократической внутренней и экспансионистской внешней политики.
(обратно)51
Греческий историк, ок. 300 г. до н. э.
(обратно)52
Арриан Флавий (ок. 95–175 н. э.), Страбон (ок. 63–24 до н. э.) — древнегреческие историки.
(обратно)53
«Именно проза есть показатель литературного прогресса того или иного народа». (Стендаль. Рим, Неаполь и Флоренция.)
(обратно)54
Знаменитый законодатель Спарты (IX–VIII вв. до н. э.).
(обратно)55
Г. Д'Аннунцио. Трагедия «Корабль», пролог (1908).
(обратно)56
Иной раз поэт не останавливается и перед языковой ошибкой: лишь бы не нарушить правила стихосложения. Так, Метастазио в первом действии «Катона в Утике» пишет:
Уж боле он не преклонится
Пред Римом и Сенатом, при жесте коем
Дрожал, бывало, Парфянин и Скиф бледнел.
Если бы Метастазио употребил правильную форму: «при жесте коего», то не уложился бы в необходимые одиннадцать слогов стихотворного размера. Зачастую стихотворение оборачивается для поэта прокрустовым ложем. Страшно подумать, сколько поэты не сказали из-за того, что это не вписывалось в стихотворную форму; и наоборот — сколько бесполезного они наговорили только ради того, чтобы соблюсти стихотворный размер; сколько же они наговорили на другой лад, искажая и коверкая, ибо стихотворная строка вынуждала их сказать именно так, а не иначе — как задумывал сам поэт. Хотя, в сущности, эти «маленькие драмы» случаются не так уж и часто, ибо поэт думает не «мыслью», а «стихом» — подобно тому, как художник «помнит образами» — и прислушивается исключительно к этой внутренней музыке. Тем самым мы опять пришли к тому, о чем говорили выше, а именно, что поэт вообще не думает. (Прим. автора.)
(обратно)57
Имеется в виду «Хроника Флоренции» итальянского хрониста Джованни Виллани (ок. 1280–1348).
(обратно)58
хроникеров (франц.).
(обратно)59
Поль Моран (1888–1976) — французский писатель и дипломат.
(обратно)60
То есть распутства, похоти — по имени древнегреческого поэта Сотада (III в. до н. э.), сочинявшего насмешливые и непристойные стихи в эпоху греко-египетского монарха Птолемея Филадельфа (283–247 до н. э.).
(обратно)61
Тристан Бернар (1866–1947), Анри Дюверуа (1875–1937) — французские писатели.
(обратно)62
Более точное название — «Записки благовоспитанного молодого человека» (1899).
(обратно)63
Альбер Гийом (1873–1942) — французский художник-карикатурист.
(обратно)64
Либеро де Либеро (1906–1981) — итальянский поэт, представитель герметизма.
(обратно)65
Автобиографическая повесть Данте Алигьери (1292).
(обратно)66
Речь идет о сатирической «шутке» Дж. Джусти «Улитка» (1841).
(обратно)67
Имеются в виду Эсхил (525–456 до н. э.), Софокл (495–406 до н. э.), Еврипид (480–407 до н. э.).
(обратно)68
Трагедия от «трагос» (греч.) — козел.
(обратно)69
Климент Александрийский Тит Флавий (II–III вв. н. э.) — древнеримский писатель и богослов, писал на греческом языке.
(обратно)70
Метеки — в Древней Греции — иноземные поселенцы и отпущенные на волю рабы, не имевшие политических и гражданских прав.
(обратно)71
То есть Софокла, родившегося в Колоне (предместье Афин).
(обратно)72
действующих лиц (лат.).
(обратно)73
Лай — отец Эдипа, приказавший отдать на растерзание зверям младшего сына.
(обратно)74
Полное название: «Рождение трагедии из духа музыки» (1872).
(обратно)75
Имеется в виду один из способов обозначения места действия в шекспировском театре. Приведенные ремарки относятся соответственно к V акту трагедии «Макбет» и к I акту трагедии «Отелло».
(обратно)76
Понятие древнегреческой философии «нус» (ум) обозначает начало сознания и самосознания в человеке и космосе; перводвигатель универсума.
(обратно)77
жизненным порывом (франц.) — метафизическая концепция жизни французского философа А. Бергсона (1859–1941).
(обратно)78
Луиджи Барцини (1874–1947) — знаменитый итальянский журналист.
(обратно)79
Литературное alter ego автора.
(обратно)80
принципа мучения (лат.).
(обратно)81
Сожженный в 258 г. на решетке по приказу римских властей христианский священник.
(обратно)82
Этторе Петролини (1886–1936) — итальянский актер и комедиограф.
(обратно)83
Мессалина Валерия (ок. 25–48) — жена римского императора Клавдия, убитая с его ведома за супружескую измену.
(обратно)84
«Дуинезские элегии» (1923) — цикл стихов австрийского поэта Райнера Марии Рильке (1875–1926).
(обратно)85
хулителя, клеветника (греч.).
(обратно)86
Элеонора Дузе (1858–1924) — итальянская актриса. Играла в пьесах Г. Д'Аннунцио, Г. Ибсена, А. Дюма-сына и др.
(обратно)87
Имеется в виду Габриэле Д'Аннунцио (1863–1938).
(обратно)88
Пьесы Габриэле Д'Аннунцио, написанные им в 1899 г.
(обратно)89
Пусть опыт умирающего мира к рождающемуся перейдет. Деревья, слушайте!
(обратно)90
Известно ли вам то, что чтимо более всего?
(обратно)91
Глубина.
(обратно)92
Понятье беспредметное. Ведь глубина есть лишь поверхность, что вот-вот возникнет.
(обратно)93
Известно ли вам то великое, что презираемо повсюду?
(обратно)94
Поверхность.
(обратно)95
В ней все, и в этом всем отражено ее лицо.
(обратно)96
В глубинах бесконечности лишь то есть истина, что стать должно поверхностью.
Все остальное — ложь, боготворимые материи, что мечутся без завтрашнего дня и беспрерывно отвергаются как бесполезные.
(обратно)97
Ты хочешь что-нибудь еще сказать? Я слушаю.
(обратно)98
Нет. Ничего. Деревья, вот дорога.
(обратно)99
Букв. «приходят как на мельницу» (франц.).
(обратно)100
Псевдоним итальянского поэта Уго Фосколо (1778–1827). Речь идет о переводе на итальянский (1813) сочинения Л. Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии».
(обратно)101
Непот Корнелий (ок. 99–24 до н. э.) — древнеримский историк, биограф и поэт.
(обратно)102
Название романа Дж. Э. Стейнбека «Гроздья гнева» (1939) в итальянском переводе.
(обратно)

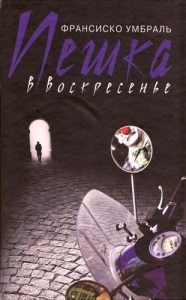







Комментарии к книге «Вся жизнь», Альберто Савинио
Всего 0 комментариев