Посвящается Алисе
«Быть женственной означает быть бездеятельной, пустой, пассивной и послушной…»
Симона де Бовуар1
В приморском городе С. пропала среди бела дня женщина. Не из отдыхающих, а, можно сказать, местная, хотя и москвичка. Теперь многие москвичи приобретают дома на побережье – ради удовольствия не только летом, но и посреди зимы, сидя на собственной веранде, подышать морским воздухом и погреться в лучах хотя бы и февральского солнца.
Вот и эта женщина прилетела в пятницу вечером московским рейсом, была встречена в аэропорту заказанной заранее машиной и привезена на улицу Инжирную, где в тени двух развесистых платанов укрылся трёхэтажный особняк под зелёной крышей. Но когда в субботу, в середине дня, муж позвонил ей из Москвы, чтобы справиться о погоде и самочувствии (она уезжала слегка простуженной), сотовый её оказался отключён. Он перезвонил на домашний, трубку взяла домработница Аннушка и испуганным голосом сообщила, что хозяйки в доме нет.
— Как нет? А где она? – насторожился муж.
— Не знаю, — растерянно отвечала Аннушка.
Он потом ещё звонил и ещё, жена не объявлялась. Ни Аннушка, ни муж её Костя, приставленный охранять дом и смотреть за садом, не заметили, чтобы хозяйка куда‑нибудь уходила или уезжала, но и в доме её не было.
Он обзвонил родственников и подруг жены, ничего, впрочем, не объясняя, но ни с кем из них она в тот день на связь не выходила. Он решил ещё подождать, надеясь, что к вечеру все разъяснится, но ни вечером, ни ночью жена не объявилась.
В воскресенье, не на шутку встревоженный, он вылетел в С.
2
Двумя днями раньше, часов около восьми вечера, Аннушка с нетерпением караулила хозяйку у ворот дома. Та позвонила ей прямо из самолёта, сказала, что только что прилетела и сейчас приедет, и обрадованная Аннушка тут же встала, как часовой, у ворот, хотя путь от аэропорта до дома занимает не меньше получаса.
И вот, наконец, машина, и сидящая на заднем сиденье дама сначала подаёт Аннушке сумочку и плащ (сентябрь, в Москве уже прохладно, а здесь плюс 25), потом появляется сама – в чёрных брюках и тонком малиновом свитере.
— Здра–а–а–вствуйте! – нараспев говорит ей Аннушка и кидается целоваться.
— Привет, дорогая, — говорит дама, подставляя ей щеку. – Ну, что тут у нас? Все в порядке?
— Все хорошо, прекрасная маркиза! – смеётся Аннушка.
Тем временем из‑за дома, со стороны сада появляется коренастый, лысый и загорелый мужчина, издали кланяется хозяйке и бросается к багажнику за вещами.
— Поставь все в прихожую, — командует дама, а сама не спешит войти в дом, оглядывая с любовью двор, засаженный вдоль забора азалией и олеандром. Аннушка тараторит без умолку, намолчалась тут одна (муж не в счёт, о чём с ним говорить!), но хозяйка слушает её вполуха, думая о чём‑то своём.
— Мы вам бассейн подогрели, если надумаете купаться.
— Посмотрим, — говорит дама.
— Сауну затопим, как скажете, часов в восемь, да?
— Я скажу, — говорит дама, подходя к маленькому, безлистному деревцу, на котором искусственными кажутся крупные оранжевые плоды. – Мягкая уже хурма?
— Мы не пробовали, вас ждём, – докладывает Аннушка. – А вы ещё в нижнем дворе не видели! Там столько её! Не пойдёте смотреть?
— Потом. Устала, — говорит хозяйка и идёт, наконец, в дом.
Аннушка бежит следом, поднося сумку и пакет.
— Это куда, наверх? А это пусть тут?
Сейчас она разнесёт хозяйкины вещи по этажам, наполнит ей джакузи, заварит чай и уйдёт к себе, в небольшой домик в углу сада, где у неё есть своя спаленка и своя кухонка, и своя душевая, — только все в миниатюре. И будет весь остаток дня поглядывать на окна большого дома, угадывая по включённому свету, где сейчас хозяйка и что делает, и если та вдруг позовёт (для этого в доме есть внутренняя телефонная связь, но хозяйка любит выйти на широкий балкон и крикнуть в сад: «Аннушка!»), стремглав бросится в дом. Она любит свою хозяйку, ждёт её, ей хочется о многом с ней поговорить, но это не всегда удаётся. Если ещё она приезжает, как сегодня, одна, без хозяина, то ничего, можно покрутиться возле неё побольше, а если с хозяином, да ещё, как зачастую бывает, с гостями, то не подступишься и не поговоришь толком. То им минералку из гаража принеси, то подсветку в бассейне включи, то коробки унеси от подарков, которые гости натащили. Только и бегаешь.
Аннушка очень старается. Все у неё в доме блестит от чистоты, и ей хочется, чтобы хозяйка это заметила, обратила внимание, как чисто.
— Я окна вымыла, — подсказывает она.
— Да? – рассеянно говорит хозяйка. – Молодец.
— Мебель всю попронтала.
(«Пронто» — это средство для полировки).
— Вижу, молодец.
— Постели все после того раза постирала, погладила.
— Хорошо.
— А вы надолго?
— Пока не знаю. Может, на недельку.
— О–о–о… — разочарованно тянет Аннушка. — Так я и знала…
Она мечтает о том времени, когда хозяева поселятся в доме насовсем. Ей скучно ждать их неделями, иногда месяцами, ходить по пустому чистому дому и думать: какие они все‑таки странные, хозяева, — имеют такой дом, а жить не живут, все ездят туда–сюда.
Про хозяйку Аннушка думает, что она плохо приспособлена к жизни и мало что умеет из жизненно необходимых вещей. За неё всё делает и решает муж, а она может только книжки читать, да сидеть по полдня за компьютером. Вообще‑то, она умная. Но у Аннушки давно сложилось впечатление, что хозяйку всё, что есть в доме, и всё, что в нём происходит, мало волнует. Бывает, Аннушка скажет:
— Мне надо пройти на галерею, полить цветы.
— Надо тебе – иди, — отвечает хозяйка, уткнувшись в журнал.
Аннушке так и хочется съязвить, что надо‑то не мне, а вам, я для вас это делаю, а не для себя, но смолчит, конечно, потому что обижаться на хозяйку никак невозможно. Во–первых, она не привередливая, как бывают. Соседка, та уже пятерых сменила, и все ей не так убирают, ходит, по углам заглядывает, где пылинку увидит, сразу ругается. Аннушкина хозяйка всегда всем довольна, другой раз сама скажет:
— Да брось ты, хватит, тут и так чисто.
А во–вторых, она добрая, платит хорошо, к Новому году, ко дню рождения, к Пасхе, да и просто так – подарки, потом о чём ни попросишь – никогда не отказывает.
— Можно дочка к нам приедет погостить? – спрашивает Аннушка, а самой неудобно, вдруг хозяйка заругается, у них и так летом полон дом народу – своих и чужих, так ещё и Аннушкины.
— Конечно, можно, — говорит хозяйка.
— Та вы понимаете… она ж с подружкой хочет.
— Ну, пусть с подружкой, поместитесь там?
— Поместимся! Лишь бы вы разрешили.
— Да мне‑то что? – говорит хозяйка. – Пожалуйста.
Ей действительно – хоть бы что. Иногда Аннушка думает: почему люди не ценят то, что имеют, а мечтают о несбыточном. Ей интересно, мечтает ли хозяйка о чём‑нибудь, ведь у неё все есть, абсолютно все. Муж какой, а как любит! Дети хорошие, устроенные. Дом – не дом, а сказка. Сама красивая, умная. Ну, что ещё человеку надо? А между тем Аннушка слышала однажды, как хозяйка жаловалась кому‑то по телефону, говорила: сил нет, не могу больше. Аннушка потом долго думала и гадала, о чём это она могла говорить, и все старалась заглянуть хозяйке в лицо и увидеть какое‑то особенное выражение, но ничего так и не увидела, лицо было как всегда, немного задумчивое. Аннушке хозяйка улыбнулась, пошутила, передразнивая её хохляцкий говор:
— Мыешь?
(Аннушка мыла каменные ступеньки на входе в дом).
— Мыю, — разулыбалась Аннушка.
— Так дождь же прошёл.
— А! Того дождя… Помыю и чисто будет.
— Ну, добре, — говорит хозяйка, у которой, по её же рассказам, тоже есть украинские корни, может, поэтому она относится к Аннушке с особой симпатией.
Все‑таки хозяйка остаётся для неё загадкой. Счастлива она или нет? – думает Аннушка. И неужели всего того достатка и всей той любви, которой она окружена, мало для счастья, ну, пусть не для счастья, но для покоя? Хозяйка старше её на 9 лет. Она полнее и выше Аннушки, можно сказать, дороднее. Единственное, к чему хозяйка её не подпускает, это к кухне, правда, они мало едят дома, чуть что – в ресторан, а дома только ужин и завтрак. Утром овсяная каша, а вечером творог и кефир. Они оба – хозяин и хозяйка – озабочены своим весом, все хотят похудеть, но у них это плохо получается. Ясно, не получится, если по ресторанам ходить, думает про себя Аннушка.
А бывают дни, когда обедают дома, да ещё с гостями, тогда хозяйка готовит сама. Но если надо почистить молодую картошку, тёмную свёклу или рыбу, она зовёт Аннушку. Что ж сравнивать её грубые, потрескавшиеся руки с белыми, гладкими руками хозяйки! Готовит она вкусно, Аннушка так не умеет и всегда спрашивает:
— А как вы тот салат делали, тако–о–ой вкусный! Вы что дали – Костя сразу съел, я только попробовать успела.
Хозяйка смеётся:
— Ты ж всё равно не станешь это делать, там авокадо, креветки…
— Борони Бог! Я и не знаю, шо цэ такэ, «вокадо»…
Все она знает, любит попридуриваться.
Ещё Аннушка любит, когда хозяева собираются в гости, и хозяйка надевает одно из своих вечерних платьев, красиво причёсывает голову (и дал же Бог такие густые и пышные волосы, а у Аннушки жидкий пучок на макушке, перетянутый резинкой), встаёт на высокие каблуки, делающие её ещё более статной, даже величественной.
— Красавица вы моя! – суетится вокруг неё Аннушка. – Вы там будете самая красивая!
— Где там?
— Ну там, куда вы идёте, — Аннушка не имеет привычки лезть не в свои дела, но хозяйка часто сама сообщает ей о своих планах и передвижениях.
— Аннушка, мы едем за границу, на месяц.
— Счастли–и–ивые! – радуется Аннушка.
— Ты думаешь? – усмехается хозяйка.
— А чего нет? Борони Бог, шоб всё было хорошо.
— Спасибо, дорогая. Что тебе привезти?
— О–о–о! Мне ничего не надо! Шо привезёте, то и хорошо. Вы мне в прошлый раз, из Финляндии или откуда, такой хороший крем привозили, такой хороший! Уже кончился.
— Так возьми у меня в спальне, на трильяже, там точно такой стоит.
— А вам не надо его?
— Возьми, возьми.
Как не любить Аннушке свою хозяйку!
Все её зовут по–разному: муж и сестры – Русей, Мирусей, чужие – кто Мирой, а кто – Славой. Аннушка себе такого не позволяет, она называет хозяйку по имени–отчеству – Мирослава Васильевна. Единственное, что она может себе иногда позволить, это сказать просто «Васильевна». И то, лишь тогда, когда хозяйка сама подаст ей знак, скажет, к примеру:
— Ивановна! Ты не хочешь на рыночек пробежаться, лучку подкупить?
(Она обо всём так говорит: лучок, капустка, мяско…).
Если она скажет так – «Ивановна», тогда и Аннушка отзывается:
— Хорошо, Васильевна, счас сбегаю!
И обе засмеются, довольные друг другом. Это значит, что у хозяйки совсем хорошее настроение. В такие минуты Аннушка (Анна Ивановна) готова куда угодно бежать и что угодно нести. Хозяйку она понимает с полуслова. «Рыночек» означает у неё не тот, большой, центральный рынок (туда хозяева сами ездят), а маленький, «бабский», рядом с мини–маркетом, куда окрестные женщины выносят свою редиску, зелень, морковку. Но бывает так, что не успеет Аннушка с близлежащего рыночка обернуться, а у хозяйки уже совсем другое настроение – хмурое, раздражённое. И Аннушка гадает, кто это успел его испортить за те двадцать минут, которые она отсутствовала, вроде и дома никого нет, а может, позвонил кто. В таких случаях лучше хозяйку ни о чём не спрашивать, а молча поставить пакет с луком или с чем там ещё и уйти к себе. А если не заметишь сразу, что у неё настроение переменилось, и полезешь со своими разговорами, мол, вы представляете, почём лук уже продают, она может и оборвать, скажет:
— Аня, иди, ради Бога.
Но Аннушка никогда не обижается. Она знает, что плохое настроение не к ней относится, что это у хозяйки свои какие‑то мысли накатили, и лучше её оставить в покое и переждать.
А вот хозяина, Аннушка боится. Чуть он на порог, её уже ветром сдуло. Старается без особой необходимости на глаза не попадаться, хотя, если случайно как‑нибудь попадётся, ничего страшного не произойдёт, он её, скорее всего, даже не заметит, а заметит – так скажет: «Здравствуйте», и все. Чего Аннушка боится – она и сама не знает. Просто она таких мужчин, как Владимир Васильевич, никогда вблизи не наблюдала, только по телевизору. Про него, если даже не знать, кто он, сразу видно – большой человек. Его самого по телевизору время от времени показывают, и Аннушка с Костей, сидя зимними вечерами в своей сторожке, если вдруг увидят его в новостях, радуются, как дети. Он всё время в разъездах, часто и за границей, потому и бывает в доме редко, в основном, летом, когда там, в Москве, немного затихает большая жизнь, и у таких людей, как Владимир Васильевич, начинаются «летние каникулы», прямо, как у школьников. Тогда многие из них потянутся сюда, на юг, кто – на госдачу, кто в ведомственный санаторий, а кто и в собственный дом, как Аннушкин хозяин. Он его так и называет — «моя летняя резиденция».
Аннушка рада, когда в доме многолюдно, когда приезжают дети хозяев (у них дочка в Москве и сын заграницей), или бабушка, Зоя Ивановна, или сестры хозяйки – Лана и Мила, которых Аннушка всегда путает, потому что они очень между собой похожи, а то бывает – все сразу, из разных мест съедутся, тогда совсем хорошо. Даже хозяйских друзей (в основном, московских) Аннушка наперечёт знает и встречает так восторженно, будто она сама и есть хозяйка.
Бывает, нагрянут большой компанией, чуть не вдесятером, и сразу дом, стоящий большую часть года пустой и тихий, начинает жить, шуметь, во всех окнах горит свет, хлопают двери, играет музыка; на площадке перед бассейном ставят стол с раскладными стульями и по вечерам сидят там допоздна все вместе, пьют, едят, громко разговаривают, ещё громче смеются, иногда и поют; а то вдруг сорвутся с мест и, толкаясь и дурачась, попрыгают в бассейн, вода сразу закипит, и брызги полетят во все стороны; мужчины начнут плавать наперегонки и на счёт – кто больше раз туда и обратно; потом мокрые, возбуждённые снова усаживаются вокруг стола, Аннушка тащит им самовар, а после чая кто‑то уходит спать, а кто‑то (чаще всего сама хозяйка и кто‑нибудь из женщин) ещё сидят, любуются ночным небом, вполголоса переговариваются и вдыхают густые ароматы из сада.
Аннушке нравится наблюдать со стороны эту шумную, весёлую жизнь, ничем не похожую на ту, какой живут в её родных Черновцах, где остались у неё мать и дочь–студентка. Половина заработка уходит туда, в основном, на дочкину учёбу. Остальное они с Костей откладывают, в надежде когда‑нибудь купить себе двухкомнатную квартиру. Где? Это большой вопрос. Сначала, когда ехали сюда, думали, подзаработать и вернуться в Черновцы (хотя работы там – совсем никакой), но вот уже пять лет они здесь, и уезжать что‑то не хочется. Раз в году хозяева отпускают их на Украину, проведать родню и каждый раз спрашивают:
— Но вы ведь вернётесь?
— А куда ж мы от вас денемся? – вздыхает Аннушка. – Если б можно было здесь квартиру купить, мы бы и навсегда остались, всю жизнь бы возле вас…
Но это так, одни разговоры. У Аннушки с Костей нет российского гражданства, нет прописки, только временная регистрация, которую надо продлевать каждые три месяца. Бывает, прозевают срок, пойдут на вокзал, передать с Львовским поездом гостинцев домой, а их милиция – цап! Приходится звонить хозяину, чтобы выручал. Тут, в С., таких, как они, полно, целые бригады строительные. Костя тоже сначала с заезжей бригадой строил этот дом, потом остался при нём, охранять и за садом смотреть, а потом и Аннушка приехала – стирать, убирать. Костя – мастер на все руки: и по металлу, и по дереву, и стену класть, и штукатурить, и красить, и всё, что в доме прибивалось и развешивалось, — это все его руками. Чуть что не так – потекло с крыши или дверь заскрипела, или трещинка по стене пошла – зовут сразу Костю. Мало того, он ещё и у соседей то справа, то слева, то внизу, то вверху (дом стоит на склоне, ведущем к морю), успевает подрабатывать, там забор кирпичный сложил, там двор плиткой выложил, там ещё чего. Хозяева смотрят на это дело сквозь пальцы, разрешают подрабатывать на стороне.
Костя, в отличие от Аннушки молчун и нелюдим, в дом без приглашения никогда не зайдёт, а если и позовут, стесняется, бежит прежде переодеться в чистую рубаху и руки вымыть. К хозяину Костя с большим уважением.
— Кто он и кто я! – так он говорит.
Хозяин к нему тоже с уважением и время от времени даже советуется по разным домашним делам. Говорит, например:
— Костя, пока нас не будет, покумекай тут, как бы нам внизу, под галереей небольшой спортзал устроить.
И Костя, гордый доверием, кумекает. Он и нарисовать, и начертить может. В нём, видимо, вообще инженер пропал, а заодно и художник. К живописи у Кости отношение трепетное, прежде, чем повесить в доме очередную картину, он её долго, с детским восхищением рассматривает, любуется, и видно, что понять хочет, как это сделано. Однажды только не смог понять, как ни смотрел. Спустя месяц или два с тех пор, как водрузил он её на стену кабинета, Аннушка спросила, посмеиваясь, у хозяйки:
— Мирослава Васильевна! Как вы говорили художника того фамилия, что в кабинете повесили?
— Шемякин.
— А как она называется, я забыла.
— «Ботаник».
— А!.. А вы мне можете объяснить, шо на той картине нарисовано, а то Костя уже голову себе сломал…
— Но ему нравится или нет?
— Та нравится.
— Краски, цвет — как?
— Та красиво.
— Ну и не надо ничего объяснять, это не объяснишь. Я и сама не знаю в точности, что художник имел в виду. Это только он один и знает.
— А может, и он не знает, — заключила Аннушка.
По вечерам, сидя на низкой скамеечке в саду, Костя вырезает из пенопласта разные фигурки, раскрашивает их и куда‑нибудь приспосабливает. Однажды приезжают хозяева, а в саду, в маленьком прудике, где рыбки, плавает пенопластовый лебедь с красным клювом – довольно искусно сделанный. Вообще‑то хозяева ничего кустарного, самодельного в доме не признают и не терпят. А тут даже похвалили: ну, Костя, ну, умелец! Правда, высказано было не ему, а Аннушке, поскольку сам он застеснялся и ушёл в домик. Но уже в следующий приезд на крыше этого домика, где обретаются Аннушка с Костей, красовался пенопластовый аист в гнезде, собранном из мелких веточек.
— Ну, вот, — сказал хозяин. – Аист есть. Осталось дождаться внуков.
И правда, вскоре сын их женился, и через короткий срок стали ждать прибавление.
На этот раз хозяйка Аннушке совсем не понравилась: не шутит, ни о чём не спрашивает и в сад не вышла, как поднялась в свою спальню, так и не выходит вот уже часа три. Аннушка не выдерживает и сама, на цыпочках идёт наверх. Причину она уже придумала, спросит: так сауну греть вам или не надо? Дверь в спальню открыта, но хозяйки там нет. Аннушка заглядывает во вторую спальню, так называемую «бабушкину», именно здесь спит мать хозяина, Зоя Ивановна, когда приезжает погостить, правда, в другое время здесь кто только из гостей не ночует. В «бабушкиной» хозяйки тоже нет, да и что ей там делать, Аннушка очень бы удивилась, если бы нашла её там. Значит, в кабинете.
Это самая большая комната на этаже, три стены её заставлены с пола до потолка стеллажами с книгами, а четвёртая представляет собой нишу с аркой и полукруглым окном в глубине. В нише стоит зелёный кожаный диван, за которым, на широком подоконнике выстроились в ряд причудливого вида маленькие кактусы. Еиз кабинета есть ещё выход на небольшой балкончик, с которого далеко и хорошо видно море. Когда‑то, когда дом только строился, хозяйка говорила, что будет в хорошую погоду выходить на этот балкончик, сидеть там за маленьким столиком и работать. Но она не работает не только за маленьким столиком на балкончике, но и за большим письменным столом, что стоит посреди кабинета–библиотеки. Аннушка слышала, как она говорила кому‑то из гостей, что здесь ей почему‑то никак не пишется.
Аннушка прикладывает ухо к двери и, не услышав никаких звуков, тихонько зовёт:
— Мирослава Васильевна, вы тут?
— Аня, я занята, — быстро отвечает из‑за двери хозяйка, но Аннушка уже просунула своё острое личико в дверь.
То, что она увидела, немало её удивило.
Хозяйка сидела на полу, на ковре, а вокруг неё сидели и лежали в разных позах её куклы.
Это были не простые куклы, в которые играют маленькие девочки, это были очень дорогие, коллекционные куклы. Обычно хозяйка никому не позволяла даже приближаться к ним, она говорила, что это вообще и не куклы, а произведения такого специального искусства. Убираясь в библиотеке, где и была на разных столиках и полочках размещена коллекция, Аннушка, никогда не брала их в руки, не переставляла и фактически не вытирала под ними пыль, так, вокруг. Тут были кукла–девочка в палевом кружевном, сидящая на белом деревянном креслице; кукла–босоножка в фетровом колпачке, с корзинкой и с перекинутыми через плечо фетровыми же башмачками на верёвочке; кукла–леди в воздушном голубом и в шляпке с вуалью, присевшая на круглый атласный пуфик; пышноволосая вышивальщица в шоколадно–шёлковом и с пяльцами, устроенная на гобеленовой подушке; модница в стиле шестидесятых в короткой юбке колоколом, стоящая на чуть кривоватых ножках; и на отдельном столике, в стороне от всех – высокая кукла–дама в зелёном бархатном, отороченном мехом, и с муфтой из серого песца… За стеклянными дверцами книжного шкафа стояли и сидели несколько особо сохраняемых маленьких куколок в сероватых, словно запылённых от времени одёжках.
И что же мадам делала теперь с этими куклами, с этим своим, как она сама говорила, сокровищем? Судя по лежащим на ковре щёточкам и салфеткам, она только что почистила от пыли их платья и протёрла их фарфоровые и пластиковые лица, ручки и ножки. В ту минуту, когда Аннушка всунула в кабинет свой нос, хозяйка занята была с одной, самой странной куклой, вызывавшей у Аннушки, когда она на неё смотрела, большое смятение.
Дело в том, что у этой куклы было не одно, а два лица. Одно лицо могло улыбаться, а другое – плакать, то есть она, конечно, не плакала слезами и не смеялась в голос, но на лице у неё в одном случае была гримаса смеха, а в другом – не менее натуральная гримаса плача, даже слеза прозрачной бусинкой блестела на щеке. Когда Аннушка в первый раз увидела эту куклу, она не могла понять, как это происходит. Фокус продемонстрировала ей сама хозяйка. Она привезла эту куклу в дом недавно, прошлой осенью, сказала, из Парижа. Ещё сказала, что кукле этой больше ста лет, потому она очень дорогая.
— Стоит всех вот этих, вместе взятых, — она обвела взглядом стоящих и сидящих повсюду кукол.
Но, оказывается, не это было самое главное.
— Видишь, улыбается? А теперь закрой глаза на минутку, только не подглядывай!
Аннушка зажмурилась.
— Теперь смотри!
И Аннушка увидела, что кукла плачет.
— А как это вы сделали?
— А! Секрет! – очень довольная, хозяйка велела Аннушке опять зажмуриться, на что та даже обиделась, а когда снова открыла глаза, кукла опять улыбалась.
Звали новую куклу Маргарита. Оба лица у неё были фарфоровые – белые, с нежным румянцем; стеклянные голубые глаза сделаны так искусно, что казались живыми, но прямые, длинные стрелочки ресниц и слишком широкие, почти сходящиеся над переносицей дуги бровей были всего лишь нарисованы кисточкой по фарфору под цвет живых каштановых волос. Хозяйка объяснила, что такие неестественно широкие, как бы сросшиеся брови есть признак того, что кукла сделана в конце 19–го – начале 20–го века, а позже таких бровей куклам уже не рисовали. Нос и рот её, напротив, были неестественно маленькие, изящно вылепленные, с алыми точками ноздрей и алым же бантиком губ; в одном случае концы бантика были растянуты вверх, и кукла улыбалась, в другом – опущены вниз, и кукла плакала. Сомкнутые губы, объяснила, между тем, хозяйка, тоже признак того, что кукла старинная. А если рот у куклы приоткрыт и видны зубки, это ценится у настоящих коллекционеров гораздо меньше.
«Надо же…» – подумала про себя Аннушка, глядя на куклу с уважением и страхом.
Хозяйка долго искала ей место в кабинете, ставила то туда, то сюда, отходила и смотрела, прищурившись, но всякий раз говорила: «Нет, не здесь». Наконец, произведя некоторую пересадку старых кукол, она освободила для Маргариты маленький круглый столик на одной ножке в глубине арки и усадила её там на специальном кукольном креслице, потом долго ещё любовалась ею, и, уходя из кабинета, сказала Аннушке:
— Руками не трогать.
— Борони Бог! – легко побожилась Аннушка.
Но прошло несколько дней, фокус с куклой не давал ей покоя, и, как только хозяйка уехала, Аннушка пошла в кабинет. Кукла сидела там, где оставила её хозяйка, и улыбалась. Аннушка долго вглядывалась в её лицо, но тронуть побоялась. Прошло ещё какое‑то время, и Аннушка, не в силах больше сдерживать любопытство, подговорила Костю пойти и посмотреть, что там делает кукла – улыбается или плачет. Кукла по–прежнему улыбалась.
— А как же ж она плачет?
Костя осмотрел куклу, осторожно снял с неё шляпку, потрогал волосы, нащупал на макушке что‑то вроде кнопочки и нажал. На глазах у взволнованной Аннушки лицо куклы стало медленно поворачиваться вокруг шеи и из‑под локонов показалось другое лицо, то самое, плачущее, с поникшим бантиком губ и застывшей на щеке бусинкой слез. Аннушка вскрикнула, рассмеялась, но тут же спохватилась:
— Быстро ставь на место!
Костя ещё раз нажал на кнопочку под волосами, и снова медленно выехало другое, смеющееся лицо, а плачущее спряталось.
— Все. Пошли отсюда, — заторопилась Аннушка, так, будто они только что украли у хозяев что‑то, хотя ни разу ни в чём подобном замечены не были. Хозяева могли оставлять где попало мелочь и даже бумажные деньги и быть уверенными, что ни копейки не пропадёт.
Узнав секрет куклы, Аннушка не только не успокоилась, а, напротив, разволновалась ещё больше. Теперь её стал интересовать вопрос, зачем сделана такая кукла и зачем хозяйка её купила. И с того дня, как только Мирослава Васильевна наезжала в дом, Аннушка чуть ли не следила за ней, ходит ли она в кабинет и поворачивает ли кукле голову. Понять это было затруднительно, потому что когда бы ни зашла туда сама Аннушка, лицо у куклы было на месте, то есть смеялось.
И только однажды после отъезда хозяйки кукла осталась сидеть с плачущим лицом, из чего Аннушка сделала долгожданный вывод, что хозяйка все‑таки жмёт время от времени на потайную кнопку. В том, что среди всех других красивых и нарядных хозяйкиных кукол со спокойными или, по крайней мере, бесстрастными лицами, завелась одна не вполне нормальная и сидит теперь с невозможной гримасой, виделся Аннушке явный непорядок, нарушавший, как она чувствовала, покой всего дома. Она даже позвонила в Москву, что делала крайне редко, только в случае какого‑нибудь ЧП, и спросила, извиняясь и путаясь в словах, не забыла ли случайно хозяйка «сделать ту куклу, чтоб она не плакала».
— А она разве плачет? – удивилась хозяйка. – Ты её не уронила случайно, когда убирала?
— Борони Бог, я до неё и не подходила.
— И не подходи пока, а я скоро приеду.
И вот теперь Аннушка, заглянув в кабинет, увидела, что хозяйка сидит на полу среди своих кукол и одну из них, «двуличную», зачем‑то раздевает. Атласная шляпка, ажурная накидка, некогда малиновое, но давно выцветшее бархатное платье, даже батистовая с кружевом нижняя юбка уже сложены были аккуратно на столе, а мадам, нацепив очки, сосредоточенно расстёгивала на спине у куклы мелкие крючочки лифа, при этом нетерпеливо под него заглядывала, словно рассчитывая что‑то важное там найти. Голая кукла являла собой неожиданно жалкое зрелище, сверху у неё обнаружились тряпичные ножки и ручки, фарфоровыми они были, оказывается, только от колен и от локтей.
Оглянувшись на дверь, хозяйка сказала:
— Аня, ну, я же просила!
И Аннушка, сильно озадаченная, убралась восвояси.
Наутро хозяйка не вышла в столовую, сначала думали: спит, потом стали поглядывать на окна и ждать, и немного волноваться, потом Аннушка пошла наверх, поскреблась тихонько в дверь и стала звать хозяйку по имени. В ответ ей была тишина. «А вдруг у неё с сердцем плохо?» — подумала Аннушка и осторожно повернула ручку двери – постель была застелена, будто её и не разбирали с вечера, хозяйки ни в спальне, ни в смежных с ней ванной и гардеробной не было. Аннушка понеслась вниз, звать Костю, вместе ещё раз обошли весь дом, заглянули даже в кладовки и в сауну, которую вчера хозяйка так и не стала принимать, обошли сад, выглянули за ворота – нигде никого.
Вдруг Аннушка вспомнила про кукол и – бегом в кабинет, посмотреть, что с ними сталось. Впопыхах, когда обходили с Костей дом, как‑то не обратила на это внимания. Теперь, едва войдя, она сразу поняла, что здесь что‑то не так, что‑то переменилось. Куклы сидели на своих местах, Аннушка с тревогой их пересчитала, вроде все на месте, а где же…
Одноногий столик, где ещё вчера принцессой восседала «двуличная» кукла, был пуст. Аннушка даже рукой по нему провела, стирая невидимую пыль.
И тут позвонил из Москвы хозяин.
3
Итак, он позвонил в субботу, ближе к середине дня, и узнал, что жены нет в доме и где она – неизвестно.
Днём раньше они ещё были вместе, в их московской квартире, она собирала его на службу и сама между делом собиралась в дорогу.
Обычно они встают в семь – в половине восьмого, он идёт принимать душ и бриться, жена шлёпает босыми ногами (любит ходить по дому босиком) на кухню, чтобы первым делом сварить ему кашу – овсянку на воде без масла и сахара. Потом он приходит в столовую, она подаёт ему завтрак – кашу и овощной салат, заправленный растительным маслом, заваривает зелёный чай, а сама идёт гладить. При этом у них каждое утро происходит один и тот же диалог:
— Ты в каком костюме пойдёшь?
— А какая там погода?
— Прохладно.
— Тогда в тёмном.
— В тёмном каком?
Он никогда не знает, в каком костюме ему идти. Начинает перебирать, жена сердится, каша остывает. Наконец, скажет, будто одолжение ей сделает:
— Ладно, подгладь коричневый.
— Какой коричневый, с полосочкой или с клеткой?
— Без всего.
Потом то же самое говорится насчёт рубашки. Ему всё равно, какую она погладит, лишь бы в тон.
— Ну, что значит, всё равно? Я поглажу, а потом окажется, не та, гладь другую. Скажи точно.
— Говорю точно: белую или бежевую.
Так они перекликаются в довольно большой квартире, где не сразу найдёшь друг друга, а надо сначала позвать:
— Мируся, ты где?
Чтобы пройти из гардеробной, где установлена у Мируси гладильная доска, сложено на полках чистое белье и развешены многочисленные пиджаки, брюки и рубашки, а также, в другой секции, – её наряды, занимающие, как ни странно, гораздо меньше места (она не любительница наряжаться), надо выйти в маленький коридор, повернуть направо, в большой коридор, потом ещё раз направо – в большую прихожую (есть ещё маленькая) и, только миновав её, окажешься в столовой. Но есть и более короткий путь: шагнуть из гардеробной прямо на лоджию, из которой вторая дверь ведёт как раз в столовую. Поскольку все двери открыты, можно совершать «круги» по квартире и в том, и в другом направлении, но Мируся предпочитает почему‑то не ходить, а кричать. Сначала она кричит:
— Иди завтракать!
Потом:
— Что тебе погладить?
Пока она гладит, он ест и дочитывает одновременно книжку, которую читал в постели перед сном, потом в туалете, теперь вот за столом, и будет читать, когда вернётся вечером со службы, только в обратном порядке: сначала за ужином, потом в туалете, потом в постели. Он смолоду привык много читать, но теперь у него мало времени, приходится использовать каждую свободную минуту, поэтому он читает также в самолётах, поездах, а иногда и в машине. Но дома у него ещё включён при этом телевизор.
— Ты можешь убавить звук? – кричит жена из гардеробной.
Она терпеть не может рекламу, вообще не любит утренний эфир. Проснувшись, слушает только самый первый выпуск новостей, не случилось ли чего в стране, пока спали, и потом сразу выключает. Он, напротив, смотрит и слушает все подряд, вернее, как раз и не смотрит, и не слушает (ест и читает), но телевизор при этом должен работать.
Пока он одевается, жена убирает со стола и сразу моет посуду (посуда – это её бзык, ни одной чашки, ни одной ложки не должно лежать в раковине), всякий раз забывая, что не надо мочить руки, пока не завяжешь ему галстук.
— Это что, опять новый? Ничего, красивый. И ты красавчик. Иди, иди уже. Опоздаешь. Ну, что целоваться, когда я до сих пор не умывалась, в халате хожу, на голое тело.
На выходе жена обычно выясняет, где он сегодня обедает – дома или где‑то с кем‑то, и во сколько примерно ждать его вечером. Готовить она в последнее время совсем не любит, а какой борщ варила раньше, когда они только поженились, какие пирожки пекла! Впрочем, пирожки ему давно уже противопоказаны: весы, на которые он каждое утро становится после душа, и так зашкаливают.
В то утро, в пятницу, он немного проспал (читал до двух ночи) и очень торопился, на 15.00 назначено заседание межведомственной комиссии, а он ещё не видел документы. К тому же, телефон как прорвало, звонит и звонит, в основном, сотовый, но периодически вклинивается и городской, тогда приходится говорить в две трубки сразу. Он всем отвечал по–разному, одному говорил, что будет занят сегодня весь день, другому обещал сам перезвонить, как только освободится, третьему сказал:
— Ну, ты ж сегодня будешь на комиссии? Там и потолкуем.
Он уже допивал чай, когда жена спросила:
— Ты не забыл, что я сегодня улетаю?
Он не забыл, только проводить её не сможет. Самолёт в семнадцать? Нет, до семнадцати никак не закончится.
— Александр Петрович и Саша тебя проводят, хорошо?
Саша – его водитель, Александр Петрович – помощник.
— Хорошо, — сказала Мируся без тени огорчения.
Они так много ездили и летали, так часто расставались, что вопрос о том, кто кого встречает и провожает, давно потерял для них сакраментальный смысл, стал сугубо практическим.
— Ты сколько планируешь там пробыть?
Вот это был ключевой вопрос того утра, и надо было не книжку читать и не в телевизор поглядывать, а послушать, что она скажет. Вообще надо было все выключить, в том числе телефон, все отложить, и не ходить по квартире, как встречные поезда, она в одну комнату, а он – в другую, перекрикиваясь на расстоянии, а сесть друг против друга и спокойно поговорить. Какие у неё планы, что она собирается делать в С.? Он ведь даже не понял толком, зачем вообще она туда летит. И ведь она ответила что‑то, когда он спросил, сколько времени она там пробудет, но то ли он прослушал, то ли, скорее, очередной телефонный звонок его отвлёк. Ну да, договаривал уже в прихожей, держа одной рукой трубку, а другой орудуя длинной металлической обувной «ложкой», только и успел сказать:
— Все, Мируся, я поехал, позвони, как долетишь.
А она только и успела напомнить, что в холодильнике – котлеты и рыба, и, если он будет в выходные дома, чтоб поел. И что чистое белье в комоде, а рубашек и брюк она побольше нагладит, чтоб были на все случаи. И сама поторопила:
— Иди, иди! Опоздаешь!
Перекрестила его (всегда так делала), он её поцеловал и уехал. Потом, уже днём, несколько раз вспоминал про её отъезд и досадовал на себя: как‑то по–дурному получилось утром, не успели ни поговорить, ни попрощаться как следует. Так всегда: пока она рядом, все какие‑то дела, дела, а стоит расстаться хоть ненадолго – он тут же начинает скучать и думать о ней.
Владимир Васильевич (В. В.) очень любил свою вторую жену.
От прежней жены и других женщин, которых довелось ему знать, она отличалась, как минимум, по трём пунктам: была умна, совершенно не ревнива и к материальной стороне жизни вполне равнодушна. Эти редкие качества делали домашнюю жизнь В. В. удобной и необременительной. Ему не надо было давать отчёта жене в своих делах, передвижениях и тратах, казалось, все эти вещи её нисколько не интересуют. Со стороны можно было подумать, что каждый из них живёт своей жизнью: он всегда в разъездах и заседаниях, она – всегда дома и редко одна – то родственники гостят, то друзья. На самом деле они никогда не теряли друг друга из виду, привыкли созваниваться по нескольку раз на день, просто так, чтобы спросить: «Как ты там?» и услышать: «Нормально. А ты?». Он хотя и был человек государственный и занятой, но семью и благополучие близких ставил превыше всего, много об этом заботился, без конца благоустраивал их и без того устроенный быт и любил баловать жену подарками. Она, не имея собственных сколько‑нибудь важных и значимых дел, оставаясь всего лишь женой и, как приходилось ей, в случае чего, писать в анкетах, «домохозяйкой», жила перепетиями его службы, во всём ему сочувствуя и всегда, будь он даже неправ, оставаясь на его стороне. Вместе они пережили несколько реорганизаций ведомства, в котором он служил, переездов на новое место службы и перемен в должности, правда, всегда в сторону повышения. Все эти годы вокруг него был плотный круг коллег и соратников, состав которых менялся в зависимости от его передвижений по службе. Но настоящих друзей среди них почти не было, и не раз уже убеждался он в предательстве людей, которых считал близкими себе, так что полностью доверял теперь только одному человеку и только с одним человеком был до конца откровенным, зная наверняка, что он не предаст и не сдвурушничает. Этим человеком была жена. Обычно не слишком внимательная, даже рассеянная, она, как только у В. В. возникали мало–мальски серьёзные проблемы или неприятности, сразу это чуяла, и тогда вся обращалась в слух, во внимание, на лету схватывала суть и всегда могла что‑то умное ему подсказать и посоветовать. За это он любил жену ещё больше, называл «Василиса Премудрая» и считал, что ему, хоть и с большим опозданием, а все же повезло в жизни.
…Первый раз он женился ещё мальчишкой, по собственной, можно сказать, глупости и неопытности. Он тогда заканчивал суворовское училище, и, благодаря военной выправке, а также высокому росту и накачанности мышц, выглядел старше своих 18. Были последние перед выпуском каникулы, которые он проводил в родном городе К., у родителей. И была взрослая девушка Люба, с которой он познакомился на танцах в горпарке и с которой успел погулять всего‑то неделю. Это было в марте, а в июле отец его, Василь Васильич, вынул из почтового ящика письмо, в котором родители Любы сообщали, что она ждёт ребёнка. Отец, даже не подозревавший о существовании этой Любы, в тот же день сел на трамвай и поехал на другой конец города по указанному на конверте обратному адресу. Калитку во дворе маленького частного домика открыла невысокая, полная девушка в ситцевом сарафане с заметно выпирающим животом. Увидев этот живот, Василь Васильич, отставной полковник, фронтовик, человек суровый и дисциплинированный, тут же, не отходя от калитки, сам все решил за сына. Мать, Зоя Ивановна, пыталась его защитить, говоря: мало ли что бывает, а жениться ему рано. Но отец сказал: не допущу, чтобы мои внуки, родная кровь, росли где‑то безотцовщиной.
А между тем, сам он был женат вторым браком, влюбился на фронте в молоденькую медсестру и не вернулся после войны в свою семью, она так и осталась в Москве – жена и двое мальчиков, а женился на этой медсестре, разница у них была в двадцать с лишним лет, и родил с ней ещё двоих сыновей. Старшего, Вову он очень любил, мечтал видеть офицером, для чего и отдал одиннадцати лет в суворовское училище. И вот этого‑то Вову он не пожалел, вызвал телеграммой из Москвы, где тот уже готовился к вступительным экзаменам в высшее военное училище (в то время он мечтал стать разведчиком и усиленно учил язык), и чуть не силой препроводил в загс под ручку с беременной Любой, которая при более близком знакомстве оказалась старше его на целых шесть лет.
Вскоре после этого родилась на свет девочка. Но молодой отец её даже не увидел. Вместо того, чтобы поступать, как было намечено, в военное училище, он пошёл в военкомат и сам попросился в армию. Те два года, что он служил, Люба с ребёнком жила у его родителей, так решил отец. Вернувшись из армии, он нашёл дома полную идиллию. Люба готовила на всю семью, убирала и даже шила, дед нянчился с внучкой, позволяя ей буквально сидеть у него на голове. Брат Вася, которого отец любил больше всех и как самого младшего и наверняка уж последнего из своих детей (когда он родился, отцу было далеко за 50) никуда от себя не отпускал, а тому тоже хотелось в суворовское, этот Вася называл Любу «сестра» и стрелял у неё рубли на сигареты. Даже мать, Зоя Ивановна, успела к ней привыкнуть и говорила теперь, что лучшей невестки, пожалуй, не найти.
Молодого Владимира Васильевича, тогда ещё просто Володю, эта идиллия, однако, совсем не вдохновила, жены своей он всячески чуждался, на дочку – голубоглазую толстушку – смотрел с изумлением. Ему было 20 лет, и он все ещё размышлял над тем, кем ему стать в этой жизни. После армии идти в общевойсковое училище расхотелось, втайне он по–прежнему мечтал о разведке, в крайнем случае – контрразведке, но туда просто так не принимали, и он пошёл обходным путём: поступил на юрфак местного университета, где его очень скоро избрали секретарём комсомольской организации – сначала курса, потом факультета, а ещё через год пригласили на работу в райком, так что заканчивал он уже на заочном, притом экстерном. Наконец настал день, когда молодой В. В. переступил порог большого серого здания с каменным гербом на фасаде (не сам, не сам, а по призыву, не могли там не заметить такого молодца), и вот только тут началась для него настоящая жизнь и настоящая работа, та, о которой он грезил ещё суворовцем.
Дома он теперь бывал мало, а где пропадает и чем занимается – ни жене, ни родителям не докладывал. Сам рвался в командировки и напрашивался на ночные дежурства. Жена Люба ревновала и жаловалась отцу, который всегда брал её сторону, в отличие от матери, которая больше жалела все‑таки сына и говорила: ну, что поделаешь, насильно мил не будешь. Однажды Люба даже ходила к нему на службу и просилась на приём к самому генералу, но дальше дежурного на входе её не пустили. А вскоре он и вовсе уехал из дому: как молодого и перспективного сотрудника его направили на учёбу по специальности в Москву. В следующие два года он ни разу домой не приезжал и даже редко звонил, весь поглощённый учёбой, особенно налегал на языки, которые давались ему на удивление легко. В разведку его, однако, так и не взяли, больше из‑за внешних данных – слишком видный, заметный был молодой человек, как он сам любил представляться в те годы девушкам: «Без одного килограмма центнер, рост 5–й, ботинки 46–й стоптанный». Но для работы в контрразведке рост и вес были не помеха, главное – мозги, оперативное мышление, а с этим у В. В. было все в порядке, благодаря чему, после учёбы в «вышке» он стал быстро продвигаться по службе.
С Любой развелись только, когда отца не стало, он бы этого ни за что не допустил. Люба, давно смирившаяся с тем, что её не любят, ещё жила какое‑то время со свекровью, на что‑то, видимо, надеясь, потом тихо съехала к своим.
Печальный опыт семейной жизни сделал его если не женоненавистником (для этого он был все‑таки слишком жизнелюбив), то вполне убеждённым холостяком. Жил он теперь в однокомнатной служебной квартире, где бывало всякое – и попойки с обмыванием очередной звёздочки, и сидение заполночь за шахматами с закадычным другом и соседом Лёней Захаровым, и, конечно, приходящие барышни, ни одна из которых надолго здесь не задерживалась, хотя многие пытались и хотели бы задержаться.
Иногда в его «берлогу» заглядывала мать, Зоя Ивановна, всякий раз приходившая в ужас от царившего там беспорядка и призывавшая сына подумать все‑таки о женитьбе, а может, и сойтись снова с Любой, которая так и живёт, бедная, одна. Семейным положением В. В. периодически интересовалось и начальство. Сам он тоже не прочь был устроить, наконец, свою жизнь и даже сошёлся было с одной симпатичной докторшей из ведомственной поликлиники, где проходил ежегодную диспансеризацию. Они прожили вместе три скучных года и по обоюдному согласию расстались, так и оставшись чужими.
Время от времени возникала дочь Дашка и просила денег то на выпускное платье, то на сапоги, то на зимнее пальто. Она была рослой и такой же крупнокостной, как В. В., отчего казалась старше и могла бы сойти ему за сестру. Помня завет отца, души не чаявшего в девочке, В. В. продолжал её опекать уже и после того, как ей исполнилось 18, безропотно исполнял всё, что бы она ни попросила, почти не испытывая при этом отцовских чувств, только ответственность.
Владимиру Васильевичу было уже под сорок, когда в его жизни появилась Мируся. С тех пор всё изменилось для него. Только теперь он узнал, что можно, оказывается, стремиться после работы домой, потому что там ждёт его любимая женщина, жена. И только теперь он понял то, о чём безуспешно толковал ему когда‑то отец: главное для человека – дом, семья. До Мируси вся его так называемая личная жизнь была сплошной цепью ошибок и неудач, случайных связей, недолгих привязанностей, вечной неустроенности и вечной готовности к обороне: желающих женить его на себе всегда хватало. Мирусе же сдался сам, безоговорочно и со всеми потрохами.
…Они встретились осенью, на берегу Азовского моря, и эту встречу можно было бы счесть романтической, если бы не одно обстоятельство: именно в то время и в том месте накалялась одна из первых «горячих точек» новейшей истории и бушевали страсти, но – политические. Большая колония крымских татар предприняла попытку совершить пеший переход в Крым, на свою историческую родину, с которой они были изгнаны в середине войны Сталиным. Было указание Москвы всеми возможными способами удержать их от этого шага, для чего на Таманский полуостров десантировался целый политический штаб, состоявший в основном из силовиков и партработников. В. В. оказался в составе этого штаба и руководил переговорами с лидерами движения крымских татар; Мируся была одним из немногих, если вообще не единственным журналистом, допущенным на место событий и должна была давать в газету взвешенную информацию о происходящем, дабы не замалчивать ситуацию (был самый расцвет гласности), но и не разжигать огонь конфликта ещё сильнее. Фактически из одной и той же штабной комнаты они передавали свои сообщения в центр: он по ВЧ, она – по простому телефону, диктуя стенографистке. Прислушивались друг к другу. Ему понравилось, как она формулирует проблему, без словоблудия, просто и чётко. Ей понравилось, что он не играет в секреты, говорит обо всём открыто и с явным сочувствием к участникам «похода». Был деловой обмен информацией, сопровождавшийся, может быть, более долгими и пристальными взглядами, и даже вопросами не по существу, а как бы в шутку:
— А что вы делаете согодня вечером?
— Вечером я пишу репортаж, чтобы утром продиктовать его в номер, а что?
Ближе к ночи в штабе, где толклось изрядное количество людей, пили виноградное вино, доставленное местными напуганными чиновниками, и В. В. с Мирусей тоже пили, почему бы и нет, а потом вышли вместе из штабного домика и спустились к морю. Была ночь, полная луна, светло и тихо. И вот тут, наверное, что‑то произошло между ними, что‑то как будто щёлкнуло у обоих внутри, включилось, и они посмотрели друг на друга совсем уж откровенно и впервые задали друг другу совсем откровенные вопросы. Так выяснилось, что оба на данный момент одиноки.
С Тамани, когда все там рассосалось («поход» удалось предотвратить, но проблема осталась и считалась самой острой, пока не грохнуло в другом месте – в Карабахе, тогда уж таманские события показались «семечками»), возвращались порознь, и она всю обратную дорогу обдумывала итоговую статью, а он все думал о ней, и в городе первым делом позвонил, потом ещё раз и ещё, потом заехал как‑то вечером в редакцию. Она сидела за массивным столом, в глубине большого, показавшегося чересчур солидным для женщины кабинета, при свете настольной лампы, погрузившись в чтение газетной полосы. Подняла голову, увидела его, удивилась и, кажется, обрадовалась.
— Вы всегда так поздно работаете? – спросил он.
— Всегда, — сказала она.
— Не тяжело?
— Я привыкла.
Ещё через несколько дней он напросился в гости, ей не хотелось, но отказать было нудобно, он пришёл, огляделся: квартирка была маленькая, двухкомнатная, без ремонта. Он не думал, что главный редактор газеты живёт в таких условиях.
— Телевизор давно не работает?
Она вздохнула:
— Давно.
Там не только телевизор не работал, там много чего было сломано, сыпалось и крошилось – плитка в ванной, линолеум в кухне, обои в прихожей. Стало ясно, почему она не хотела его приглашать.
Он полез чинить телевизор и быстро починил, она сказала:
— Ну, спасибо.
Он тут же обхватил её, хотел поцеловать, но она отстранилась и сказала:
— Лучше бы я телемастера вызвала.
Ещё не чуяла, что это её судьба, и никуда она от неё не денется.
Он и правда взял её в оборот, «в разработку», как у них выражаются, и уже не отстал. Он видел перед собой женщину самостоятельную и энергичную, сделавшую в жизни успешную карьеру, но при этом абсолютно незащищённую, одинокую и в бытовом отношении беспомощную. Он увидел также, что все вокруг нещадно эксплуатируют эту женщину, её способности, её талант журналиста – обком партии и конкретно первый секретарь, которому она постоянно что‑то писала – то речи, то статьи, то даже книги; сотрудники редакции, которые взвалили на неё весь газетный воз, и она безропотно его тащила, порой надрываясь, но считая, что так и должно быть. Он же был уверен, что эта женщина достойна лучшей участи, чем пропадать по ночам в редакции. И когда женился на ней (не сразу, лишь спустя три года), постарался дать ей это лучшее, как он его понимал, благо и возможностей с течением времени становилось у него всё больше. Первым делом он увёз её подальше от всего, от всех – обкома, газеты, старых связей, старых друзей и на новом месте окружил такой заботой, какой она никогда в своей жизни не знала, да и сам он не знал, что способен на такую заботу и такую любовь к женщине. Но и она, в свою очередь, отплатила по самому большому счету, пожертвовав для него карьерой, любимой работой, став ему и женой, и другом, и советчиком во всех делах.
Потерять такую женщину было бы для В. В. невозможной трагедией. Но таких слов – «потерять», «лишиться» и т. п. – он старался даже мысленно не произносить, хотя после безуспешных звонков самой Мирусе и бестолковых разговоров с Аннушкой слова эти, конечно, лезли в голову и пугали. Он вообще хотел думать и думал, что произошло какое‑нибудь недоразумение, причём, самое мелкое, ничтожное, из‑за которого не стоило не только лететь самолётом в С., но и поднимать панику по телефону. Но когда он спрашивал себя, что это могло быть за недоразумение, ничего подходящего и убедительного в голову не приходило. Жена была женщина разумная и осмотрительная, не могла она никуда подеваться без его ведома, не могла не позвонить, и если теперь телефон её молчал, это должно было значить только одно: случилось нечто из ряда вон выходящее.
И вслед за этим, как ни уклонялся В. В., его настигала одна очень нехорошая мысль: это «нечто» каким‑то непостижимым для него образом связано с домом.
Особняк на улице Инжирной он начал строить в середине 90–х, вложил в него много ума и фантазии, и очень гордился тем, что получилось. Он любил здесь бывать, стремился сюда отовсюду — из сумрачной Москвы и из дальних командировок, находя здесь полное, ничем не отвлекаемое отдохновение душе и телу. Именно здесь, в этом доме, хотел бы он когда‑нибудь, окончательно отойдя от дел, провести остаток жизни.
У жены было своё отношение к дому. Поначалу, лишь только он замыслил его строительство, она всеми силами восстала против. Какой ещё дом? Зачем? Не надо м н е никакого дома! Достаточно и квартиры. Нет, нет и нет, даже слушать не хочу. В. В. на время отступился, но землю взял и кредит в банке оформил. Они тогда жили в С., и как раз в те годы в этом приморском городе, как и повсюду, начался бум частного строительства. Все местное чиновничество, всё более или менее успешные предприниматели наперебой выбирали участки то ли вовсе пустовавшей в силу неудобности рельефа, то ли застроенной халупами земли, приводили её в нужное состояние и начинали строиться. Особняки росли в беспорядке, без всякой системы, действительно, как грибы, многие тут же продавались и перепродавались, но тот, кто строил, как В. В., для себя, не спешил и делал все основательно, с умом, заботясь и о противооползневом укреплении, и о сейсмоустойчивости (город лежит на узкой полоске берега между морем и горами, которые считаются ещё молодыми и, значит, подверженны тектоническим сдвигам).
Уже пора было расчищать участок и забивать сваи, а Мируся все ещё сопротивлялась.
— Дом! – говорила она, качая головой. – Да как я своим всем в глаза буду смотреть, когда ты его отгрохаешь!
В. В. медленно, но верно гнул свою линию.
Первый раз он привёз жену на уже развернувшуюся стройку, когда залили фундамент. Она походила по периметру, пробуя ногой застывший бетон, повздыхала и изрекла:
— Зря ты меня не послушал.
И пока дом строился, она все вздыхала и качала головой, высказывая время от времени свои соображения, всегда исключительно негативные:
— Это ж лет десять будут строить!
Или:
— Кто, интересно, будет его убирать?
— Найдём женщину, — говорил В. В., у которого на все был готовый ответ.
— Да ты с ума сошёл, у меня сроду домработницы не было, и у мамы моей не было, ни у кого не было в нашей семье (неправда, у тётки её была, сама же рассказывала), что я – барыня, что ли! И вообще, зачем мне чужая женщина в доме!
Но вот стали проступать очертания будущих спальни, гостиной, кабинета, и В. В. стал замечать у жены первые проблески интереса.
— А здесь что будет? – спрашивала она, переступая через горы строительного мусора и заглядывая в проем двери.
В. В., радуясь этому её интересу, говорил самым миролюбивым тоном:
— Что скажешь, то и будет. Ты же хозяйка! (При слове «хозяйка» она хмыкала). Хочешь, сделаем тебе гардеробную, чтобы никаких шкафов, а все вещи – здесь, в отдельной комнате?
— Почему это мне? Я сто раз уже говорила: мне ничего не надо.
— Ну, хорошо – нам, нам, детям нашим. Соберём всю семью под одной крышей.
Эта перспектива (на самом деле довольно мифическая) кое‑как примиряла её с происходящим.
Дом строился не десять, но пять лет, тоже немало, и был совсем готов к круглому, 2000–му году, и тот Новый год встречали уже в новых стенах, чем В. В. был чрезвычайно горд и доволен. К этому времени и она успела привыкнуть к мысли, что у них есть теперь свой дом, и даже размечталась, как они станут в нём жить и принимать гостей – друзей и родных. Но как раз в это самое время политический ландшафт в стране в очередной раз резко поменялся, начались крупные кадровые пертурбации, и Владимира Васильевича неожиданно (впрочем, сам он давно этого ждал) призвали на работу в Москву. Тут она впервые призналась, что ей жаль оставлять дом и жаль, что они в нём так и не пожили.
— Ничего, ещё поживём! – говорил В. В. – Подумаешь, два часа лёту! На выходные будем летать.
И действительно, с тех пор они стали жить как бы на два дома, если не сказать – на три, потому что вместе с новой должностью появилась ещё госдача под Москвой, в Успенском, куда они изредка выезжали в конце дня пятницы, чтобы вернуться в Москву в понедельник утром. Но жена говорила, что эта дача ей совсем чужая, там даже запахи все чужие (за время советской власти кто в ней только не жил, да и в новые времена она сменила уже трёх хозяев).
Напротив, «домик у моря», как она его называла, и особенно сад, разбитый на месте бывшего оврага и уже плодоносящий, она очень скоро полюбила и в последнее время даже стала приезжать сюда сама и уже не боялась ночевать одна в доме, говорила, что привыкла к его звукам – скрипам, шорохам и свистам. Вдруг становилось ей скучно и неуютно в Москве, она бродила, не находя себе места, по их большой квартире, на 7–м этаже знаменитого «брежневского дома», старого, но ещё добротного, и говорила, что хочет домой. «Домой» в этом случае означало – на Инжирную. Собиралась и летела сама в С. Но пожив там несколько дней, опять начинала беспокоиться, теперь уже о каких‑то своих делах в Москве (вроде того, что цветы без неё завянут или собака, оставленная соседям, заскучает) и говорила Аннушке: «Поеду‑ка я домой», что означало – в Москву, на Кутузовский.
Тем не менее В. В. не любил отпускать её куда‑либо одну, всегда почему‑то волновался и нервничал, но волнения его относились главным образом к поездам и самолётам, вообще к дороге, а как только она добиралась до места, он сразу успокаивался, особенно, если этим местом был их дом в С., надёжно обустроенный с точки зрения безопасности – жалюзи на дверях и окнах, видеокамера на крыше, да и живая охрана в лице Аннушки с Костей. «Теперь я понимаю, что значит «Мой дом – моя крепость», — усмехалась Мируся. Казалось, беспокоиться не о чем, когда она там.
И вот тебе на: именно оттуда, из собственного их дома она и пропала.
Два часа полёта из Москвы в С. он провёл в самых тревожных размышлениях, перемежавшихся, впрочем, и некоторыми посторонними мыслями, как то: о вероятных перестановках в правительстве, о недавнем заседании межведомственной комиссии, в котором он участвовал (допоздна сидели и толкли воду в ступе) и совсем уж лишняя мысль пришла – о намеченной на начало следующего месяца поездке в Японию, которая теперь может сорваться. В Японии он, объехавший за свою жизнь полмира, никогда ещё не был. Эти побочные мысли несколько отвлекали Владимира Васильевича и возвращали его в привычную реальность, на фоне которой неожиданное исчезновение жены снова казалось ему совершенно неправдоподобным. Может, это Аннушка что‑нибудь забыла, напутала и зря подняла переполох? («Уволю к чёртовой матери!» — злился наперёд В. В.). А может, он сам что‑то забыл или пропустил мимо ушей, когда жена говорила ему о своих планах на ближайшие выходные?
Теперь ругал себя за то, что вообще отпустил её, пусть бы сидела в Москве и ждала, пока он освободится от дел, поехали бы неделей позже, зато вместе, и ничего бы не случилось. Злость на себя смешивалась с досадой на жену: ведь наверняка сама виновата, куда её понесло, зачем, почему никого не предупредила? И все перекрывал страх за неё: где она сейчас, что с ней? Мысли о несчастье он все ещё не допускал, упорно надеясь, что все прояснится, как только он прибудет на место и лично во всём разберётся. Может, пока он летит, она уже нашлась и ждёт его дома, бросится на шею и скажет: «Прости меня, Котик, тут такая ерунда вышла…».
Он даже задремал, чтобы уж скорее прилететь и убедиться, что именно так все и будет.
Но прилететь в город, в котором отработал десять самых смутных реформенных лет, так, чтобы никто из местного руководства об этом не знал, было трудно, почти невозможно. Принято было встречать людей такого ранга, как В. В., у трапа, целой толпой, везти сразу ужинать и за рюмкой водки докладывать обстановку в городе и, пользуясь случаем, набрасывать проблемы, в которых нужна его, высокого гостя, помощь.
В. В., однако, умел избегать этого ненужного ему (сейчас – особенно) ритуала. В аэропорту города С. встречал его, как и было условлено, только старый приятель Лёня Захаров, человек небольшого роста и неопределённого возраста, из той породы людей, которые до старости сохраняют юношескую фигуру, не седеют и не лысеют, не обзаводятся животом и вторым подбородком, благодаря чему остаются лёгкими на подъем, почти не меняют своих житейских привычек и продолжают нравиться молодым девушкам. Лёня, к тому же, очень смахивал лицом на артиста Збруева, чем не раз злоупотреблял при знакомстве с женщинами. Он был один из немногих, с кем В. В. удалось продружить всю жизнь. Когда‑то давно, «на заре туманной юности» оба они жили в славном южном городе К., оба учились на юридическом, оба начинали работать в комсомоле, вместе занимались боксом (в разных весовых категориях), потом вместе были призваны в «органы», работали операми бок о бок, в соседних отделах, но постепенно пути их разошлись. В. В. рванул вперёд и вверх, дослужился до генерала и с годами сильно изменился – раздобрел, поседел и полысел, сделался солидным и респектабельным. Лёня подотстал и где‑то в середине 90–х, после очередной реорганизации конторы и перемены её названия, плюнул на все и в звании полковника (а больше ему не светило), уволился подчистую, переехал не без помощи старого друга в ещё более южный город С. и открыл здесь собственное охранно–сыскное агентство. Состав его нынешних «клиентов» был примерно тот же, что и на прежней работе, только тогда это были котрабандисты, валютчики и цеховики, и он их изобличал, а теперь – уважаемые бизнесмены, и он их охраняет. Лёню это не слишком удручало, он давно научился смотреть на жизнь философски.
— Значит, так, – доложил Лёня, едва только обнялись. – Больницы, морги проверил – ничего. Оперативную сводку ГУВД по состоянию на 18.00 смотрел – тоже ничего похожего.
— Ладно, поехали, может, там что‑то знают! – заторопился В. В., стараясь держаться бодро.
У ворот дома на Инжирной, несчастные и перепуганные, встречали их Аннушка с Костей.
Лёня Захаров в дом не пошёл, сказал, что подъедет позже, через часок. Он решил объехать пока рестораны, их не так много в городе, и в каждом есть у него свои, доверенные люди. Вдруг да видели её накануне с кем‑то или в компании. Когда дело касается женщины, даже такой, как Мирослава, никогда не лишне проверить для начала главную версию…
Тем временем В. В. угрюмо обошёл весь дом, будто проверяя, все ли на месте, или ища следы чьего‑то постороннего присутствия.
— Гараж открывали?
— Нет, — затряслась Аннушка.
Она никогда не видела, чтобы хозяйка брала машину, и была уверена, что водить она не умеет.
— Умеет, — буркнул хозяин.
Долго искали пульт от ворот, на месте его не оказалось, Костя сбегал в сторожку за запасным, наконец, открыли и ахнули все трое – гараж, в котором большую часть года стояла без движения серебристая «Хонда» (обычно на ней ездил, приезжая в отпуск, хозяйский сын), теперь был пуст.
— Может, её давно нет? – строго спросил В. В.
— Дак я ж в пятницу с утра тут мыла. Была она, стояла!
— А как выезжала, значит, не слышали? – хозяин смотрел с недоверием. – Ну, вы даете…
Аннушка с Костей молчали, не зная, что сказать.
В. В. вернулся в дом, снова покружил по комнатам, что‑то бубня себе под нос, наконец, усадив на диван Костю с Аннушкой, стал во всех подробностях расспрашивать их о вечере пятницы: не было ли каких звонков, не приезжал ли кто к хозяйке, во сколько она легла, и кто из них видел её последним. И тут Аннушка рассказала, наконец, про кукол.
Когда обходили комнаты и дошли до кабинета, хозяин попросил их остаться за дверью, сказав: «Здесь я сам…». Костя с Аннушкой понимающе переглянулись и остались стоять на лестнице. Они знали, что в кабинете у хозяина устроен за одной из книжных полок небольшой сейф (каждый раз, делая генеральную уборку, Аннушка вытаскивала с полок все книги). Более того, однажды она даже видела краем глаза его содержимое. В тот раз что‑то понадобилось в сейфе хозяйке, но открыть сама она не смогла и позвала на помощь Костю, прибежали, естественно, вместе. Костя, повернув толстый ключ, сразу отошёл, а Аннушка задержалась и успела всунуть свой нос. В металлической глубине сейфа лежали какие‑то папки, несколько красного цвета коробочек, в которых (это она знала) хранились награды хозяина – два ордена и штук десять медалей, поверх всего поблёскивал небольшой пистолет, увидев который, Аннушка испуганно перекрестилась и тут же отошла.
В. В. пробыл в кабинете минут пять–семь, вышел спокойный, что могло означать: пистолет на месте, никуда не делся, и тут последовал вопрос про гараж. Так и получилось, что у Аннушки не было до сего момента случая рассказать ему про кукол.
Теперь он выслушал её хмуро и, как бы не очень понимая, про что она говорит.
— Ну‑ка, ну‑ка, ещё раз.
Аннушка повторила. В. В. вернулся в кабинет.
— Где, какая? Какой куклы нет?
— Что два лица у неё. С Парижа которая.
— Ах, эта… — пробурчал В. В.
На самом деле он с трудом мог представить себе сейчас эту куклу, хотя покупали они её вместе, действительно в Париже, у известного антиквара Роже Копре, прошлой осенью, и везли в коробке через всю Европу, и жена тряслась над этой коробкой, как над самой большой ценностью, в самолёте держала её на руках, боясь доверить бортпроводнице. «А ведь она дорогая, эта кукла», — подумал В. В., припоминая, что кредитную карточку антиквар, извинившись, не взял и пришлось отдавать наличными изрядную сумму.
— А может, она её пересадила куда‑нибудь или спрятала? – спросил он и сам заглянул за зелёный кожаный диван, рядом с которым стоял пустой одноногий столик.
— Та я уже везде искала, — вздохнула Аннушка.
— Ну, тогда это черт знает что такое, тогда я не знаю… — пробормотал В. В. и, понурившись так, что на него стало жалко смотреть, пошёл из кабинета.
Захаров приехал поздно, около двенадцати. Первым делом доложил: никаких ДТП с участием «Хонды» ни в городе, ни по трассе не зарегистрировано.
— А если это угон?
— Ты ж сказал, пультом открыто?
Об исчезновении машины В. В. сообщил Захарову сразу, не отходя от гаража, тот ещё задал несколько дополнительных вопросов, в том числе и про пульт. И обходя после этого дом, и допытываясь у Аннушки с Костей о подробностях того вечера, он всё время держал в голове мысль о «Хонде», и никак не мог додумать её до конца. Дело в том, что Мируся никогда на этой машине не ездила. И вообще одна не ездила, только с инструктором, когда на права сдавала, а их она всего‑то месяца три как получила. Он даже не знал, что она туда ходит, вдруг приносит права. Удивился и не поверил: ты их что, купила? Она рассмеялась, сказала: представь себе, сдала, как положено. Подумал: да ладно, это так, чтобы похвастать при случае, у всех жены водят, а она нет, у всех жён свои машины, а у неё нет, но про машину она даже не заикалась. Ещё пошутил: выйду в отставку, будешь меня возить вместо Сашки. Но чтобы она вот так, сама села за руль и куда‑то поехала, при том, что здесь кругом сплошные повороты – этого он никак не мог себе представить…
— Значит, приспичило, — сказал Лёня Захаров.
В. В. такое объяснение никак не устраивало.
— А могли её остановить где‑то и просто…отобрать машину?
— Кто? Милиция?
— Бандиты какие‑нибудь… в милицейской форме.
«Бедный Володька!» – подумал Захаров, а вслух сказал:
— Старик! Последний раз такая банда действовала у нас, и то не здесь, а на Ростовской трассе, лет десять назад, их, как ты знаешь, поймали и посадили, не без моего, кстати, участия, если ты помнишь, и с тех пор ничего подобного лично я не слышал. Ты мне другое скажи, звонки какие‑нибудь были?
Звонков не было.
— Это хорошо.
— Что ж хорошего? – не понял В. В., мучительно ожидавший все это время только одного звонка – от Мируси.
— Хорошего то, что пока нет звонка с требованием выкупа, версия о похищении также не находит своего подтверждения.
Но В. В. даже думать не хотел ни о каком похищении. Во–первых, от похищения остались бы хоть какие‑то следы, а тут – ничего, словно испарилась. Во–вторых, он вообще не припомнит случая, чтобы похищали женщин, если, конечно, это не какая‑то молоденькая смазливая девчонка. Все‑таки с женщинами, что ни говори, мороки больше.
— А ты забыл, что у нас тут было в позапрошлом году?
Действительно, года два назад у известного в городе бизнесмена Щ. тоже таинственным образом пропала жена. Об этом много писали тогда в городских газетах, говорили по местному телевидению, и даже сам потерпевший появлялся несколько раз на экране и предлагал вознаграждение тому, кто поможет пролить свет на эту историю. Дело осложнялось (или, напротив, упрощалось) тем, что исчезновение жены бизнесмена пришлось на разгар внеочередной кампании по выборам мэра города (после ухода в Москву предыдущего мэра, то есть В. В.), а этот Щ. был в числе претендентов. По городу ходили слухи, будто он сам организовал пропажу жены, спрятал её где‑нибудь и теперь разыгрывает на глазах у избирателей большую личную драму, желая привлечь внимание и вызвать сочувствие. Однако Щ. сделал заявление по ТВ, что готов хоть сегодня снять свою кандидатуру и не участвовать в выборах, только пусть соперники, если это их рук дело, вернут жену. То есть на глазах у всех сделал выбор в пользу жены, а не мэрского кресла. Но и это не помогло, жена не находилась. Тогда он заявил, что раз «они» не возвращают ему жену, то и он не снимет своей кандидатуры, а напротив, пойдёт теперь до конца, назло всем врагам. В результате выборы Щ. проиграл, как‑то все‑таки не поверили ему, а жена, между прочим, так и не нашлась. Говорили потом, что она давно его оставила и живёт за границей по их обоюдному согласию, просто он эту ситуацию использовал в ходе кампании, но, видимо, только сам себе навредил.
— Ты меня с ним не сравнивай, то дело тёмное, — запротестовал В. В.
Ему очень не хотелось предавать факт исчезновения жены какой‑то огласке и тем уподобляться бизнесмену Щ., чья история, помнится, вызвала у него некоторую даже брезгливость. Он хотел, чтобы Лёня Захаров сам, не привлекая внимания и не поднимая шума, нашёл ему жену и как можно скорее.
— В крайнем случае, можешь пару ребят привлечь, только из наших, чтобы не болтали.
Самому В. В. «светиться» в городе не стоит, поэтому он будет направлять все действия отсюда, из дома, Лёне же придётся, конечно, помотаться. А уж В. В. его за это отблагодарит, можно не сомневаться.
— Хочешь, заместителем мэра тебя сделаю?
— На фига мне это надо? – удивился Захаров.
— Найди её, Лёха, мне без неё, ты же знаешь…
— Знаю. Будем искать. Идеи есть хоть какие‑то?
Никаких идей у В. В. не было.
— Происки врагов? – спросил–подсказал Лёня.
В. В. задумался. Как у всякого человека, сделавшего успешную карьеру и, значит, кого‑то в этой жизни потеснившего, у него были, конечно, если не враги, то уж точно недоброжелатели, которые дорого дали бы за то, чтобы он где‑то споткнулся, на чём‑то «погорел». Но зачем похищать жену! Что им это даст? Есть же другие проверенные способы, например, тот же компромат, который, кстати, не раз уже вбрасывался по поводу него то в газеты, то в интернет, но всегда безуспешно. В. В. называл эти писания неизвестных (впрочем, лично ему очень даже известных) авторов «бредом сивой кобылы на лужайке в лунную ночь без штанов» и никак на них не реагировал, а если спрашивали его, отшучивался: «Хай клевещут».
— Может, у неё самой были враги? Ты вообще в курсе её дел или нет? – продолжал выдавливать информацию Лёня.
— Да какие у неё дела! Когда работала – да, бывали стычки с руководством тогдашним, им не нравилось, что она про них писала, но это ж когда было… Уже и руководство всё поменялось, и она лет семь как из газеты ушла. По–моему, про неё все забыли давно.
Во всём большом доме они не нашли места более подходящего, чем кухня, сами заварили чай и теперь сидели, «катая» все возможные и невозможные версии. Высказывая очередное предположение, Захаров пристально смотрел в глаза другу, ища в них согласия с самой постановкой вопроса. В. В. слушал подавленно, то кивая, то пожимая плечами, то даже злясь на Лёню. Наконец тот спросил — очень осторожно и деликатно — дескать, не могло ли случиться так, что Мирослава… это… как его… ну, словом, не может ли быть с её стороны какого‑нибудь чисто женского взбрыка, то есть не думает ли В. В., что у жены мог появиться какой‑нибудь… друг на стороне? (Поездка по ресторанам ничего не прояснила).
В. В. решительно замотал головой. Полагать, что тут замешан другой мужчина, не было у него никаких оснований. Они были вместе уже пятнадцать лет и жили что называется душа в душу. Конечно, он не идеальный муж, и таковым себя не считает. Не идеальный прежде всего потому, что не может уделять жене достаточно времени и внимания, но тут уж ничего не поделаешь, служба прежде всего. Он много ездит, часто отсутствует дома, они редко бывают вместе, возможно, она скучала, возможно, ей хотелось чего‑то другого, большего от их отношений. Но с другой стороны, они ведь уже не так молоды, и степень их близости, привязанности и верности друг другу давно уже определяется не количеством времени, проведённого в одной постели и за одним обеденным столом, а чем‑то совсем другим.
Захаров только подивился наивности друга, но спорить не стал. Сам он, накопив в своей жизни немалый опыт общения с женщинами, никогда им особо не верил. Правда, такой женщины, как Мирослава, у него никогда и не было, а все‑таки лично он эту версию не сбрасывал бы со счетов и на всякий случай проверил бы кое–какие здешние связи пропавшей. Сам же В. В. рассказывает, что в последнее время она часто летала сюда одна, без него. А зачем, спрашивается? Какие у неё тут были дела?
— Ну, если сможешь узнать, — узнай, — нехотя разрешил В. В.
Ещё в самом начале, едва только Захаров приехал, В. В. рассказал ему, чувствуя при этом какую‑то неловкость, о кукле. Неловкость была оттого, что самому В. В. всё это казалось чем‑то несерьёзным, вроде детских игрушек. Поначалу и Захаров отнёсся к рассказу о кукле скептически, но уже в самом конце разговора, когда они, кажется, все обсудили и наметили план действий, он вдруг вспомнил про куклу и поинтересовался на всякий случай её стоимостью. В. В. назвал сумму. Лёня присвистнул и тут же захотел осмотреть коллекцию лично. Они поднялись в кабинет, В. В. зажёг свет и пропустил Лёню вперёд, в центр комнаты. Из дальнего угла, от арки с тёмным окном на двух взрослых, озабоченных мужчин смотрели, как осиротевшие дети, куклы. Их застывшие лица и позы, их продуманная, картинная рассадка напоминали безмолвную мизансцену какого‑то театрального спектакля.
— Да… – сказал Лёня Захаров. – Я таких и не видел никогда. Они что, все такие дорогие?
— Нет, здесь разные. Та, по–моему, самая дорогая была.
— Так, так. А не могла она её продать кому‑нибудь?
Продать? В. В. очень удивился бы, узнав о том, что жена его что‑либо вздумала продать из их дома, а куклу – тем более. Нужды в деньгах она не знает, он даёт ей достаточные суммы на собственные её расходы и никогда даже не интересуется, куда она их тратит. Дорогих украшений она себе не покупает (не любит), магазины вообще терпеть не может и никогда сама в них не ходит, разве что с ним, да и то в случае крайней необходимости, когда нужно бывает, к примеру, выбрать кому‑то подарок. Стоит завестись у неё лишним деньгам, как она тут же отдаёт их кому‑то из своих сестёр или племянников, и он об этом знает. Но если бы ей понадобилась вдруг серьёзная сумма на что‑то такое, о чём она не хотела бы ему говорить (само это предположение было для В. В. крайне неприятным, так как означало, что у жены могли быть от него какие‑то тайны), то и тогда она могла снять эти деньги со своей кредитной карточки, он бы и знать не знал. Так что продавать куклу она в любом случае не станет.
— Если бы ты сказал «подарить», я бы ещё подумал, а продать – нет, что ты!
— А что она с ними делала, с этими куклами?
В. В. пожал плечами.
— Ничего. Любовалась. Иногда пересаживала с места на место.
— Из дому она их когда‑нибудь выносила, ну, там… показать кому‑то?
— Не думаю.
— А в городе кто‑нибудь ещё собирает таких кукол?
— Понятия не имею.
— А кто знает об этой вашей коллекции?
— Да все знают, кто у нас в доме бывал, она всем показывала.
— Так–так… – сказал Лёня Захаров. – Интересно. Значит, в доме находится коллекция дорогих кукол, все об этом знают, и в один прекрасный день, вернее вечер, или даже ночь, точно пока не установлено, прямо из дома – без всяких следов проникновения и взлома — пропадает самая дорогая кукла, и вместе с ней хозяйка…
— Хозяйка, и вместе с ней кукла, — поправил В. В.
Лёня Захаров внимательно на него посмотрел и сказал:
— А вот этого мы с тобой как раз и не знаем.
4
Моя дорогая девочка! Я начинаю эти записки, когда до твоего рождения остаётся четыре месяца, и надеюсь закончить их как раз ко времени твоего появления на свет. Расчёт у меня простой: как только это произойдёт, мне станет не до писания, так что надо успеть.
Первый раз ты возьмёшь эту тетрадь в руки лет, я думаю, в семь – для того лишь, чтобы обнаружить на обложке своё имя. По–настоящему читать её ты начнёшь, вероятно, лет в 14, как раз в этом возрасте у девочки просыпается первый интерес к взрослой жизни. Боюсь, не всё, что здесь написано, ты сумеешь понять с первого раза, но ведь потом, на протяжении всей твоей долгой и, я надеюсь, счастливой жизни у тебя ещё будет возможность не раз перечесть эти страницы – и в 21, и в 35, и в 49… — пока сама не достигнешь того возраста, в котором они писались. Так, постепенно откроются все обращённые к тебе послания.
Столь неожиданная и странная идея пришла мне в голову 9 июля 2002 года, в Москве, при выходе из Центра «Мать и дитя», где за полчаса до того, в тёмном кабинете УЗИ я впервые увидела на экране монитора мерцающие очертания твоего лба и твоих маленьких ручек, которые будто пытались послать всем присутствовавшим свой привет из глубин материнского лона.
— Девочка! – возгласил доктор.
В ту же секунду я поняла, что люблю тебя всем сердцем.
Но… Мне ли не знать, каково это – родиться на свет женщиной.
Бедная малютка! – думала я в тот день. – Сколько подвохов ждёт её в этом мире. И кому, как не мне, предупредить её обо всём, пока не поздно!
Неделю спустя я начала эти записки.
Мне придётся рассказать тебе кое‑что из своей жизни.
Я родилась в год Тигра, месяц Скорпиона, день ракетных войск и артиллерии.
С такими «выходными данными» следовало бы явиться на свет мальчику, но есть дела, которыми ведает один Господь Бог.
Про артиллерию я знала всегда (мой отец был на войне артиллеристом), а про Тигра и Скорпиона лет до тридцати даже не слыхала, потому что массовое увлечение восточным гороскопом началось у нас только в начале 80–х. До того люди понятия не имели, кто какого года, и часто говорили о себе, что они родились «за год до войны» или «через год после Победы»… Так вот, если считать по–старому, то и я родилась через пять лет после войны, за три года до смерти Сталина, в самый революционный месяц нашего календаря, но, слава Богу, не 7–го, а позже, иначе в детстве у меня никогда не было бы своего, отдельного дня рождения.
В то далёкое время страна называлась СССР, а город, где это случилось, временно носил имя одного из советских вождей второго плана – Валериана Куйбышева. Теперь он снова, как было задолго до моего рождения, называется Самара. Новое старое название мне нравится, но я забываю, что имею к нему какое- то отношение и часто пропускаю мимо ушей. В Куйбышеве–Самаре я никогда после детства не бывала.
На этом свете я оказалась случайно. Мы все здесь случайно, просто одни рождаются от запланированной и, значит, желанной беременности, а другие – от нечаянной, про которую ещё подумают: оставить – не оставить. У тех, кому повезёт, есть врождённая способность к выживанию в трудных условиях.
Мне повезло трижды.
Сначала, когда сошлись вместе несколько обстоятельств, любого из которых (например, армейской командировки моего отца в Куйбышев или вечера танцев в клубе авиационного завода, где работала моя мать) могло и не быть, и тогда вся цепочка нарушилась бы, а моё место в этом мире осталось бы незанятым.
Потом, когда мама после долгих колебаний решила все же меня оставить.
А третий раз мне повезло уже на родильном столе. Я пробивалась на свет долго и мучительно, обессилев сама и почти обескровив свою мать. Когда после многочасовых схваток, нас с ней, наконец, разъединили, к радости врачей оказалось, что обе мы живы. Ожидали крупного мальчика, а родилась средних размеров (3 кг и 50 см) девочка, едва отмыв которую, акушерка, якобы, сказала измученной роженице:
— Красавица! Прямо куколка!
На что роженица будто бы ответила:
— О, господи, неужели и ей придётся когда‑нибудь так же мучиться?
Было воскресенье, ровно три часа пополудни, время моё пошло.
В детстве я думала, что взрослые, ожидая ребёнка, потому всегда хотят, чтобы у них был мальчик, что мальчики лучше девочек, мальчики – это какие‑то более полноценные существа. А кому не хочется иметь полноценное дитя! Позже я стала думать про это немного по–другому. Просто взрослые наверняка знают, что мальчику, мужчине легче прожить на этом свете. Что прожить! Им даже родиться легче, чем нам! У мамы, родившей после меня ещё двоих детей, была на этот счёт своя, выстраданная теория, гласившая, что девочки всегда рождаются в муках, а мальчики «выскакивают только так».
Я была уже взрослой девицей, когда однажды мне пришло в голову отсчитать от дня ракетных войск и артиллерии девять месяцев назад и вычислить день своего зачатия. Это оказалось несложно: на сороковую в обратном счёте неделю падал день Советской Армии и Военно–Морского Флота (все‑таки мне следовало родиться мальчиком!). Получалось, что родители, скорее всего, зачали меня в мамин день рождения, приходившийся как раз на этот праздник. Сообразив это, я страшно разволновалась, меня прямо бросило в жар и в краску.
Вот странно! Почему это о дне своего рождения думать легко и приятно, а о дне зачатия – стыдно? Словно быть замешанным (в буквальном смысле слова) в чужом совокуплении нехорошо, неприлично. Другое дело – рождение, ведь это – исход, прорыв на волю, к собственной, отдельной от материнской жизни. Каждая девочка знает, что это – святое, а то – грех (как будто одно без другого возможно!).
Впрочем, если вспомнить Деву Марию, Пресвятую нашу Богородицу… Одно время я много думала о ней, и так думала, и этак… Женщине труднее, чем мужчине уверовать в чудо непорочности, всё время что‑то мешает. Недаром же все Евангелия писаны мужчинами. Но, как мне объяснил недавно мой собственный сын (твой отец), о том, что сказано в Писании, вообще не надо думать, раз думаешь, значит, сомневаешься, а надо просто верить.
— Ты веришь? – строго спросил сын.
— Верю, — оробев, сказала я.
— Ну и все.
Нет сомнения, ты родишься красивой девочкой. Может быть, даже очень красивой, настолько, что именно красота определит всю твою дальнейшую судьбу. Тут уж ничего не поделаешь: несколько поколений красивых мужчин и женщин стоят за твоим появлением на свет. Но я должна тебя кое о чём предупредить.
Девочек воспитывают иначе, чем мальчиков. Красивых девочек – иначе, чем девочек обыкновенных. И дело не в количестве расточаемой любви. Тут как раз обратная зависимость, и сильнее всего любят маленьких калек и уродцев, если, конечно, сразу, не глядя, не отдадут их в приют. Но уродцам стараются не напоминать об их изъяне (во всяком случае, родные). Красивой девочке с самого рождения постоянно твердят, что она красивая. Только и слышно со всех сторон: кукла, куколка, красавица!
Сначала ты живёшь себе и живёшь, ни о чём таком не думаешь, поедаешь в большом количестве шоколад и мороженое, качаешься на качелях и купаешься в любви окружающих тебя взрослых – в основном, конечно, женщин – мамы, бабушки и тётушки. (Папа тоже присутствует, но где‑то там, на заднем плане). Чужие, случайно встреченные люди, увидев тебя, умиляются и говорят:
— Ой, какая у вас красивая девочка! Наверное, артисткой будет?
И ты привычно поводишь глазками в сторону и опускаешь длинные ресницы, как будто не тебя касается, на самом деле, уже очень хорошо понимая, что – тебя, и потому встряхиваешь совсем, как взрослая женщина, локонами и кружишься в своём голубом атласном платьице, чтобы оно ещё сильнее запереливалось на солнце.
Мама наряжает тебя, как куклу. Ты её гордость, любимая её игрушка, её вознаграждение за все страдания и муки. Незамужняя тётушка носит тебя на руках и без конца чмокает в щёчку. Она мечтает когда‑нибудь родить себе такую же куколку.
Ничего лучше этих первых лет жизни, осенённых непомерной любовью и обожанием взрослых, никогда больше не будет. Позже и они остынут, успокоятся и привыкнут к твоему существованию, оно перестанет их бесконечно умилять и восхищать, каждый займётся своими делами, тётушка, например, выйдет замуж, а мама родит себе ещё ребёночка, а то и двух, дольше всех будет любить тебя бабушка – до тех пор, пока не состарится и не умрёт.
Но дело сделано. «Куколка–красавица», ты уже уверена в своей особости и на каждого нового человека смотришь сияющими глазками, ожидая от него любви и восхищения, и, впервые не находя их, удивляешься и недоумеваешь: разве можно меня не любить?
Мария Петровых, когда её спросили (то ли Корней Чуковский, то ли Арсений Тарковский), какое десятилетие своей жизни она считает самым счастливым, ответила: первое! Чуковский с Тарковским не поняли и удивились. Я не поэт, но как я её понимаю! Надо быть женщиной, чтобы это понять. Никогда и никто – ни возлюбленные наши, ни подруги, ни мужья и дети – не будут любить нас так, как любили родные в самые первые годы нашей жизни.
Кстати, мальчиков в детстве любят не меньше, просто, вырастая, они этого не помнят, потому что любовь для них не главное. А мы помним. И, вырастая, меряем (неосознанно) этой меркой все обращённые к нам чувства. И оказывается, что в раннем детстве родные люди задали нам такую высокую планку любви, что с ней потом и сравниться ничто не может. И тем обрекли нас на вечную неудовлетворённость и вечные претензии к своим избранникам: «Ты меня не любишь!», «Ты меня любишь не так!».
Первая, детская красота проходит у девочек годам к семи.
Только что была куколка с пухлыми щеками и локонами, а в первый класс идёт худое, бледное и нескладное существо на тонких ножках, с испуганным взглядом, школьная форма висит на нём, как на вешалке, носки сползают, а атласные ленты в косах то и дело развязываются и болтаются позади чёрными змейками. Следующие семь лет оно, это существо, будет становиться только хуже – вытягиваться, приобретать всё более непропорциональные формы – длинные руки и ноги при все ещё маленьком, худосочном тельце, неожиданно большой нос и не слишком ровные послемолочные зубы.
Все это будет продолжаться лет до 14–15, когда должна, по идее, проявиться новая, не детская, а девичья красота, но это когда ещё будет, и вообще неизвестно, чем дело кончится, получится ли из красивого ребёнка столь же красивая барышня. И как пережить эти некрасивые семь лет, как привыкнуть к обличью «гадкого утёнка»? Тем более, что время голубых атласных платьиц, переливающихся на солнце, прошло и настало время унылой школьной формы (темно–коричневое платье, чёрный фартук), в которой все девочки похожи на маленьких старушек. Такой старушкой я стала в неполных семь лет. Был год первого спутника и первого Всемирного фестиваля в Москве. Про спутник говорили между собой родители, и передавало радио. Отголосков Всемирного фестиваля в нашем городе слышно не было, я узнала о нём только годы спустя.
Заведение, куда сходились по утрам десятки маленьких старушек, называлось начальная школа и помещалось в одноэтажном кирпичном здании, вытянутом, как барак, там был коридор с деревянным полом, в который выходили двери четырёх классных комнат и пятой, учительской. Маленькая такая школа на окраине провинциального южного города.
С того дня, когда ты переступишь порог этого заведения, все изменится для тебя. Никто не назовёт тебя больше куколкой–красавицей. В школе красота вообще не ценится, скорее наоборот, молча осуждается и уж во всяком случае ничего не стоит. Здесь ценится совсем другое – беглое чтение, аккуратное письмо (чистописание) и примерное поведение. Единственный способ заслужить здесь благосклонность взрослых, к которой ты так привыкла, – стать отличницей, лучше – «круглой». Задача, кстати, совсем нетрудная для девочки, которая задолго до школы полюбила книжки больше, чем кукол.
…Мне было 4 года, когда я научилась читать. С тех пор вся моя жизнь – одно сплошное, непрерывное чтение. И я хочу открыть тебе «страшную тайну» — большего удовольствия, чем чтение, я не знаю.
Я тогда жила в Тбилиси, у тёти с дядей. По вечерам, перед сном дядя читал мне сказки. Как‑то раз он прочёл из Пушкина – «У Лукоморья дуб зелёный». Внимательно дослушав до конца, я потребовала: «Ещё!». Не думаю, чтобы в 4 года я хорошо поняла, о чём там шла речь, должно быть, меня заворожил сам поэтический слог. Слишком уж эти стихи отличались от тех, которым ещё в Куйбышеве научила меня соседка по коммунальной квартире:
Я маленькая девочка, Танцую и пою, Я Ленина не знаю, Но я его люблю.Несколько вечеров кряду я без «Лукоморья» не засыпала. И вот однажды, проснувшись, тётя с дядей застают такую картину. Ребёнок сидит в своей кроватке и, старательно артикулируя букву «р», которую незадолго до этого научился выговаривать, декламирует:
И десять витязей пр–р–рекрасных! Чр–р–редой из вод выходят ясных! И с ними дядька их мор–р–рской!Тётя с дядей замерли, боясь спугнуть, но я благополучно дочитала стихи до конца, и в конце громко и победно выкрикнула : «Там р–русский дух, там Р–р–русью пахнет!». Дядя подхватил меня на руки, расцеловал и закружил по комнате, приговаривая: «А что я говорил!».
Из этого события он сделал два важных вывода. Первый: «у ребёнка хорошая память». Второй: «пора учить её читать». Тётя усомнилась: не рано ли? Но дядя сказал: в самый раз. Букваря в доме не было, и дядя стал учить меня по «Сказкам Пушкина». Сначала я читала так: смотрела в книгу и даже страницы переворачивала в нужном месте, но читала по памяти, наизусть. Этот «фокус» дядя не раз демонстрировал своим друзьям, но разгадать его было нетрудно, стоило дать мне в руки какую‑то другую, «взрослую» книгу. Впрочем, довольно скоро я стала читать без всяких фокусов и с тех пор читала всё, что попадалось на глаза – этикетки на спичках, вывески на домах по улице Руставели, где мы любили гулять втроём, даже непонятные названия дядиных учебников (он был ещё молодой человек и учился в институте). Ну, и конечно, Пушкина.
Букварь я впервые увидела, когда родители забрали меня, наконец, домой, чтобы отдать в ту самую школу. Сначала меня не хотели записывать, потому что учебный год уже начался, была середина сентября, к тому же, мне не хватало двух с половиной месяцев до 7 лет.
— Приводите её на следующий год, — сказали маме.
— Да не хочется год терять, она у нас уже читает и пишет! – взмолилась мама.
Писать я на самом деле не умела, просто срисовывала из книжек печатные буквы.
Две тётеньки, директор и учительница, дали мне для проверки букварь. Я стала переворачивать страницы, ища какой‑нибудь текст, но его не было, а были непривычно большие буквы с картинками и короткие слова, разделённые зачем‑то чёрточками.
— А я такую не умею читать, — испугалась я.
— Какую же ты умеешь? – строго спросила одна из тётенек .
— Пушкина, — сказала я.
Пушкина под рукой не оказалось, но нашлась «Родная речь» для второго класса. Я открыла, нашла какой‑то стишок и бегло прочла. Я ждала, что меня похвалят, скажут: «Ах, какая умница!» (так всегда говорили дядины друзья). Но вторая тётенька только головой покачала:
— Что ж я с ней буду делать? У меня в классе ни один ребёнок ещё не читает. Мы только букву «м» начали проходить.
Нам велели подождать за дверью. В коридоре, где важно прохаживались девочки в школьной форме с чёрными фартучками, мама сказала:
— Ты тут не слишком умничай, это тебе не Тбилиси.
Потом вышла учительница, обняла меня за плечи и повела с собой.
— Вот, дети, — сказала она, поставив меня перед классом, — у нас новая девочка, она уже умеет читать. Не обижайте её.
Потом усадила за первую парту у окна, где уже сидел некрасивый мальчик со сплющенным носом и оттопыренными ушами, и добавила:
— Ты будешь ему помогать.
В этот день моё школьное будущее определилось раз и навсегда. Все десять лет я проходила в отличницах, все десять лет просидела за первой партой и все десять лет ко мне подсаживали и прикрепляли отстающих, в основном мальчиков.
О, это такие непонятные, неприятные существа… Прежде, до школы ты видела их только на безопасном расстоянии (бабушка не подпускала их на пушечный выстрел). Но тут их полон класс, у них наголо остриженные головы с маленькими чубчиками на лбу, грязные ботинки и потные руки. Тебе неприятно сидеть с ними рядом, близко, касаясь локтями. Ты их боишься, потому что в любой момент они могут больно толкнуть или даже ударить и сказать: «дура» и «уродина». Это ты‑то уродина?!
Зачем, зачем тебя отдали в эту школу! Может, где‑то есть другая, хорошая школа, в которой учатся одни девочки? И ведь совсем недавно были, оказывается, такие школы и назывались красиво — женские гимназии. Но в школе совместного обучения домашняя девочка вроде той, о которой я тут рассказываю, очень быстро превращается в пугливое, стеснительное и не по годам задумчивое существо с полным набором ощущений собственной неполноценности.
Сравнительно недавно я поняла, что жизнь женщины можно разделить на семилетние фазы. И если средний срок этой жизни 70 лет (примерно столько прожили мои бабушка, мама и тётя – 70, 71 и 69), то это скорее не семь десятилетий, а десять семилетий, в каждом их которых с женщиной происходит заметная и важная метаморфоза.
До 7 лет ты – ребёнок, «куколка», и вот уже эта фаза тобой пройдена. Теперь ты – «большая девочка», о чём тебе постоянно будут напоминать дома и в школе. Эти вторые семь лет очень важны. Тут меньше любви и обожания со стороны окружающих, зато ты много нового узнаёшь про самое себя и впервые пытаешься понять, что ты такое. Глядя со стороны на девочку от 7 до 14, можно многое предугадать в её будущей женской судьбе. Например, то, что неуверенность в себе, стеснительность и неприязнь (на грани брезгливости) к существам другого пола останутся, в скрытой, конечно, форме, на всю жизнь.
В начальной школе девочка вела «Дневник наблюдений», удивительным образом сохранившийся и найденный несколько лет назад при разборке залежей книжного шкафа в старой квартире её матери. Там обнаружился маленький рассказ про муравья, который, благополучно преодолев все преграды, дополз по садовой дорожке до своего «домика», тащя на спине подсунутую ему девочкой кроху хлеба. И короткий стишок про осень: «Листопад, листопад, ты кружишься невпопад», к которому пририсован обведённый по контуру и раскрашенный жёлто–красным кленовый листок. Между страниц попадаются засушенные крылышки стрекоз и бабочек, узкие стебли травы и лепестки анютиных глазок. Иные страницы сплошь зарисованы кукольными фигурками и мордашками, неизменно напоминающими дошкольные фотографии самой девочки. Чем дальше, тем записи становятся длиннее, оттесняя рисунки на поля. Одна страница исписана названиями всех известных девочке на тот момент цветов, а другая – ответом на вопрос «Чем пахнет лето?». В тот год лето пахло: политыми грядками, сыростью после дождя, пенкой с кипящего варенья, разогретым асфальтом, мокрым бельём на веревке… парным молоком, домашним хлебом, речным камышом, дорожной пылью… вагоном поезда, брезентовой палаткой, морскими ракушками, лесным мхом, разрезанным арбузом…
По этим записям (запахам) нетрудно догадаться, что июнь девочка провела в городе, июль – в деревне, а август – в пионерлагере. Сама ли она придумала это записывать или учительница (литературы? ботаники?) дала на лето такое задание – теперь и не вспомнить. Скорее все‑таки, она записывала это для себя, просто так, из любви к писанию. Теперь я припоминаю, что девочка любила лежать в траве или на морском песке и наблюдать за тем, как движутся облака, она говорила, что различает там огромные фигуры людей, зверей и птиц, которые бывают видны только минуту–две, а потом превращаются в новые, ещё более причудливые фигуры. Словом, по натуре она была созерцательница. И до определённого возраста мысли и чувства её были заняты именно этим – созерцанием клубящейся и копошащейся вокруг природы.
Ах, как славно было бы и всегда жить так – наблюдать стрекоз и бабочек, прислушиваться к звукам и запахам леса и моря, рисовать кукол и следить за движением облаков! Но как только девочка начинает понемногу взрослеть, все это отодвигается на задний план, уступая место совсем иным чувствам и переживаниям.
…В начале шестого класса Люда Варенцова сказала, что для девочки самое главное – ноги. Мол, если ноги красивые, то лицо не обязательно, чтобы было красивое, можно и просто симпатичное (тут Люда явно имела в виду себя). А если ноги некрасивые, то и красивое лицо не поможет. Это сообщение произвело на меня очень сильное впечатление. В тот день я нарочно пошла из школы домой на некотором отдалении от Люды Варенцовой, чтобы как следует разглядеть её ноги. Люда была девочка высокая и крупная, ноги у неё были большие и полные, как у взрослой девушки. Я даже решила про себя (мне нравилось выдумывать всякие сравнения), что сзади ноги у Люды Варенцовой похожи на подошвы утюгов, если их поставить узким концом вниз. При этом правый утюжок немного загребал вовнутрь. «Ну, и что в них красивого? — думала я, идя следом за косолапившей впереди Людой. – У Любы Даниленко и то лучше!». Люба Даниленко была, напротив, девочка небольшая и худенькая, ноги у неё были прямые и ровные, как столбики, к тому же довольно длинные, что в те времена совершенно ещё не ценилось. Про Любу всезнающая Люда Варенцова объяснила, что у неё вообще никаких ног нет, а лучшие ноги в классе, без сомнения, у Оли Журавель, потому что они у неё похожи на перевёрнутые бутылочки, а это и есть классическая форма ног.
Придя домой, я зашла в спальню родителей, поставила перед маминым трюмо стул, влезла на него с ногами и стала внимательно разглядывать их в зеркале. Оказалось, что ноги у меня вообще ни на что не похожи – ни на бутылки, ни на столбики, ни на перевёрнутые утюги. Детские какие‑то ноги, жалкие. Коленки вовнутрь выпирают, а сами худые. Если даже плотно прижать одну коленку к другой, так, чтобы никакого просвета не осталось, то две мои ноги вместе будут, наверное, как одна нога Люды Варенцовой. Может, это потому, что я часто пропускаю уроки физкультуры? Я спрыгнула на пол, встала на носочки и стала ходить вокруг круглого стола с жёлтой бархатной скатертью, стоявшего посреди большой комнаты (девочки уверяли, что, если каждый день долго ходить на носочках, форма ног изменится). Я успела пройти только десять кругов, как вошла мама, и у нас произошёл следующий разговор.
— Ты чего это тут кружишься?
— Мам, скажи честно, у меня ноги что, некрасивые?
— Почему? Нормальные ножки, ровные.
— Да… ровные… А надо не ровные, а чтобы вот тут кругло было, как у Оли Журавель.
— Нашла кому завидовать! Да ты в сто раз лучше!
— На лицо?
— На лицо и вообще.
— А лицо не главное! Главное – фигура и ноги!
— Ой, я не могу! – засмеялась мама. – Кто это тебе сказал?
— Кто сказал, кто сказал… Я сама знаю.
— Ничего ты ещё не знаешь. И вообще, прекрати об этом даже думать. В твоём возрасте главное – учёба!
— Да? А Ида Давыдовна говорит, что главное – общественная активность.
Тут заглянула из кухни бабушка, ухватила конец разговора и замахала руками:
— Не слушай никого, детка. Главное, чтоб ты хорошо кушала и была здоровенька.
— Да ну вас! – сказала я, но кружиться вокруг стола перестала.
Теперь на переменках мы стояли у окна (к тому времени я уже ходила в новую, построенную по типовому проекту трёхэтажную школу) и обсуждали всех проходивших мимо девочек: у кого какие ноги и какое лицо. В параллельном классе училась, например, одна девочка, Яна, очень красивая, может быть, самая красивая во всей школе, но у неё были совсем кривые ноги, просто колесом. Люда Варенцова говорила, что в детстве Яна чем‑то сильно переболела, может, полиомиелитом, и ноги остались кривыми. Из‑за этого она почти не выходила на переменках из класса и носила длинную юбку, что было тогда совсем не модно. Оля Журавель, напротив, носила, короткие юбочки и все перемены расхаживала взад–вперёд по коридорам довольно вертлявой походкой, чтобы все могли полюбоваться её классической формой ног в виде перевёрнутых бутылочек. Яну я жалела, а Оле немного завидовала.
Тем не менее, я не стала больше прежнего заниматься физкультурой, чтобы развить икры ног. Физкультуру я не любила и всё время придумывала способы, как её пропустить. Дело в том, что у меня никак не получалось прыгнуть через «козла», добегу до него, зажмурюсь и поворачиваю назад. А физрук Николай Иванович, словно только этого и ждёт, сразу начинает стыдить: «Вот, полюбуйтесь все! Отличница, а через «козла» прыгнуть не может». Учителя физкультуры я тоже не любила — за то, что он хватал Люду Варенцову и некоторых других девочек под мышки и помогал им повиснуть на кольцах, а когда они лезли вверх по канату, он поддерживал их двумя руками под попу. Мне бы очень не хотелось, чтобы меня так же хватали и поддерживали, правда, лично мне физрук Николай Иванович никогда и не помогал сделать упражнение.
Самый лучший способ избежать урока физкультуры был такой: пойти в кабинет врача и сказать, что тебе сегодня «нельзя». Люда Варенцова и некоторые другие девочки из моего класса раз в месяц так и делали. Правда, для этого им приходилось задирать платье, опускать штанишки и что‑то там показывать медсестре. Тогда им давали справку, что «нельзя». В начале шестого класса мне бы такую справку никто не дал, потому что мне ещё нечего было показать медсестре. Я была из тех немногих девочек в классе, к которым «это» ещё не пришло.
Может, я недоразвитая?
— Господи! – говорила мама. – Да успеешь ещё намучаться с этим удовольствием за всю жизнь!
Однажды я слышала, как мама разговаривала со своей знакомой, и та жаловалась, что дочке её всего десять лет и «уже началось».
— Ну, ты подумай! – чуть не плакала эта женщина. — Все детство у ребёнка испорчено!
Девочка стояла рядом и держала в руках пластмассового пупса, завёрнутого в носовой платочек. Я очень внимательно на неё смотрела, но ничего такого, кроме прыщика на носу, не заметила.
«Про это» я узнала не из книжек (никаких «таких» книжек в доме не водилось) и не от мамы, а от своей одноклассницы Вальки Плотниковой.
В доме у родителей не было большой библиотеки, всего три полки книг, но там были Золя и Бальзак, коричневый двухтомник и темно–зелёный четырёхтомник. Толстенные «Дон–Кихот» и «Уленшпигель», серебристо–серая, из нескольких тонких томов «Сага о Форсайтах», Шолом Алейхем с замечательными иллюстрациями… В одну зиму, в течение которой я много болела, было прочитано почти все. Мальчик Мотл стал мне как родной, Тиля и Нелле я полюбила всем сердцем, а рыцарь из Ламанчи как‑то не пошёл, я осилила его лишь на треть и больше никогда к нему не возвращалась. Зато легко проглотила долго пугавший мрачной обложкой «Собор Парижской Богоматери». Но сильнее всего притягивали, конечно, Золя и Бальзак. Парижские красавицы в бархатных платьях с кружевами, скачущие в экипажах через Булонский лес на свидания к своим тайным возлюбленным, — о, какая сладкая, какая красивая, какая непохожая жизнь!.. Меня трогала пока только такая, книжная любовь. Сама я ещё не влюблялась, но уже задумывалась: как это, что это?
Просвещать меня взялась Валька Плотникова. На вид она была очень примерная девочка, хотя и троечница, носила форму со штапельным фартуком и длинные, пшеничного цвета косы с чёрными атласными лентами. Она жила вдвоём с мамой в коммунальной квартире, где был ещё сосед, взрослый дядька. Валька хвасталась, что, когда мамы нет дома, сосед сажает её к себе на колени и трогает за все места. Я пыталась это представить, но представляла почему‑то учителя физкультуры Николая Ивановича.
Мне становилось жалко Вальку, и я спрашивала:
— А тебе не больно?
— Не–а, – беспечно отвечала Валька. — Это ж просто так. А по–настоящему, знаешь, как делают?
Валька ставила портфель на землю и начинала объяснять на пальцах. Внутри у меня всё сопротивлялось узнаванию подробностей взрослой жизни, вызывавших лишь испуг и отвращение. Но гадкие подробности сами лезли в уши. Я слушала Вальку с дурацкой ухмылкой и не подавала виду, что мне неприятно. Что я, маленькая, что ли. Вальку я не считала своей подругой, просто мы ходили иногда одной дорогой. Главной моей подружкой была тогда Люба Даниленко. С ней я не чувствовала себя «недоразвитой», потому что Люба была такая же маленькая и худая. У Любы тоже ещё не началось, но мы об этом никогда не говорили.
С Любой говорили о предстоящем школьном спектакле и о роли белой и красной бабочек, которые мы исполняли. Люба танцевала в белой балетной пачке, а сзади у неё были приделаны белые крылышки из накрахмаленной марли, натянутой на толстую, изогнутую проволоку, а у меня пачка была красная и крылышки раскрашены в красное с золотым. Мы порхали по сцене вокруг красного и белого цветков (девочки из параллельного класса) и обращались к ним на английском языке. Я говорила своему красному цветку: «Рэд флауэ!..» и дальше какой‑то текст, которого уже не помню, а Люба: «Уайт флауэ!..» и тот же самый текст. Нас с Любой выбрали не потому, что мы были отличницы и имели хорошее произношение, а потому, что мы были самые маленькие в классе и годились для балета. А если бы Варенцова Люда или Плотникова Валя даже были отличницами и имели хорошее произношение, их бы всё равно не выбрали бабочками – трудно представить таких крупных девочек порхающими по сцене в пачках и с крылышками.
С первого класса так повелось, что сначала на всех утренниках, а потом и вечерах я должна была читать со сцены стихи. Обычно это были стихи к празднику – Первому мая, дню рождения Ленина, 7 ноября – каких‑то неизвестных авторов, от руки переписанные учительницей литературы на тетрадные листочки, которые она раздавала нам за неделю до концерта.
Однажды мы с Любой Даниленко сами нашли и разучили на два голоса стихотворение Евгения Евтушенко:
У Плайя–Хирон есть палатка походная, А в этой палатке крестьянка живёт И каждую ночь на виденье похожая Выходит и медленно к морю идет…Люба читала как бы за автора («Почему вы не спите, сеньора Амелиа?..»), а я – как бы за крестьянку («И она отвечает: его звали Пабло…»). Пока репетировали дома, у нас очень неплохо получалось. Но когда мы вышли с этим стихотворением на очередном школьном вечере, случился конфуз. Люба была в костюме под «барбудос»: узкие чёрные брючки, белая мужская рубашка, шейный платок и берет, я – в длинном балахоне и шали, покрывавшей голову и плечи. Люба стояла ближе к краю сцены, а я – в глубине. И вот из этой глубины я произношу загробным голосом: «Когда я ещё молодая была…» (а мне лет 12), и сидящие в зале старшеклассники начинают тихо ржать. Когда же я дохожу до слов: «Мой муж в ручищи свои неумелые брал несмышленное наше дитя» и при этом ещё театрально протягиваю вверх руки, ржёт уже весь зал. Ну, и всё, меня перемкнуло. Замолчала и стою, как статуя в балахоне. Никогда раньше такого со мной не бывало, а тут – забыла слова, и всё. В зале сначала не поняли, что за пауза, потом ещё громче стали смеяться. Люба повернулась ко мне и шепчет мой текст, а я не слышу. Кончилось тем, что мы с позором ушли со сцены, я рыдала на груди у старшей пионервожатой и говорила, что больше никогда это стихотворение читать не буду. Но то было время всеобщего увлечения кубинской революцией, и наше стихотворение (вернее, стихотворение Евтушенко) было очень кстати, так что нам велели подучить слова и послали сначала на районный, а потом и на городской конкурс чтецов, где мы с Любой даже получили один на двоих диплом лауреатов.
Выступать со сцены мне нравилось, и, как многие девочки в этом возрасте, втайне я мечтала, когда вырасту, сниматься в кино, а пока собирала фотографии артистов. Они продавались в каждом киоске – твёрдые, как открытки, черно–белые, с волнистыми краями. У меня был большой оранжевый альбом, куда я вставляла эти фотографии–открытки, без конца их перекладывая в зависимости от новых приобретений. Я составляла из них «пары», помещая на одну страницу Баталова с Татьяной Самойловой, Урбанского с Ниной Дробышевой, Тихонова с Майей Менглет… Мы любили рассматривать эти альбомы, обсуждая, кто красивее и кто кому больше «подходит». Самой красивой считалась у нас Изольда Извицкая, за неё при обмене надо было отдать, как минимум, двоих, например, Конюхову и Румянцеву. И все девочки были влюблены в Олега Стриженова. Мне тоже нравился красавец Артур–Риварес из «Овода», но если бы я могла влюбляться в актёров кино (этого со мной почему‑то никогда не случалось), я скорее выбрала бы Василия Ливанова из фильма «Коллеги».
Мне казалось тогда, что сама я немного похожа на актрису Людмилу Марченко, какой она была в «Белых ночах», и что я могла бы играть роли таких же тихих, задумчивых и робких девушек, очень это соответствовало моему тогдашнему самоощущению.
Но уже классу к шестому идти в артистки я окончательно раздумала, потому что чем старше, тем стеснительней становилась, чуть что – краснела, и ни в чём не была уверена – ни в подходящей для кино внешности (артистка ведь должна красиво улыбаться, а я, когда смеюсь, прикрываю рот ладошкой), ни в наличии настоящего таланта: ну что такое роль бабочки – так, художественная самодеятельность.
Вдруг проклюнулись другие способности – к рисованию. И с этого момента всё, что я видела вокруг себя, всё, что переживала, воображала, о чём думала, мне хотелось изобразить на бумаге – карандашом, пером, кисточкой, обмакнутой в акварель или гуашь, цветными чернилами в тетрадке… Вообще, с бумагой у меня были особые отношения. Во–первых, в очень раннем, малосознательном детстве я ее… ела. Да, представь себе, ела, как другие едят мел или грызут карандаши. Отрывала маленький кусочек от газеты или от бабушкиного перекидного календаря и жевала, жевала, жевала, пока бумажный катышек не превращался в мягкую кашицу, тогда я её проглатывала и искала, от чего бы ещё оторвать. Возможно, в моём организме чего‑то не хватало. Став старше, я осознала, что так делать нехорошо (то есть не есть бумагу нехорошо, а портить календари и тем более книжки) и – перестала. Разве что так, надкушу иногда от чего не жалко и быстренько проглочу, пока никто не увидел. Во–вторых, я обожала вид и запах новых книг и тетрадей, я их… нюхала, и запах бумаги и оттиснутого на ней шрифта казался мне самым прекрасным на свете. Именно поэтому я так любила начало нового учебного года, когда все учебники и тетрадки – новенькие, пахнущие бумагой, краской и клеем, и так приятно начинать писать с чистого листа, выводя ровные, красивые буквы…
Бумага манила, дразнила и соблазняла меня. Не могла я спокойно видеть пустой чистый лист, тут же должна была что‑нибудь на нём изобразить – написать или нарисовать, если не слово, то хотя бы отдельные буквы – объёмные, оттенённые, витиеватые, геометрически строгие – какие там ещё? А если не буквы, не слова, то – цветы, листья, деревья, личико кукольное…
Но в художественной школе мой любимый урок был не рисунок (гипсовая голова Давида давалась мне с трудом) и не живопись (преподаватель говорил, что в работе с красками мне немножко не хватает смелости, размашистости), а – жанровая композиция. В композиции главное – собственная фантазия, а её‑то у меня как раз хватало. Однажды на уроке искусствоведения говорили о великих художниках. Я удивилась: почему все они – мужчины. Разве не было за всю историю искусства хотя бы одной великой художницы? Преподавательница подумала и сказала: нет, не было.
— Почему?
Она развела руками.
— Не бабское это дело! – загоготали мальчики, имевшие в нашем классе, да и во всей «художке» безусловное численное преимущество.
Меня это удивило, но не расстроило. Всё равно я буду художником. Может, стану рисовать мультики (параллельно я хожу в студию мультипликации при городском Дворце пионеров), а может, буду иллюстрировать книги, например, сказки. Одна моя жанровая работа – иллюстрация к пушкинскому царю Дадону – даже висит на выставке в коридоре «художки». Шамаханская царица на ней зелёного цвета, как лягушка.
Сказки я люблю. В детстве мне пришлось прочесть уйму самых разных сказок, но как‑то всё не себе, а младшим сёстрам. Я усаживалась на «порожек» нашей квартиры в одноэтажном коммунальном бараке, сестры и другие девочки нашего двора – вокруг, и я спрашивала:
— Ну, какую читать?
— Про Снежную королеву!.. Нет, про Василису Прекрасную!.. Нет, давайте лучше про Спящую красавицу!.. — суетились девочки.
Любимыми нашими персонажами были, конечно, всевозможные царевны и принцессы, начиная с Золушки и кончая Царевной–Лягушкой. Самое замечательное в них было – превращение. Из Золушки в Принцессу, из Лягушки в Царевну, из Спящей красавицы – в ожившую… Главное тут было – ожидание чуда и уверенность в том, что в конце сказки оно непременно произойдёт. И казалось, что так же и в жизни устроено и что каждой девочке полагается своя порция чуда, надо только слушаться старших, хорошо себя вести и хорошо кушать, тогда все мы вырастем большими, станем красавицами и встретим каждая своего принца.
Летом, на каникулах, меня отправляли в гости к тёте с дядей, которые жили уже не в Грузии, а на Западной Украине, в городе Ужгороде. В кабинете у дяди стоял книжный шкаф, набитый книгами, и в этой же комнате, на диване я спала. Мне нравилось открывать стеклянные дверцы шкафа, вдыхать пыльный запах книг и долго разглядывать корешки, решая, какую взять. Там были «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок», впервые прочитав которые, я наконец обнаружила источник дядиных шуток – он просто цитировал Ильфа и Петрова; «другой» Толстой («Гиперболоид инженера Гарина»), совсем незнакомый Александр Беляев – «Голова профессора Доуэля» и ещё масса увлекательного чтения. Выбрав, я ложилась на диван и проводила на нём целые дни, не отрываясь от книжки. Тётя ругала меня, говоря, что, во–первых, лёжа читать нельзя – глаза испортишь, а во–вторых, на дворе – лето, и лучше бы я шла подышать воздухом.
У меня был с собой небольшой этюдник, иногда я ездила на набережную реки Уж и рисовала с натуры стоящий на высоком противоположном берегу старинный замок. Но чаще бывало так, что мне не хотелось никуда идти. Не было места уютнее, чем чёрный, кожаный, потёртый на сгибах диван, и занятия приятнее, чем самовольное, неспешное чтение.
В шкафу оказался небольшой томик с коротким именем на обложке — И. Бунин. Он все ещё оставался под негласным запретом, но несколько наиболее целомудренных рассказов были уже напечатаны. Видимо, эту‑то, недавно изданную книжку я и нашла в шкафу, ничего по малолетству своему не зная и про писателя такого не ведая. Но стоило мне открыть её и прочитать несколько первых страниц, как стало ясно: это – «взрослая» книжка, и читать её мне, скорее всего, нельзя. Спрашивать разрешения я, однако, не стала, и читала тайком, когда взрослые ложились спать, при свете торшера, что делало мои впечатления ещё более острыми. При малейшем шорохе из тётиной спальни, я прятала книжку под подушку, боясь, что меня «застукают». Должно быть, я просто стеснялась своих ощущений от прочитанного, боялась покраснеть, если меня спросят, что это я тут читаю, и расплакаться, если книгу у меня отберут.
Дома, у родителей, с отечественными авторами было значительно хуже, чем с зарубежными, подбор их был, кажется, совсем случайным. Помню темно–синий двухтомник Бориса Лавренева, в котором, после того, как по телевизору показали художественный фильм «Сорок первый», я с удивлением обнаружила соответствующий рассказ; неподъёмную «Угрюм–реку» Шишкова, которую, как ни странно, осилила за зимние каникулы; растрёпанные «Морские рассказы» Станюковича и тяжеленный кирпич Сергеева–Ценского – «Преображение России», который у нас читал в основном папа…
Я была всеядным читателем, могла после «Дэвида Копперфильда» взяться за «Васька Трубачева и его товарищей» — просто потому, что эта книга попалась мне на глаза, а после «Американской трагедии», над которой пролила немало слез, с упоением перечитывать «От 2–х до 5–ти» Корнея Чуковского. Всеядность моя, вернее сказать, постоянная, почти физическая потребность что‑нибудь читать, простиралась до того, что, едучи, например, в трамвае, я успевала прочитывать все попадавшиеся по дороге вывески, щиты, неоновые буквы рекламы, а заодно надписи в салоне трамвая и мелкие буковки на трамвайном билете. Именно во время этих поездок через весь город на занятия в художественную школу я придумала себе такую игру (и до сих пор этим балуюсь) – читать проплывающие за окном названия наоборот, справа налево: низагам, яиранилук, ртаетоник… Особенно трудные я делила на части: яаксрех–амкирап.
В этом возрасте я все ещё играла в куклы. О своих куклах я должна рассказать тебе поподробнее.
Первая кукла, которую я помню в своей жизни, была целлулоидный голыш Наташа. Голова, руки и ноги у неё вращались на все 180 градусов, приложив усилие, их можно было и вовсе вывернуть из туловища, но я этого никогда не делала. Было жалко куклу, что она голая, и я натягивала на неё свои одёжки. Мама сжалилась и сшила Наташе настоящее платье – с пуговками, карманчиком, воротничком и оборками. Я восхитилась и потребовала ещё, но маме некогда было шить для куклы, она и так обшивала всю семью. При переезде из Куйбышева на юг Наташа куда‑то затерялась, может, осталась там, в старой квартире, брошенная и забытая. На новом месте у меня долго не было никаких кукол. Там, где мы жили (а это была окраина города) многие девочки выходили гулять на улицу с тряпичными куклами, у которых давно замурзанные личики были отбелены мелом, а сверху заново нарисованы черным и красным карандашами глазки–носик–ротик. С этими куклами играли в «дочки–матери», в «больницу» и даже – «в маму–папу», используя в качестве «папы» какого‑нибудь зверя – плюшевого мишку или зайца, или, на худой конец, пластмассового клоуна.
Первая по–настоящему красивая кукла появилась в нашем доме, когда мне было уже лет 12, её купили в Москве, в «Детском мире», для моих младших сестрёнок. Это была гэдээровская резиновая кукла величиной с живого ребёнка, с закрывающимися голубыми стеклянными глазами и шёлковыми волосами, каждый волосок торчал из отдельной дырочки в голове. Одета она была потрясающе – в красные вязаные колготки и розовую велюровую кофточку. Так у нас не одевали тогда даже детей. Нам не разрешалось выносить эту куклу на улицу, и мы водили девочек из нашего двора в дом — показывать куклу. Она сидела на диване как украшение комнаты, и её легко можно было принять за ребёнка, некоторые даже вздрагивали от неожиданности. Самое смешное, что это был, якобы, мальчик, так сказала мама, мы звали его Любимчик. Этот Любимчик так долго жил в нашем доме, что его красные вязаные колготки удалось в грудном возрасте поносить моему сыну (твоему папе) и сыну моей сестры (твоему двоюродному дяде), о чём свидетельствуют их детские фотографии.
Но самыми любимыми моими куклами были те, которых я сама рисовала на картоне, потом вырезала по контуру, потом «шила», то есть на самом деле рисовала каждой целый гардероб одёжек. Число кукол всё время менялось, потому что я их раздавала направо–налево – младшим сёстрам, их подружкам, соседским девочкам. У кукол был свой дом – большая коробка из‑под маминых сапог, которую я разрисовала изнутри, как комнату, там даже окошки были прорезаны и на них висели занавесочки из старых кружев, и было зеркало из маминой пудреницы, и платяной шкаф (коробка из‑под парфюмерного набора), где помещались, скорее не помещались, так их было много, все кукольные одёжки – платья, сарафаны, юбки, блузки, шляпки, шубки, даже купальники. Не скрою, я была большая мастерица по части кукольного гардероба, ко мне ходили за этим младшие девочки со всех соседних улиц. Я даже подумывала: а не стать ли мне художником–модельером, звучало заманчиво.
Сначала я рисовала маленьких девочек с круглыми мордашками и короткими ножками, и совсем детские одёжки – короткие платьица на кокетке. Потом, когда у девочек в школе стали появляться «фигуры», я и кукол стала рисовать взрослых – с длинным ногами, талиями и округлостью в районе груди. Рисовать платья для взрослых кукол было куда интереснее, увлёкшись, я представляла, что это я сама гуляю в такой красивой юбке или в таком красивом брючном костюме (они тогда только входили в моду). Рисуя кукол, я также вольна была сколько угодно совершенствовать их лица, ноги и талии, и если я о чём‑то жалела в эти минуты, то только о том, что нельзя вот так же просто, одним движением карандаша или ластика изменить свои собственные черты. А то я бы стёрла ненавистную щёлочку между передними зубами и проявившуюся к 12 годам горбинку на носу, хотя мама и говорила, что они меня нисколько не портят.
…Это случилось ночью, сама я ничего не почувствовала, а первой заметила младшая сестрёнка и тут же побежала ябедничать маме (она подумала, будто я что‑то «наделала» в постель). Мама позвала меня из своей спальни, велела подойти и поднять рубашку.
— Ну, всё, — сказала она и почему‑то засмеялась. – Теперь ты у нас девушка.
Я все поняла, застеснялась и поспешила уйти от всех, но спрятаться в квартире с двумя смежными комнатами, при отсутствии ванной и туалета было непросто. Я ушла в кухню, потопталась там, не зная, куда приткнуться со своей «новостью», и тут почувствовала необычную боль внизу живота, от этой боли я даже присела на корточки прямо у раковины с холодной водой.
— Тебе сегодня не надо ни прыгать, ни бегать, — сказала, увидев такое дело, мама.
— А танцевать?
— Танцевать тем более.
Было 12 апреля, ровно два года назад полетел Гагарин (иначе я бы это число, наверное, и не запомнила). В тот день в школе намечен был показ спектакля про красную и белую бабочек. Жутко стесняясь и краснея, я подошла на перемене к англичанке Иде Давыдовне и сказала, что не смогу сегодня участвовать.
— А что случилось?
Не смогу и все.
Англичанка обняла меня за плечи и спросила:
— Что, гости пришли?
— Нет, — сказала я, а про себя подумала: при чём тут гости? Неужели, если бы к нам в дом пришли какие‑то гости, я стала бы из‑за них отказываться!
— Ну, а что же тогда, скажи мне! – допытывалась Ида, но ничего вразумительного добиться не могла, я только ниже опускала голову и гуще краснела. Вдруг что‑то дошло до англичанки и она задала вопрос по–другому:
— У тебя, что, месячные начались? – и, получив, наконец, безмолвный ответ (кивок головы), она обняла меня посильнее и рассмеялась совсем, как мама утром. – Ничего страшного, я тебя научу, что нужно сделать, не отменять же из‑за тебя одной спектакль.
Тем не менее, его отменили, не из‑за меня, конечно, а по какой‑то другой причине, то ли декорации не были готовы, то ли музыканты не пришли, так что на первый случай мне повезло.
Теперь я двигалась по школьному коридору замедленной, осторожной походкой, а дома томно полулежала на диване и говорила младшей сестре: «принеси то, принеси это». «Ты что, сама не можешь?» — удивлялась сестра. «Мне сегодня нельзя», — важно говорила я. На самом деле ничего особенного в тот первый раз я, если честно, не чувствовала. Боль, едва дав о себе знать, утихла, но уже в следующий раз заныло внизу живота посильнее, и потом раз от раза эта боль, ни на какую другую не похожая (собственно, никакой другой, кроме зубной, я к своим 12 годам ещё не знала), все нарастала, будто тянули из моего тощего живота все жилы. Иногда приходилось оставаться дома и проводить весь день на диване, корчась и постанывая, ища такую позу, в которой боль ощущалась бы не так остро – то поджимая к груди коленки, то, наоборот, вытягиваясь в струнку и чуть не выгибаясь мостиком. Бабушка давала выпить таблетку анальгина, это помогало, но только на время. Когда бывало совсем плохо, клали ещё холодную грелку на живот, но как раз грелку бабушка не одобряла, говоря: «Придатки застудит». Я знала, что такое придаточные предложения, но что за придатки находятся внутри меня, — об этом я не имела никакого представления, а говорить на эту тему с мамой или бабушкой мне было стыдно.
В такие дни меня мучило несколько вопросов. Во–первых, почему я родилась девочкой, а не мальчиком (заодно: почему такая несправедливость, что у мальчиков ничего подобного не бывает). Во–вторых, зачем все устроено так, чтобы обязательно было больно? И главный вопрос: раз уж мне не повезло родиться девочкой, значит ли это, что предстоит терпеть боль всю дальнейшую жизнь?
— Нет, — отвечала мама (но в голосе её не было большой уверенности). – Вот вырастешь, выйдешь замуж, родишь ребёночка, и всё будет не так болезненно.
— А ребёночка рожать больно? Больнее, чем это?
— Если, как я тебя рожала, то не дай Бог никому, — честно отвечала мама.
Я отворачивалась к спинке дивана, тихонько скулила от боли и думала: «Не буду выходить замуж, не буду рожать ребёночка, лучше возьму готового из детдома».
Много лет спустя в книге американки Клариссы Пинколы Эстес о женском архетипе в мифах и сказаниях я вычитала что, оказывается, в матриархальных обществах Египта, Древней Индии и других районов Азии существовал т. н. «пороговый обряд», связанный с первой менструацией, в котором использовалась для раскраски настоящая маточная кровь. Девушки, у которых она появилась, обязаны были и во все другие дни красить себе ступни какими‑нибудь красными пигментами, например, хной, видимо, для того, чтобы их не спутали с теми, кто ещё не достиг «порога», за которым становятся допустимыми сексуальная жизнь и деторождение.
Наши мамы и бабушки учили нас тщательно скрывать случившееся. Думаю, они были правы, но от того, что бедные маленькие девочки «это дело» скрывали, отцы заставляли их таскать на огород тяжёлые поливалки с водой, братья, случайно наткнувшись на какие‑то следы «преступления», смеялись и дразнились, а физрук (в отсутствие справки, которую могла дать только школьная медсестра, а ведь и она иногда болела) требовал делать мостик и лезть по канату.
В той же книжке была старинная немецкая сказка «Красные башмачки», удивившая меня ещё больше. Там девочке предстоит конфирмация (ты не знаешь, что это такое, я тоже не знала, а это такой обряд у католиков, когда подросшую девочку приводят в храм и совершают миропомазание, после чего она считается приобщённой к церкви). Но сначала девочку ведут к сапожнику за новыми башмаками, чтобы в них она пошла в церковь на эту самую конфирмацию. И девочка в немецкой сказке выбирает себе красные башмачки.
Почему же красные? В русской традиции красные – это вроде как красивые, и ничего больше. Кларисса Пинкола Эстес утверждает, что с точки зрения архетипа «красные башмачки» — это «скрытый под множеством наслоений фрагмент мифа или сказки о появлении первых менструаций и вступлении девочки в менее защищённую матерью жизнь». (Вот и хна на ступнях – чем не «красные башмачки»!).
Как тут было не вспомнить другую, ставшую почти русской сказку – про «Красную шапочку»! В детстве я никак не могла понять, зачем это мама (мама!) посылает маленькую девочку одну в лес, где так легко заблудиться и где бродит страшный зубастый волк. Ещё я не понимала, почему родная бабушка живёт не вместе с девочкой и её мамой, а одна, в лесу. И почему, если уж она там живёт, она не может сама себе испечь пирожков, ведь пирожки пекут именно бабушки и угощают ими внучек, а не наоборот! Но главной загадкой этой сказки была сама красная шапочка – не девочка, а её головной убор. Зачем она красная? Чтобы волку легче было заметить её в лесу? Или чтобы мама могла по этой шапочке, одиноко лежащей где‑нибудь под кустиком, узнать, что её девочку съел волк?
Теперь я взглянула на нелюбимую сказку другими глазами. Что, если красная шапочка изначально имела тот же смысл, что и красные башмачки? Все тогда становится на свои места и никаких недоуменных вопросов не остаётся.
Значит, так. Лес – это на самом деле и не лес, а жизнь. Лес в сказках – это всегда жизнь. Вот мать и отправляет девочку туда, куда рано или поздно, а идти всё равно надо. Она посылает её не просто погулять, а к бабушке, а бабушка – это что такое на языке символов? Это мудрость и жизненный опыт. Иди, дескать, дочка, поучись уму–разуму. И красная шапочка тут — главный сигнальный момент, знак того, что девочка – уже не ребёнок, а достигла того самого возраста, когда начинается взросление и приобщение к женской природе. Потому и волк. Как только приходит пора девочке надевать красные башмачки (или красную шапочку), так и поджидают её в лесу (в жизни) серые хищники. У них, у волков, на этот счёт своя тактика. Сначала все вызнал у девочки, потом побежал и съел бабушку, сам её место занял (подменил опыт соблазном!), девочка же по неопытности и любопытству («а почему у тебя такой большой нос?») попадает в ловушку. Итог – скушал нашу девочку первый попавшийся в лесу волк. Но! Испытание было «учебным», всегда найдутся в том же лесу охотники, которые прибегут на крик, волка запорют, а девочку вместе с бабушкой (читай: с приобретённым жизненным опытом) вызволят. Впредь будет знать, как по лесу ходить и серым волкам верить.
Чем не модель вступления девочки в период девичества?
Да, но когда в 13–14 лет тебе со всех сторон говорят, что теперь ты – «девушка» (на том только основании, что раз в месяц тебе бывает больно, неприятно и стыдно), ты поневоле приходишь к выводу, что «девушкой» быть плохо, лучше бы побыть ещё немного маленькой девочкой. В этом возрасте ты ещё не понимаешь, зачем все это вообще надо, потому что не знаешь главного – э т о означает твою готовность к деторождению. И вдруг на тебя наезжает с разных сторон новая, ещё более ужасная информация. Может, подобные истории и раньше рассказывали взрослые, но ты к ним не прислушивалась, а теперь все по–другому, теперь их как будто специально в расчёте на тебя рассказывают, чтобы ты слушала и мотала на ус. Ключевое слово в этих новых страшных историях – «изнасилование».
Девочек, оказывается, могут изнасиловать какие‑то злые, страшные люди – дядьки, парни и даже большие мальчишки. Все истории начинаются примерно одинаково: девочка пошла купаться на затон и там… Три девочки пошли одни гулять в горпарк, и там на них напали какие‑то незнакомые парни, две убежали, а одну… и т. д. Особенно бдительными следует быть красивым девочкам, на них нападают в первую очередь.
Ты слушаешь эти истории, как сказки, веря и не веря, до тех самых пор, пока однажды, в 8–м уже классе, нечто подобное не происходит с твоей одноклассницей. Она не приходит в понедельник в школу, и все думают, что она заболела, а потом ближайшая её подруга проговаривается, что на самом деле она, эта Наташа Ч., лежит дома избитая и, по–видимому, изнасилованная, хотя они (то есть Наташа и её мама) скрывают. Она, оказывается, была в субботу на танцах в том самом горпарке, и вот там‑то все и случилось. Снаряжается целая делегация идти проведывать, на самом деле ужас как любопытно посмотреть на изнасилованную, как вообще после такого выглядят. И действительно, лежит с разбитой губой и подбитым глазом, вздыхает и просит:
— Только курице не говорите, а то меня из комсомола исключат.
(Курицей мы называли классручку Иду Давыдовну).
Так и не призналась – было или не было. Можно было понять и так, и так. Раз избили, значит, сопротивлялась (уже молодец!). С другой стороны, раз избили, значит, своего добились. Или нет? Хитрая Наташка, она нарочно не говорит, ей, небось, даже хочется, чтобы про неё думали, что она уже через э т о прошла и, следовательно, она теперь самая взрослая в классе. И ещё была мысль: а что больнее – когда бьют или когда насилуют? Почему‑то подумалось, что когда бьют. А вот интересно, если совсем не сопротивляться (чтоб не били), тогда всё равно больно или не очень?
Лично на меня подобные истории производили самое ужасное впечатление, с какого‑то момента я стала бояться выходить одна на улицу и, возвращаясь из школы домой (учились во вторую смену), всю дорогу оглядывалась, не идёт ли кто за мной. И всё время жила в ожидании, что вот–вот и со мной что‑то страшное должно приключится.
Но Бог миловал, ничего такого со мной не случилось, все‑таки я была довольно послушной девочкой, не ходила куда не следует и просто так по улицам не болталась, а всё время проводила дома, за уроками.
В восьмом классе Ида Давыдовна, действительно похожая на курицу (покатые плечи, вся такая обтекаемая, бесформенная), поручила мне подтянуть по английскому Люську Литвиненко, которой из четверти в четверть приходилось выставлять двойку. После уроков Люська стала ходить к нам домой. Вот мы сидим с ней на веранде, я мелом пишу на прислонённой к стене фанерке разные английские слова и с увлечением объясняю. Люська сидит за столом, смотрит и слушает. Как будто я учительница, а она – ученица. Мне это нравится, а Люське не очень, но она терпит и старается, потому что мать обещала её прибить, если она останется на второй год. Мы уже исправили все двойки на твёрдые тройки. И наконец Ида Давыдовна первый раз в жизни ставит Люське Литвиненко четвёрку, но хвалит при этом не её, а меня. На перемене я подошла к ней и попросила, чтобы она похвалила и саму Люську, ведь когда тебя хвалят, хочется сделать ещё лучше, это я по себе знаю.
В последней четверти у Люськи Литвиненко вышло «четыре» и ей поставили годовую «тройку». В воскресенье к нам явились вполне довольные Люська и её мама, которая несла в руках большой торт – в благодарность за Люську. Правда, благодарила она почему‑то не меня, а мою маму.
— Ну что вы, что вы, не стоит, — отнекивалась мама, на самом деле тоже очень довольная.
Это было летом. А в сентябре, когда мы пришли учиться в девятый класс, именно Люська взялась научить меня… курить.
— Хочешь попробовать? – спросила она на перемене.
— Хочу, – сказала я.
Мы пошли на улицу, в стоящий на краю школьного стадиона, у забора, длинный, как сарай, кирпичный туалет, с рядом тёмных отверстий, засыпанных хлоркой. Там, у маленького, раскрытого окошка, Люська протянула мне сигарету и показала, как надо закуривать. С первого раза я не смогла закурить, тогда Люська закурила обе и передала одну сигарету мне. Я медленно вдохнула и, против ожидания, не закашлялась, а так же медленно и спокойно выдохнула дым. Люськино объяснение оказалось доходчивым. Все же после третьей затяжки я вернула ей сигарету. Но когда мы возвращались с улицы в школу, меня просто распирало от гордости. Правда, той одной сигаретой дело и кончилось. Для того, чтобы похвастаться при случае, вполне достаточно, а курить больше не хотелось. Да и где брать сигареты, как прятаться, как утаить от родителей? Я была слишком трусихой для всего этого и по–настоящему курить стала только в университете, чего родители уже не знали и не видели.
Девочкам моего поколения полагалось брать пример с героинь советской истории, сплошь мучениц – Зои Космодемьянской (как можно было брать с неё пример и какой?), Ульяны Громовой, Лизы Чайкиной…
Как‑то во время своих ужгородских каникул я прочла документальную повесть «Четвёртая высота» – про Гулю Королеву. В книжке было много фотографий, которые я подолгу рассматривала. Мне нравилась Гуля (на самом деле у неё было другое имя, кажется, Марионелла). В детстве она была красивая девочка – со светлыми локонами и ясными глазами – как у куклы. На взрослых снимках никаких локонов у Гули уже не было, а была мужская стрижка, делавшая её вкупе с лётчицким комбинезоном похожей на парня. Эта разница меня поражала. Было жалко Гулю–Марионеллу: такая юная, красивая и талантливая (в детстве она даже успела сняться в кино) и – погибла!
В каждый свой приезд на каникулы я доставала эту книжку и, если и не перечитывала (как Бунина, уже не таясь), то всё равно перелистывала и разглядывала фотографии. Может, эта книга была написана лучше других, подобных? Лишь много лет спустя я узнала, что автор её, Елена Ильина, была родная сестра Маршака. Во всяком случае, ни «Улицу младшего сына», про героя одесских катакомб Володю Дубинина, ни «Чайку» (Бирюкова, не Чехова), ни в особенности «Зою и Шуру», однажды прочитанных, мне никогда не хотелось перечитать вновь. Страшная казнь Зои – и в школьном учебнике, и в книге её матери – описывалась с таким натурализмом, который моё сознание просто отказывалось воспринимать.
Иногда мы обсуждали этот вопрос с Любой Даниленко. Смогли бы мы повести себя так же на войне, то есть умереть, но никого не выдать? Мы были пионерки, а это значило, что ответ может и должен быть только один. Но это, если спросят на пионерском сборе. А друг перед другом чего нам врать?
— Ты бы смогла? – спрашивала Люба.
— Не знаю, — отвечала я. – Я очень боли боюсь. Если бы меня пытали, я бы не выдержала.
— И я, — говорила Люба.
Мы вздыхали и думали про себя, что какие мы, наверное, плохие девочки, и как нам повезло, что сейчас не война.
В старших классах были в моде сочинения на вольную тему. Если из трёх тем давалась одна вольная, я всегда выбирала её. Вольную тему можно и нужно было раскрывать через произведения современных писателей и поэтов, лучше не из школьной программы. Класса с восьмого мама выписывала для меня «Юность», так что я была в курсе литературных новинок и могла блеснуть, вставив в строку то Роберта Рождественского, то Аксенова с Гладилиным. Но поскольку все вольные темы так или иначе крутились вокруг одной, главной – «Любовь к Родине» (вариант: «В жизни всегда есть место подвигу»), то лучше всего для иллюстрации годились «Братская ГЭС» Евтушенко, «Продолжение легенды» Анатолия Кузнецова и тому подобные произведения.
После одного такого сочинения литераторша устроила в классе диспут (ещё одна школьная мода тех лет) на тему: «В чём смысл жизни нынешнего поколения советской молодёжи?». Выступали, как всегда, девочки–отличницы вроде меня. Смысл жизни молодёжи 60–х, — говорили мы, раздувая ноздри, — в том, чтобы быть полезными своей Родине! И в подтверждение приводили примеры из современной литературы, воспевающей романтику освоения далёкой от нас Сибири. Спорить, собственно, было не о чем, никто и не возражал, что лучшие представители молодёжи – это те, кто едет работать на большие комсомольские стройки.
Но вдруг вышел один мальчик – Игорь Дерищев и сказал, что лично он не собирается никуда ехать, а хочет поступить в институт и спокойно учиться. Тут же на него набросился дружный хор отличниц: это, мол, – «мещанская» позиция, если не мы, то кто же?! Игорь стоял и усмехался. Потом посмотрел почему‑то на меня (то ли я сидела, как всегда, за первой партой, то ли больше всех горячилась) и спросил в упор:
— А ты лично поедешь после школы в Сибирь?
Я вскочила с места и стала говорить, что‑то о жизненной позиции нашего поколения, которая…
— Нет, ну ты лично поедешь или нет?
Он так насмешливо это спрашивал, что я расстерялась, покраснела и села на место. В эту минуту я совершенно ясно поняла, что ни в какую Сибирь я ехать не хочу и никогда не хотела. Слезы унижения выступили у меня на глазах, будто меня только что, при всех уличили в очень некрасивом поступке, например, в нелюбви к Родине.
Через два года после того, как мы окончили школу, стало известно, что писатель Анатолий Кузнецов попросил политического убежища в Англии. Кажется, именно в связи с ним впервые зазвучало слово «невозвращенец» — как «отщепенец». Я была в сильном недоумении и даже взялась перечитывать «Продолжение легенды», но бросила. Потом уехал Анатолий Гладилин, чью «Историю одной компании», напечатанную в «Юности», я так любила… Эмиграцию именно этих двух писателей я восприняла почему‑то очень болезненно, будто это близкие мне люди, чуть ли не родственники вдруг взяли и уехали навсегда.
Я росла активной девочкой. Это шло не столько от «идейности», сколько от самих обстоятельств жизни. Дома главой семьи была мама, это она все доставала, всем распоряжалась, все решала. Я была старшая сестра и в отсутствие мамы «командовала» младшими детьми вместо неё. В школе тоже всем заправляли женщины–педагоги и девочки–активистки. Директор, оба завуча, классные руководители, старшая пионервожатая – все были женщины. Председатели советов отрядов, комсорги классов, учебный сектор, культмассовый сектор – везде были девочки, отличницы и хорошистки. За воротами школы всё менялось, там правили мальчики, пацаны. В школе можно было их с умным видом «прорабатывать», но на улице, во дворе лучше было с ними не связываться. Они дразнились, обзывались, насмешничали, могли плюнуть и даже ударить. Хорошей девочке лучше было держаться от них подальше.
Хорошая девочка отвечала за выпуск школьной стенгазеты, оформление всяких стендов, «уголков», а в своём классе раз в две недели вывешивала сатирическую стенгазету, которая называлась «За ушко, да на солнышко!». В левом углу ватмана было нарисовано большое, размером со сковороду солнце, нахмурившее брови и протянувшее в противоположный край листа руку–луч, чтобы схватить за воротник лодыря–двоечника. Оформление было срисовано из какой‑то книжки, но карикатуры на двоечников и хулиганов, а также смешные заметки про жизнь класса я сочиняла и рисовала сама. И когда вывешивала очередной номер, у него собиралась толпа учеников не только из нашего, но и из соседних классов. Смеялись, тыкали пальцем в картинки и зачитывали вслух куплеты и подписи. Обиженные поворачивались, отыскивали меня глазами и показывали кулак. Подходили также учителя, внимательно все разглядывали и говорили: «Молодец! Прямо, как в «Крокодиле»! Я стояла в сторонке и упивалась успехом.
Это был мой самый первый успех на поприще журналистики.
И ко времени окончания школы я уже совершенно точно знала, что хочу работать в газете.
5
Лёне Захарову очень не нравилась вся эта история. Когда у таких людей, как его друг, пропадают жены, ничего хорошего ждать не приходится. Какая бы ни была причина – политика, или чистый криминал, или (к чему больше склонялся сам Лёня) обыкновенная «бытовуха» — все плохо, всё бьёт по репутации человека и в конечном счёте может стоить ему карьеры, не говоря уж о деньгах, которых никто пока не требует, но и времени прошло всего ничего – два дня. В душе Лёня немного досадовал на друга. Понятно, что не хочется предавать огласке, понятно, что, стоит только заявить о случившемся официально, как это тут же станет известно журналистам, и раздуют такое… не будешь знать, что хуже – пропажа жены или шум в прессе. Но у Лёни были все основания опасаться, что в одиночку, как на том настаивал В. В., он не справится. Хотя бы потому, что слишком мало знает о теперешней жизни своего друга и его жены. Пока жили в С. и ещё раньше в К., они были на виду, Лёня частенько у них бывал, мог наблюдать, как и что. Да и жизнь – пять, а тем более десять лет назад – была совсем другая. Об их столичном укладе Лёня имел смутное представление, теперь они почти не встречались. Не случись того, что случилось, В. В. о Лёне, может, и не вспомнил бы.
Но никакой обиды на старого друга Лёня не держал, хорошо понимая, что уровень, на котором тот сегодня находится, диктует свои правила. Он это особенно ясно почувствовал, когда в прошлом году В. В. не пригласил его на свой юбилей. Собственно, он никого из старых друзей–товарищей, оставшихся в провинции, не пригласил, и те из них, кто на это расчитывал и даже подарки готовил, обиделись, решили, что «Васильич», как они его между собой называли, «зазнался». Другие же, в том числе и Лёня, отнеслись с полным пониманием. Ведь на этом юбилее могли быть люди из высшего руководства страны, что же – сажать их за один стол со старыми корешами? Если там вообще приняты такие застолья. Может, у них все по–другому: вызовут куда надо, руку пожмут, награду какую‑нибудь вручат, махнут по рюмке – вот и весь юбилей. Нет, Лёня не обижался на то, что В. В. отдалился, стал почти недоступен, он не сомневался, что в какой‑то действительно серьёзной ситуации, когда понадобятся его вмешательство и участие, он сможет обратиться к нему как к другу, и тот обязательно поможет, просто не было пока необходимости. И вот на тебе! Сам В. В. оказался в крайне неприятном положении, и теперь он, бывший чекист, а ныне частный сыщик Лёха Захаров, призван ему помочь. Он, конечно, готов постараться и больше того – даже рад возможности оказать старому другу исключительную услугу, вот только… сумеет ли?
Дело осложнялось тем, что никакой полезной информации, могущей пролить свет на происшедшее, Васильич не предоставлял. То ли не хотел этого делать, то ли, как догадывался Лёня, и не мог, потому что сам мало знал про то, как жила и что делала в его отсутствие жена. Даже толкового профессионального совета бедный В. В., совершенно деморализованный случившимся, не мог ему дать. Приходилось действовать на своё усмотрение и надеяться на удачу: вдруг Мирослава сама как‑нибудь найдётся.
Тем не менее, в понедельник с утра Лёня без устали колесил по городу. Шёл дождь, отдыхающие попрятались по гостиницам и санаториям. Город уже готовился окунуться в сонное межсезонье. Первым делом он выяснил у сотового оператора все входящие и исходящие звонки с телефона пропавшей за последние два дня. Звонков было несколько. Первые два она сделала, судя по времени, едва приземлившись в С., прямо из аэропорта. В распечатке значились подряд мобильный номер В. В. и домашний телефон на Инжирной.
— Ну, да, один звонок от неё был, — подтвердил В. В. – Буквально два слова: долетела нормально, еду домой.
То же самое повторила и Аннушка: хозяйка звонила ей из самолёта, сказала, что прилетела и сейчас едет.
Набрав третий номер, Лёня услышал:
— Парикмахерская.
Он спросил, где они находятся и ведётся ли у них запись клиентов. Находятся на Приморском бульваре, клиентов обслуживают только по предварительной записи. Записывалась ли у них в пятницу вечером такая‑то? А на когда она должна была записаться? Возможно, на субботу. Да, есть такая запись.
— Так она была у вас?
— Лена! – крикнула трубка куда‑то в сторону. – У тебя Мира в субботу была? Говорит, была.
— Странно, — сказал В. В. — Какая необходимость была звонить в парикмахерскую из аэропорта? Что за спешка? И вообще, зачем ей понадобилась эта парикмахерская? У неё, по–моему, в Москве есть свой мастер…
Четвёртый звонок был в тот же вечер, только совсем уже поздно, часов около одиннадцати, кто‑то звонил Мире с городского номера, принадлежащего, как выяснил Лёня, местной студии телевидения, но сейчас там никто не отвечал, видно, ещё не пришли на работу. По понедельникам до обеда местные каналы отдыхают.
Ещё два звонка зафиксировались в субботу утром, в обоих случаях звонила сама Мира: сначала в Москву, на чей‑то сотовый, начинающийся с цифр «790…», потом на городской номер здесь, в С. После этого никаких входящих и исходящих уже не было. Сотовый в Москве отзывался дежурной фразой, что абонент недоступен, а городской в С. оказался домашним телефоном, зарегистрированным на имя некоего Т. Г. Богушвили, и тоже молчал. Услышав эту фамилию, В. В. задвигал желваками и сказал Лёне:
— Что ещё за Богушвили? Ну‑ка выясни быстро, кто это.
Он отдавал приказы таким тоном и с такой беапелляционностью, будто за дверью стоял целый штат сотрудников, готовых бежать, куда он скажет. Лёня принимал эти приказы к сведению, но действовал по своей схеме. Сейчас на очереди у него была парикмахерская. Там выяснилось, что в субботу, ровно в восемь часов утра разыскиваемая вошла в салон, преспокойно уселась в кресло и посмотрела на себя в зеркало. Это означало, по крайней мере, что в ночь с пятницы на субботу никто её не похитил и не убил, и из дому она уехала скорее всего сама, а почему прислуга этого не заметила – второй вопрос, разберёмся! Так вот, уселась, внимательно посмотрела на себя в зеркало и – к большому удивлению мастера Лены – попросила постричь её покороче. Та пыталась отговаривать, мол, жалко же стричь такие красивые, длинные волосы! Но Мира настояла, сказав при этом: «Ничего, отрастут». Она и маникюршу попросила не покрывать ей ногти лаком, что тоже было на неё совсем не похоже.
В этой парикмахерской, расположенной в самом центре Приморского бульвара, в десяти минутах ходьбы от моря, её знали давно и числили в постоянных, притом «своих» клиентках, платила она щедро, а если причёсывалась перед праздником, приходила ещё и с коробкой конфет, а то и с бутылкой шампанского, говорила: «Выпейте, девчонки, за моё здоровье!». Мастер Лена любила, кроме всего прочего, с ней по душам поговорить. Она со всеми своими клиентками болтала беспрерывно, так, о всякой ерунде. С Мирой можно было поговорить о серьёзном, например, о том, куда лучше поступать после школы дочке и что делать с очередным сожителем – расписываться или так жить.
Обычно она проводила в парикмахерской целый день, начинала утром у косметолога и заканчивала под вечер у педикюрши. Жаловалась, что устаёт от сидения и полулежания в креслах, а больше всего от разговоров, которые ни на минуту не смолкают в парикмахерской, где все говорят со всеми и всегда орёт на всю громкость радио, какая‑нибудь «Европа плюс». Из парикмахерской уходила с больной головой, зато довольная собой. Это у неё называлось «привести себя в порядок», хватало почти на месяц.
Мастер Лена расстроилась, когда Мира уехала жить в Москву, терять такую клиентку было жаль, но, как выяснилось, она не насовсем пропала, и время от времени появлялась, чтобы причесаться по случаю праздника или дня рождения, которые они с мужем иногда проводили в С. Лена встречала её, как родную, старалась угодить, хотя она носила теперь длинные волосы, с которыми справиться было гораздо труднее. Потому и удивилась вчера её желанию постричься покороче, ведь года три, наверное, отращивала, зачем же…
— Стриги! – приказала Мира. – Отрастут, если надо будет. Сейчас не надо.
По тону её Лена поняла, что объяснять что‑либо клиентка не расположена.
— Она на машине к вам приезжала? – спросил Захаров.
— Ой, не знаю. Она разве водит?
— Водит. У неё «Хонда» серебристого цвета.
— А у нас здесь парковка запрещена, так что клиентки машины вон там ставят, за углом.
Они разговаривали в холле. Лена – сильно накрашенная, в очень короткой и узкой юбке, едва прикрытой капроновым фартуком, — не знала, как себя вести с симпатичным мужчиной спортивной наружности и на всякий случай кокетничала.
— Не помните, у неё мобильный телефон был с собой?
— Да, она звонила кому‑то. Мы как раз уже заканчивали, и она говорит: подъезжай, я скоро выйду.
— Случайно не заметили, кто подъехал, на чём?
— Заметила! Я же её на улицу проводила, мы ещё минут пять постояли, поговорили, потом подъехало такси, вышла какая‑то женщина, наверное, подруга, потому что они поцеловались и пошли вон в то кафе, видите, через дорогу.
На противоположной стороне улицы было угловое полукруглое кафе с выставленными на тротуар пластмассовыми столиками, которые мокли сейчас под дождём.
— А что за женщина, вы не отфиксировали?
— Ну, такая… крашенная блондинка, волосы прямые, средней длины…
— Молодая?
Лена покривилась.
— Да я бы не сказала, лет тридцать пять, наверное, просто ухоженная…
— Это во сколько было?
— Ой, сейчас скажу, час у меня и полчаса на маникюре, где‑то в половине десятого…
Кафе называлось «Бирюза». Лёня заглянул туда, но оказалось, что с понедельника заступила другая смена, так что спрашивать было бесполезно.
На квартире Богушвили Т. Г. Лёню, по–прежнему полагавшего, что без постороннего мужика никак не обошлось, ждало лёгкое разочарование. Гражданин Богушвили оказался вовсе не гражданином, а гражданкой – Татьяной Григорьевной. По адресу прописки, на улице Мимоз, 18 / 7, в старом, сталинских времён трёхэтажном доме с покрашенным в ядовито–зелёный цвет фасадом и обшарпанным, сто лет не ремонтировавшимся подъездом, гражданка Богушвили, однако, давно уже не проживала, квартиру, как пояснили соседи, сдавала внаём, а сама обреталась где‑то в районе новостроек, у дочки. Жильцы в квартире № 7 всё время менялись, а примерно полгода назад поселилась какая‑то молодая женщина. Кто она и чем занимается, соседи (пожилая, приличная пара) не знают, но очень хотели бы узнать, потому что женщина эта бывает здесь всего два раза в неделю, по средам и субботам, и к ней в эти дни ходят разные другие женщины, придут и долго потом не выходят, а под вечер и сама она исчезает, и в квартире никогда не ночует. Вот чем, спрашивается, они там занимаются? Вы бы проверили, товарищ милиционер! Проверим. Имя, фамилию жилички сказать можете? Вот этого они не знают, она с ними даже не здоровается, так, прошмыгнёт, и все. Как хотя бы она выглядит? На вид лет тридцать, крашеная блондинка, довольно симпатичная, вся из себя такая… фифочка. А когда её последний раз здесь видели? В эту субботу. Пришла и сразу ушла, и больше уже не появлялась.
Лёня, о каждом своём шаге докладывавший В. В., позвонил, сообщил радостную весть, что по крайней мере в субботу с утра Мира была жива–здорова и даже делала себе причёску и маникюр, заодно успокоил относительно Богушвили и просил подумать насчёт молодой крашенной блондинки, кто бы это мог быть.
— Понятия не имею, — сказал В. В. – Я тут другое вспомнил: у неё на телевидении подруга работает, Тамара. Правда, я фамилии не помню и в какой редакции не знаю, но ты найдёшь.
Тамара не производила впечатление женщины «ухоженной». Усталое лицо, тревожный взгляд. Волосы рыжеватые, копной, да и возраст… Она встретила его на проходной и повела через большой двор, больше похожий на парк, с клумбами и скамейками, в глубине которого стояла серая коробка студии, окружённая с трёх сторон кипарисами и пальмами. Внутри здания было в этот час гулко и пусто, они долго шли по длинным, тёмным коридорам и лестницам, наконец, оказались в узкой, трамвайчиком вытянутой комнате с одним окном и двумя прижатыми друг к другу допотопными столами. Тамара присела за свой, на котором рядом с перекидным календарём стояли в рамочках фотографии похожих на неё молодых людей – парня и девушки, Лёня примостился напротив.
— Вы звонили в пятницу вечером вашей подруге Мирославе?
— Да. А что? – испугалась Тамара.
— Мне поручили узнать, зачем вы звонили и почему так поздно.
— Кто поручил? Владимир Васильевич?
— Допустим.
Тамара смешалась, покраснела.
— Если у неё из‑за меня какие‑то неприятности, я готова сама ему позвонить и всё подтвердить.
Лёня напрягся.
— Что именно вы готовы подтвердить?
— Что Слава у меня ночевала.
Лёня сделал вид, что это для него не новость, однако, требуются подробности.
— Понимаете, я в тот вечер, в пятницу, была в ужасном состоянии, можно сказать, в депрессии. Почему – не хочу объяснять, это касается моей личной жизни…
Она повздыхала, посмотрела тоскливым взглядом в окно и, словно смахнув какое‑то наваждение, продолжала. Славе она позвонила просто так, посоветоваться, всегда с ней советуется в таких случаях, потому что более близкой подруги у неё нет, а она взяла и приехала. Куда? Да прямо сюда, к студии. На чём? Да на своей машине. Во сколько это было? Да, наверное, ближе к двенадцати.
— А что вы делали так поздно на студии?
— У нас последний новостной выпуск в половине десятого, а потом… отношения выясняла с одним молодым человеком.
— Молодой человек с вами работает?
— Да, оператором, но я бы не хотела…
— Я вас пока и не спрашиваю. Значит, она подъехала к студии. Дальше что?
— Я вышла, села в машину, и мы поехали.
— Куда?
— Вообще‑то Слава хотела меня к себе забрать, но у меня там…. котёнок дома один, поэтому поехали ко мне.
— А оператор?
Оказывается, тот ещё раньше уехал, на своей машине, после чего она Славе и позвонила.
— Где вы живёте?
Тамара назвала адрес. Это был район хрущевских пятиэтажек. Лёня представил себе реакцию В. В., когда тот узнает, что его Мируся по ночам с подругой шарится в таком районе, это ж надо было где‑то машину оставить, в подъезд войти, грязный, без лифта, с какими‑нибудь бомжами на чердаке… Котёнок у неё один! Ну, бабы…
— Так, приехали к вам, и что?
— И проговорили часов, наверное, до трёх. Я более или менее успокоилась, а Слава, наоборот, очень устала. Я постелила ей на диване и пошла спать, утром встаю – её уже нет.
— То есть вы не знаете, в котором часу она от вас уехала?
— Знаю, она будильник на шесть ставила.
— Зачем так рано?
— По–моему, она ещё куда‑то ехать собиралась, сказала: надо переодеться и заправиться.
— А куда, не сказала?
Тамара покачала головой, потом тревожно взглянула на Лёню, словно о чём‑то, наконец, догадалась.
— А что, она до сих пор не вернулась?
Захаров не ответил.
— Это я виновата. Это из‑за меня она не отдохнула с дороги, не выспалась, а утром опять поехала… Она хоть не уснула за рулём?
— Не знаю, — сухо ответил Лёня и хотел было попрощаться, но вдруг подумал, что эта Тамара должна бы знать о Мирославе гораздо больше, ведь они подруги, а подруги, бывает, знают то, чего не знают мужья.
— Пожалуй, я вас задержу ещё немного.
И Захаров стал методично выпытывать всё, что Тамара знала и могла рассказать.
А что она знала? И что могла рассказать?
Когда‑то давно, сто лет назад, они учились вместе на факультете журналистики. Их было трое – Мирослава, которую они сразу стали звать просто Славой, Таня и Тамара. Слава, в свою очередь, звала её не иначе, как Томчик. Таня канула очень давно, почти сразу после окончания, вышла замуж, муж попался зловредный, первое, что сделал, отсек всех подруг, поначалу они ещё как‑то перезванивались, а потом постепенно заглохло. И где она сейчас и что с ней – они не знали. Потом и Томчик вышла замуж за военного и уехала с мужем на Север. И тоже оборвалась связь. И только спустя лет, наверное, двадцать, когда она, уже разведённая, вернулась с двумя великовозрастными детьми домой, в приморский город С., где жили её родители, они встретились почти случайно со Славой и с тех пор поддерживали отношения, но не слишком тесные. Слава теперь жила в Москве, а сюда лишь наезжала время от времени. Томчик, растерявшая за прошедшую жизнь многих друзей и подруг, тянулась к ней, зазывала к себе, названивала, в том числе и в Москву, заезжала сама, когда случалось ей бывать в столице. Слава встречала её ровно, приветливо, но как‑то отстранённо, будто ей всегда немножко не до неё, будто та позвонила и заехала не очень вовремя, нарушив какие‑то её планы и помешав каким‑то её занятиям. Дорожа хотя бы и такими отношениями, Томчик терпела и не обижалась, полагая, что новых подруг в таком возрасте уже не бывает и надо поэтому беречь тех, кто остался. Была, конечно, и другая причина дорожить подругой и больше уже не терять с ней связь, причина эта заключалась в муже Славы Владимире Васильевиче. К нему можно было обратиться (через подругу, разумеется) в каких‑то крайних обстоятельствах, что Томчик периодически и делала, шла ли речь об устройстве на операцию для матери или приличной работе для дочки, да и денег можно было иногда перехватить на ремонт или свадьбу сына (материальные возможности подруг были теперь несравнимы). Слава никогда не отказывала, всегда сочувственно выслушивала и говорила:
— Хорошо, я спрошу у Володи.
И всё устраивалось. Но Томчику было бы неприятно думать, что она дружит с этой семьёй из‑за таких случаев, нет, она действительно по–своему любила старую университетскую подругу и даже, пожалуй, пожертвовала бы этой перепадавшей ей время от времени помощью ради более тёплых и душевных с ней отношений, но тут ничего поделать было нельзя. Слава, бывшая в молодости настолько откровенной, что абсолютно все про себя выбалтывала подружкам, теперь не любила ничего рассказывать о своей жизни, так, какие‑то незначительные мелочи – куда ездили, куда ещё собираются. Она также не любила выслушивать россказни Томчика о мужиках, ненадолго появлявшихся и исчезавших из её жизни.
Томчик была тот тип женщины, которой всегда, в любом возрасте и в любых обстоятельствах жизни необходимо, чтобы её любили. Если она замужем, то обязательно заводит ещё и любовника. Если нет – тем более заводит, при этом всячески пытается его на себе женить. Если любовник бросает её, она переживает бурно, но недолго, и скоро опять влюблена. В любви она самоотверженна и бескорыстна, готова кормить, поить, одевать и ничего за это не требовать, только люби. Таких женщин называют «озабоченными». Но в случае с Томчиком это была даже не «озабоченность», а скорее любвеобильность, просто в ней накопилось (а может, она с этим родилась) столько любви, что её постоянно надо было на кого‑то изливать. Она бы и на одного–единственного мужчину излила весь свой запас любви, если бы хоть один мог это выдержать. Но долго не выдерживал никто.
Каждого следующего любовника Томчик считала последним в своей жизни, веря, что наконец‑то встретила того, кого ей надо, и что уж с ним‑то точно доживёт до старости. Спустя время, наступал очередной облом. Тогда она бросалась к Славе, рыдала, кляла неблагодарного и спрашивала совета, как ей теперь быть и что делать.
Слава подругу ругала, но и жалела, говоря:
— Ну почему ты такая наивная, такая доверчивая, ну, что ты перед ними унижаешься, выпрашиваешь у них эту любовь несчастную? Да разве это главное в жизни?
— А разве нет? – удивлялась Томчик.
— Нет, конечно.
— А что же тогда главное?
Слава пыталась объяснять и выходило, по её разумению, что главное – это то, от чего женщина получает самое большое в жизни удовольствие, как, например, великая актриса от игры на сцене, как великая правительница от занятий государственными делами…
— У–у…. – отмахивалась Томчик. – То великие! А я – обыкновенная женщина, и самое большое удовольствие получаю от любви.
— Ну и дура, — говорила Слава беззлобно. –Тогда продолжай в том же духе и не спрашивай у меня, что тебе делать.
Томчик не обижалась, она считала, что просто они слишком разные со Славой, и судьба у них разная. Сказать, что она завидовала подруге, было бы слишком просто и не очень точно. Её отношение к тому, как теперь жила и что имела Слава, было сложным и противоречивым. С одной стороны, она совершенно искренне радовалась за неё и даже в каком‑то смысле гордилась, что состоит у неё в подругах. С другой, будучи человеком по–житейски проницательным, она не могла не замечать, что сама Слава никакой особой радости по поводу своего теперешнего благополучия не испытывает, напротив, часто что‑то гнетёт и тревожит её, и эта тревога невольно передавалась Томчику, когда она бывала у них в доме. Она много думала о причинах такого странного состояния подруги. Будь она на её месте, она бы вела себя совсем иначе. Как? Да она бы просто жила, ни о чём не думала и наслаждалась жизнью по полной программе. Спрашивается, что ещё женщине в таком уже возрасте надо? Муж есть? Есть. Хороший муж? Да это золото, а не муж! Любит? Ещё как любит. Поначалу, когда Томчик только познакомилась с В. В., она ещё сомневалась на этот счёт, но, приглядевшись, поняла, что это тот самый редкий случай, когда сомневаться не приходится, и вот в этом‑то одном она действительно завидовала подруге и даже не раз признавалась ей в этом. О таком муже все мечтают, да мало кому достаётся. Вот Славке достался, а она и не ценит, то есть ценит, конечно, но принимает как должное. Как человек поживший и в житейских делах опытный, Томчик знала и понимала: когда слишком хорошо – это тоже плохо. Всякое бывает, и все ещё может быть, то есть ничто не даётся навечно. Сегодня так, а завтра может стать совсем иначе. Случись что с Владимиром Васильевичем – ну, там, с должности снимут или, не дай Бог… Что тогда будет со Славой? Ведь она уже лет, наверное, семь, как не работает, сидит дома, нет, она, конечно, не сидит, а мотается туда–сюда, на ней дом и вся их многочисленная родня, кроме того, она что‑то пишет, но писанием сейчас не проживёшь, уж это‑то Томчик знает. В общем, все у них хорошо, пока у него хорошо. А в наше время ни от чего зарекаться нельзя. И не такие падали с небес. Тьфу, тьфу, тьфу, конечно… Она не враг им, и ничего такого не желает даже в мыслях. Она просто рассуждает, глядя на свою подругу. И когда она таким вот образом рассуждает, она чувствует себя – в своей двухкомнатной приватизированной квартире и на своей должности редактора телевизионных новостей – увереннее и защищённее Мирославы, потому что она ни от кого не зависит, ни от какого мужа, ни от какого мужика, только сама от себя.
Иногда Томчик пыталась соблазнить Славу напоминанием о её старой, университетской любви, которой была свидетельницей и тайной поверенной. Говорила, например:
— Неужели ты его никогда не вспоминаешь? Неужели тебе никогда не хочется его увидеть? Ведь ты так его любила, как сумасшедшая!
Томчику хотелось бы сделать подругу сообщницей в своих сердечных делах, пусть бы и у неё завёлся какой‑нибудь любовник, тогда бы она лучше её понимала, и они могли бы секретничать вдвоём, как заговорщицы, как когда‑то давно, в молодости. Но Слава демонстрировала на этот счёт полное равнодушие.
— А я виделась с ним недавно, — сказала однажды совершенно спокойно.
— Как? Где?
— В Москве на одной тусовке случайно встретились.
— Да что ты! Представляю, как он обрадовался!
— Да, обрадовался, только стал оглядываться по сторонам и спрашивает: а где твоя охрана? Я говорю: какая охрана, ты что? Почему‑то он решил, что я с телохранителем хожу.
— Ёкнуло у тебя сердце?
— Не–а. Абсолютно. Ты знаешь, сколько ему сейчас? Страшно сказать. Совсем пожилой человек.
— Жалеет, небось…
— Может быть, не знаю.
— А ты?
— Нет, — отрезала Слава.
Последний раз они виделись примерно за месяц до злополучной пятницы. Слава прилетела в С., и (что было на неё не очень похоже) сама позвонила Томчику и предложила приехать. Та все бросила и примчалась. Сидела в кресле у камина, пока подруга готовила кофе на кухне, оглядывалась по сторонам: «что тут у вас новенького появилось?», потому что у них всегда что‑нибудь новенькое появлялось – то картина, то кукла новая, не говоря уже о книгах. Томчик любила все рассматривать и расспрашивать, что это, да откуда и цокать языком: «Да–а… Класс!».
Вот тогда‑то ей и почудилось, что Слава совсем какая‑то безрадостная, потухшая. Куклу новую показала, но без особых комментариев, так, мимоходом…
— Куклу? – зацепился за слово Захаров. – С двумя лицами?
— Нет, с двумя лицами я раньше видела, та в кресле сидит, а эта висит.
— Как висит?
— Очень просто. У них в кабинете арка есть, у окна, вот там она и подвешена. Марионетка.
— Марионетка?
— Ну, да. Она вся такая, на ниточках, дёргаешь за ниточки, и у неё ручки–ножки двигаются. По–моему, они её из Праги привезли.
Захаров подумал, что висящей куклы он точно в кабинете не видел. Может, и она пропала? Да знает ли кто‑нибудь в этом доме, что у них на месте, а что пропало?
— А она вам никогда не говорила, какие у неё в отношении всех этих кукол были планы?
— В каком смысле?
— Может, она каких‑то продать хотела или подарить кому‑то?
— Да что вы! Хотя она иногда дарила кукол, вернее, передаривала.
— Как это – передаривала?
— Ну, все же знают, что она кукол собирает, вот и дарят ей, но это не те куклы, какие ей нужны, это простые куклы, из магазина, понимаете? А она‑то собирает экслюзивные, авторские работы, которые в одном экземпляре сделаны. Такая у неё блажь. Кто‑то брюллики собирает, а она – кукол. Лично я никогда не рискую ей куклу дарить, у меня и денег таких нет, и где этих кукол берут, понятия не имею. Я вообще считаю, что если человек что‑то собирает, лучше не вмешиваться, это его глубоко личное дело, правда?
Захаров, подумав, согласился.
— Так вот, настоящих кукол она никому не давала даже в руки, а тех, простых, иногда передаривала. Приведут в гости маленькую девочку, она ей и подарит. А про коллекцию она как‑то сказала, что оставит внучке в наследство.
— У неё разве есть внучка?
— Пока нет, но вроде же ждут там, у сына. Вот она и говорила: если будет внучка, у меня есть, что ей оставить, – книги и кукол.
Будь они неладны, эти куклы. Скорее всего, они тут вообще ни при чём, только время теряешь, выясняя, кто из них сидит, а кто висит.
— А все‑таки зачем она вас позвала в тот раз? Только кофе попить и куклу показать или у неё было к вам какое‑то дело?
Тамара вздохнула.
— Скорее у меня к ней.
Раньше она вела на городском канале программу «Для вас, женщины». Передача была – сборная солянка: какая‑нибудь известная женщина в студии, потом немного домоводства, немного садоводства, и в конце песня по заявкам. Между прочим, телезрителям нравилось, и письма шли, в основном с просьбой поздравить любимую маму, жену, девушку и передать песню. Но пришёл новый шеф, передачу закрыли как морально устаревшую, а Тамару перевели в редакторы. Она и сама понимала, что передача устарела, да и она в качестве ведущей – тоже, поэтому особо не сопротивлялась.
Но Слава подталкивала: не сиди, как клуша, займись собой, похудей, смени причёску, сделай подтяжку лица, а потом придумай новый, интересный проект и иди с ним к начальству. Легко сказать! Ну, похудеть, допустим, можно, если очень постараться, причёску сменить тоже нетрудно. На подтяжку всё равно нет денег. Но труднее всего придумать новый проект. Ничего свежего и оригинального в голову не приходит, все уже есть, все уже другие сделали. Слава же считала, что существующие женские передачи рассчитаны только на две категории – на туповатых домохозяек и недоразвитых девочек–подростков. А если, говорила она, я ни к той, ни к другой категориям не отношусь, то и смотреть мне у вас нечего. Вот сделай, подзуживала, такую передачу, чтобы меня заинтересовать.
— Это что же за передача должна быть? Гордон в юбке?
— Зачем так сложно? – возражала Слава. – Но и упрощать не надо, не у всех же на уме только то, как выйти замуж за богатого, да как извести соперницу. Почему бы не сделать цикл передач о великих женщинах, ну, пусть не великих, но выдающихся?
— У–у… Опять ты со своими великими! Ну, о ком, например?
Слава обещала представить список.
И в следующий приезд позвала Тамару к себе и за чашкой кофе, как бы между прочим, протянула ей листок. Томчик пробежала глазами и не могла скрыть улыбку.
Княгиня Ольга… царица Тамара… боярыня Морозова…Екатерина Дашкова… Софья Ковалевская… Мария Башкирцева… мать Мария (Кузьмина–Караваева)… Заканчивался список Анной Ахматовой, про которую Слава сказала, что она и есть последняя великая русская женщина. При этом призналась, что сама удивлена, как их, оказывается, мало – на одном листке уместились.
Томчик только головой качала: она не потянет, и вообще, такой проект не для местного телевидения, здесь и видеоматериала‑то нужного не подберёшь. И потом… Она совсем не уверена, что кому‑то это действительно будет интересно. Да? Ну, как хочешь, а я бы на твоём месте попробовала. Ну так попробуй, у тебя‑то точно получится! О чём ты говоришь, ты же знаешь, что я не могу.
— На самом деле она смогла бы, ещё как бы смогла, ведь она талантливее меня. И зря Володя…
Тут у Захарова зазвонил сотовый.
— Да, нашёл, — сказал он в трубку. – Вот как раз выясняю. Я перезвоню.
Тамара смотрела с тревогой и любопытством.
— А вы случайно не знаете в окружении вашей подруги такую женщину – крашеная блондинка лет тридцати пяти? – спросил вдруг Захаров. — Симпатичная, ухоженная…
Тамара пожала плечами, подумала.
— Может, Инна?
— Что ещё за Инна?
Слава как‑то знакомила её с похожей девушкой. Это было летом, в августе. По дороге на студию Тамара зашла на минутку в кафе на Приморском бульваре, а они там сидят – Слава и эта блондинка. Тамара подсела, выпила с ними кофе и побежала, потому что уже опаздывала. Но блондинку эту она хорошо запомнила, очень уж они душевно беседовали, Томчик даже позавидовала. Она потом домой ей позвонила и спросила, кто это такая была. А Слава сказала: я как‑нибудь поближе тебя познакомлю, с ней можно интересную передачу сделать. И все, больше они к этому разговору не возвращались.
— То есть вы не в курсе, кто она и чем занимается? Жаль. Очень она нам нужна, эта девушка.
— А вы спросите у Славиной сестры, она тоже там была, втроём они сидели.
— Что ж вы сразу не сказали! А сестра какая, Мила или Лана?
— Нет, Милу и Лану я хорошо знаю, а это какая‑то другая, Валя, то ли Галя…. Но она её тоже сестрой называла.
Ближе к вечеру Лёня приехал на Инжирную должить В. В. некоторые промежуточные результаты и нашёл его лежащим на диване. Рядом, на журнальном столике, находились флакон с корвалолом, какие‑то таблетки и аппарат для измерения давления. Видно было, что чувствует он себя гораздо хуже вчерашнего. Этому, как оказалось, предшествовала беседа с Аннушкой.
Узнав, что Мируся не ночевала дома, В. В. пытался выяснить, как могли Аннушка с Костей этого не заметить. Аннушка закатывала глазки, тряслась и бубнила одно и то же, что всегда встаёт рано, ещё семи нет, чтобы полить из шланга двор и цветы, а в субботу нарочно не стала поливать, чтобы не шуметь, потому что хозяйка обычно долго спит утром, она и подумать не могла, что её уже нет в доме…
Надо было понимать так, что пока в кабинете, где Мируся возилась с куклами, горел свет, Аннушка тоже бдела, но как только свет там погас, она решила, что хозяйка улеглась, и тоже завалилась спать и проспала, видимо, часов до восьми. Мируся за это время успела уехать, вернуться и снова уехать, но ни Костя, ни Аннушка ухом не повели. Зачем же они тут находятся в таком случае? Ведь так кто угодно чужой может залезть во двор…
— Та не! – упрямо твердила Аннушка. — Я ж с полседьмого всегда на ногах.
Ничего не добившись, В. В. отпустил её и тут почувствовал, что сдавило сердце, пришлось принять таблетку коринфара и лечь.
Но спокойно полежать не дали, раздался очередной звонок из Москвы, ему вообще без конца звонили, и сам он то и дело звонил, и кое–какие вопросы удавалось решить по телефону, но были и те, что требовали его личного присутствия, он нервничал, дёргался, обещал буквально завтра–послезавтра быть на месте, сам не зная, когда в действительности наступит для него это завтра.
— Так может врача вызвать? — забеспокоился, найдя его в таком состоянии, Лёня.
— Не надо никакого врача, — В. В. встал и пересел в кресло. –Давай, рассказывай.
Рассказывать особо нечего. Что мы знаем на этот час? Что в пятницу, около одиннадцати вечера ей позвонила подруга, брошенная, очевидно, очередным хахалем, после чего Мира взяла машину и поехала сначала на студию, потом к ней домой, где и находилась примерно до шести часов утра. Дальше – ничего неизвестно, можно лишь предполагать, что она вернулась домой, переоделась и снова куда‑то уехала. Куда – неизвестно. Вероятно, уже с дороги она звонила кому‑то в Москву, а также на квартиру гражданки Богушвили, где могла в тот момент находиться блондинка Инна. Не исключено, что они двинулись куда‑то вместе, потому что на улице Мимоз Инну ни в тот день, ни на следующий больше не видели. Но телефон соседям оставлен, позвонят, как только она появится.
— Инна, Инна… — повторял В. В.
Нет, ни про какую Инну Мируся никогда ему не рассказывала.
— Слушай, старик, а есть у неё сестра Валя или Галя?
В. В. взялся перечислять сестёр жены. Значит, так, родных две — двойняшки Руслана и Людмила. По–домашнему – Лана и Мила. Живут в К., но сюда постоянно ездят. Есть ещё двоюродная, Олеся, которую она тоже опекает, но та далеко, на Украине, бывает раз в году, летом. Никакой Вали или Гали вроде нет среди её родни.
— Странно, — сказал Захаров. –Не могла же она чужую женщину сестрой называть?
— Запросто могла, — махнул рукой В. В.
6
Сёстры Мирославы, напуганные звонками В. В., мчались на маленьком дамском шевроле по трассе, ведущей из города К. на юг, в город С. Они довольно быстро проскочили ту часть пути, которая шла по равнинной местности, благополучно преодолели перевал и теперь медленно тащились по горному серпантину за пыльным рефрижиратором, обогнать который Лане никак не удавалось.
— Не спеши, — удерживала её Мила. – А то ещё сами куда‑нибудь влетим.
Всю дорогу они, не переставая, обсуждали случившееся.
— Сейчас столько людей пропадает! – говорила Мила. – Вот так выходят из дома – и все. Ты передачу «Жди меня» смотришь? А я смотрю, каждый понедельник. Там такие истории показывают – обрыдаешься. Многие люди просто теряют память. Представляешь? Человек вдруг обнаруживает себя идущим по обочине какой‑то трассы, может, даже за тысячу километров от того места, где он живёт. И чувствует, что ничего не может про себя вспомнить, ни как он сюда попал, ни кто он, ни как его зовут… Вот что это? Инопланетяне забавляются? Или спецслужбы? А может, это какая‑то новая страшная болезнь? Ужас, кошмар. Правда, это в основном с молодыми мужчинами случается, про женщин я ещё ни разу не слышала.
— Наивная! Какие инопланетяне, какие спецслужбы… Набухаются мужики отравы какой‑нибудь и – в отключку.
— Да? А как они оказываются за тысячу километров от дома?
— Элементарно. В поезд сел и поехал.
— Нет, но бывает же, что люди на самом деле память теряют.
— Ну, бывает.
— А вдруг и у нашей Руси с головой что‑то случилось? Помнишь, когда она ещё в газете работала, как её головные боли мучили? Вот так, говорит, сижу, читаю полосу, вдруг в глазах начинает рябить, половину текста вижу, а другая половина расплывается, как в телевизоре, когда он не настроен, мелкая рябь такая. Потом, говорит, хочу что‑то сказать, а у меня как будто кончик языка онемел, и главное, не могу вспомнить слово, как оно произносится. В общем, «тут помню, тут не помню». Ужас, кошмар.
— Вообще‑то это называется нарушение мозгового кровообращения. Могло и до инсульта дойти. Она же тогда работала, как проклятая, ночами в редакции пропадала, от перенапряжения все это и случилось. А ей даже лечиться толком некогда было, съездит в поликлинику, под капельницей полежит, и – опять на работу. Но это когда было? Ещё до Володи. А теперь‑то у неё, слава Богу, совсем другая жизнь, не сравнить с той…
Лане удалось, наконец, обогнать ненавистный рефрижиратор, чтобы через триста метров упереться в такой же неторопливый рейсовый «Икарус».
— Жизнь другая, а напряг тот же. Выглядела она в последнее время не очень, я как ни приеду, она такая уставшая, мне её даже жалко. Все‑таки это житье на два дома, эта езда туда–сюда, эти бесконечные гости… А сколько сам Володя требует внимания? Там же каждый день всё должно быть свежее, наглаженное, потом он это ест, это не ест… Да ещё мы с тобой грузим ей свои проблемы. Так что, я думаю, у неё, как минимум, – синдром хроничесой усталости, — поставила диагноз Мила.
— Очень может быть, но оказаться совсем одна где‑нибудь на улице, в незнакомом месте, она не могла, потому что пешком уже много лет никуда не ходит, и в общественном транспорте не ездит, только на его машине, с водителем. Я однажды у неё спросила, какая к ним идёт маршрутка, она говорит: понятия не имею, ни разу не ездила.
— А если она и правда сама за руль села?
— Что‑то мне не верится, – Лана решительно пошла на обгон «Икаруса». – Она же водить совершенно не умеет, права правами, но практики‑то никакой, зачем ей было рисковать, какая необходимость?
Когда В. В. позвонил им из Москвы и спросил, давно ли они видели и слышали свою сестру, обе сразу почувствовали неладное. Во–первых, он редко сам им звонил, во–вторых, голос был слишком уж взволнованный, хотя В. В. и пытался это скрыть. А главное на встречный, не менее тревожный вопрос, а что, собственно, случилось, он ответил: «Пока не знаю», напугав сестёр ещё больше, чем если бы сразу сказал, что Руся пропала.
Они немедленно созвонились между собой, Лана примчалась, и решено было, что в любом случае надо ехать. С дороги они периодически звонили В. В., но ничего нового он сообщить не мог. Надеялись, что вдруг сестра сама отзовётся, Мила то и дело набирала номер её мобильного телефона, но в ответ слышала одно и то же: «Вызываемый вами абонент находится вне зоны связи…», что казалось им теперь зловещим сигналом беды.
— Неужели её похитили?
Мила произнесла, наконец, слово, которое обе они боялись выговорить.
Лана тут же захлюпала носом.
— Если с ней что‑то плохое случится, я не знаю, что я им сделаю, я их всех поубиваю!
— Кого всех?
— Всех, кто там есть в доме, – она едва увернулась от выскочившего из‑за поворота милицейского уазика. – У них не дом, а проходной двор, кого только не бывает, всех подряд приглашают, принимают, кормят–поят… Потом какие‑то посторонние люди всё время – то двор озеленяют, то бассейн чистят…
— Если её, не дай Бог, похитили, то это явно кто‑то из своих организовал. Из тех, кто бывает в доме, знает, что она приехала, а он в Москве. Эти их Аннушка с Костей знали, могли сказать кому‑то. И вообще, они единственные, кто был в доме, так что в любом случае без них не обошлось. Им могли заплатить, чтобы они двери открыли. Её увезли, а им пригрозили, чтоб молчали.
— Да вроде же хорошие люди, давно у них работают, Русю любят…
— Ага. А ещё больше любят денежки.
Лана вдруг вспомнила, как однажды они с Русей смотрели по видику какой‑то зарубежный фильм, там похитили молодую женщину и требовали выкуп. И Руся сказала, как бы между прочим: «Если меня когда‑нибудь похитят, я скажу Володе, чтобы никаких денег за меня не давал, лучше я там что‑нибудь с собой сделаю, я найду способ». «Тебе что, денег жалко?», — смеясь, спросила Лана. «Нет, мне Володю жалко», — ответила Руся абсолютно серьёзно.
— Почему он в милицию не заявляет?
— Не хочет огласки.
— Да мне плевать! – бушевала Лана. – Пусть все всё знают, лишь бы она нашлась! Я и ему то же самое скажу, когда приедем! Нечего сидеть и ждать! Надо всех поднимать на ноги, всех, лишь бы только найти ее… пока не поздно. Может, она сейчас в подвале каком‑нибудь, связанная… А он, видите ли, не хочет огласки!
— Ланка, останови, мня укачало, – взмолилась Мила.
Они остановились. Справа от трассы, далеко внизу неподвижно лежало спокойное холодное море. Они выкурили по сигаретке, постояли молча над высоким обрывом, глядя на серую воду и впервые не почувствовали обычного в таких случаях радостного возбуждения и подъёма. Да сих пор каждая их поездка в С. была настоящим праздником, сейчас они впервые ехали, не зная, что их ждёт, и предчувствуя, что ждёт их какое‑то несчастье.
Руся была страше сестёр всего на семь лет, но они относились к ней почти как к матери, особенно после смерти родителей. Обе очень её любили, ни одного шага в жизни не делали без совета с ней, и что бы ни случалось у них – хорошего или плохого – первым делом докладывали Русе, которая одобряла или не одобряла происшедшее, бывало, что и ругала за какую‑нибудь глупость, а чаще включалась тут же в разрешение возникшей проблемы и всегда готова была помочь словом и делом, то есть, конечно, деньгами. Сестры, хотя и были двойняшками, но характеры имели разные. Лана была девушка гордая, не любила рассказывать о своих проблемах и неприятностях и никогда не просила у старшей сестры денег, а если та сама предлагала, всегда отказывалась. «Материальная помощь» унижала её в собственных глазах, но Руся все же находила способ как‑нибудь поделикатнее всучить ей деньги. Мила не только не отказывалась, не только не комплексовала по этому поводу, но сама в случае какой нужды просто и прямо говорила, сколько ей надо, часто даже не объясняя, зачем. В этом проявлялась её привилегия «младшенькой» (Мила родилась на полчаса позже Ланы). Между собой сестры немного соперничали за внимание старшей и, бывало, даже ревновали её друг к другу.
Они и внешне были разные, особенно после того, как одна из них, Мила, сбросила за каких‑то полгода целых двадцать килограммов. Теперь она выглядела совсем, как девочка, никто не узнавал, а кто не знал причины, приставал к ней с вопросами: как это тебе удалось? спиши диету и т. д. В то же время Лана, хотя и изнуряла себя периодически диетами, оставалась пышечкой и ничего поделать с собой не могла (также, между прочим, как и старшая их сестра, Руся). Теперь, на примере Милы все трое убедились, что дело не в еде, а в нервах, потому что на самом деле Мила похудела до неузнаваемости не от того, что перестала есть мучное и сладкое, а от стресса.
Лана узнала про это дело случайно. Просто ехала на машине по городу, остановилась в пробке и увидела, как из стоящего впереди троллейбуса выпорхнула молодая, длинноволосая девица и, пробежав мимо Ланы, уселась в стоящую позади неё машину. Лана посмотрела в зеркало и узнала старую «Тайоту» Толика, мужа Милы. Она хотела посигналить ему, но тут увидела, как Толик, расплывшись в блаженной улыбке, обнял и поцеловал девицу, после чего она положила голову ему на плечо и, видимо, замурлыкала, потому что с лица Толика не сходила счастливая улыбка. У Ланы даже внутри заныло, будто это её собственный, а не Милкин муж сидит в машине с неизвестной молодой девицей. Пока стояли в пробке, Лана, не отрывавшая глаз от зеркала, могла наблюдать, как Толик целуется с девицей. Ей хотелось выйти из машины, подойти к ним и постучать в лобовое стекло, интересно было бы посмотреть при этом на его рожу. Хотелось нажать на сигнал и не отпускать, пока в «Тайоте» не заметят её и не испугаются. Но ни того, ни другого она не сделала, просто перестала на них смотреть и только чувствовала сильное волнение, даже кровь прилила к лицу. Между тем машины потихоньку тронулись, и Лана некоторое время ехала впереди Толика, потом отстала и пропустила его вперёд, но через два квартала он свернул, может, заметил её, наконец, а может, ему и правда надо было туда.
Прекратив вынужденное наблюдение, Лана как женщина рассудительная попыталась разобраться и навести порядок в собственных мыслях и чувствах и с удивлением обнаружила, что к совершенно естественному негодованию примешалось… примешалось… что же это, Господи, неужели… Ну, да, так и есть, маленькое такое, но довольно ощутимое торжество. Ах, как нехорошо, как стыдно, ведь Мила – это же родная сестра! Да, но Лана всегда немного сомневалась в идеальности их брака с Толиком, ей всегда казалось, что Мила преувеличивает, рассказывая, какая у них неземная любовь и все такое, а то, что она видела своими глазами, всегда казалось ей чуть–чуть нарочитым, напоказ. Сама Лана пребывала в убеждении, что все мужчины время от времени делают э т о, более того, с возрастом она стала думать, что это не только неизбежно, но и по–своему необходимо, так как чувства, а вслед за ними и физические возможности имеют свойство угасать, и надо же их как‑то взбадривать. Своего Виталика она давно уже перестала ревновать, выслеживать и доставать вопросами типа «где ты был» и «почему так поздно», у него своя жизнь, у неё – своя. Но Толик!.. Этот якобы не такой, как все, исключительно верный и преданный муж! Вот это да! Вот это номер, так номер! Лана даже притормозила, пересекая ту улицу, в которую свернула «Тайота», и проводила её взглядом, словно хотела увидеть, как уплывает, растворяется в дымке осеннего вечера миф об «идеальном Толике».
И как ни совестно было Лане, она ощущала теперь явное облегчение, будто ещё одна неправильность и несправедливость жизни только что, прямо на её глазах была исправлена. И всё встало, наконец, на свои законные места. Место Толика оказалось, как и положено, в ряду других, самых обыкновенных мужчин. Разобравшись с этим предательским по отношению к сестре чувством, она отодвинула его подальше в сторону и попыталась придать своим дальнейшим размышлениям иную направленность.
Теперь она думала о сестре. Должна ли она рассказать ей про Толика или лучше пока воздержаться? Если рассказать, с Милой наверняка случится истерика. Во–первых, она не поверит, рассердится на Лану, ещё, чего доброго, обвинит в том, что она наговаривает на её «идеального», а если и поверит, то как же ей будет неудобно, стыдно перед ней. И самое главное: а что, если у Толика это не просто так, а серьёзно? У Ланы не выходила из головы его счастливая, какая‑то даже идиотская улыбка там, в машине, она никогда его таким не видела, значит… И вот если это, не дай Бог, серьёзное что‑то, а Мила, узнав от неё, что у него кто‑то есть, начнёт разбираться, выяснять, не подтолкнёт ли его вся эта катавасия к решительному шагу? Возьмёт и скажет: да, Милочка, я полюбил другую женщину и ухожу от тебя к ней. Так‑то он боится, скрывает, и, может, постепенно все у него и пройдёт, а вот если вскроется, может и до развода дойти, и кто тогда будет виноват во всём? Она, Лана. Зачем выдала, зачем не промолчала? Враги на всю оставшуюся жизнь. А ведь и Толик ей не чужой, и его по–своему жалко.
Промелькнувшая вдруг мысль о Толике показалась ей важной. Да, вот именно, его тоже жалко! Уж она‑то знает, что сестра её Мила – не подарок, ещё какой не подарок! По большому счету вообще непонятно, как Толик столько лет с ней прожил, и все – «Милочка, Милочка». Что ж, рано или поздно, это должно было случиться, и не потому, что она на четыре года старше (хотя и поэтому тоже), а потому, что на самом деле они совершенно, совершенно разные. Милка – властная, любит командовать, любит, чтобы всё было по её, как она скажет. А Толик… он тряпка, слабак, подкаблучник, он её просто боится, и вот этот‑то страх выдаётся за любовь. Так не пора ли прекратить комедию?
Фу, какая я злая, с чего это я так, — одёрнула сама себя Лана и решила пока ничего не предпринимать, а посоветоваться сначала с Мирусей. Рассказывать об увиденном по телефону она не станет, это никаких денег не хватит, а потерпит до намеченной уже поездки в Москву.
Но ещё до отъезда она нарочно навестила семейство на пороховой бочке, чтобы разведать обстановку. Посидели, попили чайку, у Милы, как всегда, — пирожки и вообще наготовлено всего полно. Лана глаз не спускала с Толика, рассчитывая увидеть в нём какую‑то перемену, но тот – хоть бы что, по–прежнему: «Милочка, Милочка…» и тому подобные нежности, а сам уплетает за обе щеки. И Мила тоже: «Толичка, Толюня…», аж противно. Так и хотелось сказать прямо при нём: «Ты спроси, кого он на машине катает?», но – сдержалась, промолчала.
В Москве, в первый же вечер, было рассказано старшей сестре про Толика и добавлено красок про девицу, которую Лана на самом деле разглядела плохо, но которая, безусловно, моложе и уже в силу этого симпатичнее, чем Мила, и вот в этом‑то и состоит главная опасность.
Руся выслушала спокойно и сказала, убив наповал:
— Я все это знаю.
— Откуда?!
Оказалось, от самой Милы.
— Как! И она знает?!
Оказалось, что это давно уже тянется, и уже были у них между собой разборки, и Мила призывала на помощь старшую сестру, и та пыталась Толика увещевать, тот клялся и божился, что любит Милу и детей и уходить из семьи не собирается, и Мила вроде как простила и даже сделала вид, что поверила, будто все там кончилось, но, видимо, ничего не кончилось, а все продолжается.
— Давно ты их видела?
— Недели две назад.
— Значит, продолжается. Я так и думала.
Лана, уязвлённая тем, что сестры скрыли от неё всю эту историю, обрушилась за глаза на Милу: мол, дура она, дура, разве можно такое прощать, выгнать его, и пусть идёт, ещё посмотрим, как он проживёт без нашей Милки, она же ему как мать, накормит, напоит, обстирает, обгладит, спать уложит, а если он думает, что эта коза будет за ним так ухаживать, то он очень ошибается, ей совсем другое от него нужно…
— Да ладно, — сказала Мируся. – Ты‑то своего не выгоняешь, а чем он лучше?
Муж Русланы, Виталик, был, и правда, человек беспечный и безответственный, большой любитель выпить и погулять, но с поличным, как Толик, никогда не попадался. В последние годы, не сумев как следует приспособиться к новой жизни, стал пить ещё больше и, выпив, делался агрессивным, срывал зло на Лане, а главное, постепенно переложил на неё все заботы о содержании семьи. Не сказать, чтобы самой Лане это нравилось. К сорока пяти годам за спиной у неё были две попытки развода, нервные срывы, мимолётные истории на стороне, не приносившие, впрочем, большого утешения. В этой маяте, в череде скандалов и примирений выросли у неё дети, а сама она, свыкшись с мыслью, что семейная жизнь не удалась, тем не менее, считала, что надо нести свой крест до конца. Лана успевала работать на двух работах, при этом умудрялась хорошо выглядеть и не терять оптимизма.
Мила, в свою очередь, тоже жалела сестру, говоря:
— Мой Толик хоть дома что‑то делает, у него руки ко всему приспособлены – и прибить, и повесить, и починить. А этот (она имела в виду Виталика) ни за холодную воду не берётся, только лежит на диване и смотрит телевизор – футбол да бандитские сериалы, даже ремонтом в квартире бедная Ланка сама занимается.
— Оба хороши, — подводила итог Руся.
Периодически она устраивала то одному, то другому зятю взбучку, они её даже немного побаивались, может, не столько её, сколько В. В., который виделся и общался с ними редко, только на больших общесемейных торжествах, но даже на расстоянии авторитет его срабатывал и заставлял зятьёв хотя бы ненадолго опомниться от пьянок–гулянок.
А насчёт Толика Руся объяснила: на сегодняшний день ситуация такова, что он их обеих любит, то есть и Милу, и ту девицу.
— Это он сам тебе сказал? – удивилась Лана.
— Да, я, говорит, люблю эту женщину и пока не могу её оставить. Так оставь Милу, не мучай. Нет, я не хочу её оставлять, я её тоже люблю.
— Гад какой! Всех он любит. Так не бывает!
— Представь себе, бывает, — усмехнулась Руся. — Бывает, но рано или поздно проходит, потому что человек не рассчитан на такую нагрузку. Так что Милочке нашей, если она действительно хочет сохранить семью, надо просто набраться терпения и ждать.
Лана подумала, что сестра вечно всех защищает, даже тех, кто совсем неправ, вечно она ищет какие‑то смягчающие обстоятельства, ей бы адвокатом быть.
— Хорошо тебе, Русичка, ты не знаешь, что это такое, когда муж изменяет, тебе ни тот, ни этот никогда не изменяли, поэтому ты так рассуждаешь. Если б ты побывала хоть раз в жизни в этой шкуре…
И тут она сказала:
— Зато я однажды, очень давно, была в шкуре той девочки из троллейбуса.
— Слу–у–ушай! – осенило Милу. – А может, у неё роман?
Лана оторвала напряжённый взгляд от дороги (они ехали по недавно построенному мосту через глубокое ущелье) и с изумлением посмотрела на сестру.
— Ты чё, совсем?
— А ты думаешь, в её возрасте ничего уже не может быть?
— Я не знаю, что в её возрасте может быть, ещё, слава Богу, не дожила, но точно знаю, что Руся на такое не способна.
— Здрасьте! Влюбиться она неспособна?
— Влюбиться, может, и способна, но поступить так с Володей, обмануть его, предать, бросить – нет, никогда. У неё чувство ответственности такое, что пересилит все другие чувства.
— А как ты думаешь, она Володю любит? Мне почему‑то кажется, у них давно уже такие, знаешь, родственные отношения.
— Ну и что? Это, к твоему сведению, ещё крепче.
Владимира Васильевича сестры боготворили, ставили в пример своим непутёвым мужьям и даже подрастающим детям (у обеих были мальчики). Но сейчас, по дороге в С. в них копилось и нарастало против него совсем иное чувство – если не злость, то, как минимум, досада: ведь это он виноват в том, что с Русей что‑то случилось. Это он устроил ей такую жизнь, подверг опасности, не уберег…
Чем ближе были они к цели своего непредвиденного путешествия, тем пасмурнее становилось небо, наконец, врезались в стену дождя, который сопровождал их уже до самого города С. В самом городе были из‑за дождя пробки, так что пришлось ещё минут сорок тащиться до Инжирной.
— Вот где её по такой погоде носит?
— Да ещё на машине!
Сестры считали Русю плохо приспособленной к бытовой стороне жизни и в отдельных вопросах ощущали себя старше и опытнее, чем она. Именно это обстоятельство добавляло им теперь тревоги и опасений.
7
Моя дорогая девочка! Думаю, пришло время рассказать тебе о любви.
Любовь есть.
Любовь есть болезнь.
Любовь есть болезнь души и тела.
Любовь – это учащённый пульс, повышенная температура, перебои дыхания, головокружение, дрожание рук и подкашивание ног. Любовь – это долгий сердечный приступ, иногда заканчивающийся смертью (Ромео и Джульетта), но чаще – полным выздоровлением.
Любовь – это невозможность ни о чём другом думать, невыносимое томление вдали от объекта любви и щенячий восторг рядом с ним, это беспричинный смех и беспричинные слезы, желание петь, читать стихи, куда‑то бежать, лететь… лететь, лететь!
Впрочем, моё объяснение слишком длинно и, скорее всего, никуда не годится. Мой сын (твой отец), будучи совсем маленьким мальчиком, дал этому феномену гораздо более короткое и точное определение. Однажды, прийдя из детского сада, он объявил нам, что любит девочку по имени Света. При этом был необычайно грустным, весь вечер вздыхал и отказывался есть.
— Но как же ты узнал, что любишь её? – очень серьёзно спросил у него отец.
— Понимаешь, папа… Я на неё гляжу, гляжу, гляжу, гляжу и… наглядеться не могу!
Некоторые девушки ждут любви, как прихода первых месячных. Вот–вот должна появиться. Что‑то запаздывает. Где же она? Почему у других девочек уже есть любовь, а у меня ещё нет?
Позволь мне кое‑что тебе объяснить.
Это не приходит ко всем девочкам в одном и том же возрасте. С одной это случится в 15, с другой в 25, а с кем‑то не случится, увы, никогда. Первый мальчик – не обязательно первая любовь, бывает, это всего лишь попытка узнать, кто они такие на самом деле, мальчики, чем они от нас отличаются, о чём с ними говорить и как себя с ними вести.
Любовь, как компьютерная игра, имеет несколько уровней: от простенького «он мне нравится» и неуверенного «я, кажется, влюблена» до страстного «я сгораю от любви» и трагического «я готова за него умереть». Впрочем, добраться до вершин любви дано не каждому, большинство останавливается на одной из промежуточных возвышенностей. Многие предпочитают и вовсе другой вариант – «он меня любит». Моя мама всегда говорила: лучше, когда тебя любят, а не ты, так спокойнее и надёжнее. Она имела в виду отношения в семье.
Но любовь и семья – вещи разные. Друг с другом они соотносятся как аномалия и норма, как праздник и будни, как болезнь и здоровье. Это не значит, что в браке не бывает любви. Иногда бывает. Любовь в браке по–родственному тиха и спокойна. Любовь до и вне брака бурлит страстями. Одно блюдо полезно и питательно, хотя и немного пресно. Другое – все состоит из острых приправ, насолено, наперчено и пряно.
В жизни, я думаю, надо попробовать и то, и другое.
Не всякая любовь завершается замужеством, не всякую любовь стоит портить замужеством. Особенно первую. Я не знаю ни одного примера, когда первая любовь, увенчавшись браком, уцелела бы в нём. Мне не встретилось ни одного успешного брака, основанного на первой любви.
Неправда и то, что настоящая любовь бывает в жизни только один раз. Просто каждому возрасту соответствует своя любовь, ведь наши чувства взрослеют вместе с нами. Другое дело, что распознать её в режиме текущего времени бывает не так‑то просто. Только оглянувшись через годы назад, ты можешь сказать наверняка, что это было. И можешь оценить, какая из любовей, случившихся в твоей жизни, была самой романтичной или самой прозаической, самой долгой или самой короткой, самой счастливой или самой несчастной…
…Звали его Георгий, Гоша, некоторые даже – Гога (но это имя меньше всего мне нравилось), а дома он был просто Юрик. Когда он появился в нашей школе, я была уже в 10–м классе и поначалу не обратила на него внимания, в тот год я вообще никого вокруг не замечала, у меня была другая цель в жизни – золотая школьная медаль.
Но однажды Люда Варенцова, которой выше твёрдых «троек» всё равно не светило и которая ждала выпускных экзаменов по другой причине – собиралась сразу после них идти в загс с одним парнем с Черёмушек, сказала мне:
— Ты видела новенького в 9 «Б»?
— Какого?
— Высокий такой, в очках.
— Ну… видела издали, а что?
— Скажи, симпатичный!
Я пожала плечами.
— Аж из Норильска приехал. Один живёт, представляешь, на частной квартире!
— А родители?
— А родители там остались.
— Странно, — сказала я.
— А ты слышала, как он разговаривает?
— Нет, а что?
— Шёпотом!
— Что, всё время?
— Всё время!
— А почему?
— С горлом что‑то, у него даже шрам есть, где кадык. Будешь идти мимо, посмотри.
— Ещё чего!
Все же я пригляделась к этому новенькому на одной из перемен. Он стоял, по своему обыкновению, у окна, и его можно было принять за молодого учителя, он был выше большинства толпившихся рядом девятиклассников и казался старше их. Он и был, как я потом узнала, старше – на целых два года, которые пропустил ещё в детстве из‑за своей болезни. У него были длинные тёмные волосы (тогда никто не стригся коротко – подражали «битлам»), тёмные, какие‑то слишком уж выразительные глаза и выпуклый, мужской подбородок. Рядом с ним крутилась, еле доставая ему до плеча, рыженькая девочка из их класса, про которую я знала, что она спортсменка и зовут её Ира. По тому, как она смотрела на него и кивала, было понятно, что он что‑то говорит ей, но голоса его я не услышала, хотя и прошла совсем близко. Подумала: да, симпатичный, даже очень.
Вообще, он был какой‑то не наш, похож скорее на иностранца, особенно на одного болгарского актёра (забыла фамилию) из фильма «Первый курьер». Впрочем, в школе его окрестили почему‑то «французом». Думаю, не столько за внешность, сколько за манеры. Он был на редкость хорошо воспитан, прямо галантен, особенно с девочками и преподавательницами, независимо от их возраста, за что те и другие сразу его полюбили. У него всегда были стрелки на брюках, отглаженная рубашка и настоящий мужской галстук, по тогдашней моде – короткий. Все это сильно отличало его от тех вечно расхристанных и расхлябанных оболтусов, с которыми мы учились с первого класса.
Как ни странно, я не влюбилась в Гошу.
Я вообще ни в кого ещё по–настоящему не влюблялась, если не считать одного десятиклассника по имени Лев, который мне очень нравился, когда сама я была в 6–м. Надо честно признаться, что в школе мальчики за мной не бегали. В 16 лет я все ещё была худенькой девочкой и «формами» не блистала (откуда только потом что взялось!), а им нравились почему‑то пышнотелые «тётеньки» вроде Люды Варенцовой, за которой они табуном ходили, норовя как бы случайно прижаться и потрогать. К тому же, я была отличницей, а мальчики отличниц не любят.
Впрочем, я от этого нисколько не страдала. Просто моё время страдать ещё не пришло.
К десятому классу вопрос о наступлении или ненаступлении месячных перестаёт быть актуальным, у всех все давно наступило, стало привычным, и уже не обсуждается. На повестке дня совсем другой, куда более интересный вопрос – «было или не было».
В кругу подружек разговоры только об этом, и уже две скороспелые одноклассницы, не доучившись десятый класс, выскочили замуж, одна по причине беременности, другая просто по любви и нетерпению (в основном его, а не её – он уходил в армию). И мы все мучаемся любопытством, как там наши вчерашние одноклассницы живут со своими мужьями, ведь они же с ними спят! Всю ночь! Каждую ночь! И вдруг выясняется, что иногда они занимаются «этим» и днём, когда мы ещё сидим в школе за партами. Известие об этом вызывает в наших умах большое смятение. Причина его кроется не в зависти (трудно завидовать тому, чего сам не пробовал, и каково оно – не знаешь), а в том, что нарушен некий общий для всех порядок вещей. До сих пор девочки одного возраста разом шли в школу, одновременно вступали в пионеры и в комсомол и, казалось, так же вместе, дружно должны закончить школу и лишь потом начинать новую, взрослую жизнь, про которую тоже думаешь, что она у всех будет одинаковая: сначала институт и профессия, потом - замужество и дети. А вот, оказывается, можно и наоборот: сначала замужество, а потом уж… Или даже вовсе обойтись без института, потому что женщина – это уже профессия, или во всяком случае – работа.
И – ничего, небо за землю не упало, родители не убили, и в школе как‑то быстро про этих двух девочек забыли, вычеркнули из всех журналов, будто их никогда и не было. Странно и непонятно. Главное, непонятно: хорошо или плохо, то, что они сделали – для их же собственной дальнейшей жизни?
Позже ты поймёшь, что ответ на все эти вопросы очень простой, и заключается он в том, что ничего одинакового на самом деле быть не может и не должно, особенно в том, что касается устройства твоей личной, собственной (и больше ничьей) жизни. И, следовательно, что для одной девочки – нарушение жизненных планов и крушение каких‑то там надежд, то для другой – в самый раз, нормальный и естественный ход событий.
И если одна из тех девочек к середине десятого класса стала мамой, это – её собственный выбор. А если у тебя на этот момент нет даже «мальчика», то это значит только одно – тебе уготована другая судьба. И мама с бабушкой сто раз правы, когда говорят: «ещё успеешь» или: «у тебя все впереди». Действительно, глупо, проходив десять лет в отличницах, а ведь это стоило трудов, сорваться на финише ради такого сомнительного удовольствия, как стирка пелёнок и подгузников. Нет, это не твоя судьба, и потому в положенный срок ты закончишь школу и получишь свою медаль (правда, не золотую, а серебряную, вылезет‑таки четвёрка по геометрии), и вот только тогда, может быть, и случится то, что рано или поздно случается с каждой девочкой.
…Мне было 16 лет, и, прежде, чем поступать в вуз (я все ещё колебалась между живописью и журналистикой), я должна была закончить «художку». Времени свободного стало много, и я иногда захаживала в свою школу, к старшей пионервожатой, помогала ей то стенгазету нарисовать, то сценарий сочинить для школьного вечера. Туда, в пионерскую, стал заглядывать Гоша. Сначала он заглядывал на переменах, потом не пошёл однажды на урок и проторчал все 45 минут, подавая мне то гуашь, то кисти (я как раз малевала на стене панно, что‑то космическое). Потом он пошёл меня провожать, потому что уже темнело, и мы остановились у моего проулка и долго стояли, и только тут я узнала, что меня, оказывается, давно любят. Как это – давно? Так. Уже год. То есть… Ну, да, как только пришёл в нашу школу, так сразу, чуть ли не в первый день, ну, может, и не в самый первый, а во второй или третий меня увидел и… Да как это было? Якобы я шла по коридору, на мне были белые чулочки (действительно, были у меня такие чулочки – белые, нейлоновые), и он сначала обратил внимание на эти чулочки, а потом поднял глаза и увидел меня, и тогда спросил у крутившегося рядом одноклассника:
— Слушай, что это за девочка?
— Сестра моя. Хочешь, познакомлю?
Это был мой двоюродный брат, довольно разбитной малый. Что же не познакомил? Оказывается, он, Гоша, сам не захотел. То есть он хотел познакомиться, но – сам. Только подходящего случая все не было. Целый год.
— И что же, весь этот год ты меня любил? – спросила я насмешливо, все ещё надеясь, что это какая‑то шутка.
— Да, — шёпотом сказал Гоша.
Я поняла, что он не врёт, и испугалась. Мне ещё никто не признавался в любви. Я даже не знала, как следует вести себя в момент такого признания. Должна ли я сказать ему что‑нибудь о своих ответных чувствах? Но ведь их у меня нет… Должна ли я разрешить ему меня поцеловать? Но он ведь об этом пока не просит…
Я молчала, потрясённая. Улыбалась в темноте. Все‑таки приятно узнать, что тебя любят. Но как быть, если тебе самой вовсе не нужна эта любовь? Если в твои планы не входит встречаться с этим мальчиком, который, хотя и старше тебя на год, ещё и школу‑то не закончил? Если ты сама себе не можешь ответить на вопрос: как ты к нему относишься? Сказать ему сразу: а я тебя не люблю! Язык не повернётся. Не сможешь ты ни обидеть его, ни сделать ему больно, ещё подумает, не дай Бог, что ты из‑за болезни его не хочешь… И разве не заслуживает полюбивший тебя человек хотя бы благодарности и простой человеческой дружбы?
Так мы стали «дружить», то есть — встречаться, но уже не в школе, а где‑нибудь на улице, стали гулять по нашему городку, по темноте и через какое‑то время поцеловались на скамейке у калитки одного частного домика, который я очень хорошо помню и который, должно быть, до сих пор там стоит. Этим первым поцелуем было как бы закреплено, что я – его девушка.
До этого я целовалась только один раз с одним мальчиком из нашего класса, но очень неудачно, во–первых, он не умел целоваться, а во–вторых, назавтра же всем разболтал, хотя разболтать следовало бы мне и пусть бы над ним, а не надо мной похихикали. В общем, тот случай можно было в расчёт и не брать, и тогда выходило, что первый, с кем я по–настоящему стала целоваться по вечерам, на тёмной улице, на чужой скамейке, был он, Гоша. К тому времени была уже зима, лежал снег и светила луна, я ходила в шубе, а он в коротком полупальто с меховым воротником и меховой шапке. Мне было холодно (шуба была искусственная), а он говорил, что этот мороз – не мороз, вот в Норильске, где он родился, вырос и играл в хоккей за юношескую сборную города, бывало и минус 50. Этого я представить никак не могла, но целоваться на морозе, когда губы холодные, мне нравилось.
Однажды он спросил:
— Ты читала Солженицына?
Надо сказать, я всегда не любила этот вопрос: «ты читала?..», считая его сугубо личным, почти интимным. Бывало, я даже врала: «да, читала…», лишь бы не быть уличённой в том, что чего‑то не знаю, что‑то пропустила. Но это имя – Солженицын – было мне почти незнакомо.
— Нет, не читала, — сказала я честно.
Немудрено: во времена первой новомировской публикации мы были ещё детьми, дома толстых литературных журналов не выписывали, а в школе это имя ни тогда, ни тем более после даже не произносилось. Ко времени, когда мы выросли, Солженицын был уже под запретом, а экземпляры журналов, где он печатался, успели изъять из всех библиотек.
— Я тебе принесу почитать, — сказал Гоша. – Мне Начвин дал, только он просил никому не показывать.
Борис Ефимович Начвин был сосед Гошиных родителей по дому – пожилой, одинокий, ироничный человек, благоволивший Гоше. В своё время он научил его играть в шахматы, потом – разбираться во внутреннем устройстве автомобиля (у него была старая, заезженная «Победа»), потом стал подкидывать ему разные интересные книжки. И вот, наконец, сочтя, видимо, достаточно взрослым, дал прочитать «Новый мир» пятилетней давности, который он хранил как большую ценность.
Тут надо кое‑что пояснить про дом, в котором жил Гоша. Это был один из первых в городе жилищных кооперативов, построенный заочно норильчанами (то есть деньги они внесли, а сами до поры оставались жить за Полярным кругом). Гошины родители, 30 лет оттрубившие на Норильском горно–металлургическом комбинате, поселившийся через стенку от них Начвин (про которого я сначала думала, что он работает где‑то начфином, а это оказалась фамилия) и другие бывшие норильчане, выехавшие в середине 60–х на «большую землю», жили дружно, чуть не коммуной, не особенно допуская в свой круг посторонних.
Однажды Гоша удивил меня, сказав, что артист Смоктуновский катал его в детстве на велосипеде.
— Как это? – не поверила я.
— А он сидел у нас, в Норильске, — как о чём‑то обыденном сказал Гоша.
Я испугалась этого слова – «сидел» и не поверила: как такой замечательный артист мог «сидеть», за что? Разве он убил кого‑нибудь или ограбил? Но Гошина мама подтвердила, уточнив только, что не «сидел», а отбывал, навеоное, ссылку, потому что играл вместе с другими ссыльными в местном театре. И назвала ещё несколько известных фамилий.
Все же они не слишком распространялись на эту тему, и о том, кто и как попал в Норильск – по своей воле или нет, – никогда не рассказывали, но Норильск по–своему любили и отзывались о нём тепло.
И вот теперь Начвин извлёк на свет припрятанный журнал с уже запрещённым Солженицыным и дал Гоше, а Гоша — мне. К предупреждению никому его не показывать я отнеслась очень серьёзно, и открыла только, когда дома уже легли спать. Честно сказать, большого литературного потрясения я в ту ночь не испытала («Бабий Яр» Анатолия Кузнецова, прочитанный незадолго до этого, подействовал на меня куда сильнее). Но тут было потрясение другого свойства.
Мне было 17 лет, никто из моих родных и других взрослых, которых я знала, никогда не был репрессирован (преимущество рождения и воспитания в простой, не интеллигентской среде). О той стороне жизни, которую описал Солженицын, я вообще мало что знала. Про Сталина мои родители вспоминали редко, лишь когда заговаривали о войне, но с явным уважением. Хрущева же открыто не любили, называли пренебрежительно «Никита» и поругивали, но не за кукурузу, которую в наших местах и до него благополучно выращивали и ели, а так, вообще. Но теперь уже и Хрущева нет, а есть чернобровый Брежнев, которого родители тоже недолюбливают.
И вот я читаю «Новый мир» и с удивлением понимаю, что помимо хорошо знакомой мне реальности, существует и какая‑то другая – неизвестная и страшная. Она меня пугает. Ивана Денисовича мне очень жалко. Но многого я всё равно пока не понимаю.
— Прочитала? – спрашивает на следующий день Гоша.
— Да.
— Ну, и что ты об этом думаешь?
— Я даже не знаю, что думать.
— А я знаю, — говорит Гоша. – Я таких людей сам видел. И это все правда.
У него была хроническая, с раннего детства болезнь гортани (может, как раз от холодов), и ко времени окончания школы он перенёс уже около сорока операций, для чего дважды в год ездил в Москву, в какую‑то больницу, где ему в очередной раз что‑то резали в горле, на голосовых связках, после чего он некоторое время мог более или менее громко (на самом деле совсем негромко, а как бы вполголоса) говорить, а потом снова переходил на шёпот. Сам он вёл себя так, будто ничем от других молодых людей не отличается, ни застенчивости, ни того, что называют комплексом неполноценности, не было в нём. Напротив, каким‑то непостижимым образом он производил впечатление превосходства над другими. Своего физического изъяна он совершенно не стеснялся и даже как бы не замечал. Чужие, посторонние люди часто задавали ему один и тот же, в общем, вполне естественный, но лично мне всегда казавшийся дурацким вопрос: «А ты чего шепчешь?». На это он невозмутимо отвечал: «Мороженого много съел». Иногда человек, у которого он вынужден был о чём‑то спросить, думал, что парень шутит, и отвечал ему тоже шёпотом, получалось, передразнивал. Мне было неприятно, а Гоша только смеялся, мог даже похлопать невольного обидчика по плечу: мол, все нормально, ничего страшного.
Вообще, с того момента, как мы стали где‑то бывать вместе (в кино, на танцах, просто на улице или в трамвае), я постоянно пребывала в сильном напряжении. Наедине с ним я мало обращала внимание на его шёпот, это придавало нашему общению даже какой‑то шарм, влюблённые ведь шепчутся. Но стоило нам оказаться среди людей, я вся напрягалась. Мне хотелось, чтобы он лучше вообще молчал, я сама скажу всё, что надо, лишь бы не услышать в ответ это ненавистное «А ты чего шепчешь, простыл?». Иногда я сама огрызалась: «Не ваше дело!», тогда он сжимал мою руку и говорил: «Не обращай внимания, я привык».
До сих пор не знаю: любила я его тогда или ещё нет. Жалела – да, очень. И, понимая, что он‑то меня любит по–настоящему, боялась огорчить, обидеть.
…Всё случилось своим чередом (лето, море, палатка), не рано и не поздно, в неполных 18, в самый раз. Оказалось совсем не страшно и не больно, а разговоров было, а страхов… Но и удовольствия никакого. Просто шла босиком по границе песка и моря, прислушиваясь к себе (изменилось что‑нибудь или нет?), гордясь и важничая, хотя ни одной живой души поблизости не было, и некому было полюбоваться на меня в это утро моего окончательного повзросления.
Зато появилась тайна. А тайна – это даже важнее и приятнее самого действа. Теперь, когда в кругу подружек заходит разговор «об этом», ты не просто молчишь, а молчишь со значением, с новой, незаметной улыбкой и думаешь про себя: сказать или не сказать? Очень хочется сказать и сразу сравняться с теми, кто «уже», и ощутить превосходство над теми, кто «ещё нет». Но ведь разболтают же, а вот этого совсем не хочется, потому что те девочки, про которых все знают, что у них уже «было», сразу считаются плохими, их ребята демонстративно перестают уважать, и взрослые смотрят на них так, словно они совсем уж конченные, в колонии им только и место. Лучше молчать. Ну, разве только самой заветной подружке, один на один, с глазу на глаз, взяв с неё страшную клятву, и то – не рассказывать все, а только так, намекнуть, дать понять… Потому что очень это тяжело – хранить такую тайну. Кажется, вообще все для того только и совершилось, чтобы можно было об этом кому‑то рассказать, похвастаться, а ни для какого ни удовольствия. Чего–чего, а удовольствия долго ещё не будет, и не скоро ты научишься его добывать, для этого надо, чтобы было кому научить, а этот твой мальчик, он и сам ещё мало что знает и умеет, хотя и делает вид, и вы тычетесь друг в друга, как слепые котята, стесняясь и боясь показаться неловкими, неумелыми.
Да откуда же! Ведь никто никогда ничего не объяснял, кроме Вальки Плотниковой, и книжек таких ты в глаза не видела, и у мамы не спросишь. Считается, что природа своё возьмёт. И она берет, конечно, своё, только не твоя, а его, мужская природа, а твоя, женская, молчит, перепуганная, и ничего, кроме страха и чувства вины (перед кем? перед всеми!), ты не испытываешь.
Сейчас я думаю, что т. н. невинность ровным счётом ничего не стоит. То значение, которое ей придают, слишком раздуто и не имеет под собой настоящих оснований. В третьем семилетии жизни (от 14 до 21), когда большая девочка неотвратимо превращается в барышню, кто только не надзирает за ней, кто только не блюдёт эту её вдруг возымевшую цену невинность – родители, тётушки–бабушки, учителя, подруги и друзья, даже соседи и просто соглядатаи. Кажется, в эти годы никого в окружении девушки ничто другое больше не интересует, как только одно: сохраняет она свою невинность или уже потеряла. Да какое кому дело! Разве это не её собственность, не такая же её принадлежность, как аппендикс или миндалины в горле? Разве не ей жить – с этим или без этого? Нет же, её блюдут, её предупреждают, предостерегают, пугают и заранее, на всякий случай, осуждают. Ещё не зная ничего о любви и об отношениях мужчин и женщин, она уже запугана своим предстоящим грехом. Результат этого надзора и запугивания таков, что никакого удовольствия, ни радости, ни, тем более, счастья девушка не испытывает ни в первый раз, ни в следующие за ним начальные эпизоды своей взрослой жизни. Некоторые и никогда потом не испытывают.
Впрочем, это я сейчас так рассуждаю, а тогда… Да, я совершила нечто предосудительное, о чём не следует никому рассказывать, особенно взрослым, тем более – маме. Да, я виновата, я плохая, я жалею, что это случилось, «я больше не буду» — хотелось сказать. Тем более, что и негде. Дома всегда родители, на улице как‑то… не получается.
— Давай поженимся, — говорит Гоша и смотрит умоляюще.
Он уже предчувствует, что не сможет меня удержать. Но мне смешно даже думать о замужестве. Передо мной пример моих одноклассниц, превратившихся за какие‑то полгода в тёток с животами и в халатах. И потом, у меня же совсем другие жизненные планы – Москва, университет… А Гоша, ну что Гоша, просто хороший мальчик, друг.
Впереди было столько неузнанного, непрочитанного! Впереди ждало столько книг, прочитав которые, я буду удивляться и сожалеть: как же я не знала, не читала этого раньше? Что говорить о Солженицыне! Ещё не открыта античная литература, не прочитаны «Дафнис и Хлоя», не узнаны строки «Я хотела бы жить с Вами в маленьком городе…», неведомы остаются Булгаков и Платонов… Что говорить, если до сих пор не прочитана самая главная на свете Книга!
Окончив школу с серебряной медалью и, разумеется, с «пятёркой» по литературе, я литературы, оказывается, не знала. Или знала очень немного. В пределах школьной программы плюс кое‑что ещё, прочитанное самостоятельно и бессистемно. Да можно ли вообще «знать» литературу? Можно ли когда‑нибудь прочесть всё, что написано на русском языке и переведено на русский с других языков? Одно время я наивно думала, что да, можно. Но чем дольше я живу и чем больше прочитанного оседает в моей голове, тем меньше у меня надежды хотя бы приблизиться к тому объёму текста, который в принципе способен усвоить за свою жизнь человек. К тому же, я давно поняла одну вещь: чем больше читаешь, тем больше непрочитанного остаётся.
Всё узнавалось постепенно. Что толку было бы проглотить лет в 13–14 Хемингуэя и Франсуазу Саган? Совсем другое дело – 18 лет, университет, Москва, новые влюблённости и – «Праздник, который всегда с тобой» (по программе «зарубежки»), а потом – «Немного солнца в холодной воде» (гуляющая по общежитию «Иностранка»). И всё совпало. И даже хотелось разговаривать с тем, в кого влюблён, в этой, такой «не нашей», отрывистой и как бы слегка отстранённой манере. Хотя теперь я думаю, что это была и не «ихняя», а скорее – переводческая манера, влияние которой так заметно у самых модных авторов тех лет, например, у Аксенова. (Впрочем, я не литературовед и могу ошибаться).
Мне нравилось просиживать дни в круглой «читалке» библиотеки МГУ на проспекте Маркса, 20. Нравился зал с устроенными в форме бюро столами и круглыми лампами на них, нравилась шелестящая тишина этого зала, и особенно нравился запах книгохранилища, исходивший от поднятых специальным лифтом книг, среди которых попадались совсем старые издания, одетые в картон вместо давно утраченных обложек и с устаревшим шрифтом внутри. Мы заказывали целые стопки книг и зарывались в них на долгие часы. Нигде так хорошо, так сосредоточенно и неотрывно не читалось, как там. Слева и справа все были заняты тем же самым и отвлечь мог разве что чей‑то шёпот: «Пойдём покурим?».
Обычно мы ходили в «читалку» с однокурсницей Таней, очень начитанной девушкой. Она вечно донимала меня вопросом: ты это читала? а это читала? И часто оказывалось, что именно этого я и не читала. Мне было ужасно стыдно, и я уже начинала тихо ненавидеть эту Таню. Между тем, я должна быть ей благодарна, ведь это она раздобыла однажды синий, маленького формата, но толстенький (если я не путаю с более поздним изданием) томик Цветаевой и великодушно предложила почитать.
И все. На несколько лет я «подсела» на стихи Марины – так фамильярно мы называли её между собой, демонстрируя свою «посвящённость». Поскольку книгу надо было вернуть (вот уж была ценность так ценность по тем временам!), я чуть не половину стихов из неё переписала в толстую записную книжку с лакированной обложкой, подаренную мне дядей для будущей журналистской работы. Нечего и говорить, что все эти стихи были вскоре заучены наизусть, и часто я твердила их про себя, как молитву, – шла ли одна по улице, ехала ли в поезде (глядя, разумеется, в окно), лежала ли без сна, что случалось со мной, когда я бывала в очередной раз влюблена.
И была у нас с Таней своя игра – проверять наших кавалеров стихами Цветаевой. Не в том смысле, знают они или не знают. А в том – чувствуют или не чувствуют. Собиралась компания в общежитской келье – чай, кофе или даже винцо, обычный студенческий трёп, потом кто‑нибудь, обычно Таня, говорил:
— Давайте читать стихи!
И читали сразу Цветаеву. Полузакрыв глаза, раскачиваясь на стуле, подвывая…
Вчера ещё в глаза глядел, А нынче все косишься в сторону…Если «объект», которому чтение, собственно, и предназначалось, «реагировал», пусть не сразу, потом, когда оставались наедине (предполагалось, что он должен как‑то отметить тонкость нашей натуры и все такое), то с ним стоило продолжать отношения, а если нет, то – нет. Фактор «женской» поэзии мы, конечно, не учитывали.
Если бы не горло, Гоша, наверное, тоже махнул бы в Москву, но, трезво оценив свои возможности, остался дома и поступил на совсем непопулярный в то время экономический факультет, выбрав себе тихую специальность «банковское дело». Я была разочарована. Вот если бы он стал физиком или, на худой конец, врачом! А что такое финансист? Почти что бухгалтер. Дважды он приезжал в Москву, находил меня в общежитии университета, но там, в шумной и многоликой толчее самоуверенных молодых людей показался каким‑то чужим, ненужным, и я сказала: не надо, не приезжай больше. Он пробовал писать, но и это было напрасно.
Ему было 19 в тот год, он был однолюб, и никогда больше никого не полюбил в своей жизни. Может, просто не успел. Во мне же к тому времени ещё не проснулись по–настоящему сильные чувства, и как показали дальнейшие события моей жизни, чтобы их разбудить, нужен был не мальчик Гоша, а гораздо более взрослый и опытный мужчина. И когда именно такой человек оказался на моём пути, он смел все – и Гошу, и меня самое, и все мои детские представления о любви и отношениях между мужчиной и женщиной.
Следующий акт этой драмы происходит шесть лет спустя.
К тому времени Гоша женат, притом на девушке, про которую мне сказали: «вылитая ты». Я отнеслась к этому со смешанным чувством, в котором были и облегчение (теперь я могу быть за него спокойна), и капелька ревности, и эгоистичное: «раз она на меня похожа, значит, он по–прежнему меня любит». И вроде мне это совсем не надо, а всё равно приятно.
Однажды я встречу её на улице, мы обе остановимся, неприятно удивлённые нашим сходством, обе догадаемся, кто есть кто (ещё бы она не догадалась, если у них дома лежат под стеклом на письменном столе мои фотографии!) и, ни слова не говоря, разойдёмся в разные стороны. И я потом долго буду припоминать, как она выглядела, и думать: да нет, она и выше, и плотнее (пловчиха), и вообще… я лучше, я симпатичнее, чего‑то у неё нет моего…
— У неё ничего твоего нет, — говорит мне мой двоюродный брат, который с ними общается. – Она другая. И он её совсем не любит. Спрашивал про тебя.
— И что ты сказал?
— Защитилась, приехала, работает в газете. Замуж не вышла.
Да, замуж не вышла. Пока не вышла. Все ещё не вышла. В третьем лице можно сказать: «никак не выйдет». Все‑таки 24 – это не 18. В 24 года на тебя смотрят совсем по–другому. И те же самые люди, что так пеклись о твоей невинности, теперь говорят: «Смотри, в девках останешься!». В каких девках, Господи прости! Позади у тебя бурная и тяжёлая связь со взрослым женатым человеком, за которого ты пошла бы замуж, да он не решился бросить семью. Знали бы они, сколько слез и… крови ты пролила с этим человеком. Теперь вот зализываешь раны, пытаешься забыть, не думать…
Замуж, конечно, пора.
Но не потому, что тебе самой очень этого хочется, а потому, что так надо, так положено, так должно быть. С детства вдолблено в голову: вырастешь – выйдешь замуж, народишь деток. Вот ты и выросла, давай, выходи, твоя очередь подошла, будто из‑за тебя одной что‑то там нарушится в природе.
В университете у меня была подружка, Таня М. Ко времени окончания она замуж была соверешнно не готова. У неё никогда не было парня, то есть она даже в мыслях своих была девственница, и разговоры однокурсниц о «мужиках» слушала с болезненным любопытством и тихим ужасом в глазах. Сама она была ничуть не дурнушка – невысокая, пухленькая, с лицом немного простоватым, но милым, хохотушка и умница. Вообще она хотела сделать карьеру, кем‑то стать, для чего прилежно училась и делала успехи, так что планы её вполне могли бы осуществиться, не угоди она замуж. И вот в возрасте 23–х лет где‑то она отдыхала, и один молодой человек, старше её лет на 6–7 положил на неё глаз, познакомился, видимо, очень быстро все про неё понял и почти сразу сделал предложение. И она тоже почти сразу согласилась. Причём ни о какой любви или даже влюблённости с её стороны не было и речи. Он ей совсем не нравился – белобрысый, белесый весь, абсолютно несимпатичный, но проявил такой напор, такой натиск, что она, будучи совершенно в этих делах неопытной, не смогла сопротивляться. Она была провинциалка, он – москвич, с квартирой (правда, с родителями), звали Коля. Тип не из приятных, тип собственника. Он, женившись (саму женитьбу он очень быстро устроил, не дав ей опомниться), буквально запер её в четырёх стенах, никаких подруг, ничего. Наутро после первой брачной ночи она сказала своей матери:
— Почему же ты меня не предупредила, что это так больно, так ужасно?
Можно предствить, какой была после этого вся её супружеская жизнь. Наверняка она пополнила собой ряды тех несчастных женщин, которые делают э т о исключительно по обязанности, с отвращением и другого себе не представляют. Карьера её, не успев начаться, тут же и кончилась, работать он ей не дал. Через положенный срок рождён был мальчик, названный тоже Колей (там и дед был Коля, и царил полный домострой), такой же белесый и белобрысый, и вся её дальнейшая жизнь состояла в том, чтобы обслуживать всех этих Коль.
Сама, конечно, виновата, потому что боялась вступить с кем‑то в «добрачные отношения», что называется, берегла себя «для него, единственного» (кого – неизвестно), в результате оказалась неопытной, неготовой и угодила в капкан. Со своей стороны и мамаша её, сама прожившая жизнь без мужа (уж не знаю, почему), толкала в спину: пора, пора! Опять же от подруг отставать не хотелось. А могла бы ведь и подождать, вдруг, да встретила бы того, кого сама полюбила бы, пусть не в 22, а в 25, пусть даже в 30, разве не бывает!
Впрочем, не знаю. Может, она потом привыкла и даже была по–своему счастлива, я как‑то потеряла её из виду.
Никто не знает наперёд своей судьбы. Если бы сказали наверняка: жди и дождёшься, в такое‑то время будет тебе жених, какого сама хочешь, о каком мечтаешь, — можно сидеть и ждать, ни о чём не волноваться и отгонять всех других женихов, как мух. Оттого‑то и любили всегда гадать, и сейчас ещё любят. Я и сама не так давно увлеклась было гаданьем на картах с картинками, и даже нагадала одной семье, что сын их вот–вот женится, что вскоре и произошло, хотя на момент гадания ничто не предвещало. Мать жениха (отдалённая моя приятельница) очень удивлялась точности предсказания, но сама я думаю, что это так, случайное совпадение. Если ты имеешь взрослого сына, который уже вовсю гуляет с девушками, то в любой момент жди, что приспичит ему жениться. Гадать тут не о чем, а я теперь уж и забросила это дело, потому что сын мой ругал меня, говоря, что всякое гадание – грех.
Так вот. Невозможно знать наперёд, что будет, дождёшься или нет милого сердцу жениха, а время‑то идёт. Мечтать можно хоть о принце, хоть о знаменитом артисте. Случаи, когда бы эти мечты сбывались, мне лично неизвестны. Известны другие. Двоюродная сестра одной моей родственницы по имени Аня, будучи школьницей, потом студенткой страстно была влюблена в хоккеиста Фетисова. Просто бредила им. Разумеется, видеть своего кумира могла только по телевизору. Реально окружавшие её молодые люди не могли с ним конкурировать, она их просто не замечала. В результате осталась незамужем, сейчас ей 40.
Другие девушки мечтают не о конкретном человеке, а так, вообще, абстрактно. Прежде всего воображается, конечно, внешность: высокий, красивый, спортивный, модно одетый молодой человек. Манекен. Картинка. Ни одна девушка не станет мечтать: пусть он будет ростом метр пятьдесят, кривоногий и лысоватый. Но это совсем не значит, что, когда спустя лет 5–6 после пика мечтаний, приходящегося на 14–17 лет, она встретит именно такого «красавчика», она его отвергнет. Может и не отвергнуть, может позволить за собой ухаживать, а может и полюбить, любовь ведь зла.
Но к этому девушка приходит через определённый опыт, когда начинает осознавать, что годы её идут, а вымечтанного «принца» на горизонте нет как нет. Тогда она говорит себе: ладно уж, пусть будет не такой высокий. Потом: ну, ладно, пусть будет не такой красивый и т. д. Так жизнь постепенно подводит юную мечтательницу к более реальному типу и заставляет с ним смириться. Правда, девушка всегда ищет при этом некую компенсацию за отказ от своей мечты. Она говорит подругам: зато он, знаете, какой умный! Или: зато он такой весёлый! И последний довод, когда ну, ничего не нравится, ничто не соответствует: зато он меня так любит!
Ещё одна моя приятельница, тоже Таня, которая долго, до 33 лет, не могла выйти замуж, говорила так: если меня кто‑нибудь полюбит, я его уже за одно это полюблю, какой бы он ни был, хоть хромой, хоть кривой. По иронии судьбы примерно такой ей в конце концов и достался.
Редко, редко встретишь девушку которая бы вышла замуж за того, кого она сама, на свой вкус выбрала и полюбила и кто полностью (или хоть частично) отвечал бы её девичьим мечтам и представлениям. Чаще всего она просто соглашается, в силу разных обстоятельств (возраст, давление семьи, материальные соображения, желание уйти от родителей и жить самостоятельно) с тем вариантом, который подбрасывает ей судьба.
Для мужчины жениться – это выбрать и завладеть.
Для женщины выйти замуж – это согласиться с выбором мужчины, и может быть, потом полюбить.
— А ты знаешь, Гоша ушёл от Ленки, — сообщает мой двоюродный брат.
— Да? Ну и что?
— Он теперь опять у родителей живёт.
— Ну и что?
— Они сейчас на даче, и он нас с тобой приглашает в гости. Просто посидим, винца выпьем, все‑таки столько лет не виделись.
Я не знаю, что ответить. Где‑то в глубине души шевелится интерес: посмотреть, каким он стал, Гоша. А главное, очень хочется (для чего?) убедиться, что он ещё любит. Я соглашаюсь, но предупреждаю брата:
— Только ты ему скажи, что это ровным счётом ничего не значит.
— Ладно, ладно, — радуется брат, как видно, пообещавший меня привести во что бы то ни стало.
…Он открыл дверь, и я увидела перед собой заметно возмужавшего человека, смотревшего грустно и нежно. Прямо в прихожей, снимая с меня плащ, он сказал шёпотом:
— Больше я тебя никуда не отпущу.
И не отпустил.
Спустя сутки, в течение которых я окончательно удостоверилась, что робкого и неумелого мальчика больше нет, а есть взрослый, сильный и несколько даже агрессивный мужчина, Гоша провожал меня знакомой дорогой домой и где‑то на полпути задал вопрос, которого я так боялась, все ещё надеясь, что у нас с ним просто встреча старых друзей, никого ни к чему не обязывающая.
— Ну теперь‑то ты выйдешь за меня замуж?
— Но ты же женат.
— Считай, что уже нет.
На следующий день он рванул в Москву, где отсиживалась у сестры в ожидании своей участи моя неудачная копия, и не знаю уж, как, но уговорил её подписать бумагу на развод (сама она этого не хотела). Вернувшись, он так же быстро уговорил работницу загса, так что спустя какую‑то неделю, был уже свободен. Оставалось продать его смешной горбатый «Запорожец», в котором он еле помещался, чтобы было на что справить свадьбу.
Пока Гоша таким образом суетился, я все ещё пребывала в раздумьях. Вот тогда мама и сказала:
— В браке лучше, когда тебя любят, а не ты.
Сестра туда же:
— Не вздумай опять его бросить! Тебя никто так любить не будет, как он!
Ну, ладно. Уговорили.
Был год Тигра, месяц Скорпиона. В день нашей свадьбы шёл проливной дождь, и Гоша приехал за мной на чёрной «Волге», которую ему дали в банке. Если бы бабушка ещё была жива, она бы, наверное, сказала, что все это – не к добру.
Вот я и замужем. У меня высокий, красивый, умный и любящий муж. Если бы не его болезнь, можно было бы сказать: идеальный. Он работает в банке, я – в газете. Мы снимаем частную квартиру в одном доме с его родителями, у нас там стоят диван–кровать, старый мамин сервант, два кресла на тонких ножках и черно–белый телевизор. Вместе мы зарабатываем 240 рублей в месяц, 35 отдаём за квартиру, на остальное живём, но обычно за неделю до зарплаты идём занимать в долг у родителей. Жить одним нам очень нравится, мы стараемся как‑нибудь украсить наше скромное жилище, я рисую масляными красками цветы на синей панели в ванной комнате, а Гоша покрывает лаком найденную где‑то корягу и прикрепляет её над зеркалом в прихожей. В стеклянную дверь, ведущую из зала в спальню, вставлена, как в раму, увеличенная до гигантских размеров наша свадебная фотография (подарок фотокора из нашей редакции). На этой фотографии мы целуемся, и лиц поэтому не видно, только моя фата и его затылок. Но все, кто к нам приходит, говорят: о! как вы это здорово придумали!
Он хочет, чтобы у нас был ребёнок. Сразу, не откладывая. Если родится девочка, он назовёт её моим именем, если мальчик, то – как я захочу. Я говорю, как я хочу, он тут же соглашается. Кажется, он все ещё не верит своему счастью.
По субботам–воскресеньям у нас собирается компания друзей, в основном, таких же молодожёнов, как мы, но живущих, в отличие от нас, с родителями. Они нам завидуют: у нас своя комната. Я ещё не умею готовить, и чаще всего мы жарим картошку с луком или яичницу с колбасой, пьём дешёвый болгарский «Рислинг» и дурачимся, как дети. Гоша всех фотографирует, а потом, заполночь сидит в тёмной ванной, проявляя и печатая снимки.
Про такую жизнь говорят: они жили бедно, но весело.
Как‑то из командировки в город Армавир он привёз маленькую чёрную книжечку (купил её там в вокзальном киоске) с японскими пятистишьями. Тусклым золотом на обложке написано было странное имя – Такубоку. С этой книжечкой я носилась, как с хрупкой вазочкой, которую боишься разбить. Своих книг у нас было совсем немного, и каждую новую мы читали и перечитывали много раз, особенно, если это были стихи.
Наконец–то Я новую книгу купил. Читал, читал Далеко за полночь… Эту радость трудно забыть!У нас даже возникла маленькая домашняя игра: Гоша, который по утрам уходил раньше меня, раскрывал чёрную книжечку на какой‑то странице и оставлял на видном месте. Я просыпалась и читала:
Как трещина На белом абажуре, Неизгладима Память О разлуке.В свою очередь, я находила другое пятистишие и тоже оставляла раскрытой страничку. Он возвращался первым и читал моё ответное «послание».
Во времена Такубоку мы были почти счастливы.
Беременной я почувствовала себя после поездки на выходные в Домбай. Начальная стадия этого процесса уже была мне печально знакома, теперь предстояло узнать, как всё бывает дальше. Оказалось, что это самое замечательное из всех состояний женщины. Единственное, в котором тебя перестают занимать вопросы: кто ты, зачем живёшь, для чего, в чём смысл твоей жизни… То, что происходит внутри тебя, к чему ты постоянно прислушиваешься и на чём вся теперь сосредоточена, — это и есть ответ на все вопросы, объяснение и оправдание твоего существования. Никогда я не ощущала себя до такой степени женщиной (впервые не испытывая при этом ни раздражения, ни досады), как при вынашивании ребёнка. Вот когда природа взяла своё!
В эти девять месяцев мы с Гошей стали окончательно родными. Он только что на руках меня не носил, страшно гордился моей беременностью, мечтал о сыне, сам все делал по дому, каждый день спрашивал: «Ну, чего тебе сегодня хочется?». Мне хотелось то пива, то арбуза, то яблочного пюре «Неженка», и, возвращаясь вечером с работы, он нёс мне в авоське все сразу, на случай, если желание моё успело с утра до вечера перемениться. В дни своей беременности я любила Гошу тихой, благодарной любовью.
…Всю последнюю перед родами неделю, сидя на нашем балконе, я читала книжку из серии «Библиотека приключений» (помнится, книголюбы называли эту серию «рамочка»). Это был «Ларец Марии Медичи» Еремея Парнова. Почему я читала именно её – сказать не могу, может, больше в доме на тот момент нечего было читать. В одно прекрасное утро начались схватки, но я не была уверена, что это они, и решила подождать, убедиться. Осталась лежать в постели, взяла книжку и стала читать. Гоша сидел рядом с часами в руках и отслеживал периодичность схваток. Когда стало ясно, что они наступают через одинаковые промежутки времени, он сказал:
— Все, поднимайся потихоньку, и едем в роддом.
Мы были одни в квартире, его родители, жившие в соседнем подъезде, ещё с вечера укатили на дачу, телефона там не было, и он опасался, что не успеет меня довезти. Я же продолжала лежать и сказала, что пока не дочитаю, никуда не поеду. Оставалось с полсотни страниц. Гоша кружил по комнате, не зная, что со мной делать, и только спрашивал:
— Ты ещё можешь терпеть?
Я отвечала, не отрываясь от книги:
— Могу.
К 12 часам дня я с сожалением перевернула последнюю страницу и сказала:
— Ну, поехали.
Вечером того же дня, в 20 часов 20 минут благополучно родился на свет наш сын.
Родиться труднее, чем родить. У бедного маленького человечка лопнули сосудики в глазках и образовалась на макушке небольшая гематомка – так тяжело ему пришлось. А ты – большая, ты взрослая, ты способна осознавать происходящее и в меру сил управлять собой, вокруг тебя врачи и акушерки, а он один в кромешной тьме, беспомощный, ещё неразумный… И надо думать не о себе, а о нём, думать, что это ты не себя освобождаешь от утомительного бремени, а его вызволяешь, помогаешь ему выйти на свет божий.
Он родился, но я не услышала его голоса и испугалась.
— Скажите, пожалуйства, а мой мальчик плачет? Громко? Ну, слава Богу…
Вот нас и трое. Гоша сам купает маленького, сам обрабатывает зелёнкой пупочек, ездит в аптеку за укропной водичкой, встаёт к нему ночью, достаёт из кроватки и подкладывает к моей груди. С первого дня он его фотографирует и развешивает увеличенные портреты на стенах. Мы без конца смотрим на эти портреты и любуемся: какой у нас красивый мальчик!
Если бы мне сказали тогда, что это счастье продлится от силы два года и что вслед за ним потянется череда долгих и тяжких лет, я бы… А что бы я могла сделать, что изменить? Расстаться с Гошей? Нет, это было уже невозможно, уже всеми клеточками души я была прочно привязана к нему, уже он был родной и близкий, и у меня никогда не достало бы сил оставить его на произвол судьбы. Такой судьбы.
Сколько раз я пыталась начать писать об этом и всякий раз уклонялась, находила причину: я ещё не готова… вот именно сейчас я не могу… лучше я пока напишу о том, что было «до» и «после», а об этом – потом, позже… Боюсь ли я прикоснуться к этой теме спустя столько лет? Опасаюсь ли сделать больно людям, которые сегодня рядом со мной? Да нет, они эту историю знают, кажется, не хуже меня. К чему же тогда эти уловки, отчего такое смятение, такой страх, будто добегаешь до какого‑то препятствия, а перемахнуть через него не можешь и в который раз трусливо пятишься назад или вовсе увиливаешь в сторону.
Что лукавить, прекрасно я знаю ответ на этот вопрос, и он таков: написать – значит заново пережить, а вот этого я как раз и не в силах. Так уже бывало со мной. Когда боль, причиняемая каким‑нибудь особенно тяжёлым воспоминанием, становилась нестерпимой, мозг сам переключался на иную тему, мысль отвлекалась, ускользала, прыгала, путалась, прерывалась и, в конце концов, уносилась далеко–далеко, и наступало облегчение. Я усвоила этот приём, и не раз сама, чуть подступало то, страшное, гнала его от себя и начинала думать о том–о сём, о чём попало, лишь бы отвлечься.
Вообще‑то я немного, самую малость, мазохистка, и в детстве, поранив, например, палец, нарочно его трогала и ковыряла, чтобы проверить: болит – не болит. Но, видимо, есть такой порог боли, за который даже мазохистке вроде меня переступить трудно.
Что ж, нельзя ли в таком случае вообще обойти эту «больную» тему, пропустить, оставить за пределами повествования? Не хочешь писать – не пиши, кто тебя заставляет! Но… Тут‑то и происходит раздвоение личности. С одной стороны возникает «персонаж», с другой – «автор». Персонаж сопротивляется, скулит: пожалей меня, не рви мне душу! А автор наседает: надо, вот так (показывает на горло) надо, без этой сюжетной линии – никуда. Это ж, можно сказать, самый драматический, а значит, ключевой и переломный момент всей твоей жизни. Так что возьми себя в руки и – пиши. Всё равно, пока не напишешь об этом – не избавишься от наваждения и душу не облегчишь.
Какой же он провокатор, этот сидящий во мне «автор», ничто ему не свято!
Но так и быть, я расскажу эту историю, исключительно ради тебя, моя девочка. В конце ты поймёшь, почему.
…Нашему сыну было два года, когда у Гоши случился первый приступ неизвестно какой болезни. Потеря сознания, судороги, скорая помощь, больница, отделение нейрохирургии, капельница, он уже пришёл в себя, но ничего не помнит и понять, что с ним было, не может. На первый раз сочли за случайность. Но вот ещё приступ, и ещё. Это уже серьёзно, надо обследоваться. Одни врачи говорят одно, другие – другое. Воспаление мозга, менингит, эпилепсия… Все не то. Надо ехать в Москву, на худой конец, в Ленинград. Надо найти кого‑то, каких‑то друзей, знакомых, которые могли бы помочь, устроить. Сначала Бехтеревка, высокие своды, белые стены, жуткая процедура под названием ангиопневмография – закачивание кислорода под черепную коробку, в сосуды мозга. Адская боль. И безрезультатно. Потом институт Бурденко, там, говорят, есть единственный в Москве томограф, но попасть очень трудно, надо ждать очереди. Мы ждём. Приступы тем временем становятся почти ежедневными, уже нельзя работать. Постоянный, три раза в день, приём противосудорожных таблеток, фенобарбитал и что‑то ещё. Наконец, можно ехать в Бурденко. Томограф. Странные картинки мозга в разрезе. Молодой хирург по имени Игорь Александрович, родной племянник кинорежиссёра Ростоцкого, выходит и говорит:
— У вашего мужа опухоль мозга. Похоже, что злокачественная, но это станет ясно только после операции.
Значит, операция. А Гоша не хочет. Он знает все, иначе невозможно, но он должен все взвесить, подумать. Он видел страшных людей с раскроенными черепами в палатах этого института, они умирают после операции, он хочет знать, какой шанс выжить лично у него. Он спокоен, рассудителен, они почти ровесники с этим Игорем, хирургом, он разговаривает с ним один на один, без меня. Можно ли ещё какое‑то время жить с этим, сколько времени это терпит? Но ведь мы уже три года ездим по разным клиникам, а ему все хуже и хуже, зачем же ещё терпеть, ждать? Но не могу же я решать за него. Эти три года не прошли для нас даром. Мы теперь как одно целое, как один человеческий организм, я научилась предчувствовать наступление приступа по какому‑то едва уловимому изменению его дыхания, выражению глаз, я всегда начеку и рядом. Моя задача – не дать ему упасть, удержать, усадить или уложить, переждать, держа его за руку, дать воды… А если все‑таки дойдёт до судорог, немедленно вызывать «скорую», а если они долго не едут, я тоже знаю, что делать, у меня наготове магнезия, и ещё, самое главное, не дать ему сомкнуть, сцепить зубы, для этого у меня есть деревянная ложка… Вот так мы теперь живём.
Но бывают и длительные периоды спокойствия, и тогда он такой же, как всегда (только похудел и побледнел немного), мы ходим, гуляем с ребёнком, которого он обожает, бываем даже в гостях, и к нам ещё заходят по старой памяти гости, со стороны поглядеть – все у нас нормально, кто не знает, ни за что не догадается, мы особо и не рассказываем, знают только родные и самые близкие друзья. Гоша необыкновенно сильный человек. Он не только не жалуется, он вообще не хочет говорить о своей болезни, он ведёт себя так, будто ничего не происходит с ним, не позволяет никому себя жалеть, сочувствовать. Он намерен победить эту проклятую, неизвестно откуда вязвшуюся болезнь, только надо понять, как. Операция? Или есть ещё какие‑то способы? О, мы, кажется, все перепробовали. Мы были у одного врача–экстрасенса, о котором много писали в те годы, но показавшегося лично мне шарлатаном, а Гоше так хотелось ему верить! Мы были в деревне у какого‑то деда, снабдившего нас отваром из трав, лично им собранных и приготовленных. Всё было напрасно. И наступил момент, когда вопрос об операции уже нельзя было обсуждать, Гоша с трудом мог вставать и страдал от диких головных болей.
Я не помню ни одной своей мысли за те четыре часа, которые я провела в компании со своим деверем, братом Гоши в вестибюле института Бурденко в ожидании, когда окончится операция. Помню только, что я ходила и сидела, сидела и ходила, и бегала периодически в туалет.
Игорь Александрович оказался хорошим нейрохирургом. Но опухоль оказалась злокачественной.
— Что мог – удалил, но все удалить невозможно, у него опухоль не снаружи, а внутри мозга…
И что это значит? А это значит, что через какое‑то время возможен рецидив.
Палата, четыре койки, на каждой забинтованный кокан головы, какой же из них мой? Вот он. Щёлочки глаз, сине–черно все вокруг них. Послеоперационный отёк. Ничего, ничего, главное, ты жив, теперь всё будет хорошо. Бульон из ложечки. Не надо ничего говорить, нельзя. Скоро будем потихоньку вставать и учиться ходить. Руку мне на плечо, не падать, раз, два, три… завтра ещё попробуем. Вот мы уже и в коридор выходим, тридцать шагов до лестницы, там посидеть и тридцать обратно. Скоро нас отпустят домой. У него круглый шов от трепанации через всю левую половину головы, аккуратный шов, с дырочками от сверления по бокам. Какой он смешной, наголо остриженный, уши большие, шея тонкая… Ничего, ничего, волосы отрастут, главное – ты жив!
Вот мы и дома. Никто не верит, приходят на него посмотреть, он смеётся, разговаривает, рассказывает об операции так легко, отстранённо, будто это не с ним было. Ещё месяц–полтора, и пойдёт на работу.
— Может, не надо?
— А кто семью будет кормить?
Кормилец нашелся…
Доктор сказал, что лет через пять, скорее всего, понадобится повторная операция, но мы пока об этом не думаем. Пять лет впереди! Это ж целая жизнь!
Да, жизнь, но какая… Сначала всё идёт хорошо, Гоша даже работает, в банке его ценят как толкового работника, но и сочувствуют, стараются не перегружать. Раз в полгода мы ездим в Бурденко, проверяемся. Пока все нормально. Приступы бывают, но редко, совсем небольшие, называются на французский лад «птималь» (маленький), вдруг снова один за другим сотрясают его большие, судорожные припадки. Опять Москва, опять томограф, и Игорь, ставший нам почти родным, качает головой: растет… Дальше – инвалидность, пенсия в 29 рублей, он дома, я – на работе, целыми днями, иногда и ночами, ребёнок – в саду или у бабушки, я боюсь его с ним оставлять, мало ли что… Он злится, нервничает, раздражается, иногда становится невыносимым. Но надо терпеть, ему в любом случае хуже, чем мне. А главное, безумно жалко его, за что ему это, вот за что? Он по–прежнему не терпит разговоров о своей болезни, ни с кем, кроме меня и врача эту тему не обсуждает. Пришёл вызов из Бурденко на повторную операцию, он его даже мне не показал, порвал и выбросил.
— Ничего я больше делать не буду.
Почему‑то был уверен, что второй операции не перенесёт.
…Последний год был особенно тяжёлым, я очень уставала на работе и дома, появились головные боли, не хватает только мне самой свалиться, отпуск взяла в середине октября и затеяла дома ремонт, стала обои переклеивать, окна красить (мы жили к тому времени в собственной двухкомнатной квартире на девятом этаже). Гоша наблюдал с дивана за моими потугами и ругался:
— Ты не так клеишь, косо, а я даже помочь тебе не могу, брось, не клей!
Я все же доклеила, и у меня ещё оставалась неделя от отпуска, к тому же, надвигались ноябрьские праздники, и мне вдруг захотелось уехать хоть на несколько дней к морю, отдохнуть от всего, от всех, и от Гоши тоже. Он не возражал, даже поехал провожать меня в аэропорт, так хорошо себя в тот день чувствовал. Уже прощаясь, спросил:
— А ты не думала о том, чтобы нам вместе поехать?
Стало стыдно, что я бросаю его, но… все уже решено – билеты, гостиница, и мне надо, надо хотя бы три–четыре дня побыть одной, иначе я сойду с ума. Ребёнка отвезла к бабушке (Гошиной маме), ей же наказала позванивать ему постоянно и по возможности заехать, посмотреть, как он.
Я провела у моря, в гостинице города С., всего три дня. Гуляла, дышала, старалась ни о чём не думать. Ночью, с 7–го на 8–е, проснулась сама не знаю, от чего, за окном было темно, включила ночник, посмотрела на часы, ровно 4 утра. Спать не хотелось, и было как‑то не по себе. На тумбочке у меня лежала захваченная с собой книга «Мёртвые души», но не поэма Гоголя, а её критический разбор каким‑то литературоведом. Я стала её читать, потом подумала: что я тут делаю вообще? Ночь, «Мёртвые души», гостиница, чужой город…
Утром первым делом побежала в редакцию местной газеты, где были у меня друзья, чтобы позвонить домой. Дома не отвечали. Был праздник, 8 ноября. Я подумала, что Гоша мог с утра пораньше поехать поздравить родителей и проведать ребёнка. Но и у родителей его не было. Я стала обзванивать всех, кого могла, у кого были телефоны и к кому он мог пойти. Нигде его не было, ни к кому он не приходил и никому не звонил. Наконец, отозвалась (проснулась!) соседка по лестничной клетке, сказала, что вчерашний вечер Гоша провёл у них, выпили, посидели и где‑то в час ночи он пошёл к себе.
— Оля! – сказала я, чувствуя, что сердце у меня останавливается. – Иди посмотри, ключ торчит изнутри или нет?
Она пошла. Я ждала у телефона.
— Ключ изнутри, — сказала Оля. — Я звонила и стучала, там тихо.
Приехали родители и брат, взломали дверь. Гоша лежал на спине, простыни под ним были смяты и перекручены, видимо, был сильный приступ, который он пытался перебороть, но не смог. Врач сказал, что всё случилось часа в 4 утра. Когда я примчалась, отмахав на редакционной машине 300 километров, была уже ночь, его увезли. Я увидела его только на третий день к вечеру, когда одетого в серый костюм и галстук в красную крапочку его привезли для прощания домой. Глаза его были открыты, и мне пришлось самой их закрыть, придавив двумя монетами. Лицо его было спокойным и красивым, как никогда.
В те, самые тяжёлые мои дни, когда казалось, что отчаянью не будет ни конца, ни края, я пыталась утолить боль перечитыванием давно знакомых стихов, но ничего не получалось. Вспомнив, к примеру, кочетковское «С любимыми не расставайтесь!», я прорыдала весь вечер, и долго потом, как колеса поезда, стучали в моём мозгу строчки –
И каждый раз навек прощайтесь, И каждый раз навек прощайтесь, Когда уходите на миг…Как могла я уехать и оставить его одного, я, столько раз за эти годы спасавшая его от самого страшного, как могла я в день и час его смерти, быть так далеко от него? Мне говорили: это всё равно случилось бы, рано или поздно. Ещё говорили: он не хотел, чтобы ты видела его смерть, он избавил тебя от этого зрелища. Все же я никогда не могла простить себе, что оставила его одного. Вот уже много лет каждую ночь я просыпаюсь ровно в 4 утра. Иногда я встаю, хожу по дому, потом снова ложусь и засыпаю, иногда просто лежу без сна и думаю о разном, обо всём.
Мы прожили с Гошей одиннадцать лет, восемь из них он болел.
Ему было всего 36, когда он умер.
Тем не менее, это — твой дедушка, и я хочу, чтобы ты о нём знала.
8
Шёл второй день поисков Мирославы, но ничего существенного узнать не удавалось. По–прежнему неясно было, с кем и куда она уехала, почему не звонит и не возвращается. Мифическая блондинка Инна все ещё не появилась на улице Мимоз, хотя там, можно сказать, глаз не смыкали, карауля подозрительную соседку. Сотовый телефон в Москве, по которому Мирослава звонила кому‑то в субботу утром, по–прежнему не отвечал, а поскольку В. В. заявления в милицию так и не подал, то и официального запроса нельзя было сделать. Правда, Лёня по своим каналам попросил московских коллег, таких же, как он, частных сыщиков, «пробить» этот номер, но ответа от них пока не получил. Ни в аэропорту, ни на вокзале билет на её имя не приобретался, значит, все это время она или оставалась где‑то здесь, в черте города, или выехала из него на машине в неизвестном направлении, что проверить не представлялось возможным.
Особенно нагнетали обстановку примчавшиеся на подмогу В. В. сестры Мируси. Так, они припомнили известный случай, бывший пару лет назад в их родном городе К. Тогда похищенного (это был сын одного известного в городе руководителя) пять дней держали в каком‑то гараже, а потом вывезли в кузове грузовика, заложив матрасами, и никто на выезде из города этот грузовик не остановил и груз не проверил. То было, как вскоре выяснилось, дело рук чеченцев, бедный парень провёл у них в плену целых 11 месяцев, потому что родные никак не могли собрать затребованную сумму – 5 миллионов долларов, но половину все же собрали, и только после этого сына вернули, но что все они и, главное, этот мальчик пережили – страшно подумать.
Мало того, что сестры беспрерывно рыдали и рассказывали подобные «страшилки», они ещё терзали В. В. одним и тем же вопросом: когда он заявит, наконец, в милицию, и грозили, что, если он этого не сделает, они пойдут и заявят сами.
— А вы знаете, — терпеливо разъяснял В. В. — почему тот грузовик с матрасами не остановили на выезде из города? Не знаете? Так я вам скажу. Его сопровождала машина ГАИ! С мигалкой! И это при том, что в городе действовал в те дни план «Перехват». Вам все понятно?
Сестры принимались рыдать пуще прежнего, повторяя:
— Что же нам тогда делать?
Зато они подсказали одну умную вещь. Никакой сестры по имени Галя или Валя у них, конечно, нет, но…
— Когда, ты говоришь, Тамара видела их в кафе? В августе? А в августе Аля у вас гостила, Васина жена!
— Точно?
В. В. часто и сам не знал, что делается в доме в его отсутствие, кто тут живёт, отдыхает, гостит и т. д. Между тем, Аля была как раз его родственница, жена родного брата Васи, умершего полгода назад от инфаркта. В последнее время они с братом виделись редко, исключительно по причине вечной занятости Владимира Васильевича, соответственно и жены их мало общались друг с другом. Всё изменилось, когда брат неожиданно для всех, ровно за неделю до своего пятидесятилетия умер. Мируся очень горевала и резко сблизилась с Алей, стала всячески её опекать и поддерживать, даже называла иногда «сестрой», а в начале августа пригласила в дом, чтобы та могла отдохнуть и прийти в себя после всего случившегося.
Да, да, теперь он что‑то такое припоминает, Мируся действительно говорила ему об этом, спрашивала: как ты думаешь, у нас ей будет лучше или хуже? С одной стороны, здесь ничего не напоминает о бедном Васе, а с другой – не слишком ли здесь хорошо, не будет ли это болезненным контрастом для нее… Делай, как сама считаешь нужным, сказал он тогда жене, ты же у меня умница.
Вспомнив всё это, В. В. немедленно позвонил вдовой невестке. Та обрадовалась его звонку, стала говорить, что она уже ничего, приходит понемногу в себя, и что памятник Васе уже делают, спасибо, что похлопотал, вроде красиво получается, только вот портрет не очень похож… В. В. слушал, прикрыв глаза и ожидая, когда она закончит, чтобы вклиниться со своим вопросом. Помнит ли она вот что. В августе они с Мирусей были однажды в кафе на Приморском бульваре, и с ними была ещё одна женщина, Инна… Так вот помнит ли она эту Инну?
— Конечно, помню, — без промедления ответила Аля. – А почему ты спрашиваешь?
Он объяснил, что вот понадобилось срочно найти эту женщину, а никаких её координат нет ни у кого.
— Как ни у кого? А у Миры?
Тут он придумал на ходу, будто самой Миры нет сейчас дома, и нет возможности у неё спросить…
— А где она? – недоверчиво спросила Аля, словно почуяла что‑то.
В отъезде. Далеко. Там нет связи. В общем… дело не в этом, а в том, знает ли Аля, кто такая эта Инна и где её можно найти.
— Конечно, знаю, — так же уверенно отвечала Аля. — Это психотерапевт. Мира специально нас познакомила, чтобы она со мной немного позанималась, ну… ты понимаешь…
— Психотерапевт?! – вскричал В. В. и вслед за ним обе сестры повторили эхом:
— Психотерапевт!
— Я правда, отказывалась, говорю: зачем, не надо, ты сама лучше всякого психотерапевта на меня действуешь, но она настояла, чтобы я к ней походила хотя бы недельку.
— Так, хорошо. Куда ты к ней ходила, где она принимает? В какой‑то больнице?
— Нет, дома.
— Адрес знаешь?
Адреса Аля не знала, потому что Мира сама её туда отвозила и забирала, но это где‑то в центре.
— На улице Мимоз?
Может, и Мимоз. Аля совсем не знала города, но дом, в который привозила её Мира, запомнила хорошо: старый, трёхэтажный, расположенный в глубине двора.
— Может, мне приехать? – Аля была очень расстроена тем, что не помогла.
В. В. подумал, что только Али ему здесь не хватает, чтоб уж полный комплект баб, и выли тут с утра до вечера.
— Я тебе перезвоню, — пообещал он.
Сестры стали сокрушаться, что не знали всего этого раньше, а то захватили бы Алю с собой, когда ехали. И что же теперь делать?
— Ничего страшного, — все ещё терпеливо объяснял В. В. – Если надо, поездом приедет. Другое дело – надо ли ей приезжать? Ну, сколько в городе может быть психотерапевтов? Раз, два - и обчёлся.
Тут же набрал он номер Лёни Захарова и, коротко объяснив задачу, подстегнул:
— Только быстро!
Сведения, доставленные Лёней через час, были неутешительными: в медицинских учреждениях города психотерапевтов значилось всего четверо, один мужчина и три женщины. Инны среди них не было.
— А частно практикующих проверил?
— А как же. Там только стоматологи и массажисты.
— Ой, мамочка, ну, что же нам делать? – запричитали сестры.
— Девушки! – строго сказал В. В. – Вы допроситесь, что я посажу вас в машину и отправлю домой. Вы для чего вообще приехали? На мозги мне капать? Не надо! От вас толку никакого, лучше бы суп сварили, пожрать нечего в доме.
«Девушки» испуганно переглянулись.
— Мы думали, ты не хочешь.
— Ну, да, я святым духом питаюсь. И Захар, который целый день мотается, тоже. Ну‑ка, марш к плите!
Недовольно переглядываясь, сестры поплелись на кухню.
— Что делать… что делать… – повторил Лёня. – Ждать, пока эта чёртова Инна появится на улице Мимоз. Если это вообще она.
— А наверняка знает её, кроме Руси, только Аля, — высунувшись из полукруглого окна, соединявшего кухню с гостиной, вставила Мила. – Может, пусть она все‑таки приедет?
В. В., хоть и с неохотой, должен был с ней согласиться.
…Поезд уже прошёл цепочку горных тоннелей и теперь повернул к морю. Аля знала эту дорогу наизусть, много раз проезжала по ней с Васей, и какой же весёлой бывала с ним дорога! Сидя напротив друг друга в купе спального вагона они то болтали, то принимались разгадывать вслух кроссворды, купленные на вокзале, то пили чай с печеньем, поглядывая в окно на пустые ранним утром пляжи. Как хорошо, как уютно было ехать, зная, что там, впереди ждут несколько дней прекрасного нечегонеделанья, когда можно спать до обеда, обедать почти под вечер и гулять до половины ночи. Неужели все это было? Неужели ничего этого уже не будет никогда? Как тоскливо и даже страшно ехать в том же ночном поезде одной, прислушиваясь к стукам и голосам из коридора, из соседнего купе, из тамбура. Она не смогла уснуть всю ночь, просто лежала с закрытыми глазами, переваривая в тысячный раз все одно и то же, одно и то же…
Чуть посветлело, села и, отодвинув занавеску, стала смотреть в окно. Холодный блеск моря не успокоил, а наоборот растревожил её. Что‑то все‑таки случилось у них, думала Аля, и скорее всего – с Мирой. Как‑то странно это прозвучало: «уехала, далеко, нет связи…», что‑то тут не так. Может, она заболела? Ведь не зря же врача ищут. Но почему психотерапевта? И неужели все так плохо, что сама она даже адрес назвать не может? Ах, Мира, Мирочка, сестра моя по несчастью…
…Плачь, Аля, плачь. Когда плачешь, легче. Ничего другого нам не остаётся, как плакать и вспоминать, вспоминать и плакать. Никто уже не поможет, нечем помочь. Слова сочувствия, венки, цветы, деньги, что собрали друзья, — никто, ничто не поможет. Но если бы и этого не было, было бы совсем худо, будто такой никчёмный человек умер, что никому и дела нет до его смерти. А тут, видела, сколько людей пришло, сколько нанесли цветов и венков, как все смотрели на тебя и на него, на него и на тебя… Чужие похороны – это всегда любопытно: каков покойник в гробу – лежит, как живой, или, наоборот, сильно изменился, не узнать; а что вдова – заплаканная или не очень, и плачет ли у гроба, или сидит, как каменная. А вот эта старушка, это что же, мать покойного? Надо же. Хуже нет – хоронить своих детей, не дай Бог никому. А где же брат, брат у него большой начальник, потому и людей столько поприходило, это живому хотят засвидетельствовать, а не тому, что в гробу, тому уже всё равно. Или не всё равно? Витает его душа над всем этим действом, или неправда всё это? Витает, витает, все видит, кто пришёл, кто не пришёл. Бедный Вася! А дети, дети же у него были от прежних браков, где они? Ах, вот эти… Девочка похожа, а мальчик как‑то не очень… А тогда и жены где‑то здесь, где, где? Вот эта–а? У, ну, эту сразу видно, что стерва. Это первая или вторая? А первая здесь? Полная такая, в коричневом? Сколько же ей лет? Нет, самая лучшая, конечно, та, что у гроба сидит.
Не смотри, Аля, на них, не обращай внимания, нет, они не подойдут, им сказали, что не надо. Не думай о них, перед Богом ты одна настоящая жена, с тобой одной он венчался. Ой, дайте скорее нашатыря!
…Одно из типичных заблуждений: будто не надо говорить со вдовой о её умершем муже, будто бы ей это больно и тяжело. Совсем это не так. Она только и хочет, что говорить о нём, говорить с кем угодно, только бы о нём – рассказывать, припоминать и повторять, повторять одно и то же – как это случилось, что он умер, где был он, а где она, и как это началось, и что врачи, успели – не успели, и как она поняла и закричала, и побежала… Слушайте вдов, будьте к ним милосердны, пусть говорят и выговорятся до конца, но конец нескоро, и через год, и через десять лет – стоит только заговорить, напомнить – и все сначала: где был он, где была она, как началось, как она закричала, догадавшись, как побежала, сама не зная, куда…
А ещё сны. Вдовам ведь снятся их ушедшие мужья. Кому сразу, кому – потом, а кому – время от времени, даже бывает, в какие‑то определённые дни, но – всю оставшуюся жизнь. А знаешь, Аля, что надо делать, если он приснится? Первым делом помянуть. Лучше всего, конечно, на могилку съездить, оставить там что‑нибудь – пирожочек или хоть печеньице, людям там раздать мелочь, если кто подойдёт, там всегда подходят, они же знают, кто свежепохороненный, ждут, что придут родные поминать и им дадут. Всегда давай, хоть мелочь, но дай, а то, если прогонишь, могут что‑нибудь на могилке сделать, цветы заберут или венки раскидают. Во–вторых, если приснился, надо обязательно дома помянуть с кем‑нибудь из родных или с друзьями, соседям тоже пирожочков отнести, сказать: помяните Васю моего. Это обязательно. Когда снится, это он просит, чтобы его помянули.
Мне мой Юрик первое время часто снился. Я эти сны до сих пор помню, хотя уже сколько прошло… да, 17 лет. Был такой сон, будто прихожу я к нему на кладбище, а он там сидит возле своей могилки и меня ждёт. Я подсела к нему и чувствую, что он холодный–холодный, и такой запах от него – нет, не трупный, а сырой земли, глубокой сырой земли, понимаешь? И я ему говорю: бедный мой, как ты там замёрз, давай я тебя согрею, и хочу его обнять, а он говорит: не надо, просто посидим рядом, и ты иди, а я останусь. И так мне его жалко во сне было, проснулась и плачу, почему я здесь, в тёплой постели, а он – там, в холодной сырой земле?
Сравнивать, конечно, ничего нельзя, у каждого человека своё горе самое большое, но все же. Твой неожиданно умер, не болел, ничего, что называется – скоропостижно, раз – и все. А мой же сколько лет проболел, сколько мы с ним по этим клиникам проездили, пока диагноз ему поставили, потом операция какая тяжёлая, как он только её выдержал, потом эти пять лет после операции, это уже не жизнь была, а так, существование… То есть я хочу сказать, что и я, и родители его, мы были готовы к тому, что рано или поздно… А всё равно, как это было страшно. Но я, честно говоря, даже не знаю, что страшнее – так или так? Вы хотя бы с ним пожили спокойно, не висело над вами, что вот умрёт, вот умрёт. А он взял и умер, на ровном месте, тоже не приведи Господь. И сколько их, молодых мужиков вот так мрёт, просто ужас. А почему? Не знаю. Что‑то тут не так, неправильно.
…Алюня, а ты знаешь, что на 9 дней надо готовить? Я тебе скажу. Значит, обязательно надо первое – борщ или лапшу домашнюю с курицей, на второе – котлеты или мясо тушёное с пюре, потом обязательно надо компот сладкий, обычно из сухофруктов варят, и сладкие пирожки. Закуски – да, можно, но такие, знаешь, скромные – селёдочку можно, колбаски нарезать, салатик какой‑нибудь самый простой, это ж поминки, не праздник. Пить – водку, а кто не пьёт, — вина красного поставить немного, но в основном поминают водкой. И самое главное не забыть – кутью сварить. Рис с изюмом. Это в первую очередь. И начинают с неё, съедают все по ложке кутьи, а потом уже все остальное. И только ложки кладут, ни ножей, ни вилок нельзя. Ну, нельзя. Не положено. И на поминках не сидят, не рассиживаются. Поели, встали, другие люди сели. И ещё обязательно надо ему поставить рюмочку, налить водки тоже и накрыть пирожочком, или хлебушком, но я всегда пирожок клала, потому что Юрик мой очень любил, когда я пекла пирожки.
На поминки, конечно, приходит меньше людей. На 9 дней меньше, чем было на похоронах, на 40 дней меньше, чем было на девятинах. На полгода, год остаются только свои, самые близкие, но это и хорошо. Невозможно требовать от посторонних людей, чтобы они всю жизнь помнили, никому это не надо – ни им, ни нам, у каждого свои покойники есть. При случае если вспомнят и помянут хоть словом, скажут: «Покойный Василь Васильич, царство ему небесное…» — уже хорошо, спасибо. А ходить на кладбище, да помнить все его даты – это только твоё и ещё нескольких человек из семьи. Все нормально, так и должно быть.
Вообще, вдова – это такое слово… Его никто не любит. Самой вдове очень тяжело думать о себе, что она вдова. А тем, кто рядом с ней, только в самое первое время после случившегося, в те самые 40 дней, много – год, хватает участия и сочувствия, чтобы звонить, а тем более навещать вдову и выслушивать все одно и то же от неё и самому повторять все те же слова: как жаль, как безвременно, как до сих пор не верится и что надо крепиться, надо жить дальше, у тебя сын и т. п. – стандартные, в сущности слова, а где взять другие, правда? И постепенно (очень скоро на самом деле) люди начинают сторониться вдовы и справляются у общих знакомых: ну, как там она, пока одна? А те и сами не в курсе, когда ж они её в последний раз видели? Ах, ну да, на годовщине. Надо же, год прошёл, а вроде только вчера… В принципе, всех бы очень устроило, если бы вдова была уже не одна, то есть была бы к кому‑то пристороена, и тогда можно было бы больше о ней не вспоминать и не чувствовать хотя бы и самого лёгкого, но все‑таки укора совести. А окажись вдова снова замужем (пусть не сразу, а года так через три–четыре), все дружно осудят и все подходящие к случаю выражения вспомнят: вот, мол, не успела и земля остыть, не сносила и пары башмаков, жена найдёт себе другого, а мать сыночка никогда…
Хотя… Видела я таких матерей, которые переживали смерть взрослого сына как‑то чересчур уж спокойно, трудно даже объяснить, почему. Помнишь Олесю, сестру мою двоюродную из Полтавы? Вот когда её Витю в позапрошлом году бандиты убили, мать его приехала на похороны из Белгорода–Днестровского и в первый момент, как вошла в квартиру (где Вити и не было, он был ещё в морге), несколько минут, может, пять–семь буквально, покричала как‑то ненатурально, без слез и без слов, что‑то такое: «Ой–ё–ёй…», потом резко замолчала, села и стала оглядывать квартиру. А она за пятнадцать лет у них ни разу не была и даже внука своего, который ходил в шесть утра встречать её с поезда, не узнала, а он‑то – вылитый Витя. И так она, молча, поджав губы, все похороны и просидела. Что там у неё на уме было – один Бог знает. Может, у этих матерей, которые давно уже не живут со своими взрослыми сыновьями, материнское чувство притупляется? Ну, не видела она его 15 лет, ну, не увидит больше никогда, что от этого меняется для неё? Может, он живёт у неё в памяти маленьким мальчиком, и это уже навсегда с ней, а взрослого – что так не было, что совсем не будет? Не знаю, не знаю…
Хуже всех все‑таки вдове. У неё вся жизнь в одну минуту обрывается. И как ей жить дальше – одному Богу известно. В обществе ведь так устроено, что в почёте только вдовы–старухи, вдовы ветеранов той ещё войны, это у нас святое. А молодые вдовы современных войн – они уже обременительны для общества, для государства, лучше про них не знать и не думать. Что ж говорить о вдовах не военных, гражданских, вдовах тех, кто не погиб трагически, а умер своей смертью, хотя и безвременно, в молодые годы? Это дело совсем личное, сама и управляйся со своим горем.
…Плохо, Аля, быть вдовой, и если ты остаёшься ею сколько‑нибудь долго, ты почувствуешь на себе уже не сочувственные, а скорее высокомерные взгляды женщин и недвусмысленные – мужчин. Ты – вне общего расклада, ты – не такая, как все, от тебя лучше держаться подальше. Приглашать тебя в гости, в семью? Но ведь она же одна, — скажет хозяйка дома, ей, наверное, это тяжело – видеть полноценную семью, она нам весь вечер испортит своим настроением. А про себя подумает: ещё, не дай Бог, глаз положит на моего Вову. Так, постепенно ты останешься совсем одна.
Послушай меня, Алечка. Я понимаю, что сейчас ещё рано говорить об этом. Но ты знай, что вдовство – это не пожизненный приговор. Не надо ничего делать специально, но если вдруг, когда‑нибудь, нет, я говорю, когда‑нибудь, может, несколько лет пройдёт, ты встретишь хорошего человека, нет, ну, если… ты не должна отказывать себе в ещё одной попытке счастья. Это так просто. Жизнь ведь всего одна. Разве мы выходим замуж для того, чтобы хоронить своих мужей и потом куковать весь остаток жизни? Это же несправедливо. Мне мой Юрик, а он ведь понимал, что ему немного осталось, говорил: когда это случится, ты не живи одна, выходи замуж, я не хочу, чтобы ты из‑за меня страдала, я тебе и так всю жизнь испортил. Я кричу: ничего ты мне не испортил, я тебя люблю, прекрати! А он: я знаю, что говорю, это всё равно случится, но я хочу, чтобы ты не терзала себя, а выходила замуж со спокойной совестью, зная, что я не был против этого. Он меня тогда до слез довёл, как я плакала, как мне было его жалко, что ему приходится такое мне говорить! И как потом, на похоронах, я плакала, когда его дядька двоюродный, дядя Коля из Майкопа, сказал при всех: ну, ты ещё молодая, красивая, ты замуж выйдешь! Я плачу, головой мотаю: нет, нет, никогда, ни за что!
А вышла же. Через пять лет, но вышла. И мама моя тогда сказала: все‑таки Бог есть, он видит, сколько ты намучалась с Юриком за десять лет, вот он тебе и послал хорошего человека. Но это же не значит, что я его забыла или перестала любить. Я и сейчас, стоит мне только слово какое о нём произнести, как все снова поднимается внутри – и любовь, и жалость, и ещё какое‑то чувство, которое и назвать‑то не знаю, как, может, просто боль. Но – это отдельно, а тепершняя моя жизнь – отдельно, и одно другого не заменяет и не отменяет, просто я живу две разных жизни, так мне Бог дал.
…Знаешь, Аля, а вдов‑то много, не одни мы с тобой. Смотри, только в нашей родне ты уже третья, нет, четвёртая. Юры двоюродный брат, Саша, умер от рака, не дожив до 50, Люда осталась. И Олеся, моя сестра полтавская, у которой мужа бандиты убили. А в редакции у нас: сначала Оля, муж на машине разбился, потом Люда, у неё лётчик был, погиб в авиакатастрофе, потом ещё Таня – тоже муж на машине разбился, да ещё и с ребёнком вместе. Потом узнаю, что любимая подруга моего детства Люба Даниленко тоже уже вдова, мужа убили вроде бы в коммерческих разборках. А другая Оля, у которой муж вообще нелепо погиб, полез купаться в шторм и утонул, причём в первый же день их отпуска. А Люда другая, у которой Сашу бандиты на дороге остановили, машину забрали, а ему – пулю в затылок. Эти две – не мои подруги, а жены Володиных друзей, но я их обеих, каждую в своё время, утешала, как могла, делилась тоже опытом вдовства, ведь когда это случается внезапно, как у них, не знаешь, куда бежать, с чего начинать, что и как делать, а главное – как жить дальше. Ведь в первые минуты и часы, и дни кажется, что жить дальше, без него, просто невозможно и не нужно.
А ты знаешь, что в древних культурах, и не только восточных, жену клали в могилу рядом с умершим мужем, поскольку жизнь её со смертью мужа считалась тоже законченной, как бы теряла смысл. Был такой историк украинский – Грушевский, так он пишет, что «жинка забивала себе по смерти чоловика» и что «жинки се чинили добровильно», в подтверждение своей любви. Что ж, я верю, верю. В самый первый момент это очень даже может быть. Я хорошо помню, что самое первое моё чувство, когда я проснулась наутро после похорон, было то, что я хочу к нему, туда.
Но вслед за этим, знаешь, что со мной случилось в то утро? Я никому этого не рассказывала, а тебе расскажу. Я, конечно, с четырёх часов уже совсем не спала, ворочалась, плакала, вставала, ходила, пила воду и опять плакала. И рассвет встретила, стоя у окна, выходящего на восток, он только–только там, далеко на востоке поднимался. И с высоты моего девятого этажа небо виделось огромным, чуть светлым, с нежной такой, розовой полоской на горизонте. И в этот час рассвета в квартире и там, за окном, стояла такая тишина… И меня охватило вдруг странное спокойствие, сродни равнодушию, и вот среди этого покоя пришла, словно опустилась откуда‑то сверху не моя, а как бы чужая мысль, даже и не мысль, а фраза, просто фраза, слишком конкретная и оттого слишком неуместная:
«В сорок лет ты выйдешь замуж за военного, и у тебя будет дочь».
Представляешь? Мне стало ужасно стыдно от этой мысли, неизвестно откуда на меня снизошедшей, но почему‑то я поняла, что это – правда, так и будет. Может, в самые роковые минуты жизни Бог даёт человеку право чуть приоткрыть завесу над своим будущим?
…Поезд подходил к мокрому от дождя перрону, Аля уже стояла в тамбуре, выглядывала: встречает её кто‑нибудь или нет? А, вон, кажется, кто‑то из девчонок, Лана или Мила, отсюда не разберёшь. Первой из пассажиров, налегке, с маленькой сумкой через плечо, шагнула она из вагона и пошла навстречу. Лана. Они коротко обнялись, чмокнули друг друга в щеку.
— Что с Мирой?
— Поехали, по дороге все расскажу.
Было только 6 утра. Дома попили чаю, дождались, пока проснутся остальные. Решено было, не теряя времени, везти Алю на улицу Мимоз.
Но когда они с Лёней Захаровым подъехали к дому №18, Аля стала озираться, приглядываться и мотать головой:
— Нет, вы знаете, это не здесь. Тот дом стоял в глубине двора, до него ещё идти надо было, а этот прямо на улице.
Они ещё поколесили по старому центру, но дом как сквозь землю провалился.
— А давайте я пешком здесь похожу, по дворам, и если найду, сразу вам позвоню.
У Лёни были и другие дела, в частности, надо было проверить только что переданное местным авторадио сообщение (он услышал его в машине) о столкнувшейся с КамАЗом «Хонде», следовавшей в сторону Долины Нарзанов. Он согласился оставить Алю ненадолго одну в городе.
— Только вы смотрите, не потеряйтесь, а то ещё вас потом искать!
Не прошло и часа, как она позвонила ему на мобильный и прокричала: «Я нашла!». Лёня, успевший за это время убедиться, что в Долине Нарзанов разбилась не та «Хонда», помчался по названному Алей адресу. Она ждала его на углу улиц Кипарисовой и Красноармейской и, схватив за руку, потащила через два двора к стоящему в глубине второго из них дому.
— Вот здесь!
Они вошли в подъезд, поднялись на третий этаж и остановились перед дверью, показавшейся Лёне подозрительно знакомой. Не успел он нажать кнопку звонка, как из соседней двери выглянула не менее знакомая физиономия бдительной пенсионерки.
— Товарищ милиционер!
— Стоп! – сказал Лёня. –Ничего не понимаю. Это же тот самый дом и есть. У вас ведь адрес «улица Мимоз, 18»? А мы откуда зашли? С Красноармейской, что ли?
— Это вы со двора, с чёрного хода зашли, а парадный подъезд у нас с улицы Мимоз, — объяснила соседка.
Инна пока не появлялась, но Лёня уже не сомневался, что стоит ей появиться, он тотчас об этом узнает. Главное же, он был теперь уверен, что это именно та Инна, которая им нужна, и они не зря её караулят. Если верить соседке, «присутственный день» у неё по средам. Завтра – среда. Завтра – решающий день.
9
Последним прилетел из‑за границы сын Ваня. Взрослый, женатый уже парень, он был растерян и напуган, как ребёнок, верхняя губа у него дрожала и покрывалась испариной. Отец обнял его крепко и так стоял минуту–две, а когда отстранился, все увидели, что глаза у него мокрые от слез.
— Как это могло случиться? Кто был дома? – допытывался Ваня. – А ты где был? Почему она одна поехала? А Костя куда смотрел? Сейчас я с ним сам поговорю, где он? В милицию заявили? Почему нет?
Крутившиеся тут же сестры – Мила и Лана, а также примкнувшая к ним вдова Аля махали руками на Ваню: мол, не наседай ты на отца, видишь, он и так переживает.
Ваня пошёл во двор, разбираться с прислугой, и можно было видеть через стеклянную дверь, ведущую на галерею, как он трясёт за грудки перепуганного Костю и одновременно огрызается на Аннушку, которая бегает вокруг них и, видимо, пытается что‑то объяснить.
— Пусть, пусть потрясёт, — сказала довольная этой сценой Лана, — может, хоть ему правду скажут, а то Володя слишком с ними деликатничает.
И действительно, Ване быстро удалось выяснить то, что пытался, но так и не смог узнать В. В. Оказалось, что оба, Костя и Аннушка, подрабатывают ещё в одном месте: он – вахтёром в соседнем санатории, через две ночи на третью, она – убирает по утрам, до открытия, в угловом мини–маркете. Обычно Аннушка уходит только после того, как Костя возвращается с ночного дежурства, но в то утро она не стала его дожидаться и побежала в магазин пораньше, ещё шести не было, чтобы управиться там побыстрее. Хозяйка, однако, «управилась» со своими делами ещё быстрее и, видимо, успела покинуть дом именно в те полчаса, когда обоих не было на месте.
— Но я не думаю, что она нарочно это сделала, — рассудил Ваня, вернувшись в дом и рассказав о результатах допроса с пристрастием. – Она ж не знала, что их нет, думала, ещё спят. Но если бы она хотела кого‑то предупредить, она бы позвонила с дороги, а она не только им, но и никому из вас (он обвёл взглядом родственников) не позвонила. Я не понимаю: она просто не захотела или не смогла? Если не захотела, значит, с ней все в порядке, просто куда‑то ей понадобилось съездить так, чтоб никто не знал. А если не смогла, тогда это… я даже не знаю, тогда надо срочно что‑то делать… – он смотрел на отца и, кажется, только к нему одному обращался теперь с упрёком и надеждой, не договаривая, но всем своим видом показывая: не сиди, делай что‑нибудь, ты же можешь!
— Ищем, сынок, ищем! – оправдывался В. В., чувствуя себя виноватым перед сыном: не уберёг мать.
Ваня уже несколько лет жил за границей, в жаркой арабской стране, работал там в совместной компании, занимавшейся производством магнитных аппаратов и, в частности, их использованием для орошения пустыни. Никакого отношения ни к магнитам, ни к орошению он не имел, образование получил (по настоянию матери) гуманитарное, которое, к моменту, когда он закончил университет в К., никому уже не было нужно, и теперь просто зарабатывал деньги, числясь менеджером компании, обеспечивая ей рекламу и подыскивая заказчиков, заодно совершенствовал свой английский и привыкал жить самостоятельно. Летом столбик термометра добегал до 60 градусов, местные арабы уезжали на это время в Европу; русские, которых тоже хватало, старались самые знойные месяцы провести на родине; оставались и пеклись на беспощадном солнце одни только бесправные индусы, которых было там, как муравьёв, — на всех стройках, на всех дорожных и прочих грязных работах. Несмотря на жару, Ване в этой стране нравилось. Он даже начал осваивать понемногу арабский язык и уже мог объясняться с партнёрами компании на бытовые темы: «Мархаба! Киф халек?». Самое главное, он уже заработал на мицубиси–голант, на которой и гонял со скоростью 170 км по ровным, как стол, и широким, как пустыня, автобанам. В городе, где он жил и работал, была целая колония русской молодёжи – ребята и девушки, занятые кто в турфирмах, кто на авиаперевозках, а некоторые имели здесь частный бизнес, перегоняли в Россию престижные иномарки. С этими ребятами Ваня проводил все свободное время, ездил по пятницам, когда в стране мусульманский выходной, купаться на океан и развлекался в ночных клубах.
Мать одновременно радовалась и тревожилась за сына. Радовалась тому, что мальчик, как ей представлялось, находится в полной безопасности: страна по–восточному пуританская, сухой закон, практически нет преступности и наркомании, тогда как дома, в России… Но и тревожилась, особенно первые годы после его отъезда: что он ест, кто ему стирает, гладит и убирает (фирма снимала Ване двухкомнатную квартиру). Пока он жил дома, все это делали мама или, в её отсутствие, бабушка.
— Вот и пусть привыкает сам за собой ухаживать, — говорил на эти охи и вздохи отец. – Меня в суворовское вообще в 11 лет отдали, и ничего, выжил.
— То ты, а то – ребёнок! – возражала мать.
— Какой он ребёнок! Выше меня вымахал!
На самом деле, сынок устроился так: ел в фаст–фудах (отчего вскоре стал побаливать желудок), белье возил в прачечную, пылесосили девушки–подружки из русской колонии. Праздник наступал, когда мама передавала челночным авиарейсом посылку с продуктами, там были непременные пирожки (ещё тёплые, лёту было всего три с половиной часа), салат оливье в литровой банке, разделанная уже селёдочка с луком, пакет гречки, чёрный бородинский хлеб… Сын называл это «русская еда».
Однажды она даже пельмени прислала, лепила их полдня, призвав на помощь подругу Тамару, пока отец ездил по городу в поисках сумки–холодильника. К пельменям были, на всякий случай, положены в отдельный пакет три луковицы, несколько лавровых листочков, чёрный перец и соль.
— Ну что там соли нет, что ли? – возмутился В. В.
— У него может и не быть. Станет варить, а соли нет, что получится?
Она и письмецо приложила с подробным описанием того, в каком порядке следует приготовить пельмени: закипятить сначала воду, бросить лук, соль, лаврушку, и только потом… Мало того, она всё то же самое повторила ему по телефону, когда посылка была уже на месте и даже вскрыта.
— Мам, да все нормально, девчонки уже варят.
Съедалась «русская еда», как в пионерском лагере, всем отрядом.
Летом сын приезжал домой, коротко стриженный, загорелый, в белых джинсах и тончайших белых рубахах навыпуск, в кожаных сандалиях, состоящих из двух ремешков, на босу ногу. Иностранец. Мать ахала и любовалась: красавец, и совсем уже мужчина. Опасались, что женится там, не приведи Господи, на арабке.
— Вы что, родители! У них с этим строго, жениться только своим разрешается.
Видела она этих арабок, когда гостила у Вани. Укутаны с головы до ног в чёрное покрывало, одни глаза блестят, у некоторых и глаза спрятаны под тёмными очками. Возмущалась: смотри‑ка, у них мужчины в белых балахонах ходят, чтоб не так жарко, а женщины – в чёрных парятся. Особенно поразило её то, что некоторые арабки постарше носили на лицах железные маски с прорезями для глаз и рта. Вернувшись, она рассказывала про это всем своим знакомым женщинам, повторяя: «А мы ещё чего‑то ропщем!».
Все опасения насчёт Вани снялись, когда он объявил, что в Москве есть девочка Лиза, с которой он случайно познакомился весной на выставке новейших технологий, она подрабатывала там, рекламируя как раз магнитные аппараты. Ваня сначала прошёл мимо, но успел зацепиться глазом, обернулся, глянул повнимательнее, вернулся назад и подошёл к стенду, у которого она стояла. Девушка была красивая, высокая и стройная, прямо фотомодель, но при этом по–русски милая и видно, что скромная, домашняя. Они поболтали, обменялись телефонами, после чего он улетел к своим арабам, но, как потом выяснилось, названивал ей каждый день и вообще проявил чудеса ухаживания на расстоянии. Например, сидит Лиза дома, в Москве, готовится к экзамену по экономике (она была тогда всего лишь на втором курсе), вдруг раздаётся звонок в дверь, за порогом стоит незнакомый человек с огромным букетом цветов.
— Это вам!
Только успел вручить, как другой звонок, телефонный, в трубке – голос Вани:
— Это от меня!
Отработано синхронно до минуты.
Летом они поженились.
Свадьбу решено было делать в С., и все хлопоты легли, естественно, на мать. В радостном возбуждении она рисовала домашнюю стенгазету с поздравлениями, составляла списки приглашённых: отдельно тех, кто поедет в загс (в основном молодёжь), и тех, кто поедет в церковь, на венчание (родственники и близкие друзья), наконец, самый большой список – на банкет. Пригласительные билеты, кувертные карты, украшение зала (цветы, шары, гирлянды), музыкальное сопровождение, артисты, ведущий, сценарий свадебного вечера – всё было на ней. Она даже дом и двор на Инжирной, откуда уезжали регистрироваться и венчаться молодые, украсила цветами и шарами, сюда же, во двор, были выставлены столы с шампанским и фруктами. Из раскрытого окна гремела на всю улицу музыка. Мать, хоть и устала от хлопот и волнений, пребывала в радостном, приподнятом настроении, глаза её то и дело увлажнялись слезами умиления, в общем, это были, как она сама потом говорила, счастливые дни её жизни.
Свадьба удалась на славу, молодые тут же укатили в Италию — Грецию, а Мируся без передыха продолжала принимать в доме гостей. Сначала сестра с племянником, потом подруга с мужем из Москвы, потом бабушка Зоя Ивановна с другой бабушкой, сестрой покойного дедушки, а там уже и дети вернулись из свадебного путешествия. В сентябре В. В. увёз Мирусю отдыхать в Чехию, но она и там толком не отдыхала, а сидела часами за столиком–бюро в их номере и стучала по клавишам ноутбука, что‑то то ли дописывая, то ли переписывая заново.
Вернувшись, снова погрузилась в обычную домашнюю суету, осложнявшуюся отсутствием Аннушки и Кости, отпущенных на две недели домой, в Черновцы. Теперь Мируся сама вставала пораньше, поливала из шланга двор и цветы, мыла галерею, кухню и прихожую, и к моменту пробуждения остального семейства везде было чисто, и стоял на столе завтрак. Молодожёны разъезжались теперь в разные стороны: Ваня – к своим арабам, где ему оставалось отработать по контракту ещё год, Лиза – в Москву, к родителям, продолжать учёбу на третьем курсе. У В. В. тоже подходил к концу отпуск и предстояло возвращение в столицу, теперь уже надолго, до зимних праздников. Мируся говорила, что вот проводит всех, дождётся Аннушку и тоже поедет, только не в Москву, а сначала в К., где обещала покрестить ребёнка у племянницы и подыскать квартиру для двоюродной сестры, надумавшей переезжать из Полтавы поближе к своим.
Хлопотное выдалось то лето. Впрочем, как и все предыдущие и последующие.
Впервые в жизни Ваня испугался за мать. Он никогда ещё не задумывался о том, что её может не быть, может однажды не стать. До сих пор, во всём, что происходило в его жизни, мать участвовала самым непосредственным образом, и хотя он был уже достаточно взрослым и самостоятельным человеком, без совета с ней и с отцом, ни одного серьёзного шага никогда не предпринимал. При этом с отцом у него были более суровые, мужские отношения, с мамой можно было расслабиться, стать на минутку маленьким мальчиком, пожаловаться и поныть, зная, что она пожалеет, погладит по головке и поцелует, как в детстве; маму можно было о чём угодно попросить и быть уверенным, что она всё сделает так, как он просит. Конечно, она доставала его своими почти ежедневными звонками. Как ты там? А что ты кушаешь? У тебя что, насморк? Сама признавалась, что, когда дело касается Вани, она становится полной идиоткой и начинает задавать самые идиотские вопросы. Но Ваня обычно пропускал их мимо ушей, отвечал односложно:
— Все нормально, мам.
Тем не менее, представить себе жизнь без матери, её звонков и её идиотских вопросов он не мог бы. Как и поверить в то, что с ней когда‑то что‑то может случиться. Он настолько уверен был в стабильности их жизни с отцом, в его возможностях решить любую возникающую проблему, что ему и в голову не приходило за них волноваться.
Как раз в сентябре заканчивался срок его работы за границей, в Москве его ждала беременная жена, они уже строили планы, где лучше рожать и где потом жить всем вместе – там же, в Москве, или, к чему больше склонялся сам Ваня, здесь, в С. Он как раз собирался поговорить об этом с родителями, больше надеясь на мать, что она, если даже отец будет против, уговорит его, и им разрешат обосноваться в доме на Инжирной. Кроме того, он рассчитывал, что именно его мама поможет им на первых порах с ребёнком, она ведь всё равно не работает, тогда как мама Лизы – совсем ещё молодая женщина и работу не бросит. И вот – на тебе: мама, самый родной, самый необходимый ему сейчас человек, куда- то пропала. Она, которая всю жизнь дрожала за Ваню, чтобы с ним ничего не случилось, сама оказалась настолько неосторожна, что…
Между тем, рассказано было про ночную поездку Мируси на студию телевидения и домой к подруге Тамаре.
— Телефон знаете?
Ваня набрал номер студии:
— Здрасьте, теть Том, это Ваня. Да, прилетел, сегодня. Теть Том, а мама мне ничего не передавала? А, понял, сейчас я к вам подъеду.
Взрослые – отец, тётки, Аля – вытаращили глаза от удивления.
— Что она тебе сказала?
— Пока ничего, просила приехать.
— Так езжай немедленно!
Он вернулся минут через сорок и выложил на стол несколько стодолларовых бумажек.
— Это ещё что такое?
— Это тётя Тома вернула, говорит, что мама, когда была у неё, дала ей эти деньги на какую‑то косметическую операцию, я не стал вникать. Говорит, что чувствует себя очень виноватой и что пока мама не вернётся, она не хочет, чтобы эти деньги были у неё, мол, они вам сейчас могут больше пригодиться.
— Свят, свят, свят! – перекрестилась вдова Аля, подумавшая Бог знает о чём.
В. В., напротив, плюнул в сердцах и беззвучно выругался.
Была уже среда, третий день поисков, все ждали известий с улицы Мимоз, от Лёни Захарова, лично караулившего там психотерапевта Инну и обещавшего вытрясти из неё душу.
Услыхав про психотерапевта, сын спросил осторожно:
— А мама что, лечилась?
— Да нет вроде, хотя теперь мы и сами не знаем… – оправдывались тётки.
Ваня походил кругами по комнате, остановился против отца.
— Пап, а ты помнишь, что она нам тогда устроила, после свадьбы?
— А что она устроила? – пожал плечами отец. – По–моему, ничего особенного.
…В тот день он проснулся от того, что услышал в доме пение. Тихое, далёкое, где‑то внизу. Все в доме ещё спали, стоял такой утренний полумрак. Он зажёг лампу, глянул на часы, было начало седьмого. Пела женщина, он даже не сразу понял, что это Мируся. Сначала удивился, потом обрадовался – раз поёт, значит, у неё сегодня хорошее настроение, потом снова заснул, а когда окончательно проснулся и встал, с ещё большим удивлением понял, что она все ещё поёт. Ходит по дому и поёт. Он спустился в столовую, поцеловал её, она улыбнулась отстранённо и продолжала петь. Он попытался с ней заговорить, полагая, что она начнёт отвечать и перестанет петь. Не то, чтобы пение его раздражало, но как‑то нарушало привычный уклад жизни – он, например, любит утром послушать новости по телевизору и почитать одновременно книжку. Она подала ему завтрак, так же, напевая – негромко, но задушевно, вроде как для самой себя. Он позавтракал молча и уехал по делам. И где‑то уже в середине дня позвонил сыну и спросил: как там мать? Сын ответил: поёт.
— Как, до сих пор?
— А когда она начала?
— Семи ещё не было.
— Странно, — сказал Ваня.
Теперь она пела в саду. Сидела с распущенными волосами, в какой‑то хламиде, которую сто лет не надевала, на раскладном стульчике, под яблоней, в дальнем углу сада, перед ней было какое‑то подобие мольберта, то есть на другой раскладной стул был поставлен и прислонён к спинке лист картона, на котором она, видимо, что‑то рисовала. Сидела она лицом к морю (дом стоял на склоне, так что море было видно с верхней части двора), водила кисточкой (где только она её взяла?) по картону, на котором уже вырисовывался некий пейзаж, и при этом ещё и пела. «Утро туманное…» она пела. Муж и сын переглянулись, не зная, смеяться им или тревожиться. Что это она? Прикалывается или с ума сошла? Не сговариваясь, решили сделать вид, что ничего не произошло, и их ничто не удивляет.
— Мам, ты что тут делаешь, рисуешь, что ли? – спросил Ваня.
— «Вспомнишь разлуку с улыбкою странною, многое вспомнишь родное, далекое…» — продолжала она напевать, словно бы никого не замечая.
— А мы сегодня обедать будем? – спросил серьёзно В. В.
— «Слушая голос колёс непрестанный, глядя задумчиво в небо широкое…», — пропела Мируся и лишь мельком, но выразительно взглянула на юную невестку. Та упустила глаза и сказала мужчинам:
— Ну, что вы не видите, мама отдыхает, пошли, сами чайку попьём. А вам, может, сюда принести? – обратилась она к свекрови непривычно ласково.
Та мотнула головой и продолжала, напевая, водить кистью по картону.
Удивлённые, все пошли в дом и там в полном молчании выпили чаю с бутербродами и разбрелись по дому, каждый заниматься своими делами.
Она пела, не переставая, весь день. После романсов пошли русские народные – «Окрасился месяц багрянцем…», потом старые советские – «Снова замерло все до рассвета…», ближе к обеду невестка, побывав в саду, сообщила, что мама поёт «Милая моя, солнышко лесное…».
— Так, пошли барды, может, скоро выдохнется? – предположил сын.
— Она? Да она может сутки петь, не останавливаясь.
Голос у неё был небольшой, домашний, но она знала очень много песен и главное – все слова, любила петь в компании, за столом. В последние годы это бывало редко, чаще всего до пения вообще не доходило, а если доходило, то В. В. её одёргивал: хватит, поедем домой. А ей хотелось ещё. Он говорил: «Ну, тебя не остановишь!».
— Кончится тем, что она охрипнет, — мрачно сказал В. В. и решил сделать ещё один заход в сад.
Пейзаж уже проявился на картоне – далеко в море белел парусник, а по берегу брели, взявшись за руки, стройная молодая девушка в развевающейся хламиде и молодой человек, пока как следует не прорисованный.
«Но не я, — подумал про себя В. В., — рост не мой».
— Золотко, может пойдём в дом, отдохнёшь, перекусишь… Прохладно уже.
— Сейчас меня нет, но я вернусь, — загадочно сказала Мируся и покачала головой.
Он подумал, что, может, стоило бы вызвать врача, но… какого? Не психиатра же. Он потоптался возле двух её стульчиков, вздохнул нарочно громко и пошёл в дом.
Под вечер решено было созвать консилиум. Позвонили семейному доктору, Ольге Петровне и подруге Тамаре. Те примчались, им показали из окна, что происходит, доктор спросила, нет ли температуры, а подруга, не было ли какой‑нибудь ссоры в доме, может, кто обидел её вчера. Нет, ничего такого. Сначала к «больной» пошла Ольга Петровна. Та улыбнулась ей и даже руку свободную протянула, но кисть не отложила и петь не перестала. Теперь, видимо, снова пошли романсы, она напевала «У церкви стояла карета…». Разговора никакого не получилось, и Ольга Петровна, успевшая только пульс нащупать (пульс был нормальный), обескураженная, вернулась в гостиную.
— Что она вам сказала?
— Она сказала: «Оставьте меня в покое».
Подруга тоже двинулась, больше из любопытства, но на все её расспросы с видом как ни в чём не бывало (будто вот только что зашла случайно и понятия не имеет, что тут с утра происходит), ответом была рассеянная улыбка и мурлыканье очередного песенного шедевра – «Мне не жаль, что тобою я не был любим…».
Все отступили, сочтя, что на ночь‑то она никак в саду не останется, она темноты боится и мерзлячка к тому же. И стали молча смотреть телевизор. Доктор и подруга уехали, но просили звонить и держать в курсе.
И правда, как только стемнело, Мируся сама неслышно появилась в гостиной, поставила свой картон с почти законченной картиной у камина и поднялась в спальню, напевая при этом: «Ночь светла, над рекой тихо светит луна…».
— Я боюсь, — сказала невестка.
— Для таких случаев надо иметь семейного психоаналитика, — сказал сын.
— Ты думаешь, у нас уже есть эти психоаналитики? – усомнился отец.
— У нас уже все есть.
В эту ночь она спала, как ребёнок – безмятежно и сладко, и даже временами улыбалась во сне. В. В. несколько раз за ночь включал ночник и тревожно посматривал на неё.
Утром она была свежа, весела, разговаривала, как обычно, и о вчерашнем не вспоминала, казалось, и не помнила. Ну, и они не стали ей напоминать, а потом и вправду забыли. И только теперь тот странный случай всплыл в памяти и заново заставил задуматься: что ж это было?
— Я, кажется, знаю, что это было, — сказала Аля. — Это такой специальный психологический приём. Если становится невмоготу, то надо от всего отключиться и сделать то, чего тебе самой в данный момент хочется, даже, если это «что‑то» не совсем обычно. Например, полежать на земле, или опустить ноги в воду, или пойти куда глаза глядят…
— Что–о–о? – хором закричали В. В. и сестры.
- …а потом вернуться.
— Это Инна вас такому учила?
— Нет, это в книжке написано.
— В какой?
— Я не помню название, она там, в кабинете у вас стоит…
— Пошли, покажешь, — вскочила Лана.
Аля на удивление быстро нашла нужную книжку.
— «Бегущая с волками», — прочла Лана. – Первый раз вижу.
Она стала медленно листать, обнаруживая чуть не на каждой странице подчёркнутые и помеченные галочками места.
— О, вот оно:
«…Перечитать отрывки из книг или единственное стихотворение, которое вас тронуло. Хотя бы несколько минут побыть у реки, у ручья, у родника. Полежать на земле в пятнах солнца.. Посидеть на крыльце, что‑то перебирая, что‑то перешивая… Идти или ехать куда глаза глядят в течение часа, а потом вернуться… Встретить восход солнца. Поехать туда, где городские огни не мешают звездам… Посидеть на мосту, свесив ноги…. Сушить волосы на солнце. Опустить руки в бочку с дождевой водой…»
— Ну, все понятно, — она захлопнула книгу и пошла вниз, Аля плелась следом, чувствуя себя почему‑то виноватой.
«Может, у неё и правда с головой что‑то? – рассуждала сама с собой Лана. – Может, она не хотела, чтобы мы все знали об этом, и пыталась сама лечиться? А может, эта Инна успела её куда‑нибудь в психушку засунуть? Бедная, бедная Руся!». Только она вознамерилась высказать свои догадки, как В. В. её опередил:
— Захар только что звонил. Кажется, она появилась!
— Кто, Руся?
— Нет, Инна!
10
Моя дорогая девочка! Эту часть моих записок к тебе я начинаю далеко от дома, в крошечном городке под названием Марианские Лазни на Западе Чехии. Что тебе сказать? Городок чудесный, стариный парк, старинные отели. Здешние минеральные воды особенно хороши для почек, потому сюда и ездят в основном немцы – известные любители пива, тогда как русские предпочитают отдыхать и лечиться в соседних Карловых Варах, тамошняя вода больше годится для печени, что для наших соотечественников актуальнее. Названия марианских источников – Рудольф, Каролина, Фердинанд – тоже напоминают о немецком прошлом этого городка, да и сам он до сих пор значится в путеводителях под двумя именами, второе из которых даже более известно – Мариенбад.
Желаю тебе когда‑нибудь побывать здесь, но – не скоро, не скоро, потому что этот курорт, что ни говори, для стариков и старушек, попивших на своём веку пива и других веселящих напитков. Даже мне, ещё далеко не старушке, но уже поглядывающей на них с сочувствием и страхом (неужели это и моё надвигающееся будущее?) скучновато здесь. Хорошо, что, не изменив своей привычке, я прихватила с собой ноутбук, и теперь, прогулявшись поутру на источник, приняв углекислую ванну и позавтракав в ресторане отеля за столом с хрустящей белой скатертью и накрахмаленными до несгибаемости салфетками, мы поднимаемся в свой номер с видом на парк, муж мой усаживается смотреть по доходящему сюда первому каналу фильм про Ниро Вульфа, а я закрываюсь в другой комнате и пытаюсь что‑то писать.
Я хочу теперь рассказать тебе о другом твоём дедушке, который встретит твоё рождение и будет рядом с тобою, пока ты будешь расти и подрастать в нашем доме. Думаю, вы полюбите друг друга. Все зовут его Васильичем, или В. В., а для меня он – просто «Котик», так уж у нас завелось, из песни слова не выбросишь, а мне удобно называть его здесь, в этих записках, так, как в жизни.
Мы теперь много ездим с Котиком. По этой причине мне все труднее пишется. Это раньше, работая в газете, я умела писать в любой обстановке – в шуме, в гаме, днём ли, ночью ли (по ночам даже лучше получалось). Но теперь, когда я давно уже «вольный художник» и пишу для себя, мне нужны уединение и тишина. А также достаточное количество свободного времени. Но никто из моих близких не хочет этого понимать. Вот и Котик – из самых благих побуждений, конечно, — тащит меня то в Ниццу, то в Биариц, а то вот в Марианские Лазни. Он прав: пока мы живы, надо посмотреть мир, ведь смолоду у нас не было для этого ни возможности, ни денег. В той, прежней жизни я один–единственный раз выезжала за границу – в тогда ещё союзную Югославию, по путёвке «Спутника», с 30 советскими рублями, обменянными на 540 югославских динар. Теперь мы можем ездить куда хотим и тратить сколько вздумается. Вот и навёрстываем.
Но все чаще я ловлю себя на мысли, что в действительности ничего этого мне не надо, а всё, что надо, — это отдельная комната, стол с компьютером, стопка чистой бумаги и, чтобы никто меня не трогал, никуда мне не надо было спешить и никакие обязанности надо мной не висели. Вместо этого я и дома только и делаю, что езжу туда–сюда, туда–сюда. У нас, видишь ли, квартира в Москве и дом на побережье, там и там устроен для меня отдельный кабинет, а работать‑то и некогда. Дом – это большое хозяйство, и сколько же времени оно требует, хоть сама я давно уже не мету и не мою, а всё равно – время и душу он забирает, ещё и как! И всё вспоминаю свою старую маленькую квартирку и свой столик, заваленный газетами и книгами, и как мне там хорошо, всласть работалось.
Пишущему человеку лучше быть нищим или хотя бы бедным. Наличие собственности, не способствует вдохновению, уводит мысли совершенно в ином, чуждом писательству направлении…
Впрочем, извини, моя дорогая, я же ещё не объяснила тебе, откуда всё это взялось, и как я дошла до жизни такой. Поэтому перенесусь‑ка я из сказочного Мариенбада в родную свою провинцию и отмотаю назад… сколько же? – о, да уже целых 17 лет!
В то время мы жили с моим сыночком (твоим будущим папой) вдвоём. Я много работала, уезжала в редакцию утром и возвращалась поздно вечером, иногда даже ночью, такой раньше был график выпуска газет, ночной. Сыночек, придя из школы, проводил время на улице, гоняя летом в футбол, а зимой в хоккей. В дворовой команде его, самого маленького, всегда ставили вратарём, так ловко он «гасил» мячи и шайбы. Учиться он не любил, и меня довольно часто вызывали в школу. Это было тяжёлой повинностью, потому что, когда меня, бывшую круглую отличницу, какая‑нибудь молодая учительница начинала стыдить и воспитывать, я не могла этого вынести и еле сдерживалась, чтобы не расплакаться. А однажды и расплакалась прямо в кабинете директриссы, пригласившей меня по поводу драки моего сына с двумя мальчиками из старшего класса. Она, видите ли, считает, что я должна больше внимания уделять воспитанию ребёнка. Ясно, должна. Конечно, должна. Но вот не получается. Плохая я мать.
В детстве, до школы, мы с ним много читали. Кстати, мальчики в отличие от девочек любят совсем другие сказки, даже и не сказки, а истории, где главные персонажи – не прицессы и принцы (принцы – это тоже из девчачьих сказок), а смелые и ловкие герои. Сначала мы читали с ним «Айболита», потом «Незнайку» — в Солнечном городе и на Луне, потом «Волшебника Изумрудного города» и «Урфина Джюса» с его деревянной армией, потом, уже перед самой школой — «Маугли» и «Робинзона Крузо»… Мальчики ведь должны учиться смелости и находчивости, а также разным военным хитростям. Но лучше бы я не спешила прочесть шестилетнему ребёнку «Робинзона», а приучила его читать самостоятельно. Почему‑то я этого не сделала (не смогла, не успела, не получилось), а школа надолго отбила у него охоту к чтению. То есть мальчик любил книжки, но только, когда их ему читали вслух, сам же так и не пристрастился к этому лучшему из человеческих занятий.
Зато он любил рисовать и мог часами сидеть за своим секретерчиком, склонив голову, высунув кончик языка, и рисовать большие, подробные картинки, умещая на небольшом листе множество фигур и предметов. Однажды он умудрился на стандартном листе писчей бумаги изобразить 100 танцующих скелетов. Я его на всякий случай поругала, но листочек не выбросила, все‑таки труд.
По воскресеньям мы с ним ездили на кладбище, к его отцу. Пока я собирала опавшие листья, он приносил из колонки, находящейся вдалеке от Гошиной могилы, воду, я мыла памятник, наливала остатки воды в пластмассовую банку, ставила цветы, он относил подальше мусор, потом мы ещё немного сидели с ним на скамейке у прибранной могилки и отдыхали. Он никогда ни о чём меня не спрашивал, сидел, прижавшись плечиком, и молчал.
Лето он проводил на даче у бабушки, Гошиной мамы, там у него были велосипед, самокат, куча солдатиков и машинок. Бабушка, которая, собственно, его и вырастила (в своё время я «подбросила» ей четырёхмесячного кроху, а сама вернулась на работу), кормила его клубникой и черешней, дед давал порулить своим старым «Москвичом», в общем, ему там было неплохо. Я приезжала к ним на субботу- воскресенье, если не брала работу на выходные домой. Он ждал меня, выбегал на просёлочную дачную дорогу и караулил автобус из города.
В самое первое лето без Гоши мы ездили с ним в Ленинград. Приятельница, редактор городской пионерской газеты, пригласила нас на недельку отдохнуть, посмотреть город. Сама я уже не раз там бывала, но ради ребёнка стоило поехать ещё. Ему было десять лет. Мы шли с ним пешком по Невскому, он крепко держал меня за руку, боясь оторваться и отстать в чужом, многолюдном городе. Вдруг спросил:
— Мама, ты не выйдешь замуж?
Это был первый случай после смерти Гоши, когда он заговорил со мной на такую сложную для него тему.
— Ну что ты, Ванечка, — сказала я. – Нам же хорошо с тобой вдвоём, правда? Так и будем жить.
Он, видимо, не очень поверил, потому что через несколько шагов сказал:
— Ты не выходи, ладно? А то ещё попадётся какой‑нибудь дурак…
Я и не думала ни о чём таком, хотя все мои родные в один голос убеждали: нельзя «хоронить себя», ты ещё «молодая и красивая» и, значит, обязательно надо «устроить свою жизнь». Причём так говорили не только мои, но и Гошины родные.
Говорить легко, труднее в этом возрасте встретить человека свободного, труднее понравиться, труднее самой влюбиться. То есть влюбиться‑то как раз нетрудно. Оставшись одна, я мысленно допускала для себя такие, ни к чему серьёзному не обязывающие отношения. Более того, только такие и допускала, о другом не помышляя, не желая снова себя закабалять, успев уже оценить преимущества жизни никому (ни родителям, ни мужу) не подотчётной, свободной женщины. Чего на самом деле остро хотелось – так это поработать, наконец, в полную силу, не отвлекаясь, не деля своё время между семьёй и профессией, навёрстывая всё, что было упущено не по своей воле. Казалось: вот теперь уж я осуществлю все, чего хочу, на что способна.
Вечный и практически неразрешимый женский вопрос состоит не в том, любить или не любить (разумеется, любить!), а в том, работать или не работать. Имеется в виду не домашняя работа, она никогда не в счёт, а работа вне дома, профессия. В разные времена на этот вопрос отвечали по–разному – и общество в целом, и отдельно взятые мужчины, и сами женщины.
То, что пишет, к примеру, Симона де Бовуар (её книгу ты найдёшь в нашей библиотеке) о самоощущениях женщины, будто ей очень плохо в этом мире, устроенном мужчинами по их, а не её разумению и где все подчиняется мужской, а не женской воле, имеет отношение только к умным, образованным и развитым женщинам, а их не так много даже в наше, гораздо более продвинутое время. Большинство же женского племени, как тогда, так и сейчас, во–первых, спокойно принимают все, как есть, не помышляя ни о бунте, ни о каком‑то ином, схожем с мужским уделе, во–вторых, не испытывают особых неудобств от того, что всем в обществе заправляют именно мужчины, их такое положение дел вполне устраивает. Но в отношении умных и, следовательно, страдающих от неравенства женщин она, безусловно, права.
Книга «Второй пол» писалась в самом конце первой половины ХХ века (вышла в1949 году), упования и надежды автора обращены были к неведомому ей опыту социализма, будто бы именно при таком общественном устройстве гарантировано равенство полов и разрешаются наконец все те проблемы, что веками мучили женщин. Кое в чём она не ошиблась. Действительно, что касается образования, профессии, предоставления работы и элементарных политических прав, социализм выгодно отличался от традиционного капитализма, каким его знала Симона де Бовуар. Но случилось нечто, ею не предвиденное.
Если капитализм убивал в женщине человека, личность, то социализм, в некоторой степени возвысив её до человека, стал убивать в ней женщину. Это, я думаю, понравилось бы мадам Симоне ещё меньше. Если в буржуазном обществе женщина часто рассматривалась как собственность мужчины, то в социалистическом её стали воспринимать, в первую очередь, как гражданку, патриотку, работницу, активистку и уж в самую последнюю очередь как женщину. Вообще все сугубо женское, женственное не приветствовалось, затушёвывалось, не являлось предметом государственного интереса, признавалась разве что одна женская ипостась – мать, и соответственно одна проблема – матери и ребёнка.
В эпоху демократии, при которой мы сейчас якобы живём, женщина должна иметь возможность, по крайней мере, сделать свой выбор, предпочесть активную, наравне с мужчинами профессиональную, общественную деятельность, или же – тихую семейную обитель. И тот, и другой выбор должен быть, по идее, одинаково уважаем обществом. Совмещать одно и другое с равным успехом никогда и никому не удаётся. (Мне уж точно не удалось, как я ни старалась). Впрочем, никакого улучшения положения женщин с приходом демократии не произошло. Как раз они‑то больше всех и пострадали от реформ, учинённых на рубеже веков, а дискриминация по признаку пола расцвела и вовсе буйным цветом.
Остаётся принять за данность, что л ю б о й общественный строй, независимо от его политической окраски, эксплуатирует женщину. При любом государственном устройстве женщина находится в неравном, невыгодном по сравнению с мужчиной положении.
Над ним – только Бог, над ней – Бог и мужчина.
Почему среди великих философов, писателей, музыкантов, художников нет женщин? При том, что в массе своей женщины не глупее, а часто умнее мужчин, а отдельные из них способны создавать умные, талантливые и уж во всяком случае добротные произведения. Но гениев среди женщин не бывает. Только в поэзии и актёрстве есть по два–три великих женских имени. (То и другое – скорее сфера чувств, где женщина от природы сильнее). Если гениальность даётся свыше, от Бога, то это значит, что Бог не наделяет ею женщин. Не положено. Как не положено женщине входить в алтарь. Но не потому ли ни одна женщина не может всецело отдаться профессии, как это делает мужчина, что за ней всегда сохраняется другая, более важная женская функция – деторождение, и лучшие годы её жизни отданы этой функции? Если у женщины есть семья, муж, дети, она лишь частично, урывками может заниматься профессией, особенно, если речь идёт о профессии, связанной с искусством. Если же она одинока и бездетна, то ей недоступна очень важная часть жизни, без знания которой она не совсем полноценна как автор.
Женщины смогут сравняться с мужчинами в творчестве, лишь когда станут абсолютно свободными от деторождения и от кухни. Но тогда они перестанут быть женщинами, а станут разновидностью мужчин. И не к этому ли все постепенно и движется? Кризис рождаемости, гражданские браки, однополая любовь, дети из пробирок, стиль унисекс и т. д. Может, изначальная функция женщин постепенно отомрёт, любовь заменят суррогатом, а деторождением займётся наука? Другой вопрос: а что может создать такая освобождённая от собственной природы женщина?
Итак, мир устроен не в нашу пользу, моя девочка. И с этим ничего не поделаешь. Наш собственный выбор – это смириться и быть «бездеятельной, пустой, пассивной и послушной» или не смириться, и значит, быть непослушной, деятельной и активной.
Мне всегда нравились женщины, которые стремились стать вровень с мужчинами, а то и выше их. Я тоже всегда хотела заниматься чем‑то таким, что не зависит от моего пола, не является сугубо женским занятием. Я уже рассказывала тебе, что росла очень активной девочкой. Но школа нас, девочек, несколько дезориентирует, в школе мы привыкаем верховодить, а потом оказывается, что в жизни вообще‑то верховодят и все решают мужчины. И совсем неважно, кто умнее, кто больше книжек прочёл, у кого талант, а у кого его нет и в помине. Мужчина и только мужчина должен быть директором, председателем, начальником, заведующим…
И вот ты работаешь, работаешь, работаешь, и вдруг оказывается, что ты умеешь делать то, что делают мужчины, и даже лучше. Как исключение из правил тебя могут признать и продвинуть, в интересах дела тебя даже могут назначить на руководящую должность (если на данный момент рядом не окажется подходящего претендента мужского пола). Так в самый разгар перестройки, на волне всеобщего энтузиазма, полная идей и планов, ты неожиданно для всех станешь главным редактором самой большой в ваших краях газеты, единственная из женщин, будешь заседать наравне с мужчинами в бюро обкома, уверенно выступать на пленумах и сессиях, писать серьёзные аналитические статьи в центральные газеты, с тобой будут советоваться первые руководители области, твоё имя будет на слуху у читателей, и благодаря всему этому, ты без труда выиграешь на первых альтернативных выборах в местный парламент у шестерых соперников–мужчин.
Женщина! Как ей это удаётся? Ну, знаете, бывает… У неё талант и мужской ум к тому же. Уникальный случай. Ничего уникального! Очень многие женщины достигли в журналистике успехов, равных мужским и выше. Другое дело, что почти все они остались одинокими или стали ими в процессе своего восхождения на вершины профессии. Так и ты – достигла своей вершины в промежутке между двумя браками, пока была свободна и ни от кого не зависима. Тебе казалось тогда, что наступил золотой век журналистики и одновременно твой собственный звёздный час. И вот на самом пике карьеры, на взлете…
Видит Бог, я не искала никаких встреч, не высматривала в толпе окружавших меня мужчин «объект» для завязывания каких бы то ни было отношений, мне было не до этого. Он сам меня высмотрел, нашёл и взял в тиски так, что стало не увернуться, не выскользнуть, не свести все к шутке, к лёгкому флирту.
В сущности повторилась старая история. «Лучше, когда тебя любят…». А ты сначала просто позволяешь себя любить, занятая тем временем своими, более важными, чем любовь, делами, потом помаленьку привыкаешь, потом привязываешься, потом, не заметив, как и когда это случилось, в один прекрасный день понимаешь, что сама уже не мыслишь своей жизни без этого человека. О тебе никто и никогда так не заботился, как он. Это так непривычно и так, оказывается, приятно… Будто какая‑то мощная глыба вдруг выросла рядом с тобой. Она и защищает (хотя ты вроде не нуждаешься в защите), но и отгораживает от всего, от всех, не оставляя никаких путей к отступлению.
У меня было сильное предубеждение против его профессии. Пресловутые «люди в штатском», серые, невыразительные, вечно озирающиеся, вечно всех (а нас, журналистов, в первую очередь) черт знает в чём подозревающие… Но он совершенно не вписывался в этот скорее «киношный» стереотип. Уж он‑то как раз – слишком заметный, идёт по улице – его издали видно, высокий, плотный, большой. И как все большие люди – шумный, общительный, говорит громко, любитель компаний и анекдотов, сам рассказывает, в том числе – политические, но особенно хорошо у него получается с кавказским акцентом: «Дэвушка, а дэвушка, пэрсик хочишшшь?..». Пьёт наравне с нашими, редакционными, но, в отличие от них, совершенно не пьянеет. И когда кто‑нибудь начинает приставать к нему с пьяным вопросом: «А меня вы подслушиваете?», он хохочет: «Да кому ты, на хрен, нужен!». Журналистская братия не отстаёт, кто‑то заводит провокационный разговор о казачестве, и тут оказывается, что он больше их знает – и о дроздовцах, и об алексеевцах, и вообще о русской эмиграции, это его конёк. Вы, говорит, про такого поэта слышали – Николая Туроверова? Никто не слышал (шёл только 87–й год). Стал читать стихи. Это он для меня, конечно, старался, хотел понравиться. Наши смотрят с любопытством: если это чекист, то какой‑то нетипичный. И на меня поглядывают с ревностью: у тебя с ним серьёзно, что ли? Я отнекиваюсь: да нет, это так, ничего серьезного…
Внешне он не в моём вкусе – черты крупные, грубоватые, словом, не красавец. Но когда тебе 37, а ему 40, об этом как‑то даже неловко говорить. Ты давно уже ценишь в мужчине не красоту, а ум и силу. Того и другого здесь в избытке. И постепенно ты убеждаешься, что это абсолютно твой человек, что вся система ценностей совпадает, и чувствуешь, что с этим человеком можно быть самой собой, не подстраиваться, не прикусывать язык, не умерять и не умалять своих амбиций, как часто приходилось делать, чтобы не задеть чьего‑то самолюбия. Как это, оказывается, хорошо – общаться на равных! Вы можете часами говорить и не наговориться, он признается, что впервые обрёл в женщине друга. Прямо как у Вишневского: «Любимая! Так ты и собеседник!».
Тем временем сынок мой переживал по поводу происходящего целую гамму чувств. Поначалу он не придал значения появлению незнакомого дяди, потому что принял его за одного из сотрудников редакции, которые часто бывали у нас в квартире (ещё при Гоше и после него), пили–ели, бренчали на гитаре, трепались, иногда даже ночевали на раскладушке в кухне или прямо на полу в зале. Потом, когда дядя зачастил, сыночек насторожился:
— А чего этот всё время к нам ходит?
— А что, он тебе совсем не нравится?
— У него нос толстый.
— Ну, нос… Нос это не беда. Ты с ним поговори, он много чего знает интересного.
Мальчик смотрел волчонком и разговаривал через силу. Приходилось все чаще отправлять его к бабушке, чтобы не травмировать. Когда же хождение к нам дяди стало приобретать слишком очевидный смысл, ребёнок спросил:
— Он что… тебя любит?
— Наверное, — сказала я.
— А ты?
— А я… Я тебя люблю, мой сыночек, единственный на свете. Спи.
— А ты спой мне песенку.
Хитрый какой. Маленькому я всегда пела ему перед сном. Особенно он любил песню о Щорсе – «Шёл отряд по берегу, шёл издалека…» и заунывную «Там вдали, за рекой…». Но теперь мальчику уже двенадцать, какие могут быть песенки… Я закрываю дверь в его комнату и на цыпочках иду в свою, там ждёт, не уходит человек, который меня любит.
— Можно я сегодня останусь?
Мы почти не шевелимся, боясь, что он услышит. И всё равно через какое‑то время раздаётся глухой стук, я вскакиваю и бегу в соседнюю комнату. Сынок колотит острым кулачком в стену и повторяет:
— Ненавижу! Ненавижу!..
Сердце моё разрывается на части. Полночи я хожу из комнаты в комнату, успокаивая то одного, то другого. Впрочем, в большой комнате все понимают правильно и готовы терпеть и ждать столько, сколько понадобится. А сколько понадобится?
Дети растут быстро. Три года спустя пятнадцатилетний сын говорит мне за завтраком как бы между прочим:
— Мам! Ну вы думаете жениться или нет? Сколько он просто так ходить будет?
— А ты… не против?
— Я – нет, а ты?
Все‑таки стереотип этот ещё силён, и «устроенной» считается только та женщина, которая замужем, пусть даже за совсем никчёмным и ни на что не годным мужичонкой. А уж если за мужчиной солидным и крепко стоящим на ногах (будущим генералом), то и подавно. Тут уж все хором: вот повезло так повезло! А может, это ему повезло? Ведь и ты твёрдо стоишь на ногах, и ты – вполне состоявшийся, успешный и знающий себе цену человек, привыкший все в жизни делать самостоятельно и в принципе уже не нуждающийся в чьей‑то опоре и поддержке. И тебе совсем не хочется терять свою нажитую годами независимость, оглядываться на кого‑то, спрашивать разрешения, отчитываться…
Такая жена – не подарок. Про такую жену трудно сказать: «повезло», скорее – наоборот. Сорокалетняя женщина, с ребёнком, с тяжёлым опытом семейной жизни, с замашками деловой дамы, сделавшей собственную карьеру… Ведь она ни в чём не станет подчиняться, на все у неё будет своё мнение и суждение, она не будет молча смотреть в рот мужу, у неё у самой рот не закрывается, она привыкла командовать, рулить, брать на себя все решения и всю ответственность – и на работе, и дома.
Он все это понимает и предвидит, но его это не останавливает.
Я не хотела устраивать никакой свадьбы, стыдясь и стесняясь почему‑то самого факта. В пятницу утром заехали в загс, расписались по–быстрому и разъехались по своим конторам. В середине дня в приёмной редакции появилась моя подруга, она же – свидетельница при нашем бракосочетании, спросила у секретарши:
— А вы свою шефиню поздравили?
— С чем? – испугалась секретарша.
— Как с чем! Она сегодня замуж вышла!
— А–а–а! – завопила секретарша и понеслась по редакции сообщать новость.
Через несколько минут в кабинет стали заглядывать сотрудники. Заглянут, посмотрят на меня и скроются за дверью. Подослали заместителя – узнать, правда ли это, и пошли один за другим с цветами и поздравлениями (благо, цветочный базар был прямо под окнами редакции). Пришлось к вечеру накрывать на скорую руку стол и отмечать это дело.
Второй брак – совсем не то, что первый. На нём клеймо: вторая попытка. Подразумевается: первая не удалась. С тобой все ясно, а вот почему у него, такого со всех сторон положительного, и – не получилось? Может, ты чего‑то про него не знаешь? Да нет, вроде вот он, весь на виду, весь из себя положительный, и какой же надо быть дурой, чтобы такого мужика не удержать. Но может, та его жена, первая, и была дура, тогда как же он, такой умный, на ней женился? Ну, бывает, по молодости… Не встретил такую, как ты. Кстати, могли бы встретиться – жили в одном городе, ходили по одним улицам, и даже в комсомол тебя принимали в том райкоме, в котором он чуть позже работал, и газету, в которой ты печаталась, он регулярно читал, и даже подпись твою под статьями помнит, а вот не встретились.
Выходить за разведённого – значит брать на себя обязательство быть лучше той женщины, не повторить её ошибок, выиграть заочное с ней соревнование, не дать ему разочароваться и сказать через какое‑то время: «все вы одинаковые». Нет, все мы разные, и про себя‑то я точно знаю, что я – другая, но доказывать ничего не собираюсь. Поживём – увидим, кто чего стоит на самом деле, вот только…
— Скажи честно, у тебя со здоровьем все в порядке?
Он смеётся:
— Я здоров, чего скрывать, я кирпичи могу ломать, недавно головой бычка убил!
Он и правда, пышет здоровьем, большой и сильный. Дай‑то Бог, чтобы и всегда так было.
Сам он, кажется, тоже кое в чём сомневается. Вдруг спрашивает среди ночи:
— Скажи, ты мужу изменяла когда‑нибудь?
Не скажу. Отвернусь к стенке и сделаю вид, что сплю. В тот момент я ещё ничего не могу ему обещать, ни верности по гроб жизни, ничего. И мне не нравятся такие вопросы. Хватит того, что я теперь под пристальными, оценивающими взглядами его родни и друзей, даже в большей степени друзей, чем родни: ну‑ка, ну‑ка, что это за фифа такая, лучше она прежней или хуже, последняя это его женщина или так, очередная? «Смотрины» длятся долго, несколько лет, у него слишком много друзей, в разных городах страны, с одними он учился, с другими начинал служить, с третьими вообще с детства, с суворовского училища… Пока всех узнаешь, со всеми познакомишься, не один год пройдёт, но – признают, все до одного признают, и он будет гордиться, а я усмехаться: разве могло быть иначе?
Итак, в 40 лет я снова была замужем, на этот раз за военным (на тот момент подполковником), у которого была взрослая дочь от первого брака. Моё предчувствие сбылось, хотя и не совсем так, как я его поняла тогда, 5 лет назад, стоя на рассвете после похорон Гоши у окна, выходящего на рассвет.
Оказалось, что самое трудное во втором браке – это… дети от первых браков. Вот уж чего я никак не ожидала. Мне казалось: ну, что тут такого уж сложного, главное, любить чужого ребёнка, как своего, не делать между ними различий, и всё будет в порядке. На деле всё оказалось куда сложнее.
Первые несколько лет сын называл его дядей и на «вы». Потом, став совсем взрослым, счёл, что «дядя» — это для маленьких, перешёл на «ты», но и только. Просто «ты», без имени, без обозначения родства.
— Ты будешь футбол смотреть?
Потом (без всякого с моей стороны понуждения) он стал называть его «отец», сначала, правда, в третьем лице, за глаза: «отец дома?», «отец сказал…». (Тот, не дожидаясь ответных чувств, давно стал звать его «сынок»). Потом мальчик нашёл для себя удобное слово: батя. И наконец пришло то время, когда сын сказал ему: «Па…». Кажется, это случилось в день его собственной свадьбы.
— Спасибо, па…
К тому времени они и правда стали как отец и сын, у них даже появились свои секреты от меня, свои какие‑то важные мужские дела, в которые они меня не посвящают, говоря: «Не забивай себе голову лишней информацией, мы тут сами решим…сделаем…разберемся…». Самое удивительное, что сын вырос похожим на него – такой же светлоглазый и светловолосый (не в Гошу), да и манеру говорить, двигаться перенял. Те, кто не в курсе, говорят, желая сделать комплимент отцу:
— О, сынок весь в папу!
Он улыбается, довольный, я смущаюсь, а Ваня демонстрирует полную невозмутимость. Он вообще считает, что незачем всем знать, кто кому и кем приходится.
У меня с его дочерью все куда сложнее. С первого дня она меня невзлюбила, да и с чего бы ей меня любить. И чем лучше мы жили с её отцом, чем ближе становились они с моим сыном, тем меньше она любила не только меня, но всех нас. Поначалу я переживала по этому поводу и изо всех сил старалась отношения наладить. Потом плюнула и пустила все на самотёк. Когда мы познакомились, ей было уже 22, не самый подходящий возраст для такого знакомства. Став старше, она научилась скрывать свои чувства и хотя бы изображать «хорошее отношение». Бывали периоды, когда она становилась вдруг необычайно ласковой и родной, словно ища в семье отца защиту от кого‑то, кто не понял или обидел её там, в собственной её личной, тоже не заладившейся жизни. В такие моменты она даже называла меня в шутку «мамо» (а обычно – по имени). Но как только всё более или менее утрясалось у неё самой, снова наступала полоса отчуждения. Я привыкла все сносить и не реагировать, по крайней мере, внешне. Я её понимала. Девочка – не то, что мальчик, ей труднее смириться с «изменой» отца, даже если никакой измены не было, а просто так сложилась жизнь. На её месте я бы тоже невзлюбила женщину, заменившую моему отцу мою мать (слава Богу, ничего подобного не происходило в моей жизни). Девочка, дочка ревнует так же, если не сильнее, как ревновала бы мать, которой на самом деле всё равно, у неё давно своя жизнь. А тут ещё к чисто женской ревности добавилась ревность детская, ревность ребёнка, выросшего без отца, который теперь воспитывает чужого ребёнка, притом мальчика. Подозрение, что он его может любить, и любить больше, чем её, — это подозрение было для неё невыносимо. Когда она впервые услышала, что сын мой называет её отца отцом, папой, с ней сделалась истерика.
— Послушай, Даша, — сказала я ей тогда. –Папа любит тебя и всегда будет любить, ведь ты его единственный ребёнок, хотя уже и взрослая тётя, вон какая, сама уже побывала замужем и развелась, должна понимать, что это такое, и перестать, наконец, судить за это своих родителей. А Ване он тоже отец, потому что вырастил его и на ноги поставил. Мы с тобой должны радоваться, что у них такие отношения, что они нужны друг другу.
Так примерно я ей сказала. Она разрыдалась ещё сильнее:
— А ты думаешь мне он не нужен?
К тому времени я уже давно оставила надежду родить второго ребёнка.
Вообще, сказать, что я очень уж этого хотела, не могу. Я не отношусь к тем женщинам, которые непременно хотят иметь двоих, а то и троих детей. Нет, это не про меня. На самом деле одного ребёнка лично мне более чем достаточно, чтобы удовлетворить материнское чувство и приобрести заботу на всю оставшуюся жизнь. После его рождения у меня были совсем другие амбиции и интересы, связанные исключительно с профессией. А если бы даже я сама этого захотела, то Гоша всё равно был против, зная о своей неизлечимой болезни и не желая, во–первых, рисковать здоровьем будущего ребёнка, а во–вторых, оставлять меня с двумя детьми. Потом, когда всё случилось, я была ему благодарна за это.
Котик, напротив, очень хотел, чтобы я родила ему ребёнка, а то и двух.
В первый раз это получилось слишком быстро, когда я ещё не могла понять, будем мы вместе или разбежимся. Впрочем, это было не главное. Я не захотела его сохранить по соображениям карьеры. Я была так увлечена работой в газете, ну куда тут было рожать ребёнка. К тому же, мне это казалось тогда со всех сторон неудобным. Неудобно перед родными, неудобно перед сыном, главное – неудобно перед начальством и перед коллективом редакции, куда я пришла работать, а не детей рожать. И в тот год ребёнок не появился на свет. И на следующий год тоже не появился (по тем же причинам). И мне казалось: да, ладно, я ещё смогу, стоит только захотеть, решиться, мне ведь всего 38… 40…42…
В 42 я спохватилась. Тут очень кстати и все декорации поменялись, не стало того начальства, перед которым было неудобно, не стало и той газеты, которой надо было руководить, да и сын вырос. Но главное, катастрофически набегал возраст, ещё немного и будет просто неприлично. И вот я решаюсь и… Ничего не получается. Раз не получается, другой не получается, и врач говорит: да какая беременность, вам уже пора о своём здоровье думать.
Котик очень жалел, что тогда, в самом начале не настоял, потом перестал об этом говорить и напоминать. Моё собственное отношение к этому вопросу несколько раз менялось. Поначалу я была на все сто уверена в своей правоте (иначе просто не сделала бы того, что сделала). Потом какое‑то время тоже сожалела, и очень сильно, ругала себя: дура я, дура! Со временем успокоилась, стала думать, что, раз все так случилось, значит, так и должно было быть… В разное время разные мысли приходили мне в голову.
Между прочим, в Европе, как я совсем недавно прочла в одной книге, был, оказывается, древний языческий ритуал оплакивания потерь при деторождении, включая смерть новорождённого, выкидыш, мертворождённого ребёнка, прерывание беременности и другие важные события в репродуктивной жизни женщины. Собирались, как я понимаю, женщины, садились в кружок и припоминали, скольких деток потеряли они за прошедший, допустим, год. Такое «оплакивание непрожитых жизней». Красиво и страшно.
О, я многих нерожденных могла бы оплакать! Но я гоню от себя эти мысли, не вспоминаю, не пересчитываю, не пытаюсь представить, какими бы они были, эти нерожденные дети, сколько бы им сейчас было лет, на кого они были бы похожи… По–настоящему страшно, больно и горько только в самый первый раз, только тогда, прежде, чем решиться, терзаешься нравственно, потом, с каждым разом все становится проще и прозаичнее, и лишь физическая сторона дела волнует: хоть бы врач попался хороший, хоть бы укол сделали, хоть бы дочиста, а то опять на повторное… Уже ни страха, ни горечи, ни терзаний, только боль, всегда только боль и кровь – как плата за грех.
…Мы поженились весной, а осенью его направили служить в приморский город С. Думаю, он сам напросился, чтобы только увезти меня подальше от всего, от всех. Ехать предстояло не на крайний север, не на дальний восток – на юг, к тёплому морю, которое я так любила с детства, которое и было‑то в нескольких часах езды от нашего, тоже ведь южного города. Другая бы на моём месте обрадовалась своему счастью, я же была в полном смятении. Ехать за ним означало бросить работу, без которой я жизни своей не мыслила, поставить на своей карьере, призвании и признании большой такой, жирный крест. Но остаться – означало бросить его. Я не хотела ни того, ни другого. И что мне было делать? Все‑таки я сама приняла то решение (не сразу, а через какое‑то время), сама сделала выбор, сознавая, на какую жертву иду и что теряю.
Впрочем, было уже начало 1991 года, до государственного переворота оставалось каких‑то полгода. Меня бы, наверное, всё равно сняли, ещё и дело уголовное возбудили бы за публикацию материалов ГКЧП, а я бы их точно напечатала, потому что куда б я делась, передавал ведь ТАСС, а ТАСС – это было святое. Так что Котик, возможно, меня спас, увезя подальше от надвигавшихся событий, которые в тихом и полусонном городе С. воспринимались вообще, как дурное кино.
И вот я уже летаю на маленьком самолётике АН-24 из города в город (лёту всего 45 минут) и живу попеременно то в старой квартире – с сыночком, как раз заканчивающим школу, то – с Котиком, в маленьком, одноместном номере гостиницы, где ужасно узкая кровать и упирающаяся прямо в неё тумбочка с телевизором. Зато здесь есть балкон, с которого хорошо видно море, и, когда он уходит на службу, я, позавтракав сваренным с помощью кипятильника яйцом и чашкой растворимого кофе, выхожу на этот балкон, сажусь в пластмассовое кресло и читаю книжку, поглядывая время от времени на море. Красота. Вечерами мы ходим гулять по набережной, а по воскресеньям, после обеда (до обеда он на службе) – на пляж или в стереокино.
Больше такой вольной, почти «холостяцкой» жизни никогда у нас не будет. Едим мы в буфетах и столовых, а по выходным, — в каком‑нибудь ресторанчике, белье отдаём в прачечную, в номере убирает горничная. Потом я уезжаю, и мы перезваниваемся в день по несколько раз. Довольно романтично.
Полоса счастья, за которой, как известно, полагается произойти какому‑нибудь несчастью.
Поздней осенью 92–го он возвращался в город после проведённого в соседнем районе оперативного мероприятия (в тот раз вблизи границы задержали большую партию контрабандного оружия), была ночь, шёл дождь, на горной дороге его служебная «Волга» столкнулась с летевшими навстречу «Жигулями», за рулём которых был пьяный милиционер. Котик сидел впереди, рядом с водителем и чудом остался жив, но – сильнейшие переломы, четыре операции, так и не сросшаяся кость правого предплечья…
Как же хрупко все в нашем мире – и здоровье, и сама жизнь, от каких случайностей все зависит – от промчавшегося именно в это время и в этом месте пьяного идиота в милицейской фуражке! Но и я виновата. Это ко мне спешил он ночью, зная, что я прилетела и жду его в гостинице, а мог бы переночевать там и ехать по светлому, и ничего бы не случилось. Полгода мы кочуем по больницам и госпиталям, потом ещё целый год живём все в той же гостинице, ставшей почти родным домом. Теперь я не оставляю его надолго, разве что на пару дней, чтобы смотаться в К. и сделать материал для одной центральной газеты, с которой сотрудничаю в качестве собкора.
Газета, между прочим, крайне оппозиционная по отношению к новой российской власти. Когда‑нибудь ты, возможно, найдёшь в нижних отсеках нашей библиотеки стопки старых газет, в которых, если не поленишься, можешь обнаружить пространные статьи, подписанные известной тебе фамилией. Должно быть, с высоты того, будущего времени они покажутся тебе непонятными, может быть, удивят горячностью, с которой автор в начале 90–х оценивал все происходящее в столицах и невнятным эхом аукавшееся в наших краях. Но не спеши меня осуждать. Если запущенные в ту пору реформы дадут желанный результат хотя бы ко времени, когда ты станешь взрослой, ты вправе будешь считать, что я ошибалась, была излишне недоверчива и нетерпелива. Если же, не дай Бог, весь этот грандиозный эксперимент провалится (сама я боюсь просто не дожить до светлого будущего, ведь затевают революции одни, а пожинают плоды другие), ты скажешь: а ведь бабушка моя была права, когда писала ещё в 1993–м году…
Но пусть лучше я окажусь неправа и недальновидна, чем ко времени, когда ты вырастешь, явятся новые самонадеянные реформаторы и начнут все перекраивать заново!
Следующий этап нашей с Котиком жизни начинается, когда он получает, наконец, квартиру. Мы с энтузиазмом обживаемся на новом месте, ведь это первая наша квартира (хотя мы вместе уже целых семь лет). Теперь мы окончательно семья, у нас общий дом, я – окончательно жена, жена и больше никто. С момента нашей встречи его карьера, несмотря на все катаклизмы, всё время шла вверх, а моя – вниз. Я больше не работаю собкором оппозиционной газеты (к середине 90–х это кажется уже бесполезным и бессмысленным), и пробую писать кое‑что для себя. Получается плохо.
Но это не главное в нашей жизни, а главное – чтобы у него всё было хорошо.
Знаешь, что значит быть женой большого начальника в маленьком городе? Это значит сидеть дома, встречать и провожать мужа, во сколько бы он ни уходил и во сколько бы ни возвращался, а он всегда на службе – и в выходные, и в праздники, и даже ночью считается, что он на службе, ему в любое время суток звонят и докладывают и бывает, что поднимают с постели. По соседству с нашим городом идёт настоящая война, и он часто уезжает туда, за речку, по которой проходит зыбкая граница. В такие дни мне особенно одиноко и тревожно в нашей новой квартире.
Но случаются и другие мероприятия, вроде кинофестиваля или большого теннисного турнира, тогда все городское начальство собирается вместе, притом с жёнами, на торжество открытия и непременный после этого банкет. Жены все в вечерних платьях (прежде у меня никогда не было вечерних платьев, а тут пришлось завести), и все такие любезные, все целуются друг с другом, говорят по очереди витиеватые тосты, в которых в строгой иерархии с должностным положением одного за другим восхваляют всех присутствующих, клянутся в вечной любви и дружбе (на самом деле дружба длится только до тех пор, пока человек в обойме, а стоит выпасть, – куда что денется). Между тостами, прославляющими мэра, «нашего единственного генерала» (это Котик), прокурора и далее по списку, непременно выпьют стоя за здоровье всех жён скопом (считается, что нам очень приятно). В общем, все это протекает даже весело, но… это не то, что я люблю, к чему привыкла. Здесь нет моих друзей и подруг, здесь у меня их вообще нет, теперь у меня не подруги, а приятельницы, исключительно жены сослуживцев мужа и жены и других начальников. И когда все вот так собираются, мужчины всё равно общаются друг с другом, говорят о своих делах, о работе, а женщинам положено общаться между собой и говорить о своём, о женском, например, о детях, или о дачах, кто какую строит, или о том, что у кого болит и кто как лечится. Но я терпеть не могу этих «женских» разговоров и норовлю встрять в мужские, тем более, что привыкла говорить с ними на равных на любые темы, а в эти годы все только и говорят о политике, а как раз в политике я не хуже их разбираюсь. И я, конечно, встреваю, и первое время меня ещё воспринимают как самостоятельную «единицу», ещё помнят мои статьи в газете… Но время идёт, и постепенно я превращаюсь просто в «жену такого‑то», всего лишь жену, у которой нет никакой собственной, отдельной от мужа жизни, которая всегда дома и обеспечивает ему «тыл», так это у военных называется.
Время от времени я завожу дома одну и ту же «пластинку»:
— Я пойду работать.
(По правде говоря, работать мне в С. негде, здесь всего две маленьких газеты).
Котик, который исполняет любое моё желание, этих разговоров очень не любит, пресекает на корню.
— Кто тебе мешает работать дома? Вот кабинет, вот компьютер, сиди и пиши.
— Как будто это так просто: сел и написал.
— Ну тогда читай!
Сразу после переезда в С. у меня был долгий период депрессии, когда читать могла исключительно детективы, причём не советские, я их не люблю, а в основном Агату Кристи и ей подобных старомодных, неторопливых и нестрашных авторов, вплоть до Конан Дойля, которого последний раз брала в руки ещё в детстве, во время своих ужгородских каникул. Не знаю, Агата ли Кристи помогла или время само всё расставило на свои места, но по прошествии лет, наверное, двух с новым энтузиазмом набросилась на большую литературу, начав с того, что перечитала «Капитанскую дочку» и «Повести Белкина». Я всегда так делаю, когда после случайного, беспорядочного чтения хочу глотнуть настоящей русской прозы.
Но это зимой, а летом мне не до чтения.
Летом в нашей трёхкомнатной квартире – столпотворение, все ближние и дальние родственники и друзья считают своим долгом навестить нас в разгар сезона. Отказать никому невозможно, все свои, всех жалко, сами мы на море практически не бываем, пусть хоть сестры–братья, друзья–подруги, а также их дети отдохнут, позагорают. Лето я провожу на кухне, которую уже ненавижу. Гости (женщины) предлагают свою помощь, но я от неё категорически отказываюсь, ну, не люблю я, когда кто‑то другой готовит на моей кухне, моет мою посуду, подаёт на стол, не выношу. Как бы ни устала, а это я должна сделать сама.
Ну, и кто мне виноват?
У Котика летом своя страда – то президент на отдыхе, то премьер–министр, то зарубежные гости, а город небольшой, тесный, многолюдный, и в этих условиях надо обеспечить всем им полную безопасность и приятное времяпрепровождение.
Только, глубокой осенью, когда спадает жара, и из города (а значит, и от нас) разъезжаются гости, я могу вздохнуть спокойно, а у Котика появляется просвет на службе. Тогда мы собираем чемоданы и едем в отпуск в Кисловодск.
Спустя два года после аварии стало окончательно ясно, что здоровье у Котика подорвано, проклятые анаболики дали о себе знать – резкая прибавка в весе, давление, сердце… Вот тебе и «я здоров, чего скрывать…»! Он стал подумывать о том, чтобы уволиться со службы и заняться… Но чем, спрашивается, может заняться человек, всю жизнь проходивший под погонами?
В канун очередных выборов мэра к нему является целая делегация из местных руководителей и предпринимателей и старший из них (местный аксакал) говорит:
— Васильич! Мы тут обменялись мнениями и просим тебя выдвинуть свою кандидатуру, ты человек в городе известный, уважаемый, мы тебе доверяем, как никому, давай! А мы поддержим.
Он сначала опешил:
— Вы что, мужики, откуда вы упали?
Они – его уговаривать. А уже входило в моду, чтобы силовики шли во власть. Он сказал:
— Хорошо. Дайте подумать.
Думал он мучительно. Но первые же опросы, проведённые заехавшей из Москвы профессиональной командой, показали: за него проголосует никак не меньше половины. Соперники были послабее. Так что большого пиара не потребовалось, избрали с первого раза.
Ну все, думала я, теперь вообще его видеть не буду. Правда, была тайная надежда, что, став мэром, Котик откроет для меня какую‑нибудь новую газету, и я смогу вернуться к настоящей работе, которой мне так не хватало последние годы. Но ничего подобного не произошло. Жена мэра, тем более, должна сидеть дома и не высовываться, кроме как в случае протокольных мероприятий.
— У других мэров жены свой бизнес заводят, и то ничего!
Бизнес – пожалуйста, заводи, если ты что‑нибудь в этом смыслишь (я не смыслила), а газета – это политика, политикой ты заниматься не будешь. Теперь я должна была встречать жён высокопоставленных гостей, прибывающих к нам на отдых, и вести с ними светские беседы.
— Только не слишком умничай, — всякий раз предупреждал Котик.
Говорили обычно о погоде, какая в Москве и какая тут, в лучшем случае – о детях, но никогда – о мужьях и государственных делах, Боже упаси. Жены – сами, как правило, простые женщины, только недавно выбившиеся вместе с мужьями «в люди», с неистребимой советской скованностью в речах и поведении рассказывали, в свою очередь, о поездках за рубеж и о том, кого из зарубежных руководителей (с жёнами) пришлось принимать в последнее время, о чём те спрашивали, что дарили и т. д. Протокольные общения всегда утомительно–тягостны для обеих сторон, и я старалась, по возможности, их избегать.
— Скажи, что я приболела. Или уехала.
— Ты меня ставишь в неудобное положение. Через час самолёт.
— Дай хоть голову вымою, накручусь…
Он и сам тяготился новой своей должностью, и видно было, что скучает по прежней работе и, может быть, даже жалеет, что согласился на такую перемену. Но, как он сам любит говорить, «поздно, доктор, пить баржоми…».
В канун Нового года и Нового века – долгожданное событие: мы переступаем порог собственного, только что отстроенного дома. Признаюсь тебе, что само выражение «собственный дом» меня пугало, так сильно во мне было вынесенное из прежней жизни убеждение, что все «своё», «частное» — предосудительно. Хотя в душе я Котика понимала. Он ведь с 11 лет жил по казармам: сначала в суворовском, потом – в армии, потом – в высшем военном. Общежитие, съёмная квартира, служебная квартира, гостиница… Ближе к пятидесяти созрела идея: построить свой дом и провести в нём остаток жизни с любимой женщиной, то есть со мной. Любимая женщина много спорила и сопротивлялась, призывая, если уж никак нельзя совсем отказаться от этой затеи, то хотя бы строить поскромнее, без излишеств.
Снаружи дом и вышел достаточно скромным, пожалуй, самым скромным в нашем квартале сплошных особняков. Внутри же было так непривычно просторно, что первое время мы всё ходили, как в музее, из комнаты в комнату, аукались, теряя друг друга (тут я поняла, зачем в старых барских усадьбах держали колокольчик), и, встретившись где‑нибудь на лестнице или в дверях, смеялись и радовались, как дети.
— Ну, скажи, тебе нравится, ты довольна? – допытывался Котик, заглядывая мне в глаза.
— Разве такая красота может не нравиться? – отвечала я. – Только как тут жить, я пока не представляю.
Я действительно не представляла, как это спальня может быть на одном этаже, а кухня – на другом. Первое время, спустившись вниз, я тут же обнаруживала, что забыла что‑то взять наверху. За день столько наматывала по лестницам, что к вечеру ноги гудели. Ничего. Быстро привыкла, стала бегать легко и даже с удовольствием (мне полезно), а главное, научилась самые необходимые вещи – очки, мобильник, записную книжку и т. д. – носить при себе. Я не представляла, как это за стенкой может не быть соседей, открываешь дверь – и оказываешься сразу во дворе, можешь даже распахнуть её настежь и так оставить – и ничего, никого. А если соль кончится или спички? Не бежать же в соседний дом, это смешно будет выглядеть: дом построили, а спичек нет. Ничего, отвыкай. Я не представляла, что может не отключаться горячая вода, совсем не отключаться, никогда, потому что в доме – свой котёл. И свет не вырубаться, потому что – генератор.
Что говорить! Жить в собственном доме хорошо и удобно. Чувствуешь себя ну очень белым человеком. Хотя что‑то все‑таки гложет. Вот если бы все люди могли жить в таких же домах, тогда мне совсем хорошо было бы и совсем спокойно.
— Совковая психология, — говорит сын.
— Кончай ты уже за всех переживать, — говорит сестра. – А что касается нас, то мы по–прежнему будем ездить к вам в гости.
В доме, в отличие от квартиры, можно разместить гораздо больше гостей, как минимум три семьи одновременно. Они разбредаются по дому, по двору, и каждый занимается своим делом, кто спит, кто загорает, кто телевизор смотрит, кто чай пьёт, и никто никому не мешает. Хотя кухня всё равно одна, общая, и стол один, и его надо три раза в день накрыть, а если ещё учесть, что все просыпаются в разное время…
Когда стали искать женщину, которая могла бы убирать в доме, пришла соседка по прежней квартире, с которой мы «дружили собаками». Я растерялась, стала отказываться, пыталась свести все к шутке, мол, по субботам ты у меня будешь убирать, а по средам я у тебя.
— Да брось ты, — сказала соседка. –Вам нужна домработница, а мне нужны деньги, вот и все. И нечего тут разводить сантименты. Убираю я хорошо.
Я согласилась, но с условием, что она просто поможет мне какое‑то время, пока мы не найдём кого‑то другого, более подходящего. Соседка приходила три раза в неделю, надевала халат, перчатки и с непроницаемым лицом убирала один какой‑то этаж. При этом всё время спрашивала: «Здесь мыть?», «Это протирать?». Кстати, убирала она не очень, но я боялась сказать ей лишнее слово, попросить, например, захватить с собой мусор. Было тягостно.
И тут сам Бог послал нам Аннушку. С ней все быстро встало на свои места. С ней мне легко и хорошо. Я не вмешиваюсь в её дела, никогда не говорю ей, где мыть и что протирать, и могу быть уверена, что чистота будет идеальная. Постоянное присутствие в доме и во дворе посторонних людей поначалу казалось мне неудобным, стеснительным и для них, и для нас. Но скоро я привыкла к ним, как к родным, и уже не могла без них обходиться. Только теперь я поняла, что прислугу заводят не от лени и не от барства, а потому, что никакая хозяйка не справится в одиночку с большим домом. С малогабаритной квартирой – справится, что я всю жизнь и делала, а с домом – нет, масштабы другие. Осознав это на собственном опыте, я спрятала подальше мучавшие меня «совковые» комплексы и окончательно смирилась с новой для себя ролью «хозяйки».
Самое замечательное, что здесь мы смогли, наконец, устроить библиотеку.
Когда мы с Котиком поженились и объединили наше хозяйство в одно, у нас оказалось много одинаковых книг, половину которых пришлось снести в букинистический. Все же получилась довольно обширная библиотека, держать которую было совершенно негде, полки были забиты в два ряда и сверху, книги лежали в коробках, на подоконниках, на столе и даже на полу.
Дня три с небывалым удовольствием расставляла я все это богатство в новом, просторном кабинете, отдав одну стену зарубежной, другую – отечественной классике, а третью поделив между современной русской литературой и документалистикой. В стеклянных шкафах поместились словари и энциклопедии, а в угловых стеллажах – поэзия. Закончив работу, я долго, с любовью все осматривала и, если замечала вдруг изъян в своей системе, вытаскивала с полки заблудившуюся книгу и переставляла её в другое место.
Приехал из Москвы Котик (он теперь всё время мотался туда и обратно) и сказал, что я все поставила неправильно. Перемешала, видите ли, книги про внешнюю разведку с книгами про контрразведку. Как будто я в этом что‑то понимаю.
— Ну, переставь сам.
Он вздыхает и машет рукой: некогда.
Старые русские сильно потеснили на полках много лет царивших там «горожан» и «деревенщиков», задвинули во вторые ряды некогда модных Пикуля и Юлиана Семёнова, заставили переставить в другой иерархии поэтические сборники. Куда, например, было поместить Бродского? К «шестидесятникам»? Подумала–подумала и поставила его (тогда это были ещё маленькие сборнички, позже – академический шеститомник) в один ряд с «великой четвёркой» поэтов Серебряного века — как естественное продолжение. А кое–кого надо было и вовсе убрать с глаз, освобождая место для литературы «русского зарубежья». Её оказалось так много, что не хватило целого отсека, и пришлось ещё раз потеснить и переставить современников.
За это время Котик умудрился натаскать в дом столько книг про Белое движение, что куда бы я ни повернулась, повсюду натыкалась то на мемуар Романа Гуля, то на дневники Деникина, то на «Русский Харбин», а то и на «Мортиролог русской военно–морской эмиграции». Его почти не занимала проза и не жгло желание узнать, что же такого написали в эмиграции знаменитые русские писатели, он жаждал Документа, он осуществлял давнюю мечту человека военного увидеть великое противостояние нашей истории с той, другой стороны.
В какой‑то момент и я почувствовала, что больше не воспринимаю ничего «художественного», никакого, даже самого искусного вымысла. Просто с души воротит. Начну и брошу, начну и брошу. А поскольку я привыкла читать несколько вещей одновременно, то повсюду – на письменном столе, на тумбочке у кровати, на журнальном столике и т д. стали скапливаться у меня горы начатых и недочитанных, брошенных книг.
Но совсем не читать я тоже не могу, посему взялась, как и Котик, за мемуары, дневники, переписку, литературные заметки – всё что угодно, кроме прозы. И оказалось, что в моём нынешнем возрасте это и есть самое замечательное чтение. Чем разводить сплетни с постаревшими подружками, лучше почитать Надежду Яковлевну, а потом ещё сравнить её оценки с тем, что пишет Эмма Григорьевна, хотя лично я больше доверяю мнению Лидии Корнеевны… А дневники Елены Сергеевны! Жаль, что в них так мало подробностей. А письма Симоны де Бовуар к Нельсону Олгрею! Конечно, читать чужие письма (как и дневники) нехорошо, но, во–первых, это безумно интересно, а во–вторых, когда самих авторов уже нет на свете, может, это перестаёт быть личным?
Я полюбила наш дом и хотела бы всегда жить здесь, среди любимых книг и любимых кукол, но… С таким мужем, как Котик, долго на одном месте не засидишься.
Летнее общение в С., встречи–проводы в аэропорту, приватные беседы на госдачах, совместные застолья, дружеские катания на яхтах и товарищеские полёты вертолётом в горы, как нельзя лучше способствуют сближению городских руководителей с первыми лицами страны. По осени то один, то другой взлетает высоко над нашей маленькой Ниццей, машет ей на прощанье крылом и берет курс на северо–запад, в столицу. Сколько уж «наших» обосновалось там во всех государственных структурах! Вот и Котика не обошла сия чаша. Два года спустя мы уже собирали чемоданы в Москву.
Когда‑то я очень любила этот город. Я любила двор журфака с вечной толпой студентов, облепивших со всех сторон постамент глядящего вдаль Ломоносова; мне нравилось подняться пешком по улице Горького, зайти в кафе «Марс» и выпить там чашку кофе с ромовой бабой, заглянуть по пути на Центральный телеграф, известный среди иногородних студентов как «К-9», там мог быть перевод из дому, от родителей; я любила посидеть на скамеейке между памятником Пушкину и кинотеатром «Россия» в ожидании начала дневного сеанса; а то завалиться с девчонками в Домжур (на третьем курсе у меня уже был членский билет Союза журналистов и я могла провести с собой двух подружек); я любила вид из окна на 12–м этаже зоны «Д» в университетской высотке и ночные прогулки с симпатичным мальчиком – от центрального входа до смотровой площадки на Ленинских горах и обратно, зигзагами, с сидением на скамейках и поцелуями посреди освещённой луной дорожки; я любила метро, такое прохладное летом и тёплое зимой, с его особыми запахами и звуками, с непременной книжкой наготове и возможностью, глядя на своё отражение в окне вагона, не спеша о чём‑то важном подумать; я обожала суету субботнего вечера, когда мы перебегали от Сатиры к Моссовету в поисках лишнего билетика и ещё успевали схватить его в «Современнике»…
Да, когда‑то я любила Москву. И даже мечтала остаться здесь насовсем. Некоторые из моих подружек выходили за москвичей замуж. Все мои кавалеры студенческой поры сами были провинциалами и охотились за невестами с московской пропиской. Трижды маячила мне перспектива получить в Москве работу: то звали работать в центральную газету, то в ЦК (сначала в маленький, а потом и в большой), но всякий раз находились причины, по которым переезд не мог состояться. И всякий раз я жалела об упущенной возможности и думала: ну, ничего, это ещё не последний мой шанс, все ещё впереди. Но впереди были уже 90–е годы, и я так и не вырвалась из своей провинции. Вырвался – уже в новые времена – Котик, а я – с ним, жена, просто жена.
Как странно. Теперь мы в Москве, у нас прекрасная квартира в центре, ничто и никто мне больше не мешает «завоёвывать столицу». Но… время ушло безвозвратно. Мечта сбылась слишком поздно. Нынешняя Москва кажется мне чужой и враждебной, я немного боюсь её, боюсь спускаться в метро и никогда этого не делаю, боюсь оказаться одна на улице, однажды это случилось, и мне пришлось пройти пешком от Цветного бульвара до Пушкинской площади, и я изрядно поволновалась, хотя дело было среди бела дня. Иногда мне хочется зайти во дворик журфака на Моховой, но я отчего‑то робею. Здесь почти в каждой редакции сидят мои старые друзья и знакомые, не говоря уже о той газете, в которой я сама несколько лет успешно печаталась, но и туда я не захожу. Зачем? Потрепаться? Люди работают, а ты… Есть ещё чисто литературная тусовка – презентации, премии, юбилеи, куда добрые мои издатели и меня не раз приглашали и чуть не силой затаскивали, но – нет, нет и нет, это и вовсе чужое и чуждое.
Порой я ловлю себя на мысли, что воспринимаю теперешнюю Москву почти так же, как Париж или Прагу, или Вену, когда случается там бывать. Мне нравится разглядывать её из окна квартиры или автомобиля, как заграницу какую‑то, удивляться, восхищаться, пугаться, но – не высовываться.
Круг общения здесь больше, чем был в С., но отношения в этом кругу ещё лицемернее. Министры, сенаторы, депутаты, генералы, бизнесмены, журналисты, большинство из них – такие же провинциалы по происхождению, все – кто раньше, кто позже – «натурализовался» в Москве. Те, что помоложе чувствуют себя, как рыба в воде, те, что постарше, как мы с Котиком, всё не могут привыкнуть и не скрывают своей нелюбви. Провинциалы держатся здесь землячествами, стараются помогать своим, а когда собираются вместе (выпить, посидеть), обычно ругают Москву и вспоминают милые сердцу пенаты. Сеанс коллективной ностальгии. Многих из них Москва уже испортила, добавив снобизма и цинизма, а какие душевные были ребята. Но что бы они ни говорили, возвращаться никто не собирается, напротив, укореняются со всей основательностью.
Котик тоже не любит Москву, и никогда не любил в отличие от меня.
Как только случается у него просвет, он говорит:
— Ну что, летим домой?
И мы летим в С., чтобы, проведя там выходные дни, в лучшем случае, захватив понедельник, поплескавшись в бассейне и обсудив насущные хозяйственные дела с Костей и Аннушкой (красить ли ворота, пересаживать ли заболевшую пальму и травить ли муравьёв, которые расплодились так, что даже в дом заползают), вернуться в пасмурную Москву и снова окунуться в столичную жизнь.
Что дальше – я не знаю и не загадываю. И жду того времени, когда Котик окончательно выйдет в отставку и мы поселимся в С. навсегда.
Все‑таки дом у человека должен быть один. И всё, что необходимо, всё, что дорого ему – книги, куклы, фотографии, милые сердцу вещицы – должны находиться в одном месте, там стариться, покрываться слоем времени и сохраняться для потомков.
В этом доме совсем скоро родишься и станешь жить ты, моя девочка. И то, к чему я так трудно и долго привыкала, будет для тебя естественным и с детства привычным.
Дом, который построил дедушка. Родовое гнездо.
Когда ты немного подрастёшь, я сама приведу тебя в кабинет и расскажу о живущих там куклах, ведь у каждой из них есть своя история. Надеюсь, ты не станешь с ними играть, а будешь только приходить и любоваться, они такие хрупкие.
За что я люблю кукол и почему в довольно уже зрелом возрасте стала их собирать, я объяснить не могу. Далеко не каждую куклу мне хочется взять к себе, для этого она должна подать мне какой‑то сигнал, чем‑то задеть, зацепить. Обычно это взгляд, который либо притягивает, либо отталкивает. Выражение лица. Настроение.
Знаешь, чем отличаются куклы, которые сделаны для игры и которых продают в магазинах, от кукол, сделанных художником всего в нескольких, а часто даже в одном–единственном экземпляре? Куклы для игры всегда улыбаются, и улыбки их обычно совсем глупые, бессмысленные. У кукол, сделанных художником, зачастую грустные лица. Они вообще бывают похожи на своих авторов, потому что, когда какая‑нибудь художница делает свою куклу, она невольно (а может, и нарочно) запечатлевает в ней себя, свою душу.
Куклы – это застывшие души женщин.
Одна такая душа живёт в кукле по имени Маргарита.
Мы обнаружили её в антикварной лавке в самом центре Парижа. Это была тесная комната, заставленная высокими, до потолка старинными шкафами, в которых чего только не было – старая кукольная посуда, кукольная мебель и настоящие кукольные дома с полным убранством, ну, и конечно, сами куклы – большие, маленькие и совсем крошечные, целлулоидные, пластмассовые и с фарфоровыми головками, в одёжках по моде столетней давности и давности сорокалетней, и все – запылённые, как будто покрытые кисеёй. Мы еле могли протиснуться между длинным, заваленным книгами и журналами столом и шкафами, особенно туго пришлось Котику. Антиквар по имени Роже Каппе, человек лет шестидесяти, худой и высокий, с гладким, несколько восточным лицом и тонкими кистями рук, не слишком охотно показывал нам свои богатства, мы пришли под вечер, он уже закрывался. Я задавала слишком много вопросов, Котик переводил, и хозяин, удерживая на лице искусственную улыбку, сдержанно отвечал. Оживился он, только когда Котик сообщил ему, что мы готовы купить одну из кукол. Какую же именно? Я указала на Маргариту. Он, кажется, был разочарован. Вы не все знаете о ней. Открыл скрипучий шкаф, достал куклу и показал нам фокус с двумя лицами, после чего поведал её историю.
В начале прошлого века в Париже был мастер, который делал кукол на заказ для богатых дам. Некоторые заказывали кукол, похожих на них самих или на их детей. Представь: ребёнок вырос, стал взрослым, но осталась кукла – точная его копия. Так вот, один богатый господин заказал куклу, похожую на его молодую жену, но с двумя лицами, одно из которых смеялось, а другое плакало. Якобы жена его страдала меланхолией, и он придумал с помощью куклы её вылечить. Он сажал эту куклу в гостиной, на самом видном месте и, когда молодая женщина входила туда в обычном своём дурном настроении и видела своё лицо с гримасой плача, она должна была, по мысли несчастного мужа, устыдиться своего вида и перестать дуться и хныкать, а захотеть выглядеть весёлой и красивой. Для этого ей достаточно было нажать кнопку на голове у куклы и выдвинуть другое, улыбающееся личико. Так он рассчитывал приучить её скрывать, прятать своё дурное настроение и выглядеть всегда приветливой и милой дамой. И вроде бы ему это удалось, жена его на какое‑то время излечилась от меланхолии и повеселела, но вскоре умерла от какой‑то неизвестной болезни. После этого он сам впал в меланхолию и через год последовал за любимой женой. Кукла сначала досталась их дальней родственнице, потом её дочери и так передавалась из поколения в поколение, сменив за свою долгую жизнь не одну хозяйку. Последним в цепочке оказался молодой человек, который и продал её нашему антиквару.
Пришла очередь смутиться нам. Что‑то тяжёлое было в этой истории, и лучше было отказаться от нашей идеи. Антиквар уже водрузил куклу на место, и тут она посмотрела на меня из‑за пыльного стекла такими живыми, такими человеческими глазами, что мне вдруг стало жаль её, как бывает жалко ребёнка с врождённой патологией, которого показывают за деньги, демонстрируя для забавы его уродство, но никто не хочет взять его к себе. Я послала Котику, умоляющий взгляд. Он все понял и сказал:
— Уи, мсье. Ну ля пренон.
Так Маргарита оказалась в нашем доме.
Очень скоро я об этом пожалела, так как стала замечать, что в её присутствии совсем не могу работать, словно какая‑то сила отрывает меня от листа бумаги и заставляет смотреть в её сторону, когда же я смотрю на неё, меня охватывает тоска и хочется плакать, даже если сама кукла в этот момент улыбается. Я всегда помню о её втором, потайном лице.
Однажды я даже пробовала запереть её на время в шкаф, но от этого мне не стало легче, напротив, я стала думать, каково ей там, одной, в темноте, за закрытой дверцей…
А с тех пор, как я узнала о тебе, моя девочка, покой и вовсе меня покинул. Я стала думать, что присутствие Маргариты в доме, куда вскоре принесут маленькую девочку, совсем нежелательно. Увезти её в Москву? Отдать? Продать? Все не то, все не годится…
Впрочем, у меня ещё есть время подумать.
11
Звали её Фаина. Имя своё она не любила. То есть, в детстве, конечно, любила, как все дети любят, не задумываясь, почему их зовут так, а не иначе. Дома её звали Фая, Фаечка, Фаюшка (с ударением на ю). Сама она, учась говорить, произносила поначалу лишь первые две буквы – Фа…
— Девочка, как тебя зовут?
— Фа!
Став старше и сообразив, что вокруг все девочки сплошь Маши, Даши и Ксюши, в крайнем случае – Насти, и только одна она – Фаина, она стала не любить своё имя и даже стесняться его. В школе дети и даже некоторые учителя переспрашивали удивлённо:
— Фаина? Ты что, нерусская?
— Почему? Русская… – краснела и обижалась она.
Пока не услышала случайно, как одна взрослая и очень красивая женщина сказала о себе: «О! Во мне много кровей намешано!». Фаине это выражение так понравилось, что она решила впредь говорить то же о себе. Ей казалось, что это придаёт ей загадочности в глазах окружающих и хоть как‑то оправдывает её необычное имя.
Когда проходили по истории покушение на Ленина, весь класс на неё оглядывался и многозначительно улыбался. В более поздние времена кто‑нибудь обязательно съехидничал бы:
— Что ж ты так плохо стреляла?
Но тогда ни у кого, тем более у школьников таких даже мыслей не возникало. Ленин – вождь, Фанни Каплан – вражеская гадина. Спасало только то, что та все же Фанни, не Фаина. Мальчишки подразнили её некоторое время «эсеркой», но быстро забыли эту тему.
Другая Фаина была причиной более длительных шуточек в её адрес. В то время по телевизору часто показывали фильм «Подкидыш», где играла Фаина Раневская. Родители очень любили эту актрису. Ей она тоже нравилась, позже она вообще стала считать, что это и есть самая великая актриса советского кино, а никакие не Орлова–Ладынина. Но тогда, в школе, даже девочки дразнили её Мулей:
— Муля, не нервируй меня!
Она делала вид, что ничего, не обижается, и смеялась со всеми вместе, но дома спрашивала:
— Ну зачем, зачем вы меня так назвали?
Хотя прекрасно знала – зачем, родители просто подбирали имя на букву Ф, потому что фамилия их была тоже на Ф – Фетюшины, и им казалось, что это хорошее сочетание.
— Между прочим, Фаина в переводе с греческого – сияющая! — говорил в своё оправдание отец.
— Что ж я не сияю?
— Подрастёшь – засияешь! – обещала мать. – И умом, и красотой, и вообще!..
Насчёт ума они не ошиблись, девочка выросла умненькая, но красотой не блистала, портил крупный нос, унаследованный от деда по материнской линии. В сочетании с именем это не сулило ей в будущем большого счастья. И тогда любящие родители, у которых она была один свет в окошке, решились на отчаянный шаг, собрали, какие могли, деньги, и повезли девочку в Москву, в Центр пластической хирургии. Идея принадлежала самой Фаине, начитавшейся о подобных операциях в журналах. С первой попытки родители с негодованием идею отвергли и даже сочли себя несколько оскорблёнными, но дочка настаивала, и сначала мать, а потом и отец стали обдумывать эту мысль, советоваться между собой и со знакомым хирургом по костям, наконец, согласились и даже более того, сами загорелись, опасаясь лишь одного, чтобы не вышло хуже, чем есть. Но операция оказалась удачной. Отлежав положенное в клинике и отсидевшись дома, пока не прошла обычная в таких случаях краснота и отёчность, Фаина вышла на люди совершенно новым, очень симпатичным человечком – с аккуратным носиком и большими, выразительными глазами, которые и раньше были такими, но стали теперь виднее, заметнее. Другим стало и выражение её лица, с которого сошла былая унылость и которое всё светилось теперь восторгом и радостью жизни. Мать любовалась дочкой со слезами на глазах, а отец первое время все отводил взгляд, говоря: «Нет, это не ты…».
Операция подгадана была под окончание школы и поступление в вуз, так что никто, кроме самых близких людей, ничего и не заметил. Просто из школы вышла одна девочка, а в вуз пришла поступать совсем другая.
Тогда же она без сожаления отбросила первые буквы своего имени, удвоила «н» и стала Инной. Во всяком случае так она представлялась теперь новым знакомым, хотя в паспорте значилось по–прежнему: Фаина. Позже, при обмене советских паспортов на российские она и это препятствие устранила.
Новое имя нравилось ей гораздо больше, в нём слышался намёк на инакость. А главное, ей перестали задавать глупые вопросы, Инна так Инна. Имя как имя. Хотя всё равно редкое. Была только одна артистка с таким именем – Инна Чурикова, которую она с некоторых пор стала считать самой великой актрисой уже другого, своего времени. С детства она очень любила кино и даже мечтала стать кинорежиссёром, но поступать во ВГИК не решилась, будучи на тот момент слишком закомплексованной и в себе не уверенной.
Скоро она ощутила, что жить с новым носом и новым именем стало легче, будто она теперь не она, а какой‑то другой человек. Это маленькое открытие пригодилось, когда спустя несколько лет выпускница психологического факультета Инна Фетюшина стала работать психотерапевтом в наркологической клинике, где готовила к кодированию алкоголиков и наркоманов. Она и им пыталась внушить идею «другого человека», правда, не всегда успешно. За одним из своих вылечившихся пациентов она даже побывала замужем, но неудачно, тот смог продержаться «другим человеком» всего два года и взялся за старое. От этого брака Инна оставила себе только кинематографическую фамилию – Янковская, из‑за которой она в своё время и обратила внимание на этого пациента и про которую говорила, что эта фамилия – «лучшее, что у него было». Себя она тоже продолжала совершенствовать: перекрасилась в светлорусую и длительным сидением на диете добилась желаемой стройности. Знание психологии помогло ей выработать повадки женщины, знающей себе цену.
Таким образом, к 30 годам из некогда длинноносой, чернявой, склонной к полноте и закомплексованной девочки Фаины Фетюшиной получилась курносая, стройная и уверенная в себе блондинка Инна Янковская. Родители гораздо тяжелее, чем она сама, переживали её развод, были недовольны тем, что дочь отказалась от их фамилии, и сокрушались, что к 30 годам у неё – ни мужа, ни деток. Сама Инна не считала себя одинокой и несчастной, напротив – свободной и независимой. Теперь у неё был друг, из разряда редко приходящих и ничего не обещающих, но Инну это пока устраивало, новый амбициозный «проект» занимал её воображение, и на осуществление его она бросила все силы.
Всё началось с банальных разговоров на кухне с подругами, у каждой из которых были свои проблемы с мужьями, любовниками и начальниками. Все это бесконечно обсуждалось и разбиралось, при этом подруги (их было две) с благоговением слушали Инну, умевшую любую ситуацию объяснить с психологической точки зрения и даже научить некоторым специальным приёмам. Было что‑то вроде женского клуба выходного дня.
— На что жалуетесь? – спрашивала Инна, нацепив очки и сделав строгое лицо.
— На Какашкина, — отвечала, давясь смехом, подруга.
— Кто это, Какашкин?
— Да есть тут один урод. Раздражает меня страшно.
— Вы могли бы сделать так, чтобы с ним не пересекаться?
— Хотелось бы, но не получается, это мой начальник.
— Странная фамилия для начальника.
— Да нет, фамилия у него нормальная – Иванов, это я его для себя так называю, мне так легче переносить.
— Это вам кто‑то из психологов подсказал или вы сами додумались?
— Сама.
— Замечательно! Этот приём называется «замещение». Всегда так делайте, если человек вам почему‑либо неприятен. Переименуйте его в Какашкина, нафантазируйте ему рога или лучше вот что: разденьте его совсем, мысленно, конечно, — сразу увидите, какой он жалкий и ничтожный, и у вас отпадёт желание с ним спорить и на него обижаться.
— Да… — задумчиво отвечала подруга, — я тут недавно одного мысленно раздела…
— Ну и?
— Другое желание возникло. Ха–ха–ха!
— Вот видите, значит, не так уж он и плох. Послушайте, я вас научу расслабляться. Значит, так. Откидываетесь на спинку стула, закрываете глаза и представляете какую‑нибудь приятную для вас картину. Может, что‑то из детства. Или природу, лучше всего природу – знаете, берег, пальмы, солнышко светит, море вдалеке…
— А по морю плывёт Какашкин. Знаю, пробовала.
— Послушайте, да у вас мания!
— Думаете? А по–моему, обыкновенная дистимия.
(Подруга сама была детский невропатолог).
— Ну, как же, у вас всё время один Какашкин на уме.
— Почему? Это уже другой, не тот.
— Как, у вас ещё один Какашкин есть?
— Конечно. Супруг мой, Игорь Иванович.
— Что же вы и его Какашкиным обозвали? Придумали бы что‑нибудь другое.
— А зачем?
Девушки покатывались со смеху, и может, смехом бы все это и кончилось, но однажды подруга привела родственницу, которой недавно сделали операцию по поводу рака груди и которая впала после этого в жуткую депрессию, решив, что как женщина она теперь не представляет никакого интереса, никому не нужна, в том числе собственному мужу, и что жизнь её на этом можно считать законченной. В течение одного вечера Инна смогла переломить эти упаднические настроения, вселила в женщину настроение жить дальше и впервые сама про себя поняла, что заниматься женской психологией ей интереснее. В свою очередь пациентка растрезвонила знакомым и подругам, и к Инне, в небольшую двухкомнатную квартиру на улице 50–летия Октября, оставшуюся ей от дедушки по материнской линии, потянулись немолодые дамы, каждая со своим букетом возрастных проблем и неврозов. Так постепенно стала проясняться идея – открыть на квартире у Инны кабинет психотерапии.
Поначалу она боялась совсем уйти из диспансера и работала на два фронта, неделю – там, с алкоголиками и наркоманами, выходные – дома, с женщинами, нуждающимися в психологической помощи. Но их оказалось так много, что уже записывались за месяц, а то и за два вперёд. И в конце концов она смогла, не опасаясь остаться без куска хлеба, уволиться, сняла квартиру на улице Мимоз и наняла женщину, которая отвечала на телефонные звонки, вела запись на приём, готовила чай и кофе для пациенток и убирала после их ухода кабинет- квартиру. Себя она называла теперь не иначе, как психоаналитиком – модное слово, заимствованное из западной жизни, а скорее – из западного кино. Кино она по–прежнему любила.
Когда в квартиру на улице Мимоз позвонили двое незнакомых мужчин, один из которых показал в дверях красную корочку, Инна, не ждавшая гостей, одетая в джинсы и майку, ненакрашенная и с завязанным хвостом волосами, подумала, что это нагрянули налоговики или кто‑нибудь в этом роде. И хотя налоги она исправно платила и документы, разрешающие частную медицинскую практику, были у неё более или менее в порядке (если не считать, что в лицензии фигурировал «кабинет массажа»), встречаться со всякими инспекторами и проверяющими она не любила, но в общении с ними держалась одного правила: не возражать и быть предельно вежливой. Следуя этому правилу, она улыбнулась и пригласила гостей в комнату, на ходу успев распустить хвост и кое‑как поправить волосы. В комнате, под низко опущенным шёлковым абажуром составлены были полукругом три кресла, на каждом из которых лежало по мягкому пледу и рядом с которыми, на ковре, стояли уютные домашние тапочки. Напротив кресел, у окна, было пустое, как будто специально освобождённое пространство, и лежал ещё один, овальной формы ковёр. Можно было подумать, что на нём делают гимнастические упражнения, тогда как кресла предназначены для зрителей. В противоположном от окна углу комнаты, позади кресел, стояла трёхстворчатая ширма, явно что‑то скрывавшая. Можно было предположить, что там находится знаменитая кушетка, на которой произносятся главные откровения пациентов.
— Это и есть кабинет психотерапии? – спросил тот из гостей, что был меньше ростом, подтянутее и казался моложе. Второй, повыше, покрупнее и посолиднее, молчал и только внимательно оглядывал обстановку.
— Психологической помощи, — скромно поправила Инна. – Вам лицензию показать?
Лицензия не понадобилась, а гость, откровенно разглядывая хозяйку (ну, не такая уж и красавица, как расписывали) стал задавать совсем странные вопросы, например, была ли она в минувшую субботу, около половины десятого утра, в кафе «Бирюза» на Приморском бульваре. Получив утвердительный ответ, он предъявил фотографию женщины, которую Инна, разумеется, знала. Но давать какие‑либо сведения о ней наотрез отказалась. Дело в том, объяснила она, что одно из условий работы её кабинета – анонимность и конфиденциальность, иначе трудно рассчитывать на полную откровенность и доверие пациенток. Она не спрашивает у них паспортов, не интересуется адресами и местом работы, даже настоящих имён их зачастую не знает. У каждой женщины есть здесь свой псевдоним, который она сама себе выбирает при первом посещении, и в дальнейшем все её только так и называют. Женщинам это даже нравится, они как будто перевоплощаются в другого человека, с другим именем, могут и биографию себе новую придумать, это тоже своего рода психотерапия.
— А эти женщины, они вообще‑то как, нормальные или…
— В основном да, — невозмутимо отвечала Инна.
— И какой псевдоним был у нашей дамы?
Инна подумала и сказала:
— Ну, допустим, Мирослава. Вам это о чём‑нибудь говорит?
Гости переглянулись.
— Это её настоящее имя, — сказал тот, что задавал вопросы.
— Разве? – Инна пожала плечами. – Ну, что ж, очень на неё похоже.
Все‑таки она выделялась среди других пациенток. Она и появилась не как все – по записи и по очереди, – просто пришла и попросила: можно я посижу, послушаю? В тот день их было трое, да трое, четвёртой оказалась как раз она, Мирослава. Сидела поначалу тихо в сторонке, в полумраке. А в центре, в креслах, освещённые абажуром те три девушки. Она ещё сказала, когда только рассаживались, что любит полумрак и сразу нырнула в него, так что только силуэт был виден в углу комнаты, но присутствие её каким‑то странным образом всё время ощущалось и даже мешало Инне проводить сеанс. Потом она как будто придвинулась ближе к сидящим кружком пациенткам, потом, видимо, увлёкшись происходящим, в какой‑то момент задала вопрос, и девушки, поначалу не обратившие на неё особого внимания, вздрогнули от неожиданности и оглянулись. И потом время от времени оглядывались, будто им она тоже мешала. В конце концов одна из них, уже прямо обернувшись к ней, спросила: а вот вы что думаете? И та начала говорить и говорила довольно толково, так что Инна даже почувствовала маленький укол ревности, а кончилось тем, что она, эта дама из полумрака, полностью перехватила у неё инициативу, сама задавала девушкам вопросы и сама отвечала, и уже непонятно было, кто ведёт занятие и кто тут психоаналитик, а кто так, пришёл поприсутствовать. Но Инне хватило ума и такта не останавливать её, потому что она видела: пациентки завелись, включились, а это самое главное, их теперь надо только не спугнуть…
Первой была Ника, 41 год. Одета и причёсана стильно, со вкусом. Тип современной деловой женщины. Советник по связям с общественностью на какой‑то фирме. Проблемы с новым, недавно пришедшим директором. Утверждает, что он – полный кретин, непонятно, как таких могут ставить на руководящую должность. Безграмотный, невоспитанный человек, самоуверенный хам. Объясняться, что‑то доказывать совершенно невозможно, поскольку он даже не понимает значения некоторых слов. Уверена, что относится к ней предвзято, хочет выжить и посадить на её место своего человека.
— Ника, — подала голос дама из полумрака. – А каких, например, слов он не знает?
— Ну, например. Приношу ему дайджест прессы. Он орёт: что ещё за дайжес, вы должны сами читать и мне докладывать! Или. Говорю ему: Сергей Александрович, ваша встреча с телезрителями будет идти в интерактивном режиме. Он орёт: это я сам решу, в каком режиме мне идти!
— А вы не пробовали по–русски сказать, без этих самых слов?
— Да он и по–русски с трудом. Я и так все за него пишу и говорю, имидж ему, дураку, создаю.
— То есть намеренно демонстрируете, что вы умнее?
— Ничего я не демонстрирую, я с ним разговариваю очень вежливо. Да, Сергей Александрович. Хорошо, Сергей Александрович. Будет сделано, Сергей Александрович. Если бы я ему грубила, как он мне, меня бы давно попёрли оттуда.
— А может, вам и в самом деле стоит поискать другую работу?
— Но мне нравится моя работа, и я не хочу терять такую зарплату. Только поэтому терплю и делаю хорошую мину, а выйду из кабинета – плакать хочется и прибить его, гада.
— Это мы вам устроим, — пообещала Инна.
Две другие — подруги. Из отдыхающих. Марта и Майя (псевдонимы выбраны по месяцам рождения). Обе незамужем. Возраст соответственно 31 и 33.
Марта была в браке, недолго, развелась, детей нет. Мужчин, всех без исключения, считает «козлами», дебилами и т. п. Сама рослая, крупная кость, размер обуви не меньше 40, всё время пытается спрятать ноги, рыхловата, одета в балахон, возможно, стесняется большой груди, лицо красивое, но мрачное. Взгляд тяжёлый, смотрит исподлобья, в упор и не мигает. Впечатление, что заранее недовольна и говорить не расположена, цедит через силу. На вопросы отвечает высокомерно, с вызовом, хотя пришла сама.
— Замуж вышли по любви?
— Нет.
— А зачем?
— Не было другого выхода.
— Беременность?
— Нет. Просто я тогда заканчивала институт, надо было выселяться из общежития, а домой, к родителям, возвращаться не хотелось.
— У него была квартира?
— Нет, но мы снимали, сама бы я не потянула.
— Вы его совсем не любили?
— Нет.
— А он вас?
— Не знаю. Может, и любил. Это его проблемы.
— Кто был инициатором развода?
— Я.
— Он легко согласился?
— Нет, нас развели в суде.
На вопрос, хочет ли снова выйти замуж, Марта заявила, что с неё хватит и одной попытки. Тем более, что с кем ни познакомится, ни один не нравится, через полчаса разговора она его уже презирает. На самом деле хочет и замуж, и ребёнка, просто не получается. Причин происходящего с ней не понимает.
— Скажите, Марта, а вы вообще кого‑нибудь любили? – раздался голос из полумрака.
Она обернулась, хмыкнула.
— А кого любить? Одни же козлы кругом, особенно у нас, в Москве, ни одного же нормального нет, кого любить?!
— А из своих родных вы кого больше любите – маму, отца, бабушку, кто у вас есть ещё? Брат, сестра?
— Если честно, — сказала Марта с вызовом, — у меня такая родня, что любить их не за что совершенно. Родители давным–давно в разводе, у каждого своя жизнь, бабка с дедом в маразме. Сестра есть, сводная, в семье матери, я её не признаю, как и её папашу, у отца тоже есть пасынок, его, что ли, прикажете мне любить? С какой радости?
— Ясно, — сказала дама из полумрака. – Может, у вас хотя бы собака есть?
— Есть.
— Да что вы! Замечательно! Я сама собачница. У вас какая порода?
— Шарпейка.
— О! Девочка! Представляю. Просто бархатная игрушка.
— Да, прелесть. Я её обожаю.
Вторая, Майя, тоже незамужем, и никогда не была. Худая, высокая, в очках. Одета нелепо – в длинную, мелким цветочком юбку и спортивную майку с надписью на английском. К мужчинам относится лояльно, принца не ждёт, согласна на обыкновенного, нормального парня, но тоже пока не получается, облом за обломом. О себе рассказывает охотно, в подробностях. Смотрит во все глаза, все ей интеренсо, и про себя, и про других.
История такая. Молодой человек, старше её на шесть лет, не женат и никогда не был, живёт с родителями. Семья – из бывшей партноменклатуры. Прекрасное образование, интеллигентный, воспитанный, к тому же, сотрудник МИДа. Родители страстно хотят его женить, хотят внуков, самого его, кажется, устраивает холостяцкая жизнь, он к ней привык. Их намеренно познакомили, как знакомят великовозрастных холостяков с целью поженить. Он особого интереса не проявил, вёл себя довольно вяло, впрочем, за столом за ней ухаживал и поехал провожать (его силой впихнули в такси и сказали: езжай). У дома она, сочтя, что, если простится с ним сейчас, то точно уже никогда его больше не увидит, пригласила подняться к ней, попить чайку–кофейку. Он нехотя поднялся, а уж там она сделала все, чтобы оставить его на ночь. Ночью он ей не понравился, та же вялость, неохота, но она отнесла это на счёт выпитого в ресторане. Потом он не появлялся неделю, вдруг позвонил поздно ночью, часа в три, и приехал, попил, поел, поспал, утром уехал. И так продолжалось три месяца, он пропадал надолго, потом появлялся, всегда ночью, оставался до утра, утром завтракал и уходил, ни разу никуда её не приглашал и ни о чём серьёзном не заговаривал. Хотя вообще‑то говорил очень много, просто рот у него не закрывался, все говорил и говорил, но – исключительно о политике. В первый раз она слушала его с восхищением (какой умный!), потом – с обидой (слова не даст вставить!). Её мнением он совершенно не интересовался, а когда она один раз попыталась что‑то сказать, он её оборвал: «Да что ты в этом понимаешь!».
Она сначала испытывала эйфорию: он высокий, красивый, с примесью греческой крови, даже как будто влюбилась, стала строить планы и мечтать, потом стала злиться на него, наконец, решилась на принципиальный разговор. И тут выяснилось, что никаких планов у него относительно неё нет и не было, что у него есть женщина, уже много лет, и это «почти жена» (вот от кого он так поздно к ней заезжал), но что жениться он ни на ком не собирается – ни на той, ни тем более на этой, а привык жить с мамой и думает продолжать так и жить. На вопрос обалдевшей Майи: «зачем же ты ко мне ездишь?», он пожал плечами и сказал, что и сам не знает, зачем, так, просто. Она хотела его выгнать и больше уже не пускать, но не смогла, не хватило духу. Так и тянется, вот уже второй год. Он вроде есть, и вроде его нет. А у неё годы уходят.
Когда все три истории были рассказаны, началось собственно действо. Инна отодвинула ширму и указала на сидевших за ней прямо на полу огромных, довольно безобразных на вид плюшевых монстров:
— Выбирайте.
Ника выбрала лохматого, чуть не в натуральную величину, волка, усадила за письменный стол, положив его передние лапы на столешницу и даже всунув ему между когтей шариковую ручку. Совершив все эти приготовления, она с минуту смотрела на него, видно настраиваясь на нужную ноту, и вдруг разразилась потоком слов, среди которых «идиот несчастный» и «дебил безграмотный» были самыми безобидными. Другие девушки тоже помогали.
— Такого работника, как она, ещё поискать надо, а ты не ценишь, волчара поганый!
— Да какой он волк, он козел самый настоящий!
Ника раскраснелась, глаза её горели, под конец она выволокла плюшевую игрушку из‑за стола и от души попинала ногами. Фуф!
— Молодец, — похвалила Инна. — Постарайтесь запомнить эти свои ощущения, и всякий раз, когда будете входить у нему в кабинет, вспоминайте их про себя.
Настала очередь Марты. Она заметно повеселела, расправа с предыдущим объектом ей очень понравилась. Но её случай был другого рода, ей, напротив, надо было отучиться видеть в каждом мужчине, с которым сводит её жизнь, козла и дебила. Инна сама выбрала для неё белого, пушистого котика, сравнительно небольшого, усадила ей на колени и велела поговорить с ним как можно ласковее. Марте долго не удавалось найти нужные слова, кажется, она их вообще не знала, Инна стала подсказывать.
— Он хороший, пушистый, белый… Самый белый и самый пушистый. Скажите ему об этом. Не стесняйтесь говорить приятные слова, хвалить, восхищаться.
Марта закрыла глаза, гладила котика по спинке и с трудом выдавливала из себя такие непривычные для неё слова: «ты мой котик… ты добрый… ты ласковый…».
Ей подпевал целый женский хор:
— Тебе повезло! Мы все тебе завидуем!
Под конец Марта внимательно посмотрела на котика, чмокнула его в нос и спросила:
— А можно я его с собой заберу?
— Берите на здоровье, только не сегодня, а когда закончим с вами заниматься, и пусть он у вас сидит на самом видном месте. Как только вам захочется обругать какого‑то мужчину, вы взгляните на него и вспомните все те слова, которые здесь произносили.
С Майей долго не могли подобрать подходящую игрушку. Она говорила:
— Нет, он у меня симпатичный, а это что за уродина? Нет, и этот не годится, он какой‑то неказистый.
Наконец выбрали яркого, сине–красно–жёлтого попугая, посадили на спинку стула.
— Похож?
— Похож…
— Ну и что мы ему скажем?
Майя смотрела на попугая с укоризной и только вздыхала.
— Давайте я! – с готовностью предложила Марта.
— Нет, пусть она сама, а вам лучше помолчать.
Майя начала неуверенно, останавливаясь после каждой фразы, словно ожидая, что её сейчас перебьют, не дадут договорить.
— Больше ты ко мне ходить не будешь… Больше я тебя не пущу, хватит…
— Молодец, правильно! – поддакивали девушки. –Пусть катится колбаской по Малой Спасской, обойдёмся! Подумаешь, цаца выискалась, дипломат хренов! Да у нас таких, как он, навалом на пляже загорает!
— А если ты все‑таки явишься, я скажу… я скажу…
Вдруг она села на место и расплакалась.
— Ты чего? – наклонилась к ней Марта.
— Нет, девочки, я не смогу. Я его, наверное, люблю все‑таки.
Попугай клюнул носом и свалился со стула.
Когда стали расходиться, Инна попросила даму из полумрака задержаться. У неё даже закралось подозрение, не конкурентка ли это какая разнюхивает, что тут и как.
В сущности, никто ведь здесь, в провинции, не знает толком, что это такое – психоанализ, упражняются, кто во что горазд, как, собственно, и сама Инна, читавшая, конечно, и Фрейда, и Юнга, но одно дело – читать, и совсем другое – практиковать самостоятельно. Она отдавала себе отчёт в том, что все её занятия, так называемые «сеансы» — чистой воды профанация, и боялась только одного – нарваться на пациентку, которая это поймёт и захочет её разоблачить.
Они перешли в кухню и просидели за чаем и разговором ещё часа два. И «новенькая» рассказала, что давно хотела познакомиться с профессиональным психоаналитиком, и вот приятельница подсказала, где есть такой кабинет, и она нарочно пошла пешком, чтобы продумать по пути все свои вопросы. И вот она шла и проговаривала их про себя, и пока дошла, сама же мысленно на них и ответила, так что вроде и необходимость отпала, а поприсутствовать решила так, из чистого любопытства.
— Ну, и как вам?
— Если честно, не очень.
— Почему?
— Я себе это немножко по–другому представляла. И потом, мне не нравятся групповые занятия, хотя я знаю, что это теперь модно. Лично я бы предпочла общаться один на один.
Через неделю она снова пришла, и в этот, второй её приход Инна многое о ней узнала и сделала для себя вывод, что она все же нуждается в помощи, но уговорить её заняться всерьёз не смогла. Времени нет, не до того и вообще: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. На какое‑то время она исчезла, потом снова появилась, и они несколько раз общались, но наедине, такое было её условие. Постепенно и сама Инна стала рассказывать ей про свою жизнь, тоже не слишком удачно сложившуюся, и уже Мирослава анализировала Иннины проблемы и советовала, как поступить, так что было не понять, кто из них к кому ходит и кто кому психоаналитик.
И вот на днях она позвонила, но приехать не захотела, а предложила встретиться на нейтральной территории, у парикмахерской.
— Так что, собственно, вы хотите узнать? – Инна смотрела на гостей с тревогой, ожидая какой‑то неприятности.
Оказалось, ничего такого, чего она не могла бы рассказать без риска для своей профессиональной репутации. Всего лишь – зачем они встречались в то утро в кафе, о чём говорили, не сообщала ли Мирослава о каких‑то своих планах на тот день и куда она направилась из кафе.
Значит, так. Встречались они потому, что Мирославе нужно было посоветоваться с ней относительно сестры. Нет, не той, у которой муж недавно умер, с той она тоже встречалась, но там ничего страшного, женщина с совершенно здоровой психикой, так что постепенно сама успокоится. А тут речь шла о другой сестре, у которой муж завёл фактически вторую семью и даже родил там ребёнка (чего никто, кроме Мирославы ещё не знает), но и из этой уходить не хочет, так и живёт на две семьи, и сестра превратилась в настоящую невротичку, не ест, не пьёт, похудела страшно, и вот Мирослава очень за неё боится, как бы с ней чего совсем плохого не случилось. Она сама уже пробовала её увещевать и уговаривать, но сил её для этого не хватает, она её слишком любит и слишком ей сопереживает, тут надо, чтобы чужой человек попробовал повлиять. Сестра приедет на недельку и придёт к Инне, и, если вдруг самой Мирославы в это время не будет здесь, так чтобы Инна её приняла и занялась с ней. Вот об этом и договаривались. Вышли из кафе вместе, Инна хотела пройтись по набережной, день был ещё хороший, солнечный, дождь пошёл только к вечеру. Но Мирослава спешила, сказала, что должна съездить в одно место и отвезти туда одну вещь, а потом ещё успеть на какой‑то праздник. Так и сказала: «одно место» и «одна вещь», а про праздник – где и какой – вообще не уточняла. Инна проводила её до машины, ещё похвалила, что она сама за рулём, она ей давно внушала: вождение машины добавляет уверенности в себе. Мирослава помахала ей рукой и уехала.
— Значит, вы расстались с ней на парковке и больше её не видели и не слышали?
Инна внимательно посмотрела на одного, потом на второго и спросила:
— Она что, пропала?
— Нет. Просто пропала одна вещь, которую она в тот день, видимо, возила с собой, вещь дорогая, мы пытаемся её найти, а для этого надо, так сказать, проследить весь путь…
— Почему же вы у неё самой не спросите?
— Она уехала отдыхать, это довольно далеко, и там нет связи.
— Странно. А что за вещь пропала?
Маленький вопросительно посмотрел на большого (тот кивнул) и сказал:
— Старинная французская кукла с двумя лицами.
— А, Маргарита!
— Так вы её знаете? Видели? Она случайно не у вас?
— Нет, что вы! Но один раз она приносила её на занятия.
— Это ещё зачем?
— Мы проводили сеанс куклотерапии.
— Чего?
— Куклотерапии.
— Как это?
Инна нехотя рассказала. Есть одна девушка, Марта, которая никак не может выйти замуж. Виной всему её собственный характер, слишком мрачный, депрессивный. Она на все и всех смотрит с вечным неудовольствием. Все вокруг плохие, одна она хорошая. И вот с ней проводили этот сеанс. Сажали куклу в кресло, разворачивали плаксивым лицом, словно говоря: вот, полюбуйся, и ты такая же, можно ли тебя, такую, полюбить? На время сеанса кукла была как бы Марта, а настоящая Марта была как бы психоаналитик, и с ней, то есть с куклой, беседовала. Сама задавала различные вопросы и сама же на них отвечала, то есть, получалось, занималась психологическим самоанализом.
— И что, помогло?
— Ну, не сразу же!..
Большой гость покачал головой, словно говоря: ну и детский сад… А маленький продолжал допрашивать:
— А в тот день, в кафе, с ней не было этой куклы?
— Не знаю. Какой‑то пакет, довольно большой, она держала в руках, но была ли там кукла…
— Ну, хорошо, — Лёня Захаров был недоволен разговором. – Я вас пока оставлю, а вот этот товарищ ещё немного с вами побеседует.
Инна с опаской взглянула на В. В.
— А вы… из милиции?
— Нет, это я из милиции, — ответил Лёня. – А он – муж.
— Муж! – всплеснула руками Инна. – Что же вы сразу не сказали?! Я и сама хотела с вами поговорить, даже думала вам звонить…
Она засуетилась, стала предлагать чай–кофе, но В. В. не был расположен чаёвничать.
— У нас с вами будет откровенный разговор, правда? – говоря это, Инна прямо впилась в него глазами.
— Настолько, насколько я посчитаю нужным с вами откровенничать, не забывайте, я – не ваш пациент.
— Хорошо, — кротко ответила она.
Встала, прошлась по комнате, подошла к окну и несколько минут смотрела вниз на улицу, словно давая своему необычному гостю (до сих пор здесь бывали только женщины) оглядеться, настроиться. Наконец, не поворачиваясь и не глядя в его сторону, спросила:
— Вы любите свою жену?
В. В. мог бы ответить просто: «Да» — и это было бы чистой правдой. Он мог бы также послать эту Инну куда подальше и на том прекратить разговор. В другое время именно так он и поступил бы. Но теперь он не должен забывать, что Руся пропала и, значит, даже эту мадам с её наглыми вопросами надо вытерпеть, если это поможет хоть на шаг продвинуться в поисках жены.
— Не спешите, подумайте, — продолжала, глядя в окно, Инна. – Бывает, человек перестаёт спрашивать сам себя о каких‑то, казалось бы, и без того известных и понятных ему вещах, полагая, что ничего не меняется в его отношении к ним, тогда как многое давно уже изменилось, и надо только отдать себе в этом отчет…
— Я всегда отдаю себе отчёт в том, что говорю. Да, я люблю свою жену. Что дальше?
— Прекрасно. Но как вы думаете, для неё любовь – это самое важное в жизни?
— Что вы хотите этим сказать?
— По–моему, она из той породы женщин, для которых важнее собственная независимость, профессия, признание в обществе, нежели традиционно женские ценности, как любовь, семья, дети. Я неправа?
Он вздохнул, откинулся в кресле.
— Вы правы в том, что касается профессии и признания, но одно другого совершенно не исключает. Любовь, семья и дети ничуть не менее важны для неё, что бы она вам тут ни говорила. Просто с этим у неё на сегодняшний день все в порядке. А в том, что касается так называемой творческой деятельности, она испытывает в последние годы некоторую, скажем так, неудовлетворённость, это правда. Отсюда такое впечатление. Но поверьте мне, что если бы было все наоборот, то есть у неё была бы сейчас интересная творческая работа, которая бы полностью её удовлетворяла, и было бы признание, как вы говорите, но не было бы семьи, мужа, детей, она чувствовала бы себя куда более несчастной. Она, чтоб вы знали, вообще такой человек, такая женщина, которая всегда чем‑нибудь неудовлетворена, даже, когда все хорошо, она всё равно найдёт, что не так. И прежде всего она всегда недовольна сама собой, это её натура такая.
Инна с интересом смотрела на Владимира Васильевича. Что ж, он не так прост, оказывается, и про жену свою, похоже, сам всё знает и понимает. Тем лучше, можно говорить с ним вполне откровенно. И она обрисовала в общих чертах душевное состояние своей пациентки, каким она его видела и понимала.
Он терпеливо слушал, не находя для себя почти ничего нового в том, что она говорила, но было крайне неприятно, что о его личной жизни рассказывает ему же какая‑то посторонняя дама, которую он впервые видит.
Кое‑что, однако, представилось ему теперь яснее, отчётливее.
Да, он знал, что Мируся тоскует об оставленной работе, профессии, но не думал, что это так глубоко, так трагично для неё. Он ведь создал ей все условия – отдельный кабинет, компьютер, домработница, сына за границу отправил, сам постоянно в разъездах, а если на месте, то даже зачастую не обедает дома, чтобы её не напрягать с готовкой, ну, что ещё надо? Сиди и работай. Общение? Да, тут он согласен. Тут ему нечего возразить жене и её психоаналитику. Общения ей действительно не хватало все эти годы. Не вообще общения, потому что они‑то как раз много ездят и много бывают среди людей, а вот именно профессионального общения, что называется со «своими», то есть с пишущей братией, к чему она смолоду привыкла и чем очень дорожила. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Надо же чем‑то и жертвовать. При всём том она ведь полюбила комфорт и ей нравится не знать нужды в деньгах!
Другие умозаключения Инны понравились В. В. ещё меньше.
Если верить ей, Мируся до сих пор вспоминает своего первого мужа. Нет, это тоже не новость для него, он прекрасно знает, что она бывает на кладбище, он и сам не раз с ней ездил, более того, она до сих пор (20 лет прошло!) общается с его родителями, и сам В. В. – добровольно или вынужденно – теперь и не скажешь, числит стариков в кругу их общей с Мирусей родни. И, наконец, самое главное – он вырастил и воспитал её сына, которого уж без всяких оговорок считает и своим тоже, столько он вложил в него душевных сил. Чего же ещё? Он полагал, что все это – не больше, чем необходимая дань памяти. Неужели она тоскует о нём именно как о муже? Неужели сравнивает их, представляет, как сложилась бы её жизнь, останься он жив? Эта мысль была невыносима для В. В. А другие мужчины? Ведь были же они в её жизни. Вспоминает ли она их тоже? Или у женщин её возраста это бывает – перебирать в памяти всех, кого они любили когда‑то, кто их любил… И самое главное, его‑то самого она ещё любит? И даже: любила ли вообще?
Инна догадалась, о чём он подумал.
— Несомненно, вас она любит, и вы – главный человек в её жизни. И знаете, что я вам ещё скажу? Она очень боится вас потерять.
— Да? – встрепенулся В. В. – Но я, кажется, умирать не собираюсь.
— Никто не собирается. Но однажды это случилось с ней, и страх, который она пережила тогда, никуда не делся. Притом учтите: на тот момент она была вполне самостоятельной женщиной, и вопрос о том, как ей дальше жить, не стоял. Сейчас всё изменилось для неё. Теперь она целиком и полностью зависит от вас…
— Значит, она, вы говорите, очень боится меня потерять, и поэтому исчезает вдруг сама. Так получается?
Инна развела руками.
В том возрасте, в который уже вступила Мируся, депрессия и тоска становятся почти нормальным, типичным состоянием для женщины. Она уже выполнила своё предназначение – родила и вырастила ребёнка, создала порядок и уют в доме, помогла сделать карьеру мужу, а любовь, бывшая когда‑то страстной, давно остыла и переросла в привычку. Ей начинает казаться, что больше она никому не нужна в этом качестве – жены, любовницы, матери… Казалось бы, теперь‑то и наступает для неё желанная свобода, время неограниченной духовной, душевной жизни, к чему она всю свою жизнь так стремилась, но чего не могла себе позволить в силу именно природных своих обязанностей – рожать, воспитывать, обихаживать, удовлетворять разнообразные потребности своей семьи. Но освободившись, она не может легко вернуться к себе прежней, к себе двадцатилетней, со всеми своими недораскрытыми талантами и недоосуществленными творческими амбициями, она перегорела, потеряла темп и ориентацию, отстала. Она говорит себе: наконец‑то я могу пожить для себя, но при этом не знает, как это сделать, она почти утратила своё Я, отдельное от мужа, детей, родственников, как будто без них, вне их контекста это Я ничего не значит и не стоит, перестало существовать. В таких случаях психологи советуют на время, хотя бы ненадолго оставить суету повседневной жизни и побыть в состоянии полного одиночества. Одиночество – это и есть свобода для женщины, средство вытащить на свет божий почти погребённое Я и спросить у него: чего же ты хочешь?
В. В. слушал Инну со все возрастающей неприязнью.
— Значит, это вы надоумили её куда‑то бежать из дома, искать уединения, чтобы как следует покопаться там в собственном Я?
— Нет, это все говорится не в прямом, а в переносном смысле. И лучший способ обрести одиночество – это просто отключиться от своих повседневных дел, уйти в себя…
— В себя она уже уходила однажды, но, видимо, показалось недостаточно одиноко, решила в прямом смысле… – и вдруг спросил строго и даже грозно: — Вы знаете, где она может быть сейчас?
— Нет, — отвечала Инна, впервые по–настоящему испугавшись. – Честное слово, нет!
Она была не меньше его озадачена и все хотела что‑то важное понять, но присутствие этого большого, враждебно настроенного и одновременно растерянного мужчины мешало ей сосредоточиться.
— Мне надо немного подумать. Я должна ещё раз все проанализировать – наши разговоры с ней и все такое. Я позвоню вам вечером, хорошо?
— Так вы записывали ваши разговоры?
— Кое‑что записывала.
— Я бы хотел сам прослушать.
— Это невозможно.
— Да бросьте вы! Речь идёт о моей жене, о её, возможно, жизни и смерти, а вы тут со своими церемониями, никому не нужными. Псевдонимы, куклы… Детский сад! Вы – частное лицо, с вас никто не спросит. И я вам как частному лицу говорю: отдайте записи, касающиеся моей жены, и вообще забудьте о ней, я сам во всём разберусь.
— Но я не могу их отдать!
Лицо В. В. стало совсем жёстким и он произнёс, разделяя слова:
— Немедленно. Дайте. Сюда. Ваши записи. Если не хотите, чтобы у вас их изъяли официально, а эту вашу лавочку вообще прикрыли.
(Позже её и в самом деле прикрыли, отобрав у Инны Янковской лицензию, но был ли причастен к этому В. В. – неизвестно).
Он достал бумажник и выложил на стол стодолларовую бумажку.
— Этого достаточно? Если мало, я добавлю.
Прозвучало, как угроза.
Инна поджала губы и вышла в другую комнату.
— Вот, возьмите, — она протянула ему кассету, на крышке которой было написано от руки «Маргарита».
— Что вы мне подсовываете?
— Это она.
Значит, все‑таки был псевдоним. Ну, бабы!..
— А деньги заберите, мне ваша жена достаточно заплатила.
В. В. не отреагировал на последние слова, сунул плёнку в нагрудный карман и вышел, сильно хлопнув дверью.
12
Итак, она завела себе психоаналитика! Полгода, а может, и больше туда ходит непонятно зачем, а он, муж, ничего про это не знает. Как это может быть? Они ведь никогда ничего друг от друга не скрывали, никаких тайн не было у них (хотя тайна – на то и тайна, чтобы о ней не знать и даже не догадываться). Теперь оказывается, что она скрывала от него такую важную вещь, как эти свои визиты к психоаналитику. Рассказывала там о себе, об их семейной жизни, о своих, должно быть, обидах на него. Какого чёрта! Но возможно (теперь он уже ничему не удивится), было что‑то ещё, скрытое от его глаз, что они могли там обсуждать.
Вернувшись в дом, он заперся в кабинете и стал слушать кассету.
— Представьте себе лес. Представили? Можете глаза закрыть. Опишите, что вы видите.
— Как я должна описать?
— Расскажите, какое там время года, время дня.
— Ранняя осень, листья уже наполовину жёлтые, под ногами хрустят, но ещё не все облетели, светло, вторая половина дня…
— А какой лес – хвойный, лиственный, или какой? Что там за деревья?
— Нет, не хвойный, он такой… смешанный… берёзки есть, клёны, в общем, такой среднерусский, когда‑то на обложке букваря такой лес был нарисован.
— Хорошо. А что ещё там есть, в лесу? Грибы, ягоды?
— Там всего полно – и грибов, и ягод, ещё птиц много, они поют, перелетают с места на место где‑то в кронах, высоко…
— А вы? Вот представьте себя в этом лесу. Вот вы идёте, и что делаете?
— Я иду… по тропинке… любуюсь лесом, слушаю птиц, вдыхаю запахи, знаете, как земля в лесу пахнет, сыростью такой, мхом, мне нравится…
— А если грибы заметите, наклонитесь, возьмёте?
— Я вообще‑то в грибах не разбираюсь, мне только, если кто‑то подскажет, а так – нет, не рискну.
— А ягода если?
— Диких я тоже не знаю, а если что‑то точно знаю, то в принципе могу сорвать, попробовать, но собирать в лукошко – нет, я не любительница, мне просто нравится гулять, гулять в лесу и все. Только я одна бы, конечно, не пошла, я боюсь.
— А чего именно вы боитесь? Волков, что ли?
— Волков, конечно, хотя откуда у нас волки… Я сама ни разу в лесу никакого зверя не видела, даже зайца. Нет, вру, зайца видела. На машине ехали однажды ночью, а он дорогу перебежал прямо перед нами, мы его фарами осветили. А вообще, я мало и бывала в настоящем лесу, так, недалеко от полянки, от дороги… Я всего боюсь – звуков, шорохов, самого своего страха боюсь, я трусиха вообще.
— А вот если вам страшно, но – надо зачем‑то обязательно пойти в лес, вы как, пойдёте?
— Смотря зачем.
— Например, ваш ребёнок заблудился, и надо его найти.
— Тьфу, тьфу, тьфу, не надо таких вещей говорить, а то я не буду играть в эту игру.
— Это не игра, это тест.
— Всё равно.
— Так как все‑таки?
— Ради ребёнка я куда угодно пойду – и в лес, и в гору, и к чёрту в пасть.
— И не страшно?
— Нет, в этом случае не страшно.
— Хорошо. Пойдём дальше. Вот идёте вы по лесу… Закройте глаза.
— Не надо, я и так все прекрасно представляю.
— Хорошо. Вот идёте вы по лесу, идёте, идете… И выходите на полянку, а на ней стоит… ну, некое такое строение. Может, избушка, может, домик маленький, а может, наоборот, большой, а может, землянка… Я вообще‑то не должна варианты подсказывать, вы сами должны сказать.
— М–м… Ну, это такой терем–теремок. Аккуратненький такой, чистенький, уютный…
— Дверь открыта?
— Она открыта, но не настежь, а так, притворена, но не заперта, так что войти можно.
— То есть любой, кто мимо идёт, может войти?
— В общем, да, если хочет, может войти…
— А что там внутри домика? Вот случайный путник вошёл, и что он там увидит?
— Там все тоже чистенько, убрано, половички тканые лежат, стол стоит, на столе самовар, сушки какие‑нибудь, печка есть, можно растопить погреться, лежанка с тёплым пледом…
— «Под святыми стол дубовый, печь с лежанкой изразцовой …». Так, да?
— Да, наверное, я эту сказку и представляла себе.
— Хорошо, пошли дальше. Вот опять вы идёте, идёте по лесу и перед вами – вода…
— Вода?
— То ли река, то ли озеро, то ли ручей, то ли… что ещё бывает? Что представили, то и говорите, только сразу, не думайте. Что вы увидели, когда я сказала «вода»?
— Речку.
— Она глубокая?
— Да, довольно‑таки.
— А вода холодная?
— Так, прохладная.
— А чистая?
— Очень чистая, даже камешки видны у берега.
— И что вы будете делать, когда подойдёте к этой воде?
— Опущу руки, умоюсь…
— А искупаться не захотите?
— Но ведь уже осень, холодно.
— Ну да. А ещё что станете делать?
— Ничего, посижу на берегу, посмотрю, я люблю смотреть на воду.
— Хорошо. Посидели вы у реки и пошли дальше. Идёте, идёте, и встаёт перед вами стена.
— Стена?
— Да, стена. Высокая–превысокая, ничего через неё не видно, длинная–предлинная – ни вправо, ни влево конца не видать. Что вы будете делать?
— А мне надо на ту сторону?
— Да, вам надо попасть на ту сторону.
— Тогда я пойду вдоль стены и буду идти до тех пор, пока она не кончится. Когда‑то же она кончится, правда?
— Безусловно.
— Ну, все?
— Все.
— Рассказывайте.
— Ну, слушайте. Лес – это ваша жизнь. Ранняя осень, вторая половина дня – как раз ваш возраст.
— И без леса ясно.
— Тем не менее. Бывает, человек молодой, а лес представляет, знаете, какой, — голый, заснеженный.
— И что это значит?
— Состарился раньше времени.
— Или ещё не родился. После зимы же всё равно весна.
— К сожалению, только в природе.
— Кто знает!
— Послушайте, кто кому рассказывает, вы мне или я вам?
— Я ничего, я молчу.
— В жизни вы любите и цените красоту – птички поют, запахи… Но вы человек непрактичный. Вам в лесу ни грибов, ни ягод не надо, вы в них даже не разбираетесь (или не хотите разбираться). Вы к жизни относитесь созерцательно. Но не безрассудно – ходите все‑таки по тропинке, поближе к опушке, в чащу не лезете. Вы немного ленивы и, к тому же, трусиха, но только до тех пор, пока это касается вас самой, для своих близких вы готовы на многое.
— Это все вы и так про меня знаете, без теста.
— Да, но тест ведь подтверждает, я же вас за язык не тянула, вы сами говорили именно так, а не иначе.
— А что значит: хвойный – не хвойный лес, берёзки и т. д.?
— Ну… Я бы сказала так, что вы человек скорее консервативный, тяготеете к привычному, к стереотипам, нежели к чему‑то необычному, экзотическому.
— Муж говорит, что рядом со мной Маргарет Тэтчер просто нечего делать.
— При чём здесь Маргарет Тэтчер?
— Она лидер партии консерваторов.
— А, ну да. Слушайте дальше. Терем–теремок – это как бы ваша душа.
— Ну вот, здрасьте.
— Да. Душа у вас не нараспашку, но открыта для хороших людей.
— Я не говорила, что для хороших. Вы меня спросили, может ли случайный путник войти, я сказала: да. А по лесу‑то всякие ходят.
— Вот именно. Вы должны были мне сказать: если человек хороший, пусть входит, а если плохой… Но вы же не сказали этого. Говорит о чём? Что вы слишком доверчивы к людям. Что изначально всех считаете хорошими, и всем готовы душу открыть, приветить, напоить, накормить…
— Ну, допустим. Давайте дальше. Вода – это что?
— Вода – это ваша любовь.
— О господи…
— В любви вы способны на глубокое и чистое чувство, но при этом сдержанны, рассудительны, не бросаетесь, очертя голову, вообще, похоже, что все это уже в прошлом, и сейчас вы скорее позволяете себя любить, чем любите сама.
— Из чего вы сделали такой вывод?
— Во–первых, вода у вас уже прохладная, то есть чувства остыли уже. Потом вы же не захотели искупаться в этой реке, вы только пробуете её с краешка и сидите на берегу, созерцаете. А знаете, как другие на этот вопрос отвечают? Я тут одному доктору в нашей клинике загадывала этот тест, так он, во–первых, сказал: «море», притом, бушующее, и он в него бросается с разбегу и ныряет и плавает и вообще фонтан брызг!
— И что, совпадает?
— Ещё как! Бабник страшный. А девушка у нас там одна, многодетная, так она на лодке по озеру плавает и удит рыбу. Я спрашиваю: а рыбы много там? Она говорит: о, много!
— Интересно. И что там ещё осталось, стена?
— Стена – это, как вы понимаете, трудности, которые встречаются на жизненном пути, и как вы с ними справляетесь. Вот тоже, казалось бы, простой вопрос. А как по–разному все отвечают! Один говорит: я буду карабкаться вверх, чтобы перелезть через стену. Другой говорит: подкоп сделаю. Одна мне сказала: я сяду под этой стенкой и буду ждать, пока кто‑нибудь не придёт. Ещё, помню, кто‑то собирался разобрать по кирпичику и проделать отверстие. А вы, между прочим, молодец, вы будете идти, пока не дойдёте. Говорит о большом терпении и целеустремлённости. Ещё о том, что вы не авантюристка, на рожон не полезете, лбом стену пробивать не станете, рассчитываете сама на себя и не боитесь трудностей. У меня была одна клиентка, которая сказала: повернусь и пойду назад.
— Это все?
— Пока все.
— Ну, спасибо.
— Да не за что. Кофейку не хотите?
— Лучше чайку.
«И вот эту ерунду они называют психоанализом?» – подумал про себя В. В.
Тут у него зазвонил сотовый, и высветился номер нынешнего мэра, его приёмника.
— Владимир Васильевич! – раздался его ненатурально бодрый голос. – Я вас приветствую! Мне разведка донесла, что вы здесь!
— Хорошая у тебя разведка, — хмуро отозвался В. В.
— Может, помощь какя нужна?
— Спасибо, все в порядке, занимайся своими делами.
— Есть! Мирославе Васильевне – привет! – сказал так же бодро новый мэр и отключился.
«У кого это язык чешется? — раздражённо думал В. В. – Наверняка, бабы уже растрепались – все эти Тамары, Инны, кто там ещё не в курсе?».
Он снова включил кассету, и уже следующая запись заставила его насторожиться.
— Как вы себя сегодня чувствуете?
— Не то, чтобы плохо, но и не хорошо.
— О каком удовольствии вы сейчас мечтаете?
— Об удовольствии побыть одной. На берегу моря или в горах, или в лесу, на поляне, лежать в траве и смотреть в небо, как плывут облака. Словом, среди природы, без людей, без никого. Самое редкое и малодоступное удовольствие. Всё время вокруг люди, люди, люди – родные, чужие, близкие, далёкие, всё время что‑то кому‑то должен, а хочется вот лечь посреди травы и лежать, запахи цветов вдыхать, и чтобы абсолютно никуда не надо было спешить, никто нигде не ждал, даже все забыли бы, что ты есть на свете и им от тебя что‑то нужно. И чтобы ни телефона, ни телевизора, ни звонка в дверь, и самой двери тоже, ни машин, ни огней, ни электричества, ничего такого… Только ты и природа. И чтобы лёгкий такой ветерок дул, цветы пахли, хорошо бы простые полевые ромашки, и день стоял бы тихий, свежий, солнечный, долго–долго, и не вечерело, потому что ночи‑то я как раз боюсь.
— Вам не кажется, что вы сейчас говорили о… смерти? Никого кругом, только земля и трава, а над вами небо? Может, это в вас говорит накопившаяся усталость от жизни? Хотя вам ведь ещё не так много лет?
— Не так. Но всё равно много. Усталость накопилась – это да. Но… Почему такое простое удовольствие – одиночество – так недоступно в жизни? Почему для этого нужно умирать? Может, просто в жизни что‑нибудь изменить? Сказать всем своим: я уезжаю. И уехать, и пожить где‑то одной, там, где вот эта самая природа. Кажется, чего уж проще! Так нет же, невозможно совершенно. Потому что вот это самое – обязанности, обязанности, обязанности… Кто мужу рубашки погладит, кто ему утром кашу овсяную сварит, кто сыночку поможет, если что‑то у него не сладится с работой или с женой, или с деньгами, или ещё с чем‑то. Кто сёстрам, зятьям, племянникам будет на все случаи жизни советчиком и арбитром и палочкой–выручалочкой? Кто?
— А зачем вы себя так поставили с ними со всеми, что кругом должны и никто без вас не обойдётся? Сказали бы: я занята, я, допустим, пишу книгу и попрошу меня в ближайшие полгода вообще не тревожить и по пустякам не дёргать. Что они, не поймут, что ли? Поймут, согласятся, они же вас тоже любят, не только вы их. Может, вы сами без всего этого не можете? Кто вас заставляет каждое утро всю родню обзванивать, удостоверяясь, что у них все в порядке? Вы сами всех дёргаете, а они привыкли, чуть что – к вам.
— Я же не виновата, что у меня такая большая родня.
— Не такая уж большая, бывает и больше. Спокойнее надо ко всему этому относиться. И больше себя любить. Себя, понимаете? А не кого‑то, пусть даже эти кто‑то – родные, близкие и хорошие. Любить себя – единственный выход для женщины вашего возраста.
— В таком случае у меня нет выхода, потому что я‑то как раз себя ненавижу…
Последние слова В. В. пропустил мимо ушей, он и сам не раз слышал от Мируси это «ненавижу», когда она смотрелась, например, в зеркало или примеряла новое платье, а чаще всего – по поводу её текстов, когда она перечитывала их с карандашом в руке. Он привык и не принимал всерьёз. Другие слова его зацепили – о том, чтобы «уйти–уехать». Эту часть записи он прослушал дважды. Но сказать можно что угодно, могла ли она так и сделать, как сказала, — вот в чём вопрос. Дальнейшее прослушивание не прибавило информации по главному вопросу, но сам голос жены, звучавший приглушённо (ему приходилось напрягаться, чтобы разобрать, что она говорила), как будто откуда‑то издалека, глубоко взволновал В. В., он даже прослезился.
— К пятидесяти годам у меня целый букет неврозов. Например, я снова дёргаю носом. Снова – потому что то же самое я делала когда‑то давно, в возрасте, наверное, 12–13 лет. Помню, что меня очень ругали за это мама и бабушка, но ничего поделать со мной не могли, а потом все как‑то само прошло. И вот теперь я опять, как девочка–подросток, которая стесняется сама себя, дёргаю кончиком носа. Это ужасно. Если искать объяснение, то оно, очевидно, в том, что сейчас, как и тогда, я снова сама себе не нравлюсь, сама в себе не уверена, сама себя стесняюсь, отсюда – дурацкое волнение при общении с кем бы то ни было и – дёргание носом. Тогда все только начиналось для меня, теперь – всё идёт к концу, я имею в виду не жизнь вообще, а то, что называют «бабий век» — грубо, но точно. Да, тогда начиналось, а сейчас заканчивается. И такова, значит, моя нервическая реакция на этот процесс. Я и тогда знала, что это выглядит некрасиво и даже неприлично, бабушка говорила: «Такая хорошая девочка и вдруг – носом дёргает!», но поделать ничего не могу, как ни стараюсь. И, собственно, почему нос? Почему не глаз, не рука, например. Как бы хорошо было, если бы рука, отвёл её назад и дёргай за спиной, как хочешь, а глаз, конечно, ещё хуже, чем нос, подумают, что подмаргиваешь. А он, нос, прямо‑таки зудит.
Например, ты встречаешься с человеком, важным для тебя и, в общем, хочешь, конечно, произвести на него хорошее впечатление (допустим, это редактор журнала, куда ты намерена отдать свои писания), и вот ты говоришь с ним минуту, две, и нос твой уже начинает зудеть, но ты держишься из последних сил, и в самый неподходящий момент нос, предатель, — раз и дёрнулся. (Деликатный редактор делает вид, что не заметил). И все. Стоит ему один раз дёрнуться, и пошло, хоть отворачивайся. И ничего не поделаешь, а надо быстро закончить разговор и выйти, уйти, уехать, остаться одной. В одиночестве нос ведёт себя почти прилично, разве что дёрнется разок–другой, да и то, только при воспоминании о недавнем разговоре, который он испортил. Впрочем, рукопись взяли.
— Отчего же все‑таки нос? Если это у вас поздний рецедив, повторение давно пройденного, то хорошо бы понять, почему это было с вами тогда, в 12 лет, попробуйте вспомнить.
— Ну… вот я выхожу отвечать к доске, класс смотрит на меня, разглядывает, как разглядывают от нечего делать любого, кто выходит. Но в 6–м классе у девочек уже появляется кое‑что, что мальчики разглядывают с особенным пристрастием и интересом, сравнивают, оценивают. Люда Варенцова выглядит совсем как взрослая девушка, а на мне все ещё висит, как на вешалке, и я замечаю пренебрежительные улыбки на лицах двух–трёх самых нахальных мальчиков, когда они демонстративно смотрят на мои все ещё детские, худые ноги. Мне хочется удержать их взгляд выше, на своём лице, в котором я гораздо больше уверена, и вдруг… нос мой выделывает такую невообразимую штуку, словно хочет мне помочь, привлечь внимание этих обалдуев, лишь бы они не смотрели так откровенно на мои ноги.
— А потом, когда вы стали взрослой, как всё было?
— Ну, потом‑то я была уверена в себе! И мини–юбки носила, и туфли на высокой платформе, и наоборот, любила, чтобы мужчины смотрели на меня, пусть даже и разглядывая, любуясь, и было же, честно говоря, чем любоваться!
— Что же теперь изменилось?
— О, многое, все! А отвыкать, оказывается, труднее, чем привыкать. Вот мой нос и взялся опять за старое, надеясь, должно быть, отвлечь внимание тех, кто на меня сегодня ещё смотрит, от полноты, от морщинок, от седины… Я с ним даже разговариваю иногда, говорю: спасибо тебе, родной, но ты, ей–богу, напрасно стараешься, ты только хуже делаешь, выдаёшь меня с головой. Что люди скажут? «О, да она мало что постарела, она ещё и невротичкой стала!». Прошу тебя, не делай этого больше, а то пойду и сделаю пластическую операцию, будешь тогда знать! Не слышит, он же нос, а не ухо! – зудит, хотя мы и одни в комнате, тогда я беру его двумя пальцами и сильно так стискиваю. А, больно? Так тебе и надо!
(Слышно, как обе смеются).
— Другой мой невроз и того хуже. И тоже из застарелых, вернувшихся спустя годы. Как странно, что, старея, мы должны, оказывается, переживать ещё раз всё то, что уже пережили однажды в детстве.
— Ну, об этом ещё Фрейд писал.
— Да, я читала. Так вот, маленькой девочкой стоило мне увидеть – как правило, случайно, — что‑нибудь ужасное, неприятное, как оно застревало у меня в мозгу и превращалось в навязчивое видение. Однажды я видела на рельсах, под трамваем, зарезанного человека. Говорили, что он сам туда бросился, стоял за столбом, поджидал трамвай, и, когда тот приблизился, бросился под него. Трамвай протащил несчастного (это был молодой человек) какое‑то расстояние и остановился, из вагонов выскочили люди, стали кричать, сбежались жители близлежащих домов, особенно дети, и я среди них, толпа долго стояла у насыпи, ждали милицию и скорую, которая была уже не нужна. Я и видела‑то всего ничего из‑за спин взрослых – только руку, между двух вагонных колёс, совершенно живую руку, но отрезанную. И вот эта‑то рука очень долго меня преследовала, выплывая в сознании в самых разных ситуациях – когда я пыталась заснуть или когда садилась есть, и особенно, когда переходила трамвайную линию… Я боролась с этим наваждением, прогоняла его, старалась о нём не думать, но ведь когда очень стараешься о чём‑то не думать, то как раз об этом и думаешь, так уж устроено наше сознание, нам только кажется, что мы его контролируем и им управляем, на самом деле все обстоит наоборот. Лучший способ отвлечься – это быть чем‑то занятым и находиться среди других людей, общаться, разговаривать и т. д. В такое время ненужное и неприятное для тебя «видение» (картинка) не высовывается, но как только ты остаёшься одна и мысли твои свободны, оно, проклятое, тут как тут.
Потом много лет ничего подобного не было. Пока я работала в газете и растила ребёнка, я подобными наваждениями не страдала. Но стоило мне засесть дома и остаться без дела, которое занимало бы мою голову, домашними делами заняты ведь главным образом руки, я стала замечать появление новых навязчивых «видений», теперь они являются, как правило, на ночь глядя и подолгу не дают уснуть. Последней по времени была картинка, очень напоминающая ту, из детства. На этот раз мне случайно (всегда все случайно!) попалась на глаза фотография с места авиакатастрофы. Рядом с обломками самолёта лежали на траве останки людей – голова без туловища, куски рук и ног. Я только взглянула и тут же положила на место, но этого хватило, чтобы много дней кряду снова и снова «видеть» эту фотографию перед сном и даже посреди своих дневных забот. Измучавшись, я однажды представила, что рву его на клочки, на самые мелкие, какие только можно, и выбрасываю в мусорный пакет, который тут же отдаю Аннушке, чтобы она унесла его со двора подальше. И с этого момента, как только мой мозг изготовится «выдать» страшную картинку, я опережаю его и сама себе «выдаю» другую – клочки в мусорном пакете. Моя картинка перекрывает. Между тем сама фотография до сих пор находится в доме, в конверте, конверт в шкафу, шкаф в кабинете. Выбросить её на самом деле я не могу, она чужая, относится к материалам одного расследования, в котором участвовал мой муж, это его архив, и выбрасывать ничего нельзя.
— Браво! Я же говорю, что вам никакой врач не нужен, вы сами себе психоаналитик и психотерапевт, ведь то, что вы сделали, – вот это мысленное разрывание на клочки мучавшей вас картинки – это очень точный психологический приём, и он тем более вам помог, что вы сами его придумали, нашли, а не кто‑то извне вам навязал. Я должна записать для себя этот случай, он довольно показательный. Вы позволите?
— Записывайте, мне не жалко.
В этом месте В. В. подумал, что хитрая Инна вела магнитофонную запись без ведома Мируси, иначе зачем бы ей испрашивать у неё отдельного разрешения на запись. Мол, ничего не записываю, не фиксирую, а вот только разрешите этот случай записать. Потому она и отдавать кассету не хотела. Боится, что Мируся узнает, что все её откровения на диктофон записаны, и придёт с ней разбираться. Впрочем, какое все это имеет теперь значение! Лишь бы она нашлась, лишь бы нашлась. Пусть хоть носом дёргает (кстати, он и не замечал за ней), пусть хоть весь его архив на клочки порвёт (а когда это она в нём копалась и зачем, просил же не трогать!), только бы нашлась.
— Я ведь теперь совсем не переношу яркий свет и громкий звук, хожу и выключаю люстры и плафоны, оставляя в лучшем случае ночные лампы. Мне говорят: темно же, не видно, а я: ничего, так лучше. И то же с телевизорами – кто бы что ни смотрел, я подхожу и убавляю звук, они мне: да ты что делаешь, ничего же не слышно! Я: а чего он орёт! Оставшись одна в доме, я сижу в полумраке, с приглушённым звуком (изображение, правда, не выключаю, мало ли что, вдруг государственный переворот!) и читаю книжку при свете торшера. Полумрак и тишина успокаивают мои нервы.
Потом эта мания чистоты. Все хожу по дому и прибираю, раскладываю все по местам, а если замечу какую‑нибудь самую мелкую вещь не на своём месте, меня это раздражает, должна немедленно убрать. Конца этой работе не бывает никогда, потому что в доме живут живые люди, и они привыкли все разбрасывать, особенно это касается мужчин – мужа и сына, оба – где поел, там и оставил – чашку, ложку, крошки, огрызки; где снял, там и бросил – куртки, свитера, галстуки, носки, платки; где выложил из карманов – деньги, ключи, бумажки какие‑то, сигареты, жвачку и т. д. и т. п. – там и валяется. Ходи за ними и прибирай. Потом к тебе же претензии:
— Мама, где ключи от машины?
— Где оставил, там и ищи.
— Я не помню где.
— Надо на место класть.
Или муж:
— Я тут где‑то оставлял папку с документами, где она?
— В шкапчике прибранная.
Это у нас семейная шутка такая, на все случаи жизни, происхождением из шукшинской «Калины красной»: в шкапчике прибранная.
— На первый взгляд, ничего особенного, нормальная женская реакция на беспорядок.
— Но я‑то знаю, что я при этом чувствую, какое у меня внутри поднимается всякий раз раздражение, как оно меня достаёт, как мне трудно сдерживать себя, так что – невроз, типичный невроз.
— Хорошо. А какой у вас самый сильный объект раздражения? Есть такой?
— Смешно сказать: мужнины комнатные тапочки.
— Тапочки?
— Да. Он, видите ли, не снимает их, когда выходит на галерею, в гараж и даже во двор. И это при том, что у всех входных дверей понаставлена другая, уличная обувь. Но он менять одни тапки на другие при каждом выходе из дома не желает, делает вид, что забыл, на самом деле ему просто лень, он вообще не придаёт этому никакого значения. Он говорит: «Я ноги об коврик вытер». Вытер он, как же! Так и понёс всю пыль из гаража на паркет и светлый ковёр. Меня просто бесит. Я слежу за ним, как только он открывает дверь на галерею или во двор, я накрываю его с поличным и чувствую, как меня саму накрывает волна самого настоящего негодования. «А–а–а! – раздаётся мой вопль. – Опять ты в тапочках вышел! Сколько можно говорить! Сколько можно надо мной издеваться!»
— Хорошо. Давайте попробуем разобраться в ваших ощущениях. Ну что, в самом деле, дались вам эти тапочки? Вам жалко своего труда?
— Да нет, я ведь сама не мою и с пылесосом не хожу, это всё делает Аннушка, ну, принесёт он в дом лишнюю грязь, она тут же и подотрёт и пропылесосит. Хотя мне и за Аннушку бывает обидно, из женской солидарности даже. Но нет, не это главное.
— Может, вас возмущает, что муж не слушается, не подчиняется вашему, такому простому требованию?
— Ну, да, это есть, присутствует в моих ощущениях, хотя… Это ведь такая мелочь, а в большом, в серьёзном, в главном он всегда со мной советуется и у меня спрашивает, как лучше сделать, так что грех, конечно, жаловаться. Знаете что… Меня очень бы устроило, чтобы он вообще никуда из дома не выходил и по дому не перемещался, как пришёл, разулся, так и сидел бы в кресле и в тапочках. В идеале, хорошо было бы, если бы все в доме оставалось на тех местах и в том порядке, какой я однажды установила, чтобы и ничто никуда не перемещалось – постели бы не расстилались, посуда бы не вынималась из шкафов, книги бы не снимались с полок и не складывались горами везде, где попало – на столах, на тумбочках, в кухне и в туалетах, чтобы вся одежда висела в шкафах и вся обувь стояла на полках. И я бы ходила среди всей этой неподвижности, порядка и чистоты, и сердце моё было бы спокойно. Иногда мне удаётся добиться желаемого эффекта, это бывает, когда я остаюсь в доме одна, тогда ничто нигде не шелохнётся, словно меня и нет здесь. Кстати, я люблю оставаться одна, я вам уже говорила. Одиночество – это то, чего мне не хватает. Но вот наезжают все мои – и…
— Но как вы сами считаете, эта ваша «мания чистоты», она тоже из детства?
— Нет! Вот уж это – точно не оттуда, потому что детство я провела в тесноте, многолюдности и хаосе, который бабушка называла «сумасшедший дом». Была при этом вполне счастлива. Первые мои квартиры тоже не отличались идеальным порядком и стерильной чистотой. Я же помню, как прятала грязные кастрюли в духовку, чтобы свекровь не увидела, а потом забывала про них, как я к её приходу порядок наводила в квартире – по верхам, по верхам, все засунуть куда‑нибудь, потом уберу. Тогда мне было не до этого, тогда я совсем другим вещам придавала значение, а в доме царил такой, как я его называла, «художественный беспорядок» и – ничего, нормально, не замечалось. Раз в неделю, в субботу, пройдёшься с пылесосом, с тряпкой, и то – где видно, а по углам вечно оставалось, откладывалось на потом, до генеральной уборки, а это всё равно, что подвиг совершить, раза три в год, не чаще – с мытьём окон, стиркой штор, отодвиганием дивана и вытряхиванием барахла из шкафа.
— Откуда же это – насчёт тапочек и вообще?
— Мне в голову приходит одно–единственное объяснение. И связано оно с домом как таковым. Дом большой и красивый. Я в таком никогда прежде не жила. Я и сейчас иногда проснусь, подумаю и удивляюсь: неужели я живу здесь, в этом доме, неужели это мой дом? Что бы я ни говорила, я отношусь к нему трепетно. Я люблю показывать его родным и друзьям, я вожу их по дому, как по музею. И для меня очень важно, чтобы во время «показа» всё было так, как первоначально задумано и установлено. Нельзя же, чтобы в музее всё было вверх дном, валялось где попало, находилось не на своих местах и т. п. Да, мы здесь живём, но это какое‑то недоразумение. Нельзя же жить в музее. Его надо охранять, беречь, поддерживать температурный режим и ходить в сменной обуви.
— Послушайте, а вам не кажется, что тапочки – это всего лишь самая безобидная из претензий, которые вам хотелось бы предъявить вашему супругу, но которых вы по каким‑то причинам не можете ему предъявить? Поробуйте сформулировать другие претензии, не обязательно даже обосновывать, просто назовите.
(Пауза).
В. В. заёрзал в кресле и оглянулся на дверь, хорошо ли она прикрыта.
— Ну, например… мы слишком много говорим о еде. Где мы сегодня обедаем. Что мы будем ужинать. Есть ли дома сыр. Нельзя ли приготовить на завтрак не овсяную, а пшеную кашу. И т. д. и т. п.
— Вас это раздражает потому, что он постоянно думает о еде и много ест или потому, что этими своими вопросами он как бы демонстрирует свою неуверенность в том, что дома всегда есть необходимые продукты и вы всегда готовы его как следует накормить? Вы ведь не любите готовить?
— Да, не люблю, терпеть не могу. Хотя, если постараюсь, то могу приготовить хорошо и вкусно. Но надо признать, что в последнее время делаю это все реже. Так что в принципе он прав, когда беспокоится, есть ли дома сыр.
— Но он не высказывает вам по этому поводу свои претензии?
— Нет, никогда. В отличие от меня. Я, бывает, говорю: с тебя хватит, это тебе вредно, ты уже ел, посмотри на себя и т. д.
В. В. хмыкнул и покачал головой: «Ах, ты ж…».
— Вообще… он очень изменился за эти годы. Теперь это другой человек, совсем другой. Дело не в возрасте. Даже не в том, что он всё время занят, всё время в отъезде. Что‑то ушло, исчезло, мне трудно объяснить, что именно… (Долгая пауза). Мы совсем не гуляем пешком, как раньше. Для этого никогда не бывает времени. Он больше не читает мне стихи, как читал когда‑то давно, на берегу Азовского моря. И он никогда не просит меня спеть… Раньше мы даже в шахматы с ним играли, я, конечно, проигрывала, но всё равно… Теперь ничего этого не бывает с нами, ничего похожего… Мы даже ни о чём не мечтаем, потому что нам вроде как не о чем больше мечтать.
— В прошлый раз вы сказали, что вам не хватает одиночества. Из того, что вы сейчас говорите, следует, что, напротив, вы страдаете от одиночества. Эти два состояния присутствуют у вас одновременно?
— А это разные одиночества. К одному я сама стремлюсь, хочу убежать, укрыться где‑нибудь, остаться одна хотя бы ненадолго. Это одиночество физическое, перемещение в пространстве своего бренного тела. Другого одиночества я боюсь и хотела бы избежать. Это когда вокруг тебя десятки людей, но ни одной родственной души нет рядом, и перекликнуться не с кем. Есть родственники, но нет родственных душ, понимаете? Такое одиночество души.
— А вы можете припомнить время, когда вы этого не испытывали?
— Наверное, это очень давно было, во времена моей работы в молодёжной ещё газете.
— Закройте глаза, представьте себе эту картинку. Что вы видите?
— Так, подождите… Ну… я вижу ребят, с которыми работала… мы все ещё молодые… Вижу тесный кабинет редакции, туда набилось человек десять и мы поем под гитару Окуджаву или Визбора… Пьём сухое вино… очень накурено… смеемся… Всё время почему‑то смеёмся.
Пока В. В. слушал кассету, ему раз пять звонили по разным вопросам из Москвы, он прерывался, отвечал, сам кому‑то перезванивал и, таким образом, на 5–7 минут погружался в обычные свои дела. И когда после этого, снова включал запись, голос Мируси казался ему нереальным, идущим откуда‑то из потусторонних сфер, он напрягал внимание, чтобы понять смысл: что это? о чём это? И часто не понимал.
13
В четверг Лёня позвонил и сказал, что, кажется, знает, где искать Мирославу, то есть почти наверняка знает, но надо перепроверить.
Сестры, ходившие утром в церковь, чтобы поставить свечки за спасение и здравие Руси, радостно засуетились, затеяли даже уборку, Аля вздумала сварить супчик, а то привезут её сейчас, а у них и покормить нечем, который день на сухомятке все сидят, только курят и пьют, кто – кофе, а кто уже и до водочки добрался. Ваня залез в интернет и просматривал электронную почту, никто до его приезда не догадался этого сделать, а ведь именно там могло быть послание от мнимых похитителей, а может, мама и сама оставила им какое‑то письмо. Один только В. В. слонялся из угла в угол, небритый, измученный ожиданием, ни во что уже не верящий и подумывающий о том, не заявить ли действительно в милицию. Если и на этот раз Захар вернётся ни с чем, значит, надо завязывать с этой самодеятельностью, подключать МВД и пусть ищут, как положено.
Он представил себе текст милицейской ориентировки: «Рост 164 см, средней полноты, волосы тёмные, глаза карие, лицо круглое… милое, дорогое, любимое… Особых примет нет. Это для вас нет, а для меня есть, потайные, особенные приметы, приметочки… разве скажешь! Была одета в чёрную длинную юбку, светлую кофточку и шерстяную накидку типа «пончо». (Со слов Инны, видевшей её последней). Одежда, кстати, для неё нетипичная, последнее время она предпочитала брюки, тем более, за рулём. Почему же вдруг в юбке, куда в юбке?
За эти несколько дней он так много нового узнал о своей жене, что теперь с трудом мог представить себе их встречу, когда Мируся, наконец, найдётся. Наверное, он должен будет попросить у неё прощения за что‑то, он ещё и сам не понял до конца, за что, но смутное чувство вины уже было в нём. Мужчина всегда виноват, если любимой женщине плохо. Он привык думать о ней как о той, которую встретил и полюбил когда‑то давно, много лет назад, как будто ничего не изменилось за это время. Но изменилось на самом деле все. Их жизнь, они сами, причём каждый по–своему. Он старался не замечать, что она давно уже не та, другая – старше, слабее, уязвимее… Но пусть только она найдётся, он ещё раз все изменит в их жизни, он станет её беречь, он, может быть, даже бросит свою нынешнюю работу, которой и сам тяготится, ради того, чтобы быть ближе к ней, быть рядом….
(Ничего он не бросит!).
Явившись, Лёня Захаров застал в доме большую компанию. Кроме родни – сестёр, вдовы Али, сына Вани и самого В. В., здесь же находилась зачем‑то и подруга Тамара, которой, видимо, не терпелось знать подробности из первых рук.
Поскольку Лёня вернулся один, все сразу сникли, но роптать не стали, а расселись молча по диванам и креслам и приготовились слушать. Бодрый вид его внушал некоторый оптимизм.
— Значит, так. Излагаю по порядку, — начал Лёня, чувствуя важность момента. – Как вы знаете, после встречи с психотерапевтом Янковской мы с Васильичем отложили криминальные версии и сосредоточились на версиях бытового характера. Удалось проверить одну из них, так сказать, кукольную. Выяснилось, что серьёзных коллекционеров в городе нет. Может, Мирослава одна–единственная и была. Но в художественном музее мне сказали, что примерно месяц назад приезжала из Москвы известная галерейщица Маша Шеншилова и интересовалась возможностью проведения в городе выездной выставки кукол.
— Я эту даму знаю! – вставил В. В. – У неё галерея на Крымском валу, в ЦДХ, я сам покупал там куклу для Мируси, на прошлый день рождения!
— Она это подтверждает, — важно заметил Лёня Захаров.
— Так ты с ней разговаривал?
— Она директору музея свою визитку оставила. Я смотрю: а там тот самый телефон указан, московский сотовый, по которому Мира утром в субботу звонила и который потом не отвечал всё время. Я его опять набираю, то же самое, выключен. Но на визитке и второй телефон указан, домашний. По домашнему она сразу ответила. Я говорю: так и так, я из музея вам звоню, вы вроде хотели к нам в город выставку кукол привезти. Она говорит: да, была такая идея, но музей ваш не гарантирует их безопасность, а куклы дорогие, так что идея отпала. Тогда я спрашиваю, не знает ли она Мирославу, она говорит: как же, как же, знаю и её, и супруга, и даже была у них однажды в доме и коллекцию видела, небольшая, но вполне приличная, кстати, две куклы у меня куплены, а я со своими клиентами связей не теряю. А вы, говорит, собственно, кто? Я, говорю, друг семьи, меня просили с вами проконсультироваться по одному вопросу. Она говорит: если это насчёт французской куклы, то Мира мне сама уже позвонила и мы обо всём договорились. Я, грешным делом, подумал, что речь идёт о купле–продаже. Тут она даже засмеялась, я бы, говорит, с большим удовольствием перекупила у неё эту куклу, да она ни в какую не продаёт. Даже на выставку дать не хочет. О чём же вы тогда договаривались? Как, вы разве не знаете? Кукла‑то сломана.
— Как сломана? – хором воскликнули женщины.
— Вот так. Голова у неё, оказывается, перестала поворачиваться. Застряла в одном положении, плачущем, и – ни туда, ни сюда. Вот поэтому Мира и звонила галерейщице, спрашивала, кто это может починить. Сама она пробовала, но не смогла.
— Я ж говорила Васильичу, шо она ту куклу раздевала и шо‑то с ней делала! - раздался голос с лестницы, где подслушивала Аннушка.
Женщины замахали на неё руками.
— И эта самая галерейщица, — продолжал Лёня, — дала ей координаты одного очень хорошего мастера, который раньше работал в кукольном театре, чуть ли не у Образцова, кукол ремонтировал, но уже давно вышел на пенсию и живёт – где бы вы думали? У нас тут, в посёлке Монастырском, по дороге на Старую Поляну. Домик купил и живёт.
— И она к нему поехала! – вскричали разом сестры.
— Какие ж вы догадливые! — сказал Лёня, довольный своей ролью и всеобщим вниманием. – Короче, я туда съездил…
Все замерли.
— Ну? Нашёл? – спросил В. В., боясь услышать отрицателньый ответ.
— Мастера – нашёл. Забавный такой старичок, вроде папы Карло. Сидит в саду под деревом и что‑то строгает.
— Хрен с ним! Мируся там?
— Нет, Мируси там нет.
— И не было?
— В том‑то и дело, что была! В субботу, около 11 утра была, куклу ему оставила, деньги и уехала. Куклу лично видел, лежит на столе голая.
Все разом выдохнули. Уф!
— Она думала, что он прямо при ней починит, но тот посмотрел, у неё, оказывается, пружина внутри лопнула, ещё бы, столько лет! Короче, сказал, что придётся повозиться. И тогда она попросила, чтобы он вообще убрал второе лицо, то, которое плачет. Я, говорит, хочу, чтобы лицо было одно, улыбающееся. Можете это сделать или нет? Мастер говорит: пожалуйста! Она ему наказала как можно осторожнее с куклой обращаться, одёжку с неё забрала и сказала, что через неделю или две за ней приедет. И ещё сказала очень странную фразу: «Я тут недалеко от вас буду».
— И куда она потом поехала – назад, в город, или ещё куда‑то?
— Вот это он не в курсе. Он, чудак, даже не вышел её проводить.
— А соседей ты опросил, может, они видели?
— Опросил. Там её многие заметили, соседка одна, потом продавщица в магазине, она у неё конфеты зачем‑то покупала, целых два килограмма.
— Два килограмма? Странно… И что они говорят?
— Ничего. Как приехала, видели, куда потом делась – никто не обратил внимания.
— А могла она не назад поехать, в город, а дальше в горы, в сторону Старой Поляны? – спросила Мила.
— Могла, конечно.
— А что там есть в этой Старой поляне? Может, детский дом какой‑нибудь? Для кого ей конфеты понадобились? Помните, Инна говорила про какой‑то праздник – может, как раз в детдоме?
Мужчины задумались, припоминая.
— Монастырь! Вот что там есть, — сказал вдруг В. В. — Километров восемь в сторону.
— Что‑что?
— Мо–на–стырь.
— Женский?
— Я точно не знаю, просто слышал, что там есть монастырь, недавно появился…
— Есть! – подтвердил Ваня. – Мы с мамой туда ездили!
— Когда? – взволновались женщины.
— Зачем? – нахмурился В. В.
Оказывается, весной, перед Пасхой. Подарки они туда возили. В монастыре только начали обживаться, у них ещё не было ничего, и мать сказала: давай, сынок, съездим, отвезём им кое‑что. Две коробки насобирала, посуду какую‑то, белье постельное, полотенца, скатерти…
— И ещё икону она им подарила, помнишь, пап, у нас две было Богоматери одинаковые, софринские, вот она ту, вторую, им отвезла. Туда не восемь, а все двенадцать километров будет, сначала вверх, в гору, потом вниз, в ущелье, посёлок Дальний это место называется. Только сам монастырь чуть в стороне от посёлка, прямо у реки. Место красивое очень, но дорога ужасная, сплошные колдобины.
— И я знаю, где это, — сказала Тамара. – Там ещё старая церковь есть, её в 30–е годы хотели разрушить, а местные жители придумали хитрость: завалили единственную дорогу, которая туда вела, так что ничем уже проехать было нельзя и проверить выполнение директивы невозможно, и тем самым спасли её от разрушения. А уже в наше время дорогу заново расчистили, церковь отреставрировали, и теперь она снова действующая.
— Я ж говорю, сплошные колдобины, — подтвердил Ваня.
— А монастыря там никогда раньше не было, — продолжала объяснять Тамара, в которой проснулся сейчас журналист. – Его лет пять как начали строить. Одно время было даже модно среди нашей городской элиты навещать этот строящийся монастырь, оказывать помощь и возить подарки, кто‑то им подсказал, что это дело богоугодное, а уж монашки, мол, за них за всех и за процветание их бизнеса день и ночь молиться будут. Я об этом монастыре сюжет для своей передачи делала.
— Значит, монастырь все‑таки женский? – переспросила Лана.
— Ну, конечно, женский! Неужели она в мужской бы поехала? – хмыкнул Ваня.
— Хорошо. И что она там делала, в этом монастыре?
— Ничего, – сказал Ваня. – Подарки отдала, и все, поехали назад.
— А ты матушку видел? В смысле настоятельницу.
— Ну так, мельком, когда коробки заносил.
— Старенькая?
— Да нет, примерно, как мама, может, даже моложе.
— А монахинь много там?
— Я одну только видел. По–моему, там жить ещё негде, церковь только строится, а кельи в таком домике, как сарайчик, дверей пять или шесть в ряд, они там по двое живут, вот считайте – человек десять, может.
— Ванечка, а когда вы возвращались, что мама говорила?
— Ничего. Мы, пока туда ехали, наговорились, а обратно она молчала почти всю дорогу. Единственное… мне показалось, что она эту настоятельницу откуда‑то знает.
— Вот как?… – удивился Лёня и посмотрел вопросительно на В. В.
Тот пожал плечами.
— Первый раз слышу.
— Спокойно, — сказала Лана. – Давайте разберёмся. Допустим, Руся действительно знает откуда‑то настоятельницу этого монастыря. Мало ли! Она, когда в газете работала, кого только не знала! Ну, и что из этого? Из этого же не следует, что она сама подалась в монастырь, правда?
— Но навестить, раз уж она оказалась снова в тех местах, могла, — вставила Тамара. – Кстати, у вас есть православный календарь? Надо посмотреть, не было ли в субботу какого‑нибудь церковного праздника.
— Рождество Пресвятой Богородицы, — отозвалась с лестницы Аннушка.
— Точно?
— А то! – сказала Аннушка, выйдя из своего укрытия. – Я сама в тот день в церковь ходила, молилась, шоб Васильевна поскорее вернулась.
— Ну, хорошо, навестить, подарки отвезти, это она могла, это очень в её духе, — согласилась Мила. – Она такая, что из дому половину вынесет и отдаст первому встречному. Но остаться там! Это вряд ли… С чего бы!
— Нет, конечно, — сказал Ваня. – Мама не настолько верующий человек, чтобы… Она могла пойти в церковь, свечки поставить, когда чья‑то годовщина смерти, или там перед Пасхой, перед Рождеством. Но она даже молиться как следует не умеет. Мы с ней несколько раз разговаривали на тему Бога, у неё немного… неправильное отношение к этому вопросу.
— Не то, что у тебя, да? — заметила Мила.
— Тёти! Только меня, пожалуйста не трогайте, ладно?
— Ладно, ладно, – отступилась Мила. – Мы тебя не трогаем, ты у нас вообще…
— Послушайте! – воскликнула Лана. – А вы помните Лиду?
— Какую ещё Лиду?
— Соседку её бывшую, по старой квартире!
Действительно, когда Мирослава ещё жила в К., была у неё такая соседка по лестничной клетке, дверь в дверь. Жила вдвоём с дочкой, а муж их оставил. Руся с ней не то, чтобы дружила, а очень её, по своему обыкновению, опекала. Та была и моложе и несчастнее, и все к ней бегала – то за солью, то за советом. Была она из станицы, из простой семьи, девчонкой приехала в город, выучилась водить троллейбус и работала, неплохо по тем временам зарабатывала, а жила в общежитии троллейбусного парка. И вдруг случилось такое несчастье, что она задавила насмерть человека, пожилую женщину. Маршрут её шёл мимо колхозного рынка, где вечно сновали прямо перед носом тётки и бабки с кошёлками, вот и эта вынырнула неизвестно откуда и прямо под колеса. Был суд и, если бы не молодой симпатичный следователь, сидеть бы этой Лиде, но он смог так повернуть дело, что дали условно. Лида, однако, была этому совсем не рада, она так сильно переживала случившееся, так винила сама себя, что даже хотела умереть, а уж сесть в тюрьму считала для себя неизбежным. Когда же все благополучно для неё завершилось, она впала в ещё большую депрессию, так что чуть было не попала в известное медицинское учреждение, и если бы не тот самый следователь… Он, оказывается, Лиду смог оценить и даже полюбить и вскоре на ней женился. Родилась девочка, Вера. Но жизнь у них как‑то не заладилась и следователь вскоре ушёл к другой, оставив Лиде полученную в результате размена однокомнатную квартиру. Так она стала Русиной соседкой, очень к ней привязалась и, когда на неё в очередной раз накатывало смурное состояние, шла к ней и изливала душу на кухне, положив руки на стол и глядя неподвижным взглядом в окно.
Вдруг эта Лида стала заговаривать о том, чтобы уйти вместе с дочкой в монастырь. Когда она в первый раз про это сказала, Руся не придала значения, сказала: «Не дури», и все. Но Лида снова и снова возвращалась к этой теме, более того, теперь она предлагала Русе купить у неё однокомнатную квартиру.
— Дверь прорубите и будет вам ещё одна комната.
— Да не нужна нам ещё одна комната, — отмахивалась Руся.
— Если вы не купите, я чужим людям продам, а зачем вам невесть кто в общем коридоре? – наседала Лида.
Наконец настал день, когда она пришла и сказала:
— Ну, все, на следующей неделе мы уходим. Говори: покупаешь ты мою квартиру или нет?
— Иди куда хочешь, — разозлилась на неё Руся. –Только Веру с собой не тащи, ей же доучиться надо, и квартиру оставь, она вырастет, спасибо тебе не скажет, что ты её без жилья оставила.
Но Лиде нужны были деньги на обустройство там, в монастыре, покупку монашеского облачения и все такое.
— Сколько тебе надо?
— Пять миллионов, — сказала Лида.
Был 92–й год, и счёт денег шёл на миллионы. Как нарочно, у Руси лежали отложенные на всякий пожарный случай именно пять миллионов рублей.
— Бери и иди, а за квартирой я присмотрю, вдруг надумаешь вернуться.
Лида взяла деньги, Веру и исчезла. Потом уже, спустя месяца три, приезжала, очень изменившаяся, молчаливая, во всём чёрном, в платочке на голове. Руся к тому времени нашла ей покупателей, Лида быстренько продала квартиру и исчезла уже окончательно.
— А что, она всегда такая верующая была? – спросила Аля.
— Ещё какая! – продолжила Лана, которая хорошо знала эту историю, потому что сама жила тогда в двух кварталах от Руси и часто у неё бывала. – В церковь ходила постоянно, дома у неё все иконами было завешено, молилась всё время, говорила, что грехи свои замаливает. От неё муж из‑за этого и ушёл, не смог выдержать. Ты, говорит, Бога любишь больше, чем меня.
— И девочка такая же была?
— Девочка вообще была у неё забитая, тихая, что мать скажет, то и делала, безропотная совершенно. Но у неё голосок был хороший, прямо ангельский, и она пела в церковном хоре. И, насколько я помню, регент хора вмешался и не отпустил её в монастырь, а когда Лида все же потащила её за собой, её там не взяли даже, да ей и было лет 15 всего. Так что она, по–моему, так и осталась при церкви, и Лида одна в монастырь ушла.
— И больше их не видели никогда, что ли? – спросила Аля.
— Я точно не видел, — сказал В. В. – Я к тому времени давно уже здесь жил, в С., и, если ты говоришь, что это было в 92–м, то как раз в тот год и Мируся ко мне окончательно переехала, так что, думаю, она эту Лиду тоже больше не встречала.
— Но вспоминала про неё. Хотелось бы, говорит, узнать, как она, что с ней сталось, даже не столько с ней, сколько с дочкой её, Верой. Десять лет ведь прошло.
— Так ты думаешь, это она к ней в монастырь ездила?
— А вдруг?
— Нет, подождите, — вмешалась Мила. – Как это может быть? Тамара говорит, что десять лет назад этого монастыря ещё и в помине не было, значит, она совсем в другом каком‑то жила. Как же она тут оказалась?
— А может, её на повышение сюда перевели, — заметила Тамара. — Не сразу же настоятельницами становятся, сначала послушницами, потом монахинями, потом некоторые, особо усердные в своём богослужении, могут, наверное, и в настоятельницы продвинуться, разве нет?
Женщины посмотрели на В. В., которого считали сведущим во всех без исключениях вопросах, в том числе и таком деликатном.
— Не знаю, ей–богу, не знаю, — поднял руки В. В. – Нечего гадать! Надо туда ехать.
— Ехать, конечно, надо, — сказал Лёня. – Только там дорогу дождями размыло, ту самую, я узнавал, проезда уже три дня как нет.
— Три дня?
— Три дня!
— А сотовые там берут, в этой Старой Поляне?
— И сотовые там не берут. Она же в чаше гор лежит.
— Значит, Руся там! – вскричала Мила. – Просто ни выбраться, ни позвонить не может.
— Господи, спаси и помоги! – бормотала и крестилась Аля.
14
В субботу в монастыре праздновали Рождество Пресвятой Богородицы, он и был Богородице–Рождественский, этот монастырь. Мирослава заранее знала про праздник, но не думала, что будет так много народу, ей хотелось поговорить с матушкой–настоятельницей наедине, а тут оказалось полное подворье гостей. Из церкви, где только что окончилась праздничная служба, уже вышли и теперь стояли группками по четыре–пять человек гости – средних лет женщины в платках и косынках, старушки в чёрном, молодая пара с мальчиком лет шести, средних лет батюшка в малиновом клобуке, совсем старенький батюшка в изношенной рясе и молодой дьячок с иконописным лицом и длинными, распущенными по плечам волосами. Сама настоятельница, маленькая женщина в туго обтягивающем лицо чёрном платке, переходящем в пелерину, и с массивным серебряным крестом на груди стояла в группе самых, по–видимому, почётных гостей, попечителей монастыря, мужчин и женщин, рядом с двумя священниками и о чём‑то с тихой улыбкой разговаривала. Мельком взглянув, Мирослава отметила, что она ещё больше похудела и стала совсем уж какой‑то бестелесной, про таких говорят: в чём только душа держится.
Она решила зайти пока в церковь, как видно, совсем недавно, может, как раз к этому празднику открытую. Очень нарядная, ярко–голубая снаружи, внутри она выглядела бедновато, как все «новоделы», икон было ещё немного, а настоящих – старинных и намоленных – и того меньше, да и откуда бы им тут взяться. Хотя про одну какую‑то Мирослава слышала, будто некоторое время назад она мироточила, об этом даже в городской газете писали, но спросить, которая же из них, и подойти посмотреть она постеснялась. В церкви уже всяк ходил сам по себе, кто ещё молился в центре, у иконы Божией Матери, украшенной венком из цветов, кто ставил свечки к распятию, кто просто стоял в сторонке, смотря перед собой умильным взглядом. Мирослава не знала куда себя деть и, потоптавшись, пошла на выход, успев заметить, что привезённая ею в прошлый раз икона Богородицы устроена на видном месте, и возле неё стоят в вазе красного стекла цветы. Это была ваза, оставшаяся Мирославе от матери. Проходя мимо, она дотронулась до неё рукой, будто погладила.
…В прошлый раз, когда приезжали сюда с Ваней, она не сразу узнала в настоятельнице, облачённой во все чёрное, бывшую свою соседку Лиду, а когда узнала, сердце её сжалось. Прижимая к груди завёрнутую в льняное полотенце Богородицу, словно защищаясь ею, она подошла ближе и сказала:
— Здравствуй, Лида!
— Здесь нет Лиды, здесь матушка Варвара, – был ответ.
— Ну, тогда здравствуйте, матушка Варвара! Я и не знала, что ты… что вы здесь, а то бы давно приехала повидаться.
— Гостям мы рады, — сказала матушка так, будто перед ней была чужая, незнакомая ей женщина. Лишь в самый первый момент, узнав Мирославу, она коротко улыбнулась, но потом, во всё время разговора лицо её, огрубевшее, обветренное, сохраняло бесстрастное выражение.
— Ну… как вы тут? – сбитая с толку, Мирослава не знала, как себя держать.
— С Божьей помощью.
Видя, что разговор не получается и не желая навязываться, Мирослава поспешно развернула икону и протянула её матушке, сказав, что приехала для того только, чтобы отдать подарки. При виде иконы лицо у матушки несколько просветлело, она приняла её, как ребёнка, двумя руками, поцеловала лик и сказала:
— Спаси, Господи!
И окликнула пробегавшую мимо послушницу:
— Ольга, прими и отнеси наверх, да чаем напои гостей. Чаю попьёте у нас?
— Спасибо большое, — сказала Мирослава, — но мы спешим.
Она была обижена и разочарована. Не такого приёма она ожидала и не такой встречи. Ваня, стоявший поодаль, по знаку матери понёс вслед за послушницей Ольгой коробки.
— Вырос, — заметила матушка Варвара, проводив его глазами, и это были первые её слова, которыми признавалось их прежнее знакомство. У Мирославы чуть–чуть отлегло от сердца.
— А Вера как? – поспешила она воспользоваться тем, что матушка как будто смягчилась.
— Слава Богу, все хорошо.
На том и расстались тогда. И долго потом раздумывала Мирослава, почему так неласково приняла её бывшая соседка, почти подруга. Может, им не полагается вступать в контакт с теми, кто знал их в прежней жизни? Может, ей самой неприятна почему‑то их встреча? А может, Лида таит какую‑то обиду на неё? Но за что? Вроде ничего такого не было между ними. Да, Мирослава отговаривала её в своё время от монастыря, но на веру её никогда не посягала, они вообще избегали говорить о Боге, о церкви, между ними было как бы установлено не касаться этой темы. Вероятно, думала Мирослава, она по–прежнему считает меня безбожницей, и её оскорбило само появление в её обители человека неверующего. Она же не знает, что я…
А что я? Что изменилось с тех пор, как мы жили рядом, дверь в дверь? Да, я крестилась, да, бываю иногда в церкви, да, теперь и у меня дома есть иконы, но стала ли я на самом деле человеком верующим? Вот в чём вопрос.
На этот раз она приехала специально, чтобы поговорить с матушкой, как следует поговорить, по душам. Она не стала ничего везти, только конфет купила по дороге, и вот теперь стояла с этим пакетом на ступенях храма и ждала, когда матушка освободится, чтобы подойти к ней. Наконец, такая возможность представилась. Мирослава подошла, поздоровалась, сказала, отдавая пакет с конфетами: «С праздником!».
— Спаси, Господи! – отвечала по своему обыкновению матушка. – Нынче у нас и правда большой праздник. Храм свой освятили.
— Поздравляю! – сказала Мирослава. – Я и не знала, что здесь сегодня будет столько гостей, а то бы лучше в другой день приехала. Мне надо поговорить с вами по одному небольшому делу.
На этот раз Мирослава даже не пыталась напоминать о их былом знакомстве и обращалась к матушке, как если бы та была для неё действительно совершенно чужой человек и к тому же безусловный духовный авторитет. Матушка опять кивнула и даже приблизилась на шаг–другой, будто приглашая вот прямо здесь и говорить.
— Я лучше подожду, – сказала Мирослава, которую не устраивал такой разговор, наспех, прямо посреди двора.
— Что ж ждать, пойдёмте тогда уж в трапезную.
— А можно? – этим вопросом Мирослава и сама ставила себя за грань, отделявшую своих, монастырских, от посторонних, случайно забредших сюда, чтобы поглазеть на церковную службу и насельниц монастыря.
— Сегодня мы всех гостей принимаем, места всем хватит.
Гости потянулись от церкви через неустроенный ещё двор к стоявшему поодаль двухэтажному, вытянутому зданию, в первом этаже которого была трапезная, а во втором – кельи. Старый домик, где раньше жили послушницы, теперь служил, судя по составленным у дверей лопатам и веникам, подсобным помещением. В трапезной, оклеенной простыми обоями, с плиточным полом и подбитым вагонкой потолком стоял длинный, узкий деревянный стол, ничем не покрытый, за который все и стали усаживаться.
Мирослава долго не садилась, ожидая, пока другие сядут, чтобы оказаться с краю. Девочки–послушницы стали выносить тарелки с овощным, заправленным растительным маслом салатом, ухой, жареной рыбой, вареной картошкой и тушёным мясом. В торце уже сидела матушка–настоятельница, по правую руку от неё – оба батюшки, средних лет и совсем старенький, приехавший из города (Мирослава не раз видела его в главном храме), молодой дьяк и двое, как выяснилось, певчих оттуда же, по левую – женщины, как видно, считавшиеся здесь своими, матушка обращалась к ним по именам–отчествам, благодарила за попечительство и подарила каждой по форфоровой просвирке.
Вынесли «Кагор», матушка встала и сказала тост в честь праздника – «Рождества Пресвятой Богородицы, Приснодевы Марии, коей, по промыслу Божьему, надлежало послужить тайне воплощения Сына Божия, явиться Матерью Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа…». Заметила, что день рождения Богородицы особо почитается в России, и напомнила, что именно в этот день русское воинство одержало победу на Куликовом поле. (Мирослава подивилась её складной, как по писанному, речи).
Все встали и с удовольствием, с благостными улыбками на лицах выпили. Матушка стала рассказывать о том, как строился здесь, при монастыре, храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали», три года строился и вот, наконец, с Божьей помощью, готов, и сегодня впервые освящён и отслужена праздничная служба, и оттого вдвойне праздник. Потом вышла и стала сбоку, позади гостей молодая монахиня в чёрном бархатном одеянии и стала читать из «Избранного жития русских святых» почему‑то про преподобного Варлаама. Гости негромко переговаривались друг с другом, и матушка укоризненно на них посматривала, а когда чтение кончилось, сказала:
— За трапезой положено читать из святых книг, чтобы не было празднословия, а была бы молитва или же богомыслие.
«Богомыслие…» — повторила про себя Мирослава.
Гости примолкли. Тогда матушка попросила спеть молодого дьячка с иконописным лицом, тот встал и красивым, нежным голосом пропел духовную песню собственного, как видно, сочинения, восславляющую Святую Русь и святую веру. Потом и сама настоятельница неожиданно спела «Если матушка твоя ещё жива…», от этой песни у Мирославы, похоронившей несколько лет назад родителей, навернулись слезы. Потом молились слаженным хором и снова поднимали гранёные стаканы с кагором за праздник, за батюшку, за гостей–попечителей и, наконец, за самое матушку.
Мирослава, чуть отпивая вина и чуть откусывая пирожка, внимательно и с некоторым удивлением за всем наблюдала. Напротив неё сидела старушка, вся в чёрном, со сморщенным, как печёное яблочко, личиком, но на редкость живыми, блестящими глазами, она всё крестилась и улыбалась беззубым ртом, а рядом со стулом стояла её деревянная клюка. Мирослава подумала, что она похожа на странствующих старух–богомолиц, «калик перехожих», как они описаны у русских классиков, например, у Островского. Другая старуха, годами, быть может, не намного моложе «странницы», была, напротив, разодета во все яркое, цветное, совсем здесь неуместное, мало того, глаза её были подведены, морщинистые щеки нарумянены, как у старой блудницы, под газовой косынкой громоздился высокий начёс крашенных хной волос. Мирослава все поглядывала на неё, не понимая, почему она‑то здесь. Видать, в такой день и правда всех и всяких принимают.
Когда запели в очередной раз молитву, она вдруг подумала про себя: «А что я тут делаю? Почему я здесь?». Попыталась увидеть себя со стороны, глазами той же матушки, хотя та ни разу за всё время трапезы даже не взглянула в её сторону, и поняла, что и сама выглядит странно и неуместно за этим столом. Белый шёлковый шарфик то и дело соскальзывал с её головы и один раз даже упал на пол, под стул, она подняла его и решила больше уж не надевать, положила на колени.
Именно в этот момент матушка заговорила о людях, которые входят в храм, не смирив своей гордыни, то есть входят исключительно для того, чтобы погордиться собой: вот, мол, я какой, переступил‑таки порог церкви. Упомянула вскользь и про женщин, которые не ведают, что не только в церкви, но и в любом другом месте, где есть иконы, негоже находиться с непокрытой головой (Мирослава снова накинула шарфик). И ещё про то, что много есть нынче богатых людей, и церковь они теперь посещают. Но истинные ли они христиане, если все ещё одержимы духом стяжательства? «Ибо сказал Господь: всё, что имеешь, продай и раздай нищим». А помогай они щедрее православной церкви, сколько бы храмов во славу Господа Бога нашего Иисуса Христа можно было бы построить!
Мирославе показалось, что и это она специально для неё говорит, хотя и не смотрит в её сторону.
После трапезы, длившейся, впрочем, недолго, не больше часа, все снова вышли во двор, гости стали прощаться и рассаживаться по оставленным тут и там машинам. «Почему они даже с машинами сюда пускают, разве тут проходной двор?» — подумала Мирослава, сама она оставила машину далеко за воротами и вошла в монастырский двор пешком.
Монашенка в чёрном бархатном, та, что читала вслух житие Варлаама, пробегая мимо неё, приостановилась, спросила:
— А вы кого‑то ждёте?
— Да, матушку вашу.
— А по какому вопросу? Я её секретарь.
— Очень приятно. Как вас звать?
— Матушка Евлампия.
На вид ей было лет 25.
Мирослава не удержалась:
— А прежде как звали?
— Это неважно, — сказала она строго. – Так по какому вы вопросу?
Мирослава подумала, что многое тут устроено так же, как в миру.
— По личному.
Матушка Евлампия хотела ещё что‑то сказать, но не нашлась, развернулась и засеменила туда, где стояло црковно–монастырское начальство. Настоятельница, между тем, прощалась с главными гостями – батюшкой из городского храма и певчими. Все они, кроме батюшки, уже переоделись в светское, а молодой иконописный дьячок даже спрятал длинные волосы под модное кепи и выглядел теперь совсем обычным молодым человеком. Они ещё постояли у машины, высказывая довольство друг другом и проведённым праздником. Мирослава терпеливо ждала в сторонке. Наконец те тронулись, матушка обернулась и чуть было не прошла мимо, да Евлампия указала ей на ожидающую неизвестно чего гостью. Матушка нехотя приблизилась и, кажется, снова готова была разговаривать прямо тут, посреди дороги.
— А можно где‑нибудь присесть? Я долго не задержу, — попросила Мирослава.
Они прошли вглубь двора, к высокому, раскидистому каштану, на нижней ветке которого висел небольшой чугунный колокол, с его помощью, как видно, созывали монастырских на обед, а может, и на службу, и сели под ним на вросших в землю пнях, поставленных вокруг другого, гораздо более широкого пня, служившего столом. Мирослава провела рукой, смахивая листья, вынула из сумочки носовой платок, расстелила и только после этого присела на краешек. Матушка ничего подобного не проделывая, села напротив неё. Тотчас к ней стали подходить и обращаться с разными вопросами то послушницы, то подзадержавшиеся, а то и вновь подъехавшие гости. С одним из них, на вид типичным предпринимателем, матушка вступила в длинный разговор, который Мирославе поневоле пришлось слушать, речь шла о стройматериалах для возводящейся здесь же, на территории монастыря второй церкви.
Когда она обратила, наконец, лицо к истомившейся в ожидании Мирославе, той уже ни о чём не хотелось говорить. Когда ехала сюда, она все представляла себе не так. Ей виделась уютная маленькая келья, ну, пусть не келья, но все же какая‑то комната, где они с матушкой ведут неспешный и задушевный разговор наедине друг с другом… А тут – стройплощадка какая‑то, люди, беготня, да и сама матушка – вроде заправского прораба. Она поняла, что задушевного разговора не получится, но все же решила попробовать. Раз уж приехала в такую даль, раз уж столько ждала….
Вопрос был простой и одновременно сложный. Может ли женщина вроде неё, женщина, которая от всего и от всех устала, женщина, которой не хватает одного – возможности остаться наедине с собой и собраться с мыслями, подумать о прожитой жизни… может ли такая женщина попросить в монастыре временного убежища, не для послушания, не для пострига, а лишь для уединения, для того, чтобы вдали от всех…
Мирослава открыла было рот, чтобы сказать всё это, но сказала почему‑то совсем другое.
— Я книжку пишу, про женщин, про их судьбы, и у меня одна из героинь попадает в монастырь, так вот я хотела…
— А сгореть не боишься? – оборвала её матушка Варвара, не дав договорить.
Мирослава опешила. Что значит «сгореть»? Почему это «сгореть»? Натурально сгореть, в аду, объяснила матушка. Да за что же?! А вот за это самое, что касаешься того, чего касаться всуе не следует. Но почему же «всуе»? А потому, что без глубокой веры, без молитвы нельзя сметь рассуждать о Боге и о святом Ему служении, в том числе монашеском. Да знаешь ли ты что есть монашество? – тут голос матушки Варвары возвысился и зазавенел. – Это есть бескровное мученичество, это отречение от мира и всего, что в мире, от житейского благополучия, от всех мирских связей, от родства. Это жизнь во Христе, со Христом и ради Христа! Это денная и нощная молитва и размышление о Законе Божием. Здесь просто так, из праздного любопытства никто жить не может. Здесь не санаторий. Здесь работают и молятся. Коли пришёл – то сразу, с первого дня исполняй послушания, работай! Работай и молись. А знаешь ли ты, что такое истинная молитва? Иные без волос и без зубов остаются.
Мирославе сделалось не по себе. Ещё до того, как матушка подошла к ней, она успела поговорить с двумя молодыми, лет по двадцати, послушницами. Спросила у них, где та девушка, кажется, Оля, которая была здесь ещё весной.
— Ушла, — сказали девушки.
— Многие уходят?
— Да, — сказали они простодушно.
Обе были на редкость некрасивы, у обеих не было передних зубов, торчали чёрные головешки во рту. Но вряд ли это от денной и нощной молитвы, девушки сказали, что сами они из соседнего горного посёлка, в монастыре недавно, и ещё не решили, оставаться ли.
— Что, трудно?
— Трудно, — вздохнули обе.
— Что, матушка строгая у вас?
Они переглянулись испуганно и отошли.
И в самом деле, куда я лезу? – думала Мирослава, слушая матушкину отповедь. Даже пусти она меня и приветь, я не выдержала бы здесь и дня. Но почему она так строга со мной? Даже если человек неверующий или слабоверующий, или колеблющийся в своей вере приходит к ней, разве не долг её христианский быть с таким человеком доброй и приветливой, возлюбить его, помочь ему? Сама же только полчаса назад, за трапезой, говорила: «Господь всех принимает». А может, она почувствовала её такой неуместный здесь критический настрой? Если так, то она стала очень проницательна, думала Мирослава, а я, напротив, не умею скрыть своих чувств. Слишком уж придирчиво оглядывала постройки и двор и пробегавших мимо послушниц, да и за трапезой все оценивала: что едят, да что пьют, да какие тосты говорят, да как начальству своему церковному кланяются и даже подумала в какой‑то момент, что все это очень напоминает мирские застолья.
— У человека одна мысль идёт от Бога, а другая – от дьявола, — сказала матушка, глядя в сторону, и повторила: - Да, вот так, одна от Бога, другая – от дьявола.
«Это уж точно про меня», — подумала Мирослава и решив, что с неё хватит, поднялась с пенька, отряхнула длинную чёрную юбку.
— Ну что ж, матушка… Простите, что зря побеспокоила вас в такой день. Прощайте!
И уже отойдя, вдруг обернулась и спросила:
— А что ж скатерть‑то мою не стелете, белую, с узором?
— Владыку в гости ждём, тогда и постелим, — ответила матушка и добавила чуть более ласково: — Ангела хранителя вам!
От трапезной поспешала к ней бархатная Евлампия с каким‑то новым делом.
Разбитая, чуть не плача, Мирослава шла к воротам, ведущим из монастыря на волю. Уже за воротами нагнала её одна из беззубых девушек, засеменила рядом, говоря:
— Матушка велела вас в посёлок проводить, к матушке Гаврилии.
— К кому?
— Это нашего батюшки, что в новом храме служит, матушка.
— А зачем мне к ней? Мне к ней не надо, — отмахнулась от беззубой Мирослава. Ей хотелось побыстрее сесть в машину, отъехать отсюда подальше, остановиться где‑нибудь и поплакать.
— Пойдёмте, пойдёмте, здесь недалеко, у реки, — звала беззубая девушка.
Что‑то заставило её подчиниться. Они прошли пешком по дороге, повернули налево, спустились вниз, к реке, и Мирослава увидела небольшой одноэтажный дом с высоким крыльцом. У крыльца играл на солнце маленький мальчик, в холодке, под деревом, стояла детская коляска, накрытая тюлем.
— Кликни матушку Гаврилию, — попросила девушка.
Мальчик сбегал в дом, и тотчас на крыльце появилась молодая женщина в фартуке и белой косынке.
Приглядевшись, Мирослава узнала Веру, дочь Лиды.
15
Моя дорогая девочка! Я была слишком самоуверенна, когда, начиная эти записки, рассчитывала закончить их ко времени твоего появления на свет. Это вот–вот случится, а я все ещё не собралась до конца с мыслями. Впрочем, не это главное. Я хотела чему‑то научить тебя, от чего‑то заранее предостеречь, о чём‑то предупредить… Мне казалось, что, прожив на свете полвека с хвостиком, я всё знаю про эту жизнь и все про неё понимаю. Мне хотелось уберечь тебя от возможных будущих ошибок и разочарований… И вот я пишу, пишу, пишу и уже рассказала тебе почти всю свою жизнь (о, я бы дорого дала, чтобы моя бабушка оставила мне подобные записки!), но, перечитывая написанное, вижу, что никакого такого «опыта» в нём не содержится и никаких ответов нет на вопросы, которые преподносит женщине жизнь.
Я не знаю, каким ветром заносит к нам любовь и куда она потом улетучивается. Я не знаю, почему женщина любит одного человека, а замуж выходит за другого. Я не могу объяснить, почему она в одном случае вынашивает ребёнка, а в другом от него избавляется. И я не понимаю, как из весёлой, жизнерадостной, полной сил и энергии оптимистки спустя три десятка лет получается усталая и унылая пессимистка, которая ничему не рада, ничего не хочет, ни о чём не мечтает…
Выходит, я ничего не знаю про эту жизнь и ничему полезному не могу тебя научить.
Стыдно признаться, но в этом возрасте я все ещё пытаюсь что‑то изменить, исправить в себе самой. Все ещё стремлюсь стать лучше. Для кого, для чего? Муж и так любит, такую, какая есть, то есть именно такую и любит и другой не надо ему. Карьера сделана, и была она вполне успешной, а теперь уж позади и стремиться больше не к чему. Быт, слава Богу, устроен и обеспечен – и себе, и детям. Так для кого же, для чего? И, собственно, что исправлять?
Ну вот… хотелось бы, к примеру, перестать раздражаться по пустякам, научиться, наконец, помалкивать, не совать нос в чужие (мужские) дела, меньше откровенничать с незнакомыми людьми, да и с хорошо знакомыми тоже, не умничать где не надо… Ты вообще любишь командовать, руководить, или, как Котик говорит, «всех строить». Какая бы ни возникла ситуация, ты всегда раньше всех знаешь, что кому надо делать, и тут же начинаешь распоряжаться. Ну, это‑то понятно, откуда идёт. Синдром старшей сестры, умноженный на синдром начальника. Притом начальника, чья карьера закончилась слишком рано. Руки ещё чешутся, а руководить уже некем, вот ты и обращаешь весь свой нерастраченный в боях потенциал на родных и близких. Им не позавидуешь.
Ещё хотелось бы: стать хладнокровной, не реагировать, не принимать близко к сердцу, не бросаться на помощь, когда тебя даже не успели о ней попросить, и научиться хотя бы иногда отказывать, если все‑таки попросили. Нет, ты не можешь сделать двоюродной сестре российское гражданство вместо украинского, нет, ты не в силах отмазать племянника от армии, нет, ты не в состоянии обеспечить другому племяннику поступление в университет, а также найти более денежную работу сестре и более престижную зятю, устроить на отдых семью университетской подруги и спасти чьего‑то умирающего дедушку. Ты не можешь! Зачем же ты берёшься? Зачем не откажешь сразу, а входишь в положение, выслушиваешь, сочувствуешь и обещаешь узнать, позвонить, попросить, договориться? Как хорошо тем, кто хладнокровен, высокомерен и недоступен, как выключенный сотовый. Они смотрят поверх голов и не реагируют. Им если и пожалуются, посетуют на что‑то, они бровью не поведут, скажут только: «Да, бывает…», или: «Что поделаешь!..».
Учись! Поздно учиться.
Ещё труднее противостоять происходящим с тобой внешним изменениям. Женщина за пятьдесят являет собой довольно грустное зрелище. Что‑то наподобие дома, который старательно оштукатурен и подкрашен снаружи, но внутри которого уже все трещит и сыплется. Нет, до полного обрушения ещё далеко, он ещё послужит, этот дом, этот организм со всем его удивительным внутренним устройством, но хлопот с ним прибавилось. И ты с тревогой прислушиваешься, что это похрипывает у тебя на «верхнем этаже» и что там покалывает на «нижнем», и не понимаешь, отчего это внутри то холодно до озноба, то жарко так, хоть распахивай настежь все окна…
Конечно, по нынешним временам и в организме много чего можно заменить, подреставрировать, можно его, организм, и промыть, и прочистить (что мы и делаем регулярно на водах), и кое‑что новое в него вставить. А пластическая хирургия на что? Некоторые это не одобряют, говорят: это уже не тот человек, а совсем другой. Не думаю. Я – это я, пока моя душа со мной, во мне, а до неё ни один хирург не доберётся, потому что никто так и не знает, где, в каком месте она у нас находится, - везде и нигде.
Эволюция моего отношения к этому вопросу такова. Раньше, лет ещё 10 назад: да как это можно, фи! Да ни за что на свете! Потом, лет через пять–шесть: ну, это личное дело каждого, если хочется человеку, то почему бы и нет. Ещё через пару лет: интересно, а как это, очень больно или терпимо? И наконец: а где у нас это делают? Нет, я ещё не созрела для такого решения, может, и не созрею никогда, да мне ещё и нужды вроде нет, а все же…
Семью семь – сорок девять.
Семь семилетий – это и есть, значит, «бабий век». Полнокровной женской жизни и того меньше – три–четыре семилетних срока, смотря когда начать – в 14 или в 21, и смотря когда закончить – в 42 или в 49. Засим начинается медленное, но заметное увядание, и вроде ещё не стыдно называть себя женщиной, но уже пора смириться с неизбежным.
Например, с тем, что кое‑что отработавшее придётся из своего организма просто удалить. Говорят, на Западе женщины после сорока добровольно удаляют это «кое‑что», даже без медицинских на то показаний, в целях профилактики. У нас не принято. У нас – пока не припрёт, и то – целая трагедия. То, из‑за чего всю жизнь страдала, что так мешало жить и работать, теперь удалят, а – жалко. Кажется, как же без этого существовать, что я без этого?
…Все оказывается гораздо проще, чем думалось. Пожилой, симпатичный хирург, все женщины хотят попасть именно к нему, говорят, у него руки такие мягкие, прямо шёлковые. И правда – ласковый, добрый, даже кокетничает. Наркоз, улёт, очнёшься – все уже кончено, ты и понять ничего не успела. Худеешь и молодеешь после операции, и у тебя появляется забытое желание порхать и наслаждаться жизнью. Ой, мамочка, как хорошо, как непривычно легко! Просто девочкой себя чувствуешь.
Рано радуешься. Через несколько лет выясняется, что то была ещё не последняя кровь, а вот начнутся приливы, тогда узнаешь… Странное определение – «приливы» (будто ты – не человек, а океан или море), но, оказывается, довольно точное. Вдруг поднимается внутри тебя огромная, неуправляемая волна, ударяет в голову, заливает краской лицо, словно кровь, не имея больше выхода, бьётся в твоём теле, терзая и мучая его напоследок.
Если подумать, целые реки крови проливают женщины за свою жизнь. И эти‑то реки крови и есть – жизнь женщины, её отличная от мужчины судьба? Несправедливо, Господи! Пять семилетий подряд – сплошные месячные, роды, аборты, выкидыши, вечный страх беременности, женские болезни, нарушения цикла, опять, как в детстве, сильные боли (а ведь уже не было их), мигрень, мастопатия, миома, и в перспективе – угроза самой страшной болезни, которая скольких уж женщин, знакомых и незнакомых, скосила. Врач спрашивает: у вас в роду кто‑нибудь…? Да, мама и тётя умерли именно от этого… Тогда вам надо особенно беречься. Ага. Ещё бы знать, как.
Лично у меня большие претензии – к кому? К Богу? К природе? Точно не знаю, знаю только, что к тем, высшим силам, под которыми все мы ходим. Зачем все так устроено? За грех первородный? А если бы Ева не согрешила тогда, в саду Эдема, как всё было бы?
И зачем жизнь такая короткая? Только–только привыкнешь и научишься жить, только–только поймёшь, что к чему в этой жизни, как всё – «слезайте, граждане, приехали, конец». Да я же… Да я же ещё и не жил… Да я же ещё не успел как следует… Ничего не знаем, следующий! Кто это так устроил? В чём тут высший смысл? Пишут, что когда‑нибудь человек научится жить до 200 лет, как в библейские времена. Что‑то я сильно сомневаюсь. Да хоть бы и так, нас‑то это не касается, наш срок отмерен и известен. Говорят ещё: правильным питанием, физкультурой и т. п. мракобесием можно продлить свой срок. Срок чего? Старости? Вот если бы молодости – тогда другое дело, а умереть в 70 или в 90 — невелика радость и разница, потому что всё равно – старость, и чем дальше, тем все хуже и хуже, так что, не дай Бог, дожить до этих якобы вожделенных 90. Особенно, если ты – женщина.
Нет, конца лично я не боюсь. Однажды уже сподобилась побывать на грани жизни и смерти. В клинике города Кисловодска (с тех пор мы туда не ездим) мне налили чего‑то не того в капельницу, и с первыми каплями, проникшими в мою вену, стал стремительно развиваться коллапс, я начала задыхаться, словно тяжёлой плитой придавило грудь, и поняла, что, наверное, сейчас умру. Слава Богу, Котик был в ту минуту рядом, успел позвать на помощь, и девочка–медсестра, совершившая роковую ошибку, успела, в свою очередь, отключить капельницу и вколоть преднизолон, но из анафилактического шока меня выводили ещё целый час, прибавляя по капельке давление, упавшее в считанные минуты до отметки 40 на 15.
— Ну, это вам повезло. Обычно в таких случаях умирают, — сказала на следующий день принявшая смену медсестра постарше.
Да, мне повезло. Повезло, что я не одна была в палате, а то ведь они ставят капельницу и уходят по своим делам, ясное дело, умрёшь. И долго я потом переживала и пережёвывала случившееся, но главное, что меня занимало в связи с этим: как бы все мои остались без меня, что с ними было бы? И поняла, что ничего. Сестры? Что ж, пора им учиться жить без меня, они уже большие девочки. Сын? Он взрослый, самостоятельный, на своих ногах, не пропадёт. Муж? Не хотелось бы оставлять его одного так рано, но у него столько дел, он так занят своей работой, что это‑то его и спасёт, и утешит. Вот будут ли все они по–прежнему любить и поддерживать друг друга, как родные – это вопрос. Но если только я их связывала друг с другом, а не станет меня – они врассыпную, тогда грош цена была этой родственной любви.
Про себя же я ясно поняла тогда: умирать не страшно. Не хочется – да, это другое дело, но – не страшно, потому что с тобой происходит нечто, от тебя уже не зависящее, последний проблеск сознания – он, как видно, о чём‑то незначащем, о том, например, как много народу сбежалось, и – все. Вообще все. О чём тут говорить?
Остаётся неясным главный вопрос – о том, что после смерти. Христианская идея спасения и последующего бессмертия души чудесна, она очаровывает и утешает, но чем больше человек знает об устройстве мира, чем он образованнее, тем труднее ему просто принять на веру, что загробная жизнь есть, он хочет все‑таки прямых научных подтверждений. Без них это остаётся загадкой, самой главной, самой большой, самой трагической и неразрешимой загадкой человеческого существования.
Теперь принято стало говорить о самом себе: «Я человек верующий». И кажется: как легко это сказать и как легко самому поверить в то, что говоришь. Но как это на самом деле далеко от того, что можно было бы назвать истинной верой.
Мало ведь уметь перекреститься при всяком уместном случае, мало зайти время от времени в церковь (всегда в другую, какую придётся) и поставить там неизменных две–три свечки, кому – за здравие, кому – за упокой, не умея, как правило, произнести при этом никакой молитвы, кроме, разве что, начальных слов из «Отче наш…». Мало носить на себе крест (скорее – «крестик», всегда золотой, но не всегда освящённый), хотя лучше все же носить, чем не носить, и помнить, что носишь. Все это – лишь ритуалы веры, но ещё не сама она.
Верить по–настоящему – действительно тяжёлый труд, требующий больших самоограничений и большого самоотречения. Не каждому служителю церкви это дано, что уж говорить о нас, простых смертных! Мы теперь (когда стало можно) хотим слыть верующими, но продолжать жить, как жили, ничего в своей жизни не меняя, ничем не жертвуя, ни от каких удовольствий не отказываясь. Мы уже не атеисты, как были (да и были ли?), но ещё и не верующие, как должно быть. Мы – язычники, способные лишь исполнять некоторые простейшие ритуалы. Такое переходное состояние.
Собственно, что это за «мы»? Надо отвечать за себя. Хорошо, я.
Я не была крещена в младенчестве, поскольку родители мои, оба родившиеся в 20–х годах прошлого века, то есть в самый разгул атеизма, разрушения храмов и поругания веры, сами выросли и прожили жизнь в полном безбожии. Мать моя была, к тому же, не скажу «коммунисткой» (потому что слишком хорошо знала строй её мыслей, далёкий от этого), но – членом партии. Первое соприкосновение с миром религии произошло у меня лет в семь, когда однажды с двумя подружками мы оказались, не помню, как, в стоявшем на краю нашей улицы большом и добротном доме сектантов–евангелистов. В просторной, свободной от мебели и заполненной людьми комнате шёл молебен. Мне запомнился лишь приторно–сладкий запах и полумрак (ставни на окнах были среди бела дня закрыты). Я в страхе бежала оттуда.
Взрослые говорили про сектантов с осуждением и сторонились их. Церквей же нигде поблизости не было, их и вообще‑то было две на весь город, обе – в центре, а мы жили на окраине. Раз в году, перед Пасхой, со всех окрестных улиц тянулись к трамвайной остановке старушки в белых платочках и с такими же белыми узелками в руках, в этот день все трамваи были заполнены этими одинаковыми старушками, ехавшими в центр города, в церковь, святить крашеные яйца и «паски», как называют у нас на юге пасхальные куличи. Дома тоже непременно пекли «паски» и красили яйца, но поста перед этим не держали никогда, хотя слова «постное масло», «постный борщ» и даже «постное мясо» (что означало совсем нежирное) были в обиходе постоянно, независимо от календаря. Утро Пасхи всегда бывало солнечным и праздничным, как на заказ, в это утро даже заклятые соседи говорили друг другу «Христос воскрес! Воистину воскрес!» и целовались прямо на улице. Пасха была единственным уцелевшим в те времена церковным праздником, который люди продолжали праздновать, несмотря ни на что. И никто ничего не мог с этим поделать, мирились как с пережитком, но следили, чтобы в церкви, на Всенощной, не было молодёжи. И если кого‑то там «засекали», следовало разбирательство на комсомольском бюро и даже исключение из комсомола.
Впервые я переступила порог церкви лет в 13–14, будучи ученицей художественной школы, которая находилась как раз по соседству с одной из двух действующих церквей нашего города. Это была главная, соборная церковь – большая, величественной архитектуры, сложенная из темно–красного кирпича, с тёмными куполами, которые были видны издалека, хотя сам собор близко и плотно был застроен обыкновенными жилыми пятиэтажками, спрятан от глаз.
Рисунок преподавал нам высокий, сухощавый, немолодой человек, Анатолий, кажется, Вячеславович. Он водил нас к собору, выбирая место между дворами, откуда можно было сделать наброски. Мы устраивались на маленьких стульчиках, ставили на колени планшеты и рисовали кто что хотел, кто – купола с крестами, кто своды высокого входа, а кто и весь собор, словно вырывающийся вверх из тесноты застройки и разросшихся вокруг лип. Иногда мы по двое–трое (одному страшно) заглядывали ненадолго внутрь собора, делая вид, что рассматриваем исключительно роспись купола и стен, собственно, так оно и было, но глаз схватывал и все остальное – иконы, убранство, старушек в чёрном, собирающих отгоревшие свечи, сами эти свечи, высокие, тонкие, с крохотными язычками колеблющегося в полумраке пламени, молящихся по углам, у разных икон людей, в основном женщин… Это был какой‑то другой, неизвестный и недоступный мир, и было странно и удивительно, что он, этот мир, совсем рядом, стоит только перейти трамвайный путь, пройти дворами и толкнуть тяжёлую, массивную дверь храма.
Как‑то раз, в каникулы, мама взяла меня с собой в командировку, в Москву. Мы жили с ней в гостинице «Алтай», в районе ВДНХ, она уезжала с утра в свой главк, а я была предоставлена сама себе и каталась на метро и на автобусах–троллейбусах по Москве. Именно тогда я в первый и в последний раз побывала в Мавзолее, выстояв огромную очередь, страшно замёрзнув (была осень, дул ветер) и неприятно удивившись тому, как выглядел вождь в своём подземелье. Тогда же я придумала съездить электричкой в Загорск, посмотреть Троице–Сергиевскую Лавру. Был холодный солнечный день, голубые с золотом купола сияли в небе, я никогда не видела подобной красоты и все смотрела на них и не могла насмотреться. Потрясение было сугубо художественного свойства, как от произведения искусства.
И где только я потом, во взрослой жизни, ни бывала, каких только храмов – православных и католических – ни видела, начиная от Исакия в ещё не переименованном Ленинграде и кончая Нотр–Дамом в Париже, всегда то же чувство удивления и восторга сопровождает меня, всегда думаю, что вот жили же на свете люди, которые создали такую ни с чем не сравнимую красоту. Все же большую часть жизни я входила в храмы, как входят в музеи, – посмотреть, получить чисто эстетическое удовольствие.
Впервые я задумалась о Боге благодаря… Булгакову. Мне было восемнадцать лет, когда журнал «Москва» напечатал «Мастера и Маргариту». В редакции газеты, с которой я сотрудничала перед поступлением в университет, ходил по рукам единственный экземпляр, и мне никак не удавалось его заполучить. Прочитавшие уже вовсю шутили цитатами из романа. Говорили: «Сижу, никого не трогаю, починяю примус…» или: «Не разлей Аннушка масло…» и дальше – о чём‑то своём: не было бы того‑то и того‑то. Я не понимала, о чём они говорят, и страдала. Наконец, мне удалось уговорить одного молодого человека, за которым журналы были записаны на тот момент (это были вообще‑то библиотечные экземпляры). Сам он уезжал в командировку за репортажем, как сейчас помню, о зимовке скота, и я умолила его оставить мне журналы. Молодой человек согласился. Но только на два дня. Это было мучение. Хотелось читать медленно, смаковать фразы, возвращаться и перечитывать, хотелось останавливаться и думать, но вместо этого пришлось «галопом» пробежать текст по диагонали, мало что поняв и лишь почувствовав его грандиозность и ни на что не похожесть. От первого чтения осталось более или менее связное представление о «внешнем» романе – приключениях Воланда в Москве, но самое смутное – о романе «внутреннем» — истории Иешуа и Пилата. Я мечтала заполучить его надолго, сказаться больной и читать день, два, три, неделю…
Именно так все и случилось, но лишь несколько лет спустя. Однажды, торопясь в редакцию, я выскочила на проезжую часть улицы и ринулась к остановившейся дальше положенного маршрутке. В это время к той же остановке подходил троллейбус… Дело обошлось лёгким сотрясением мозга, но на две недели мне был предписан постельный режим. Вот тогда‑то я во второй раз, но впервые как следует, с чувством и толком прочитала «Мастера…» (у меня уже была своя книга), и особенно внимательно – «внутренний» роман.
Не знаю, имел ли Булгаков тайную цель пробудить у читателей страны сплошного атеизма интерес к фигуре Христа, но во мне он такой интерес пробудил. Впервые всерьёз захотелось прочесть Евангелие, что было на тот момент не так и просто, его ещё надо было найти. Начать пришлось с… «Детской библии», адаптированной для детей дошкольного и младшего школьного возраста, которую подарили моему 7–летнему сыну. Я читала ему вслух, и оправдывала себя тем, что читаю не себе, а ребёнку. Маленькая цветная библия, где к каждому сюжету прилагалась яркая иллюстрация, изображавшая деяния Христа, стала нашей с ним «книжкой перед сном». Будучи уже молодым человеком, он сам, без всякого понуждения с моей стороны, прочёл настоящую Библию, и после, когда я пеняла ему на слабый интерес к чтению, отшучивался:
— Да, я прочёл только одну книгу, но какую!
Что же касается меня, то прежде, чем я добралась до Святого Писания, была сначала прочитана «Жизнь Иисуса» Франсуа Мориака, показавшаяся мне что‑то уж очень жёсткой. Захотелось проверить свои впечатления по первоисточнику.
Наконец я смогла все сравнить.
У Матфея: «…И, раздев Его, надели на Него багряницу. И, сплетши венец из тёрна, возложили Ему на голову, и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним… и плевали на Него, и, взяв трость, били Его по голове…».
У Мориака: «…Отдирание ткани, прилипшей к ранам, удары молотка по гвоздям, поднятие креста, тело, провисающее всей своей тяжестью, жажда, утоляемая уксусом, смирной и желчью, и позорная нагота выставленного на показ тела…».
У Мастера: «…Тело с выпятившимися рёбрами вздрогнуло. Палач провёл концом копья по животу. Тогда Иешуа поднял голову, и мухи с гуденьем снялись, и открылось лицо повешенного, распухшее от укусов, с заплывшими глазами, неузнаваемое лицо».
Боюсь, что я полюбила историю Иисуса Христа именно как великий литературный сюжет. И когда спрашивают: кто твой любимый автор и какое твоё любимое произведение, мне так и хочется ответить: «Евангелие от Матфея».
Сама я крестилась только в начале 90–х (позже собственного сына), когда мне было уже за сорок. В день Успения Пресвятой Богородицы, вдали от дома, в древнем абхазском храме. Почему абхазском? Так уж получилось.
Муж мой, сам крещённый ещё в детстве набожной бабушкой, которую отец его, Василь Васильич, узнав об этом, чуть не прогнал из дому (то была, конечно, не мать, а тёща), давно хотел устранить тот недостаток, что жена его, то есть я, все ещё ходит некрещёной. Вдруг однажды утром он сказал мне: собирайся, поедем. Куда, зачем? Собирайся, там узнаешь. А сам загадочно улыбается. Скажи он мне, что задумал, я бы, наверное, переполошилась, что не могу вот так, сходу, что я должна мысленно подготовиться, что я…. Ничего не объясняя, он посадил меня в машину и повёз. Только при пересчечении границы я узнала, по крайней мере, что едем мы в соседнюю Абхазию. И только подъезжая к старинному храму в Гудауте, смутно догадалась о дальнейшем. К нам вышел отец Виссарион – высокий, худой старик, оказавшийся в действительности нашим ровесником, седые длинные волосы и такая же борода прибавляли ему лет. (В то время ещё шла война между грузинами и абхазами, они и познакомились на этой войне, у каждого из них была там своя миротворческая миссия). Оказалось, мы приехали не совсем удачно, внутри отпевали подорвавшегося на мине молодого абхаза. Отец Виссарион провёл нас на задворки храма, принёс туда все необходимое для крещения и так, прямо во дворе, поставив меня босыми ногами на какую‑то тряпицу, быстренько окрестил, я и охнуть не успела. Во время обряда рядом со мной был муж, которого я могу поэтому считать ещё и своим крестным отцом. Потом мы зашли в какое‑то внутреннне помещение, батюшка налил нам и себе по большой рюмке красного абхазского вина, и мы выпили за новообращённую Фотинью, то есть за меня, а потом – за скорейший конец войны. Всё это виделось мне как в тумане, слезы застилали глаза, а в душе было полное смятение.
Долго потом я все думала о происшедшем со мной, будто все ещё не понимая и не веря, что могу теперь считать себя крещёной и православной. Что ж я такая бедная, несчастная, думалось мне, мало того, что с опозданием на целую жизнь, так ещё и окрестили как‑то не по–людски, не дома, а, можно сказать, за границей, и не в храме, а прямо в военно–полевых условиях.
— Ничего! – утешал меня «крестный муж». – Считай, что приняла боевое крещение. Как настоящая офицерская жена.
Родителей моих уже не было к тому времени на свете, а то бы они, наверное, сильно удивились. С тех пор я ношу крестик, в доме у меня появились иконы, иногда я бываю в церкви, молиться, правда, как следует, не умею, а молюсь про себя, как могу, как сама придумаю.
Зато я теперь много думаю о Боге (впрочем, я давно о нём думаю). Но чем больше я думаю, тем меньше я могу считать себя истинно верующим человеком. Как бы это лучше объяснить? Вот есть люди, которые стоят перед алтарём на коленях, бьют челом и шепчут про себя молитвы. Я же будто все ещё стою в дверях церкви и лишь смотрю с почтением – на иконы, на священника, на молящихся. Они – верующие. Я – скорее, сочувствующая вере. Всей душой сочувствующая. Но я должна честно признаться, что по–прежнему не знаю ответов на главные вопросы – о происхождении жизни и о бессмертии души. То есть я знаю только то, как эти вопросы трактует религия и как – наука, но кто из них прав, я не знаю. И никто не знает. Просто одни люди выбирают для себя один ответ, а другие – другой. Но есть и третьи, они, как я, на распутье, им хочется одновременно приять оба ответа.
Когда я смотрю на икону, то по–прежнему вижу в ней прежде всего работу художника – великого или не очень. Когда я слушаю священника, я не могу отделаться от мысли, что это обыкновенный человек, у которого профессия такая – служить Богу. Мне не раз потом доводилось сидеть за одним столом с тем же отцом Виссарионом, весёлым в сущности человеком, любящим красное вино и вообще застолье, имеющим много друзей среди политиков и военных, с которыми он обсуждает вполне мирские дела. Может, так и должно быть? Я люблю отца Виссариона, рада каждой с ним встрече, как бываешь рад встрече с хорошим человеком, с другом. Одного мне не хватает – благоговения.
Конечно, эти люди, служащие в храмах, намного ближе к Богу, чем мы, простые смертные, хотя бы потому, что знают молитвы, которых не знаем мы, и молятся не от случая к случаю, а каждый Божий день. За нас, вместо нас, замаливают наши грехи, просят о нашем спасении. Они и есть посредники между нами и Богом.
Но иногда мне хочется говорить с Ним без посредников. Случается, я подолгу смотрю в небо над головой, вижу в нём звезды или облака, или тучи, или сплошную синеву, и в такие минуты безоотчетно верю, что Он есть, что Он где‑то там, высоко–высоко, и тогда молюсь про себя и по–своему, говоря те слова, которые хочу сказать Ему одному. Я давно согласилась с мыслью, что Он – тайна. Самая великая из всех тайн. И как тайну, как недоступное мне знание, как именно незнание, с которым я родилась и с которым умру, я принимаю Его в своё сердце.
Ну и кто я после этого?
Вот уже полгода я пишу некий текст, полагая, что когда‑нибудь из этого выйдет женский роман. И всем, кто спрашивает меня, чем я сейчас занимаюсь, я говорю: пишу женский роман. В действительности я пишу отдельные куски, фрагменты, отрывки, все – в разном стиле и о разном. Порой мне кажется, что я никогда не смогу свести эти фрагменты в одно целое и никакого, следовательно, «романа» не получится. Часто мне хочется все бросить, послать к чёртовой матери всю затею, освободиться от повинности, которую я сама себе придумала и назначила, непонятно, зачем и для чего.
Я, видишь ли, хочу описать женщину своего поколения, родившуюся ровно в середине прошлого века и прожившую всю его вторую половину. Я бы даже хотела дать этому злополучному роману такое название – «Вторая половина». Здесь заключено сразу несколько смыслов. Об одном (вторая половина века) я уже сказала, другие смыслы – это вторая половина жизни женщины, разительно, как я теперь знаю, отличающаяся от первой, потом – это представление о женщинах как о второй половине человечества и о женщине как о второй половине для мужчины. Наконец, в самой женщине заключена вторая половина – её душа, и это‑то и есть главный предмет моего якобы романа.
Но как же трудно описать женскую душу! Замышляя свой сюжет, я наивно полагала, что все про неё знаю (как же, ведь и у меня есть душа и, кажется, довольно чувствительная), но как ловко она ускользает от попыток именно описать, то есть разложить на составляющие, рассмотреть под лупой и в конечном счёте разоблачить. Она не поддаётся, сопротивляется, вопит и, вполне вероятно, что она‑то и строит мне козни, не давая завершить начатое.
Я хочу показать, как из маленькой девочки получается большая девочка, потом девушка, потом женщина и как эта женщина взрослеет и стареет (все происходит на самом деле очень быстро). Тут нет ничего нового, это кто только не описывал. Но я хочу ещё доказать, что все возрастные метаморфозы происходят только с внешней оболочкой женщины, её телом, лицом, отражаясь соответственно на поведении и характере. Но душа, душа! Она остаётся неизменной. Проверено на личном опыте и слышано от многих женщин. Разумеется, душу можно развить, но в сути своей она не меняется, это как отпечатки пальцев, как генотип, как цвет волос и глаз. Душа не имеет возраста, и в маленькой девочке живёт вполне женская душа, которую она стесняется обнаружить и проявить (но иногда это прорывается, поражая окружающих), а в женщине зрелой прячется душа маленькой девочки, которую она также стыдится обнажить и которая все же показывается порой наружу, неприятно удивляя близких («капризничает, как ребёнок»).
Возможно, я назову свой роман «Движения души». До сих пор названия всех моих книг начинались с буквы Д. Не могу сказать, что это принесло мне какую‑то особую удачу, но отчего‑то мне нравится эта буква.
«…Она была уже немолодой, порядком уставшей от жизни женщиной, живущей во втором браке, довольно благополучном, но вот её спросили: когда вы были в своей жизни по–настоящему счастливы? Она задумалась: действительно – когда же? И вдруг, как вспышка в мозгу: яркое солнечное утро в самом начале лета, набережная в Геленджике, она идёт по ней в чём‑то лёгком, развевающемся, цветном, от одного этого такая лёгкость и радостность, но главное – рядом с ней человек, которого она в это утро очень, очень сильно, до бесконечности любит, они только что провели вместе ночь, в гостинице, убежав сюда от всех, он – от жены, она – от родителей, на два выходных дня. Но дело в том, что ночь совсем не запомнилась, а запомнилось вот это свежее летнее утро и как они идут, не спеша, по набережной, вдоль моря, а оно синее до рези в глазах, и их обдувает ветерок, и они даже ни о чём не говорят, просто идут бесцельно, и все. Она не могла теперь вспомнить, куда они шли в тот день, и что было потом, вечером и ночью, и когда они оттуда уехали – ничего этого не запомнилось, но вот эти несколько минут – может, 20–30, когда они молча шли рядом по набережной, обдуваемые свежим морским ветерком, запомнились, оказывается, на всю жизнь. И сколько же после было ещё любовей и нелюбовей, и два брака, и, в общем, много хороших, по общепринятым меркам, даже счастливых событий в жизни, а вот спросили прямо, и она поняла, что ничего лучше (по внутреннему ощущению полноты счастья), чем то летнее утро в Геленджике, когда ничего, собственно, не произошло, не случилось, поскольку это была не первая, не последняя и не единственная встреча с тем человеком, но, оказывается, ничего лучше не было за всю довольно долгую жизнь. Она сама так этому удивилась, что не раз потом мысленно возвращалась к этому воспоминанию, и оно каждый раз приходило к ней именно на уровне ощущений, словно она чувствовала тот ветерок и то солнце у себя на лице и ту себя, лёгкую, в лёгкой, цветной, с разлетающимися рукавами блузке, в босоножках на босу ногу… Причём про того человека она даже не очень помнила, каким он был в тот день, во что был одет и как выглядел, ощущение счастья было, видимо, настолько самодостаточным, что присутствие объекта счастья ничего большего к нему уже не добавляло.
Не странно ли, что женщина, прожившая в целом благополучную жизнь, любившая и любимая, как высшую степень счастья вспомнила всего лишь двадцать минут своей жизни?».
В одной книжке по женской психологии я прочла, что нужно делать такое упражнение: три раза в день мысленно спрашивать себя: чего я сейчас хочу? И мысленно же называть три самых сокровенных желания. Ну, я попробовала. В первый раз спрашиваю себя: чего я сейчас хочу? Тут же сама собой, без всяких усилий всплыла мысль: хочу остаться одна, лечь на диван и читать книжку. Никакого второго и третьего желания не обнаружилось. Ладно. Спустя несколько часов, повторяем упражнение. Хочу раздеться, принять душ, лечь в постель и читать книжку. Ну, а ещё, ещё? Ну, водички холодной выпить. Все. И последний раз в тот день (лёжа в постели с книжкой): чего я сейчас хочу? И мгновенный ответ: ничего. На следующий день ещё трижды: «Ничего». Может, я неправильно делаю это упражнение? Может, надо спросить в глобальном смысле: чего я хочу? О! В глобальном я много чего хочу – чтобы все мои были здоровы, чтобы служба у мужа, бизнес у сына, учёба у невестки шли хорошо, чтобы ты, моя девочка, благополучно родилась и росла здоровой, умной и красивой, чтобы ни с кем из моих родных, включая сестёр, зятьёв и племянников, ничего плохого не случилось. Чтобы война в Чечне кончилась и в Ираке не начиналась. Чтобы никаких больше революций в стране. Чтобы все были живы и счастливы.
Нет, написано в книжке, надо спросить именно так: чего тебе самой лично для себя и сию минуту хочется? Остаться одной, лечь на траву под деревом и читать книжку, и чтоб никуда не надо было спешить и никаких незаконченных дел над тобой не висело. А больше – ничего.
И стало страшно.
Но прошло немного времени, и я подумала: а что? Чем плохо это желание – лежать под деревом и читать книжку? Чего это я так испугалась и застыдилась? Почему бы, в самом деле, не уединиться где‑то и не поваляться на травке в своё удовольствие? Только вот где? На даче? Ну, это не то, не то, там телефон, там люди, и как нарочно кто‑нибудь приедет, начнётся – выпить, закусить, обсудить последние новости: кого сняли, кого посадили, кто следующий… Надоело, противно.
Вот уехать бы куда‑нибудь далеко–далеко, так, чтобы никто не знал, где ты есть, и отрешиться от всего – от новостей по телевизору, от телефонных звонков, от бесконечных домашних обязанностей, от вечного «я должна»… И побыть хоть немного наедине с собой – среди травы, цветов, воздуха и света…
Эта простая мысль так овладела мной, что я возвращалась к ней снова и снова, находя её всё более привлекательной. Часто выплывала картинка из детства, как в солнечный летний день я лежу в высокой–высокой траве, такой высокой, что меня в ней не видно, смотрю в небо и слежу за движением облаков; дует сильный тёплый ветер, отчего облака словно размазывает по небу, а здесь, внизу, шелестит и клонится в разные стороны трава, щекоча мой лоб и щеки, и голые коленки. Это заброшенное поле с высокой травой было на окраине города, где мы жили, позади всех домов, и все дети любили валяться и прятаться в ней, а девочки плели из высоких стеблей зелёные венки и носили их, пока не завянут. В самый жаркий день в траве было прохладно, она приятно холодила спину между бретельками открытого сарафана, но особенно приятно было, держа в руках сандалии, ступать по ней босыми ногами, заходя в глубь поля все дальше и дальше, выбирая место, где упасть и пропасть, как в море утонуть, и где никто тебя не увидит и не найдёт, пока ты сама, устав наблюдать за облаками, не поднимешься во весь рост и не крикнешь: «Девчонки! Я здесь!».
Вот бы, думала я теперь, найти то поле и утонуть в нём ещё хотя бы раз в жизни! Может, именно такая «подзарядка» мне и нужна, чтобы снова о чём‑то мечтать, чего‑то хотеть? Но поля давно нет, на нём ещё во времена моей юности построили кинотеатр «Космос». К тому же, взрослая женщина, лежащая, запрокинув руки за голову, в траве, выглядела бы странно и даже двусмысленно. Все же сама мысль – пусть не о поле травы, но о том, чтобы уйти, уехать, укрыться от всех – не навсегда, конечно, а лишь ненадолго, чтобы только глотнуть забытого ветра, и – назад, – эта мысль не оставляла меня. Я лелеяла её ночами, придумывая, как бы можно было это устроить, и не находя – как. Просто взять и уехать, ничего никому не сказав, – значит, совершить поступок безрассудный и – для матери семейства – безответственный. Никто не поймёт, напротив, – все осудят. Родным этот странный поступок, причинит боль, напугает. Муж начнёт с ума сходить, поднимет всех на ноги, станет думать о самом страшном, и может решить, что я его бросила. Не дай Бог, ещё сляжет с сердечным приступом. Сестры обрыдаются и, пожалуй, заранее меня похоронят. Сын… Сына жалко. Вот уж он точно не поймёт. Ещё решит, что мамаша того… умом двинулась. Найдут, повяжут и лечить вздумают. Пойди тогда докажи, что это не болезнь никакая, а просто… душа мается. Нет, не поймут. Не захотят даже понимать, скажут: блажь, блажь! Не ожидали от тебя такого. Я и сама от себя не ожидала. Всю жизнь совершала исключительно благонравные поступки, продиктованные правилами и нормами, а больше всего – ответственностью: перед родителями, учителями, младшими сёстрами, подругами, перед мужьями и их матерями, перед собственным сыном, перед начальством, партией и Родиной. Можно после стольких лет благопристойного поведения совершить один, заметьте, не безнравственный, не противозаконный и даже не какой‑то там неприличный, а всего лишь немного странный поступок?
Нет, не поймут. Скажут: чего тебе не хватает? Разве плохо тебе живётся? О, живётся мне очень хорошо. Замечательно мне живётся. Лучше не бывает. Будто только от плохого житья уходят! Бывает, что и от хорошего бежать хочется.
Вот именно этого и не простят. Скажут: а о нас ты подумала, каково нам будет? Думаю. Только и делаю, что о вас всех думаю. Но если заранее предупредить, так ведь не отпустят, а если и отпустят, то будут доставать звонками и дёргать и, в конце концов, сами явятся… Нет, предупреждать нельзя никак. Тут уж или исчезнуть молча, никому ничего не объясняя, и тогда – будь что будет, или – выбросить эту затею из головы как нереальную. Хотя в самой затее ничего нереального как раз нет. Ну, что стоит сесть в машину с утра пораньше, когда на дороге светло и пусто, и – уехать куда глаза глядят. Я даже местечко одно присмотрела. Красивое, отрадное.
Нет, никак невозможно. Сама же не выдержу, испереживаюсь за всех своих. Разве что… погрезить, помечтать обо всём этом, да в «роман» свой вставить. Бывает, придумаешь что‑нибудь, опишешь на бумаге и – словно на самом деле прожил, пережил, во всяком случае, попробовал, как оно могло бы быть, куда могло повернуть, а главное – какие последствия. Иногда одного этого бывает достаточно, чтобы достичь желанной цели (успокоиться, почувствовать себя отмщённой, убедиться в собственном заблуждении – нужное подчеркнуть). А в другой раз, напротив, пока сочиняешь, в тебе ещё сильнее возбуждается и становится почти нестерпимым желание именно так все и сделать, как написалось. Чем на этот раз кончится – ещё не знаю. Но первую фразу для нового варианта я уже придумала:
«В городе С. пропала среди бела дня женщина».
16
Узкая дорога, на которой с трудом могли разъехаться две встречные машины, серпантином поднималась вверх. Достигнув почти что вершины небольшой, поросшей лесом горы, дорога делала вокруг неё поворот и спускалась вниз уже с другой стороны. Первое, что бросилось в глаза, были горящие на солнце купола церкви. Вокруг неё лепились старые домики с многочисленными пристройками и сарайчиками, «курятниками», как называл их В. В. Сначала подумали, что это и есть монастырь, но, спустившись ниже, разглядели поодаль, ближе к реке, ещё другие купола, и тогда поняли, что то – старая церковь, а это, пожалуй, и есть Богородицкий монастырь и его новая церковь.
Ехали втроём – Лёня Захаров, В. В. и Ваня, причём Ваня – за рулём – как единственный знающий сюда дорогу. Первое, что увидели у ворот монастыря, была приткнувшаяся к забору, грязная от пыли и дождя «Хонда». На разведку в монастырь послали Лёню. А Ваня с отцом стали осматривать снаружи «Хонду» — все ли с ней в порядке. Лёня вернулся быстро и сказал, что Мирославы в монастыре нет. Тихо, тихо! Без паники! Здесь нет, а во–о–он там – должна быть. Он показал рукой направление, в котором надо двигаться.
— Ну, кто пойдёт? Машиной туда не проехать, склон большой. Всем идти неудобно.
— Я пойду, — сказал В. В.
— Пойдём вместе, — сказал Ваня.
— Не стоит, сынок, жди здесь.
Он стал медленно спускаться под горку.
— Ключи от машины забери у неё, — крикнул вдогонку Ваня.
В. В., не оборачиваясь, кивнул. Идти оказалось дальше, чем представилось ему сверху, когда Лёня указал на темнеющую среди деревьев крышу. Подойдя поближе к дому, он увидел на крыльце женщину. Она стояла и смотрела прямо на него, прикрываясь ладонью от солнца, лицо её было в тени. Сердце его загорелось и погасло. Женщина была явно моложе Мируси.
— Здравствуйте! – с более глубоким, чем обычно, поклоном сказал В. В.
— Спаси Господи! Здравствуйте, Владимир Васильевич! – отозвалась приветливо женщина.
В. В. удивился и обрадовался, раз тут знают его, значит, и Мирусю знают.
Женщина, ласково улыбаясь, уже открывала ему двери, приглашая войти. Внутри было светло и уютно. Стоял деревянный стол, застеленный белой вышитой скатертью, на котором рядом с чайными чашками и блюдцем с мелкими сухариками, лежали стопкой книжки. В углу и по стенам висели разной величины иконы, беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что половина из них – самодельные.
— Как вы к нам добрались? Не размыло там, вверху, дорогу?
— Добрался, как видите.
— Чайку с мёдом выпьете? Мёд горный, каштановый.
— Выпью, — сказал В. В., чтобы не вступать в лишние пререкания.
Он не знал, как следует ему себя вести, не наезжать же с ходу, как он наехал на психологиню, тем более, он уже чувствовал, что на этот раз – горячо, совсем горячо. Он даже не удивился бы, войди сейчас со двора Мируся в такой же косынке и скажи, крестясь и кланяясь: «Спаси, Господи!». Он бы даже не стал на неё сердиться и ругать бы не стал, только бы она вошла!
— Вы Мирославу Васильевну у нас ищете?
— Ну конечно! – сдерживая нетерпение, отвечал В. В. – Она здесь?
Хозяйка наливала чай из маленького заварочного чайника и продолжала загадочно улыбаться. В улыбке её почудилось В. В. что‑то знакомое. В это время в комнату заглянула девочка лет пятнадцати, тоже в косыночке, увидев чужого, испуганно отпрянула, и уже из‑за двери позвала:
— Матушка Гаврилия! Детей кормить?
— Корми! – отозвалась матушка. –А вы не хотите с нами пообедать?
— Спасибо, мне не до обеда сейчас. Скажите, ради Бога, где она?
— Не знаю, — пожала она плечами. – Я за ней не хожу. Может, в лесу гуляет, а может, работает.
— Работает? – напрягся В. В., вмиг представивший себе бедную Мирусю, в скорбном платочке, собирающую в церкви отгоревшие свечи. – Кем это она у вас работает?
— Да не у нас, мы и сами, с Божьей помощью, справляемся. Она для себя работает, я ей только и того, что кров дала, хотя это и не положено у нас, да уж очень она просила.
— Проведите меня к ней, я должен её увидеть.
Молодая матушка вздохнула.
— Видит Бог, вы сами пришли, а я ей говорила, что долго она тут не укроется, искать будут – найдут. Настя! – крикнула она в сторону двери, и тотчас оттуда показалась маленькая головка в косыночке.
— Проводи человека к нашей постоялице. Только я вас хочу предупредить, — обернулась она к В. В. – Если она не станет с вами говорить, вы не удивляйтесь и не сердитесь…
— Разберёмся! – второпях В. В. споткнулся о высокий порог, но даже не заметил этого.
Вслед за семенящей впереди Настей он обогнул дом у которого с тыльной стороны оказался другой вход с таким же крыльцом и тремя деревянными ступеньками.
— Здесь, – сказала Настя и тут же исчезла, а он остался стоять перед крыльцом, не решаясь войти. Что за картина ждёт его там, внутри? Сидит ли там за убогим столиком, при свете свечи (впрочем, на дворе ещё светло, какая свеча!) его Руся и читает, к примеру, Библию, или стоит на коленях перед висящей в углу иконой и молится? А может, лежит, больная и немощная, одурманенная странно улыбчивой матушкой и ничего уже сама про себя не помнит и не знает? Да нет, отогнал он дурные мысли, не секта же здесь, а дом священника провославной церкви. Тем более непонятно, чего её сюда занесло, что она здесь забыла. Он так долго её искал (на самом деле всего‑то четыре дня), и вот теперь, надо только открыть дверь и войти, и весь этот ужас последних дней кончится, все разъяснится, и они снова будут вместе, и он сразу же увезёт её в Москву, и больше никогда, никуда одну не отпустит.
Он сделал глубокий вдох и поднялся на крыльцо. Незапертая дверь легко поддалась, он сначала просунул голову, потом открыл дверь пошире и вошёл. В единственной комнатке стояла у окна совсем узкая кровать, покрытая похожим на солдатское одеялом, рядом небольшой столик и стул. На другом стуле, в углу лежали какие‑то вещи, мимоходом взглянув на которые, В. В. зацепил взглядом знакомую шерстяную накидку и только теперь окончательно поверил, что Руся здесь. Комната, между тем, была пуста. «Может, в лесу гуляет», — вспомнил он слова матушки, и решил, что никуда из этой комнаты не уйдёт, а сядет тут, на этот стул и будет ждать.
Ждать пришлось недолго, может, полчаса. Сначала он сидел и просто оглядывал комнату, не понимая, как здесь вообще можно жить и как может жить здесь привыкшая к комфорту Руся. Потом он заметил, что у стола есть выдвижной ящик, открыл его и увидел ключи от машины и толстую тетрадь в коленкоре. Он достал её, осторожно, словно боясь чего‑то, открыл на первой странице и прочёл:
«Моя дорогая девочка! Я начинаю эти записки, когда до твоего рождения остается…».
Удивлённый, В. В. поднял от тетради глаза и мельком взглянул в окно. По двору со стороны леса шла Руся. На ней была простая юбка и кофточка, на голове – светлая косынка, завязанная концами на затылке. Она несла букет из жёлто–багровых листьев, лицо её было свежее, румяное и какое‑то безмятежное, давно он не видел её такой, даже, когда отдыхали они, бывало, в Ницце или в Карловых Варах, всегда оставалось на её лице выражение усталости и неудовлетворённости, а тут… Она прошла совсем близко, под окном, и он услышал, что она тихонько напевает, даже не напевает, а просто так, без слов, мурлычет какую‑то мелодию.
Всё стало ясно ему, и сразу отлегло от сердца. Он даже пожалел, что вошёл сюда и уже готов был уйти, уехать, не встречаясь с ней, не тревожа её, и спокойно ждать, пока она сама захочет вернуться. Но было поздно. Вот сейчас она войдёт, увидит его, и весь этот мир, который она сама себе придумала и устроила, разрушится. Что он скажет ей? Что она ему ответит?
В. В. сунул тетрадь назад, в ящик, а ключи от «Хонды» забрал и положил в карман.
Руся вошла, увидела его, замерла в дверях и через секунду оказалась в железных объятьях. Словно опасаясь, что она вырвется и убежит, В. В. держал крепко, делая ей даже больно. И не целовал, а только слегка касался прохладной щеки, лба, глаз, шептал в ухо:
— Наконец‑то, наконец‑то…
Руся молчала.
Он отстранился, посмотрел внимательно:
— С тобой все в порядке?
Она кивнула.
— Что ты здесь делаешь? Мы чуть с ума не сошли все…
Она отвернулась, вздохнула.
— Ладно, не хочешь, не говори, поедем отсюда, дома все расскажешь.
Руся покачала головой.
— Что? Не поедешь? Ты хочешь здесь остаться?
Она кивнула.
— Ты… что… бросила нас?
Она замотала головой.
— Тогда в чём же дело? Там Ванька, девчонки, все тебя ждут, не дури, поехали!..
Руся заплакала.
В. В. усадил её на кровать, она не сопротивлялась, на лице её, ещё несколько минут назад безмятежно–счастливом, застыла теперь гримаса отчаяния, и видно было, что в ней борются сейчас две силы: одна, такая естественная, толкает её броситься на шею мужу и уехать с ним, а другая, непонятная пока В. В., удерживает её в этой келье, в этом упрямом молчании.
Раздался негромкий стук, и вошла матушка Гаврилия.
— Что вы с ней сделали? – грозно спросил у неё В. В. – Почему она такая?
Матушка посмотрела на Русю:
— Могу я сказать?
Та кивнула.
— Пойдёмте, я вам всё объясню, пусть она успокоится.
«Какого чёрта!» – хотелось крикнуть В. В., но он послушно вышел за матушкой, однако, дальше крыльца не пошёл, боясь потерять Русю из виду, боясь, что она опять куда‑нибудь исчезнет. Тут, у крыльца, он узнал, что Руся, оказывается, дала обет молчания.
В другое время, услышав такие слова, он бы только рассмеялся: кто? Руся? обет молчания? Да она и полчаса не выдержит, чтобы не поговорить! Бывало, поссорятся из‑за какой‑нибудь мелочи, надуются друг на друга и разойдутся по углам, и Руся скажет: все, я с тобой не разговариваю! Но проходит полчаса, от силы час, и она уже идёт и смеётся и говорит: я больше не могу, давай мириться!
Но сейчас он не у себя дома, на диване, и Руся не в соседней комнате, кругом лес, позади – монастырь недостроенный и церковь, а здесь, на берегу реки – чужой дом и незнакомая молодая женщина, называющая себя матушкой… Если уж занесло сюда сначала Русю, а потом и его, то ничему удивляться не приходится. Обет так обет, после будем разбираться, почему и зачем.
— И давно она молчит?
— С воскресенья, мы только вечером немного поговорили, чаю вместе попили, а наутро она уже все, замолчала… Вы меня не узнали… ведь не узнали? А я вас помню. Я ещё маленькая была, когда вы стали к тёте Русе приходить. Я – Вера Пономарева, помните?
Тут только В. В. разглядел в матушке Гаврилии застенчивую и тихую дочку соседки по старой Русиной квартире.
— Так это вы её сюда заманили? Зачем?
— Нет, что вы, она сама, сама. Она хотела в монастыре пожить, да не положено это. А сюда как пришла, сразу сказала: какое место замечательное, ни телефона, ни телевизора, ни людей, тишина, покой… Можно, говорит, я у тебя немного поживу? Хочу, чтобы меня никто не трогал, и я никого не видела и ни с кем не разговаривала. Я столько за свою жизнь наговорила всего, что хочется хоть немного помолчать. И потом она что‑то пишет там вечерами, я не знаю, не спрашивала.
— А вы можете с неё этот обет снять?
Вера покачала головой.
— Знаете что? Не терзайте её, пусть у меня поживёт, я за ней присмотрю, ничего плохого с ней здесь не случится. Она ведь и просилась недельки на две всего, вот и пусть. Потом приедете за ней.
Возможно, она права. Но и его надо понять. После всего, что он пережил за последние дни…
— Нет, — отрезал В. В., — я её здесь не оставлю. Хочет молчать, пусть молчит, только не здесь, дома. Спасибо вам, но мы как‑нибудь сами разберёмся.
Руся сидела на кровати в той же позе, в которой он её оставил. Он подошёл, снял с неё косынку, погладил по коротко стриженным волосам, сел рядом. В молчании они просидели довольно долго, уже стало смеркаться за окном.
Наконец она встала, достала из ящика стола листок бумаги и что‑то написала на нём. В. В., наклонившись к столу, прочитал:
«Я всех вас люблю и скоро к вам вернусь».
Его задело это «всех», ну, да ладно. Он поцеловал её и вышел.
На обратном пути вместе с Ваней они заглянули в новый храм, Ваня поставил свечи Богородице, а В. В. спросил батюшку и молча отдал ему все деньги, которые были у него в портмоне.
…Руся провела в лесу, вблизи монастыря, в полном молчании целый месяц. В. В. забрал её домой в конце октября, когда в Старой поляне уже шли сплошные дожди. Вместе они заехали к кукольному мастеру. Он вынес им голую, улыбающуюся куклу. Руся завернула её в свою накидку и прижала к себе, как ребёнка. Из второго лица мастер сделал маску и повесил её на стену. Руся даже не глянула в ту сторону.
К возвращению её дом был пуст, никаких гостей, никаких родственников. Аннушку с Костей В. В. уволил и отправил домой, на Украину. Убирать пока приходила раз в неделю какая‑то молодая девочка. Переночевав в доме одну ночь, они улетели в Москву. В аэропорту их провожал только новый заместитель мэра по вопросам безопасноcти Л. А. Захаров. Дома, на Кутузовском, с нетерпением ждали сын с невесткой. Мируся была тиха, спокойна, говорила мало, смотрела на всех с любовью и видно было, что соскучилась.
Вскоре после её возвращения, в канун дня ракетных войск и артиллерии, невестка родила здоровую, красивую девочку.
2004 г.





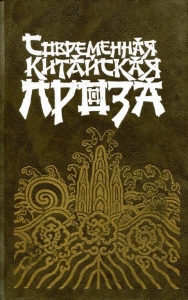
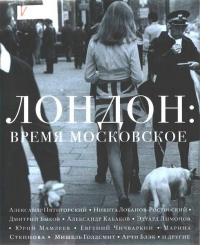


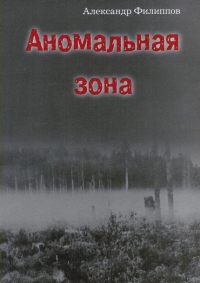
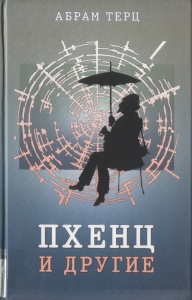

Комментарии к книге «Генеральша и её куклы», Светлана Евгеньевна Шишкова-Шипунова
Всего 0 комментариев