Бахыт Кенжеев родился в 1950 году. Окончил химфак МГУ. Поэт, прозаик, эссеист. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе новомирской премии «Anthologia» (2005) и «Русской премии» (2009). Живет в США и в Москве. Постоянный автор «Нового мира».
* *
*
Нечистый, притворившись змеем,
ползет, как в детстве мы умеем,
ручной сжимает фрукт во рту,
и обвивается вкруг древа,
и искушает: зришь ли, дева,
свою и мужа наготу?
В ответ праматерь наша плачет
и прелести поспешно прячет
под фиговым листком, а муж
приносит кролика с охоты
и утешает деву: «Что ты?»
А змей настаивает. К тому ж
предвечный, спрятанный за древом,
все видит, возглашая: где вам
понять, белковые тела,
чем дышат боги, что в них бродит,
зачем они под корень сводят
боярышник добра и зла.
Отпой подрубленные годы,
сова; хлебнули мы свободы,
сухой закат-александрит
шлет вдохновение монахам,
но брезгует грядущим прахом
и смертию живот дарит.
В чем промысел его? бог знает!
Кряхтя, муж вепря вынимает
из ямы, а сосуд греха
(жена, возможно даже зина)
плетет в углу свою корзину
благоуханна и тиха.
* *
*
все кочевряжистей бег сворачивающейся крови,
все откровенней не камнепадом любуюсь я, а закатом,
надо бы озаботиться завещанием — час неровен,
зачем тебе шляться по канцеляриям и адвокатам,
рассуждая здраво, все-таки я не нищий,
что-то явно останется после оплаты счетов за хоспис,
вот и рекламка в сети — за три с половиной тыщи
все оформят, поставят печать и роспись —
прошвырнусь по бродвею с бумажкою славною напевая
окуджаву оскудевшим дыханием пальцы грея
повторяя любил тебя как перед концом рая
еву адам в допотопном рассказе рэя
брэдбери ремингтон выстукивающий повесть
о богатом грядущем где так же невесело и одиноко
как и в прошлом не утешай я вовсе не беспокоюсь
не изменю тебе не помру до срока
буду печь хлеб из обойной муки, всевышнему не мешая,
в небесах огромных ворованный жечь фонарик
хороша знаешь такая тщедушная небольшая
но веселая и летучая словно воздушный шарик
* *
*
ветер смерти непролазен неужели зря
создавал Господь свой ясень в сердце сентября
и ликуя детям малым тягу надышал
к государственным бумагам и карандашам
зря ли радуется всуе неостановим
мальчик доброе рисуя фиолетовым
здравствуй мой заветный колер им я вел дневник
быв в печальной русской школе робкий ученик
возникает человечек он совсем как огуречик
свет начало всех начал только цветом подкачал
не из гадин, не из вредин но зато лишен
чина ангельского беден грешен и смешон
анна плачущая в спальне мята персиковый спас
кинокамера в купальне сны оставившие нас
ты рисуешь я рифмую смайлик музыку хромую
щавель млеко букву ю в общем родину мою
22 июня 2013
Стихи об искусстве
1
когда продвинутый художник
душою тонок телом толст
палитру ставит на треножник
и расправляя чистый холст
от счастья гимны напевает
и моет кисти не спеша —
в моменты эти оживает
его изрядная душа
допустим в ней сомнений много
но если творчество зовет
эквивалентен осьминогу
во глубине лазурных вод
он так же царствует укромно
судьбы давлением зажат
горят зрачки его огромны
нейронов щупальцы дрожат
друг мой художники лихие
да и писатели туда ж
любую скорбную стихию
берут на кисть и карандаш
над юной девушкой рыдают
что утонувшая в воде
смерть вдохновеньем побеждают
и наслаждаются везде
затеет ночь угрюмый танец
Господь на плечи взвалит крест
гастрономический испанец
цефалопода жадно съест
талантлив на земле немногий
лишь ценят спорт и анекдот
но новый тварь головоногий
на смену бедному придет
дыханьем века пальцы грея
как настоящий коммунист
я верю что настанет время
когда художественный свист
сольется с плаванием спрута
барашка поцелует лев
и будет каждая минута
сиять и плакать нараспев
2
где ни ковбоев ни лассо
но бирюзовы неба своды
существовал анри руссо
печальный пасынок природы
он не сбивал соперник с ног
мечтая парковой скамейке
быв непосредственный сынок
жестянщика и белошвейки
как тигр ручной он сытно жил
мещанской радостью несложной
сержантом в армии служил
дружил с парижскою таможней
эх бриолином по усам
не ведая в законном мраке
над чем корпеют мопассан
гоген и прочие бальзаки
но жизнь сплетенье ног и рук
и ныне и во время оно
се, шестигранный пушкин вдруг
явился юному планктону
и громыхнул ему восстань
умойся почеши власы и
живописуй про инь и янь
воспой страдания россии
с тех пор таможенник простой
забыв нехилые откаты
и тесных офисов отстой
художник стал продолговатый
им восхищается нью-йорк
и в петрограде обреченном
дарует он живой восторг
сердцам искусством облученным
3
музы! чтоб вам было пусто!
аполлон увы солгал
волочился за искусством
вирши ладные слагал
воспевал родное время
то хай-тек то смертный страх
получил немножко премий
в инвалюте и рублях
по квартире бы развесить
те дипломы а деньжат
хватит ужинов на десять
с фуа-гра и оранжад
чтоб завидовали люди
стихла мать сыра земля
и грустил омар на блюде
хрупким уcом шевеля
современники-потомки!
не пилу не ватерпас —
я таскал в ночной котомке
слов раздвоенных запас
говорила жизнь дурная
что я глуп и сердцем гол
и грустил я заклиная
огнедышащий глагол
в переносном смысле канув
в стикс предав меня едва
горсткой дохлых тараканов
стали важные слова
если время — Бога имя
почему я проглядел
мир маячащий за ними
детской радости предел
Барби
Сенчин Роман Валерьевич родился в 1971 году в Кызыле
Сенчин Роман Валерьевич родился в 1971 году в Кызыле. Закончил Литературный институт им. А. М. Горького. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов» и др. Лауреат премий «Эврика», «Венец» и др. Живет в Москве.
Собираясь в пятый класс, дочка заявила, что детство кончилось и нужно отдать игрушки другим.
— Настя, — жена чуть не заплакала, — детство не кончилось, что ты говоришь… Но ты права, с большей частью игрушек пора попрощаться.
Еще четыре года назад, перед первым классом, Дробов с женой попытались избавить дочкину комнату хотя бы от части этих рваных зайцев, пыльных мишек, кукол без ног и прочего детского хлама, но тогда Настя отобрала всего три-четыре вещи, а остальное оставила: «Я не могу без них! Мне без них будет страшно!». И вот теперь сама…
Дробов обрадовался, хотя посчитал нужным сказать:
— Ты подумай до завтра, и завтра соберем. Я куплю специальный пакет и унесу маленьким детям.
На другой день, возвращаясь с работы, он купил в магазине подарков большой пестрый плотный пакет. Семьдесят рублей отдал. Но не в черный же мешок загружать — пусть у дочки останется доброе воспоминание.
И вот после ужина втроем сидели на полу перед горкой игрушек.
Одни, Дробов помнил, подарили Насте они с женой, другие — гости или в садике на день рождения, на Новый год, другие праздники; что-то покупали в «Макдоналдсе» и «Ростиксе» — эти детские наборы, но большая часть непонятно откуда взялась. Даже на вид — старые, прошлых десятилетий игрушки. Наверное, так же попали они к Насте, как вскоре многое из этой горки достанется другим, нынешним трехлетним, пятилетним, чтобы еще через пять-семь лет перекочевать к следующим.
— Насть, — жена покрутила какого-то исцарапанного супермена без руки, — его никому не надо отдавать. Он совсем старенький.
— Зато очень сильный, всех побеждает.
Но Настя посмотрела на супермена, и в глазах появилось что-то взрослое, очень взрослое, испугавшее Дробова; такой взгляд у завсегдатаек торговых центров. Дескать, мы знаем на все настоящую цену, чем отличается оригинал от реплики, нас не наколоть.
— Ладно, — сказала Настя твердо, — выбрасывайте.
Дробов отложил супермена-инвалида:
— Я отдам его одному мальчику. Он собирает суперменов, ремонтирует…
И, опережая вопрос жены: «Какому еще мальчику?» — подмигнул ей: «Куда-нибудь дену».
Вроде бы простой процесс — загрузить пакет, освободив ящики пластмассового комода, пространство под кроватью, под письменным столом, а на самом деле — мучение. Тягостно.
Жена не выдержала, поднялась:
— Пойду на кухне приберусь. Посуда еще немытая… Настюш, не засиживайся, уже спать скоро.
Некоторое время дочка молча, как-то механически, брала левой рукой игрушки, мгновение смотрела на них, перекладывала в правую, а потом уж клала в пакет. Дробов даже обрадовался — еще минут десять в таком темпе, и горка исчезнет. Но механичность оказалась обманчивой — Настя уронила руки и посмотрела на Дробова с тоской и болью.
— Пап, а «Побег игрушек» — это совсем-совсем сказка?
— В смысле?
— Ну, что они страдают, мечтают вернуться…
— В общем, да. — И уже твердо Дробов добавил: — Конечно, сказка. — А сам молил кого-то, чтоб Настя не вспомнила тот случай перед первым классом.
Буквально на первое сентября это случилось: она легла спать, на спинке стула висела готовая форма: клетчатый сарафан, белая блузка, колготки, на полу — черные лакированные туфли, на столе — банты, заколки, ранец… Все, готова к школе, новая жизнь.
И часов в одиннадцать — Дробов с женой тоже уже легли — в дочкиной комнате раздался шум. Непонятный, жуткий.
Вбежали, включили светильник. Настя сидела на кровати, глаза огромные, недоуменные. А возле кровати, лежа на боку, перебирал ногами и ржал единорог, под кроватью шипела плита для готовки… Каким образом они включились, тем более одновременно, непонятно.
Дробов, не веривший в чудеса, потом себя убеждал, что Настя нечаянно нажала кнопку у единорога под гривой, а плита давно сошла с ума, иногда ни с того ни с сего начинала шипеть и булькать, но все-таки чувствовал, что это неспроста, не абсолютно случайно...
Нет, Настя не вспомнила или не захотела вспоминать.
— Но к игрушкам в любом случае нужно уважительно относиться, — сказал Дробов. — Отдам их хорошему ребенку, а от него потом они перейдут к следующему… Многие игрушки очень долго живут.
— А как ты узнаешь, что он хороший?
— Ну, посмотрю… поговорю…
«Лишь бы не спросила, где я его встречу». И, чтоб перевести разговор, Дробов поторопил:
— Давай, Насть, заканчивай. Уже действительно поздно.
— О, пап, смотри! — Дочка подняла голую, со спутавшимися волосами куклу барби. — Смотри, какие я ей когда-то ресницы пушистые сделала!
Вокруг глаз ручкой было нанесено много-много черточек. Вверх и вниз, вбок. Синяя паста выцвела (а может, отмыть ее пытались) и стала яркой, почти лазурной. От таких ресниц взгляд у барби был глуповато-удивленный и в то же время какой-то беззащитный и соблазняющий.
— Красишь ты ресницы в ярко-синий цвет, ждешь любви прекрасной, а ее все нет, — вдруг спел Дробов.
Спел и удивился: он не слышал эту песню давным-давно, казалось, наглухо забыл о ней, как о многом забываешь к сорока годам, и вот, в подходящий момент, песня взяла и всплыла, и не только этот припев, а кажется, вся целиком: «Опять суббота, семь часов, и ты одна опять. Подружка с мальчиком своим опять ушла гулять…».
— А кто это поет? — заинтересовалась Настя, принимая куклу обратно. — Про кого?
— Была когда-то такая певица, Барби. — И Дробов усмехнулся тому, что помнит и это. — Пела такую песню.
Дочка тоже усмехнулась:
— Ее прямо так и звали?
— Ну, сценическое имя. А как на самом деле — не знаю. Тогда это скрывалось, кажется, а потом она куда-то исчезла. И песни перестали крутить.
— Я оставлю барби, — сказала дочка. — Платье ей сделаю потом… И вот эти игрушки. — Оказывается, она откладывала за спину, словно прятала, кое-что, видимо, особенно ей дорогое.
— Конечно! Что-то нужно оставить на память.
Закончили. Настя умылась, ушла спать. Дробов поставил пакет в прихожей; супермена сунул в карман куртки. Лег на тахту рядом с женой.
По телевизору показывали «Камеди клаб». Неуемные ребята веселились и веселили зрителей.
Какое-то время Дробов пытался понять смысл шуток и острот, включиться, а в голове толкались, стремились освободиться из-под толщи времени давние воспоминания. Дробов этого не хотел — воспоминания чаще всего доставляли боль, сжигали и без того скудные запасы энергии; и сейчас он всячески пытался остаться вот таким, лежащим, отдыхающим, вяло улыбающимся шуткам в телевизоре. Да, было прошлое, но есть настоящее, будет завтра, послезавтра, и это важнее того, что случилось двадцать лет назад, пятнадцать, десять. И даже вчерашний день уже не так важен — пережили его, и слава богу.
Дробов давил воспоминания, запихивал обратно под толщу и в то же время удивлялся, как легко выскочила на язык давняя песенка, как на секунду стало приятно, и как тревожно, неуютно было сейчас, когда она потянула за собой остальное… И в голове вертелось, как поцарапанный винил: «Красишь ты ресницы в ярко-синий цвет…».
— Что, засыпать будем? — спросила жена и провела ладонью Дробову по груди.
— Да, надо, — отозвался он и, может, как-то не так, не таким тоном отозвался, потому что жена забеспокоилась:
— Что-то случилось? Леш…
— Да нет, нет. Устал просто… И эти игрушки — грустно все-таки…
— Растет дочка. Десять лет. А кажется, вчера только бегали по рынку, искали ванночку подешевле.
Десять лет назад. Две тысячи второй год… Жена лежала в роддоме на сохранении больше месяца. Дробов, конечно, не мог работать по прежнему графику, а дисциплина в их компании была жесткая. И после нескольких отгулов, пары-тройки опозданий потребовали написать заявление.
Дробов уволился с легкостью — попросту стыдно стало осознавать, что в тридцать лет, вот-вот отец, взрослый человек, он работает экспедитором. Но новое место не находилось; с деньгами сразу стало туго. И его родители, и родители жены, конечно, помогали, но все мгновенно на что-то тратилось.
В итоге Дробов снова устроился экспедитором. До того развозил молочные продукты, а теперь стал развозить пиво. Зарплата была немного выше, но статус остался прежним, даже слегка упал. Одно дело — молоко, йогурты, сырки, а другое — пиво. И вообще такая работа уже мешала жить: москвич с немосковской работой… А когда-то на статус в таком его смысле Дробову было абсолютно плевать.
Отлистнул еще десять лет… Весной девяносто второго вернулся из армии. Энергия зашкаливала — новая, послеармейская жизнь совпала с новой жизнью страны… Ну, не совсем новой, но то, что два года назад, в восемьдесят девятом, было почти подпольным, стало доступным, модным. А главное — возраст самый подходящий для того, чтобы что-то свершать, реализовать идеи, как принято теперь говорить. Ведь одно дело, когда тебе семнадцать и ты многого хочешь, но почти ничего не можешь и не умеешь, а другое — двадцать, два года из которых ты протомился, протосковал, прозлился на зоне под названием в/ч…
Лет с тринадцати-четырнадцати Дробов увлекался рок-музыкой. Бегал в подвалы, в районные дома культуры, какие-то квартиры на концерты, собирал записи. Копил деньги на бобины для магнитофона, немного позже — на пластинки… Раз двадцать посмотрел фильм «Взломщик», в котором играл его тогдашний кумир Константин Кинчев и вообще впервые, кажется, рок-культура была показана подробно, крупным планом. А на такую мелочь, как мысль, что из-за рока у героев много неприятностей и даже трагедии, что синтезатор украли, большинство зрителей не обращало внимания.
Да, в восьмидесятые, героические восьмидесятые, Дробов и его друзья были маленькими. Впитывали, фанатели, ощущали желание тоже что-то делать, но ничего делать еще не умели. Так, бренчали на дешевой акустике, сочиняли глупо-банальные песни, которые и разучивать было стыдно. А вот в девяносто втором…
Дробов пришел из армии злым. Злоба копилась в нем два года — армейская дисциплина, пафосные построения и выносы знамени казались абсурдными, идиотскими на фоне разваливающейся страны, ежевечерний просмотр программы «Время» будоражил и не давал уснуть; в августе девяностого погиб Виктор Цой, в октябре девяносто первого — Майк Науменко, а оставшиеся рок-музыканты запели какие-то странные, совсем не про жизнь, не про происходящее, песни. Даже сибирский панк Егор Летов ушел в искусственную, убогую мистику. «Летели качели без пассажиров, без постороннего усилия, сами по себе». Казалось, рокеры, очень много сделавшие для перемен в стране (которая из-за этих перемен в итоге и распалась), первыми испугались и стали прятаться от реальности.
Из казармы Дробов искал новые живые песни, но не находил. Туманное не понимал, откровенно стебное, вроде Лаэртского, «Сектора газа», не любил. Много месяцев надеялся, что в последней пластинке «Кино» есть настоящее, — даже выписал ее прямо в часть (пластинка тогда распространялась вместе с полиэтиленовым пакетом и плакатом), прятал в каптерке, искал по части проигрыватель с хорошей иглой, и когда нашел в Доме офицеров, получил разрешение послушать, то после пяти минут чуть не сломал диск. Попса! Причем попса хуже «Комбинации». Те хоть не скрывают, попсят откровенно, а здесь… Понятия «рокопопс» тогда еще не было, но, может, как раз из-за этого последнего альбома группы «Кино» оно и появилось — форма вроде бы рокерская, а содержание попсовое.
Позже, через много лет, повзрослев, пообтесавшись о жизнь, Дробов слегка смягчился в своем отношении к тем песням, и хоть пластинку с тех пор не ставил (да и не помнил, где она, куда девалась), но когда слышал их на улице — возле музыкальных магазинов — или в клубах, в груди теплело. Не от самих песен, скорее всего, теплело, а от того, с чем они связаны, — с прошлым. Плохое оно было или не очень, но главное — было.
В декабре девяносто первого, за три месяца до приказа об увольнении в запас дробовского призыва, Советский Союз погиб официально. По вечерам, после телевизора, деды подолгу сидели в курилке и делились слухами: приказ перенесут на лето, а то и на осень, срок службы увеличат до трех лет (а только что сократили с двух лет до полутора), и значит, им нужно настраиваться еще на год; вот-вот вообще начнется настоящая война, и то, что происходит сейчас в Молдавии, Карабахе, Осетии, Средней Азии, разольется по всей стране… И во все это верилось в тот момент, и в их тихой мотострелковой части в окрестностях карельской Лахденпохьи ожидали сигнала: «В ружье!», приказа не о дембеле, а о выдвижении на Питер, на Москву, на Кавказ… Стрельба, кровь, вой раненых…
Некоторые открыто собирались дезертировать, если начнется заваруха: «Гражданка в каптерке. Перелез за баней через забор — и до дому. Все равно все одним местом накрывается, можно и без военника жить».
Да, парни, в том числе и Дробов, подумывали сбежать, но никто не сбежал, а, наоборот, перед самым дембелем шесть человек их призыва остались на сверхсрочную.
Дробова сначала эта новость оглушила: как это, два года мечтать о доме, о свободе, ненавидеть плац, казарму, воняющий гнилью пищеблок, а потом взять и добровольно остаться, служить за копейки. И одновременно с этой оглушенностью в нем самом рос страх перед той жизнью, какой он заживет, вернувшись домой… Вот выходит за ворота, станция, садится в поезд, через десять часов выходит на площадь Трех Вокзалов, получает в военкомате паспорт. А дальше?
Страх слегка гасили мечты. Что вот дембельнется, встретится с друзьями, соберут группу (за два года Дробов неплохо научился играть на акустике, сочинил несколько неплохих текстов) и начнется настоящая, бурная и сытная жизнь. Вон сколько групп появилось в последнее время, и мгновенно становятся известными, концерт за концертом, интервью, тачки. А песни-то — фигня. Кто такое слушает?.. А вот их группа — она действительно будет выдавать настоящее.
Это были даже не мечты, а уверенность, та уверенность, какая поселяется в человеке, находящемся в замкнутом пространстве, несвободе. В глубине души Дробов понимал, что уверенность эта обманчива, но она помогала переживать последние, самые трудные, долгие недели перед увольнением. Хоть как-то планировать будущее.
Утро в будни начиналось в половине седьмого. Пиликал будильник в мобильном телефоне, и Дробов с женой поднимались.
Поднимались медленно и тяжело, зевая, вздыхая; казалось, что совсем не выспались, но уже через десять минут оживали и начинали торопиться. Дробову нужно было быть на работе в восемь, жене — в девять. Обычно она и отводила дочку в школу. Школа находилась рядом — во дворах через переулок, — правда, одну Настю пока не отпускали.
Летом и в каникулы распорядок немного менялся — Настя оставалась дома. Раньше это было почти неразрешимой проблемой: как разорваться между работой и дочкой. Приходилось то просить бабушек и дедушек посидеть (но у них тогда еще было много своих дел, все четверо тоже еще работали), то брать отгул, то находить дежурные детские сады, работающие в июле — августе, и школьные лагеря (отправлять Настю далеко не хватало денег, да столько ходило разговоров нехороших, что отпускать было страшно)… В общем, отдых для ребенка становился не отдыхом, а общесемейным мучением.
Но вот она подросла и теперь оставалась в квартире, сама могла разогреть обед, занять себя чем-нибудь; гулять одной ей не разрешали, она и не рвалась — все эти новости о похищении детей поставили крест на одиночном гулянии тех, кому меньше тринадцати-четырнадцати. Да и четырнадцатилетних, и двадцатилетних похищают. Этот страх за дочку, понимал Дробов, будет жить в нем еще очень долго. Может, и никогда не исчезнет…
Сейчас конец августа, последняя неделя лета; Настя собирается в школу — теперь у них будут отдельные учителя по предметам, всё совсем всерьез, и она серьезно к этому готовится. Жена как раз взяла недельный отпуск, помогает, подкупает мелочовку…
Да, вот-вот осень. Сначала сентябрь, потом октябрь, а там — почти зима… В сентябре продажа пива становится выше, чем летом, а затем снижается, снижается… Снижается и зарплата. Хорошо, что есть подработка, несколько лет уже есть, неплохая по деньгам, физически довольно легкая. Именно физически. А если начнешь раздумывать, вспоминать, чего хотелось и что получилось… Нет, не надо раздумывать и вспоминать. Стыдная, короче говоря, подработка, и Дробов ее держит в тайне даже от жены, хотя деньги в семейный бюджет отдает…
Вышел сегодня минут на десять раньше обычного — нужно было завернуть в молочную кухню. Нес туда пакет.
Настя оставила несколько мягких игрушек, большую кошку, которая когда-то мурчала, а потом сломалась, но продолжала быть любимой; не решилась дочка расстаться и с тремя барби, в том числе и с той, с нарисованными ресницами. Обещала сшить им новые платья и подарить потом своей дочке… Еще кое-что, конечно, осталось из ее детства, но комод освободился, под кроватью больше не было завала. Комната не ребенка уже, а девочки-подростка. Десять лет.
Дробов нес в молочную кухню лучшее — всякий лом и хлам спустил вчера поздно вечером в мусоропровод. Конечно, больно было выбрасывать даже откровенно негодное, но что делать… Ладно, так или иначе, но на протяжении жизни нужно проводить несколько таких чисток. Жизнь делится на этапы, и в каждый желательно входить без лишнего груза. Иногда избавляешься от него сознательно, как вот Настя сделала, а чаще происходит это незаметно, само собой — однажды приостановишься, оглядишься и видишь, что рядом нет вещей, которые считал бесценными, людей, которые были друзьями, и любимые некогда песни не слушал давным-давно, любимые книги теперь где-то на антресолях…
Молочка располагалась на первом этаже девятиэтажки. Две комнаты. В одной по утрам толпятся посетители — родители, бабушки, инвалиды, а в другой суетятся две грузные тетеньки в белых халатах, выдают по рецептам кому пакетики с молоком и кефиром, кому упаковки порошка для грудников, кому диетический творожок… Когда-то каждое утро сюда прибегал Дробов, хватал нужное и мчался обратно домой, совал жене и снова бежал, но уже в метро — на работу.
Случалось, появлялся здесь удачно — получал питание почти без очереди, а бывало, очередь вытягивалась аж до тротуара. Сегодня было нечто среднее — на крыльце и ступеньках несколько человек. Дробов увидел их, и внутри знакомо засосало: стоять, терять драгоценные минуты… Но вспомнил, что он здесь по другому поводу, и весело взбежал на крыльцо, сунулся внутрь.
— Здесь вообще-то очередь, — тихо, но раздраженно заметила молодая женщина с темными кругами вокруг глаз.
Дробов не разглядел, то ли это косметика, то ли от утомления.
— Да я не за питанием…
— Да? А за чем, интересно? — Голос завибрировал; понятно, решила, что он не просто хам, а еще и подлец какой-то.
В очередях в молочку перебранки возникали редко. Люди старались быть вежливыми, терпимыми, словно товарищи по некоему испытанию; женщин с маленькими детьми часто пропускали вперед, но уж с теми, кто нагло лез, не церемонились.
— Игрушки хочу оставить, — стал объяснять Дробов. — Дочка выросла, попросила отнести.
— Да? — теперь это «да» прозвучало иначе, жадновато как-то. — А что там?
— Куклы, зверюшки из шоколадных яиц, — с каким-то удовольствием стал перечислять Дробов, — детали «лего»…
— «Лего»? — Глаза женщины заблестели. — У меня старший собирает, совсем чокнулся — постоянно новые требует… Давайте мне, я отберу, что надо.
Он протянул пакет:
— Только остальное не выбрасывайте. Там много всего… На стол там положите, — кивнул в коридор молочки.
— Да-да, конечно…
Избавившись от пакета, Дробов почувствовал себя небывало легко — действительно, как гора с плеч. Бодро пошагал к метро и даже запел:
— Красишь ты ресницы…
Показалось, что поет очень громко. Замолчал, оглянулся. Хорошо, что сзади никого не было. Неудобно: взрослый человек… Как-то Дробов стоял на эскалаторе и за спиной услышал хрипловатое, басовитое: «Девочкой своею ты меня назови, а потом обними, а потом обмани». Дробов машинально посмотрел на поющего — немолодого, коренастого мужика. Они встретились взглядами, и в глазах мужика мелькнул испуг. Будто опозорился, осрамился.
Нет, бывает, бывает. Налипнет на язык какая-нибудь глупость и вертится неделями.
Контора находилась в районе метро «Авиамоторная». Вокруг станции красивые жилые дома, трамваи позванивают, а отойдешь от шоссе Энтузиастов на несколько десятков метров и оказываешься среди железобетонных заборов, складов, ржавых ворот. Настоящая окраина, хотя, по карте, и находишься недалеко от центра. Но лет пятьдесят назад это действительно была окраина, потом город разросся, а такие вот островки остались. И здесь, и недалеко от метро «Дмитровская», и возле «Тульской», возле «Белорусской», где, в доме в Большом Тишинском переулке, Дробов прожил до двадцати семи лет…
Склады и ангары, территории за заборами кажутся пустыми, безжизненными, брошенными, а на самом деле там кипит жизнь. Разгружают и загружают грузовики, озабоченно пересчитывают коробки, упаковки, мешки, передают из рук в руки пачечки денег… Склады больше напоминают развалины, кабинеты как чуланчики; грузовики в основном грязные, зараженные ржавчиной «газели» и «бычки», накладные вечно какие-то мятые, в рваных файлах, деньги кажутся липкими… Уже лет десять повсюду говорят о цивилизованной поставке товаров, об электронных документах, санитарных нормах, новых складских помещениях, и все это появляется, но сколько еще таких вот контор, как эта, где работает Дробов.
Шагает через коридорчик проходной. Здоровается с охранником коротким кивком и получает такой же короткий, экономный кивок. Это у них как пропуск, и, кажется, кивни иначе, охранник заподозрит неладное, задержит.
Дождей не было давненько, поэтому территория сухая, без луж. Но когда случается ливень, и в сентябре, октябре, когда на Москву льет и льет, возле ворот образовывается настоящее озерцо, и тогда плохое настроение возникает с самого начала дня — хреново выезжать на маршрут, форсируя грязную преграду… Раза три-четыре на памяти Дробова углубление перед воротами засыпали гравием, но вскоре гравий исчезал и лужа появлялась снова — будто природа сама выбрала именно это место для того, чтобы дождевая вода и талый снег куда-то стекали. Выбрала место и не желала его отдавать.
Первым делом Дробов заходит в двухэтажный домишко. В конуре с одним крошечным окном сидит Света, девушка лет двадцати семи, а может, и больше. Дробову стало сложно судить о возрасте давно знакомых людей — вроде и десять лет назад той же Свете было лет двадцать семь, и теперь… Когда видишь человека почти каждый день, изменения почти незаметны.
— Привет, — говорит Дробов.
Света отвечает бесцветным междометием.
Когда-то они улыбались при встрече, перешучивались, обменивались новостями, советовали друг другу посмотреть интересный фильм, но однажды Дробов, опять же шутливо, спросил Свету: «А ты специально „экспедитор” через „и” пишешь? Фишка такая?». Он давно замечал, что в документах стоит «экспидитор», усмехался, и вот спросил. Надеялся, что Света улыбнется, скажет что-нибудь: «Ой, точно, надо же ёе”!». И будет ставить «е». Но Света не улыбнулась, а пристально посмотрела в накладную, нахмурилась, тычком сунула Дробову документы и как-то через губу объявила маршрут: «Север-два».
С тех пор шутки закончились, теплое общение прекратилось. А «и» в документах продолжает появляться… Что-то нездоровое чувствуется в такой Светиной обиде. Впрочем, это понятно — на протяжении многих лет сидеть в этой конурке, заниматься одним и тем же и оставаться психически здоровой, это, наверно, утопия… А как она живет вне работы, Дробов не знает. Обручального кольца на пальце не было и нет; может, она не просто улыбалась Дробову. А он взял и обидел, уличил в неграмотности, ткнув в это «и».
Извиняться теперь, конечно, глупо, да и за что, собственно, извиняться? Пускай дуется… Но так неприятно, когда тебе буркают, чуть не швыряют накладные…
— Юг-один, — объявляет Света, резко протягивает документы, глядя в то же время подчеркнуто внимательно в экран компьютера.
Монитор громоздкий, занимает с четверть стола; Дробову хочется посоветовать Свете, чтобы сказала начальству о том, что пора купить узенький монитор, он ведь пустяки стоит, а от этого глаза портятся… Но, естественно, не говорит, а лишь благодарит по возможности теплее:
— Спасибо, Света!
Маршрут очень даже неплохой. Это не тащиться куда-нибудь в Медведки или на Юго-Запад, не ползать по переполненному центру. Главное, пробиться без проблем по Третьему транспортному, переехать Москву-реку. Нагатинский мост все еще ремонтируют — вместо четырех полос открыты две… Но по этому маршруту вполне реально часов до пяти закончить. А в шесть быть дома.
За тот десяток лет, что Дробов работает здесь, начальство несколько раз пыталось провести некоторые изменения. К примеру, когда пробки стали практически повсеместными с семи утра до десяти вечера, развозку груза перенесли на ночь. С одной стороны, вроде бы разумно — магазины и киоски и так почти везде круглосуточные, а дороги ночью свободны: развозка происходит намного быстрее, чем днем. Но коллектив (хотя какой это коллектив — десятка три случайно оказавшихся здесь людей) не поддержал: часть грузчиков не приходила в положенное время, а если они и приходили, то нередко пьяные или с похмелюги; несколько водил попросту уволились, да и экспедиторы, товароведы были недовольны новым графиком, то и дело опаздывали, брали больничные.
Начальству это недовольство было, в общем-то, по барабану. Недовольным предложили расторгнуть контракты (в штате числилось всего человек семь-восемь, остальные работали по контрактам); водил, грузчиков, экспедиторов в Москве всегда как грязи — уйдут эти, набегут по объявлению другие. Но произошли одна за другой две серьезные аварии (слава богу, без смертельных случаев), несколько мелких. То ли водители были утомлены после дня, то ли почувствовали простор пустых улиц и втопили газ… Чтобы не начались проверки самой конторы — «им только повод дай», — наверху решили вернуться к прежнему графику. Пусть лучше днем кое-как. Как большинство. По крайней мере, незаметней.
Дробова вообще-то переход на ночные рейсы почти не напряг. Днем была возможность выспаться, пока Настя в школе, жена на работе; подработка и репетиции происходили в семь-девять вечера, поэтому на работу он успевал… А вот другая новация возмутила. Да нет, попросту стала угрожать Дробову увольнением, то есть — по-современному — непродлением контракта.
Воспользовавшись мировым кризисом, начальство задумало оптимизировать количество сотрудников. Покумекало и пришло к выводу, что экспедитор-то в принципе лишнее звено, а его обязанности может совмещать водитель за небольшую прибавку к зарплате.
Опять же в принципе разумная мысль, только на деле совместить водилу с экспедитором получалось далеко не всегда. Проблемы начинались с погрузки — сами водители, по какой-то их водительской традиции, что ли, не очень торопились отправиться в рейс. Интересно, что при экспедиторе, который почти всегда безуспешно пытался подгонять грузчиков, водитель, потомившись в кабине, мог гаркнуть на всех скопом, включая завскладом: «Мне что, вообще сегодня не выезжать?! Давайте живей!». И грузчики начинали шевелиться. А с накладными в руках, уже в роли экспедиторов, водилы и становились неопытными экспедиторами — несмело, вяло уговаривали грузчиков поторопиться, путались в товаре, количестве… Из небожителя, каким у нас с давних пор считается человек, управляющий техникой, водила превращался в простого смертного, которого можно хотя и не открыто, но послать.
Главные же геморры возникали при разгрузке. Одно дело, когда товар привозили в ларек, — там было чаще всего без осложнений: передал две-три упаковки пивка, получил роспись в накладной и дуй дальше, а вот когда доезжал до супермаркета…
С действительно большими супермаркетами их контора не работала — там поставки были серьезные и от серьезных дистрибьюторов — товар поставляли во всякие «Кварталы», «Дикси», «Дешево». Эти магазины находятся на первых этажах жилых домов, разгрузка часто происходит на тротуаре, и перед дверями выстраиваются целые вереницы грузовиков. Одни с пепси, другие с молоком, третьи с капустой… Тут же выползают из дворов легковушки, ругаются прохожие. Настоящее столпотворение. И нередко экспедиторам приходится становиться регулировщиками или хватать упаковки и нести без очереди в магазин: «Прими, тут всего ничего. Пожалуйста».
Водителю одному в таких ситуациях очень сложно — можно часа три потратить на то, чтобы добраться до вожделенных дверей и сдать несколько упаковок.
В общем, эта оптимизация тоже практически провалилась. Из одиннадцати водил лишь двое обходятся без экспедиторов — готовы больше работать, время терять за лишние пяток тысяч рублей.
По существу, лишь одно новшество порадовало коллектив — покупка автокара. С ним даже не то чтобы быстрее все происходит, а как-то настроение поднимается, когда его видишь: вроде бы цивилизация, модернизация и у них, в их явно левой, полуподпольной конторе.
Заполнили сегодня кузов «бычка» довольно энергично — Сане, водиле, с которым Дробов работает в паре, даже прикрикнуть не пришлось. Как-то удачно живо грузчики были настроены.
Напоследок Дробов еще раз сверил количество и ассортимент пива в кузове с накладной. Все в порядке… Спрыгнул на землю.
— Едем? — спросил Саня, мощный, морщинистый, не похожий на свои немного за тридцать; какое-то преждевременное старение, что ли, или так и должен выглядеть мужчина этого возраста, и то, что большинство тридцатилетних выглядит в Москве почти юношами, аномалия…
— Едем, едем, — закивал Дробов; он ощущал себя рядом с Саней как младший и по возрасту, и по должности.
Саня застегнул тент. Сели, тронулись.
— Юг-один сегодня? — И, не дожидаясь ответа, Саня оценил: — Нормал. — Включил радио, из динамиков, установленных в обшивке салона, ударили звуковые волны. И зазвучала песня:
Давайте выпьем, Наташа,
Сухого вина
За то, чтоб жизнь была краше,
Ведь жизнь одна.
— Это, если не ошибаюсь, «Фристайл»? — послушав, спросил Дробов.
— Да какой «Фристайл»! — Саня возмутился. — Эт — «Сталкер». Андрей Державин. У меня под его «Не плачь, Алиса» половое созревание происходило.
Дробов усмехнулся, покивал.
— А «Фристайл» — Казаченко, — охотно продолжал объяснять обычно молчаливый Саня. — Помнишь, который все хныкал: «Больно мне, больно…».
— М-м, точно… Интересно, где теперь Андрей Державин. Что-то давно о нем не слышно.
— Он клавишником в «Машине времени».
— Да? Интересно… Вроде совсем из разных кругов.
— Но музыкант-то неплохой.
— Слушай, Саня, — Дробов почувствовал, что сейчас подходящий момент задать один вопросик, — а ты не помнишь, была такая певица — Барби?
— Барби? — Саня нахмурился, вспоминая, морщины превратились в рытвины. — А что она пела?
— Ну, такое… «Красишь ты ресницы в ярко-синий цвет, ждешь любви прекрасной, а ее все нет».
— Что-то вроде было… когда-то слышал… А каких времен?
— Да тоже начала девяностых. Вот вспомнилось вчера и теперь вертится…
— Бывает, — усмехнулся Саня.
Съехали с относительно свободного шоссе Энтузиастов на широкое, но забитое машинами Третье транспортное. Саня заворчал, запсиховал, и Дробов не стал продолжать разговор о полузабытой музыке, отвалился на спинку сиденья, прикрыл глаза. И посочились, полезли в голову воспоминания.
Нет, не совсем воспоминания, а словно бы склеенные как попало обрывки пленки с его прошлым, прошлой жизнью. Увиделся двор родной девятиэтажки (не совсем родной, но место, где жил первые лет семь, Дробов помнил очень смутно) в Большом Тишинском переулке. Девятиэтажка была тогда новой, только построенной, а вокруг двухэтажные, трехэтажные домишки… Но в середине восьмидесятых домишки стали активно сносить. И теперь ни в самом переулке, ни по соседству с ним почти ничего не осталось от старой Москвы; был на перекрестке Большого Тишинского и Малой Грузинской улицы симпатичный дом, полукруглый, с магазинами внизу. Такой, из девятнадцатого века. Но года три назад добрались и до него, стали проводить капремонт, а в итоге оставили лишь фасадную стену. Как обломок зуба торчит… Обещают эту стену сохранить, пристроив к ней новое здание, но вряд ли получится — стена в таком состоянии, что теперь уже легче и безопаснее дорушить, чем пристраивать…
Вслед за этим мелькнула сценка, как Дробов покупает на Горбушке свою первую электрогитару… Сквер, торговцы с пластинками, кассетами, струнами, и вот Дробов принимает в руки бордовую «Форманту», большую, с массой кнопочек…
— В ней фуз есть, — говорит уже бывший хозяин «Форманты». — Для рубилова — само то. Что играть-то собираешься?
— Рок, — слегка растерянно ответил Дробов.
В глазах у стареющего парня грусть. То ли тяжело расставаться с гитарой, то ли еще что… И на прощание он желает:
— Удачи! — словно отправляя Дробова в путь, который мало кому удается пройти.
…Дробов приподнял тяжелые, словно суток двое не спал, веки, посмотрел вперед — за лобовым стеклом ряды машин, ползущих со скоростью гуляющего человека… Хорошо, что хоть так. Бывает, встанешь и стоишь десять минут, пятнадцать, полчаса. Потом кто-нибудь самый нетерпеливый вылезает из машины и идет вперед узнать, что там случилось, и, возвращаясь, сообщает рыдающим голосом высовывающимся водилам: «Опять авария!». Или по радио узнаешь, что ДТП, и пробка образовалась такой-то протяженностью, и загруженность трассы десять баллов. И ни вбок, ни назад, ни машину не бросить. Сидишь и ждешь. Обязательно где-нибудь отчаянно «скорая» завывает, крякает полицейский автомобиль. От бензинового дыма болит голова, хочется пить, есть, хочется в туалет…
Но сейчас двигались. Медленно, то и дело приостанавливаясь, но покрывали эти драгоценные метры Третьего транспортного кольца… Саня ворчал, что надо было все-таки по Рогожскому валу и там через Новоспасский мост… «Хотя наверняка тоже забито. Блин, ловушка, а не город».
Дробов поддержал вздохом.
…Он дембельнулся в мае девяносто второго. Сразу пошел по друзьям — по тем, с кем два года назад учился играть на гитаре, мечтал собрать группу. С этой мыслью и пошел — теперь уже не мечтать, а действовать.
Один из друзей еще служил в армии, двое превратились в мелких бандитов и не помнили ни о каких гитарах, ни о группе. Еще один друг поступил в институт и учился с упорством взявшегося за ум дебила… Вообще, встречи с друзьями не получились — друзья стали другими, говорили на каком-то другом языке; Дробову казалось, что он пробыл вдали от Москвы не два года, а лет десять…
Ребята в группу собирались постепенно. С Андреем, соло-гитаристом, Дробов познакомился на концерте «Мамонов и Алексей», с барабанщиком Пашей, у которого была смешная фамилия Гусь, органично превратившаяся в погоняло, — на пивном празднике, с Максом, который стал басистом, в музыкальном магазине на Арбате.
Первое время просто встречались, выпивали, выясняли, кому какие группы нравятся, что бы сами хотели играть. Андрей показывал свои тексты, Дробов — свои. Корявенько пели их под акустику и объясняли, как видят их в инструментале.
Долго искали место для репетиций, собирали Паше ударную установку (первоначально он обладал лишь рабочим и тарелкой)… Сравнивая свои мытарства с воспоминаниями рокеров семидесятых-восьмидесятых, Дробов видел, что ему с парнями теперь, во времена свободы, куда труднее. В восьмидесятые довольно легко можно было устроить базу в каком-нибудь ДК; в Питере и Свердловске были рок-клубы, в Москве — рок-лаборатория, а теперь… Нет, всяческих студий появилось немало, но за них нужно было платить, владельцы видели в музыкантах коммерков, решивших разбогатеть, лабая песенки, а не идейных, не собратьев…
Каким видел в двадцать лет Добров свое будущее? Конечно, видел себя человеком, живущим музыкой, музыкой зарабатывающим. И ничего сверхъестественного — вон сколько групп вокруг, и мест для выступлений становится все больше и больше. Повсюду клубы.
Несколько раз родители заводили разговор, что нужно бы их Леше поступить в институт, ну или в училище, на худой конец. «Необходимо иметь профессию». Тогда Дробову, сутками сидящему в своей комнате с гитарой — учился играть, поставив маленький усилитель на минимальную громкость, — эта мысль казалась дикой. А он чем занимается? Как раз и приобретает профессию.
Лето прожил на родительские деньги и на то, что ему выдали, когда увольнялся из армии (даже вот «Форманту» удалось купить), а ближе к осени все-таки устроился на работу. Курьером в одну парфюмерную фирму. Возил по Москве документы, какие-то свертки… Работа, конечно, доставляла мало радости, но в ней был андеграундный дух (Цой кочегаром работал, Майк сторожем, Мамонов лифтером, а я — курьер), да и некий протест: все вот стремятся зарабатывать, пробиться наверх, он же демонстративно не хочет этого. Точнее, конечно, хочет, но не так.
К тому же это очень напоминало фильм «Курьер», и Дробов тогда часто говорил почти с гордостью: «А я курьером работаю. Как в фильме. Ну а вообще-то я музыкант».
После курьера (фирма закрылась, исчезла в одночасье) стал грузчиком на хлебозаводе рядом с домом, потом — грузчиком в мебельном магазине, развозчиком газеты «Из рук в руки», пробыл расклейщиком объявлений недели две, снова грузчиком — в типографии на Валовой улице. Затем начался период экспедиторства…
К работе Дробов и ребята из группы (а они тоже зарабатывали на жизнь подобным образом) относились как к чему-то вынужденному, второстепенному. Главным была группа. А она развивалась с трудом.
Три раза в неделю собирались на репетиционной базе (базы были разные, но все в подвалах, бывших котельных, на складах), играли по нескольку часов за небольшую плату. Но что значит — играли… С полчаса уходило на то, чтобы барабанщик прикрутил свои тарелки, установил хэт, педаль бочки, а гитаристы — разобрались со шнурами, отрегулировал звук, подстроили гитары. Обязательно кто-нибудь опаздывал.
Когда все было готово, вспоминали, что делали на прошлой репетиции. И опять кто-нибудь забывал свою партию, смотрел в записанные два-три дня назад аккорды и морщил лоб: «Блин, как я это играл?». После нескольких таких случаев стали фиксировать мелодии на кассетник (у Андрея была маленькая «Легенда»), но и это помогало слабо — главное оказывалось не в аккордах, а в ритме, частоте… Особенно изматывали споры во время создания новой песни. У каждого были свои предпочтения, хоть и близкие к общему направлению, но, когда это доходило до деталей, становящиеся существенными.
Ударник хотел темпа «под „Эксплоитед”», басист — партий для себя «как у Лемми в „Моторхэд”», соло-гитарист настаивал на том, что играть надо как «Дэд Кэннедис», а Дробов, ритм-гитарист, все песни хотел видеть близкими к его любимым «Студжис» (как раз тогда на фирме «Антроп» вышли две пластинки этой группы) и продвигал такой стиль — вязкий, ритмичный, с тягучими соляками… И хоть в итоге удавалось приходить к чему-то среднему, придумывать оригинальные мелодии, но каждый раз этому предшествовали споры, экскурсы в историю мировой музыки, ссоры, беганье за выпивкой…
А чего стоил выбор названия для команды! Одно время репетиции как таковые вообще прекратились — сидели и предлагали слова. Сотни слов. У всех была уверенность, что без названия репетировать не имеет смысла.
Сегодня развоз товара прошел относительно быстро. Относительно к большинству предыдущих развозов. К половине пятого кузов опустел, возврата просроченного пива, слава богу, не было. Правда, в двух киосках оплатили реализацию — приходилось возвращаться в контору.
— Ну что, Саш, я на метро доеду, — сказал Дробов, — а то опять по пробкам…
— Давай. — Саня явно обрадовался; он еще успевал до вечернего потока добраться до своего Жулебина. — Кстати, как, ты говорил, ту певицу зовут?
— Какую? — После возни с упаковками, накладными Дробов с трудом воспринимал что-то другое.
— Ну, утром говорили? Ты еще напел про ресницы…
— Барби.
— Гляну. В последнее время что-то тянет на ностальгяшки. Оказывается, было там интересное, и все эти «Комбинации» совсем по-другому слушаешь…
— Да, наверно.
Дробов сел в метро, доехал до «Авиамоторной», вручил накладные и двадцать четыре тысячи выручки Светлане. Та расписалась в получении денег, дала расписаться Дробову. Все молча. Из ее ушей торчали проводки.
— Что слушаешь? — спросил Дробов.
— А?.. Аудиокнигу… «Трое на четырех колесах».
— Ясно. — Дробов уважительно, но и разочарованно кивнул; почему-то был уверен, что у нее там тоже ностальгяшки. — А кто автор?
— А? — Светлана уже с раздражением посмотрела на него.
— Да нет, так… Я свободен?
— Да, до свидания.
Миновал проходную, кивнув коротко охраннику, но уже другому, не утрешнему. По безымянному переулку, а вернее, по проезду меж заборами, пошагал к метро. Если поспешит, то доедет до дому без давки… «Черт, — тут же разозлился на себя, — только и заботы, что о том, чтоб утром проехать свободно и вечером тоже…»
Зазвонил телефон. Жена беспокоится?.. Нет, оказалось, Паша Гусь, барабанщик.
— Слушай, тут прояснилось: завтра репетиция.
— Понял. Там же?
— Ну да, там же… И подумай, чем репертуар обновить.
— Попробую.
Сунул телефон в карман и наткнулся на супермена. Так и протаскал весь день. Достал, не глядя на него, швырнул за забор.
…Группу назвали «Антидот», отточили пять композиций и записали демо. В фирме наштамповали десятка два сиди-дисков (немалых денег это тогда стоило), раздали послушать директорам клубов. Удалось выступить на нескольких сборных концертах. Приняли неплохо, хотя, в общем, всех неплохо принимали — главное, чтобы жестко было, динамично, драйвово… После концертов получали небольшой гонорар.
Потом была запись альбома. Тяжелая, долгая, мучительная. Чуть окончательно тогда не разбежались. Но — записали. Заказали обложку, отпечатали сотню экземпляров, развезли по рок-магазинам, ларькам. На продажу брали альбом неохотно, первым делом спрашивали: «А что за лейбл?» — «Сами», — поначалу гордо отвечали парни. На них смотрели с усмешкой: «И вы думаете, неизвестную группу с неизвестным лейблом будут расхватывать?» Действительно, покупали диски очень неохотно.
И несмотря на все попытки (вялые, правда, какие-то неправильные) пробиться, обрести известность, «Антидот» оставался одной из сотен подобных групп. Раза два-три в месяц играли в клубных сборниках, пару раз удостоились сольников, но было продано всего несколько билетов, и с тех пор о сольниках речи не заводилось… Продолжали репетировать, делать новые песни, ругались, спорили…
В юности Дробов был уверен, что двадцать лет — это огромный срок, по существу, — вся настоящая жизнь, и вообще век человека, огрубляя, делится на три части, каждая длиною по двадцать лет.
Первые двадцать — подготовка, вторые — активный период, а третьи — увядание. Представить себе человека после шестидесяти было трудно, старики казались Дробову не совсем уже людьми: так, ждущие смерти существа. А уж представить себе рокера-долгожителя было вообще невозможно.
Начиная заниматься музыкой, Дробов посмеивался над стартовавшим как раз в то время парадом юбилеев: двадцатилетие «Машины времени», «Аквариума», десятилетие «ДДТ», «Центра», «Пикника», «Звуков Му», «Наутилуса», «Крематория», «Алисы», «Браво», «Коррозии металла», «Гражданской Обороны»… «Монстры, блин. Настоящие года за три успевали встряхнуть болото, а эти…»
А как получилось у них? Вот и их группе двадцать лет. И что? Ничего не встряхнули, так, повибрировали в болотной жиже, замирая на долгие месяцы… Хм, месяцы долгие, а двадцать лет пролетели стремительно. Что запомнилось, что можно выудить? Даже не из скудной истории группы, а вообще из его этой, как он когда-то считал, настоящей жизни?
Как в последний раз насели родители, чтобы куда-нибудь поступил. Дробову тогда было двадцать шесть. «Другой возможности бесплатно учиться уже не будет! — говорила мама. — С двадцати семи — только за деньги. Нужно ведь профессию иметь, сынок!» Он тогда и сам подумывал об этом — «без образования» ему действительно мало что светило. Но как это — учиться вместе с семнадцатилетними? Стыдно уже… И в общем, не стал никуда поступать, пережил эту возможность.
Что еще? Еще — встреча с будущей женой. Познакомились на концерте группы «Крематорий». Хороший был концерт, в основном играли старые песни. Армен Григорян грустно исполнял энергичную вообще-то тему:
И у Тани на стене нарисовал я облака
И слона с ослом, летящих в никуда,
И она ложилась спать, схватив слона за крыла,
А просыпалась с хвостом осла.
Девушка, стоявшая рядом с Дробовым, подпевала, и когда песня кончилась, он спросил:
— А вас не Таня зовут?
— Нет, Наталья. И я еще жива. — У песни был припев: «Жаль, что она умерла».
— Извини, — кивнул Дробов, — но Таня, судя по всему, была классной… Может, выпьем что-нибудь? — За их спиной был бар.
Девушка легко согласила:
— Давай. Сейчас, только узнаем, какая следующая будет… Я «Мусорный ветер» послушать хочу.
Следующей песней был не «Мусорный ветер», и они пошли к бару.
— Я первый раз на «Крематории», — сказал Дробов, — хотя воспоминания у меня с ним очень мощные связаны.
— Какие?
— Я с билетом на него в армию уходил. До последнего надеялся, что отправку перенесут, и схожу… А довелось только теперь.
— Ты в армии был? — Наталья посмотрела на него с интересом.
— Ну да.
— А откуда приехал?
— Куда?
— Сюда, в Москву.
— Хм, с Большого Тишинского переулка.
— Москвич… Не похож.
— А ты?..
— Я с «Полежаевской».
— Ничего себе! Почти, получается, соседи.
После этого стали встречаться. Дробов подарил ей диск с песнями своей группы (сам сделал сборник из не очень матерных и примитивных), Наташе понравилось…
Как поначалу она не поверила, что Дробов москвич, так и он не верил, что она родилась и прожила свои двадцать шесть лет в столице. Нетипичная москвичка. Хотя… Хотя их очень много, таких нетипичных, просто ведут незаметный образ жизни. Словно прячутся от этого круглосуточного шума, суетни, битв за деньги, за славу…
Окончила после школы бухгалтерские курсы, работала в одном научно-популярном журнале, который когда-то, в советское время, был популярным, а теперь… Около пятисот подписчиков, около тысячи покупателей.
Когда Дробов впервые побывал в их редакции на Новой Басманной, просто глазам не поверил: показалось, что попал в декорации фильма о глухом застое. Громоздкие, толстостенные шкафы с какими-то пыльными книгами, подшивками; скрипучий, шевелящийся паркет под ногами, фанерная обшивка на стенах, все покрыто потемневшим лаком. В кабинетах большие столы, тяжеленные стулья, которые женщины не переносили, а перетаскивали. И хоть в то время уже стояли компьютеры, но на сейфах, шкафах, на широких подоконниках — как какой-то ветеранский резерв — пишущие машинки…
Люди в этом здании были тоже словно из прошлого, проводили рабочий день неспешно, в полусне, с постоянным жиденьким чаем, печеньками, ленивыми разговорами… Дробову опять вспомнился фильм «Курьер». И наверное, таких заповедников по Москве еще оставались сотни и сотни, а может, и в свежих офисах создавалось, устанавливалось нечто подобное.
Наталья жила без больших запросов, претензий, и Дробова это, особенно в начале их отношений, раздражало — симпатичная, неглупая девушка, а живет так тихо и скромно, будто ей кто-то когда-то напророчил, что ей никуда никогда не пробиться, не достичь, а если не поверит и сунется в московский водоворот, то потеряет то немногое, что имеет. И замуж за Дробова она вышла, кажется, не по большой любви, а так — встретился подходящий парень, не алкаш, не подонок какой-нибудь, москвич. Подходит, можно связать с ним свою жизнь.
Но теперь, после двенадцати лет вместе, эти ее ровность, скромность очень Дробову нравились и только укрепляли их семью. Домой он ехал без боязни нарваться на скандал, проблемы почти всегда решались спокойно… Удивительно: у него ни разу не возникало желания другой женщины, хотя в юности был уверен, что их будут десятки, сотни. Для этого, считал, только и стоит жить — секс, рок-н-ролл, ну и наркотики бы неплохо… гашиш… Смешно, конечно, вспоминать об этих принципах, но, наверное, подобное — по крайней мере, желание обладать женщинами — многих и толкает становиться известными.
У Дробова не получилось. Обыкновенная жизнь обыкновенного человека: любимая и убаюкивающая своим спокойствием жена, послушная дочка, сносная работа. Есть и хобби, и одновременно средство для подработки — гитара.
Открыл дверь; в нос ударил запах жареного мяса, и Дробов сразу и резко почувствовал, что очень голоден, — за весь день съел один беляш.
— Привет, дорогой, — сказала Наталья, появившись из их комнаты; с легкой улыбкой подошла, подставила щеку; Дробов поцеловал. — Раздевайся, ужин готов.
— Да…
— Пап, приве-ет! — как-то, как в детстве, подбежала дочка, прижалась. — Игрушки отдал?
— Отдал. Хорошей женщине. У нее сын и дочка. — И глянул на жену, не кольнула ли ее эта «хорошая женщина».
Нет, Наталья ответила заговорщицким кивком: «Хорошо, правильно сказал». И дочка облегченно выдохнула:
— Пусть играют.
Потом ужинали. Что-то бубнило радио из старенькой магнитолы «Томь»; Дробов не слушал, ел напряженно.
— Проголодался… — сочувствующе отметила жена. — Нормально все на работе?
Когда-то она спрашивала: «Как дела на работе?» — и Дробову приходилось вымученно отвечать: «Нормально… Все нормально». Теперь можно даже не говорить ничего, а просто головой покачать.
Но молчать нехорошо, и Дробов интересуется:
— А у тебя?
— По-прежнему. Слава богу… Сегодня пораньше приехала, сходили с Настей купили колготки, для школы разное…
— Да, через три дня в пятый класс, — поддерживает Дробов и спохватывается: — А в этом году первое сентября в субботу же…
— Будет линейка, урок-знакомство…
— А потом мы в кино собрались, — добавляет Настя.
— Ясно… Вечером можно в суши сходить. — Дробов отодвинул тарелку, потянулся к заварному чайничку. — У нас репетиция завтра. Паша звонил.
— М-м! — оживилась жена. — Возобновляете?
— Да вроде. Новые песни подкопились, надо посмотреть, как что. Может, — старался говорить так, чтобы у жены не возникло сомнения, — может, и альбом запишем. Попробуем…
После ужина дочка ушла к себе, а Дробов с Натальей к себе. Устроились на диване перед телевизором.
Смотреть, как обычно, было как-то нечего. Десятка два каналов, но, когда оказываешься на любом из них, сразу тянет переключить. Какие-то фильмы на середине, ток-шоу, больше похожие на ругачку, реклама, реклама, гон о летающих тарелках, мультики, клипы…
Дробов задержался на Наташе Королевой. Она пела старую свою песню про маленькую страну… В первый раз Дробов увидел ее в армии — по воскресеньям вечерами свободным от нарядов разрешали смотреть телик, и во время этих просмотров почти обязательно на экране появлялась новая, жутко модная тогда, а главное, по-настоящему юная певица — Наташа Королева. И пела так, что солдаты стонали: «Почему умирает любовь? Мне никто никогда не ответит…»
Это был то ли самый конец девяностого, то ли начало девяносто первого. Свежие лица на эстраде были еще редкостью — в основном продолжали петь всякие Софии Ротару, Людмилы Сенчины, Аллы Пугачевы, старавшиеся выглядеть по-современному, — и парни гадали, на самом ли деле эта Наташа Королева такая уж молодая, из народа, или стояла где-нибудь десять лет на подпевках и теперь дождалась своего часа… Гадания происходили после отбоя, быстро перетекали в признания, что вот бы эту Наташу сюда — мягонькую, уютную, или лучше жениться на такой девчонке, уже наверняка при деньгах… Наташа Королева была предметом и дробовских солдатских фантазий.
Сейчас ей наверняка лет под сорок. То исчезает из телевизора, то появляется; где-то читал, что у нее свои магазины, замужем за популярным стриптизером Тарзаном, который тоже мелькает в телике… В общем, держится на плаву, в поле зрения. Как и большинство подобных ей эстрадниц и эстрадников, появившихся в начале девяностых. Кто там еще был из новых? Ветлицкая, конечно, — у этой действительно голос потрясный, песни качественные, клипы стильные, фантастические просто для того времени… Алена Апина, Татьяна Овсиенко, Лика Эм-Си… Хм, или — Лика Стар?.. Лада Дэнс… А кто пел энергично: «Дави на газ! Все будет джаз, все будет джаз!»? Лика Стар, кажется…
— Переключи, — с легким раздражением попросила жена.
Дробов очнулся, на экране танцевали длинноногие поджарые девушки, а огромный бессмертный Шуфутинский, как одолжение, выпускал изо рта в микрофон слова:
Так лучше веселиться, чем работать,
Так лучше водку пить, чем воевать.
И вспоминать за мамины заботы,
И белые костюмы одевать.
Дробов испуганно ткнул пальцем в кнопку.
— Хм, не замечала, что тебя на попсу потянуло, — усмехнулась Наталья.
— Да это я так… задумался. — И он снова стал путешествовать по каналам.
Малахов что-то выспрашивает у заплаканной женщины… реклама «Тайда»… реклама «Мегафона»… тайны египетских пирамид...
— Пойду в компьютере посижу, — сказал Дробов. — Надо на завтрашнюю репу настроиться.
— Конечно, Алеш. — И жена погладила его по руке.
Компьютер у них был один. Стоял в комнате дочки — отдельный стол, не замусоренный бумажками, безделушками. Наталья, испытывающая уважение к любой электронике, очень заботилась о стиральной машинке (иногда даже вслух благодарила ее, доставая свежее, почти сухое белье), холодильнике, телевизоре, ди-ви-ди и, конечно, о компьютере. Стол с программным блоком в специальной ячейке, монитором, клавиатурой, решетками для дисков вообще выглядел как некое домашнее животное из фильма про будущее…
— Настя, — заглянул Дробов в комнату; дочка как раз сидела за столом. — Ты мне уступишь на часок?
— Сейчас доиграю…
— Давай. Позовешь.
— Угу.
Дробов прошел на кухню, налил себе с полчашки чаю. Встал у окна. Начинало темнеть, во дворе, за тополями, играли дети, дальше серели гаражи-ракушки, которые уже года два как обещали снести…
Они жили недалеко от метро «Профсоюзная». Панельный девятиэтажный дом, рядом маленький парк, пруд… Когда родственники узнали, что Алексей и Наталья решили пожениться, естественно, возникло беспокойство, где они будут жить. У ее родителей двухкомнатка, у его — тоже. Денег, чтобы снимать отдельное жилье, не было. И тут двоюродная сестра Натальи, которая к тому времени лет пять жила в Германии, объявила, что отдает свою московскую квартиру молодым в бесплатную аренду. Сама разобралась с жильцами, и после свадьбы Дробов с женой въехали сюда, с тех пор здесь и живут. Уже второе десятилетие.
Дробов признателен Натальиной сестре, во многом, наверное, благодаря ей и семья у них сохранилась: невозможно представить, как бы они все жили или с ее родителями, или с его… Вон этот идиотский вроде бы, но вообще-то достоверный сериал «Воронины» наглядно демонстрирует, каково оно, житье в семейной коммуналке… Жуть и бред… Да, благодарен. Но тревога постоянно появляется, теребит, щиплет: а если сестра решит вернуться, или деньги понадобятся, или, не дай бог, умрет… А аренда двушки сейчас — тысяча долларов самое-самое малое… В общем, в подвешенном состоянии они все это время. И ведь интересно, за двенадцать лет не прошло это ощущение.
— Пап, свободно! — позвала дочка и попросила, когда он усаживался перед монитором: — Только не очень долго, ладно? А то я уровень до конца не прошла… сохранилась… А потом уже спать.
— Ладно, постараюсь.
— А что ты будешь смотреть?
— Так… — Дробов и сам толком не знал. — По работе надо.
— Насчет пива.
— Нет, по другой — по музыкальной. Почитай пока или с мамой… Нельзя быть зависимой от компьютера. — И одновременно подумал: «Пора дешевенький ноутбук купить. Так вот просить каждый раз…».
Было время, они с женой почти каждый день заходили в видеопрокат, брали фильмы и вечером смотрели. Ужастики, комедии, мелодрамы хорошие, катастрофы… А потом повсюду появился Интернет, набитый всевозможным кино, и видеопрокат исчез, и почему-то эти вечерние сеансы у них прекратились. А ведь куда проще — включил комп, нашел подходящую киношку и смотри…
Сначала, традиционно, набрал в Интернете «Stooges» — название любимой рок-группы. Может, что новенькое о ней появилось… Впрочем, что может появиться после смерти гитариста Рона Эштона?.. Теперь уж точно — история. Скоро и лидер группы Игги Поп уйдет в мир иной или хотя бы на покой. Ушли на покой и Боб Дилан, и Дэвид Боуи…
В девяносто втором (или третьем, теперь уже точно не установишь) звукорежиссер Андрей Тропило взял и выпустил две пластинки «Студжис». Это было удивительно — никто, казалось, не знал, что это за группа, и мало ли этих забытых групп существовало в шестидесятые — семидесятые… Ну, купят сотенку экземпляров… Может, и действительно мало купили, и Тропило прогорел в коммерческом плане с этими пластинками, но число поклонников давно распавшихся «Студжис» именно в начале девяностых стало расти. Причем не только в России.
Лет десять назад «Студжис» собрались снова, записали новый альбом, много гастролировали, побывали в Москве. Дробов с женой ходили…
Да, новостей почти не было. Вот Элис Купер советует молодым музыкантам слушать «Студжис», «Ху», ранних «Роллинг стоунз» и быть безбашенными рок-н-рольщиками… Дизайнер Джон Варватос включил песню «Студжис» «Down on the Street» в число пяти главных рок-треков всех времен… О «Студжис» вспомнили на вечере памяти Джонни Рамоне…
Дробов изучал ссылки на группу «Студжис», а в голове продолжало вертеться неожиданно вспомнившееся «Дави на газ!..». Кто же ее все-таки пел?
Нет, оказывается, не Лика Стар, а Светлана Владимирская. Нашел даже клип девяносто четвертого года. В белом кружевном костюмчике, короткостриженная, рубит, мечась по сцене: «Вперед, машина любви! Дави на газ! Давай, мой мальчик, дави на газ!».
Да, песню помнит, а саму певицу — нет.
И где ты теперь, Светлана Владимирская?
К своему удивлению, тут же обнаружил статью о ней в «Википедии». Родилась в шестьдесят восьмом в Люберцах, окончила музучилище, стала солисткой группы «Клеопатра», потом начала сольную карьеру. В девяносто четвертом была признана певицей года. «После взлета своей популярности, в 1998 году, певица неожиданно уехала вместе со своим мужем в Красноярский край, в деревню Черемшанка. По телеканалу ОРТ показывали, что она была в общине Виссариона. Затем певица вернулась в шоу-бизнес в 2004 году». Да, два альбома с тех пор записала…
А Лика Стар?
Лика Стар («Лика Павлова, родилась в 1973 году»), оказывается, первая российская рэперша, «в начале 2000-х перебралась в Италию, где ее супругом стал дизайнер и владелец мебельной сети Анджело Сечи».
Еще такая Линда была. Причитала: «Я — ворона, я — ворона»… Ну, она до сих пор довольно активна, в определенных кругах известна и почитаема. «С 2008 года и по сегодняшний момент живет в Греции, выступает в дуэте с мужем Стефаносом Корколисом».
Так, ладно, у этих более или менее, но жизнь сложилась. А вот Барби… Хм, для этого ведь, скрывая и от себя самого, сел за компьютер. Чтоб узнать, что с ней, куда пропала. Может, она вообще ему приснилась, и песня эта про ресницы — тоже… Вот бы действительно — придумать во сне такой хит, пусть попсовый, но который крутится на языке у тысяч, и — прославиться.
Как набрать в поисковике? Набрал просто «Барби», и, конечно, выскочили ссылки на куклу. Покрутил валик мышки — о певице ничего. Игрушка, коллекции, игры… Да, надо добавить «певица». И тут сам компьютер дополнил «Барби певица» именем и фамилией «Марина Волкова».
Марина Волкова… Двадцать лет назад то, как на самом деле зовут певицу, тщательно скрывалось. Дескать, просто Барби — такая вот девочка из сказки, поющая сказочные песни. Ну, не сказочные, но уж точно не обычные.
Дробов нажал «найти», и вот появились ссылки, выстроились сверху вниз, заголовками требуя, чтобы их скорее открыли: «Барби — Азбука любви (1992). Лучшая и разная музыка», «Дискотека 80-х. Если кому-то небезразлична судьба певицы Барби…», «Жизнь: Потеря популярности оборачивается депрессией».
Открыл одну из ссылок. Побежал взглядом по строчкам: «В детстве я как-то увидел симпатичную девочку во всем розовом, распевающую рэп (нынче хип-хопом зовется). Помню, я дико фанател от нее. Потом она куда-то исчезла.
Некоторое время назад я задался целью найти хоть видео из той передачи. Но так и не нашел. И вот буквально вчера ночью я выцепил-таки на ютубе ее видео».
Ниже был экранчик. Дробов нажал на плэй. На экранчике появилась рябь, а поверх нее — надпись: «Азбука Любви — „Красишь ты ресницы” Аккаунт You Tube, связанный с этим видео, удален за неоднократное нарушение авторских прав».
— Ясно, — бормотнул Дробов и крутанул валик. Стал читать комментарии пятилетней давности:
«Надо же, я эту песню обожала. Ходила, распевала с подружками. На магнитофон с телевизора записала. Удивительно — никакой ностальгии, одно отвращение».
«Через какое же вы отвращение прошли, что напевали ее :) я вот только один раз ее увидел по телику, но почему-то запомнилась. Она мне внешне понравилась тогда :))) хоть я и мал был».
«Очень хорошо помню и девушку и песню. Фанатеть — не фанатела, но был период, когда это нравилось. Сейчас — смешно...»
«Сейчас многое уже смешно :)»
В комнату вошла дочка. Остановилась у двери и, Дробов почувствовал, стала смотреть на него, безмолвно требуя заканчивать.
— Сейчас, Насть.
— Уже десять почти…
— Пять минут.
Дочка ушла.
«И я, и я ее помню!!:))) Мне тогда вообще лет 5-6 было:) Кажется, мне даже нравилось))) Помню, была у нее еще песня про „часики с кукушкой” или что-то вроде этого. Помню еще, в те времена кукла Барби была предметом вожделения каждой советской девочки (хотя тогда уже не советской:)) и я не была исключением:) Вощем в какой-то передаче (может, Марафон-15) она рассказывала про то, что у нее есть настоящая кукла Барби, вместе с розовым магнитофоном, и даже показывала ее, кажется. Я уже всего не помню, но отлично помню, что это произвело на мою детскую впечатлительную натуру просто невообразимый эффект:)))))»
«Я ее так безумно любила, эту Барби!
Моя певица эта Барби,
Она живет в Москве,
Она прекрасна как цветок,
Как роза в хрустале!!!
Даже стихи писала про нее... мне было лет 12-13... Боже мой, просто супервоспоминания! И как время идет! „Азбука любви” еще был на аудиокассетах!!!
Газета МК в те времена много о ней писала!!!»
«Запомнилась мне эта девушка. Песни были исключительно о любви, с чем у Марины так ничего и не сложилось. А я вот ей не любовь хочу предложить, а нечто большее — всю Вселенную. Короче, если Марина жива, зовите ее ко мне».
«Да она в Свиблове живет))) Пьяница)))»
«Пьяница...... Не спешите осуждать. Не знаете, в какой ситуации сами завтра окажетесь».
«Да...а. Помню, будучи подростком, тоже грезил о ней. Жаль, очень жаль, что жизнь у нее не сложилась. Вспоминаю, и слезы на глаза наворачиваются».
«Сижу на работе, и вот совершенно ни с того ни с сего начала напевать „Красишь ты ресницы…”. Зашла в поиск, набрала „певица Барби”, и вот те на! Ваша переписка. Жалко девочку».
«А вот если предложить ей попеть? Могу предоставить в распоряжение Марины Волковой кое-что из моего материала, который по разным причинам был забракован участниками нашей группы».
Дальше — ничего. Конец комментариям…
Утром, как обычно, был торопливый завтрак, почти час в метро, недовольная Света, склад, грузчики…
Дробов знал, конечно, что грузчики ночуют не здесь, что у них есть квартиры, семьи, но почти каждый раз, когда увидел их, вялых, хмурых, в одной и той же робе, ему казалось, что вот так они и проводят всю свою жизнь — здесь, за забором, на складе, сидя или лежа на старых поддонах. Что ничего у них нет, никаких занятий, кроме разгрузки прибывающих товаров и разгрузки отбывающих «газелей» и «бычков»… Но может, и он, Дробов, представляется им таким же, занятым лишь одним делом — развозом пива.
Да, так мы, в основном, друг друга и представляем. Не люди, а… как там?.. функции.
Дробов думал о вечерней репетиции. Совсем не та это будет репетиция, какую представляет жена, какой бы хотелось ему самому. Не материал для нового альбома они вечером будут репетировать. И, лежа вчера вечером рядом с Натальей, после того как почитал про Барби, он хотел признаться, какие деньги приносит время от времени сверх зарплаты, туманно поясняя: премия, временное повышение... Готов был, но не смог. Не из-за боязни упреков, что, типа, а почему раньше не сказал… Нет, вряд ли она будет что-нибудь говорить такое. Удержало другое — стыдно было сказать, какие песни их группа уже года три поигрывает в клубе «Одна шестая».
Клуб был стилизован под ресторан советского времени, и живой звук там был соответствующий: иногда выступали известные в прошлом певцы и певицы, группы, популярные лет тридцать назад, а нынче играющие на корпоративах или на таких вот площадках, а когда никого более или менее именитого арт-директору отыскать не удавалось, звали группу «Антидот».
И одно дело, если бы исполняли свой репертуар или хотя бы близкие по духу песни… Попытки поначалу были.
— В Советском Союзе панк-рок неплохо знали, — помнится, доказывал барабанщик Паша Гусь, знакомый с арт-директором «Одной шестой». — Записи «Пистолетов» ходили, «Клэш»…
— Игги Поп еще в семьдесят пятом в Москве побывал, — вставил Дробов.
— Да? — Арт-директор заинтересовался. — И что, концерт дал?
— Нет, конечно… Туристом.
— Ну, туристом! Туристом к нам и Прабхупада приезжал. Мало ли кто… Нет, ребята, беру вас на своих условиях…
Главным условием было исполнение песен советского периода. Точнее, семидесятых — начала девяностых годов.
— Без глубокого андеграунда, — уточнил арт-директор. — Лоза с «Примусом» — самый край. Можете аранжировать поживее, но, ясно, не до панка. Нельзя ломать имидж клуба.
— А слова можно переделывать? — спросил Макс, басист.
— Как?
Макс вдруг запел жалобным голосом:
Плачет девочка с автоматом —
Больше некого убивать.
Вся в слезах и губной помаде,
Ох, как хочется постреля-ать.
— Не стоит, — серьезно ответил арт-директор. — В общем, решайте.
После этого парни зашли в кафешку, взяли водки и стали спорить.
Спор был острее и ожесточеннее, чем раньше, когда пытались решить, как будет звучать новая композиция… И спорить тем более было неприятно, тяжело, что все понимали: ничего нового в результате его не появится.
Правда, поначалу общались довольно спокойно.
— Понимаете, — говорил Паша, — хоть какая-то реальная деятельность. Реальные башли зарабатывать будем.
— Ну, блин, зарабатывать можно и в офисе, — буркнул Максим.
Дробов на эти слова усмехнулся:
— Кто нас в офис возьмет? Там уметь что-нибудь надо.
Получилось, что этими словами он поддержал Пашу. Тот воодушевился:
— Вот-вот! Сколько лет перебиваемся, а тут будет хоть чем за студию платить.
— Но ведь, — включился в разговор Андрей, соло-гитарист, основной вокалист и по факту лидер группы. — Но ведь это предательство.
Паша вскипел:
— Кто кого предает? Кто?!
— Мы все.
— В смысле?
— Если мы начнем попсу лабать, мы предадим свою музыку. То, чем пятнадцать… двадцать лет почти жили.
— Да почему! Разучим несколько песен, будем исполнять их раза три в месяц, получать за это гонорар. А остальное время — наше.
Дробов опять усмехнулся:
— Все попсари с этого начинали.
Паша грустно на него посмотрел:
— Нам уже поздно попсарями становиться. Вообще хоть кем… Графов Монте-Кристо из нас не вышло.
— Что? — наморщил лоб простоватый Макс.
— Он имеет в виду, что панк-рокерами мы не стали… Но предавать свою музыку я лично не буду.
— Андрюх, никто ничего не предает! — зло выкрикнул Паша и сразу потух: — Ладно, я вам предложил подработку. Подработку в принципе по специальности. Нет — так нет. Но продолжать быть таким в тридцать шесть лет я лично, — он выделил слово «лично» и глянул на Андрея, — уже не могу. Я хочу сцену, хоть такую, как в «Одной шестой», хочу играть, получать за свою игру пусть символизм, но — получать… Ребята, нам скоро сороковник! Три альбома, четыре десятка концертов вместе с подобными, тысяча, или сколько там, рэп на голимых студиях — и это все?! Я не могу так дальше, и я готов уйти, если мы будем продолжать только так…
Тут, по сути, и начался спор. С обвинениями, старыми обидами, посыланием… К Паше присоединился Макс (так сказать, ритм-секционная спайка), Андрей был настроен категорически против исполнения эстрадного ретро, а Дробов до поры до времени сдержанно присоединялся к Андрею. Просто не мог представить, что играет что-нибудь вроде «На недельку до второго…».
Но неожиданно, на самом пике спора, ему в голову вломился вопрос, вломился и уже не исчезал: «А что, действительно, мы теряем часа по три несколько раз в месяц, играя не то, что хотим?». К тому же у Игги Попа, «Рамонез», даже у «Эксплоитед» с «Дэд Кэннэдиз» были вполне лирические песни, почти попсовые. Ничего, наверное, страшного… И деньги, конечно… Прав Паша: хоть бы и символически, но очень хочется получать за свою игру. И он склонился на сторону Паши и Макса…
Андрей убежал тогда из кафе в бешенстве, бросив на стол голубовато-белую тысячерублевку, хотя выпили и съели все вместе от силы на семьсот. Но эта тысяча была как некий знак, что на деньги ему, Андрею, плевать… Оставшиеся посидели молча, потом вымученно договорились как-нибудь созвониться и разошлись. Ощущение было — что навсегда.
Первым Дробову, на следующий день, позвонил Андрей и спросил почти с ненавистью, какой-то юношеской ненавистью:
— Ты на самом деле решил играть попсу?
Дробов не знал, что ответить. Точнее — как. Было ощущение, что если скажет: «Да, на самом деле», — Андрей, с которым они столько лет сочиняли забойные песни, улыбками хвалили друг друга, когда у одного получался жесткий ритм, а у другого выходил пронзительный соляк, с кем много всего пережили, скажет то последнее слово, после которого невозможно станет ни играть, ни разговаривать, или просто бросит трубку, что хуже самого обидного оскорбления.
— Я… — Дробов кашлянул. — По крайней мере, я хочу попробовать. В любой момент мы можем бросить.
— Ха-ха! Ты говоришь как начинающий наркот из советских фильмов! — неожиданно развеселился Андрей. — Ладно, давайте попробуем.
Быстро нашли бесхозного — без группы — клавишника по имени Игорь. Стали отбирать песни, и тут возник вопрос о вокалистке; арт-директор «Одной шестой» сказал, что она необходима.
— Пусть не каждую песню поет, но женский пол должен быть на сцене — охват аудитории… Только она должна быть тоже не девочкой. Понимаете, о чем я?
Арт-директору было лет двадцать пять, и своей уверенностью, начальственностью он жутко, до покалывания в скулах, раздражал.
Андрей вспомнил, что, когда они репетировали на базе в Дорогомилове (неплохая, кстати, база, и вид на небоскребы Москва-сити вдохновлял на более жесткую музыку), там болталась одна неприкаянная особа лет за тридцать. Она вроде как пела когда-то в фолк-группе, но группа развалилась, а она по привычке приходила к звукорежиссеру базы, пила с ним чай или вино, мечтала о новой группе, будущих альбомах, концертах, о славе. «Я же раньше Хелависы начала то же самое!..» — слышалось иногда ее обидчиво-досадливое. Однажды парни услышали, как она поет, — неплохой оказался голос; внешне тоже была вполне подходящей.
Отправились на базу; особа, ее звали Ольга, оказалась там: «Вот видите, как нам катит!» — шепотом обрадовался Паша Гусь, — за десять минут уговорили участвовать.
— Практика нужна, — сказала Ольга больше себе, чем им и другу-звукорежиссеру, — пускай и такая. Вперед, орлы!
И началось мучительное составление репертуара, а затем еще более мучительные репетиции. Играть эстрадные мелодии было не только противно и скучно, но и сложно — оказалось, что это совсем другая музыка, требующая другой техники. Пальцы на левой руке ломило от непривычных аккордов, голова была набита тяжелыми, как лишние мысли, чуждыми звуками.
Но так или иначе наиграли дюжину подходящих тем, выступили в «Одной шестой» и имели успех. Их, конечно, не очень внимательно слушали (это было нечто вроде ресторана — стояли столики, мельтешили официантки, одетые, как Гурченко в «Вокзале для двоих»), не слишком бурно хлопали, не кричали «бис», но все-таки… На другой день Паша Гусь раздал участникам по две тысячи рублей.
— Дальше будет больше, — пообещал, — это пробник был, без афиши…
И вот три года группа «Антидот» периодически выступает в этом клубе.
Два последних месяца «Одна шестая» была на ремонте, но вот их вроде снова призвали. Немного порепетируют, вспомнят, сыграются, разучат несколько новых вещей, и понесется новый сезон.
Ездили сегодня много и далеко — по Северо-Западному округу. Дробова тянуло спросить Саню, посмотрел ли он вечером что-нибудь про Барби, может, нашел ее песни, но Саня был таким сумрачным, надутым, что, казалось, любой вопрос может его взорвать.
И все-таки, уже когда возвращались на склад с коробками просроченных «Хайнекена» и «Стеллы Артуа», Дробов не выдержал.
— Да какое там… Разве с этой семьей что-то посмотришь? Вообще что-нибудь сделаешь?.. Только вошел — сразу: надо то-то, то-то и то-то. «Офигеть, — говорю, — я целый день за рулем по этим пробкам». — «Нет, надо срочно, давай».
Дробов поежился: ну вот, очень приятное окончание смены. Теперь сиди и выслушивай. И Саня продолжал изливать свою горечь, правда, в неожиданном направлении:
— Вот правильно у Толстого написано: не женись до тех пор, пока не сделаешь все, что мог, а то истратишься по мелочам. Правильно ведь? — И, видимо, заметив в глазах Дробова изумление, водила объяснил слегка смущенно: — Ну, в школе же проходили «Войну и мир»… Хе, честолюбивые мысли Андрея Болконского.
— Ну да… А ты кем хотел стать?
Спросив это, Дробов испугался возможного ответа: «Музыкантом». И что тогда? Два несбывшихся музыканта в одной кабине…
— Рисовал неплохо, художку окончил, — пробурчал Саня, рывком переключил скорость. — Приехал сюда в Суриковку поступать, и вот…
— И что?
— Ну, с первого раза не поступил, потом армия, а потом снова приехал… женился… Еще до армии познакомились.
— Ясно… А ты откуда?
— Череповец.
Задавать следующий вопрос было неловко: как допрос какой-то.
Проехали в молчании минут пять, и Дробов произнес:
— А жена откуда?
— Да местная. С азээлка. То есть жила в том районе, родители ее на заводе всю жизнь отработали… Пенсионеры. Потом нас всех в Жулебино переселили. Округ-то один, а оказались на задворках…
— И как, больше не пытался поступать?
— Да так… Все как-то не так получилось… В армии в клуб просился, но из художников целая очередь была… Научился баранку крутить — парни научили. Права уже потом получил. И с тех пор вот кручу. То — так, а в выходные по объявлениям грузы вожу. Часа нет, чтоб просто посидеть… Жена еще… Дому десяти лет нету еще, а все течет, кафель падает, обои сползают… Дача разваливается… И все на мне. Как белка...
— М-да.
— Вот и «м-да», — буркнул Саня.
Дробову самому были противны эти «м-да», «ясно», «ну да», но как еще реагировать, он не знал, не умел иначе; и неожиданно сам стал жаловаться:
— У меня тоже почти так же. Музыкой всерьез занимался, думал, это дело жизни. Каждый день играл, кипел весь…
— А теперь?
— Теперь… Теперь — время от времени.
— Короче, смог без этого жить, — покривил губы Саня. — Я тоже смог. Только разве это жизнь? — И самому себе ответил: — Ну, жизнь, конечно, даже не без некоторых удовольствий. Непонятно только, зачем… В последнее время когда удается одному остаться, лечь на тахту перед теликом с бутылкой пива — прямо счастье чувствую. Дышать аж легче… Самому противно.
— А дети есть? — пришел Дробову спасительный больше для себя, чем для Сани, вопрос; показалось, что если не задаст его, в чем-то увязнет, утонет, захлебнется.
— Да е-есть. Дети есть — дочка и сын. Дочке пятнадцать уже. Совсем отдельно живет, хотя и с нами, ясно. Куда тут… Вшестером в трех комнатах. Летом более-менее — женины родители на даче, в основном… Но осень скоро, вернутся… — Саня говорил отрывисто, малосвязно, как говорят люди, у которых внутри клокочет и рвется, и стоило бы кричать, а они стараются выстраивать ровными фразами понятный рассказ. — Но все равно — теснотища. И дочка себе угол отгородила… Я отгородил, конечно, но по ее требованию… И в основном — там. Даже поесть со всеми не заставишь… И где уж тут что… Этюдник стоит за комодом, да, наверно, краски в камень превратились… Нет, с этим — все. С этим, — повторил Саня, почти рыданув, — все-о!
— Да ладно, Саш, на пенсию выйдем и такого зададим. Ты — в живописи, я — в музыке.
— Да? — Саня оторвался от дороги, коротко, но цепко глянул на Дробова. — А будет она?
— Что?
— Пенсия… Ты в штате?
— Нет, на договоре.
— И я. И какая пенсия?.. Не-ет, мы так до конца.
Дробов поежился; увиделось — Саня выкрикивает: «Да пошло оно все!» — и направляет машину на столб или в стену, на встречный поток…
Доехали молча, как-то отдельно, будто кабину «бычка» разрезала стеклянная звуконепроницаемая перегородка.
Дробов сдал просроченное пиво, отнес Свете накладные. Когда вернулся к складу, машины Сани уже не было. Колыхнулась обида — обычно Саня подбрасывал его до метро или хотя бы предлагал, — но досаду быстро сменило облегчение. Эти открывания души еще хуже, чем ношение в себе груза обид и прочего негатива. Лучше уж так, отдельно, молча, по делу… Неформальные отношения на работе, где-то когда-то услышал, — самое опасное дело. Видимо, верно.
Почти бегом до «Авиамоторной», полчаса в метро, заскочил домой за гитарой, снова рысцой к станции, снова метро, и быстрым шагом к базе… То и дело доставал мобильник, смотрел время. Видел, что уже серьезно опаздывает, правда, почти все опаздывают. У всех работа, дела.
Вспомнил, что родителям не позвонил. Позавчера обещал приехать сегодня — о репетиции тогда не знал… Мать просила… Надо хотя бы позвонить… Отец опять рвется на родину. Раза три в год у него эти приступы — отправиться в Свестур.
«Ну куда ты там? — плачуще отговаривает мама. — К кому? Никого ведь не осталось. И как ехать? Как туда ехать теперь?»
Отец давно и тяжело болеет, даже непонятно, чем именно, — то сердце, то давление, то ноги, желудок… Это старость, и не по годам старость — ему всего-то сейчас шестьдесят семь, многие и куда старше активны и энергичны, — а старость по износу. Работал всю жизнь, и вот исчерпал ресурсы до дна… Да, всю жизнь работал — строил дома, — и к шестидесяти стал бессильным, погасшим, именно что пенсионером. Из подъезда в последнее время еле выбирается, посидит на лавке и — потихоньку обратно.
Окончив в Рязани училище, отец приехал в Москву, стал работать каменщиком. Три года прослужил в армии. После нее вернулся в свою бригаду; встретил будущую жену, тоже приехавшую в столицу из глубины страны — из Саратовской области. Года через три после знакомства решили пожениться, в апреле семьдесят второго появился он, Алексей Дробов. В конце семидесятых их семье дали двухкомнатную квартиру в новеньком тогда доме в Большом Тишинском переулке.
На родине мамы Дробов никогда не бывал, а Свестур запомнил. Точнее, помнил эпизоды — как подлетают к райцентру Ермишу на самолетике, и в тесном салоне, забитом не только пассажирами, но и мешками, коробками, возникает радостное оживление. Радостное и тревожное — «сесть бы»; слышится шелест молитвы… Дорога от Ермиша в Свестур была узенькая, автобус, пахнущий кожей и пылью, надсадно гудел, качаясь, как лодка… Запомнились избушки с темными кружевами наличников, куры у хлипких, ни от кого не защищающих заборов, бабушка, тихая, худая, тоже темная, что-то все, казалось, готовившаяся рассказать ему, внуку, но так и не рассказавшая…
Дробову было лет двенадцать, когда ему сказали, что бабушки больше нет. Отец отправился на похороны один, а потом вроде бы совсем забыл о родине. И теперь только, под конец своей жизни, вспомнил. Хочет поехать, увидеть дом, который построил его отец еще до войны…
«Но ведь там другие люди давно, — говорит мать. — Или вообще нет ничего. Столько ведь лет прошло!»
«Надо проверить… посмотреть… — коротко, сквозь немощь отвечает отец. — Земля-то осталась. Наша земля…»
Когда-то они часто ругались. Шумно и многословно. Теперь же крикнут друг другу что-то резкое, почти бессвязное и расходятся в разные комнаты…
Дробов достал телефон, нашел номер маминого мобильного, нажал кнопку с зеленой полоской. Остановился на краю тротуара, слушал длинные гудки.
— Да? Алло?! — как всегда по телефону испуганно стала спрашивать мама. — Алло?!
— Привет, это я, — сказал Дробов. — Извини, что только сейчас звоню.
— А, да-да…
— Как у вас?
— Да так… Сейчас… — Слышно было, что мама куда-то перешла, наверное, подальше от папы. — Успокоился вроде. Телевизор смотрит весь день…
— Ты скажи ему, если снова… Скажи, что съездим. В какие-нибудь ближайшие выходные… Надо все-таки…
— Что — надо? — Голос мамы стал сухим и напряженным.
— Ну, чтоб он побывал…
— Нет! И не надо думать даже!
— Почему?
— Как… как вы туда поедете? — Теперь в голосе послышались слезы. — В поезде трястись с его здоровьем… А потом?
— Ну там ведь автобусы…
— Ты уверен?.. До Ермиша, может, и ходит, а дальше? Там еще километров двадцать… Как? На чем?.. Ну вот вы приедете… приедете, и что? Куда вы там?
— Наверно, гостиничка есть какая-нибудь…
— Господи, да какая гостиница!.. А если он скандалить начнет, людей из дома гнать?.. Сами тридцать лет назад продали, а теперь вот спохватился… И как обратно, если упираться станет? Заявит вот: «Я здесь жить буду!» — и что делать? Что-о?
— Ладно, мам, успокойся. Подумаем… Но надо тоже и ему навстречу…
— Раньше надо было… Ты же видишь, в каком он состоянии… До лифта порой дойти не может, а тут — на край света…
— Ну какой край света.
— Край-край! Ты не помнишь, а я помню. Довезешь его, и там он и... И… — Мама заплакала, — и похоронишь.
— Мам, перестань! — Но странно, Дробов внутренне согласился с этим: «Наверно, так и нужно. Может, отец для этого и рвется на родину — чтоб там умереть». — Я приеду завтра, скорее всего, и решим.
— Ты… — Мама задыхалась от плача. — Ты только обещаешь… Как в другом городе…
— Ну, дел полно. Завтра приеду.
— И Настю хоть привези…
— Да, да. Извини, деньги кончаются… До завтра, мама. Не плачь.
Ткнул в кнопку с красной полоской. Сунул телефон в карман куртки, закурил… Курил очень редко — по три-четыре сигареты в день, — но после таких разговоров не покурить было невозможно.
И главное, общаясь с родителями что по телефону, что вживую, Дробов ощущал себя ребенком, именно каким-то четырнадцатилетним подростком. Невольно продолжал искать у родителей защиты, помощи, а оказывалось, они давно уже не могли ему этого дать… Нет, наверняка могли, но больше ждали помощи от него.
И как быть в этом вот случае? Он понимал отца — отцу необходимо было увидеть родные места, а с другой стороны, как туда его довезти, как там хотя бы ночь перекантоваться, действительно? И что будет в этом Свестуре? Может, глянет на дом, в котором на свет появился, и — инфаркт… Не мог Дробов отговаривать от поездки, отказаться помочь, но и помогать тоже не мог. Как? — оттолкнуть мать с дороги и везти?
Да, надо по крайней мере навестить, внучку им показать. Уже почти месяц не были… А там сентябрь, учебный год. Закрутится колесо жизни с новой силой.
Репетиционная база находилась в бомбоубежище во дворе двух двенадцатиэтажек неподалеку от метро «Профсоюзная». Меж домов — детская площадка, скамейки, стол для домино, деревья и — три толстые трубы, видимо, вентиляции, неприметная бетонная арочка и дверь — вход в бомбоубежище. Несколько комнат там оборудованы для репетиций — есть барабанные установки, усилители, штативы, шнуры; заведует всем этим бывший металлист Валя…
На скамейке возле входа сидели Паша Гусь, Андрей и Ольга. Дробов не видел их почти все лето и сразу отметил некоторые перемены во внешности.
Ольга, три года назад моложавая, сочная, иногда, оживляясь, становившаяся почти юной, еще пополнела, еще больше обабела, что называется; гитарист Андрей, все двадцать лет носящий косуху (настоящую, но все-таки уже почти распавшуюся, истертую местами до дыр), полысел так, что залысины добрались до макушки, и его хвост, собранный из остатков волос, выглядел уж слишком комично, почти как косичка у старинного китайца, и еще это круглое брюхо под майкой с надписью «Dead Kennedys»; Гусь зато был по-прежнему сухощав, аккуратен и издалека выглядел лет на двадцать пять. Точнее, он, наоборот, с годами словно бы молодел и уж точно становился аккуратней; Дробов помнил, каким он был в начале девяностых, — малолетний панк, бухающий, что и сколько дают, угреватый, без зуба, в рваных джинсах, с вечными фингалами и ссадинами на роже… Потом стала меняться одежда, появился зуб; Паша меньше пил, а вот три года назад предложил подрабатывать, играя советскую попсу. «Жить без любви, без любви, без любви не могут лю-уди. Час без любви, без любви, без любви — напрасный ча-ас…»
— Здорово, — сказал Дробов. — А вы чего здесь?
— А где нам быть? — хмыкнул Андрей. — Отель «Челси» далеко…
— Я думал, уже тренируетесь по полной.
— У Вали опять сгорело что-то… паяет… Да и все равно ни Макса еще, ни Игоря. — Гусь достал из чехла с барабанным железом банку «Холстена». — Будешь?
— Блин, ты зачем висельнику веревку суешь. Я и так весь день на пиво смотрел. — Но Дробов взял ее, открыл. — Вообще-то, спасибо. Надо глотнуть.
Ольга сидела на краю лавки, смотрела вперед, но каким-то невидящим взглядом. Рефлекторно подносила зажатую в прямых пальцах сигарету к губам, затягивалась. На земле у ее ног уже лежало несколько окурков.
— Как, смотрел, чем можно репертуар обновить? — спросил Гусь.
Дробов дернул плечами, хотел уже сказать: «Нет, времени не было», — но вспомнил про Барби.
— Была такая певичка когда-то — Барби звали. На самом деле, конечно, по-другому…
— И? — перебил Паша Гусь. — Хорошие песни?
— Не сказал бы, что хорошие, но лет двадцать назад была популярной.
— А что пела-то? — подал голос Андрей. — Любовь-морковь?
— Такую песню помню, — и Дробов не напел, а проречитативил: «Красишь ты ресницы в ярко-синий цвет, ждешь любви прекрасной, а ее все нет».
— А, точно! — оживилась Ольга. — Ба-арби, — протянула с грустной улыбкой, от которой лицо стало еще более бабьим. — Только у нее не эта вещь лучшая, другая была… Сейчас…
— Ну, она нам подходит? — подождав, спросил Гусь.
— Подожди… Как же там… «Часики с секретом… часики с секретом…»
— Попсня наверняка махровая, — проворчал Андрей и глотнул пива.
— Нет, отличная песня. Лирика. — Ольга поднялась, вытянула из кармана узких джинсов мобильник. — Сейчас наведу справки. — Стала искать номер, еще раз улыбнулась: — Барби… Сто лет прошло…
— Кто она такая вообще? — теряя терпение, уставился Паша Гусь на Дробова. — Откуда ты ее выкопал?
— Да вспомнилась вчера. — Дробов начал было рассказывать о том, как собирали с дочкой игрушки и он наткнулся на барби с нарисованными ресницами, но тут же осекся — зачем посторонним это знать? Ограничился лаконичным: — Стал прокручивать в голове, что там было, на стыке восьмидесятых и девяностых, и вспомнилось… Полез в Интернет — почти никакой информации.
— Доча! — заговорила Ольга в телефон. — Там в тумбочке под телевизором кассеты лежат. Для магнитофона! Найди срочно кассету, там на обложке написано «Барби»… Певица такая… И найди песню «Часики с секретом». Спиши слова… Да, очень надо, срочно! По работе!
— Ну, может, это и не стоит того, — сказал Андрей, — раз инфы нет.
— Не знаю, может, — легко согласился Дробов; торчать здесь было скучно, лучше бы спуститься, подключить гитару, поиграть. Хоть что поиграть — просто поизвлекать звуки.
— Сейчас дочка найдет! — объявила Ольга. — Нет, это отличная песня — «Часики с секретом». Спасибо, Леш! — Теперь уже радостно улыбнулась, на несколько секунд став симпатичной девчонкой.
Появился клавишник Игорь с синтезатором в длинном футляре.
— Привет! Репа-то будет?
— Ну да, надеемся. У Валька поломка опять какая-то, обещал позвать. — Гусь достал очередную банку. — Подкрепись пока.
— М-м, спасибо. А чипсов нет?
— Хм!
— Понял… Когда выступление?
«Не „концерт”, — отметил Дробов, — а „выступление”. Скоро вообще в ВИА превратимся». И вспомнил: иногда их так и объявляют — в формате клуба: «Выступает вокально-инструментальный ансамбль „Антидот” — антидот против псевдомузыкальных наносов нового тысячелетия».
— Седьмого числа, — сказал Паша. — В пятницу.
У Ольги затрезвонил телефон.
— Алло! — отвернулась она от парней, медленно пошла по двору. — Нашла? Списала? Прочитай… Ну читай, пожалуйста!..
— Нашел какие-нибудь новые темы? — спросил Игоря Паша.
— Кузьмина слушал. Можно оттуда пару-тройку вещей снять.
— Пару-тройку? Ха-ха! Нам бы хоть одну успеть.
— Ну, на будущее. Там такие проигрыши…
— Ребята, есть ручка, бумага? — подскочила Ольга.
— У меня нету, — сказал Паша.
У Дробова тоже не было.
— Офигеть! Вы же поэты все.
— Не сыпь соль на рану!..
У Игоря отыскались в кармашке футляра листочки с аккордами и карандаш; Ольга устроилась на скамейке, подложила под бумагу чехол с тарелками, стала записывать.
— А что она? — кивнул Игорь на Ольгу.
— Да текст записывает. Барби какой-то.
— А?
— Лех, — Паша страдальчески скривился, — объясни. Ты всполошил.
Дробова мгновенно захлестнула волна раздражения, усталости. Отвращения ко всему этому, даже к гитаре.
— Охренеть! Я вообще могу ничего не предлагать. Вообще…
— Ладно-ладно, хорош. Просто тошно — девятый час уже. Пока настроимся, и — ночь.
— Я надеюсь, — сказал Андрей, — это время, пока мы тут, репетицией не считается?
— В смысле?
— Ну, мы за сейчас платим? У меня лично денег в обрез.
— Нет, наверно. И никогда не платили. Пургу какую-то порешь… — Гусь глянул на часы: — И Макса до сих пор нет.
— Все, записала! — Ольга закурила новую сигарету. — Действительно, песня отличная. Даже образы есть.
— А что за песня? — снова стал спрашивать Игорь. — Чья?
— В общем, в начале девяностых, — почти по складам стала рассказывать Ольга, — появилась такая певица — Барби. Псевдоним, в общем. Совсем девчонка…
— Марина Волкова ее зовут, — вставил Дробов.
— Да?.. Ну хорошо… Спела несколько песен и пропала. Как и не было. А раскручивали ее мощно… Все, короче, о ней забыли, а Леша сегодня напомнил.
— Не все, конечно, забыли, — усмехнулся Дробов. — В инете пишут. Прочитал вчера, что вроде спилась… Тогда еще замуж вышла, разорвала контракт, а потом что-то не сложилось…
— Она вообще молоденькая была, — вторила Ольга. — Лет шестнадцать…
— Так, все! — поднял руку Андрей. — У меня башка сейчас лопнет от вашего треска. Давайте по существу.
— А вот и Максик! — кивнул Гусь в сторону несущегося к ним бас-гитариста.
— Ну все, я начинаю. — Ольга махнула листом.
— Погоди, Макса дождемся.
— Да ему все равно что играть.
— Он тоже имеет право голоса.
Макс уже подбежал, извиняющимся тоном стал здороваться, но, узнав, что репетиция еще не началась, расслабился, заулыбался. Принял у Гуся банку пива.
— Мне можно читать? — строго спросила Ольга.
— Теперь — да.
— Спасибо. — И она начала с выражением, как отличница в школе:
Мне так с тобою нравится,
А без тебя — засада,
Слоняюсь я по комнате,
Сама себе не рада.
Мальчишка мой единственный,
Соломенная стрижка,
Носи меня за пазухой,
Ведь я твоя малышка.
И припев:
Ты подарил мне летом
Часики с секретом,
Когда со мной ты рядом,
Они идут, как надо…
— Это же эта пела!.. — воскликнул Игорь и стал щелкать пальцами. — Эта!..
— Барби, — досадливо сказала Ольга. — Альбом «Азбука любви».
— Да какая Барби… Елена Белоусова пела!
— Игоре-ок, — Ольга зарычала, — не путай и дай мне дочитать.
— Да Белоусова! Я еще запомнил, что там в тексте «соломенная стрижка», а в клипе — мулат какой-то стриженый.
— И кто такая эта Белоусова? — уныло спросил Андрей.
— Да какая разница?! — дернулась Ольга.
— Андрюха прав — мы должны знать, чьи песни поем…
— Это Барбина песня!
— Оль, я точно помню, что ее Белоусова пела.
— И кто это?
— Жена Белоусова. Вдова, точнее.
— Ой, блин, — Андрей потер глаза. — А кто такой — Белоусов?
— Женя Белоусов. Ты его «Девчонку-девчоночку» три года играешь.
— Так бы и сказал — жена Жени Белоусова… Без имени я его не воспринимаю.
— Ну, что ж поделаешь, — усмехнулся Игорь. — Она вообще всего несколько тем спела, Белоусова, и потерялась. Какой-то скандал случился, ребенка у нее отобрали…
— Из-за чего? — заинтересовался Макс.
— Да не помню. Кажется, голой сфоталась, а отец ребенка разозлился…
— Ребята-а, — словно будя их, заговорила Ольга, — вы в какую-то хрень влезли. Вам не кажется? Причем здесь Белоусовы, ребенок, кто как сфотался?..
Дробов тоже почувствовал некую нереальность спора. Словно они здесь, в этом дворе, стали ловить привидения.
— А вы не думаете, — сказал Паша Гусь, — что сначала одна пела, а потом другая?
— И обе плохо кончили, — зловеще добавил Андрей.
Макс попытался пошутить:
— Кончали, может, и хорошо, а вот закончили, действительно…
— Да, потерялись конкретно, — согласился Игорь. — Про Барби не в курсе, а Лена…
— Ну, ты еще маленький был при Барби, — перебила Ольга. — А нашему поколению она запомнилась. Своя девчонка и по возрасту, и по всему, и — звезда.
— Да сколько их было, — отмахнулся Андрей и допил свое пиво.
— Нет, Барби особенная была… Может быть, потому и не выдержала этого ужаса шоу-бизнеса…
— Ладно, все, — остановил Андрей, — надо с песней определиться — будем или не будем. Меня лично текст не впечатлил.
Ольга тут же захныкала, почти искренне:
— Андрюш, хорошая песня получится. Я в следующий раз запись принесу. Давайте разучим, я классно петь буду.
— А не боишься, — хмыкнул Гусь, — что тоже испаришься, как эта Барби?
— И Лена Белоусова, — добавил Игорь.
Лицо Ольги напряглось, разгладилось, стало и красивым, и одновременно жутким, как у неживой.
— А что мне терять? — как-то горлом спросила она. — Меня и так как бы нет.
Она замолчала, и остальные тоже молчали. Дробов, не поворачивая головы, оглядел доступное глазу пространство.
Дом, белье на некоторых балконах, на площадке дети играют, к скамейке подбирается голубь, мечтая найти какие-нибудь семечки; над домом сочно-синее, уже предвечернее небо. Без туч… Вроде все нормально, спокойно, а в действительности… Вспомнился фильм «Ночной дозор», и послышался шепоток прячущейся повсюду, под каждой тенью, нежити. Ждущей момента, чтобы накинуться.
И, видимо, это казалось не только Дробову.
— Пойду узнаю, что там… — вскочил Гусь. — Как играть через неделю? — ни фига вспомнить не успеем.
Он дернул дверь, исчез в полутьме. Дверь за ним медленно закрылась. Ольга почти про себя, ласково и жалобно запела, глядя в бумажку:
Мальчишка мой единственный,
Соломенная стрижка,
Носи меня за пазухой,
Ведь я…
— Объясни мне, Оль, — заговорил Андрей, — что такое «соломенная стрижка»? Я понимаю, это волосы могут быть соломенными. А стрижка?..
— Не глумись! — противно, тонко крикнула она. — Это… Не мешай мне вспоминать!
— Вспоминай у себя в кровати! — криком ответил Андрей.
— Погоди… Нет, — сказал Макс, — в натуре хорошая песня получиться может. Народу такое нравится. Душещипательная. Я уже фишку для своей партейки придумал.
— Фигня это. — Андрей вытряхнул из пачки сигарету. — Вообще фигней мы занимаемся. Да. Просто убиваем свои жизни…
— Хэй! — высунулся из-за двери Паша Гусь. — Заработало!
Парни похватали чехлы и футляры.
— Слава богу, — выдохнул клавишник Игорь, — чуть все не перегрызлись окончательно.
В ласкательном падеже
Алехин Алексей Давидович родился в Москве в 1949 году
Алехин Алексей Давидович родился в Москве в 1949 году. Поэт, эссеист, критик. Автор нескольких поэтических книг. Главный редактор поэтического журнала «Арион». Постоянный автор «Нового мира». Живет в Москве.
Лодочник
русский лодочник
совсем не то что катание в лодке под Аржантейем
(см. холст Э. Мане
в Метрополитен-музее, Нью-Йорк)
в белых брючках и майке с загорелой мускулатурой в шляпе с лентой
с бабой в сиреневом платье
наш в брезентовой робе
дымит папироской на свае глядя в реку
летальный исход населения из страны
похож на лесосплав
березы на том берегу мочат в воде отражения голых ветвей
под небом цвета пятирублевки кто помнит
ну да
мы все уплывем в дощатых подземных лодках
затянет под сваи
и лодочник будет шевелить нас багром
а после покурит опять
любуясь
на то как ворона пошире расставив ноги
расправляется с рыбьей головой
на замусоренном песке
да и не лодка у него а тачка
с лопатой вместо весла
Кровельщики
небо у нас дырявое
сучковатое все в свалявшемся ватине
в дождь сверху каплет
гость приезжал
рассказал как у них
дачная местность
славится кучевыми облаками
так хорошо посидеть в плетеных креслах
поговорить о левкоях
надо б и нам как у людей
то освоение арктики то постирушка
так и умрем под новости в телевизоре
уж осень
стропила ветвей сквозят
и в прорехи залетают птицы
да кровельщиков не дозовешься
одни кладут голубую плитку над Флоренцией
другие кроют золотой парчой Стамбул
пришли-таки двое
татарин и чуваш с руками в синих наколках
весь день колотят
прибивают к небесам башмачкинское суконце
пошли нам Господи шиферу
Ямб о русском климате
Прогноз погоды ничего не обещает...
Кошка Иова
памяти нашей кошки
1
Кому помешала моя кроткая ласковая кошка?
Ты почему убил ее?
Ладно, не убивал, зачем не уберег?
Я понимаю, отчего убираешь людей, от них мало проку.
Но кошки безгрешны.
И без нее мир теперь не так красив.
Прошел дождь.
Значит, где-то там ее дивная шубка мокнет и расползается в грязном бурьяне?
Отвечай!
Слушай, верни ее мне.
Или расположи там у себя на небе.
Молчишь?!
Ты, Ты, Ты!..
Вот, я плюнул в небо.
Убивай и меня, Мясник!
2
во мне
по зеленой траве
по-прежнему ходит полосатая кошка
топорща усы...
Болезнь
кашляю кашляю
и мне отзываются соседские собаки
Больница
это школа
где люди учатся
не быть
За круглым столиком
он смотрит мимо бокала
она себе на руки с догорающей сигаретой
и эта размолвка длится уже восемьдесят лет
с тех пор как парижский фотограф нажал свою кнопку
в 1932-м
...в длинном зеркале позади тех двоих
размазаны долгой выдержкой плечи танцующих женщин
резко вышел только высокий затылок какого-то мсье
в брильянтине
Тот язык
все младенцы
плачут повсюду на одном языке
а взрослые сколько их есть
всякий думает и молчит на своем
не только люди
вот кошки объсняются в любви на итальянском
а собаки ругаются по-немецки
и не понимают друг друга
я знал вавилонского строителя с плотницким карандашом за ухом —
тогда он проспал в каптерке миг
и остался немым
только гукает и слюнявит свой карандаш
лишь там на облаках
все говорят на одном по-довавилонски
сплошь из неправильных глаголов
с полусотней падежей на все случаи жизни
родительным дательным винительным
звательным просительным благодарительным
ругательным умолятельным врательным простительным
а мне тут
довольно тебя произносимой ночью и днем
в ласкательном падеже
Антресоль
загробная жизнь возможна
ведь мы
по образу и подобию Божию
и тоже храним
свои старые игрушки на антресолях и чердаках
только бы Он
не надумал переезжать
Давай расстанемся на лето
Киров Александр Юрьевич родился в 1978 году в г
Киров Александр Юрьевич родился в 1978 году в г. Каргополе Архангельской области. Окончил филологический факультет Вологодского педагогического университета. Прозаик, поэт, эссеист. Автор трех книг повестей и рассказов: «Митина ноша» (Архангельск, 2009), «Последний из миннезингеров» (М., 2011), «Полночь во льдах» (Дюссельдорф, 2012). Лауреат Всероссийской книжной премии «Чеховский дар» в номинации «Необыкновенный рассказчик» (2010). Живет в г. Каргополе. В «Новом мире» публикуется впервые.
Просидев полдня в одной очень известной социальной сети, я отправился навестить своего друга. Он жил в другом конце города. Не дойдя квартала до его дома, я услышал треск и увидел довольно большое количество дыма, тянущегося как раз оттуда, куда я шел. Тогда я побежал. Первый этаж деревянного дома, в который я направлялся, был объят пламенем и дымом. У подъезда суетились жильцы. Вдали завыла пожарная сирена.
Не найдя среди людей тех, кого хотел навестить, я пулей взлетел по лестнице наверх. Без стука распахнул дверь и увидел… как мой друг, его отец и мать — ужинают.
Все они посмотрели на меня как на полоумного, а потом вдруг засмеялись.
— Давай за стол! — буркнул отец друга и потянулся к буфету, чтобы достать оттуда рюмку.
Конечно же, они не были никакими пьяницами. Просто любое застолье в их доме — событие ритуальное. Мой друг, хороший повеса, мог не прийти домой ночевать, но чтобы опоздать к обеду или ужину… Это было против правил.
За просторным, во всю кухню, столом, на котором стояло множество тарелок с простецкой снедью, эти люди… разговаривали! Каждый день. Столько, сколько позволяли обстоятельства. И казалось, что могли разговаривать бесконечно.
Они не болтали попусту. Всегда что-то обсуждали. То футбол, то политику, то рыбалку, то стройку. И моего друга, который учился средненько и метонимию называл «метомимией», учителя побаивались и не трогали именно за то, что у него была собственная жизненная позиция. Свой взгляд на жизнь. На кино. На литературу. Повторюсь: притом, что в учебе он был, мягко говоря, не Эйнштейн.
В прихожей стоял буфет с двумя пепельницами на нем. Слева. Справа — газовая плита с баллоном. Умывальник. Бачок с водой. Их дом был неблагоустроенным. С общим холодным туалетом. Но моих знакомых это как-то не удручало. Зато в квартире были очень высокие потолки. А на стене, если отодрать три слоя обоев, можно было найти газеты конца девятнадцатого — начала двадцатого века. Изначально дом был — купеческим.
Из прихожей вы попадали на кухню. Прямо у порога высилась огромная русская печь с полатями. На ней постоянно подсушивались пачки с недорогими терпкими сигаретами. Из кухни две двери вели в разные комнаты, но сейчас речь не об этом.
Я даже запомнил, что у них на столе. Кастрюля с ухой. Три глубокие тарелки (при моем появлении мать товарища пошла к сушилке, стоящей на шестке, за четвертой, а отец полез в буфет за рюмкой). Накрытая полотенцем кастрюля с вареной картошкой. Большая тарелка с жареным лещом. Сковородка с котлетами. Миска с соленым грибами, залитыми растительным маслом и обсыпанными тончайшими колечками лука. Банка со свежепросоленными огурцами. Тарелка с хлебом. И бутылка самогона.
Самогонный аппарат гостеприимные хозяева прятали, но прятали по привычке и словно бы сами над этой привычкой шутя: агрегат стоял за занавеской в прихожей.
И вот все они смотрели на меня.
Невысокий, коренастый друг. Такой же невысокий, но высохший от жизни и седой — его отец. Полная женщина в очках, мама друга, в домашнем халате и тапочках без задников. Друг и его отец оба были одеты в старые спортивки и футболки. Друг сидел за столом в коричневых носках, отец его — босиком, вжимая потрескавшиеся пятки в прохладный, свежепокрашенный деревянный пол.
Они жили своей жизнью. В своем мире. Испытывали свое счастье.
И как же велик был мой сумасшедший соблазн сделать вид, что ничего не происходит, усесться за стол — и навсегда остаться в их мире!
Но у меня был свой мир. Свои родители. Кроме того, я был уверен, что если мой друг и его родители останутся живы, это будет лучше для них, чем если они умрут, тем более сгорят заживо. Поэтому я и крикнул:
— Сидите? Ужинаете? Дом горит! Внизу уже все занялось. Быстро выметаемся все отсюда! Быстро выметаемся все отсюда!
Потом реальное время было подчинено времени художественному. Помню только, как друг неестественно хохочет и помогает пожарному выбивать окна. Потом — стою на улице. Отец друга рядом, курит. Скулы острые.
— Телевизор сперли, — негромко говорит он то ли мне, то ли никому.
У дома обваливается крыша.
Выше — дым от пожара.
Еще выше, в небе — перелетные птицы.
Весна.
Май.
— Навсегда.
Моль встряхнула головой, разом сбросив накопившийся хмель.
— В смысле?
— Давай расстанемся навсегда, — с трудом выговорил Блондин.
Колян поспешно потянулся за полторашкой с разведенным спиртом.
Надька с чего-то захихикала.
Но все эти неуклюжие попытки выправить пикник разом как обрубило.
Над небольшой полянкой повисла недобрая тишина.
И тогда Моль снова тряхнула головой. Заводясь. Или, вернее сказать, пытаясь завести себя…
Нет, такого еще не бывало.
И виновата в этом была, пожалуй, сама Моль.
В свои неполные двадцать она знала про себя совсем немного, однако и этого малого хватало ей для того, чтобы вести себя так, а не как-то иначе.
Пожалуй, она знала о себе пять вещей.
Во-первых, что она не красавица.
Следовательно, во-вторых, не нужно затягивать конфетно-букетный период в отношениях с противоположным полом.
И в-третьих, нужно давать этому самому гниловатому и шаткому полу время от времени изгибаться влево. Это дает возможность и самой двигаться в том же направлении, таким образом избегая однообразия в одной из трех отрад жизни (первая — пожрать, вторая — выпить).
В-четвертых, если выполнять первые три пункта, мужской пол будет чувствовать себя ей обязанным и себя перед нею виноватым.
В-пятых, двумя этими чувствами: благодарностью неблагодарного пола и виной нужно пользоваться в том направлении, которое тебе интересно и которое ты себе не можешь позволить или, вернее, которое тебе могут не позволить, не будучи благодарными и обязанными.
Словом, Моль была нормальным людоедом человеческого сообщества и давала этому самому сообществу отщипнуть и от себя кусок-другой (не больше) — авось не убудет. Проценты оказывались слаще разменной боли.
А Блондин… Что Блондин? Девки его бросали, потому что он бухал. И не просто как все, а без перерыва. Они сидели в кафе, и Моль сказала: «Я хочу спирта». Блондин предложил: «А может, шампанского?». Моль повторила: «Спирта». Блондин сказал: «У меня есть спирт. Дома. Пойдем сходим вместе». И они ушли вместе за спиртом, а обратно в кафе не вернулись. Наутро мать метелила Моль полотенцем, а Блондин стоял под окнами и бросал камушками в стекло.
Через год Блондин устал. И тогда Моль сказала ему: «Давай расстанемся». — «В смысле?» — не понял Блондин. «Давай расстанемся на лето». И они расстались на лето, а осенью Блондин снова стоял под окнами и бросал в стекло камушки, а мать метелила Моль полотенцем.
Прошел еще год.
И теперь, после тысячной ссоры, Блондин сказал: «Давай, расстанемся».
И этот вопрос выбил Моль из колеи. Вышиб из ее головы хмель. Блондин не сказал: «На лето». И она спросила: «В смысле?..».
— Да пошли вы все в жопу!
Моль громко засмеялась и побежала через майский лес прочь от Блондина, Кольки и Надьки.
— Беги, беги, — процедил Блондин и рявкнул на Кольку: — Наливай, че уши развесили, как глухой с пидарасом?
Надька опять хихикнула.
Колька налил.
Выпили почему-то не чокаясь. Да и что за радость — чокаться пластмассовыми стаканчиками…
Эх, та была еще парочка, Колька и Надька.
«Хрен да уксус», — метко называл их Блондин.
«Хреном» была Надька. Она всегда находилась в приподнятом настроении. Даже когда у нее однажды стырили пустой, но все же кошелек — только похихикала.
Надька училась в классе коррекции. Там было несколько человек, которые не хихикали даже — ржали по любому поводу. Так что Надька была еще ничего. А были и такие, которые плакали. Колька, например.
Все его, Кольку, били-били, били-били, били-били. А потом его подобрал Блондин. И Колька стал ходить за Блондином. И никто больше не бил Кольку. Колька отдавал Блондину карманные деньги, дежурил за него по классу. И стоял на стреме, когда Блондин тряс окраинные сарайки и стремительно стираемые цивилизацией ларьки со всякой дребеденью. На ларьке и погорели. Сцапали по условке. И вылетели из школы в лицей, как была официально названа вчерашняя гопа.
К тому времени Моль с Надькой тоже были лицеистками. Надька за Молью таскалась навроде как Колька за Блондином. Моль хоть и училась тоже раньше в классе коррекции, но без причины не плакала и не смеялась. Просто родители потеряли ее однажды, нашлась в притоне. С тех пор и пошло.
А тут Моль скорешилась с Блондином. Колька с Надькой обнюхались: ну дык. И получилось две пары. А все из-за того, что Моль однажды не захотела шампанского, предпочтя ему чистый спирт…
Не торкнуло.
Выпили по второй.
Первым не выдержал Колька.
— Догнать надо, — угрюмо пробубнил он.
— Вот и догоняй, мля, — рявкнул Блондин.
И вдруг сам рванул в лес.
— Чего он? — хихикнула Надька.
— Машина вроде едет. Помнишь, как прошлый раз…
Надька помнила.
Машина тогда оказалась милицейской, и Моль в течение пятнадцати суток подметала тротуар в окрестностях памятника Ленину. Время от времени туда приходила мать и била Моль полотенцем.
— А вдруг не машина. Помнишь, тогда…
Это было еще до расставания на лето. Блондин застукал Моль с поличным в сарайке и долго бил и таскал за жидкие волосы по огороду. Моль засадила Блондина на пятнадцать суток. Он грузил кирпичи в окрестностях памятника Ленину. Время от времени туда приходил отчим Моли и бил Блондина кулаком под дых…
— Ты посиди тут, лады?
Надька хихикнула и кивнула.
Через час она перестала хихикать и собралась идти следом за друзьями, но задремала.
Во сне к ней приходила Моль и грозила пальцем. Плакала и, чего не бывало раньше, гладила по голове.
Через два часа Надька замерзла, проснулась, подкинула веток в огонь и снова задремала.
Через три часа она окончательно проснулась, потому что замерзла нестерпимо, веток в костер подбрасывать не стала, а пошла следом за всеми в темный лес…
Когда Блондин рванул следом за Молью, с ним произошло то, чего он никак не мог добиться на протяжении всей попойки в лесу. Моча, щедро перемешанная с C sub 2 /sub H sub 5 /sub OH, стукнула ему в голову, и, пробежав метров сто, Блондин зашатался и рухнул в кусты. Он еще пытался ухватиться за ветки и встать, но лишь перекатился со спины на бок. Тут силы покинули его, он уронил голову в мох и захрапел.
И не слышал, и не чувствовал, как пронесся в метре от него преданный Колька, который, при всем благородстве своих порывов, совсем не ориентировался в лесу, да и не только в лесу — и потому ломанулся гораздо правее того направления, в котором побежала Моль.
Провалившись через двадцать минут по колено в болотину и почуяв неладное, Колька бросился обратно, снова отклонился, окончательно заплутал и прокричал что есть силы:
— А-а-у-у-у…
Но, представив себе ярость Блондина, покой которого он мог потревожить, закрыл рот и, продолжив искать выход, побежал в направлении, которое подсказал ему невесть откуда взявшийся внутренний голос.
Лишь когда Надька, дрожа от холода и озноба, вышла к Блондину, найдя его по храпу, и ее сбил с ног какой-то грязный, оборванный, безумный человек, в котором она не сразу признала Кольку, стало понятно, что милый нашелся.
Разбудить Блондина не получилось, поэтому, оттащив друга от лужи блевотины, Колька с Надькой вернулись к костровищу, развели огонь и стали мучительно греться.
Часам к шести утра они заклевали носом, но тут у Надьки запиликал мобильный и одновременно из чащи показался дрожащий от холода и не только от холода Блондин.
— Алло! — крикнула Надька в трубку.
Но телефон разрядился.
У Блондина сотик как таковой отсутствовал. У Кольки он разрядился еще вечером и за неделю до этого был отключен за долги.
Издав горлом торжествующий рык, Блондин вытащил из рюкзака разведенную полторашку со спиртом. Веселье продолжилось…
Проснувшись часов через десять, трое подумали, что пора бы, наверно, двигать домой. Блондин уверенно вывел всех на шоссе, до которого было всего ничего: пятнадцать минут скорым шагом. Через полчаса приспела попутка. Спустя еще полчаса Блондин, Колька и Надька приехали в город и разбрелись по домам с общим желанием — поспать.
Но дома их уже ждали.
Блондину — отчим малолетней любовницы, Надьке — мать подруги, Кольке — участковый задали с порога один и тот же вопрос:
— Где Моль?
И все, и всем ответили на этот вопрос другим вопросом:
— А разве она не дома?
— Нет, — ответили каждому из них.
Тут Надька хихикнула, Колька заплакал, а Блондин выпалил соленые, но только не капли, а словечки, коих не сыскать ни в одном словаре мира.
После этого Надька на некоторое время выпала из истории.
А вот Блондин и Колька, напротив, активно в нее впали.
Стырив у отца из гаража допотопный «Минск», Блондин свистнул через забор кореша, топнул по кикстартеру и умчал Кольку к месту даже не вчерашнего, а сегодняшнего еще веселья.
По дороге их обогнала одна машина с мигалкой. Потом вторая.
Однако, доехав до свертки, с которой сутки назад четверо еще представителей непопулярной и, безусловно, исключительной, а также исключенной из реестров современных социологических исследований группы двинули в лес, двое идущих по своему собственному вчерашнему следу недоуменно переглянулись, благо мотоцикл стоял в стороне, а они, шагая по асфальту, изучали местность.
Мимо проезжал трактор.
— Стой! — махнул рукой Блондин.
— Слышь, батя, — обратился к старику, сидящему за рулем, Колька. — Куда все менты едут?
— Дык о-он тады, — показал старик рукой дальше вдоль по дороге. — Нашли там чтойт кого.
— А… далеко? — каким-то детским голоском пискнул Блондин.
— Дык недалео-око, километров десиить.
Старенький и видавший виды мотоцикл «Минск» никогда до этого не переживал подобной трансформации в быстролетную птицу.
Но смерть обогнала «Минск» еще в первой серии.
Свернув по какому-то непонятному наитию с основного шоссе на проселочную дорогу, Блондин и Колька где-то через час подлетели к кортежу, перед которым стояло человек пятнадцать народа. Продравшись через них, Колька завыл в голос, а Блонин попятился, бросился бежать, но замер на полушаге и медленно, точно ему на ноги навесили пудовые гири, вернулся.
Вдавленная лицом в грязь, мертвая, у обочины лежала Моль.
Лейтенант Иванов простудился еще накануне вечером.
Лейтенанта прохватило ветерком на берегу порожистой реки, где он отдыхал вместе с семьей.
Простуда была ерундовая — насморк. И обращаться с ней в поликлинику, стоять в огромных очередях — совсем не хотелось.
Поэтому лейтенант вышел на дежурство.
Он патрулировал шоссе в окрестностях города.
Иванов вяло и апатично штрафанул двух «гонщиков». Заставил «подышать в трубочку» одного подозрительного подростка, ехавшего на своем скутере слишком близко к середине дороги. Проверил документы у водителя машины с надписью «Огнеопасно» и у шофера какой-то газели…
Почему Иванов тормознул тот красный жигуль, он и сам не мог себе объяснить.
С «газелью» еще не разобрался, как вдруг, неожиданно для себя, маханул палочкой.
Жигуль выезжал из города и послушно остановился.
И водила был в норме.
И техосмотр у него был пройден.
И перегаром не пахло.
И зрачки были как зрачки, а не что-то эквивалентное старым монетам.
Вот только желание вытряхнуть этого стриженного с фиксой из машины и сделать так, чтобы за руль он сел как минимум не скоро, преследовало Иванова даже тогда, когда жигуль скрылся из виду, удаляясь от развеселого местечка, названного далекими предками Воронье Поле.
Инспектор впал в апатию и за оставшиеся четыре часа смены проверил еще пару машин, въехавших в город с разных сторон.
БМВ и КамАЗ.
И ничего вроде бы особенного. Но что-то не давало ему покоя.
А Иванов был натурой тонкой, чувствительной.
Перед школой милиции, а точнее, полугодовыми курсами он закончил физмат. С трудом удержался от поступления в аспирантуру, но до сих пор тайком от самого себя нет-нет да и представлял доцента Иванова, профессора Иванова, вещающего с кафедры МГУ или чего попроще, но так, чтобы ему внимали умные, адекватные, интересные люди, а не всякое быдло с трудноразличимой синей «мушкой» около верхней губы, о значении которой знают лишь те, кто провел за колючкой лет дцать: по ту или эту сторону проволоки.
Ни доцентом, ни профессором Иванов так и не стал. Но интуиция обманывала его редко.
Моль торкнуло по-своему.
Она не утратила возможности передвигаться на своих двоих, но несколько потерялась во времени, пространстве и, главное, в голове.
Довольно скоро выбравшись на дорогу, Моль махнула рукой перед бензовозом, который обдал ее водой из выбоины на бетоне, презрительно фыркнул и промчался мимо.
Моль сначала ругнулась, а потом задумалась, в какую же сторону движется бензовоз. Проще: в город или из города. И что именно находится слева, а что справа. Где свое, хоть и Воронье Поле, и где Печниково, деревня, находящаяся прямо в противоположной стороне.
За размышлениями прошло около получаса.
Потом на дороге показался красный жигуль, и Моль, решив, что такая жестянка может двигаться только в Воронье Поле и никуда больше, замахала руками.
Жигуль уже пролетел было мимо, но тут водитель ударил по тормозам, так, что машину аж завернуло бампером влево — капотом вправо, — и распахнул дверцу.
— Прошу, — призвал Моль какой-то слишком спокойный и невозмутимый голос.
— …А я ему: «За пацанячью уважуху!». Говно вопрос! Базара нет. Владимирский централ…
Все так же слишком невозмутимо, но куда как более утомительно для единственной слушательницы доладонил все тот же голос через полчаса.
— Че за митуса… Ростовские пацаны! Они его на перо, а я им: «Скрипач всегда в законе!».
Вещал он же через час.
— …А я ему: «Сегодня фраер, завтра…».
— Слышь, дядя, — перебила говоруна Моль. — А сколько еще до Вороньего Поля?
— До Поля? — как-то застенчиво засопел «дядя».
— Ну.
— Шисят кэмэ взад.
— Так какого ты…
Жигуль ударил по тормозам и почти сразу помчал дальше.
Моль осталась у обочины.
Ее обволакивала темнота, и Моли показалось, что в этой темноте она не одинока.
Темнота не была абсолютной.
В километре угадывались огоньки деревеньки.
По шоссе издалека приближался грохот какой-то машины.
Словом, было не страшно.
Однако Моль вздрогнула, когда под ухом раздалось дребезжащее:
— Куда полетела?
Вслед за этим зажегся фонарик, и Моль увидела рядом с собой маленькую, как девочка-подросток, старушку.
— Никуда, — буркнула Моль, которая, вообще говоря, не сильно жаловала стариков, слишком уж много зла принесла ей врожденная наблюдательность соседок.
— Кто куда, а кто и никуда, — вздохнула старушка. — Шут с тобой. Подь-ка за мною.
— Так машина же, — кивнула Моль на приближающиеся фары.
— По-одь. Ма-ши-на, — ворча, передразнила ее старушка.
Моль отмахнулась и подняла руку, чтобы голосануть, но тут спирт опять коварно торкнул ей в голову (сказалась полуторачасовая вонючая духота в жигулях «тюремного волка»), и она вновь очнулась оттого, что идет следом за старушкой.
— А ты-то чего, бабушка, тут делаешь? — вдруг засомневалась Моль.
— Да вот тоже внучку встречала, — пробурчала старуха и ускорила шаг.
«Врет, старая», — подумала Моль.
Но старая не врала.
Бабку звали Анной. Ей было восемьдесят четыре года по паспорту и восемьдесят два по факту.
Внучка была на самом деле троюродной племянницей. Звали ее Наськой. И про бабушку Наська забыла. Приехать она обещала неделю назад, и если не приехала до сих пор, то, значит, и не приедет (такое уже бывало), потому что в городе гуляет, или, по словам Анны, «сучит».
Выслушав эту в высшей степени поучительную историю, Моль вскарабкалась на высокую кровать с пружинным матрацем, накрылась с головой одеялом и провалилась в небытие.
Она сидела в каком-то узком и тесном помещении с дурацкой банкой пива в руках.
Пиво было теплым и мерзким.
Слева по борту несло потом.
— Давай-ка, отсоси разок, — раздалось оттуда.
Моль с удивлением повернула голову и увидела забавного толстячка, маленького, метр с кепкой, с улыбающимся лицом и в темных очках. Толстячок взял ее руку и положили себе на…
— Ты че это удумал, батя, — хмыкнула Моль.
— Отсоси, говорю, — промурлыкал толстячок.
Возникла пауза, которую толстячок прервал недовольным кряхтением.
— Эх, всему вас, молодых, учить надо, — все так же по-добренькому проворчал он и расстегнул джинсы.
Во сне Моль представила, как повела бы себя на ее месте Надька, и сначала захихикала, а потом заржала в полный голос.
— Ты чего, — просипел толстячок.
— Ма… ма…
— Че смиесси?
— Маленький какой у тебя…
Толстячок снял очки, и Моль увидела, что глаза под ними были абсолютно мертвыми.
— Сука, — процедил толстячок и неожиданно схватил Моль за горло левой рукой.
Моль сидела в деревенской избе и пила чай. Чашка была маленькая, треснутая, с аляповатым расплывшимся цветком. Блюдечко белое, отмытое словно специально к ее приходу. До этого она безо всякого аппетита запихала в себя тарелку супа. Чтобы не воняло, сухарями сверху засыпала.
Слева значилась лежанка. На ней сохли семечки. Много семечек. Семечки были, наверное, невкусными, пережаренными. На деснах от них вспухали какие-то невидимые заплатки и больно саднили.
Еще левее стоял диван. Жесткий старый диван, из которого «сыпался песок». Подлокотников у дивана не было. Вместо них — розовые валики. Если вытянуться на этом диване, то один из валиков неизбежно слетит на пол.
Между лежанкой и диваном ход в «ту комнату», как говорит Анна. В спальню то есть. Там шифоньер посередине. Стол-деревяшка у окна. Две кровати в разных углах и лаз в подполье. На шифоньере черно-белый телевизор «Рекорд». Ламповый, тяжелый. Зачем — хрен его знает. Назначение швейной машинки и двух утюгов разных исторических формаций тоже оставалось для Моли загадкой.
Зала — о, прихотливая фантазия плотников! — меньше спальни.
Справа от стола — телевизор. Старый, но хороший, японский. А вот антенна — говно. На экране помехи. И телеведущая кажется гостьей из будущего. Она говорит о кризисе. Говорит жизнеутверждающе и смотрит на бегущую строку. Гнида продажная.
Над телевизором — картина допотопных времен. Узловатый, жилистый старик смотрит из-под руки на Моль, то есть вдаль, стоя у сохи. На нем белая нательная рубаха и просторные домотканые штаны. Привет, старик. Домостроевский. Домостроевски-Достоевский.
Тем временем Моль допивала чай. Единственное вкусное на столе — пережженные сухари из сладкой булки. В суп Моль добавляла черные сухари с солью. Но и тех и других умяла по блюдцу.
Анна предложила еще чаю, но Моль отказалась.
Встала и пошла в спальню. Из-под крышки подполья дуло. Само подполье было, по словам Анны, в половину ее незначительного роста. Когда она опускала туда несколько ведер картошки, все ждала крысы, которая кинется в лицо. Пеша не ходил к плотникам, когда они строили ему дом, не угощал их водкой и не вел с ними разговоров. Поэтому у Пеши такое подполье. И спальня больше залы. И приличная комната через холодный коридор. Там раньше держали поросят, маленьких поросяток первые два-три месяца их жизни, поэтому Анна комнату сию называет поросячьей. Еще в ней какое-то время жили квартиранты, но квартиранты пили портвейн и бросали бутылки в сортир — тайно. По весне эта тайна всплыла, и квартиранты из поросячьей комнаты ушли.
Моль стояла в старом деревенском доме. Смотрела в окно и слушала историю Анны.
— Я родилась на мельнице.
Мать положила меня в шапку и повезла домой.
Это было в двадцать девятом году.
В сорок третьем надо было отправить меня на лесозаготовки. И в сельпо мне сделали рождение с двадцать седьмого. Девка там одна померла, так дали ее справку. А так-то я не Анна, а кто я и шут знат.
Родилась я в браке и при отце, но дома его не было, и домой он не вернулся. Жил где-то на заработках, там и помер от холеры.
Мне было год, я этого не помню ничего. Муське, сестре, той было три. Она что-то такое видела.
Мать пошла пасти коров. И одну потеряла. Бегом к предцедателю. На ту беду милицанер у предцедателя сидел. Как заорет: «Да я тебя посажу к такой-то матери!». Мать пошла обратно корову искать. Ходила-ходила по лесу. Смотрит — на изгороди у пастбища огрызок веревки. Она взяла да и повесилась. А корова через день сама нашлась.
Нас Анисья забрала. Материна седьмая вода на киселе. Ну, понятно дело, кое-чего из нашего хозяйства к себе прибрала. Ладно. Проходит месяц. Пришли за нами из города.
— Где? — спрашивают.
А Василий, правнук Анисьин, на полати кивает. Мы там обитам.
— Слезайте, — говорят.
Мы слезли.
— Пошли в приют.
А Муська как закричит:
— Не хочу в прилуп, не хочу в прилуп!
Василий ей:
— А не хошь в прилуп, дак полезай обратно на полати.
Ой, а лучше уж в прилуп, чем опилок исть, как в войну.
В школу ходила. Учитель у нас был старый старик. Придем. Он зевнет: «Ой, робята, что-то голова у меня болит. Давай не будем сегодня учиться». Мы и не станем учиться. Пойдем бегать. Начальну школу кончила, стала в город ходить. Бабка испечет мне на неделю вон этаку, с ладонь, лепешку — я и потопала. В четвертом классе два года сидела. В пятом три. А потом бросила. Ума нет, дак ушла в няньки.
Тут лесозаготовки приспели.
Мы там с мужиками в одной бане мылись.
Первый раз срамно было. Но мужики у нас хорошие.
— Давай, говорят, девки. Лезьте в угол. Чего мы у вас не видали.
Не обижал никто.
Ну, кончилась война. Дальше всяко-разно было. Работали так, что спать ложилась на голую лавку, под голову полено, рядом с лавкой ведро, а в нем будильник. Это чтоб на утренню дойку не проспать.
Потом отдали меня за Гешку, Пешина сына. Пеша сосватал. Привел из нашей деревни в райцентр корову и меня. Гешке семнадцать было, а мне уж тридцать весен.
Гешка на спор мешок соли на голове поднял. С той поры начались у него помутнения. Хотя други люди говорили, что на самом деле Пешина зазноба Клаше, жене Пешиной, в чашку с вином шепнула. Правда ли, нет ли — этого я не ведаю. Так иль не так, а больной он сделался, хозяин-от мой. Но здоровый был Генька! Мужики на стройке вчетвером бревно за вершину тащат, а он один у комля стоит. А раз у соседей все до единого стекла высадил. Так его три наряда милиции забирать приходило. Он хороший, Генюшка. В больницу его на два месяца увезут, дак он потом полгода лучше лучшего. И ноги еле переставлят. А выпил стакан — и опять зашаяло. То подслушивают его. Надо проводку рвать. То подсматривают за ним. Давай перегородки везде колотить.
При родителях он еще туда-сюда — держался, словом. А как померли…
Совсем Гешка с головой весь измучился. Да и я с ним тоже. Раз уксусу выпил. Глотку сжег, а внутрях как-то обошлось. Другой раз таблеток нажрался — ничего. А третьего разу пошла я на работу. На кухне больничной была, врачиха-соседка пристроила. Смена в пять утра начиналась. Время полпятого утра. Он сидит в зале, ножом себя в пузо тычет. «Прощай, — говорит, — Нюра!» Прихожу, лежит в кровище, дергается еще. Я сходила к соседям в баню, вымылась, чаю напилась. Прихожу. Мать ети! Живой. Пришлось «скорую» вызывать. Откачали.
Детей — нельзя. Был сынок — Господь прибрал. Больной Сашенька родился. Прожил два года, а не научился не то что вставать, а и на бок поворачиваться. Орал так, что всей улицей качали.
Еще до Сашеньки к соседям я прибилась. Через огород врачи жили. Стала им помогать. Ребятишек у них двое было, так я лет шошнадцать к ним и ходила, пока не уехали. То с маленькими повожусь, то печки истоплю, то полы вымою. А больше-то —душой отдыхала.
Работала, конечно, тоже. И в магазине уборщицей. И на кухне судомойкой. Но эта работа с фермой в сравненье нейдет. Не-ет.
А с Генькой так мы и жили. То тихо-мирно, то горе-горевали. Глядь, дело к старости. Не те уж развороты. У Гешки здоровье сдавать стало. Поговорили мы с врачихой. Изладили справку. И забрали Геннадия в дом для этих. Хроников. Плакал, бедный, как уезжал. «Нюра, прости… Нюра, оставь… Хорошо вести буду!» Да куды мне его. Там он теперь. А я одна. Наська от недавно объявилась. Топерича иногда наведывается. Если денег нать. А не нать, так не наведывается. В городе сучит.
Анна сидела за столом с важностью и спокойствием министра иностранных дел.
И слушала историю Моли.
— У родоков поначалу все хорошо складывалось.
Мать отсюда в Москву сорвалась. Замуж там вышла. Она ведь грамотная у меня, умная, хоть сейчас и чучело с грязной тряпкой. Ну и, короче, забеременела.
Забеременела она, значит. Время рожать. А тут отец чего-то пить стал. Говорят, матери моей тоже кто-то усуропил, навроде Пешиной сударки. Жили они вроде нормально. Комната в общежитии. Работали на заводе. Даже деньги получали. Это в начале-то девяностых, прикинь? Чего еще?
Но забухал батя. Мать переживала. Не знаю, как чего, но родила она нас — и сама чуть не померла. Кровотечение сильное.
— Кого — нас? — не поняла Анна.
— Ну меня и сестру, кого еще? Нас двое было. Сестра умерла, а я — нет.
С отцом после этого — по нулям. Все собрала, меня в охапку — и обратно в Воронье Поле. Сбылась мечта идиота.
— Пошто так-то? — укоризненно покачала головой Анна.
— Ну а как еще сказать? Работы никакой. Денег нет. Квартира у черта на куличках. Устроилась кое-некое уборщицей. Соседи одежду детскую, какая была, нам отдавали, будто нищим. Да нищие мы и были. Век не забыть. Сядем пустой чай пить. Мамка мне: «Сходи к соседям, песочку попроси».
— Ходила?
— Ходи-ила. Куда деваться. Песочку… Хлебушка… Косточек…
Садик плохо помню. Дразнили за лохмотья — это да, это как-то отложилось. Зато пожрать можно было. Потом — школа. А я к тому времени поняла, что, если хочешь выжить, бей первой. В школе меня уж никто не трогал.
Там Надька появилась. Пугало огородное. Я за ней присматривать стала. Зато все задания, все палочки, кружочки — это мне Надька делала, добрая душа. Я ей тоже, кстати, пропасть не давала.
В пятом классе образовалась у меня грудь. Титьки, значит. И стали на меня парни засматриваться. А к тому времени в магазинах уже все появилось. Появилось-то появилось. Батончики всякие… Чипсы там, орешки. И хочется, и денег нет. Но титьки-то выросли. Куда их? Титьки-то, конечно, и у других девок расти стали, но те все стеснялись, сутулились. А я — наоборот. Грудь колесом…
Парни сначала смеялись. Потом стали приглашать… В беседке вечером посидеть. На бережок сходить. Постарше, конечно, парни. Я все Надьку с собой таскала на случай чего. Знала уже, откуда дети берутся. Парни нас семечками угостят, орешками этими, батончиками. Ну, руки, конечно, под кофтой погреют. У меня Надька-то сбоку припека, чтобы из дому выпустили. Рядом болталась. Не понимала ничего.
Тут как-то позвали меня в подвал. Родители в трехэтажке общажной подвал деткам своим отдали, чтобы хоть под боком были, если что. Под видом спортзала. Но в спортзале этом, скажу я тебе, бабка, спортзалом если только пахло. От физических упражнений. Без треников которые, короче.
Я пришла. И как-то так получилось, что без Надьки. Парни какие-то. Имен даже не помню. Наливают мне лимонаду из бутылки. Бульк-бульк. И вырубилась я. Очнулась оттого что толкают. «Иди, — говорят, — откуда пришла». А я и встать не могу. Уточкой поплелась. Раскорякой. Даже не сказала, гадам, ничего.
Дома, понятно. Тряпкой грязной. Донес матери кто-то. Кто-кто… Они ведь не только сделали, но и растрепали: такая-то порвана. Меня из обычного класса в коррекцию.
Дома — концлагерь. Мать мужем обзавелась. Он мужик хороший. Но строгий. Пальцем не трогал меня. А мать во всем поддерживал. Вот их как бы и двое сделалось. А я одна. Если к двенадцати домой не приду, мать отчима за мной на поиски отправляет. Прикинь, сидим с пацанами в беседке, вдруг он приходит. Он мне-то ничего, а парням… Рука у него тяжелая. Но я и тут приспособилась. Хотя пришлось, конечно, уже поаккуратней…
Потом Блондин нарисовался…
— Какой такой Бляндин? — открыла рот Аннушка.
— Ой, бабка, лучше тебе и не знать. Слушай, вымоталась я что-то с нашими разговорами, да и от вчерашнего еще не отошла. Давай, кемарну чуток, да буду добираться до Ворполя. Лады?
— Вались, — несколько обиженно пожала плечами Анна. — Мне что.
И Моль повалилась.
И Моль провалилась.
В кошмар.
…Когда толстячок сдавил ей горло, Моль засмеялась еще громче.
Потом она почему-то оказалась на улице. Толстячок пинал ее ногами, а она все ржала и ржала: «Маленький… Ой, какой он у тебя маленький».
Во сне Моль не чувствовала боли, хотя явственно слышала, как сломались ее пальцы, на которые толстячок с размаху опустил свой маленький, но тяжелый ботиночек…
Пока Моль спала, Анна смотрела на нее и смотрела сквозь нее, словно вспоминая про то, что забыла или просто не захотела рассказать своей случайной или не случайной знакомой.
— Летит птица тонка, перья красны да желты… — повторял и повторял Николка с рождения известные ему слова.
Николка стоял лицом к стене и глаза, завязанные материным платком, для торжественности момента сверху еще и руками закрыл, остальные дети попрятались в маленьком доме Бахаревых. Взрослые работали в поле. Старая бабка Анисья спала в горенке. Да она все время спала, вставая с кровати только к ужину, чтобы согреть самовар для пятидесятилетних детей, тридцатилетних внуков и малолетних правнуков своих. Разбудить Анисью было невозможно так же, как нельзя было изменить движение времени.
— Бабка Анисья помрет скоро, — шепнула Муська Анютке и сделала страшные глаза. — Она сама говорила.
— Ой! — испугалась Анютка, но почти сразу нервно захихикала.
Девочки схоронились под столом в зале, чтобы не быть найденными в числе первых. Но зайцев охотнику надо было еще догнать, ведь ход вокруг русской печи круговой, а «заячьи лапки» с черными, не по-детски ороговелыми пятками, хоть маленькие, но очень-очень быстрые.
— Летит птица тонка, перья красны да желты, по конец ее… — повторил Николка предпоследний раз.
Вячка затаил дыхание на полатях. Он по годам самый маленький — Вячка. Ему не убежать от охотника. По негласной договоренности — его находить нельзя. Но он вредный — до жути. Когда слепой охотник начнет вкруг печки гонять зайцев, Вячка свесится с полатей и будет однообразно дразниться, как дразнятся непривычные к городскому острословию деревенские дети: «Э! Э-э! Э-э-э!».
Васька залез под одеяло на отцовской кровати. Забился между деревянным щитом и стеной, осторожно отодвинув от темных крепких бревен плотно сбитые доски. Васька бегает быстро, верток, прыток. Салить его будет сложнее всех.
— Летит птица тонка, перья красны да желты, по конец ее человечья смерть, — повторил Николка последний раз.
— Ружье, выстрел! — ответила ему пустая деревенская изба разноголосым детским хором.
И тут… Такое чувство жизни охватило вдруг восьмилетнего охотника. Он уже представил себе, как тихонько, на цыпочках пойдет вокруг печи; как будет примечать шорохи, скрипы и шепотки, от которых братаны и сестрички не удержатся ни в коем случае, как снова станет у стены и начнет голосом бухать по-взрослому: «Анютка и Машка — под столом. Васька — на кровати. Вячка — в подполье». Про Вячку он специально наврет, чтобы брательник заерзал, захихикал на неудобных досках там, вверху, чтобы заверещал в кулачок от восторга. Николка видел во времени еще дальше — как придут домой с поля родители, и как бабка Анисья перед этим поставит самовар, как родители и дедка с бабкой будут долго бряцать ведром на колодце, а потом усядутся за стол, как…
Николка обошел печь, вернулся к стене, повернулся к ней лицом и грозно выкрикнул:
— Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват…
А потом взял в руки отцовское ружье, которое до этого на свой страх и риск снял со стены. Протяжно вздохнула во сне столетняя бабка Анисья за стеной, в горенке, куда прятаться было нельзя.
Зайцы знали, что по одинке Николка изловит их быстрее быстрого, поэтому удирали от охотника всем скопом, а грозный, но слепой до конца игры человечек с ружьем то медленной поступью шагал за ними, то подбегал трусцой, то мчался во все лопатки, рискуя споткнуться во временной темноте, — и тогда визжал даже Васька.
Что-то особенно задорное было сегодня в этой вечной игре, такое, что Вячка тихонько сполз с полатей и, забившись в самое сердце зайчиков, молча, сопя от восторга, перебирал короткими ножками.
Николка дал мелочи пузатой порезвиться всласть, создал видимость того, что сегодня охотник устал, что маленькие зайки могут отбиться друг от друга и по одному сновать у него под носом. Ушастые попались на эту уловку.
Первым проскакал зайчик Вася и даже потанцевал, выворачивая ручки и ножки, на миг остановившись перед самым ружьем.
— Ба-бах! — загрохотал Николка, наставив на двоюродника ствол.
Потом пробежали так и не отставшие друг от друга Муська с Анюткой. Пробегая мимо Николки, они не выдержали и тоненько завизжали, лишь только охотник повел дулом ружья им вослед.
Про Вячку Николка не знал.
— Заяц на полатях зажарен! — крикнул Николка.
Вячка, давясь от смеха, тихой сапой крался перед самым его носом.
— Заяц на полатях…
Тут Николка сделал то, что собирался сделать всю игру, да вот до сих пор не собрался; то, что строго-настрого было ему запрещено; то, говоря о чем отец становился серьезным, а дед, принесший с войны давно уже похеренного детворой Георгия, почему-то бледнел.
Николка взвел и нажал курки. И мир, маленький мир его детства, раскололся на две половинки.
Николка лежал на сеновале трое суток. И только бабка Анисья, кыршая своими чудовищными башмаками, приносила ему какие-то куски. Приносила в тот час, когда она обычно спала. Складывала эти куски рядом со сжавшимся в комочек и уткнувшимся глазками в намертво сжатые кулачки охотником — и уходила прочь.
На четвертые сутки за мальчиком пришел дед, положил свою тяжелую руку ему на плечо, произнес ласково:
— Пойдем, давай, Николушко, в дом.
В доме Бахаревых о Вячке не заговорили больше ни разу. Дети росли. Родители работали в поле и в лесу. И грела самовар столетняя бабка Анисья.
Да и с тех пор прошло уже почти сто лет. Бог его знает, когда почила Анисья, когда и как ушли из жизни родители Васи, Николки и бедного маленького Вячки. Эту историю, нарушив почти вековой запрет, мне рассказала древняя Анна на поминках по Муське, старшей сестре своей.
— …Так и промаялись обе всю жизнь. И с мужьями не повезло, и детей Бог прибрал. Я вот думаю, почему не меня тогда ухлопало? Не Муську? Никто нам, конечно, ничего такого не говорил, но…
Я так и не спросил у Анны о старой бабушке, о дедке с бабкой, о приемных родителях, когда узнал, что Василий, директор завода, жил в засекреченном городе и уж лет тридцать как помер от сердца…
— А Николку, того на войне убили.
Дело в том, что я знал Анну.
И даже некоторое время был ее соседом. Некоторое время — это несколько отпусков, которые ваш покорный слуга неизменно проводил в деревне.
Большой отпуск — единственное преимущество моей странной должности.
Учитель литературы в агропромышленном лицее.
Моль — моя ученица…
Хорошие уходят, плохие остаются.
Так можно сказать о моей работе.
Не могу сейчас простить себе той язвительности, с которой делал замечания в начале и середине девяностых, ставя двойки тем, кому можно было бы поставить тройки, и ставя тройки тем, кто заслуживал с огромным минусом четверки.
Хорошисты всегда составляли большую половину группы.
Троечники — другую половину.
Ну и отличники с двоечниками попадались — бывало.
Напомню, что затем в стране произошло массовое убийство детей, которое осталось незамеченным единственно потому, что младенцы не родились, а были убиты во чреве своих матерей сердобольными абортмахерами или сгнили в китайских презервативах на городских свалках (упырихи с идеями тотальной контрацепции рыскали повсюду).
Вообще, настоящим терроризмом было бы изобрести машину времени, вернуться в девяностые и сделать так, чтобы все девочки и женщины залетели. Это была бы большая победа, но это — увы — невозможно.
Так вот, с шутками и прибаутками угробили несколько десятков миллионов детей, стабилизировали экономику и стали жить-поживать, добра наживать.
Но только вот 1 сентября нового века и тысячелетия в русские школы идти зачастую было некому. Такое уже бывало в нашей истории. После Великой Отечественной. Однако в гораздо меньших масштабах.
По злой иронии судьбы, в девяностые не родились отличники, хорошисты и девять десятых троечников.
И однажды я заметил, что на иных уроках… Не осталось даже подобия тех, кому тройки раньше можно было бы натянуть.
Что тут натягивать-то?
«После километрового марш-броска 1805 года началось страшное событие. В России было трудное время. Шла война. Военачальники были почти одни американцы и побеждать им особо не хотелось. Человек было и так не очень много. Наполеон узнал главное место русских. Сделал план, подложил между пушками взрывчатки. После чего напал на них. Когда был бой, было ничего не заметно, а когда взрывчатки начали взрываться, то под ихним ударом убыли две лошади и оторвали ноги у штаб-офицера. Военачальник Тишин стал развязывать взрывчатки. Но было уже поздно. Им был дан приказ отступать, но они не стали. Так российская армия потеряла много человек и потерпела поражение».
Это Надька отличилась.
«Французы наступали дважды на Русск. И все время проигрывали. После всего этого они стали отступать во главе с Тушиным. Но после очередного проигрыша он был очень зол и все приговаривал: ёРастреляем мы еще этих муравьев!” Как только он приложил руку к пушке, так из-за спины раздался голос офицера, который отправил его на задание. Он начал что-то проговаривать ему, и вдруг раздался выстрел, пуля ранела офицера. Он вскарабкавшись на коня и закричав: ёОтступаем!”
Но солдаты ничего, не сказав продолг свое задание.
И вот через недолгое время появился князь Андрей и проговорил такие слова ёОтступаем!”».
А здесь порывом вдохновения была одержима Моль.
«Кумушки», как все называли Моль с Надькой, приходили ко мне исправлять двойки по пятницам. И когда мы после уроков оставались втроем, девочки менялись, становились простыми, милыми, добродушными, по-своему очень обаятельными.
Но как только возобновлялись уроки, возвращалось и непонимание. Один раз я не выдержал и задумчиво протянул: «Интересно, доучитесь ли вы до конца». Кумушки замолчали и обиженно посмотрели на меня. Как дети, у которых игрушку отобрали.
«Конечно же, доучитесь», — улыбнулся я, но стало мне как-то нехорошо.
Иду, помню, в день убийства на урок в эту группу. Девки в ступоре. Кто-то плачет. Пришли с выходных и сразу узнали такое.
Я предлагаю помолчать (у самого голос перебило), а потом начинаю рассказывать про Конан Дойля: отец-алкоголик, пансион, казенщина, бедная мама, ненавистные Шерлок Холмс и доктор Ватсон и устойчивое ощущение, что в жизни тебя поняли не так, как ты того хотел.
И расшевелил их потихоньку. Домой задал рассказ проанализировать. Про апельсиновые зернышки. А найдут ли убийцу в этой истории, которая более в духе Достоевского?
Нет больше кумушек. Надька одна бродит по колледжу. Черная и в черном. Как мумия высохла. Вчера документы хотела забрать, да отдумала. В ночном магазине «Ассоль», где она летом продавщицей работала и куда вернуться намеревалась, продавщицу зарезали. Вот и стоит Надька у доски, молчит, глаза таращит, а в глазах — тоска беспросветная…
Моль просыпалась очень медленно.
С трудом вспомнила, где она, кто она.
Оторвала голову от подушки.
В кухне горел свет и шумел чайник.
Анна собирала на стол.
— Садись чай пить, девонька. Потом провожу на дорогу.
— Дома убьют, — пробубнила Моль и побрела к умывальнику.
Анна странно посмотрела на нее.
— Поговорить надо, — буркнула она, когда Моль отхлебнула все из той же аляпистой чашки душистого крепкого чаю.
— О чем…— начала Моль, но осеклась.
В голове опять пошло через пень-колоду.
И она вырубилась прямо за столом.
Сломав ей пальцы на обеих руках, страшный толстячок обвел глазами место пытки.
Рядом с Молью лежал увесистый булыжник.
Небрежно, словно разминаясь, толстяк обрушил его на голову девушки.
Она потеряла сознание и поэтому не чувствовала, как скользкий камень раз за разом вминается в ее череп, окрашиваясь в красно-бурый цвет.
Во сне Моль умерла и оттого проснулась в деревенском доме.
— Пошли? — спросила Анна.
Старуха была уже одета в фуфайку, серый платок и стоптанные валенки.
Моль встряхнулась и встала.
— Пошли.
Этот уютный домик начал действовать ей на нервы.
Шагали в темноте.
Анна освещала дорогу своим маленьким фонариком.
— Осталась бы, — робко предложила она, — пожила лето.
— А дома чего? — пробурчала Моль.
— Ну оно и понятно. Мать… — в словах Анны чувствовалась искренняя озадаченность.
И Моль шла, петляя по неизвестным ей темным и потому невидимым тропам, о существовании которых она даже не подозревала еще двое суток назад.
— Причапали, — возвестила, наконец, Анна.
Они оказались на вчерашнем месте. Моль даже увидела след от красного жигуля.
— А вон и машина твоя.
Вдалеке на дороге загрохотало.
И обострившимся зрением Моль угадала: это несется машина, за рулем которой сидит улыбчивый толстячок в темных очках.
— Бабушка-бабушка, бежим отсюда, — присев, запричитала она. — Бабушка-бабушка, это же смерть моя сюда летит. Лютая смерть.
— Чегой-то тебе приблазнило, — хмыкнула Анна.
— Бабушка…
Но было поздно.
Машина вдруг притормозила, не доехав до Моли метров сто.
Водитель включил свет. И Моль увидела, как в кабину, где за рулем, словно на троне, восседал маленький убийца, лезет…
— Надька, — только и смогла прошептать она.
Все замерло. И это мгновение могло длиться целую вечность, но Моль повернула голову к старухе и одними губами прошептала:
— Бабушка, пошли…
Хлопнула дверца.
Машина пронеслась мимо них и, обдав горячим ветром, пропала в темноте.
«Я все придумала-придумала-придумала, — затараторила Моль внутри себя. — Мне все это…»
— Не показалось.
Моль медленно повернула голову и заново увидела свою маленькую старушку.
— Ну, поняла теперь? — угрюмо спросила Анна.
Моль поняла. Ее бил крупный озноб.
Обратно шли молча, как сговорившись не обсуждать ничего.
Ночь прошла без снов, какой-то темной бездной.
Утро, вопреки кошмарам, было солнечным.
За окном пели птицы.
На кухне кипел чайник.
— Вставай, девонька.
Май на дворе.
Земля ждет.
В первый день сажали картошку.
Моль, вспоминая детство, копала в земле, перепаханной кем-то ночью или ранним утром, лунки. Анна бросала туда клубни и посыпала золой. Моль разравнивала землю.
Перед обедом Анна заговорила.
— Эх, жать хорошо и косить благодать.
А картошку копать, так и…
— Мы же садим, а не копаем.
— Придет время, и копать придется. Что думашь.
За обедом Анна вздохнула:
— Царствие небесное всем крещеным.
— Чего это ты? — удивилась Моль.
— А вот желаю здравствовать на небе. Успокоились, значит.
— А мы с тобой, бабка, значит, не успокоились.
— Кто успокоился, а кто и…
— Чего?
— Чего нать.
Анна должна была прийти в десять, накормить меня блинами.
То есть, конечно, ничего Анна не была мне должна. Просто так повелось.
В десять Анна не пришла.
И в одиннадцать не пришла.
Я обиделся, прождал до двенадцати и сам пошел к соседке из полупустой деревни под названием Печниково.
Вопреки названию, в деревне уже давно была своя котельная, обслуживающая несколько благоустроенных домов.
Труба торчала высоко над крышами одноэтажек и двухэтажек. И только трубу было видно на подъезде к деревне: окраинные дома терялись в зарослях борщевика и чертополоха.
В окне на кухне горел свет. Я постучался и дернул дверь, которая была явно заперта изнутри. Пробежался по окнам. Тщетно. Все занавешено, нигде ничего не видно.
Подумав минуту, я отправился обратно к себе. Вытащил из кладовки монтировку и через четверть часа постиг ремесло взломщика, выломав замок и с мясом вырвав железный крюк, державший дверь изнутри.
Анну я нашел сразу.
Она лежала на полу и слабо стонала.
— Ты чего, бабка? — присел я на корточки.
— Уау. Ы.
«Скорая» приехала через час.
— ЧП тут у вас, — с порога оправдалась немолодая фельдшерица. — Убийство на проселочной дороге. Ну где там бабушка… Д-а-а-а-а. Тут надо срочно в терапию.
Я быстро скидал вещи в рюкзак, запер дом и отправился на «скорой» сопровождающим лицом…
Фельдшерица с водителем унесли Анну в палату.
— Посидите пока тут, — было сказано мне.
И я остался на диванчике в коридоре.
Неожиданно из палаты раздался крик. Послышалась какая-то возня. Потом все стихло. Минут через пять ко мне подошла одна знакомая старушка, одетая в больничный халат.
— У нас в палате женщина умерла.
— Анна? — вскочил я с места.
— Нет, Марья. Место освободила. Надолго ли? Очень уж Анна худая.
— Скажите, а надо чего? У нее же никого, кроме меня. Что в таком разе приносят?
— Памперсов побольше. Влажных салфеток. И сиделку надо. У нас тут сервис… так себе.
И потянулись часы, полные ожидания плохого и хорошего, минуты высоких устремлений духа, противостоящие дням низких потребностей тела.
А потом я забыл про Анну.
Надвинулись события другие, как виделось, более страшные.
На второй день сажали грядки.
— Ты, эвон, граблями-от по краям пройди… Но-о. Теперя бери палку. Ну доску, тур с им. Переворачивам. Считай: раз… два… три. Все! Надави маленько. Да надави, не бойся! Дальше.
И Моль снова делала то, чего не делала уже очень давно. Бросала в бороздки семена укропа и редиса. Вдавливала в рыхлую жирную землю пузатые луковицы. Выкапывала пальцем лунки для свекольной рассады.
— Из тя хозяйка была бы ядри мать! — кивнула в конце Анна. — Пошла чайник ставить. Струмент прибери во двор. Гостью ждем. Одна знакомая. Хорошая баба. Только седни померла.
Гостья была малоразговорчива.
Жадно ела вареную картошку. Шумно пила чай.
Все крестилась, крестилась.
Моль, которой велено было молчать, не сводила с товарки глаз.
«Интересно, она понимает?» — крутилось в голове.
Анна не гадала, потому что знала: понимает.
— Ну что, Марья, где лутшая: на этом свете ли на том?
Марья поправила свое любимое белое платье в зеленый горошек:
— На том лучше. Тойсть уже на этом. Пролежней нет.
— То-то. Иди отдыхать. С обеда нать траву косить. Наросла.
— Не могу. Епертония.
Анна укоризненно посмотрела на Марью, та покубатурила что-то и махнула рукой.
— По-ойдем. Что-о…
На последнем уроке делали стенгазету под названием «Одна большая семья». А просто народ надо было чем-то занять. Все повернулись на этой истории с Молью. Только Блондин молодцом. Через два дня после дела выгуливал по городу новую подругу. А Моль все лежала в морге. Как сказали родным, «с телом работают эксперты».
Работайте. Только что вы найдете? Все теперь ездят на машинах. В одном Вороньем Поле сотни машин. Город находится на трассе. Придорожный асфальт бороздят десятки тысяч колес. Как узнать, какие из них пронесли убийцу? А может, он и не уезжал никуда? И не на колесах мимо Моли проехал? Может, он местный? Деревенский?
— Материал не стремно псевдонимом подписывать? — поинтересовалась Маслова и кокетливо зарделась.
Она была здесь отличницей, уникальной в своем роде.
Я кивнул.
Маслова что-то еще хотела сказать, но зарделась окончательно и отошла к другим девочкам. В тесном кругу Брагина шепотом рассказывала анекдот про поручика Ржевского…
У ворот лицея стояли цыгане. Седая гадалка попросила у меня сигарету. Я поделился. Не жалко.
— И прикуриться.
Я чиркнул зажигалкой, не предложив вдобавок разве что еще и свои легкие напрокат.
— Отрока ищете, — шепнула цыганка, глубоко затягиваясь дымом.
— Чего?
— Плохого отрока. Очень злого. Точно говорю, — убежденно кивнула она и скорым шагом пошла к своим.
— Вы о чем? — догнал ее спину мой дрожащий голос.
— Катит, катит колесо! — не оборачиваясь, пробубнила цыганка и подняла вверх левую руку с дымящейся сигаретой.
Я исподволь вздрогнул.
— Подростка? — хохотнул мой знакомый следователь, но сразу осекся. — Не лезь ты в это дерьмо. Подростка… Уже нашли, может быть, подростка твоего. Пятидесятилетнего. Телефончик мобильный вывел. Сначала трубу отключил, а потом Надьке на кой-то ляд позвонил. Она там как «сестра» в контактах значится. Пьяный был в дым — не иначе. Поизгаляться захотел. Хотя… Только ты про все это пока ни гу-гу.
Телефон оказался у водителя красных жигулей, который действительно подвозил Моль. И сознаваться в том, что это он отправил Моль к праотцам, вчерашний зэк не торопился. Даже напротив. Да, подвозил. Да, разговаривали. Нет, не приставал. Выяснила, что поехала не в том направлении. Остановился, выпустил. Обратно не поехал. Примета, мля, плохая.
— Знаешь, дождемся экспертизы, но у меня такое чувство, что это не он, — процедил мой знакомый следователь и повторил: — Не суйся ты в это дерьмо.
И я отправился в больницу к Анне.
Здесь нужно сделать отступление, чтобы пояснить, кто это — мой знакомый следователь — и чего это он со мной разоткровенничался.
Дело было лет за десять до случая с Молью и прочими.
Сын следователя учился в лицее. Я был его классным руководителем. Летом дети захотели идти в поход, но не знали толком леса. Я тоже был не ах какой инструктор. И тут один из пацанов предложил, чтобы нашим проводником стал его отец:
— Он же у меня потомственный охотник…
Дядя Славик, а именно так его звали, расположился у костра напротив меня.
Нас разделял огонь, и что-то мистическое было в этом разделении. Голос Славика превращал слова в образы, образы в картины, картины — в движение, протаскивая меня через все круги адского пекла.
Я помнил эту историю, но помнил ее так, как о ней было написано в газетах и рассказано в популярной передаче.
Славик не забывал ее по другой причине. Именно он нашел и задержал ублюдка, которого даже циничные следаки называли не иначе как Упырем. Радость была горькой. Дядя Славик нашел Упыря слишком поздно, тот успел убить одиннадцать женщин: шесть толстух и пять красавиц.
— …Знаешь мою жену?
Я кивнул, представив себе эту миловидную женщину с приветливой и немного загадочной улыбкой.
— Она долбанутая, — доверчиво шепнул мне Славик и продолжил уже в полный голос, вспомнив, что, кроме озера, леса и поля, нас никто не слышит: сын Славика и другие парни спят в палатках, а в привидения Славик не верит. — Я тогда с горя и от бессилия запил. Меня турнули. Оказался я на еенной шее. Денег нет, работы нет, на халтурах бухлом рассчитываются. В огороде копаться — сил нет. Дети маленькие… МЛЯ-А-А!!!
Поругался с женой. «Если на бутылку не дашь, — говорю, — пойду в сарайку и застрелюсь». Она отвечает: «Иди ты…». Только не в сарайку, а в другое место. Я ружье хвать — и пошел. Сел на чурку. Слушаю. Не идет. Бум-с из двух стволов в потолок. Минута проходит — нет. Две — нет. Десять минут проходит — никого. Коллеги приехали, руки мне крутят — пусто. Я им говорю: «Погодите, парни, я с вами поеду без сопротивления. Только подождем, выйдет она или нет».
Час прождали. Они за это время забирать меня раздумали. «Давай, — говорят, — капитан, ружье да иди спать». Захожу домой, жена на кухне сидит. Грустная такая… «Слав, — говорит, — давай поросеночка возьмем, а то совсем жрать нечего…» Я: «…!» А она: «Не ругайся, Слав, я чувствовала просто, что не будешь ты себя кончать, а то бы тоже — вот». И показывает мне кухонный нож. Я: «Да шут с ним, с этим. Ты че мне раньше про хряка не сказала!».
Славик неожиданно заплакал. Я обошел костер, сел рядом, положил ему руку на плечо. Нужно было как-то поддержать рассказчика:
— Не зря конфликтологи утверждают, что противоречия нужно не загонять внутрь, а вытаскивать наружу.
— Во-во, — всхлипнул Славик. — Катьку бы спас.
— В смысле?
Славик неожиданно сквозь слезы лукаво посмотрел на меня:
— Не нашенской ты закваски.
Я обиделся и вернулся на свое место.
— …не ментовской.
Тут до меня начал доходить зловещий смысл Славиных слов.
— Так я понял, для чего Упырю нужны были жертвы типа толстухи. Враз протрезвился — и рванул на службу. Докладываю: так и так. А на меня смотрят как на идиота. «Лечись, — говорят, — Славик». Я по кабинетам… А потом понял, что снизил число подозреваемых намного — с миллиона до ста тыщ. Думал снова запить, но чувствую: он уж недалече. И опять начал рыть по жертвам типа красавицы. Знаешь, что меня торкнуло?
Я покачал головой.
— Начисляй. Пока не начислишь, не скажу.
Я начислил.
— Ну ладно. Кассета мне одна попалась… Они уж тогда открыто продаваться стали. Слышал, наверное, про такое дело. Ну, когда типа трахаются — и фоткаются или на камеру снимают.
— Порно, — подсказал я.
Слава хмыкнул и кивнул.
— Посмеялись надо мной, короче. «Это же целая структура — порнобизнес», — говорят.
И точка.
Оставались цацки. Плюс его величество случай.
И вот в одном городе, в одной скупке мужик один вспомнил, что четыре года назад был… Как же он брякнул… Нетипичный случай. Сплющенные кусочки золота. Но не запомнил он толком этого клиента. Рост средний, шапка на глаза, очки-хамелеоны… Тогда я подумал. Он же скряга деликатесный. Ну не будет он на бензин или на билет тратиться. Он по жизни командировочный. И в командировки ездил между пропажами. Одинокий, скорее всего, кому же такие нежные тайны доверишь? Свой дом у него. Надо ж, чтобы было, где прятать? Еще примет сорок нащупал.
Но это к показаниям не пришьешь, отвалится. Это тебе не банки с маринованной человечиной.
К порнушникам из того же города, где «нетипичный случай» с золотом получился, ребята мои сунулись. С фотороботом уже. Надавили, конечно. Те, ясное дело, кассет никаких не отдали, а его вспомнили. Был, приходил, предлагал. Обычное и… необычное. Насколько необычное? Не знаем. Не стали связываться. Внешности толком не запомнили. Хотя… Голос у него гнусавый.
Ну и… Вышел я на него наконец. Но на это же время надо было! Перетрясти приказы по командировкам за пять лет. Вычислить всех командировочных мужиков. И найти среди них гнусавого. Мы уж потом придем в организацию — и сразу в лоб: «Гнусавые есть?». А только после этого про командировки. Эх, если бы чуть раньше! А так… Ни он у меня не выиграл, ни я у него. И не проиграли никоторый никоторому. Каждый чего захотел, то и сделал. Наливай по сто.
Бутылка опустела. Славик тяжело замолчал.
— Выпить есть еще?
Я помотал головой.
— Катьку мы застали. Но она не кушала ничего два месяца и умом тронулась. Все бормотала, бормотала что-то. Как обезьянка. Так и померла.
Светало. Костер почти догорел. И я вдруг заметил, как дядя Славик похож на пацана, если не смотреть на его старое, красное, изрытое оспой и морщинами лицо с большим красным носом. На хулиганистого пацана лет семнадцати. И еще подумал, каким же нужно быть изначально хорошим человеком, чтобы, имея дело с Упырем, измениться только так. И еще — что же такое нужно пережить, чтобы превратиться в одинокого практичного потребителя, бредящего идеями безотходного производства, если?..
— …Сначала он был нормальный, — поставил в своем рассказе точку дядя Славик и не удержался от обобщения. — Просто барыга, дошедший до ручки. Обыкновенный упырь.
Дела у Анны обстояли не то чтобы очень.
Еще не доходя до палаты, я услыхал громкий хрип.
— Спит? — спросил я у дежурной сестры.
— Да вроде.
— Какой прогноз?
— Это к врачу.
Доктор был полный, хмурый, занятой.
— Что сказать? — пожал он плечами. — Сельская больница. Реанимации у нас нет. Пока лежит одна в палате. Нарушение мозгового кровообращения. По гоморогическому типу или другому — сказать не могу. Томографа нет. Прогноз — пятьдесят на пятьдесят.
— Она в сознании?
— Кивает, когда вопросы задаю. Мычит. Так что, скорее всего, в сознании.
— Я договорился с сиделкой. Она будет приходить два раза в день.
— Пожалуйста, — устало пожал плечами мой собеседник. — Персонал у нас, честно сказать, разный…
— Как ты, Анна?
— М-м. У-у.
— Болит?
— М-м.
— Ты не волнуйся, лежи. За домом я присмотрю, съезжу на выходных.
Неожиданно в наш разговор вмешался еще один человек:
— Молодец она у вас. Держится. Все разговаривает с кем-то. То ли в бреду, то ли наяву.
Я вздрогнул и повернул голову. За моей спиной, у дверей, под капельницей лежала женщина лет семидесяти.
— Чего испугался?
— Просто мне сказали, что здесь никого нет.
— Да я на дневном стационаре. Прокапаюсь — и домой.
— Понятно.
— Еще она все время Сашеньку какого-то зовет.
— Это сын у нее. Он умер маленький.
— Бедолага.
— Да. Всю жизнь чужих детей воспитывала. Четверых подняла. Меня в том числе.
Тут пришла сиделка. Я стал раскладывать перед ней содержимое двух огромных пакетов. Она собралась переодевать старуху. Я предложил помощь, но получил понимающий отказ.
Попрощавшись со всеми, я отправился на уроки.
Напоследок Анна мне даже кивнула и пробубнила что-то вроде:
— Аз…
…Буки-Веди-Глаголь-Добро-Есть-Живете…
Только вот «живете» мы в последнее время без добра.
Нам лишь бы «есть» да «есть». Потому и глаголить друг с другом вроде как не о чем. Стали как «буки». Вот и весь «аз».
Исследование, что ли, написать на тему пророческого характера кириллицы?
Начался урок.
Домашнее задание сделала одна Маслова.
И ее попытались зачмонить, но зачмонить себя Маслова не дала.
— Я знаю, чего хочу от жизни, — громко, на всю группу сказала единственная отличница.
Знаешь-знаешь. Не злись только, а то камни с неба посыплются. Знаю и я тебя.
Интересно, о чем она хотела со мной поговорить? Только бы не…
— Брагина, что ты там подсматриваешь в тетрадь? Покажи.
— Не буду.
— У нас проверочная работа, так что давай-ка.
— Это личное.
— Какое такое личное?
— Я стихи пишу, а на проверочную вашу чхать.
— Тогда ладно. Влюблена, что ли?
— Не ваше дело.
Надька тоже не писала работу. Она водила ручкой по бумаге. Глаза ее были закрыты.
Блондин с Коляном на этот урок прийти не соизволили.
— Экспертизу сделали, — делился со мной секретной информацией знакомый следователь. — Хрен поймешь. У нее на куртке есть следы от сидений из красного жигуля. Но есть следы и еще от какой-то машины. Ворсинки, масляные пятна.
— То есть убил ее тот, с кем она ехала последней?
— Это если ее убил тот, кто подвозил. Крутим еще и твоих ученичков. Похоже, не знают ничего. Молчат, как воды в рот набрали. Подругу еенную надо бы еще раз допросить.
— Вот уж кто воды в рот набрал…
— А у меня в голове подросток твой засел. И не выходит.
— Вторую машину не нашли?
— Ищем. Нам бы свидетеля хоть какого. Глушняк пока что. Ты-то ничего, случаем, не видел? Тоже ведь там ошивался?
Нет, я ничего не видел, потому что...
Свою страсть я тщательнейшим образом скрывал от друзей, знакомых и прочих любопытных носов.
На алиби это походило плохо. И я заметил, что мой знакомый следователь едва заметно от меня дистанцировался.
А и хрен с ним.
Просто в ночь убийства на бумагу выплеснулось нечто, более похожее на бред шизофреника, чем на поэзию…
Катит, катит колесо
От заката на восход,
С юга жаркого на север,
Отрок злой, ревнивый ветер.
В бездну грусти и тоски,
Где по краю — колоски,
Катит черные гробы
По окрестностям судьбы
К тем, чей скоро час придет.
Лишь невеста ждет и ждет.
Ночь спасения тиха.
Ждет невеста жениха.
— Кони-лошади сено съели, а телегу везти не хотят! — шутливо прикрикнула Анна.
Моль и Марья отложили карты и вопросительно уставились на нее.
— Огород посажен, а малинник-от кто вычистит?
И три подруги, которых только разница в возрасте мешала назвать сестрами, отправились обламывать сухостоины, чтобы дать жизнь молодой, гибкой, зеленой поросли.
— Слышь, бабка, — поинтересовалась Моль за работой.
— Но?
— А отчего сюда не приходят Анисья, Пеша, Вячка… Или мои какие-нибудь родичи? Мы же все теперь мертвые. Так?
— Так не так, а перетакивать не будем, — буркнула Анна, отвернулась и ушла в работу.
Она то бережно и осторожно, чтобы не повредить молодую малинку, рвала траву, то резко и величественно отбрасывала сухостоины в сторону.
Тем временем Марья, которая была сегодня странно беспокойна и работала вполсилы, отошла за угол дома.
— Ништо, девка, — неожиданно протянула Анна. — Ништо-о…
Она и еще что-то сказала бы, но тут со стороны калитки послышался шум.
— Цыгане! — сообщила выглянувшая из-за угла Марья. — Как чувствовала. Боюсь их до жути.
— А ну хозяина сейчас кликну! — вдруг рявкнула Анна самым настоящим басом.
— Вам кланялись оттуда, — раздалось из-за стены. — Там плохо. В деле этом все повязли. Помоги, золотая. Катит, катит колесо…
Моль рванулась на голос, но когда она подлетела к крыльцу, никаких цыган там и в помине не было. За калиткой простирался безлюдный простор загробной деревеньки, по которой гулял зловещий и острый ветер.
Шла вторая неделя пребывания Моли в доме старухи Анны. И впервые сделалось мертвой девушке по-настоящему одиноко.
Шла вторая неделя пребывания Анны в палате интенсивной терапии.
А она все лежала с полузакрытыми глазами, жалко хрипела и по временам произносила короткие слова:
— Са… Ша… Аз… Да…
Палата наполнялась женщинами. Они ходили в столовую за кипятком, вязали, разговаривали, а время от времени запрокидывали головы на подушки.
— Хоть бы не належаться, — пробормотала одна из них, когда я сидел рядом с кроватью Анны, вслушиваясь в ее мычание.
Сказав это, женщина красноречиво посмотрела на меня.
Я узнал давеча лежавшую под капельницей и отвел глаза.
В палате наступила нехорошая тишина.
Вдруг Анна выпалила словечко, которое едва не лишило меня чувств, потому что она вдруг изрекла, сипло, словно с того света:
— Моль.
На следующий день Моль зарыли в землю.
Мама девочки упала в могилу.
Маслова с Брагиной рыдали.
Отчим напился на поминках, кричал и сломал скамейку во дворе столовой.
Надька на похороны не пришла.
Когда, усталый, я приплелся с поминок домой, то увидел, что мой запущенный двор не одинок. На скамеечке перед домом сидела та самая Наська, которую Анна ждала, да так пока и не дождалась.
А у скамейки бродил годовалый карапуз.
— Что с Анной? — безо всякого приветствия вступила Наська.
— Где муж? — вместо ответа спросил я.
Муж оказался в запое.
После похода десятилетней давности мы со Славиком продолжили знакомство лет через пять на тесной кухне, где почему-то — не помню — сидели вдвоем и опять пили водку.
Дядя Славик, в обычной жизни человек простой и грубоватый, выразил суть наших отношений удивительно точно: «Ты историями маньячишь, а я рассказываю тебе про маньяков истории».
Опрокинув стопку, дядя Слава продолжил, словно и не было между двумя нашими разговорами никакого перерыва.
— Отправились мы как-то на охоту вместе с участковым. Вышли затемно. А до лесной избушки только к обеду добрались. Смотрим, следы. Из трубы дым валит. Это хорошо оказалось. Пока мы шли, мороз вдарил. Градусов тридцать, наверно. Входим в избушку. Красота! Печка топится. На печке чайник бормочет. Стол накрыт. На столе зайка жареный. За столом мужик. В башке у мужика — топор. Мужик — носом в столешницу. И больше в избушке ни души.
Оформили все. Стали ждать. Я зайку пощипал. Ничего, без соли только. Участковый кушать что-то отказался. Я закемарил на нарах. Участковый на стреме стоит. И проходит таким макаром часа три.
Тут в коридоре — бряк. Я — за карабин. Участковый у косяка в стену влип. Дверь открывается. Входит мужик. Увидел нас. Сам руки поднял.
— Ты один? — спрашиваю.
Он кивает. Самого озноб бьет.
Налили. Выпил.
Я ему показываю на жмура: «Твоя работа?». Он — ни в какую. Прикинь! «Да, — говорит, — вместе шли на рывок. Вместе тут кантовались месяц. Вместе горе горевали. Но я его не убивал. Пошел в лес на промысел, прихожу — труп. А тут вы еще…»
Я его и так и эдак. А он ушлый оказался. Самая гадская категория. Смирненький такой. Худенький. Лет как мне. Две ходки за плечами. «Не убивал! — говорит. — Кто-то в избушку зашел и убил. А мне зачем его убивать? Вдвоем легче. К весне, может, и убил бы. Или он меня. А сейчас без напарника худо».
— И как? Разрешилось? — поинтересовался я у дяди Славика.
— Разреши-илось. Самым неожиданным образом. Труп башку свою с топором из нее торчащим от стола поднял и спрашивает: «Мужики, закурить есть?». И обратно «лицом в салат».
Что тут с его корешем сотворилось! Фиолетовым сделался. Да и участковый не лучше. А я разозлился. Можно ведь было нормально сидеть, чай пить, утра ждать. Можно было даже на охоту сбегать. Так нет: «Дай закурить!».
М-да, ерш твою медь. Соорудили мы с участковым носилки из лапника. Парня нашего, с топором в башке, кое-некое уложили. У нас ведь еще две пары лыж добавилось. Носилки в санки переделали. Зэка в эти санки запрягли. И пошли честной компанией. Долго шли, плохо. Под утро только до деревни доползли. Хорошо, что мы из города не приехали, а прилетели. И борт обратно не ушел. Летчик у родни гостил. Мы летчика разбудили. Участковый, тот в деревне остался. А я с зэка и раненым на вертолет — и домой. Добрались до больницы. А я везде с этим отказником брожу. Пристегнул его к себе. Мужика с топором в башке — в операционную. Мы с «корешем» сидим у кабинета врача. Смотрю — сам врач из операционной выходит. Быстро че-то так. А «кореш» мой носом клюнул. Устал, наверно. Я палец к губам. Хирург умный попался. Понял все. «Умер», — шепчет. Я показываю, чтобы он «корешу» ничего не говорил. А тот уже глазками хлоп-хлоп. Я ему: «Здоров ты, — говорю, — спать. Твой приятель уже в сознание после операции пришел. Показания дал, а ты…». Хирург кивает: «Все, — говорит, — рассказал, как ты ему топором в башку тюкнул». Он нос-то опять и повесил, лесной мой друг. Только уж теперь по другой причине.
«Пошли, — говорю, — устал я с тобой. Если все расскажешь, как было, так и быть, запишу чистосердечное признание».
И что получилось из его рассказа. Пошли они вдвоем на рывок. Добрались до этой избушки. Стали силы копить. То да се. Появилось время поговорить. И этот, у которого потом топор из башки вытащили, рассказал моему «корешу» про свою первую любовь. И так случилось, что мокрушник влюбился в эту девку из рассказа своего подельника. И такая злость его вдруг обуяла. «Понимаешь, мусор, — говорил он мне, — если бы у меня была такая баба, то я завязал бы. И не чалился бы средь снегов. Ему дорогой инструмент достался, для ювелирной работы штукенция, а он ею — орехи колоть. Она ведь… для меня создана была, а досталась ему, колодине». Спит «кореш» мой, и снится ему, что взламывает он сейф. Открывает, смотрит — дивчина эта. Он к ней руки тянет, а она в воздухе растворяется. Он мне так и сказал: «Женщина эта была сокровищем, которое нельзя украсть и которое, если ты раз об ем подумал, больше не даст тебе покоя». Слова «не мое» он не признавал. Вот и тюкнул дружка.
— Блондина, Кольку и Надьку закрыли сегодня, — с нажимом выговорил я еще через пять лет, впервые остро почувствовав: слушать криминальные истории — совсем не то же самое, что и участвовать в них.
Мой знакомый следователь, сидевший за первой партой в пустом классе, развел руками:
— На Моли этой Надькины волосы. Нашли ее в Колькиной джинсовке. А с Блондином у нее за несколько часов до смерти вообще была интимная близость. Урка наш чист как стекло. Похоже, он к Моли пальцем не прикоснулся. Инспектор Иванов его опознал. После откидки с личными вещами не очень. Как был в спортивках с олимпийкой, так и взяли его. Несет как от козла. Не мылся, наверно, недели две.
Я помолчал, подошел к доске, взял мел и начертил круг.
— Знаешь, я не уверен, однако…
— Однако?
— Тут бабка одна есть. Моя соседка по даче. Она как раз в то утро, как Моль нашли, брякнулась с инсультом.
— Померла?
— Нет.
— А, вспомнил. «Скорая» потом к ней поехала.
— Да-да. Так вот. Сейчас она в себя приходит. Речь к ней потихоньку возвращается. И знаешь, что она изрекла вчера вечером?
— Что?
— Моль.
— Да ну на хрен.
— Я тебе говорю.
— А они были до этого знакомы?
Мой следователь достал из кармана пиджака записную книжку и что-то в ней вывел.
— Точно не были, — подумав тем временем, ответил я.
— Абсолютно уверен?
— Да.
— Картошку окучивать пожалуйте, — пригласила Анна товарок утром двадцатого дня. — Перерастет — спину-то нарвете. Я уж стара тяпкой махать.
Но от работы Анна все-таки не отошла.
Она бродила по полю и собирала сорняки, огромные осотины, которые тяпками выворачивали Марья и Моль.
Последней показалось, что Анна хочет ей что-то сказать.
— Валяй, бабушка, — бухнула Моль без обидняков и утерла пот со лба.
Внезапно в глазах у нее потемнело. И все вокруг потемнело.
И Моли показалось, что она стоит с Анной на обочине проселочной дороги, а вдалеке слышится звук приближающейся машины.
— Ты давеча спросила… С чего это нету Пеши и присных…
— Ну, — кивнула Моль, думая о другом.
— Да окстись ты с машиной етой, меня послушай. Пока не скажу, не приедет.
— Говори, бабка.
— Виновата я перед тобой. Прости.
— В чем это?
— Потому ты здесь и торчишь, что жду я… Мне плевать на тестя с тещей. Да и без бабки старой я как-нибудь проживу. А мне бы… Сашеньку на руках подержать. С сыночком свидеться.
— Анна… Я-то здесь при чем?
— Эх, девка. Я ведь одной ногой еще там, — и Анна показала рукой в ту сторону, откуда нарастал звук мотора.
— Ты… Живая? — опешила Моль.
— Н-но.
— А как ты…
— При смерти лежу, значит. Аккурат третью неделю. Смерти Бог не дает.
— Почему?
— Дело стать у меня. С тобой.
— Какое?
— Ухаря этого в машине должна вывесть на чистую воду.
— Так выведи.
— Эх, девка. Вот те, которые туда звонят, своих потом и не видют. Така цена за известия. Така расплата за грехи. Мне все плевать… Сашенька…
Моль мгновенно поняла все и схватила старую за шиворот:
— Ты-ы. Сучка старая! Я здесь из-за тебя торчу… Успокоиться не могу…
— Но-но, — с неожиданной силой отпихнулась от нее Анна. — Такого-от я не ждала. Я ей все «Моленька» на «Моленька». А Моленька эвон что. Ты погоди. Как ведь я чего решу, так и тебе решать надо будет. Прошлый раз ты ить того… Задумалась. Знать тебе дали, об чем думать.
Моль села на дорогу и всхлипнула. Анна плюхнулась рядом и тоже закуксилась.
— И все повернуть можно? — выдавила из себя Моль.
— Ага, — кивнула Анна. — Окажешься дома, а там по Надьке плачут. И Марья…
— Чего на борозду уселись, — засмеялась Марья.
Анна и Моль сидели на картофельном поле.
— За работу, бездельницы…
— Моля, слушай-ка.
Анна и Моль пололи грядки, зарастающие новой травой прямо на глазах после очередного прореживания. Марья готовила дома обед.
— Ну, — хмуро ответила Моль, одетая в бабьи рейтузы, от которых на жаре прели ноги, немыслимую кофту, еще более немыслимую юбку, сапоги, которые болтались на ногах; голову украшал необъятный бабий платок.
Мошка в предбаннике того света жрала не меньше, чем на земле. Да и людям… Или фантомам жрать хотелось не меньше.
— Это-ся…
— Анна, говори.
— Ой, девка. Опять я тя омманула.
— Да ты вообще прохиндейка старая.
— Дура я старая, а не хиндейка. Моля… Это ведь я тебя задерживаю. Все не решуся, открыться тама аль нет. Решусь открыться, тебе в машине ехать. Не решуся — Надьке. Товды уж Марья с Надькой выбирать будет, а мы с тобою дальше небо коптить. Марье с Надькой ить тожо есть чего выбирать. Да и все-то мы…
— Да ведь я на дуру-то если только похожа. Дошло уже. Ну что поделать, если ты Сашеньку своего больше любишь? Меня все время меньше, чем кого-то любили. Старая добрая традиция, еперный театр.
— Ты мне, Моля, тоже как родная. Не в том дело.
— А в чем?
— Не могу тебе сказать. Не должна ты знать об этом. Рано ишо.
— Ну и хрен с тобой, таись дальше.
— Хрен да ни хрена.
Моль поднажала и обогнала Анну на своей половине грядки.
То ли от этого, то ли отчего-то еще Анна всхлипнула.
— Ты чего, бабушка? — с трудом разогнулась Моль. — Скажешь ты — не скажешь, все равно мне или Надьке помирать надо. Без таких-то Клав мир простоит.
Анна тоже с трудом разогнулась, и в спине ее что-то захрустело.
— Потому, девка, он еще сто таких, как ты и Надька, ухайдакат. Вот и подумай, нужно мне тако щастье али нет. По карману ли цена. По рылу ли каравай. По тебе дак без Клавы мир стоит. А по мне дак — мир на Клаве держится.
— Так чего тогда…
— Эх, девка. Щастья-то нет — ни тама, ни здеся. А щастья-то хоцца.
Мой следователь и я сидели у постели то ли умирающей, то ли раздумывающей, помирать ей или нет, Анны. Следователь задавал ей вопросы, а она дышала на него жаром своих воспаленных глаз, по радужкам которых прошла граница между тем и этим миром.
И молчала.
— Не готова она еще, — буркнул следователь и стал собираться.
Я тоже приготовился было уходить, потому что чувствовал, как мешаю остальным женщинам, но тут дверь палаты распахнулась и появилась Наська, на руках которой сидел ребенок (имени я в прошлый раз не удосужился спросить). За Наськой в палату зашел опухший и типично виноватый муж.
Мальчуган попросился на пол и забегал между кроватями, перебегая от одной постели к другой. И как воскресли, как помолодели и похорошели эти приговоренные к смерти и приготовившиеся к ней женщины. Как с отвращением, пусть на минуту, они отбросили всякие мысли о старухе с косой. Как потянули свои морщинистые, пораженные артритом руки к маленькому, но крепко сбитому малышу, сновавшему между уродских кроватей.
И даже Анна, когда Наська с мужем и ребенком покинула палату, а я дождался их ухода, потому что не мог оторвать глаз от этой картины… Так вот, даже Анна приподняла кисть, больше напоминающую корягу, нависшую над темной рекой, и покрутила суставом на сотую долю оборота, словно бы над темной рекой пронесся ветер.
Не надо войн, революций. Надоело.
Просто нарожайте детей и принесите их к Белому дому.
Принесите и положите перед охраной.
Пусть орут.
Миллионы.
Миллиарды.
Здоровых, крепких младенцев.
От которых хочется жить.
У нас не так.
Снуют между рядами бездельников упырихи с презиками.
А «наглых» сперматозоидов, которые поняли, что они в ловушке, и в отчаянном прыжке пробили смерть, воняющую химическими заменителями клубники, на выходе ждут рыночник, торговец спиртом, дилер, сутенер, а если и это «не поможет», — безымянный убийца с булыжником в руках.
Копаю грядки на своем вот уж два года как холостяцком огороде.
С женой мы развелись, потому как я был застукан с поличным, на месте преступления, и сказать, что, мол, я тут в трамвае катаюсь, язык не повернулся.
И все ради кого…
Эх! Хорошо, что не разлетелась эта история по городу.
Жена вот прямо как узнала, так чемоданы собрала — и адью.
Как не бывало.
А я остался, подлый и одинокий.
Анна, помню, от души повеселилась надо всей этой историей:
— Проводил свою я клячу,
У ворот стою и плачу:
«Ой ты, милая моя,
Подь ты на хрен от меня…».
Сиделка позвонила мне примерно в половине пятого дня.
— Что? — выдохнул я в трубку.
— Вроде получше стала. Слушай, тут дело идет к выписке. Ты бы сходил, похлопотал, чтобы оставили на платной койке. Куда тебе такой довесок? Не к мужу ведь в дурдом ее отправлять.
И я ходил, хлопотал, оформлял бумаги.
Потом заскочил к самой Анне.
Старушка у меня порозовела.
Я помог ей сесть, вернее, просто приподнял ее на подушке.
— Надоела я вам всем… — неожиданно выдала Анна поток связной речи.
— Да ладно ты… — Я положил руку на ее невесомое, птичье плечо. — Выздоравливай, давай. У нас с тобой на лето ведь планы, забыла? Нам жить и картошку копать…
Соседка покачала головой, и трудно было понять, не забыла она о планах или им не суждено будет сбыться.
Анна и Моль сидели на скамеечке у забора и смотрели на огород.
Марья хлопотала в доме. Последнее время она отдалилась от двух своих новых подруг.
А огород был красив. С ровными рядками картошки, выполотыми грядками с луком и свеклой, редисом и морковью, укропом и петрушкой.
— Славно потрудились, — вырвалось у Моли. — Эх, бабка, жалко, сигарет у тебя нет. Покурить хоцца.
— Так ты у подруги стрельни.
— У Марьи? Курит, что ль, курва?
— Зачем у Марьи…
Солнце зашло за тучи.
Моль продиралась через лес на единственный огонек среди первородного мрака.
У костра сидела Надька. И в то же время не Надька. Что-то изменилось в ней. Она была словно старше себя на пару месяцев. И когда Моль присмотрелась, то поняла, что именно в Надьке было не так. Вернее, именно так, как и должно быть. У Надьки появился маленький, еле заметный животик.
— Моля, ты куда делась? Парни тебя искать побежали, да тоже заблудились, наверно, — хихикнула Надька. — Садись греться. Я уж изготовилась в город ехать. Страшно тут. Сгинули, думаю, все вы, что ли?
— Слышь, Надька…
Тут голос у Моли дрогнул, и она неожиданно сгребла подругу в крепкие, неженские объятия.
— Наденька ты моя… Не ходи никуда. Я уйду, а ты не ходи. Сиди тут, слышишь? Просто — не смей.
Надька кивнула:
— Ладно, ладно. Чего разоралась?
Потом опустила голову на плечо Моли, тут же засопела и даже негромко всхрапнула…
Моль снова ринулась через лес.
Обдирала с себя одежду, кожу, исступленно шептала: «Господи, вынеси. Вынеси меня, Господи. И вынести, Господи, пособи…».
Наконец выскочила на дорогу.
Анна светила фонариком:
— Скорее, скорее.
Из темноты на них летела машина, большая машина. Моль махнула рукой, и тут же раздавался визг тормозов. Фонарик погас.
— Подвезти, красавица?
— Да, подвезти, — хрипло выговорила Моль.
— Куда?
— В Воронье Поле.
— В Воронье Поле — это можно. Это нам как раз по пути. Полезай в машину.
Моль обернулась, угадала в темноте крестовый взмах легкой, почти птичьей руки и взлетела в салон…
Когда она отняла свое мертвое лицо от липкой грязи, кто-то утер ее и погладил по голове.
Открыв незрячие глаза, она увидела саму себя, такой, какую видела во сне и так хотела увидеть в жизни.
— Привет, сестренка, — улыбнулась ей девушка в белом платье. — Вставай, некогда разлеживаться. Работы — непочатый край. Я на секунду, повидаться и сказать, что горжусь тобой.
Последующая сцена сестринских объятий, поцелуев и слез была бы чересчур трогательна, чересчур сентиментальна даже для людей. А что говорить об ангелах? Но все разом оборвалось, когда поблизости раздался явственный, полный отчаяния крик:
— А-а-у-у-у…
Телефонный звонок разбудил меня утром.
Звонила сиделка.
— Что?
— ВСЕ.
— КАК!?
— Только что. Приходи.
Через полчаса я уже бежал по больнице.
— Говорят, всю ночь стонала, — рассказывала сиделка, пока я собирал личные вещи Анны в огромный черный пакет.
Анна лежала, с головою накрытая белой простыней.
— Не говорила ничего? — почему-то спросил я.
— Одно слово. В самом конце. Странно так… Приснилось ей, наверно, что-то.
— Какое слово?
— КАМАЗ.
Я заорал, выхватил из кармана телефон и бросился в коридор.
— Молодец какой! Переживает! Племяннице торопится сообщить! — неслось у меня за спиной по палате.
Я действительно переживал и торопился сообщить, но только не о смерти Анны, которая и была здесь единственным молодцом. И не ее племяннице.
— Слава, КАМАЗ! Ты понял?.. Ты понял, Слава? КАМАЗ… КАМА-А-АЗ!!!
— …мать, мать, МАААТЬ…
А потом нахлынуло.
Я сидел, словно пораженный ударом палицы в самое темя, и ждал ритуальщиков.
— Не грусти!
Я повернул голову вправо.
На меня смотрела темная седая женщина, лежавшая под капельницей.
— Не грусти, — повторила она.
И поведала мне все то, что рассказала ей Анна в горячечном бреду и чего никому живому не дано было видеть в Аннином доме. Про Моль, и Марью, и страшного толстячка с мертвыми глазами, и прибранный огород, который остался ждать тех, кто придет и будет собирать урожай. Оставалось только верить или не верить этой истории. И я поверил. Потому что нельзя было не поверить ей…
Через час пришли ритуальщики. Взялись за простыню, гикнули, рванули… Что-то потекло на пол. Тело переложили на носилки. Только это была уже не Анна. Это было то, про что сама она говорила с усмешкой: «Как сдохнет старая кляча, заройте в землю».
Беременная медсестра попросила меня открыть форточку.
Мой знакомый следователь с запыленными и бесконечно усталыми глазами сидел напротив меня в деревенском доме, курил сигарету за сигаретой и рассказывал, рассказывал, рассказывал изнанку жизни:
— Конечно, Иванов сразу его вспомнил. Но, самое главное, его вспомнил и описал урка из красных жигулей. Память у зонаря, особенно такого, который даже для своих ниже уровня плинтуса, фотографична. Секунда на встречке. Единственная встречная машина за полчаса! Еще и поэтому запомнил, бродяга! И рассказал! Да еще и добавил: «Экс-пи-ди-тор, мля. Скажешь потом, куда его отправят. Я на зону шепну. Девку… жалко. Хоть кто-то на меня как на человека посмотрел. А я ее на убой…». Впрочем, это уже лирика. Что сошлось: продуктовая фура на основе КамАЗа. Зеленого цвета. Дальше — дело техники. Нашли мы водителя этой фуры. Такой… Обаятельный толстячок, сыплющий анекдотами и веселыми историями из жизни. Только вот экспертиза показала, что в машине этого толстячка побывала Моль. Да он особо и не отпирался. Что была в машине. Бессмысленно потому что, не дурак. А уж когда мы глубже копнули… Он сам с пятьдесят третьего. Был судим за изнасилование. И знаешь когда?
— Когда?
— В шестьдесят восьмом.
— Господи! Так ведь ему…
— Пятнадцать лет. Групповое. Во всех формах. И несовершеннолетней девушки. У друга была подруга. В нее и влюбился маленький, толстый и очень жестокий мальчик. Ревновал. Мучился. Злился. И отомстил. Грязная история в подвале многоэтажного дома. И потом — сорок лет тишины. Классика жанра: вышел, «образумился», устроился на хорошую работу, дальнобойщиком. Прекрасный послужной список. И систематическое напускание своего подростка на тех двуногих, что просительно стоят на трассе. Понимаешь, о чем я?
— Понимаю.
— Не исключаю возможности, что Моль — далеко не первая пассажирка этого оборотня. Но факты — вещь упрямая…
— Машина, девка, трах.
— Ну и дом, семья, работа. Вот так он и жил.
— И ладно бы только он…
Толстячок чистосердечно признался в том, что посадил в машину пьяную девушку, но она постоянно крутила ручку двери, это привело к открыванию последней и выпадению девушки на дорогу. От попутчицы сильно пахло перегаром, поэтому толстячок не стал ей помогать, а сел в КамАЗ и уехал. У него самого дети, не чета этой…
А почему она оказалась на обочине, да еще и в грязь лицом была вдавлена? Так пьяная. Отползла, наверное, с разбитой башкой — и вдавилась.
Не он же волок и без того мертвую девочку к луже, держась за кроссовки синего цвета, отчего один кроссовок слетел — и он тянул ее за другой?
Конечно, его все-таки посадили.
Закон справедлив.
Разумеется, его посадили ненадолго.
Фемида гуманна. Однако он остался лежать на полке ее ведомства...
На случай выпадений новых девушек из кабины зеленого КамАЗа, везущего людям липкую сладкую жрачку и теплое вонючее пиво.
В одной из психиатрических больниц недели через три после того, как Анну «зарыли в землю» произошел необычный случай.
Один из психов, находящихся в этих стенах пожизненно, пошел ночью в туалет, но, не дойдя до дверей, вдруг упал на колени и рухнул дальше, вперед, в небытие.
Говорят, что когда он лежал в казенном костюме в таком же казенном гробу и когда этот самый казенный гроб навсегда закрыли казенной крышкой, — то в этот момент Гешка, так называли его здесь все, перестал выглядеть психом и казенным. В это мгновение на мужицки красивом и сильном лице его, при желании, которого не было у притомленных духотой могильщиков и которое было у стоящих за их спинами настоящих психов, можно было увидеть подобие домостроевской суровой улыбки.
На перемене ко мне подошла Маслова и в сотый раз сказала, что ей нужно со мной поговорить.
Так получилось, что в этот момент в кабинете мы были вдвоем.
— Валяй, — с видимым безразличием ответил я.
— Я просто хотела сказать… Я хотела сказать… Я…
— Да говори ты, чего как ребенок.
— Я не ребенок. Это у меня будет ребенок.
— ???
— Я просто хотела сказать, что у нас с вами будет ребенок…
Примерно то же самое сказала Надька выпущенному на свободу Коляну сразу, как только он переступил порог следственного изолятора.
А Брагина, зараза, никому ничего не сказала, а просто заявилась первого сентября в лицей с большим-пребольшим животом.
По моим подсчетам, десять девочек, которые учились в этой группе, за последующие после истории с Молью три года родили десять детей.
Каждый, знаете ли, по-своему побеждает кошмары.
— Рядом с Анной похоронена целая семья, — сказал я молодой жене, которая ждала меня у кладбищенской оградки, по старинному поверью не заходя внутрь. — Есть и детская могилка. На ней выведено: «Младенец Николаевский».
Жена промолчала.
Впереди был хлопотный день.
Нужно было ехать в деревню, копать картошку.
В пустой дом въехали мужчина, женщина и ребенок.
Неделю они осваивались на новом месте.
А на восьмой день в доме появилась старушка.
Старушка вошла в дом без стука, прямо во время завтрака. И по тому, что между стуком входной двери и открыванием двери внутренней, ведущей на кухню, прошло около минуты, мужчина понял, что старушка прислушивалась.
Разговор во время завтрака был горячим.
Мужчина твердил женщине, что необходимо утеплить чердак и забетонировать пол в подвале.
Женщина возражала, что в первую очередь гораздо важнее повесить занавески на окнах.
Ребенок говорил, что сначала нужно сделать ему качели, такие, как в детском парке. Но, поскольку говорить он еще толком не умел, мама поняла это по-своему и впихнула в рот малышу ложку овсяной каши. Мальчик запротестовал. Мужчина стал доказывать, что сын просил на самом деле соку. Ребенок выплюнул сок. И новоселы не самым дружелюбным образом уставились друг на друга.
Тут-то и приспела старушка. Маленькая такая. Полуторка. Худая, как жердь. И заговорила басом:
— Здравствуйте, миряне!
Первым она стала устанавливать отношения с мужчиной.
— До вас тут жили, — уже обычным, окающим голоском начала старушка, робко подсев к столу и не спеша взять придвинутую радушной молодухой чашку.
— Жили, — кивнул мужчина.
— Вот-вот. А я при них, — сообщила старушка.
— В смысле? — не понял отец семейства.
— Помогала.
— Домработница, что ли? — несколько беспардонно бухнул мужчина.
— Нет. Член семьи, — чинно ответила старушка и принялась за чай.
Мужчина и женщина переглянулись.
«Не вздумай, — можно было прочитать во взгляде мужчины. — Не вздумай завязывать с нею знакомства. Старая карга сядет на шею и не слезет».
«Ну разве нам помешает, — говорил взгляд женщины. — Ну разве нам помешает… Одна! Маленькая! Старушка! Которая наверняка умеет топить печки и печь пироги…»
Все решил ребенок, который смотрел-смотрел на старожилку — и вдруг захохотал.
Старушка показала на него скрюченным, похожим на корень дуба пальцем, тоже захихикала и взяла из сахарницы маленькую конфетку.
— Заходи, бабушка, в гости, — сказала напоследок женщина.
— Дак уж чего… — заскромничала старушка.
— Не раньше десяти, — внес свое слово мужчина.
Бабушка лукаво посмотрела на него, на малыша, на женщину, на почти не тронутую миску с овсяной кашей — и ретировалась.
На кухне вышла заминка.
Между тем, как стукнула внутренняя дверь и входная, планета Земля успела родиться и погибнуть несколько раз.
Лужанское воскресенье
Мидянка Петро Мыколайович родился в 1959 году в закарпатском селе Широкий Луг. После окончания филологического факультета Ужгородского университета вернулся в родное село, где и поныне работает школьным учителем-словесником. Автор более десяти поэтических книг, множества эссе. Лауреат Шевченковской (государственной) премии 2012 года. Переводился на ряд европейских языков. В российской журнальной периодике публикуется впервые. См. статью Владимира Ешкилева о поэзии Петра Мидянки («Новый мир», 2012, № 1, стр. 194 — 197).
Петро Мидянка — возможно, самый удивительный из современных украинских поэтов. Вот уже три десятка лет он живет в родном карпатском селе и преподает в школе язык и литературу. Но удивительно не это. Удивителен язык его стихов. Оставаясь в рамках нормативной украинской грамматики, он насыщает, расцвечивает свои стихи множеством диалектных слов. Западноукраинские диалекты — русинский (в сербской Воеводине признанный одним из официальных языков), лемковский, гуцульский, бойковский, покутский — для жителя Центральной Украины звучат в лучшем случае экзотически, а то и просто непонятно. Казалось бы, поэт, обращающийся к диковинным и малопонятным для большинства соотечественников лексическим пластам, вряд ли будет пользоваться большой популярностью. Но Мидянку украинский читатель стихов знает, любит и не без удовольствия занимается расшифровкой его речений — благо Интернет служит для таких штудий неоценимым подспорьем. Возможно, признание этого «экзотического» поэта широким кругом украинских любителей словесности связано с неуклонным ростом интереса к украинскому языку (для многих, прямо скажем, не вполне родному), украинской истории и, в частности, к запутанной, драматической истории и причудливым языковым пластам карпатского региона. В двух словах об особенностях карпатских диалектов не скажешь; история края сложилась так, что эти диалекты испытали и польское, и словацкое, и немецкое, и румынское, и венгерское влияния.
Я взялся переводить Мидянку по двум причинам. Во-первых, его стихи мне нравятся — и множеством отчетливых реалий, и внятностью, компактностью в сочетании с формальной изощренностью, да и в пресловутых диалектизмах есть для меня особая прелесть. Во-вторых — мне часто доводилось слышать, что эти стихи непереводимы...
Вообще-то переводы с близкородственных языков затруднительны хотя бы уже потому, что сам задаешь себе совсем другую меру точности, чем при переводе с далекого языка. Особенно когда переводимые стихи, как у Петра Мидянки, выглядят просто и неприукрашенно. Но даже там, где, казалось бы, возможен буквальный перевод, часто оказывается, что это не слишком-то естественно звучит по-русски. И конечно, остается проблема диалектных слов и оборотов. Если их переводить буквально — утрачивается колорит, но сохранять все диалектизмы — тоже нельзя, уж слишком их много.
Для переводов я отобрал стихи, можно сказать, этноисторического толка. Часть диалектизмов (и одно общеукраинское слово) оставил как есть и дал пояснения в сносках — ведь Мидянка и сам к своим книжкам прилагает словарики малопонятных слов, к сожалению очень неполные. В сносках же представлены и минимальные сведения об упоминаемых в стихах персоналиях. Большинство географических названий оставляю без пояснений — с географией пытливый читатель уж как-нибудь разберется.
* *
*
Солодкий звук лужанської недiлi
Все ж не такий, як в iнших Божих днiв.
А зранку хтось ногами дубонiв,
Збирав грушки в отавi переспiлi.
З верхiв бабки приходили змарнiлi
I опирались на камiнний мур.
В корчах здригався на порогах звур,
З лiсiв вiдпара пiднiмалась бiла.
Терпкий свiток ожиння та псянок
Став лагiдним од пташих спiванок.
I ти iдеш, ще накругло завита.
Так дивно усмiхаєшся менi.
Видзвонює маржинка на грунi,
Василиковий запах серед лiта.
* *
*
Лужанским [1] воскресеньем звук все ж слаще
Чем прочим Божьим днем. Уже с утра
Отавой топотала детвора,
Где груши-падалки коричнево-блестящи.
С верхов брели старухи; подуставши,
О стену опирались. Под горой
Перед порогом корчился сулой,
Белея, восходил туман над чащей.
Мир ежевичников и травяных усов
Помягче стал от птичьих голосов.
И ты, с улыбкой чудной, яснолика,
В платочке до бровей, идешь ко мне.
Коровий колокольчик на холме,
Посреди лета запах базилика.
sub /sub
* *
*
Расплескался серебром Надь-Аг,
С глубями зелеными при устье.
Где б прочесть про наше захолустье,
Где там Горнад, Лаборец и Ваг?
Сам подашься в дальний Яблочин,
Вспомнишь омуты, где ямина на яме.
Холмщина с полями, с журавлями,
Что Канон, что Литургийный Чин.
Вот топают жандармы в Ясеню,
Распотрошив по выселкам родню,
Взмутив колодцы тихой чистой влаги.
Попотчевав лещиновым дрючком,
В Сигит отконвоируют молчком
И шконку забронируют в тюряге.
Бабота [2]
Будителей, учителей бомонд.
«Kedves fiam» [3] , — проговорит Годинка [4] ,
Рождественская чудо-мандаринка —
Для патриархов самый шарм и понт.
Полным-полно находок и утрат:
Латинские отчитаны каноны,
А в Повче что за прелесть лентионы [5]
И в августе купанья в Блаубад…
А что еще? — небес лазурный тент
Надежды прежние, которых больше нет,
И Зореслава [6] называешь «вуйко» [7] .
Еще улыбки мимолетный след,
Как встретится какой реципиент,
Что курит файку [8] , цедит джин и цуйку [9] .
Мое почтение, господин Уорхол
Русин Андрей Вархола [10] — иль хохол?
Греко-католик, ставленник поп-арта.
Уорхол Энди — джаз и рок-н-ролл!
Куда там виршеплетам или бардам!..
Богобоязненный и конвульсивный фолк,
При челке белой и в очечках… Энди!
И многоликий туческреб Нью-Йорк:
Все казино, вся кока, бренди, денди.
Покойся в Питтсбурге, где соус, мармелад,
Кресты схизматиков, печальный колумбарий,
Игра в рулетку, записи рулад,
Расшитый саккос и русин-викарий.
Паранормальный ракурс камбалы…
О Земплин, Спиш [11] , Нью-Джерси и Аляска.
Из наркотической завесы, сизой мглы —
Дизайн супов, платочки — и запаска [12] .
Попытка антропологии
Мы закарпатцы
Али не закарпатцы?!
Мы рутены
Али не рутены?!
Воду пьем свалявскую
Али сельтерскую?!
Соль потребляем солотвинскую
Али моравскую?!
Едим брынзу польскую
Али румынскую?!
Мы газдове
Али не газдове? [13]
Рыбари али не рыбари?
Охотнички али не охотнички?
Фартовые али не фартовые???
ИЛИ:
«Возьми пень,
Приодень,
Нареки
Именем,
Вот тебе и
ЧЕЛОВЕК…»
Ходiння в комiтат Бач-Бодрог
В далекiм Коцурi, де сербська сторона,
Почерез мряку, iнiй та тополi,
Руснацтво гарувати йде на поле:
Там соняхiв пеньки й озимина
З’єднались стиха в голосистий хор,
Серед рiвнини млака спить солона.
Але чому мовчать тепер п’ять дзвонiв,
Чому з туману мружиться собор?
Бач-Бодрог, Гайдудорог, Шариш, Спиш…
Котрi ще знаеш руськi комiтати
В провiнцiї Паннонськiй? Треба знати…
Плаский Бач-Бадрогу, це ти менi болиш.
Не заздрiсна, важка твоя судьба
Переселенства, все ж не верховенства.
В своєму первородствi ти, в первенствi,
На рiвних землях оранка й сiвба.
Отак щороку, так — десятки лiт…
У срiбнi вберi вдягнуто дерева,
Як Керестур, як Вербас, ветхi й древнi,
Там не один поет прийшов на свiт.
Дарма довкiл груднева непроглядь…
Як на полотнах Мункачi — там бурi.
Новий некрополь в Руськiм Керестурi
Зарано розпочав Юлiнко Надь…
I тут чигає люта круговерть,
I нам життя вiдпущено на палець.
I замордований на ловах бiлий заєць
Ще прагне розгадати власну смерть.
Нiмецький циркуль Коцур розпростер,
Що тут вартують тi лайливi серби?!
Ми заховали у дуплистi верби
На всякий випадок ще справний машингвер.
Бо нас покавалковано! На кiн
Нас кинуто, розкидано по свiту…
Либонь, село, з туману розповито?!
I пiд вiкном, цимбори, тупне кiнь,
Зарухається на полях стерня…
Всiдлємо ж бетярського коня?!
Хождение в комитат [14] Бач-Бодрог
В далеком Коцуре, где наши руснаки
Идут с рассветом надрываться в поле:
Сквозь иней, изморось, на сербском том раздолье,
Где озимь и подсолнухов пеньки
По-тихому сплелись в нестройный хор,
А место топкое все солоней и зыбче.
Но что ж колоколов не слышно нынче
И сумрачно прищурился собор?
Бач-Бодрог, Гайдудорог, Шариш, Спиш…
Еще какие наши комитаты
В Паннонии неблизкой? Надо знать их…
Бач-Бадрог плоский, как же ты болишь.
Чему завидовать? Нелегкая судьба
Переселенства — нет, не верховенства.
А что до первородства и первенства,
Так это пахота, и сев, и молотьба.
Из года в год — и так десятки лет…
Там в серебро разубраны деревья,
Как ветхий Керестур, как Вербас древний,
Там не один поэт явился в свет.
Декабрь, и за три шага не видать…
Как на полотнах Мункачи [15] — всi в буре.
Некрополь новый в Русском Керестуре
Безвременно открыл Юлинко Надь [16] …
И поджидает злая круговерть,
И жизни нам отпущено на палец.
И загнанный охотой белый заяц
Еще свою прознать стремится смерть.
Немецким циркулем от Коцура промер,
Бранчливые, что сторожат здесь сербы?!
На черный день в дупле столетней вербы
Мы схоронили справный машингвер.
Мы по кускам разобраны! Вразброд
Сторгованы, разбросаны по странам…
Село ли выплывает из тумана?
И под окном, цимборы [17] , конь всхрапнет,
Зашевелится на полях стерня…
Что ж — оседлать бетьярского [18] коня?!
Петро Мидянка: русинская антология
«Антологию» в этом заглавии следует понимать не в нынешнем обиходном значении — как собрание стихотворений разных авторов, но в более раннем: «антология» по-гречески «цветослов» или собрание цветов, и в названии первых сборников образцовых стихотворений это было своего рода метафорой. Но здесь речь не о поэтическом собрании, но о так называемой «антологической поэзии». Это понятие Нового времени, так называли поэзию, которая ориентировалась на античные образцы и которой были присущи «простота и единство мысли, способной выразиться в небольшом объеме, простодушие и возвышенность в тоне, пластичность и грация формы». Собственно, Белинский сформулировал это определение применительно к «Римским элегиям» Гете. Я говорю об «антологии», предполагая сонеты и стансы Петра Мидянки, что в жанровом смысле не совсем верно, но тем не менее… Мидянка — поэт антологический.
Аркадий Штыпель в своем предисловии назвал Петра Мидянку «самым удивительным украинским поэтом». Я добавлю, что он — едва ли не самый герметичный из украинских поэтов. В нынешней украинской поэзии он воспринимается как экзотическое растение, причем «экзота» здесь не фигура речи. «Экзотический» — значит «причудливый, диковинный, принадлежащий к непривычной, чуждой культуре». Мидянка, в самом деле, не вполне украинский поэт — он другой: он принадлежит другой культуре, другому пространству и другому языку. Герметичность Мидянки проистекает не из какой-то исключительной умственной перегруженности его стихов, напротив — он антологически ясен и прозрачен. Но точно так же как закрыта, труднодоступна и удалена от шумных «глобальных веяний» и мультикультурных мегаполисов его горная «малая страна», так малоизвестна и консервативна ее культура, и так странен, архаичен и полупонятен ее язык.
Однажды Сергей Жадан озаглавил свою статью о Мидянке парафразом одного из самых известных его стихотворений: «Петро Мидянка — русин или хохол?». В оригинале у Мидянки речь идет об Энди Уорхолле, но суть в том, что Мидянка, оставаясь украинским поэтом, действительно русин. В этом факте его биографии не стоит искать каких бы то ни было политических и идеологических смыслов. Это культурный выбор. Мидянка вписывает в сегодняшнюю ментальную карту Европы свою крохотную страну — Закарпатскую, Червонную Русь, — с ее причудливым языком, с ее мифами и с ее культурными героями.
На карте Закарпатье выглядит довольно компактно, но горные дороги таковы, что единственный автобус из Ужгорода добирается до мидянкиного Широкого Луга часов за пять-шесть. Сюда довольно поздно пришел Интернет, здесь перебои с электричеством, здесь топят печи, и колодец здесь популярнее водопровода. Андрей Любка в недавней статье о Мидянке обозвал это место «концом географии». Что до языка, то эта «европейская маргиналия», в самом деле, архаична и невероятно пестра, — такой восточнославянский лингвогербарий. Но парадокс Мидянки, похоже, в том, что его стихи менее всего похожи на те образцы, которые приводятся в словарях и энциклопедиях в качестве «примеров современного литературного русинского языка». Тот же «коренной закарпатец» Андрей Любка уверяет, что иные слова не понимает сам и что в этом с ним «солидарны» односельчане Мидянки. Вместе с тем принято считать, что Мидянка перенасыщает свои стихи местными реалиями и диалектизмами (если полагать русинский — диалектом украинского, что, кажется, неочевидно: с таким же успехом его можно полагать диалектом словацкого или просто одним из малых славянских языков — в сербской Воеводине, к слову, он признан одним из официальных). Но кажется, все гораздо сложнее. Вся эта «диалектная» и «региональная» история в стихах Мидянки поразительным образом «модернизирована» и в принципе оторвана от своей этнографической «почвы».
Давнi мадяризми, воля схизми,
Вощанi свiчки у головах.
I нiнгун юдейський, i кафiзми
Падають на порох i на прах
В его текстах пресловутых диалектизмов ничуть не больше, чем условных «варваризмов», поэтических неологизмов и «культурных имен» — опознавательных знаков европейской «сецессии». В этом смысле последовательный сельский житель и домосед Мидянка — если и не «человек мира», то «человек города», причем этот город прикреплен ко времени и месту: это восточноевропейский город первой трети ХХ века.
Тут все по-давньому.
Сотають тихо буднi,
Бiстро, готелики, старi перукарi.
Вузенькi вулицi пiдметенi, нелюднi.
Тi ж перехожi; квiти у дворi.
Возможно, именно такой — закрытый, как бы вырезанный из истории и географии — образ жизни позволяет (или заставляет) создавать единственный в своем роде анахронный хабитус. В стихах Мидянки чаще встретишь Кафку и Эрдели, нежели классического персонажа «сельской лирики», какого-нибудь условного пейзанина или представителя столь же условного «народа». При том, что Мидянка — настоящий сельский житель, — не в дачно-литературном, декоративном смысле, но в буквальном: вся его жизнь проходит в Широком Лугу. По окончании университета он вернулся в родительский дом, потому что «младший сын» и потому что «так принято». Он тридцать лет учительствует в сельской школе и каждый будний день отправляется на работу в соседнее Тисалово. У него крестьянское хозяйство, живность, сад и огород. Его легко вообразить персонажем греческой идиллии, но… стихи сопротивляются. Ему было бы легко «войти в образ», но, вероятно, именно из-за этой легкости, этнографической «подсказанности» или навязанности поэтической роли он выбирает тот самый условный «город культуры». Мидянка — консервативный интеллектуал или модерный традиционалист? Его консерватизм и его традиционализм — больше и глубже, чем культурная ориентация и литературная цитата. Его экзотический словарь соединяется с абсолютно ясным, рациональным синтаксисом. Сознательно или нет, но Мидянка ограничивает все эти лексические изощрения самыми традиционными поэтическими жанрами, он предпочитает сонеты, так называемые «твердые формы», и не только затем, чтобы продемонстрировать поэтическую технику. Кажется, его прием состоит в демонстративном конфликте нетрадиционного словаря и традиционной формы, в усложненности языка и простоте выражения.
Стиль Мидянки иногда называют «номинативным»; и в самом деле, его зачины напоминают словарные статьи, а его антологические интонации ближе всего к средневековым географическим или ботаническим трактатам: эта поэзия «расчерчивает» свое исчезающее малое пространство, заносит его в некий культурный архив. Последний его сборник озаглавлен по ключевому стихотворению — «Ильмовый листок». «Ильмом» называют вяз на той разговорной «латинке», которая сохранилась еще на «периферии Центральной Европы». В сложном узоре поэтической речи Мидянки, где соединяются модернизм и архаика, мифологическая символика и энциклопедические раритеты, этот «ильмовый листок» призван напомнить и о влажном духе девственной природы, и о книжной закладке (артефакте), и, наконец, о культурной традиции: «листок» здесь — многократно повторенная в европейской лирике Нового времени цитата из Горация. Все эти значения последовательно умещаются в трех коротких строфах совершенной антологической миниатюры. Естественное развитие сюжета подсказывает движение от природы к культуре — от влажного ущелья к засушенному листку — книжной закладке, и затем к обобщению — культурной цитате, горацианской элегии. Но Мидянка поступает неожиданным образом: сухая закладка заставляет вспомнить сырые, укрытые листвой склоны, и лишь живой листок обращает память к ильму Горация.
Рiс гав’яз, в’яз, чи мо’, шовковий iльм?
Зiбрав листок i користав закладку.
Де тексти про Вiльгельмiв та про Вiльм...
I хтось принiс в дарунок шоколадку.
В ущелинi вiдсирiв зелен-мрок.
Немов неторканiсть вiдкладеного звою.
Важкий на схилах кожен порух, крок,
Як доведеться бути пiд горою.
Летить листок, трiпоче i тремтить.
Поволi падає до змокла резервацiй.
Полiт листочка з iльма, щасну мить
Уздрiв, увидiв не лише Горацiй...
В заключение скажу то, что уже говорила однажды: стихи Мидянки плохо поддаются переводу, они как будто написаны на нескольких языках. Но кажется, то, что сделал Аркадий Штыпель, — точно и правильно, это единственно возможный ход. Мидянка и в оригинале предлагает «чтение со словарем», переводчик сохраняет этот прием, воспроизводя единственное в своем роде сочетание чистой поэзии с ученой лексикографией.
Инна Булкина
Штыпель Аркадий Моисеевич родился в 1944 году в Самаркандской области. Учился на физическом факультете Днепропетровского университета. Писал стихи на русском и украинском языках. Публикуется с 1989 года, автор трех книг стихов. Среди переводов: сонеты Уильяма Шекспира («Арион», 2005, № 1), стихи Дилана Томаса («Новый мир», 2010, № 4) и украинских поэтов: Мыколы Винграновского («Арион», 2003, № 1), Васыля Махно («Новый мир», 2011, № 10), Богдана-Игоря Антонича («Новый мир», 2011, № 12).
С 1968 года живет в Москве.
Булкина Инна Семеновна родилась в Киеве, закончила Тартуский университет, защитила PhD по теме «Киев в русской литературе первой трети XIX века». Критик, литературовед. Постоянный автор журналов «Знамя», «НЛО», «ЕЖ» и сайта Polit.ua. Живет в Киеве.
[1] Лужаны — посiлок на берегу Прута в 10 км от Черновцов в сторону Коломыи. Впервые упоминается в XV веке. Там же находится старейшая на Буковине Успенская церковь с сохранившимися средневековыми фресками.
[2] Маргарета Бабота (1921 — 2013) — героиня украинского освободительного движения. Была арестована во время венгерской оккупации самопровозглашенной Карпатской Украины, подвергалась жестоким пыткам. После войны жила в Чехословакии (Словакии) под надзором органов госбезопасности.
[3] Дорогое дитя (венг.).
[4] Антоний Годинка (1864 — 1946) — венгерский историк, филолог, фольклорист, публицист, педагог.
[5] Головные повязки.
[6] Севастьян Сабол (1909 — 2003) — священник Украинской греко-католической церкви, писатель и поэт (псевдоним Зореслав), ученый-теолог.
[7] Дядя.
[8] Трубку.
[9] Фруктовую водку.
[10] Настоящее имя американского художника Энди Уорхола; стихотворение было положено на музыку и исполнялось рок-группой «Плач Иеремии».
[11] Земплин, Спиш — исторические области Словакии.
[12] Род юбки.
[13] Хозяева.
[14] Комитат — историческая административно-территориальная единица Венгерского королевства, существовавшая с Х века до 1918 года.
[15] Михай Мункачи (1844 — 1900) — венгерский художник, уроженец города Мукачево.
[16] Надь Юлиан (1957 — 1989) — русинский журналист и фольклорист в Югославии, погиб в автокатастрофе.
[17] Друзья.
[18] Бетьяр (венг.) — разбойник, герой фольклора.
Май фэмили
Эдин Евгений Анатольевич родился в 1981 году в г
Эдин Евгений Анатольевич родился в 1981 году в г. Ачинске Красноярского края, окончил Красноярский университет. Работал сторожем, актером, помощником министра, журналистом, диктором и др. Печатался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «День и ночь» и др. Лауреат премии им. В. П. Астафьева. Живет в Красноярске.
ОРАНЖЕВАЯ ПОЛОСКА ПОД ДВЕРЬЮ
По утрам мы просыпались от полоски оранжевого света под дверью и чуть слышного гудения — отец брился старой даже по тем временам электробритвой «Нева», подаренной коллегами. В ванной не было розетки, и он просовывал вьющийся шнур в коридор, выпуская свет.
Я любил просыпаться под этот звук и видеть оранжевый луч внизу.
Шлепаешь по линолеуму, продирая глаза, и распахиваешь дверь, улыбаясь лицом с оттиском пуговицы подушки. Отец поворачивает голову и приветственно кивает, не как все, а по-своему, снизу вверх, и я киваю ему снизу вверх. По его щекам, морща и растягивая их, до синевы елозит «Нева»; когда-нибудь и я буду бриться «Невой» и уходить на работу с его дипломатом.
Я смотрю на его раздувающийся круглый живот и волосатую грудь, на короткие крепкие ноги. Моргаю на свет, просыпаясь, чувствуя тяжесть в мочевом пузыре и предвкушая освобождение.
Скрипнув диваном, встает мама, бредет на кухню готовить завтрак. Подскакивает испуганно сестра собирать в школу исчерканные мною тетради. И когда отец одевается в коридоре в пальто и серые мягкие полуботинки, подаренные братьями-китайцами , все оказываются вокруг, чтобы сказать:
— Ну, пока! Ну, давай! — и кивнуть снизу вверх.
Мы с сестрой остро ждем этого еще и потому, что иногда отец рассеянно роется в карманах и достает нам по конфете «карандаш» или «светофорик», и кому что — будет драка.
Иногда, перед тем как уйти, он долго сморкался, проверял, на месте ли бумажник и расческа. Присев — коротковатая штанина на согнутой ноге взлетала до середины голени, — бесконечно завязывал и перевязывал шнурки. Смотрел на нас лукаво, из-под разбойничьи укусившей брови ханориковой шапки. И мама не выдерживала:
— Коля, ну! Скорее, кофе стынет, я опоздаю!
И мы смеялись, увидев его скроенную для нас физиономию.
Мама вертела головой и тоже на всякий случай усмехалась. А он доставал из брюк и торжественно вручал ей во много раз сложенный лист бумаги, на котором крупными линиями фломастера с частоколом восклицательных значилось: «Коля!!! Скорее, кофе остывает!!!!».
Мы трясуче сползали по стенам, он улыбался добрыми губами и подставлял маме шутливо вздутую щеку. Как он проделывал это, с бумагой? Конечно, он доставал ее, только если написанное им совпадало со сказанным мамой. Нехитрый фокус, но тогда — из разряда непознаваемого.
Хлопала дверь, мы срывались к окну — ждать, пока из-за угла покажется фигурка в ханориковой шапке, с прямоугольничком дипломата в руке, и деловито начнет удаляться к аллее.
У входа в аллею, где тополя вдоль тротуара стремились в перспективу, размываясь в темноте утра, фигурка вдруг останавливалась и махала нам рукой. Мы сумасшедше размахивали в ответ.
Фигурка скрывалась за деревьями, но мы еще не шли есть — мы ждали самого лучшего, главного момента за утро.
Проходили минуты. Я беспокойно танцевал у окна и морщил начавшие деформироваться близорукостью глаза, сжимал и плющил пальцами глазные яблоки до расслоения мира и радужных звезд, и:
— Вон, вон он! — кричала сестра и махала. — Видишь, слепуха? — ей было важно, чтобы и я видел: забыты испорченные тетрадки…
И мне казалось, что я тоже вижу точку на выходе из аллеи, у белесо победившего тьму фонаря, — на миг остановившуюся точку, взмахнувшую пылинкой-рукой.
...Мама просыпается раньше меня, но не выпускает полоску света в коридор; она скулит внутри ванны, внутри клетки моей груди, когда я открываю глаза. Мне двадцать семь, сегодня мне нужно на Салырское — поправить могилу уснувших чудес.
MY SISTER’S NAME…
— My sister’s name is Liliya. She is fifteen years old. She is a pupil, — чеканил я на уроках английского под одобрительные кивки Евгении Жоржевны.
В первый год изучения языка я был лучшим. Мне даже удалось постичь разницу между определенным и неопределенным артиклем, что давало все шансы на дальнейшую карьеру переводчика во Владике. Оттуда я буду гонять японские машины, независимо выставив локоть в открытое окно и дымя «Мальборо».
Топик о сестре я начинал бойко, с небрежностью коренного жителя Альбиона. Но на фразе «She can’t draw, but she like read and write» я срезался и неизменно произносил «she like ri dand write».
Фраза, сдобренная безупречным английским произношением, звучала шикарно на русский слух , но на Евгению Жоржевну действовала как скрип по стеклу.
— Женя! Ты твердишь бессмысленно. Разбивай на слова, проговаривай, переводи про себя. Read! And! Write! Все сначала! Once more.
Я начинал топик с начала, но на проклятом месте мой рот сам собой выплевывал «ri dand write». Я злился на сестру за то, что она не умеет рисовать, но любит читать и писать. Я ненавидел Евгению Жоржевну, свою любимицу, за непонимание, вдруг омрачившее наши светские английские отношения.
В итоге Евгения Жоржевна вкатила мне первую в жизни британскую пару. Сестре я припомнил ее вечером — устроил потасовку и скомкал тетрадь по химии. Мы бились насмерть.
…В старших классах у меня появился страх. Неужели я совсем не люблю ее? — спрашивал я себя. Прислушивался, и сердце сжималось в кроличье, выдавая пустоту внутри.
Это было тем более страшно, что, начиная со стихотворения «Я давно ждала братишку», исполненного ею в садике в день выписки нас с мамой из роддома, до последнего шарнирного солдатика, купленного мне на куцую стипендию, она была идеальной сестрой.
Мы сражались с раннего детства. Мои глумливые автографы появлялись на страницах с ее домашками раньше, чем оценки учителей. И сейчас, при свете плетеной кухонной лампы можно разглядеть шрам, оставленный мной на ее лбу.
Ее хитрые подружки из медухи, построив мне глаза, лукаво сталкивали нас и, закинув на подлокотник кресла оголенные ноги в капронках, наслаждались шоу.
— А ну-ка, махла! Ну, маленечко! Вы так прикольно деретесь!
Мне было 12, ей 17. Я был идиот выше ее на полголовы и тяжелее на десяток кило.
В разборах родители принимали ее сторону. Я забивался в угол и мрачно думал, что я не родной, что меня любят меньше. Но уже тогда, самой изнанкой существа, ее исподним, я начинал чувствовать и опасаться, что это неправда.
Следующим страхом, который сграбастал меня в свои синюшные лапы в универе, был другой — мои родители никогда не любили сестру.
С самого начала они хотели мальчика. Меня. На фотографии в Алуште, куда мы ездили в отпуск, я стою между родителями, а сестра в коротеньком платье отдельно, глядя в небо. Если бы первым родился я, ее могло не быть. Я был их надеждой, она — в лучшем случае утешением.
Маленькая, с мешковатой фигурой и неразвитой грудью, с мягким слабым лицом, лишенным какой-либо жесткости, отпечатка личности, она не пользовалась популярностью в классе и медучилище, куда родители отдали ее в расчете на связи отца. В итоге она вышла замуж за первого позвавшего, впервые проявив строптивость — родителям не нравился носатый кандидат с длинными руками и ногами, непутевый сын подполковника местной воинской части.
Врун, матершинник, оторви и выбрось, он по-своему привязался к ней, по-своему любил. Хотя и изменял направо и налево, привозя из командировок «боевые награды» — парафраз достижений своего воинского папашки, — которые объяснял обострением прошлых болячек.
Вадим быстро выявил слабое место сестры — способность к состраданию и всепрощению, и умело объездил эту черту. Как смирную лошадь, ждущую, пока на нее наденут седло и сунут в зубы трензель.
Мне было 13, когда он вполушутку обещал переломать мне руки, если я трону сестру пальцем. Мне было стыдно. Мысль о том, что меня запугивает человек, не являющийся членом семьи, била как хлыст. Сестре тоже стало неловко, хотя в ее глазах впервые зажглась тихая радость женщины, которую кто-то готов защитить.
Мы подрались пару раз, просто для того, чтобы доказать самим себе, что для нас ничего не изменилось, но это было уже театральным актом, ритуальным жестом, после чего навсегда забросили это дело, окончательно повзрослев.
— Главное, не бей в живот, — сказала она и несмело улыбнулась.
Это одно из самых пламенеющих стыдом мгновений моей жизни. В нем соединились чувство сильного, которого просит слабая, и сознание того, что моя сестра совершенно и враз отдалилась от меня, от игр в «Марио», детских войн, походов за грибами. Навсегда отгородилась фатой и пологом, за которым свершается таинство.
Меж тем беременности кончались ничем.
Мы ездили с Вадимом стрелять по банкам из карабина. Были в деревне, где я впервые повел трактор и сел на лошадь. Помню болотные сапоги, которые можно было натянуть до шеи, пение комаров в утреннем холодке и упругий ход спиннинга, выхлёстывающего добычу из озера — грязноватого, зацветшего кувшинками и ряской. Тогда Вадим сказал мне, что у сестры было два выкидыша.
— Это я так, тебе. Никому не говори. Она переживает. — Иногда этот легкомысленный хвастливый тип, до того худой, что любые штаны на нем выглядели сдернутыми с Вуди Аллена, со впалыми щеками, филинскими бровями и поросшим бедной щетинкой кадыком, бывал нежен.
Несмотря на то что мама за глаза называла его «барахло», «грабитель с большой дороги» и «проститутка Буратино», наверное, моя сестра была единственной, к которой он чувствовал нечто вроде любви в ее изначальном смысле — жалости, нежной грусти.
— Если бы не она, я бы уже был на кладбище или в тюрьме, — говорил он и глуповато подмигивал.
Тогда же проявилось еще одно качество сестры — скрытая под внешней беззащитностью выносливость незаметной пружинной рессоры под блестящим самодовольным оленем на капоте. Она могла страдать глубоко и скрытно, не понимая, что можно, принято делиться своим горем.
Когда я приходил к ним домой, после очередного болезненного посещения ею гинеколога, она встречала меня, как ни в чем не бывало. Я ложился на кровать и смущенно заплетал в косички бахрому покрывала. Она привычно садилась на подоконник, опираясь на руки, зажатые между коленями.
Она повзрослела как-то враз, через такт — из плоскогрудой девочки стала сбитой женщиной. Приобрела папины короткие сильные мышцы, мамины ключицы и округлости, взгляд, в котором всегда теплилось что-то замужнее, несуетное. Принимающее и удовлетворенное порядком, по которому женщины терпят побои, спят с негодяями, теряют или в муках рожают детей.
И я снова, постигая эти новые черты, уважая за них, чувствовал, что мы, будучи близкими, бесконечно далеки.
Мы разговаривали, подбирая по предложению, по два. Нам было неловко говорить о личном, мы вспоминали легкое. Прыгание через резинку в летней светотени. «Гостью из будущего». Прятки за домом. Пухлых подружек с вросшими ногтями. Нам становилось более естественно в присутствии третьего — подслеповатой архивщицы Наташки, прогуливающей пуделя в клетчатой одежке, или Вадима.
Он устраивал из рукопожатия целый цирк с выворачиванием кисти, странными болевыми па, моими вскрикиваниями, кувырканиями и кульбитами, и показывал фокусы с картами, на которых сладко выгибали спины и дерзко раскидывали ляжки порнодивы, — уверяя, что карты купила сестра.
— Спроси у нее. Мне бы и в голову не пришло покупать такие карты, — говорил он, и в глазах его прыгали сатиры. — Дерьмо. Херовые карты!
Я смотрел на сестру, и она усмехалась неуверенно, но и смело, как всегда в присутствии своего мужчины.
Я не знал, верить ли его словам, но уже не отметал их смысл безоговорочно, как раньше. Смысл был такой: моя сестра повзрослела и могла купить своему мужчине карты с голыми женщинами. В нижнем ящике ее платяного шкафа были вероятны черные чулки и эротическое белье. Два не рожденных ею ребенка остались в никелированных жестянках гинеколога Думанского.
Они развелись шумно, после того, как у нее не осталось сил обманывать себя в верности мужа.
— Это точно, это уже совсем правда, мама, — плакала она, сидя рядом с мамой, но отдельно. В нашей семье были не приняты объятия.
— Давно пора, — сказала мама с мрачной убежденностью. — Он тебе и так все нутро испортил, понацеплял своих…
Обычная кротость сестры изменила ей. Вернувшись в нашу старую квартиру, она рыдала, скандалила и подозревала родителей в интригах. Ее карманы пропахли сигаретами. Однажды я застал ее плачущей у темного окна.
Эта поза запечатлелась в моей памяти с детства. Одна нога поставлена на козонок, рука опирается о прямоугольник проема. Спина с сутуловатой осанкой, за которую ее ругала мама, одиноко вздрагивала, как когда-то по исчерканным мною тетрадкам. Мое сердце екнуло.
Я чувствовал стыд за то, что весело болтал с ним. Что ездил в деревню, где он великодушно предложил мне застрелить из карабина чумную собаку. За все эти чертовы фокусы с голыми бабами, на которых он променял, профокусничал мою сестру.
Он съехал со съемной квартиры, прихватив наши вещи вместе с чужой гитарой, и потом целый год названивал сестре по ночам. Плакался о своей трагичной доле — ему предстояла женитьба на женщине, ждущей не его ребенка.
— Ты вор, понимаешь, ты во-ор, — вяло твердила она в телефонную трубку, по-детски округляя звук губами, вытянутыми в трубочку. — Ты взял наши вещи. Гитару дяди Саши (дюди Соши). Папин чемодан (чумудан). Он его из Сочи не для тебя привозил. Зачем ты звонишь? Нет, ты скажи? У тебя есть своя. Вот и звони своей…
Конечно, плевать ей было на эти вещи. Она и не помнила фибровый чемодан со стальными уголками — бездумно, заклинанием, повторяя затверженное мамой. «Ты плохой, не хочу играть с тобой». Наука равнодушия, как и другие точные науки, давалась ей непросто.
Однажды я вернулся с учебы рано, открыл дверь ключом и услышал шепот сестры в недрах квартиры.
Она вышла, пряча глаза, и неожиданным объятием увлекла меня на кухню — кормить.
Я ничего не понял, иначе дал бы себя увести. Но я удивленно сбросил ее руку, прошел через зал и распахнул дверь в маленькую комнату.
На спешно застеленной кровати, вытянув длинные ноги, сидел Вадим и улыбался.
— Здорово. Как дела? — спросил он, полыхнув золотым зубом.
Его глаза уперлись в мою переносицу смело и развязно. Это он учил меня смотреть в переносицу врагу, обманывая страх.
— Нормально, — буркнул я.
Мимо проскользнула сестра и встала у стены, одновременно защищая нас с Вадимом друг от друга и являясь проводником между нами. Она поймала мой взгляд и смущенно улыбнулась; поднесла руку к волосам, закрывая лицо.
— Не говори маме, ладно? — сказала она из-под руки.
— Серьезно, Ром, не говори, — попросил Вадим. — Мамка ругаться будет. А я тебе гитару верну. И еще лучше куплю в Красноярске. Я туда фуры гоняю.
Сознание того, что мне хотели заплатить за молчание, отозвалось в голове звоном оплеухи. Конечно, я никому ничего не рассказал бы. Но само ощущение, что меня могли заподозрить в стукачестве, несмотря на ненависть к нему...
Я молча развернулся и ушел на кухню.
Через несколько минут под его плоскостопыми ногами проскрипели половицы, и дверь хлопнула.
Вернувшись в свою комнату, я нашел на полке смятую пачку «Эмэндэмс». Я выкинул ее в дождливое окно, жестоко не слыша виноватых перетаптываний у входа в мою комнату. Потушил свет и лег на диван. Сестра не решилась зайти.
Конечно, я не мог не любить ее.
С ней мы бесконечно слушали пластинку со сказкой «Про обезьяну», цитируя на память диалоги и подделываясь голосами под зверей.
С ней ходили к китайскому поезду за первой в моей жизни то ли кожаной, то ли дерматиновой курткой, с разлопнувшейся в первый же месяц краской на швах. С ней заимствовали мелочь из родительских карманов и меняли в гастрике на параллелепипеды «Бомбибом».
…Прошло много лет. Она несколько раз была замужем. Ей катастрофически не везло с мужьями. Они меняли ее то на бутылку, то на звонкий рычаг игровых автоматов, то на веселых друзей в гараже. Был один историк, злостный уклонист от алиментов, был даже геолог, студент аграрки…
Она жила с каждым как в последний раз. Накрывала заботой, как оборчатой юбкой тряпичная курица — накидка на чайник, подаренная сердобольными подругами на очередную долгую семейную жизнь.
Они охали, приходили пить вино, в порыве бабьей жалости сжимали ее руки, которые она недоуменно освобождала. Она не понимала сочувствия к себе. И потом, у нее наконец-то появился сын Артем, десятилетний скейтер и паркурщик. Другого такого точно не было в их сервильных, пропахших пустыми интерьерами квартирах.
С тех пор, как умер отец, сестра смотрит на меня как на его продолжение.
В ее глазах безоговорочное уважение без попытки понять. Доверие ребенка на фотографии, где я стою божком между родителями, а она отдельно, в короткой юбочке, заглядывая в далекое синее небо.
НЕЗНАНИЕ ОБЛАКОВ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Больница стоит на окраине, громоздится крепостью на возвышенности.
С трех обрывистых сторон внизу залегает частный сектор. С четвертой стороны город взлизывает к ней языком плавной дороги.
Если больница, любая, столичная или провинциальная, то: запах кварца и фурацилина, детдомовские полы цвета половой тряпки с мраморной крошкой, оранжевое мерцание длинных мутных ламп дневного света.
…«Отсюда меня выносить будут», — по обыкновению говорил отец, когда в два ночи открывались двери в кабинет, через которые ввозили очередного больного. Жареного, пареного, обмороженного, с переломанными конечностями, в тумане перегара.
— Что было в последний раз? — Зоя Борисовна и я за столом. — Вчера ты пропустил. Значит, с вечера позавчера до утра сегодня?
— Утром я лежал на диване. Я только проснулся и смотрел на облака. Я лежал и думал… думал, на что они похожи. То есть думал… что они уже давно мало на что похожи… Извините.
— Рассказывай, как рассказывается. — Она уверенно кивнула, прищурилась и чуть склонила голову набок. Женщина за сорок, с матовым припухшим лицом, крахмальной грудью, навалившейся на стол, с холеными пальцами, выстукивающими по стеклу в ожидании, с крупной стройной фигурой, насколько можно разобрать через халат. Впрочем, халат всегда стройнит, и вот почему у врачей статистически много служебных романов.
— Облака выплывали из-за того дома ромбом, как нос корабля — знаете, где живет мама? Поблизости всего один такой.
— Да-да.
— Все облака выплывали из-за него и плыли в одну сторону, на запад. Но вдруг я увидел, что одно облако, лиловое, не выплывает, а как бы не может… Оно как бы пыталось выплыть, но все время возвращалось, это были такие подергивания туда-сюда, — я изобразил руками. — Это почему-то показалось мне странным, хотя черт их знает, эти облака.
— Ты смог отделить это от себя, как мы договаривались? Свои ощущения от себя, когда это начинается?
— Я еще не понял, что это начинается.
— Что было дальше?
— Я пошел в другую комнату и посмотрел в окно оттуда. Но все равно угол дома мешал. Я пошел на кухню. Там тоже было не видно, только как будто капельку чернеется что-то...
— Так.
— Тогда я вышел из дома и отошел так, что дом-корабль уже не мешал. Я еще подумал — хорошо, что у меня есть ключ. Мама поставила новый замок с автоматической защелкой. Ей кажется, что за домом следят. Еще она хочет сменить дверь. Может, ей тоже стоит зайти к вам?
— Не отвлекайся. Что ты увидел?
— Да. Сейчас. Я увидел… там, где было то странное облако… Там был какой-то аппарат. И на нем сидела женщина. Мне показалось, аппарат похож на что-то медицинское. — Я поискал глазами вокруг, но не нашел ничего подходящего. — Он был блестящий, и он захватил лиловое облако!
Я вскочил и заходил по кабинету, размахивая руками, как киношные психи.
— Он как бы присосался к нему и двигался. Туда-сюда, туда-сюда! Как если бы хотел оттранспортировать его в другом направлении. Но у него не получалось. Туда-сюда, туда-сюда… Я понятно объясняю?
— Чем это закончилось?
— Я не дождался и сразу пошел сюда.
Я сел и потянулся к стакану; он был пуст.
Она побарабанила пальцами по стеклу, собрав губы в бутон.
— Ты говоришь, в аппарате сидела женщина. Какого цвета одежда была на женщине?
— Она была… женщина была голая.
Яростно взвизгнул стул. Она хлопнула ладонью по столу, резко встала и отвернулась, взметнув полы халата.
— Мне что это, для себя? У меня очередь в коридоре, — холодно сказала она.
В кабинет действительно просунулась лысая голова на черепашьей шее и поверх очков посмотрела на нас. Зоя Борисовна врачебно-пронзительно сказала: «Подождите, я вызову!», — и голова убралась, прикрыв дверь.
— Простите, пожалуйста, Зоя Борисовна, — сказал я. — Сам не знаю, что нашло.
Я встал, взял со стола афганку.
— Понимаете, я не верю, что это лечится разговорами. Мне вообще стыдно, что я вас отвлекаю. А можно мне просто поставить укол? Или можно выписать феназепам?
Она повернулась, на ее лбу творилось маленькое утомленное землетрясение.
— Ну хорошо, — сказал я обреченно и снова сел. — Может, вы и правы. Вам дать воды? Или можно мне воды? Я больше не буду, Зоя Борисовна.
— Я надеюсь. А то я буду думать, что ты считаешь меня дурой. — Она села напротив, но вполоборота, — будто одновременно оставаясь стоять спиной, — налила и двинула мне стаканчик.
— Ты снова чувствовал кожу?
— Да. Я чувствую ее по ночам.
Мы обсудили мою проблему, и она попросила рассказать об отце.
— Расскажи что-нибудь про своего отца. Не задумывайся — первое, что придет в голову.
— Мой отец… — Я пожал плечами. — Однажды он сделал мне лопату для снега. Я ходил в садик в таких противных колючих зеленых колготках. И мне никогда не хотелось идти в садик именно потому, что нужно было натягивать эти колготки… я отклоняюсь?
— Нужно говорить, что выговаривается. В этом и суть.
— Зимой воспитательница сказала, что надо купить лопатки. Не помню, что мы ими делали, ими ведь можно только убирать снег, а это детский труд, это запрещено Конституцией… Но мы обошли все магазины и нигде не нашли лопаток. И вот он сел дома, — зима, узоры на окнах, дома полумрак, — и прямо из того, что валялось на балконе, как волшебник, сделал лопатку. Вырезал из листа железа штык, взял нарядный черенок от механической швабры, прибил какую-то блестящую полоску… И получилась лопата. Еще лучше, чем магазинная, которые принесли все. Я ее очень полюбил.
Атмосфера за дверью накалялась.
Зоя Борисовна неохотно пригласила меня за перегородку, разломила ампулу и ввела в плечо три миллилитра боли.
— Кто сейчас занимает его кабинет? — спросил я.
— Альков. Неплохой костоправ.
Мы вышли из-за перегородки и направились к двери.
— Вчера ты не пришел, а между тем для успешного лечения нужна регулярность, — сказала она сухо на прощание. Кажется, она не простила мне лиловое облако. — Следующий!
Я вышел, пронзаемый взглядами, как святой Себастьян, и закурил на крыльце.
Было солнечно, веяло утренней прохладой. По улице бегали собаки, ходили больные, еще не осознавшие безнадежности своей болезни.
Нет, я не прочь говорить об отце с Зоей Борисовной. Для нее это способ вызвать его тень, чтобы поплакаться о не случившемся. Ведь я «жутко, просто жутко похож на него», и когда она прикасается к моему плечу, вводя иглу, у нее, наверное, такое чувство... Мои воспоминания для нее — сладкий укол морфия.
Она катастрофически одна, два года назад у нее умер муж, год назад за наркотики забрали сына, — но почему я должен за укол рассказывать ей, каково мне чувствовать отдельную жизнь и шевеление собственной кожи?
…Видеть по утрам вместо рожек, которые поджарила мама, маленьких белых червей?
Слышать потустороннее эхо всех звуков?
Ночью в ужасе уезжать из дома, внезапно осознав, что родной человек, спящий рядом, — это страшно отдельный человек? Что это не ты, с непознаваемыми мыслями, который спокойно и чуждо дышит во сне в одной комнате с тобой. И в мире с одним ты спят миллиарды не ты.
И никому никакой возможности передать словами этот ужас и рассказать правду об этом.
При чем здесь отец, мой лучший, легендарный травматолог Ачинска, и как можно нас всех излечить от этого?
Из цикла «Топики русской поэзии»
Кутик Илья Витальевич родился в 1961 году во Львове, окончил Литератур-ный институт им
Кутик Илья Витальевич родился в 1961 году во Львове, окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Дебютировал в поэзии на рубеже 1970 — 1980-х годов, войдя в круг метаметафористов: Александра Ерёменко, Ивана Жданова, Алексея Парщикова. Первая книга стихотворений вышла в 1988 году, в переводе на датский язык. Переводчик поэзии с шведского (Тумас Транстремер), английского (Александр Поп, Честертон, Эзра Паунд), польского (Циприан Норвид) языков. Переехал из Москвы в Швецию, в 1995 году поселился в США. Доктор философии Стокгольмского университета, профессор Северо-Западного университета (Northwestern University, Chicago). Живет в Чикаго.
Топики
Как музыка помнит о Бахе,
кто б ни сочинил её, — так
есть в фибрах стиха амфибрахий,
старейший афродизиак.
Как были у Гойи две Махи:
одетая Маха и ню, —
нагим был смелей амфибрахий,
но Гимн его смёл, как меню.
Зато остаются на свете
— вне гимна и без подвывал —
российские топики эти:
дорога , пловец и кинжал …
Не так этих топиков много:
есть перстень ещё и певец ,
но главные всё же — дорога ,
пловец и кинжал , наконец.
Есть памятник , птичка , а кроме
пророка — поэт и толпа …
Их ставят, как столбики крови,
добытой из вен, на попа ,
чтоб стали бы эти пробирки
не только ростральным огнём,
но и колоннадой той дырки,
которую небом зовём…
Кинжал
/клинок/чёрный пистолет и т. д.
1
Зарежу, зарежу, зарежу —
рычит, налегая на «ре»,
а ведь разговаривал реже,
когда был прописан в ковре
и грезил о пальмах… Но пальмам
не грезился он, а узор
там выжгла пустыня напалмом
и волнами горбит ковёр.
— Пустыня, и пусть!.. ну и что же,
что волны там не из воды:
и горы на волны похожи,
зато несомненно тверды.
Неважно, что вымрет орнамент,
тем более — фигуратив,
Бог даже зиянье обрамит,
в предмет пустоту обратив…
2
Что видит предмет из металла,
во тьме напрягая глаза?
Он терпит все муки Тантала:
едва лишь потянется за
уютно подоткнутым миром,
как тот отъезжает назад
не только мишенью — всем тиром
отпрядывая, как сняряд…
И в мире предательском этом
отдача такая же, как
у пушки, что вместе с лафетом —
улитка , а правильней — рак …
3
Что в генах кынжал из булата,
дамаска иль вуца хранит?
— Родню и что были два брата,
их звали — Алмаз и Графит.
Алмаз был нарядным, как феска,
Графит был надёжней брони;
ещё — их описывал Ферсман,
а до него — аль-Бируни;
ещё, что из лагерной фени
карбида с ферритом узор
его возникает, как феникс,
когда умирает костёр;
что враг-углерод, как лазутчик,
в ферриты вползти норовит,
чтоб терру корней и колючек
понять изнутри, как термит;
что сам он — из черни да в князи и вязи,
и даже не сам, а ножны
с черeном , но кровные связи
меж ними отнюдь не нежны:
он так ненавидит мезузу
за то, что похожи и нет,
как люстра в ночи — на медузу,
когда в ней шевелится свет…
4
Как в рыбах их жалюзи-жабры,
так в ножнах вращается лязг,
но разве ножны — не хиджабы?..
Не дамское дело, Дамаск!
Путём на Дамаск через Калку
подался, как Савл, харалуг …
Но компас вращает скакалку,
чтоб Севером выпрыгнул Юг…
…Он с виду, как мачо, брутален,
когда выкрикает — мочи!..
А всё потому, что царь-Калин
брал Киев, а не Кубачи…
5
…Он был одиноким, как Север,
а рвётся «за Юг» из ножон…
Не он помутился, а сервер,
куда весь узор подключён…
(Из проволочек, как из ниток
ковра, набирается наш
Верховного Разума слиток,
размером с могучий этаж.)
Он тоже из проволок сварен,
спиралью закрученных, чтоб,
как степи — монголо-татарин,
он горы включал , как лэп-топ,
и мог бы быстрее морганья
в пустыню слетать, как iPhone,
к тем пальмам, где в фата-моргане
дубайский запутался фон…
6
Он грезил об имени… Дага ,
но это в Европе… А жар
диктует другое… Однако
и жаркое ж имя — киджар!
Ведь имя — такая же карма,
как пряжка на поясе в рай…
Он стал откликаться на кама ,
узор его — на мархарай .
Но есть ещё имя второе :
любовное имя… Оно —
как будто звезда для героя,
и полному счастью равно.
Оно долгожданно, как Мекка,
ему — от визирей и лял
до Лермонтова и абрека —
его почти каждый давал…
Но есть ещё третье … И третье
он выучил чётко, точь-в-точь
как знают все кости в скелете
студенты в зачётную ночь.
Им не поторгуешь на вынос,
его прижимают к нутру;
его ни ковру он не выдаст
узорному, ни ЦРУ.
Он имя последнее это
так спрячет, как прячут скелет
в шкафу; как медали у деда
и чёрный его пистолет;
как прячет убийца перчатки
и гроб опускается, чья
поверхность хранит отпечатки
для базы инобытия …
Библиотека
Краснящих Андрей Петрович родился 6 февраля 1970 года в Полтаве
Краснящих Андрей Петрович родился 6 февраля 1970 года в Полтаве. Окончил Харьковский государственный университет, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории зарубежной литературы и классической филологии. Автор книг «Украинский Нострадамус» (2005), «Харьков в зеркале мировой литературы» (2007; совместно с К. Беляевым), сборника рассказов «Парк культуры и отдыха» (2008; шорт-лист премии Андрея Белого). Публиковался в альманахах «Вавилон», «Фигуры речи», «Абзац», журналах «Новый мир», «Искусство кино», «Новая Юность», «Наш» и др. Сооснователь и соредактор литературного журнала «©оюз Писателей». Живет в Харькове. В «Новом мире» (2012, № 12) был опубликован рассказ «Антиантибиблиотека-2».
АНТИБИБЛИОТЕКА
Я все думаю, в чем смысл этой истории. Что я должен был понять перед тем, как раскрошил книжную полку подвернувшимися или — не помню — подготовленными гантелями? Какая-такая связь между моими мыслями и моей книжной полкой, между полкой и книгами на ней? Что мне помешало принять предложенный мной же порядок в расстановке книг? И главное: когда хаос успел перегруппироваться и превратиться в систему? В среду? В четверг? В пятницу? Или еще в понедельник?
И почему меня не устраивает объяснение «а черт его знает»? Неужели всю мораль моего приключения можно уложить в парадокс, что бессмыслица требует большего смысла, чем порядок? Или что глупо играть в антибога и выдумывать антибиблиотеку?
Да вот и тон, который я никак не могу подобрать для своего сюжета, — колебания между предельной ясностью сознания и полусонными недоговорками, — все не то, не то. Как будто чувствую, что решился высказаться о том, что непременно потеряет в словах. Разрезать бы сюжет бритвой Оккама: не умничай! — и останутся только слабые шурупы и четыре дырки в стене.
Книги никогда не помещаются в одном шкафу: они лежат на полу, всовываются в не предназначенные для них щели, прячутся в гардероб или шифоньер, втискиваются туда, где уже нет места ничему. Когда перестаешь их искать, самое время купить новую книжную полку.
Я позвал единственное живое существо, кроме меня, в этом сюжете — соседа Анатолия с электродрелью. Пока он вешал полку, я узнал, что дюбеля называются чопиками. Теперь не было никакой сверхзадачи: надо было просто расставить книги. Но как раз на этом я и споткнулся. По алфавиту в домашних условиях ставить книги глупо, можно по периодам, но я решил отказаться от любой системы. Любая система — это ненужный мне смысл. Почему Фаулз должен соседствовать с Карпентьером? Ведь это же гадко: я захочу взять Карпентьера и увижу Фаулза, и обязательно подумаю, что в «Весне Священной» должно быть что-то от «Волхва», и начну искать это что-то. А если рядом еще и Апдайк?
Контекст отвратителен, в идеале каждая книга должна стоять на своей отдельной полке. Вся квартира в книжных полках, и на каждой по одной книге — вот чего я хотел тогда, когда думал о расстановке книг. Но уже через минуту я отказался от этой мысли: а иерархия? Должен ли Пруст стоять выше Мамардашвили? Или ниже? Опять же Библия: по разным причинам она не может находиться ни на верхней, ни на нижней, ни на средней полке, а не поставить ее никуда — это тоже позиция. Да, ерунда. А собрания сочинений? Одинаково мутило и от консерватизма сверху вниз, и от маньеризма снизу вверх, но и вперемешку смотрелось бы авангардно. К тому же я мог рассчитывать только на одну полку.
Я подумал, что если не придавать книгам значения, то расставлять можно как попало. Вот Бубер, он будет первым, я его не читал. Вот Эко, он будет вторым, я его читал. Дело мастера боится, как сказал сосед Анатолий. Между Кафкой и Голсуорси я почитал Чулкова. «Александру мерещился тот яркий солнечный день, когда он с королем прусским въезжал торжественно в Дрезден при радостных криках саксонцев; он вспоминал, как он гулял по Дрездену и толпа теснилась вокруг него, и потом — эти мучительные воспоминания о Люценских полях, куда явился Наполеон с новой армией, заявив, что он теперь открывает…».
И так далее, всего страницы полторы. Прочитанное вдохновляло. Чулков никому не мешал, и я подумал, что больше его читать не стану.
Очень хорошо следом за Голсуорси стал Алешковский, еще лучше за Алешковским — Кортасар; теперь можно не смотреть на названия: вытирать пыль и ставить просто так, одна книга, еще одна, корешок черный, корешок синий, блестящий, снова синий, только светлее, Стриндберг, Бахтин, Пиранделло, Мамлеев, нет, Борхес. Я снял Борхеса, поискал, нашел Мамлеева. У интеллигентного Фриша на обложке я увидел выражение лица, которое дурак принимает за льстивость, а умный — за деликатность. Это была не фотография, а рисунок Магритта. Перед тем, как поставить на полку «Современную французскую комедию», я раскрыл эту книгу. «Люси. Ты так высмеивал мои буржуазные привычки, что мне пришлось приноравливаться к „духу времени”. Только я никогда толком не понимала, в чем он заключается, этот самый „дух времени”. (Неожиданно подходит к двери и кричит.) Я не люблю тебя, Джулио! Я не могу тебя любить. Я любила Арчибальда, а теперь никого больше не…». Перелистнув на оглавление, я увидел, что это мог быть и Робер Тома, и Андре Руссэн, и Франсис Вебер, равно и Робер Ламуре, Пьер Шено, Франсуаза Дорэн и кто-то еще. Я расценил это как большую удачу. Теперь Горенштейн — то, что надо. Виктор Ерофеев? Возможно. Во всяком случае, большой беды не будет. Рядышком Борхес, нет, не Борхес, Андре Жид.
Полка закончилась, я поел и лег спать. Во сне я вижу то, что было днем, только наоборот (мне не хотелось признаваться в этом заранее): то, что наяву представлялось ладным, ночью выходит отвратительным. Конечно, весь сон крутился возле книжной полки. Я увидел, что Бахтина поставил перед Пиранделло, осознал всю неуместность соседства Кафки и Чулкова. Очень скверно, что к Ремарку притулился какой-то недовыплаканный деревенщик. Присмотревшись, я обнаружил вместо деревенщика Мамардашвили, что тоже было погано. К тому же в стоявших рядышком Фрише и Мамлееве сквозила какая-то детская хитрость, словно в вопросе «как правильно пишется: щекатурка или щикатурка?» И в конце концов, я не знал, как относиться к соседству Киплинга и Битова, но их дуэт сильно нервировал меня.
А самым паршивым оказалось то, что я не обратил никакого внимания на названия, например, не мог вспомнить, какой именно том Горенштейна поставил рядом с «Русской красавицей»: первый или второй (третьего у меня точно не было).
Меня разбудил грохот сорвавшейся полки. Книги разбросались по полу. Полка вырвала чопики из стены, и они торчали вверх на выгнувшихся винтах. Я разглядел второй том Горенштейна. Значит, «Искупление». Как глупо.
Я дотянулся до ближайшей книги. Это был красный Стриндберг, раскрытый на сто девяностой странице: «Чтобы попасть в каморку Игберга, нужно было пройти через эту комнату, и хотя Фальк с Игбергом шли медленно и тихо, они все-таки разбудили двоих детей, и пока происходил оживленный обмен мнениями между сапожником и столяром, мать запела колыбельную, отчего столяр тотчас же пришел в неистовство: — Замолчи, ведьма!». Я почувствовал, что превращаюсь в готического героя, читающего в книгах свою судьбу, и бросил Стриндберга в книжную россыпь. Перед тем, как выключить свет, я не выдержал и посмотрел, в кого попал. Стриндберг угодил в Джойса, и мне захотелось заорать от злости.
На следующий день как я ни объяснял соседу Анатолию, что полка упала из-за меня, он взял на себя всю вину и рассказал анекдот про оленя, чопик и «Добрый вечер!». Ответного анекдота я не вспомнил, но когда он все повесил и уходил, одеваясь в прихожей, мне не удалось сдержаться. Все потому, что сосед Анатолий, уже не рассчитывая на водку, чтобы показать, что он ее и не хотел, сказал: «Крепежка херовая». Лучше бы он не говорил «Крепежка херовая», ушел бы молча или рассказал напоследок какой-нибудь из своих идиотских анекдотов про чопики, а так выходило, что я его использую, держу в дураках, и мне стало стыдно за себя, за свою профессию, за то, чем мне приходится заниматься. И я, конечно, все ему рассказал: и про Кафку, и про то, что будет, если Вирджинию Вульф поставить рядом с Голсуорси, и про те энергии, что вырываются из-под обложек, и про Хайдеггера, Олдингтона, Домбровского (я много здесь пропускаю). Вот только про Фолкнера он слушать не захотел, специально даже шнурки не завязал, так ушел, лишь бы про Фолкнера не слушать (и, забегая далеко-далеко вперед, признаюсь, что эта его черта характера — каждый раз, когда разговор заходил о Фолкнере, сбегать — всегда восстанавливала меня против него, не знаю уж почему, не могу объяснить, Фолкнера я и сам не очень люблю, но готов был убить соседа Анатолия и тогда, и потом).
Когда я закрыл за ним дверь, злясь за Фолкнера, то наконец осознал, почему не отпустил соседа Анатолия раньше, сразу после того, как он прикрепил полку к стене: мне было страшно оставаться один на один с книгами. Как бы до животного туп ни был сосед Анатолий, он, как и я, человек, и никакого подвоха я от него не ждал. Теперь же я мог рассчитывать только на себя. И больше ни на кого. Только на себя.
Конечно, к этому моменту я уже достаточно отчетливо понял, что полка упадет и во второй раз (так и произошло), но оставить книги на полу тоже не мог: была полка, и в ней была огромная (так мне казалось) дырка вместо книг, а сами книги были разбросаны как попало, и эта пропасть, катастрофический раскол между беспорядочно валяющимися книгами и полкой, которая могла упорядочить их, превратить хаос в систему, просто выворачивала мои мозги наизнанку. Я не мог принять ни одного, ни другого, а соединяться они не хотели: полка падала, книги раскрывались.
Чтобы хоть как-то успокоиться, собраться и подготовить себя к неизбежному, я наугад выхватил одну из книг. Ею стал Нагиб Махфуз. Нагиб Махфуз! Нагиб Махфуз, которого я не покупал, которого мне никто не дарил, не забывал у меня, которого я ни у кого не брал читать, не крал — которого никогда не было в моей библиотеке. Страница, где он был раскрыт: «Касим остановился у пальмы, к которой он только что привязал овцу, и ожидал скрывшуюся в доме служанку. Сердце и тон, которым разговаривала с ним Сакина, подсказывали ему, что его ждет нечто приятное и это приятное как-то связано с хозяйкой дома. Он страстно желал увидеть ее глаза и услышать ее голос, чтобы охладить жар тела, опаленного пребыванием в пустыне под горячими лучами солнца. Тут вернулась Сакина со свертком в руках. Протянув его Касиму, она сказала: „Здесь пирог. Ешь на здоровье!”» — могла мне сказать только о том, что на ней написано. Не обо мне, не о моей ситуации, не о том, что связано со мной, а только о себе. Если Стриндберг писал о столяре, о том, как кто-то не может заснуть или засыпает, и я мог подумать о себе, то неизвестно откуда взявшийся Махфуз (потом я вспомнил, что все-таки купил его, давно, лет десять, нет, даже пятнадцать назад) говорил до того ни о чем, что с кем его ни поставь рядом, он будет смотреться если и не идеально, то уж точно благообразно.
Теперь я знал, что делать: из совершенно черной футболки или рубашки я сделаю повязку на глаза и расставлю книги на ощупь. Никто не будет знать, что за чем идет и с чем соседствует. Это будет идеальная расстановка: никакой системы с моей стороны, никакого субъективного вмешательства, универсальный порядок — хаос из хаоса.
Если быть честным, некоторые книги я узнавал по обложкам: того же Махфуза, который минутами раньше побывал в моих руках, длинный и широкий том «Сатирикона», точнее «Всеобщей истории, обработанной „Сатириконом”» — самую крупную по всем параметрам книгу моей библиотеки, еще две-три; с уверенностью могу сказать, что поставил ребристого Пиранделло с золотой «N» (я не подсматривал, я помнил) на обложке между чем-то холодным и ламинированным и таким же гладким супером, а маленького толстенького Честертона — между двумя абсолютно стандартными мягкими переплетами.
Конечно, я пытался угадать, кого ставлю, но больше фантазировал: вот ставлю Виктора Ерофеева, а вот Гессе, следующий Хармс (Хармс у меня был мягким, а я ставил что-то в твердой обложке, но какая разница?), потом — что это? — Розанов? — нет, не Розанов — Моравиа. Таким образом я поставил Бахтина, за ним Берджесса (уже потом заметив, что Берджесс и так идет за Бахтиным по алфавиту), далее — Варгаса Льосу, потом Барта (Ролана), за ним Грина (Грэма).
В какой-то момент я разошелся до того, что стал ставить на полки книги, которых заведомо у меня не было, но которые я давно мечтал иметь и по разным причинам отказывал себе в них, например «Статьи из романа» Битова, вышедшие аж в 1986 году и больше не переиздававшиеся (а может, и переиздававшиеся, но в «фолиовско»-«аэстэшный» четырехтомник не вошедшие — точно), «Феноменологию тела» Валерия Подороги, «Пилата» Лернет-Холения, который, я даже не знаю, переведен ли [1] , «Миф. Ритуал. Образ» [2] Топорова, стоящий довольно дорого, «Христос приземлился в Городне» Короткевича, который в нашей ЦНБ есть почему-то только на украинском, и там по мелочам еще: «Осень патриарха» Гарсиа Маркеса, «Под местным наркозом» Грасса, «Христа распинают вновь» Казандзакиса, «Норму» Сорокина, «Червя» Фаулза.
Полка закончилась, фантазии оборвались. Надо было ужинать и ложиться. Когда я расстилал постель, то категорически не разрешал себе смотреть ни на расставленные книги, ни на те, что остались лежать на полу, чтобы по последним случайно не догадаться о первых. С фантазиями расставаться было жалко, и я, продлевая себе удовольствие, решил почитать на ночь «Червя», точнее — ту книгу, которая замыкала мой книжный ряд и числилась в моем воображении как Фаулз. Зажмурившись, я выщупал ее на полке. Не заглядывая на обложку, прочел: «Протиста смущало, что я говорю ему такие вещи. Чтобы не раздражать его, я поменял тему разговора. Ведь он был так любезен со мной и даже как бы ниспослан провидением… Очень трудно уйти от темы, столь волнующей вас, учитывая, сколь она была мне небезразлична. Тема всей жизни захватывает тебя с той минуты, как живешь один. Она гипнотизирует. Чтобы избавиться от нее, пытаешься разделить ее на всех людей, которые приходят навестить тебя, и докучаешь им. Быть одиноким — значит готовить себя к смерти. „Подыхаешь, — говорю я Протисту, — как собака, и нужны тысячи минут, чтобы заставить тебя тысячу раз забыть все удовольствия от занятий любовью в течение тысячи предшествующих лет… Остальное — ничто, человек не осмеливается признаться в страхе, вот и все искусство”».
Возникшее уже при первых строчках впечатление, что я читаю не «Червя», а «Коллекционера», к концу абзаца усилилось до не передать какой степени, и я, подчинившись и забыв обо всем другом, развернул книгу обложкой к себе, чтобы подтвердить это или опровергнуть. И тут же (до того, как прочитал имя на обложке или после? — я не смог уловить последовательности) вспомнил о своей игре, о книжной полке, о том, почему это не может быть ни «Коллекционером», ни «Червем», ни Фаулзом вообще. Но было уже поздно. Это оказался Селин.
Я попытался успокоиться (в тот вечер мне еще удавалось справиться с собой): ну и что, что Селин, ну подумаешь — Селин, какая разница, а что, если б это Уэллс или, скажем, Джойс, ну пусть не Джойс, пусть какой-нибудь Дюрренматт или По, да, вот По, пусть бы им оказался По, что из этого, да ничего, По как По, или Во, Во как По, или По как Во, или еще лучше — Ге как Ле, Ге не писал, да к черту Ге, да при чем тут Ге? Но нет, все мысли возвращались к Селину. Это был Селин и только Селин. Только Селин и никто другой. А Селин не может стать Фаулзом, хоть сто раз прочитай его как Фаулза, он останется только Селином. Мне невыносимо было думать о Селине: я его не хотел читать и даже думать о нем, он появился исподтишка, хитростью вторгся в мои мысли, под маской друга, если, конечно, с Фаулзом можно дружить. Это было настолько гадко, настолько мерзко, настолько нечестно, что я потерял всю свою веру в идеальную расстановку книг: если в нее проник Селин, в ней уже ничего не было хорошего, наоборот, все было отвратительно, и теперь — я уверен — на полке стоят бок о бок Джойс, Кафка и Пруст, «Дьявол» Амфитеатрова — между Библией и Кораном, а «Завтрак у Тиффани» пристроился к «Вечеру у Клэр».
Я засыпал раздерганным и злым, и часов до трех, пока меня не разбудила рухнувшая полка, мне снились нервные и злые сны: Андрей Белый в черной обложке (Москва, «Республика», 1994) рядом с Сашей Черным в белом (Рига, «Зинатне», 1989), вместе Гамсун, Ибсен и почему-то Нансен, Мамардашвили, упершийся в Вагинова, Уайльд, пристроившийся к Евгению Харитонову, но хуже всех была «Смерть героя» впритык к «Мертвые все одного цвета» — я даже зажмурился во сне от отвращения, а когда открыл глаза, увидел, что это не «Мертвые все одного цвета», а «Глаза погребенных».
Полка снова не раскололась, только «херовая крепежка» вырвала себя из стены с мясом: винтами и чопиками. Валяющиеся по полу книги, перемешанные, с мятыми и начавшими рваться листами, выглядели вполне безопасно и даже вызывали что-то вроде сочувствия — во всяком случае, ничего плохого с ними мне делать не хотелось. Я поискал вчерашнего Селина, везде, где только мог, и, конечно, не обнаружил его. Закатиться куда-нибудь он не мог: в этом я отдавал себе отчет. Что же получается: я читал на ночь не Селина? Я хотел почитать Фаулзова «Коллекционера» как «Червя», на самом деле читая Селина как «Коллекционера», а теперь я должен думать, что читал еще кого-то другого вместо Селина? Так где же оно «на самом деле»? И где Селин или тот, кого я принял ночью за Селина? Кто был для меня Селином, когда я думал, что читаю «Коллекционера» вместо «Червя»?
Ближайшим к постели лежал «Назову себя Гантенбайн» Фриша. Мне показалось, что Селином мог быть он, и я прочитал раскрытую страницу: «Накануне их отъезда в Гамбург он вдруг находит, что разумнее ей поехать одной, на него вдруг нашло озарение, веселое озарение; он решил: сейчас в Гамбург, честно признаться, мне совсем ни к чему. Нет, говорит она, тогда я тоже не поеду. Почему? Нет, говорит она, уж в Кампен-то, во всяком случае, нет. Глупости, говорит он, неделька в Кампене, поверь, пойдет тебе на пользу. Без тебя? — спрашивает она, а он стоит на своем. Как ни сердечны ее уговоры. Может, он надеется, что она не решится? Это было бы глупо. Как так это ничего для него не значит? Это ничего для него не значит. Хитрость? Издевка? Ничего подобного. Что он собирается делать? Работать. Зачем мне в Гамбург — говорит он и стоит на своем; непритворно веселый, он отвозит ее на следующий день в аэропорт; Кампен — здоровое место, все ясно и правильно, и нечего тут объяснять… Другого решения нет».
В конце абзаца позвонили в дверь. Меня удивило даже не то, что сосед Анатолий пришел сам, без зова, а необычное для него молчание, он даже не поздоровался, не рассказал ни одного анекдота. Без единого слова прибил полку и, не прощаясь, ушел. Все как бы решилось за меня, помимо моей воли: я еще не знаю, хочу ли продолжать свои эксперименты с книгами, как приходит сосед Анатолий, вешает свою полку и уходит. И я заорал в сторону закрытой двери что-то про соседей-столяров и расстановщиков, про Фолкнера и чопики, про фашизм и человеческую свободу, низкий порядок и высокую бессмысленность, и много еще чего. Каждому из нас есть о чем поорать перед закрытой дверью.
Оторав, я почувствовал себя намного лучше (честно признаться, я об этом знал, еще только начиная орать, можно сказать, что и орал-то я только для того, чтобы меня отпустило напряжение, а не для того, чтобы сосед Анатолий или кто-нибудь меня услышал). Я даже подумал, не пнуть ли со злости какую-нибудь книгу ногой — так, чтобы она раскрылась на лету, тяжестью страниц вырывая себя из переплета, и, заломив титульный лист, шмякнулась о стену, а потом медленно, словно цепляясь ногтями, сползла на пол с вывернутой обложкой, — да вот хоть и Фриша, а еще лучше Селина. О! что бы я сделал с Селином, найдись он у меня: Селина я бы вывернул наизнанку, и он бы летел у меня веером, шелестя и посвистывая, — но решил, что достаточно, хватит и крика, а с книгами я, если будет нужно, и так смогу сделать все, что захочу, в любой момент. Полка моя? Моя. Книги мои? Мои. Идея моя? Моя. Что же тут не мое? Все мое. В этом мире — мире моей комнаты, где находятся и книги, и полка, и я, — все мое, и я могу сделать со всем этим, что захочу: захочу так, а захочу вот так (это я потом уже понял, что все время думал: я могу поставить книги и так, и вот так, — а о том, чтобы их не ставить никак, не думал).
Оптимальный способ расстановки книг, конечно же, был корешком к стене, чтобы я видел только стиснутые страницы, а не автора и название — и как это сразу не пришло мне в голову. Вот она — антибиблиотека, библиотека для самой себя, для стены, для какого-нибудь сверхсущества, который с той, другой стороны, через стену дома и стенку книжной полки сумеет прочитать названия книг, а для меня все книги останутся на одно лицо, голенькие, безымянные, как освежеванные тушки кроликов, висящие в ряд на бойне. Пускай одна тушка чуть толще, другая наоборот — не важно, главное — они все одинаковые: красненькие, мокренькие, скользенькие, они никогда уже не будут прыгать, шевелить ушами и гадить круглыми катяшками, только висеть рядышком, похожие друг на друга, пока не захочется их съесть.
Не передать, с каким энтузиазмом я начал расставлять книги по-новому: толстенный, толстенький, еще толстенький, теперь тоненький, снова толстенький. Или можно иначе: мягенький, тверденький, тверденький, мягенький, мягенький. Или: гладенький, жесткенький, так себе, жесткенький, мягенький. Было славно и здорово, совсем не хотелось повернуть книгу и заглянуть ей в лицо, узнать, кто именно толстенький, а кто мягенький и гладенький. Я не закрывал глаз: я доверял себе полностью. Мне было совершенно плевать на фамилии авторов и на то, что они написали, — мне это было не нужно. И не страшно, если Хемингуэй вдруг мог стать рядом с Ремарком, а Белый — с Блоком: я-то тут при чем, сами так стали, я не знал, не знаю и не узнаю об этом, пусть об этом знает тот, кто сможет увидеть названия книг, а для меня они все детки, голенькие беленькие детки. А то, что с ними может случиться с другой стороны, — не мое дело. Конечно, я знал, что полка сорвется снова, но это уж — извините! — не моя вина, я ничего не сделал для того, чтобы она упала, я теперь не отвечаю, я ведь здесь, с этой стороны, а не с той, и не могу увидеть, что получилось, а значит, нет моей вины, пусть виноват будет тот, кто видит, это в его глазах мой хаос превращается в систему, а я как был, так и остаюсь при своем хаосе. Для меня вся система в степени тучности: один толще, другой тоньше, для меня нет иерархии, все одинаковые, чистенькие, голенькие. Пусть кто угодно строит свою иерархию, но не с моей стороны, а я уравниваю их всех и всем им даю одинаковую свободу от меня — я антибог для них: что хотите, то и делайте, мне ничего от вас не надо, я ничего от вас не хочу, не бойтесь, и я вас не боюсь, я даже люблю вас.
Наверное, в тот момент я был на пределе своего вдохновения, потому что расчувствовался до того, что стал поглаживать обложку последней книги, которой предназначалась узкая щель на уже заполненной полке, и даже поцеловал ее несколько раз. Еще подумал: надо хоть посмотреть, кого целую, вдруг Акутагаву или Музиля (а в общем, какая разница), и посмотрел. Оказалось, что я целовал Михаила Осоргина, которого никогда не читал. Глуповато получилось с Осоргиным, мне сразу стало неприятно (хотя, признаться, кого я ожидал на его месте: Гоголя, Моравиа, Кортасара, — с кем я собирался целоваться?), и, чтобы избавиться от непонятно откуда взявшегося ощущения гадливости, я решил почитать, немного, десяток строчек, этого автора. Раскрыл почти посередине, наугад: «Ее пристроили к торговому каравану, где только двое сносно объяснялись по-русски. Она была единственной женщиной в караване и была одета, как все, в тяжелые меха, кожаные штаны, валяные сапоги, ушастую шапку и башлык. Никто не спрашивал, кто она такая и зачем едет: пустое любопытство чуждо равнодушному и сосредоточенному монголу. Большую часть пути приходилось ехать верхом. Теперь начиналась настоящая Гоби, бескрайняя пустыня, песчаная скатерть со складками мягких и скалистых холмов. От Кяхты до Урги в пути еще попадались населенные места, станционные домики, небольшие монастыри, и было немало встречных; за Ургой все это исчезло, и резко изменилась не только природа, но как будто и самая раса редких кочевников».
Совершенно непонятно, зачем было целовать Осоргина. А теперь, когда я прочитал осоргинский абзац, гадливость только усилилась: Осоргина абсолютно не стоило целовать ни как его самого, ни за его роман, который назывался «Книга о концах» [3] , ни за его Наташу с кочевниками — никак его не следовало целовать. Осоргина можно было поцеловать только в одном случае: как текст, просто как анонимный текст, — но для этого не нужно было знать, что это именно Осоргин, потому что, узнав, что это Осоргин, я понял, что поцеловал именно Осоргина, а не Итало Звево, не Бруно Шульца или Газданова, и тем самым выказал ему предпочтение перед другими, хотя Осоргин ничуть не лучше, а — прочитав, я могу утверждать — похуже многих других, более достойных моего поцелуя. Это как в ночном кошмаре: целуешь с умилением маленького мальчика, потому что он такой маленький, чистенький и голенький, а смотришь — на его месте потный, неопрятный дядька с усами, и говорит: «Чего это вы лезете ко мне со своими поцелуями?». И получается, что я сам виноват: что это не Осоргин вскочил ко мне в руки, а я чуть ли не выискал его среди книг, чтобы поцеловать нарочно. Не подобрать слов, как все это гадко вышло с поцелуем. Хоть отплевывайся.
Что теперь с ним делать? Как избавиться от ощущения, что ты гонялся за Осоргиным, чтобы его поцеловать? Как теперь доказать Осоргину, что ты и целовать-то его не хотел, что целовал его просто так, от себя, а не его именно. Можно, конечно, в отместку не ставить его на полку, а поставить кого-то другого, нецелованного, но тогда снова получится, что я его выделяю среди других, выношу из перечня книг на полке, избираю поцелуем, как Иисус Иуду, и тем самым ставлю его вне остальных.
Или можно для справедливости перецеловать все остальные книги на полке: но теперь, после поцелуя с Осоргиным, я буду каждый раз думать, кого именно целую и за что, каждый мой поцелуй будет адресным и конкретным, к тому же мне напрочь расхотелось целоваться с книгами — все испортила эта сволочь Осоргин. И так скверно, и так, и ничего сделать нельзя. Фатальным поцелуй с Осоргиным вышел. Теперь все, абсолютно все испорчено. И обидно, что все из-за одного-единственного Осоргина, не из-за Хандке, Левкина, Генри Миллера или Бротигана, которых я люблю, любил несравнимо больше Осоргина, которого я вообще не любил, не читал и не хотел читать никогда. Ладно — поцелуй, о поцелуе можно забыть, это не так важно уже сейчас, дело в другом. Осоргин — не тот Осоргин, которого я целовал, а Осоргин сам по себе, без меня, тот Осоргин, что написал «Книгу о концах», — так вот, этот сам-по-себе Осоргин умудрился испоганить мою, казавшуюся такой идеальной, такой справедливой, такой честной, систему, одним своим присутствием он развалил ее к черту, растоптал весь порядок, саму идею свободы книг от меня. То, как он ко мне отнесся, то, как он обошелся с моими самыми искренними, самыми добрыми и честными намерениями в отношении всех книг вообще, внесло непоправимый разлад, пропасть между книгами и мной.
Теперь я уже не мог испытывать к ним тех чувств, какие вызывают маленькие дети: книги уже не были для меня ни голенькими детьми, ни висящими в ряд тушками кроликов. Я ощущал, как они безвозвратно становятся самими собой, и снова боялся, до паники, до истерики боялся посмотреть на полку: я был уверен, что взглянув на них, обязательно увижу, как кто-то, похожий на Моравиа, стоит рядом с кем-то, похожим на Лоуренса, а тот, в свою очередь, — с кем-то, похожим на Фурнье, а далее кто-то, похожий на Онетти, соседствует с кем-то, похожим на Лакснесса, а за ними кто-то, похожий на Майринка, прижимается к кому-то, похожему на Ибаньеса, а тот, что похож на Ибаньеса, прилип к тому, кто похож на Гомбровича, а за ними сплошным потоком: кто-то, похожий на Рансмайра, кто-то, похожий на Кундеру, кто-то, похожий на Лосева, кто-то, похожий на Лагерквиста, кто-то, похожий на Рильке, — и все они похожи только на самих себя, не на друг друга, не на кого-то другого, а только на самих себя.
Этот, последний, способ расстановки книг был самым отвратительным изо всех придуманных, он не предлагал никакой свободы, наоборот: он сажал книги в самих себя, как в крепость, не оставляя никакого выхода и даже надежды изобрести этот выход не оставляя.
Я был совершенно разбит и подавлен. Когда ложился спать, читать ничего с собой не взял, хотелось только поскорей заснуть и не видеть книги во сне, хотелось себя обмануть, что книг не существует совсем, ни одной, что я их придумал, а на самом деле их нет и никогда не было, это все моя фантазия и я ей хозяин: захотел — подумал о них; перестал думать — они пропали, — что книги существуют только в моей голове, только у меня в мыслях и ни у кого больше, что все остальные люди живут, не представляя даже, что кто-то мог нафантазировать такие вещи, как книги, а я смотрю на их счастливые лица и думаю: никому никогда не расскажу, что я придумал книги, никто не узнает, что такое книги, для чего они и что с ними делать, это моя выдумка и останется только моей навсегда.
У каждого в голове своя идея: кто-то придумывает газированную воду, кто-то — разноцветные пузырьки к ней, кто-то — миры на других планетах, — а я придумал себе книги и, чтобы никто другой о них не узнал, построил кладбище, где на могилах стоят гранитные памятники, на которых написано: «Александр Аникст. „Трагедия Шекспира ‘Гамлет‘”», или даже проще — «Шекспир. „Гамлет”», или «Николай Гоголь. „Мертвые души”», или — почему нет? — «Нора Галь. „Слово живое и мертвое”», — и так до горизонта, все пространство в могилах книг, на которых можно прочитать лишь фамилию автора и название, а сами книги ни открыть, ни прочитать невозможно, потому что гранит, из которого они сделаны, никогда не распахнется и не расскажет ни их сюжета, ни его смысла — ничего. И я стою веками перед ними, словно кладбищенский смотритель, и наблюдаю, как ветры и дожди смывают краску надписей с каменных обложек, разъедают позолоту букв и книги превращаются в одинаковые, неотличимые друг от друга надгробья. А люди, посещающие кладбище, ходят и спрашивают меня как единственного знающего все об этих книгах: «Кто здесь лежит? А кто здесь? А кому этот памятник? А это кто был?» — и я им рассказываю: «Это Юрий Домбровский, „Факультет ненужных вещей”, а это Герман Гессе, „Игра в бисер”», — хотя на самом деле — и я это помню очень хорошо — тот, на кого я показал как на Домбровского, — Кэндзабуро Оэ, а вместо Гессе — Кальвино. Но какая этим людям разница: Кальвино это или Гессе, — если они никогда их не читали и фамилий таких не слышали, и забудут о них через секунду, и памятники все на одно лицо: надгробье Гессе точь-в-точь как Кальвинино, и ничто не говорит, что там именно Гессе, а не Кальвино. Ведь если я один знаю, чем различаются Гессе и Кальвино, то не важны эти отличия и даже то, что Гессе и Кальвино существовали когда-либо на самом деле. Различия между книгами появляются в голове у разных читателей, а если читатель один, то и книга одна, а значит, абсолютно несущественно, как она будет называться: «Жизнь Иисуса» или «Иуда Искариот».
На этом месте сон неожиданно прервался обвалившейся полкой: неожиданно не для меня вообще, а для того меня, что спал и видел сны о мертвых книгах. Оставшуюся часть ночи я проспал без сновидений и день встретил, как мне казалось, ясным и бодрым осознанием происходящего. Книги все так же лежали на полу, разве что еще больше потрепанные и помятые, полка по-прежнему была цела, вот только сосед Анатолий весь день не приходил. Но я особенно не переживал за него, я знал, что рано или поздно он все равно придет, сосед Анатолий уже полностью включился в мою ситуацию и не мог самостоятельно из нее выйти: я расставляю книги — полка падает — приходит сосед Анатолий и вешает ее на место, и так далее, все повторяется. У каждого в этом круге свое место и своя роль: и у меня, и у полки, и у соседа Анатолия — и каждый понимает, что напрямую зависит от других, и не может самостоятельно из него выйти. Пока существуют полка, я и сосед Анатолий, я должен расставлять книги, полка падать, а сосед Анатолий приходить и вешать ее на стену. И это никакой не механизм, не программа, а коллективное творчество, то, что, если хотите, называется мистерией. Поэтому сосед Анатолий чувствует, понимает, что не я нуждаюсь в нем, а он — в нашей полке и во мне, и не может не прийти.
А пока, в ожидании его прихода, я подмел комнату, вытер пыль и подклеил разорванные страницы. После обеда решил почитать и вытащил, как обычно наугад, Анатоля Франса, подумал, на какой странице открыть, ничего не придумал и открыл на случайной двести сорок первой. Франс был старым, издание 1959 года, шестой том из восьмитомного Собрания сочинений, я совершенно ничего о нем не знал, наверное, он остался от родителей, на титульной странице — замечательная надпись от руки: «И впредь… не будь мнительным, не усложняй!», чья-то роспись и дата «2.III.70 г.» Второе марта тысяча девятьсот семидесятого года, мне тогда было двадцать четыре дня. Как странно, что, когда мне было всего двадцать четыре дня, эта книга существовала, ее кто-то читал и дарил другому, который все усложнял и был мнительным. Странным было то, что кто-то, когда я ничего еще не знал и не хотел знать о книгах, был уже настолько мнительным и так умел все усложнять, что кому-то другому, кто хотел, чтобы первый перестал быть мнительным и все усложнять, пришлось дарить ему именно шестой том из восьми и именно Анатоля Франса, а не Теодора Драйзера или Ромена Роллана. Почему именно Франса и почему именно шестой? Что было такого в этом шестом томе, что могло воздействовать на мнительного и все усложняющего человека? Ведь была же какая-то причина, заставившая не равнодушного к судьбе изнуряющего себя подозрениями и строящего нереальные догадки человека дарить ему этот том: не пятый, не четвертый и не седьмой. Не мог же человек, решивший помочь избавиться близкому от мнительности и тягостных мыслей, просто так взять шестой том Анатоля Франса и вручить его человеку, чья судьба его волновала, да еще и с памятной надписью. Значит, именно шестой том должен был показать тому, кто получал его в подарок, как можно обрести душевное спокойствие и перестать городить сложные конструкции из простых причин.
Эта надпись, этот шестой том до того заинтриговали меня, что, вчитываясь в двести сорок первую страницу, я искал в ней ключи к каким-то важным секретам, как будто тем мнительным и все усложняющим незнакомцем был не кто-нибудь, а я. А на двести сорок первой странице было написано: «Ипполит по-прежнему любил Эвелину и по-прежнему страдал. Но в сердце его закралась надежда. Он разлучил на некоторое время Эвелину с любовником и, рассчитывая вновь завоевать ее, направил на это все усилия, пустил в ход всю свою ловкость, выказал себя искренним, предупредительным, нежным, преданным, даже сдержанным. Само сердце подсказывало ему эти тонкости в обращении. Он находил для изменщицы самые очаровательные и самые трогательные слова; чтобы ее смягчить, поведал ей обо всех своих страданиях».
Текст не ответил мне ни на один из тревожащих меня вопросов, наоборот, только все еще больше запутал и усложнил. Толку человеку, возомнившему себе бог знает что, дарить книгу, в которой Ипполит страдает по Эвелине, да к тому же вынужден искать всякие тонкости в обращении, — разве это может успокоить тревогу в воспаленных фантазиями мыслях? Ведь мысли о страдании, отвергнутой любви и изменщицах только рождают новые подозрения в и без того измордованном догадками воображении; с таким же успехом можно было подарить человеку с растрепанными чувствами противогаз, портсигар или швейную машинку. Смысл дарения шестого тома из восьмитомного Собрания сочинений Анатоля Франса в виде успокоительного средства сводится к нулю, и значит, этот шестой том — сплошная глупость, случайность, прихоть или даже издевка, насмешка. Шестой том может только еще больше взвинтить нездоровую психику, накалить и так разгоряченные мысли.
Вот потому-то и глупо было искать связь там, где ее не было никогда. Разумеется, надпись на Франсе — никакое не послание, и то, что написал Франс, не послание. Франс, пиша про Эвелину и Ипполита, не думал ни о Гомере, ни о Петрарке, ни о Пушкине, как не догадывался, что уже где-то появились Кафка, Набоков, Алданов. Да, это заблуждение, что он мог думать о Гомере и Петрарке, он ни о чем не думал, когда писал, и я не должен о них вспоминать. Если существует такая сила, заставляющая человека, читающего Франса, думать о Гомере, то она не во Франсе, а в самом читающем. В глупости читателя. Моей глупости. Нет Гомера, если есть Франс: или один, или другой, а если оба сразу, то это уже не Гомер и не Франс, а читатель. Один читатель на сотню, тысячу книг.
Но все же Франс что-то изменил в моей жизни, нет, не в моем настроении и не в моих мыслях, а в той жизни, что происходила вокруг. Моя комната, когда я прочитал и отложил Франса, не была похожа на ту, в которой я находился до него. Дело, конечно, не в поэтическом восприятии Франса или в том, что после его прочтения моя личность обогатилась какими-то новыми впечатлениями и переживаниями и эти впечатления и переживания заставили меня по-иному взглянуть на свою комнату. Комната поменялась самым реальным образом: полка снова висела, прикрепленная к стене, — и это значит, Франс выключил меня на какое-то время из происходящего вокруг, значит, сосед Анатолий приходил ко мне, прибил полку и вышел, пока я находился с Франсом.
Мне стало по-настоящему, по-животному страшно. То, что произошло со мной, говорило только о том, что наступил последний день, самый последний день, и я не имею больше права ошибаться: если какой-то Франс может сделать так, что я перестаю замечать звонок в дверь, стук молотка, присутствие другого человека в моей квартире, то завтра я перестану замечать себя, открою книгу, прочитаю несколько строк и останусь в этой книге навсегда, потеряю себя среди одинаковых строчек, уйду туда, откуда не возвращаются. А раз так, то завтра мне следует или бросить читать книги вообще, если я хочу жить в своей жизни, или каждый раз, читая, быть начеку, то есть сторожить себя, помнить не о книге, а о себе, и каждую минуту чередовать прочитанное со своей настоящей жизнью. Первое было смертью, второе — сумасшествием. Я ничего не надумываю: если сделать такое с моей жизнью сумел какой-то случайный Франс, то в сто раз скорее это могут сделать Чехов, Жене или Кизи, и даже очень хорошо, что это случилось в первый раз именно с Франсом, наименее опасным из всех остальных, теперь я предупрежден и знаю, как должен поступить.
Я сделал вид, что признал свои ошибки и готов их исправить: я расставил книги так, как они хотели, так, чтобы их расположение образовывало выпуклую, самодовольную сверхсистему — один-единственный Смысл Смыслович, и чтобы, кроме Смысла Смысловича, ничего на моей полке не осталось: ни моих намерений, ни иронии, ни намека на желание переделать все по-другому. Расставлял так, чтобы никто не решил, что я это делаю, переступив через себя или затаив задние мысли. Наоборот, я всем своим видом изображал увлеченность работой, радость, а когда видел, что какое-то получившееся соседство должно выглядеть в этой системе особенно удачным и выгодным, даже пытался причмокивать от удовольствия.
В этом нет ничего страшного, успокаивал я себя, когда становилось нестерпимо мерзко от того, что рядом с Ахматовой появлялся Гумилев, сразу после Джойса возникала Вулф, а перед Камю — Сартр, так стоят книги всегда и везде, в каждой библиотеке: нет Кафки без Пруста, Ибсен, Гамсун и Бьернсон неразлучны, и так далее, ничего в этом плохого нет, напротив — как домик выстраивается, кирпичик к кирпичику, ряд за рядом. Но все равно подмывало внести собственное отношение в навязанную систему, и приходилось себя контролировать с ужесточенным вниманием: один раз поймал себя за руку, чуть не всунувшую между Мицкевичем и Ходасевичем Лимонова, но вовремя сделал вид, что поправляю Ходасевичу обложку, а Лимонова отправил к Довлатову.
Когда полка закончилась, я отошел от нее, чтобы со стороны это выглядело любованием завершенной работой, а сам прицеливался и решал, с кого начать. Начать контратаку я задумал с Маннов, но перед тем, как приняться за активные действия, надо было проверить, вернул ли я доверие к себе, удалось ли свести на нет враждебную подозрительность и тем самым доказать, что совершенно свободен в своих мыслях и поступках и меня уже ничто больше не контролирует. Для этого следовало вытащить произвольную книгу и что-нибудь из нее прочитать. Любой абзац, и посмотреть, что случится. Риск, конечно, по-прежнему оставался, но я надеялся, гораздо меньший, чем с Франсом, то есть до последней расстановки.
На глаза попался Вежинов: это было и то и не то. Вежинов мог великолепно выполнить роль индикатора моего состояния, по нему отлично проверялось, насколько я в силах преодолеть постороннее воздействие и влияние, но в то же время среди всех книг, в которых я видел опасность, он был наиболее мне симпатичен. Вежинов, куда его ни поставь, хоть к болгарам, хоть к русским, всегда смотрится откровенно чужеродным на любой книжной полке и находится если не вне, то, во всяком случае, на периферии любой системы. А надо было брать нечто образцовое, типовое для данного распорядка. Но ставить Вежинова обратно, показывать раздумья и сомнения, выглядело бы подозрительным, и я раскрыл книгу: «Мы ходили куда-нибудь ужинать, обычно на террасу ночного ресторана. Она предпочитала этот ресторан, хотя и не возражала, если я предлагал пойти в другое место. Пожалуй, посидеть в приятной обстановке нарядного зала было единственным ее развлечением. Я прекрасно понимал ее, ведь я видел ее палату в больнице. Теперь она вела себя непринужденно, смеялась моим шуткам, ела с аппетитом. Только когда кто-нибудь из моих друзей или знакомых случайно подсаживался к нашему столику, она хмурилась, держалась с ними недружелюбно, почти грубо. А в остальном она становилась все приветливей и спокойней. И главное — проще. Она немного поправилась, если судить по ее чуть округлившимся щекам. Я радовался переменам в ней, уверенный, что она постепенно обретает настоящее душевное здоровье. Наконец-то у нее был свой дом, и я считал, что пока этого вполне достаточно. Мне не хотелось думать, чем все это кончится, важно было, чтобы она выздоровела окончательно».
Ничего не случилось — я хочу сказать, что не произошло ничего плохого и все оставалось на своих местах. Сам текст Вежинова никак не адресовался ко мне и воспринимался совершенно буквально, если не учитывать предупреждение о плохом конце в последних строчках. Но если это и было предупреждением, то уж никак не мне, скорее самим книгам и полке в целом.
И я принялся за свой план. Как и задумал, начал я с Маннов. Снял с полки Лотмана, залепил ему монокорректором три первые буквы и, недолго думая, назвал нового Манна Йозефом и поставил «Структуру художественного текста» между Генрихом и Клаусом, потом передумал и разделил Клауса и Томаса, тем самым убив сразу двух зайцев: во-первых, ранее будучи Лотманом, Йозеф Манн стоял между Лосевым и Мамардашвили, а во-вторых, Маннов было так много, что их следовало убить либо вычитанием, либо умножением. План по уничтожению Маннов представлялся мне более изящным, чем простое сбрасывание их с полки.
Теперь Соловьевы. Оловьевы. Ловьевы. Овьевы. Вьевы.
Псоловьевы. Ксоловьевы. Тсоловьевы.
Стуловьевы. Ржеловьевы. Труловьевы.
Я физически ощущал их сопротивление. Соловьевы не поддавались коррекции и, значит, сами напрашивались на более радикальные меры. Старшему я вырезал лезвием часть обложки с его именем и фамилией и на оголившемся переплете, стараясь быть разборчивым, написал: Юкио Мисима. Название оставил прежнее: «Чтения и рассказы по истории России». Получалось даже лучше, чем я рассчитывал. Но при всей удаче повторяться не хотелось: был соблазн, очень хотелось, чтобы автором «Первого шага к положительной эстетике» стал Кортасар, но Кортасар и на самом деле мог написать что угодно, система снова обыгрывала меня, приходилось выкручиваться, и я, изловчившись, придумал новый способ. Мне помогло, что у среднего и младшего Соловьевых книги назывались одинаково: «Стихотворения». Эта их скромность и помогла мне: у Владимира я вырезал название, у Сергея — фамилию. И так и оставил. Получилось здорово: теперь Соловьевы не могли жить друг без друга, один нес другому фамилию, а другой делился названием, раньше они образовывали тупейшую систему, теперь я их оженил, скрестил друг с другом, прилепил накрепко и навсегда. В отдалении друг от друга Соловьевы становились лишь обрывками книг.
Манны, Соловьевы — таким образом я добрался до Ануя и тут же спохватился, что повторяюсь, а значит, хаос снова успел перегруппироваться и превращался в порядок, система подкралась и тянет ко мне руки. Я бросил Ануя к черту и схватил ручку. Следующим трем книгам я не сделал почти ничего, только между автором и названием нарисовал стрелки замены, чтобы была понятна моя идея: автором «Маяковского» становился Клоп, Мефистофель написал роман «Клаус Манн», а Иисус Христос — книгу божественных откровений под названием «Адам Карл», — и поставил их впритирочку. Получилось черт-те что, и в этом было что-то по-настоящему хорошее, тем более что Мефистофель оказался не сбоку, а посередке. Выходило, если присматриваться постороннему человеку, что Иисус противостоит не Мефистофелю, а Клопу, а Мефистофель, наоборот, то ли разнимает их, то ли спешит примирить. С другой стороны, Иисус как бы объединялся с Мефистофелем против Клопа.
Я снова поймал себя на том, что сочиняю смысл, в то время как задача была совершенно противоположной. И чтобы исключить появление несанкционированного смысла в следующей книге, я ей просто вырвал корешок, даже не посмотрев, кто это был, и оставил в таком виде. Полка заканчивалась, оставалась только одна книга. И как назло — Библия. С Библией я уже не мог поступить, как с Маннами или Маяковским. Для Библии я должен был придумать что-то адекватное, такое же глобальное и радикальное, как и она сама, потому что напиши я на Библии «Дж. Д. Сэлинджер» или «Иво Андрич» — это будет полумерой, и, конечно же, потом, на полке, Библия подавит, победит Сэлинджера или Иво Андрича, подомнет их под себя и снова станет Библией. Для Библии было необходимо что-то сильное, цепкое, как капкан, попадая в который, она уже никогда не сумеет выбраться. Никто из доступных мне писателей, даже Андерсен, не мог противостоять Библии и послужить для нее таким капканом. Я знал лишь одного человека, способного удержать ее в узде, но это было чрезвычайно опасно, настолько рискованно, что не оставляло никаких шансов на благополучный исход. Так я не волновался еще ни разу со времени появления в моем доме книжной полки. Я знал, что если не получится, это будет похуже смерти или сумасшествия, даже боялся назвать то, что может произойти, своими словами, знал только, что случится что-то равнозначное рождению нового мира, вселенная сожмется в шарик диаметром шесть сантиметров и, пульсируя, начнет разжиматься и разрастаться. Я предчувствовал ужасное, но великое.
И сделал это. Единственный, кого я мог предложить вместо Библии, был я сам. Поэтому я, может быть, тогда еще полностью не осознавая, что делаю, оторвал Библии обложку и на титульном листе четкими, чтобы понятно было не только мне, буквами написал «Андрей Краснящих. „Антибиблиотека”».
И сразу почувствовал, что все, отпустило, больше я книгам не нужен. И они мне не нужны. Я вдруг стал совершенно спокойным и равнодушным — ко всему. После создания мира постскриптумов не бывает.
Ложась спать, я думал, что засну сразу, но то ли то, что было вне книг и меня, таки втянуло, втравило меня в какую-то новую систему, то ли я так опустошился, что во мне не осталось места даже для сна, — не знаю. До трех ночи я проворочался, ожидая грохота падающей полки, а когда она так и не упала, закрыл все окна и двери и поджег ее.
Я, кажется, вначале написал, что раскрошил полку гантелью. Я не знаю, зачем я обманул. Я сжег эту полку вместе со всеми ее книгами. И сжег бы еще раз, если бы от нее хоть что-то осталось. И это было единственным моим верным решением за всю неделю.
АНТИБИБЛИОТЕКА-2
Чтобы быть честным, сразу хочу предупредить: в конце этой истории все герои, вплоть до второстепенных, будут мертвы. Говоря об этом заранее, в самом начале, я отдаю себе отчет, что нарушаю чертовы законы повествования, что так не делают, что для того, чтобы сродниться с героем, переживать за него как за себя, надо дать читателю надежду. Надежду на то, что герой в конце концов выпутается из всех сюжетных передряг и выйдет сухим из воды. Надежда и доверие — это все, что автор может предложить читателю: доверие рождается стилем, надежда — сюжетом. Кто по своей воле захочет считать себя покойником? И все же — у меня свои планы, своя стратегия, и я предупреждаю заранее: в живых не останется никого.
Очень простая встреча, проще не бывает. Случайная, на улице Герцена, в субботу, в пять часов дня. Так миллион сто десять тысяч людей каждый день в разных местах и странах встречаются с другим миллионом ста десятью тысячами, чтобы через несколько секунд или минут разойтись и навсегда забыть о встрече, как будто бы ее и не было никогда. А ведь каждая встреча — это знак, знак чего-то, что еще только должно произойти, но пока находится в будущем, в мире вероятности и возможности. Каждая из этих встреч — это еще и шанс, шанс пустить свою жизнь по иному пути, иному руслу, сделать холодное и мертвое будущее горячим и живым. А еще каждая встреча — это...
Не такой уж я великий писатель, чтобы при встрече со мной кричать: «Посмотрите, это же сам Андрей Краснящих! Писатель Андрей Краснящих!». Честно говоря, мне никогда не доводилось сталкиваться со своими читателями, я даже не уверен, есть ли у меня хоть какие-нибудь свои читатели: мой единственный сборник рассказов рассеян по разным небольшим журналам, ни одного отклика, ни одной рецензии на себя я не видел, потому что их, скорее всего, и не существует. Конечно, есть у меня и самомнение и амбиции, и есть где-то на свете девочка, что вырезает из глянцевых иллюстрированных журналов каждый мой рассказ и с особым чувством подшивает его в папочку с надписью «А. К.» на обложке.
Но та молодая женщина, что стояла передо мной и спрашивала: «Вы ведь Андрей Краснящих, да?» — совсем не была похожа на мою девочку с папочкой: ничего общего. Я не хочу сказать, что женщина с улицы Герцена была некрасива или с ней что-то было не в порядке, — нет, — но она не могла быть моей девочкой — и все тут. Не могла, но все-таки это была она. Странно, правда?
— Ничего странного, — сказала женщина. — Это у меня судьба такая. Или характер. Я постоянно знаменитостей встречаю. Вчера, например, Рому Билыка из группы «Звери». Кстати, как вы думаете, почему они назвались «Зверями»? Я думаю, в честь «Энималз», как «Жуки» — в честь «Битлз». Это моя теория. «Жуков» я, кстати, тоже встречала.
«Не дай себя вовлечь в разговор, — сказал я себе. — Не дай себя вовлечь в разговор».
— Вы не хотите со мной разговаривать? — тут же спросила женщина. — Странно. А я все ваши книги читала. У меня дома ваш восьмитомник есть.
У меня нет восьмитомника.
— У меня нет восьмитомника, — ответил я. — И ни одной книги нет. Вы не могли их читать.
— Но вы же их писали? Значит, я могла их читать.
Что-то здесь было не так. События: разговор, мои книги, сама встреча — шли с каким-то странным, нечеловеческим опережением, будто бы кто-то сидел в моей голове, как в часах, и играючи крутил колесики все быстрее и быстрее, а сам я оставался на месте.
— Вы что — еще не поняли, что я вас к себе приглашаю? — снова спросила женщина. — Рому Билыка я, кстати, не приглашала. И «Жуков» тоже.
Не то чтобы это был именно тот аргумент, что повлиял на мое решение, но как-то по-своему он подействовал, это точно. Женщина, к слову, была очень симпатична. И молода — может, тридцать лет, но не больше тридцати пяти. Нет, не больше. Значит, моя ровесница. Такая вот ровесница.
— Ну, вы идете? — снова задала вопрос женщина. — А то какая-то глупая ситуация получается. Перед вами стоит молодая симпатичная женщина и уговаривает зайти к ней в гости. И между прочим, ваша читательница. Преданная читательница.
«В каком смысле?» — спросил я себя. Действительно, глупо так стоять. Я нагнулся, будто перезавязать шнурки, и исподтишка взглянул на ее ноги. Ни хвоста, волочащегося по асфальту, ни копыт в замшевых туфельках — можно было идти дальше.
Она жила на Байрона, то есть совсем рядом — на расстоянии выкуренной сигареты.
По дороге мы странно молчали: обычно так молчат, когда все уже состоялось, а не когда все только еще начинается. Один раз, когда стало уж совсем невмоготу, я спросил:
— А какое издательство?
— Сами увидите, — ответила женщина и открыла новенький кодовый замок подъезда.
Подъезд как подъезд, ничего особенного: почтовые ящики, большей частью деформированные, зеленая краска стен, невеселая лампочка под самым потолком — если это и было нисхождение в ад, то уж очень своеобразное, напоминающее обычный визит мужчины к обычной женщине.
Она жила на третьем этаже.
— У вас нет собаки? — спросил я.
Она отрицательно покачала головой.
— А вы их боитесь?
Собак я не боялся. Я всегда боялся сойти с ума и жить в дурдоме. Вроде ничего особенного: везде люди живут, — а все равно как представлю, так словно холодных червей наелся: и холодно, и противно. И еще подташнивает от того, что твой страх — это не нечто абстрактное и мертвое, а живое и копошащееся внутри тебя.
— А где вы работаете? — спросил я женщину, но она ничего не ответила и пошла на кухню, а оттуда крикнула:
— Вы что в такое время пьете — чай или кофе?
Вообще-то в такое время я обедаю, я всегда поздно обедаю, но не просить же незнакомую женщину — кем бы она ни была — сделать мне обед. Нет, это бы называлось дойти до ручки, а я пусть и неудачник, но не побирушка.
— Как насчет мокко-эспрессо? — спросила женщина.
— Нормально, — ответил я, рассматривая в гостиной книги. Желтого Лескова, синего Тургенева, темно-бордового Бунина, рыжего Марка Твена, белоснежного Гарина-Михайловского и неожиданно черного, катастрофически черного себя. Восьмитомник, женщина не лгала. Начала понемногу побаливать голова.
Я взял первый том и раскрыл его. (— «С сахаром?» — крикнули их кухни. — «С сахаром, — автоматически отозвался я и добавил: — И цитрамон, пожалуйста».) Головную боль терпеть не надо, учила меня мама, есть возможность — сразу прими лекарство.
«Бога боюсь. Не после смерти, которого нет. А сейчас. Где ни посмотрю, обратно, Бог в меня смотрит. Я хотел, чтоб он далеко был, как в детстве, а он везде вокруг меня. Как курица смотрит, что делать буду, и молчит. Страшно, что смотрит и что он такой один. Если бы семь богов за мной смотрели, может быть, они бы ссорились. А один не сердится никогда. Даже со мной.
Бог был всегда, а когда он появился, я решил, что буду любить его. Но любить не стал, потому что сразу испугался, что он везде. Мне говорят: ты придумал Бога везде или книжки читал. А сами, как хитрые, думают, что я дурак и выдумал, чтобы им сказать. А как я выдумаю, когда беру телефон позвонить, а там Бог и слышит меня. Я хочу воды, а в чашке — Бог. А что я ему скажу? Он не говорит, что хочет от меня, и откуда я знаю. Я скажу, а он возьмет и не захочет, или захочет, чтоб я другое сказал, а я не знаю. <…>.
Но люди глупые, потому что не знают, что Бог знает, потому что не боятся не знать. Я боюсь не знать, что Бог знает обо мне. Думаю: сейчас узнаю, — сажусь думать и придумываю, что Бог думает обо мне, что я книга, чтобы читать. А потом чихаю и чувствую свой нос, и мне становится смешно оттого, что я думал, что я книга, а потом чихнул. А потом думаю, Бог сделал так, чтоб я чихнул и перестал думать, что я книга. И мне становится страшно, не потому что я книгой был, а потому что я чихнул.
Люди говорят: кто книга, тот дурак. А я отвечаю: <…>»
Шрифт, буквы, слова, фразы, интонация — все было чужим. Я этого не писал. Хотя для меня всегда имя на обложке значило многое, чуть ли не все, в данной ситуации, получается, оно не значило ровным счетом ничего. Если по дороге сюда у меня еще оставалась надежда на то, что кто-то, не ставя меня в известность, издал мои сочинения, пусть не в восьми томах, пусть женщина ошиблась, до восьми мне, конечно, далеко, но, допустим, в четырех, четыре тома, если страниц по триста крупным шрифтом, учитывая и заметки в газетах и переписку, вполне могло набежать, — то теперь и этой надежды не стало.
— Как насчет бутербродов с колбасой? — крикнули из кухни.
Я промолчал, а вот желудок сразу же отозвался сопением, бурчанием и чуть ли не стонами.
— Ну да, ну да, — сказал я ему. — Бутерброды с колбаской. А еще с сыром, маслом, бужениной, икрой минтая, абрикосовым вареньем и пенопластом. Знаю я эти безымянные бутерброды с колбасой. Если она способна привести меня сюда и показать мой несуществующий восьмитомник, то она способна на что угодно, и на это тоже.
Я вспомнил, что у меня была еще и радиопьеса, написанная давным-давно, и это меня немного успокоило: если я сумел забыть о радиопьесе, которую когда-то считал вершиной своего невеликого творчества, то еще не все потеряно, значит, я мог забыть о чем угодно, и самом важном в том числе, следовательно, возрастали шансы на то, что мой восьмитомный бред, если, конечно, он был именно моим, а не чьим-то, то есть чужим, окажется не абсолютным, стопроцентным, а частичным, семидесяти — или, допустим, восьмидесятипроцентным. Так, во всяком случае, мне казалось. Или казалось, что казалось. Женщины запросто могут ошибаться, что-нибудь перепутать, не с того края начать и в итоге прийти к самым безумным, не укладывающимся ни в чью голову выводам; вообще, никто не застрахован от ошибок.
— Вы ни о чем не хотите меня спросить? — крикнули по-прежнему из кухни, да так громко, что я от неожиданности выронил книгу. Первый том. И тут же полез в шкаф за вторым. Скорее просто так, чтобы занять пустые руки, потому что один том из них выпал, чем с целью найти там что-либо, например старую радиопьесу.
Чтобы не обмишуриться, как в прошлый, в этот раз следовало действовать не наугад, а изобрести систему. Возможно, если я стану раскрывать свои книги не просто так, как бог на душу положит, а руководствуясь определенным принципом, мне повезет и я найду в них свои тексты или хотя бы тексты, напоминающие то, что написано мной. Вырвавшаяся на оперативный простор мысль тут же подсказала: сложи день и месяц своего рождения, умножь на два, это и будет номером страницы. Кому-кому, а мне в таких случаях калькулятор не требуется, и я открыл второй том на двадцать четвертой. Там было написано:
«С моей будущей женой мы познакомились на похоронах. Ее зарывали, а я сидел на своей могиле и курил мокрый окурок, подобранный около генерала. Я просто не мог не обратить на нее внимание: последние полгода мне доставались все какие-то пушкинские старухи да старики-робокопы.
То, что ее похоронили девственницей, капитально повлияло на психику. Если б я ее тут же, в присутствии гостей и родственников, не отрыл, пошли бы необратимые процессы по всей душе. Слава богу, я уже сталкивался с подобным: на третий день — депрессия; на девятый — параноидальный бред; на сороковой — старая, мизантропически настроенная ведьма.
На этот раз мне удалось опередить троих, рванувших, как и я, к забрасываемому землей гробу: директора кладбища, бегущего по аллее, и тех двух, что почти всегда успевают добраться под землей первыми.
Прошлой ночью у меня украли плоскогубцы, и, если бы она не уперлась коленями в крышку гроба, мне пришлось бы провозиться лишних минут десять. Отлетевшая крышка опрокинула меня на спину, и уже через мгновение моя будущая жена…»
Нужно ли говорить, что я такого не писал? Ну что ж, два — ноль — это еще не проигрыш, тем более когда впереди шесть пустых раундов, а результат, исход поединка зависит только от меня — Андрея Краснящих.
— Скоро закипит, — крикнула из кухни невидимая женщина. Похоже, мы с ней находились не только в разных пространствах, но и в различных временах, каждый в своем: я в чем-то таком, напоминающем вечность, она — как будто в каком-то кинофильме, где главная героиня приглашает к себе домой неизвестного мужчину и варит для него кофе. Отсюда один из гипотетических смыслов происходящего: кофе — только предлог, между мужчиной и женщиной должна установиться иная, более надежная связь, нежели та, что дается совместно выпитым кофе.
— А ты знаешь, что ты ненормальный? — сказал я себе, — и тебе нельзя доверять. Обстоятельства, конечно, обстоятельствами, но безудержный полет мыслей может оттрахать тебя так, как не оттрахает ни одна женщина. Кем бы она ни была — хоть чертом, хоть дьяволом. Хоть с хвостом, хоть бесхвостая.
Стоп-стоп-стоп, — я аккуратно закрыл книгу и медленно, нагнувшись, положил ее к предыдущей. А если все дело не в женщине и не в книгах, а только во мне? Если я на самом деле написал все то, что находится в восьми томах, и теперь забыл, напрочь забыл об этом? Написал — отложи, спрячь, удали из головы написанное, запрети себе думать об этом, сотри память о забытом, забудь о том, что стер. Через сто лет найти, прочитать, увидеть. Отнестись к своему как к абсолютно чужому — вот как это называется.
Как все просто и здорово! — значит, все дело в памяти — самом неустойчивом, после кругов на воде, носителе информации.
Невидимая женщина на кухне зазвенела невидимой посудой. Желудок — подлая душа — откликнулся первым и, безнаказанно наплевав на мои честь и достоинство, исполнил арию оголодавшего мальчика.
Ладно, желудок так желудок, мальчик так мальчик. Число желудка — четыре, мальчика — два. Сумму умножаем опять на два, и это будет двенадцатая страница с конца третьего тома.
«Он снова впал в тот же сон, но ни жены, ни ее трупа, ни ее скелета во сне уже не было. Теперь он был один — точнее, не совсем один, потому что сновидение было прежним, и, значит, жену он уже съел, а раз он жену уже съел, съеденная жена была внутри него: в желудке, может быть, уже в печенках и в других местах. А если съеденная жена внутри него, то и он, выходит, не один.
И тут ему стало очень страшно — так страшно не было еще за весь сон. По-настоящему. Он даже громко закричал тоненьким голосом — как во сне, так и наяву, — и кричал долго, может быть, минут пять, но его никто не услышал, потому что жил он один. А страшно ему стало потому, что теперь он — как бы и не он, а он вдвоем со съеденной женой, и теперь от нее никуда не деться, не спрятаться и не сбежать: ведь жена-то не снаружи, как была раньше, а внутри него. И отныне ему ни газету почитать, ни телевизор посмотреть — придется во всем мириться с присутствием жены внутри него, и делать так, как захочет она, и во всем ее слушаться, и потакать ей, и ублажать ее, и ухаживать за ней.
Он метался по постели, но проснуться не мог, потому что во сне не знал, что спит, и думал, что теперь навсегда останется с женой внутри. И эта безысходность заставляла его кричать и ворочаться с боку на бок.
Не найдя выхода из этой ситуации, он понемногу начал злиться и наконец довел себя до полной ярости. Он ненавидел жену. Теперь ему казалось, что это жена сама все так подстроила, заставив его ревновать и вынудив его убить ее, чтобы он ее съел и она навсегда поселилась в нем».
Три — ноль. Ничего не изменилось, разве что еще больше захотелось есть. Аппетит разыгрывался с какой-то чудовищной, сверхчеловеческой силой. Съесть Полное собрание сочинений, съесть женщину на кухне и под конец закусить самим собой — казалось, я был способен еще и не на такое. Духовный голод вызывает совершенно другое ощущение.
— Робин-Бобин-Барабек, — сказал я негромко. — Как ты думаешь, что же такое сейчас происходит? То, чего никогда и ни с кем не должно происходить, или морок, внезапное помутнение рассудка?
Женщина на кухне пропела мотив какой-то знакомой песни, потом, оборвав ее, снова загремела посудой. Чем она там занимается? — подумал я. Неужели каждый, кто слишком долго ждет и надеется, что ожидания его не обманут, в конце концов сходит с ума и попадает в гости к этой странной женщине, обожающей знаменитостей? А она им заваривает чай или, если утро, кофе, кормит их завтраками и обедами, рожает им детей и оставляет в своем царстве безмятежности и покоя на веки вечные? Альтернативный дурдом. Мир, где все сбылось и получилось.
И все равно не хватало одной детали, точнее — одна из частей этого мира явно была лишней, выпирала всеми углами из общей картины: если я сейчас попал в ловушку собственного бреда, в самую сердцевину своего безумия, где правила мироздания устанавливает только мое больное воображение и никто другой, то почему в написанных мной книгах нет ни одной моей строчки? Или такое тоже здесь нормально, в порядке вещей?
Я подержал на ладони третий том. Тяжелый. Первый тоже был тяжелым, второй — так себе. Это, конечно, ничего не значило.
Я поймал себя на мысли, что еще ни разу, ни сейчас, ни тогда, не подумал о прочитанном — хорошо ли оно, нравится мне или нет. В самом деле, пытаясь вычитать на раскрывшейся странице что-то свое, я не обращал внимания ни на художественные достоинства текста, ни на идеи, ни на свое отношение к ним. Как будто бы звеневший в голове звоночек звенел слишком громко и мешал обычному восприятию книги как книги.
Женщина, книга, звоночек, еще пять или шесть вещей, которых я не мог понять и которые не укладывались в мою по-прежнему больную или по-прежнему здоровую голову.
Когда третий том отправился к предыдущим, я взялся за следующий. Пускай на этот раз будет первое пришедшее в голову число, пускай это число будет сто сорок пять.
«До завтрака надо было посмотреть гороскоп на сегодня. В „ вагриусовском ”„ Гороскопе на всю жизнь ” было написано: „ Постарайтесь на вечер не планировать ничего важного. Вечером вы умрете ” . В менее авторитетном, но тоже заслуживающем внимания „ фолиовском ” издании „ Гороскопа на каждый день для мальчиков и девочек ” — „ День будет удачным при условии вашего воздержания от чрезмерной траты денег и усилий ” . В популярном „ олмовском ”„ Гороскопе для тебя и твоих близких ” — „ Сегодня ни в коем случае не давайте в долг ” . И наконец, в христианских „ Ежедневных бдениях Господа о тебе ” — „ День Святого Секария. Прощаются обиды, заключаются сделки, птицы поют осанну Всевышнему. Отложи немного денег на панихиду по себе ” .
„ Вагриусовский ” гороскоп писал я; „ фолиовский ” был компиляцией старых советских советов „ На каждый день ” , публиковавшихся в „ Неделе ” ; кто готовил „ олмовский ” и христианский гороскопы, мне не известно. У меня хранилось еще много иностранных изданий, но и так все было ясно».
Я еще раз посмотрел на страницу — сто сорок пять. Все фрагменты — и этот, и предыдущие — говорили о смерти, о смерти и о смерти. Может, не надо ничего додумывать и принять ситуацию такой, как она есть? Да, странно, да, необычно, но разве жизнь после смерти — явление заурядное? И кто знает, каков он — ад для писателей (мне почему-то все время хотелось думать, что я писатель и что попал именно в ад), может, он действительно состоит из ненаписанных книг, которые ты теперь в виде наказания — жестокого наказания — должен читать, читать и читать. И каждый писатель — только себя: таковы законы жанра. В раю наоборот — там все гении и праведники, им дают чужие книги, они больше никогда не читают себя, а здесь — нет, здесь все по-другому: никакой свободы и никакой надежды, одна радость — твое имя на обложке, и то, если разобраться, это никакая не радость, а еще более бесчеловечное наказание, только хитро так замаскированное, чтобы очутившийся здесь, в первый момент еще толком не разобравшись в специфике этого невеселого места, возликовал: боже мой, да об этом я мечтал всю жизнь, это же настоящий рай, здесь все мое до последней буковки.
Но то, что я прочитал, моим не было. Я не знаю, кто это написал: бог, небог, та женщина, что не выходит из кухни, или тот, чье имя стоит на обложке, — но точно не я. Я жив, я существую, я горю желанием понять, что со мной происходит и что в этой странной, безумной истории, в которую я дал себя втянуть, от лукавого, что от сопливого, а что — от кого-то еще. Даже если в этой истории нет никакого смысла, я его найду — и предъявлю тебе: вот он, на, смотри, ты хотел его — бери.
А поиск смысла я начну с кухни, точнее — с того, кто там находится.
Где эта разбитная женщина, чего она там застряла? Сама же пригласила в гости и застряла на своей кухне, словно меня и нет. Чем она там занята? Вяжет на зиму джемперок из нити моей жизни? Или просто ушла, тихонько закрыв за собой дверь и оставив меня одного? Нет?
Нет. Щелкнул электрочайник, заскрипела дверца шкафчика — на кухне кто-то был. Четыре — ноль, женщина, ты снова выигрываешь.
— Вам помощь нужна? — крикнул я, потом подождал ответа и снова крикнул: — Помощь нужна?
Не то чтобы я горел желанием прямо сейчас переться на кухню и там протирать чужие чашки или открывать ржавым консервным ножом банки с прошлогодним вареньем без косточек, но и лезть на полку за пятым томом своих сочинений тоже не хотелось: я знал заранее, что там найду, вернее, чего там точно не найду. И еще — нужно было подвигаться, походить, чтобы стряхнуть с себя это полуобморочное состояние, когда непонятно, на каком свете находишься и что с тобой происходит. Состояние, в котором не удается додумать до конца ни одной мысли. Возможно, если зайти на кухню, развернуть, как в латиноамериканском танце, женщину лицом к себе, сорвать с ее лица маску гипергостеприимной хозяйки, зазвенеть, освобождая стол, сброшенной на пол посудой и, не дав себе опомниться, сделать с женщиной то, что делали с ней до меня сотни мужчин, включая солистов «Энималз» и «Битлз», а потом закрыть за собой дверь и просто уйти, — возможно, тогда все вернется, в том числе и мои мозги, на свои места и окружающий меня мир станет окружающим меня миром, а не третьей или четвертой реальностью. И тогда уже будет совершенно неважно, что написано в оставшихся четырех томах, и неважно будет, кто их написал: я или какой-то Андрей Краснящих, — автор, писатель, человек, или монстр, притворяющийся автором, писателем и человеком. Ведь, как ни крути, происходящему со мной может быть только два объяснения: либо все это написал я, либо не я, — а остальные предположения: безумие, смерть, наваждение, амнезия, еще и еще — можно запросто отбросить или свести к двум основным.
А проверяется это следующим образом: берется пятый том (на полке остаются три) и открывается на двести десятой странице. Двести десятая страница — это год моего рождения, последние две цифры, умноженный на три, потому что разделить на три без остатка не получается. Итак:
«У каждого в воображении своя идея: кто-то выдумывает компьютерные игры, кто-то — газированную воду, кто-то — миры на других планетах, — а я вообразил себе книги и, чтобы никто другой о них не узнал, построил кладбище, где на могилах стоят гранитные памятники, на которых написано „ Энтони Берджесс. Заводной апельсин ” , или „ Эдвард Олби. Все кончено ” , или „ Генрик Сенкевич. Камо грядеши? ” , или „ Никос Казандзакис. Последнее искушение ” , — и так до горизонта, все пространство в могилах книг, у которых можно прочитать лишь фамилию автора и название, а сами книги ни открыть, ни прочитать невозможно, потому что гранит, из которого они сделаны, никогда не распахнется и не расскажет ни сюжета, ни идеи. И я стою веками перед ними, словно кладбищенский смотритель, и наблюдаю, как ветры и дожди смывают краску надписей с каменных обложек, разъедают позолоту букв и книги превращаются в одинаковые, неотличимые друг от друга надгробья. А люди, посещающие кладбище, ходят и спрашивают меня как единственного знающего все об этих книгах: „ Кто здесь лежит? А кто здесь? А кому этот памятник? А это кто был? ” — и я им рассказываю: „ Это Юрий Домбровский, ‘Факультет ненужных вещей‘, а это Герман Гессе, ‘Игра в бисер‘ ” — хотя на самом деле — и я это помню очень хорошо — тот, на кого я показал как на Домбровского, — Кэндзабуро Оэ, а вместо Гессе — Кальвино. Но какая этим людям разница: Кальвино это или Гессе, — если они никогда их не читали и фамилий таких не слышали, и забудут о них через секунду, и памятники все на одно лицо: надгробье Гессе точь-в-точь как Кальвинино, и ничто не говорит, что там именно Гессе, а не Кальвино. Ведь если я один знаю, чем различаются Гессе и Кальвино, то не важны эти отличия и даже то, что Гессе и Кальвино существовали когда-либо на самом деле. Различия между книгами появляются в голове у разных читателей, а если читатель один, то и книга одна, а значит, абсолютно несущественно, как она будет называться: „ Жизнь Иисуса ” или „ Иуда Искариот ” ».
Конечно, и я мог бы так написать, в общем-то, ничего сложного: бери и пиши, — но не написал. Почему же я не написал эти восемь томов, что мне помешало: слабосилие, отсутствие прилежания и воли или, может, оправдаться тем, что всегда что-то отвлекает? Творческий процесс — это же такая нежная тонкая штука, когда всегда что-то отвлекает, всякие звоночки, что звенят каждый день и всегда не вовремя. Тот, кто написал эти восемь томов, сумел сгруппироваться и не обращать на звоночки внимания, а я, значит, не смог. Это очень удачный пример — звоночки. Кому-то, может быть, они даже помогают сосредоточиться и найти единственно нужное слово, за которым последуют еще одно и еще одно. Может быть. А я со своим распрекрасным сборником рассказов остаюсь куковать в чужой квартире, около чужой книжной полки с чужим Собранием сочинений под ногами. Тот, кому удалось написать восемь томов, может собой гордиться — он герой, он автор, он молодец, он знает, чего хочет. При желании он мог бы даже написать обо мне, описать эту ситуацию, в которой я — растерянный, ничего не понимающий, полуживой — стою с пятым томом Собрания его сочинений в руках и не знаю, то ли поставить его обратно, то ли бросить к остальным к черту.
Как себя ощущает герой чьего-то текста? Может, именно так, как я сейчас, — безвольным куском мыла, буковкой-куколкой, растеряшкой: любая мысль, даже самая светлая и искренняя, не додумывается до конца, застревает на полдороге, уходит обратно, к началу, путается в тавтологиях и повторениях. Как и каждое действие — начать и не решиться закончить, начать и забыть о том, что хотел сделать. Одни и те же слова, все время одни и те же. Это называется — невозможность ничего сделать и ни до чего додуматься, одним словом — пустота.
Женщина (она на кухне, я знаю), должно быть, хочет помочь мне принять решение, натолкнуть на какую-то мысль, ведь недаром же стала посредником между мною — Андреем Краснящих, написавшим один-единственный сборник рассказов, и мной — Андреем Краснящих, написавшим, как минимум восемь томов рассказов и романов. Более того, я почти уверен, что подсказка именно в женщине, а ни в чем другом, иначе что это за странная встреча с узнаванием и еще более странное приглашение зайти на чашку кофе в пять часов дня? Хотя бывают ситуации и посюрреалистичнее, чем та, которой я дал себя увлечь, никто за ухо не тянул, мог и отказаться, никуда сегодня не ходить, сидел бы дома и писал. Например, о том, как одна женщина, судьба — ее фамилия, встречает на улице одного мужчину и узнает в нем писателя К., потом она шутки ради или для того, чтобы показать ему все восемь томов его сочинений, приглашает К. к себе домой, а он, придя в гости, не проявляет к своим книгам никакого интереса, а, как свинья, набрасывается на хозяйку — беззащитную маленькую женщину, увлеченную его творчеством. Кухня, женщина в полусорванной одежде, чашки на столе, тусклый свет абажура — дойти до этого места, а затем долго биться над изматывающей душу концовкой.
Подобный сюжет — хороший повод поговорить о проблемах творчества как такового, о дороге, которую прокладывает художественное слово к читательским сердцам, о ритме, который управляет вселенной, в том числе и такой, как наша, о доверии к писателю, без чего восприятие текста уже немыслимо. Это называется — прорыв к новой искренности через старый, закаленный в боях с литературой цинизм. Побольше пауз, поменьше выводов, и ничего не бойся — вот три главных закона твоей маленькой вселенной, где, кроме тебя, живут одинокая женщина и писатель К., когда-то написавший восемь томов твоих сочинений, а сейчас не способный вспомнить ни одного из них. Автор, герой и читатель — три персонажа, которых вполне достаточно для любого сюжета. Читатель, как всегда, на кухне, готовит чай и о чем-то думает, может быть, просто считает до ста десяти, чтобы вернуться в сюжет в самый важный момент и сказать то, чего ждут не дождутся услышать автор и герой — два китайских болванчика, кивающих головой в такт друг другу и себе самим.
Как бы то ни было, надо идти дальше, никто за меня не откроет шестой том на сто десятой веселой странице — странице твоего детства — и не прочитает вот это:
«Я представил себя на месте писателя, сочиняющего этот рассказ. Все нужно переписать, но сначала — имя. Имя — уже сюжет. Пускай одного из братьев зовут Сережей, а другого так, как Сережа называет меня. Тут мне вспомнилась история другого, не того, кто написал латиноамериканский рассказ, писателя. Он любил замужнюю женщину, все не уходившую к нему от своего мужа, которого звали Сергеем. Чтобы она ушла, писатель ничего не мог сделать, и тогда он написал много рассказов, в которых убивали героев, называемых Сергеями. Так ему было легче жить со своей мечтой. Его любимая никак не уходила к нему, он старел и писал, убиенных Сергеев становилось все больше, читатели их жалели, критики писали о них как о жертвах, в конце концов получилось так, что писатель, пострадавший в жизни от Сергея, в своих произведениях создал идеальный образ Сергея-жертвы, вызывавший у всех сочувствие. Отомстить не удалось, Сергей обставил его и в литературе.
Вот такой нужно написать рассказ, чтобы все ясно и узнаваемо, а не строилось на условностях и недоговорках. Где героя звали бы нормальным человеческим именем Сережа, и чтобы каждый читатель решал для себя, на кого из его знакомых Сережа похож. Я думаю, что любой хороший рассказ строится на сочувствии, а не на безразличии».
И потому никто не скажет про себя: «Шесть — ноль», — и не бросит книгу под ноги. Никто не задумается, почему он до сих пор не посмотрел на издательство, не поинтересовался тиражом или годом издания. Никто не спросит: «А что же это, собственно, с тобой происходит, дружище? Откуда взялись эти ненастоящие безличные книги, докучающие тебе своим существованием? И наконец, кто эта женщина — единственный человек в мире, имеющий все восемь томов твоих ненаписанных сочинений? А?».
Никто за тебя не станет жадно искать в этом сюжете нестыковки и противоречия, мысленно хватаясь за несуществующую голову, ведь правда? Никто не найдет тебе замену, не отпустит с богом: иди домой, писака, возвращайся в семью, которой у тебя нет и не будет, разве что та, которую ты себе придумаешь сам, — и мышку, и кошку, и внучку, и бабку. Никто не поймет тебя лучше, чем ты: вселенная бесконечна, поэтому мир далеко не совершенен. В нем не хватает мышки, кошки, бабки, и внучки тоже не хватает. А что же это за мир без внучки? Скажи, ты же знаешь, ты же видел его.
Неужели ты все забыл? Помнишь, тебя встретили на улице, назвали Андреем Краснящих и пригласили в гости, помнишь? Помнишь, что ты ответил на это? Помнишь улицу Байрона с ее странными жителями, шарахающимися от тебя, как от чумы, в разные стороны? Помнишь подъезд, третий этаж? Помнишь, как ты спросил, есть ли в квартире собака? Помнишь, как тебя оставили одного, бросив среди твоих книг? Помнишь тот момент, когда твой читатель навсегда исчез на кухне? Что ты еще помнишь?
Тогда давай снова вернемся назад. Ты вышел из дома, допустим, за сигаретами. Попал под дождь. Сигареты намокли, намокла куртка, намокла рубашка. Соседка сказала тебе: «Идите домой, выпейте чаю, вы заболеете». А ты ничего не ответил и пошел дальше. Дальше ты встретил женщину, выгуливавшую большую собаку, и присел завязать мокрые шнурки. Еще несколько шагов, и подъезд с кодовым замком. Какой там был номер: двести десять, сто десять? Вспоминай, вспоминай. Почтовый ящик с торчащей из него газетой — как она называлась? Вспомнил? Что-то, связанное с морем. «Андреевский крест»? «Апории красоты»? Ты поднялся на третий этаж, дверь была открыта. Что ты там увидел? Помнишь?
Еще раз: выпиваешь чай и выходишь на улицу, доходишь до угла, там киоск, газеты, журналы, сегодня должен появиться журнал с твоим рассказом. Ты спрашиваешь о нем у продавщицы, она просит подождать, ты ждешь. Ждешь. Ждешь, смотришь под ноги. Начинается дождь. На колокольне звонят — пять часов. Около тебя останавливается женщина в замшевых туфельках. Просит тот же журнал. Ей продают, она уходит. Сворачивает на Байрона. Байрон был великим английским поэтом, развратником и аморалистом. Женщина заходит в подъезд, поднимается на третий этаж. Дома ее никто не ждет, она живет одна. Заходит в прихожую, ставит зонт, снимает плащ, пробует закрыть за собой дверь. Дверь больше не закрывается.
Назад. Снова киоск. В киоске — журнал, в журнале — рассказ, в рассказе — опечатка. Хуже, чем опечатка, — убийственная опечатка, делающая весь текст убийственным текстом. Разве это непонятно? Зло пробралось в мой мир и правит бал, скрежещет зубами, играет на нервах. Теперь многое непонятное становится понятным. Но есть тот, кто еще способен все изменить. Это я, автор и исполнитель. Чужой текст снова станет моим, я знаю, как и знаю, что нужно сделать. Лучшие люди на земле — это писатели, они способны изменить мир одним движением пера, взять ответственность на себя, расписаться кровью на договоре с дьяволом.
Толика здравого смысла. Прокрути еще раз. Когда ты говоришь «я», представь на своем месте другого — более талантливого, более удачливого, более сильного и решительного. Что сделал бы он? Вышел из дома, улыбнулся солнцу, соседским детям, продавщице газет. Увидел женщину, заговорил с ней, узнал, чем она дышит. Проводил ее до подъезда, остановился там, где не остановился ты, заглянул ей в глаза, провел рукой по ее лицу, крикнул вслед: «Мы еще увидимся». А потом поискал по карманам зажигалку, крутанул колесико, закурил. Докурил и поднялся на третий этаж. Стоп. Я не хочу знать, что было дальше. Дальше я взял в руки седьмой том и прочитал:
«И не расстраивайся, что я отвергла то, что ты приходила предложить мне. Ведь речь шла не о победе или поражении, а только о встрече. Закрыв книгу, ты не перестанешь быть читателем, даже если авторский замысел остался для тебя недоступным. Где-то на какой-то странице ты перестала понимать, что читаешь, неясное настроение вызвало в тебе неопределенное, бесцельное движение души, синтаксис превратился в ощущение, ты почувствовала, что знаешь больше, чем написано в этой книге, не переставая ощущать, что ничего не поняла. С моей стороны не было произвола, с твоей — усилий. Расставшись, мы будем такими же, как до нашей встречи, осознавая, что поменялись местами. Ты не отторгнешь моего, чужого, считая, что это твое. Где-то на существующей, но невидимой границе моего, авторского, и твоего, читательского, сознаний ты ощутила движение мысли, твоей или моей, мысли, бывшей мыслью до того, как она стала ощущением. Это ощущение знает только тебя, оно забыло о том, что ранее было моей мыслью. Но ты вспомнишь обо мне, когда ощущение оформится в мысль — твою мысль. Тогда свою мысль ты назовешь моей, думая, что она тебе не принадлежит. Но она будет твоей. Моего в ней не будет ничего, потому что, пройдя через ощущение, эта мысль полностью избавится от моего. Но ты будешь думать иначе и понесешь это знание в свой мир, где все, что ты считаешь своим, будет напоминать обо мне.
Ясные строки вызывают отчетливые идеи, путаные мысли — смутные ощущения. Ты понесешь смутные ощущения в свой ясный бодрствующий мир, как отголосок сна, требующего истолкования. И все будет твоим: сон, толкование, мир. Но ты не поверишь себе, будешь думать, что все это не твое, а мое. И в каждом осколке твоего пока еще ясного, неослепшего мира отражусь я — тот, кто пришел и лег рядом с тобой, когда ты закрыла глаза. Умерев, ты позволила делать с собой что угодно, предоставив мне свое сознание. Конечно, это культ, ритуал, так все, кому обязан я своими знаниями, испокон веков поступали с такими, как ты, когда такие, как ты, приходили умирать. Один умирал — другой ложился рядом и вел за руку покинувшую тело душу по лабиринтам своего сознания, в зеркальных стенах которого отражались теперь двое: ведомый и проводник, ничем не отличающиеся друг от друга».
Это была двухсотая страница — ровно посередине. Текст был страшно знакомым: я уже когда-то читал его. Шесть — один. Жизнь налаживалась. Из кухни потянуло запахом кофе. Желудок — враг мой — воодушевился, представил себе все сокровища Агры — кренделечки, слоечки, запеканочки, кексики, булочки с изюмом и прочие радости жизни, сопутствующие кофемании, и чуть ли не заплясал свой безумный танец победы добра над злом.
— Вы готовы? — закричала из кухни женщина.
Казалось, я нахожусь у нее дома целую вечность, родился и не один раз умер тут.
— Готов, — крикнул я в ответ. И про себя добавил: — Почти.
«Почти» — это относилось к восьмому тому. Последнему, точнее — самому последнему. Крайнему справа. Конечно, я чувствовал себя превосходно — кум королю и сват министру, — но восьмой том, вещь в себе, еще немного давил на мои слабые мозги своей неизвестностью. Не хотелось думать о плохом, но от восьмого тома можно было ожидать чего угодно: и хорошего, и плохого.
Остановился бы на этом, сказал я себе, на семитомнике. Какая разница, сколько книг написано: семь или восемь? Какая разница, где они стоят: у тебя дома или у этой женщины с ароматом кофе? И, по большому счету, нет причин докапываться до того, кем написаны эти книги: тобой или кем-то другим, укравшим у тебя имя, фамилию, мечты, жизнь. Это никого не волнует, и тебя тоже не должно волновать. Главное — чтобы ты не украл у себя ее — женщину с ароматом кофе, верящую, что ты и есть тот самый Андрей К., написавший все эти семь или даже восемь томов черных сочинений. Пока она думает, что ты автор этих книг, — она твоя, она будет варить тебе кофе, кормить тебя булочками с изюмом и, если надо, рожать и воспитывать твоих детей. Так что — давай, стой на своем и никого не слушай. Ты автор, она читательница, а читательница, понимаешь, — это самое важное в этой истории. Вообще в любой истории. Если у истории нет читателя, то нет и самой истории. Так что иди, посланник дьявола и разбиватель сердец, иди к этой женщине и докажи ей, что ты самый что ни на есть настоящий Андрей Краснящих и других Андреев Краснящих не бывает. Но сначала бери этот чертов восьмой том и читай с любой страницы. Это все твое, и какую бы ты страницу ни открыл, оно не перестанет быть твоим. Восьмой том — восьмая страница, пусть все закончится так, как и начиналось, — душевно и симметрично:
«Очень простая встреча, проще не бывает. Случайная, на улице Герцена, в субботу, в пять часов дня. Так сто десять тысяч людей каждый день в разных местах и странах встречаются с другими ста десятью тысячами, чтобы через несколько секунд или минут разойтись и навсегда забыть о встрече, как будто бы ее и не было никогда. А ведь каждая встреча — это знак, знак чего-то, что еще только должно произойти, а пока находится в будущем, в мире вероятности и возможности. Каждая встреча — это еще и шанс, шанс пустить свою жизнь по иному пути, иному руслу, сделать холодное и мертвое будущее горячим и живым. А еще каждая встреча — это дар, дар, от которого мы чаще всего отказываемся».
Шесть — два. Да, этот текст мог написать только один человек в мире, и я, конечно же, знаю этого человека. Знаю уже давно, со школы, даже с детского сада. Это написал человек слабовольный, со множеством старых, пустивших корни в обратной стороне души комплексов, человек, не слишком везучий и далеко не всегда уверенный в себе, но в целом неплохой, добросердечный, способный признать свою ошибку и не упорствовать в собственных заблуждениях и при этом отчаянно желающий подняться над собой, развернуть сложенные крылья, выйти на орбиту и наконец-то написать что-нибудь настоящее, живое, нужное не только ему, но и другим людям, например, вот этой женщине, что, позвякивая чашками и блюдцами, несет поднос в комнату.
Что будет с ними — с ним и с этой женщиной; что ждет их впереди: его и ее?
— Зачем вы раскидали свои книги? — спросит она.
— Я соберу, — пообещает он.
— Да ладно, — скажет она. — Ничего страшного. Вам что больше понравилось? Мне — то, что в последнем томе.
— Не знаю, — ответит он. — Наверное, мне тоже.
— Вы как-то странно вели себя вначале, — снова скажет она.— У вас что-то случилось?
— Да нет, — отвечу я. — Ничего.
— Ну и хорошо. Вы что любите с кофе: сладенькое или солененькое? Булочку или бутерброд?
Потом они вместе соберут книги, поставят их на место и остаток вечера проведут в разговорах о прочитанном, в конце концов она не выдержит и облегчит душу — признается, что рассказы Андрея Краснящих, во всяком случае, большинство из них, никогда ей особенно не нравились. Он, основываясь на прочитанном, также выразит свое мнение, и оно тоже будет далеко не в пользу автора. Таким образом, странная сюрреалистическая ситуация разрешится вполне обыденно и естественно.
— Зачем вы раскидали мои книги? — спросила женщина, входя с подносом в комнату.
— Это не мои книги, — ответил я.
— А чьи же они? — еще раз спросила женщина.
— Не мои, — ответил я. — Я не Андрей Краснящих.
— Да? — спросила женщина. — А что вы будете к чаю? Вот бутерброды, вот булочка.
Она поставила поднос на журнальный столик и присела около раскиданных книг.
— Я помогу вам, — предложил я.
— Не стоит, я сама. А зачем вы сказали, что вы — он?
— Я все-таки помогу вам, хорошо? Вдвоем у нас быстрее получится.
— Но вы же могли до конца притворяться, что он, правда?
— Да.
— Хорошо, что вы этого не сделали. Так, в любом случае, лучше. Как вас зовут?
И я назвался. Получалось, что все к этому и шло.
Все думают, что сейчас, раз уж такое дело, самое время и автору признаться в том, что никакой он не Андрей Краснящих, а заодно объяснить, почему он вначале пообещал убить всех персонажей, но не сделал этого.
Не дождетесь. Да, не дождетесь.
АНТИБИБЛИОТЕКА-3
Мой маленький рай, самый маленький из всех возможных, куда уж меньше: двадцать с половиной на тринадцать сантиметров, восемнадцать на одиннадцать, плюс какая-то толщина, — а попадаешь туда, и все: гаплык, крантец, ничего, кроме него, не нужно — ни мамы, ни ребят во дворе, ни — потом — женщин. Лежи и читай. Слово на букву «с».
И вот ты изгнан.
Читаешь, слепнешь, слепнешь, читаешь. Когда тебе остается один день до слепоты — не то же самое, когда тебе день до смерти. Там — тысяча вариантов, здесь — один; зато, черт возьми, какой, черт вас всех возьми! И кто от него откажется. Я — нет. Слово на букву «д».
Мне станут читать — пусть лучше читают про себя: разве это теперь будут Джойс, Музиль, Беккет? Это будут голоса, птицы, чтецы. Их, а не мои интонации. Пусть уж лучше рассказывают что-то о своей жизни, пусть даже соврут — эта ложь будет правдивее, чем Пруст или Беккет с их голоса.
Вы думаете, такой уж я правдолюбец? Да нет же, меня трудно назвать правдолюбцем, и вообще — не в правде дело. Купите себе расстроенное пианино, тогда поймете, что я имею в виду.
А ведь вы и сейчас меня не так поняли: я говорю, что литература — это род игры и нужно уметь играть, выдумывать новые правила, обманывать. Вот то серьезное, тяжеловесное, что вы считаете литературой, — это никакая не литература. Как не литература газета. Или слова во сне. Или то, что девочки для себя пишут. А литература — штука очень несерьезная, так, от нечего делать, а не потому что надо. Настоящая книга — это всегда просто так написанное; автор развлекался и нас развлек, спасибо ему. «Это вы тут великую русскую литературу делаете — а я в нее просто погулять вышел», — я мог бы подписаться под этой фразой.
Меня всегда удручало, что такую веселую вещь используют для гадких и мрачных целей: проповедей добра и любви, призывов жить в мире, беречь природу, — для которых она совершенно не предназначена. Вот и теперь: настоящий писатель — провидец и пророк — тьфу! — настоящий писатель скорбит о судьбах мира — тьфу-тьфу-тьфу! Настоящему писателю и чихнуть спокойно нельзя — тут же эхом отзовется в душах людей.
Слово на букву «п» — писатель — это Вийон, Сервантес, Рабле, Гоголь — пока был Гоголем, а не пишущей машинкой для поднятия тяжестей. В общем, вы меня, наверное, понимаете, даже если и нет.
Не видать мне третьего на третьем,
Не видать второго на втором,
С первым еще ладно — этим первым
Мы умишко шаткий подопрем.
Тогда поймите еще одно: сразу хватать и читать книгу — это безобразие. Удовольствие от книги снижается вдвое или втрое. Такое чтение никому не нужно, разве что студенту-первогодку — ну да и его потом попустит.
Мне, как медведю, нравятся книжки с душком: я их сначала прикапываю — ставлю на полку, пусть отстоятся какое-то время, пустят сок в моей душе. А я пока помечтаю о том, как буду их читать, какую из них выберу первой, какую за ней, — я переборчив; как стану вдыхать запах страниц, поглаживать обложку.
Каждый сам кузнечик своего счастья — я стрекочу о том, что знаю, в чем я профессионал, о том, что умею и люблю. Я обещал — я научу вас читать книги. Мне-то уж — ладно; вам должно пригодиться. Слово на букву «ж».
Стыдно, стыдно, ой как стыдно — перед собой — уходить в темноту, оставляя здесь, на свету, столько непрочитанных книг — целую библиотеку. Вот Клаус Манн — чего я ждал (хотя я знаю, конечно, чего), вот Батай — ну да этого не так жалко. Вот Джулиан Барнс — пять томов, один в один, солдатики — так и останутся. А Газданов! Газданова нужно было прочитать сто лет назад, не позже. Керуак — и ему до свидания, да? Жалко ведь, стыдно. Тагор — почему ж ты, скотина, Тагора до сих пор не читал? Почему не читал Уайдлера, Звево, Шмелева? Где они все теперь будут? Кем?
Нераскрытая книга навсегда остается только книгой — стопкой переплетенной бумаги под яркой обложкой, смешным в глазах обезьянок предметом. Я, оказывается, та же обезьянка. Я запомню Газданова, Остин, Пиранделло по их разноцветным обложкам. Вот ведь горюшко-то!
Но время еще есть, чуть-чуть, на одну книгу — только какую? Кого я хочу прочитать напоследок? Кого?
Бегбедера — сразу на фиг. Вместе с Палаником. Это должен быть кто-то… в общем, представьте: сидите вы в полном мраке перед выключенным телевизором, греете кости около батареи и ведете вечную беседу с самим собой — и тут возникает Паланик. Возникает Паланик. Возникает Паланик! Всегда, о чем бы вы ни подумали, возникает Паланик. Один из вас теперь навсегда — Паланик, другой — тоже. Они сидят в вашем кресле, батарею опрокинули, орут друг на друга, — паланики. Или бегбедеры. Дурацкие даже фамилии.
Последняя книга станет тобой — это же понятно. Кем ты хочешь быть — Бенджамином? Генри Джеймсом? Чораном? Чораном не хочешь? А кем? Зачем ты тогда его покупал? Вот вам еще урочец: покупаешь книгу — покупай, но бери лишь ту, в которой уверен, как в самом себе, — готов, если надо, в нее превратиться. А так ты рискуешь.
Придется рисковать. Кто меньше всех кажется опасным? Халлдоур Лакснесс? Да, Лакснесс вроде с ходу не внушает опасений: стоит себе и стоит на полке (все они там стоят), черный такой, скандинав, нобелевский лауреат. Но да черт его знает, что ему в голову взбредет, — потом уже, все, не отвертишься, так и будешь ходить, лежать, сидеть с Халлдоуром Лакснессом, милым другом. «Как там погодка на улице, Халлдоур?» — «Хреновая, Петрович». — «А завтра?» — «И завтра будет хреновая». — «И?..» — «И всегда». — «Да что ж ты за гад такой, Лакснесс, ну тебя к черту».
Ну его к черту. Все они коты в мешке: кого ни вытащишь — все наугад. Раз — и поймал; смотришь — батюшки, да это же Вагинов, гадость какая, иди быстрее мыть руки. Да быстрей же, говорю, с мылом.
Вагинов — еще не самое худшее, бывает и Драйзер, а Драйзер — это действительно полный трындец, всю жизнь не отмоешься. Хотя чего это я — что делать Драйзеру в моей библиотеке? Нет его здесь, никогда и не было. Вообще не было. Писателя Драйзера не было. Драйзера я придумал — себя попугать. И тебя.
А если бы был, о чем бы писал? Ясно — о конокрадах. Да, о том, как они крадут лошадей. Ночью. В полях. Крадут, загоняют в лес и там делят добычу. Сидят у костра и спорят, сколько кому. А луна светит, и на много километров никого вокруг. Один из конокрадов — тот, что без глаза, с черной повязкой, — вскакивает, хватает нож… Господи, что за фигня! А я что говорю — на фиг, на фиг Драйзера: фигня, а не писатель; возьми Синклера Льюиса.
Льюиса? Так с первого взгляда и не поймешь, что за Льюис, наверно, тоже о лошадях, нет, тоже на фиг. Вообще, при чем здесь лошади? Зачем мне сегодня, в последний день, роман о лошадях, Холстомеры, Гамилькары? Сегодня… Ах ты, боже мой, а сегодня уже идет, проходит. Последняя книга…
Каким должен быть последний писатель твоей жизни? Стройным, худым, с изящными манерами или, наоборот, толстым, прижимистым, никому не дающим спуску, бередящим душу? Вот Ален Роб-Грийе. Я о нем ничего не знаю. Он высокий, суховат, на нем шляпа и зимнее пальто. А на улице — лето, идиот! На хрен Роб-Грийе. Вот Сол Беллоу. Плешь, законченный эгоист, брюзга, молотит что попало. Вот Памук — веселый такой, улыбающийся. Дебил. Вот кто-то вуалью прикрылся, глазки строит, ноги кривые — наверно, Шарлотта Бронте, дура. Вот Уэльбек… Какой Уэльбек? Нет никаких Уэльбеков. Что же это меня к уэльбекам занесло — откуда они вообще тут берутся со всем своим выкаблучиванием, ужимочками под графа Евграфа и пародонтозным выражением лица «ах, как вы мне все надоели»? Ведь сразу понятно: Уэльбек — это отель, отель взрывается — бах-х-х! — на поверхность выходят люди не люди, а так — какие-то пищалки, эти пищалки горазды построить новое общество — «социум» они его называют, социум для всякого отребья, и оно тут как тут — здрасьте! — и мы им тоже: здрасьте! А потом уже начинается полное черт-те что: кто-то в кого-то стреляет, кто-то бежит через весь город спасать дочь городничего, пардон, мэра, а мэр сидит себе в бункере, деньги считает, их у него много. Зачем считать деньги, когда весь мир рушится и летит в тартарары, — одни уэльбеки знают. И вы хотите, чтобы я такое читал, отправляясь на тот свет (ну, если все же уподобить слепоту смерти)? Да нет, забирайте своих уэльбеков из моей библиотеки, забирайте и валите вместе с ними. Уэльбеки…
Ступор. Выпить бы чаю, поесть вареников. Некогда. В голове роится тысяча мыслей, я хватаю одну и вытаскиваю на свет божий. Что тут у нас? Посчитаться. Эники-бэники-ели-вареники-эники-бэники-блуп. Блуп — это Кортасар, а нам — ух ты! — попался Павезе. Чезаре Павезе… Вот так бывает, ты, значит, судьбу обмануть, приладить к ее рылу свои копыта, а она тебе — раз, и Чезаре Павезе. Ешьте, мол, не обляпайтесь, за все заплачено. Кровью. Кровью, конечно же, а то чем. Появляющаяся на тридцать шестом году Франческа Ривелли убивает его на сороковом. Он — это Ферофил Ферофилович Смирнов, гинеколог со стажем. На стене написано (нацарапано): «Дед Мороз — лох». Летают бабочки (потом долетаются). Очень хочется найти себе друга, хотя бы по переписке. А друга все нет и нет. Страшная вещь — одиночество. Тот, кто все время один, когда-нибудь да повесится. Море, море крови. И боли. Того и другого вместе. А тут еще кто-то сидит в кустах, вынашивая коварные планы. Не похоже на него — он ведь славный, в общем-то, человек, за женой больной ухаживает, дочь из школы забирает. Хоть и вор в законе. Хотя какие там законы в нашей стране…
Да не стану я такую муть читать! Вы что там, совсем охренели — что вы мне все время подсовываете? Море, чайки, наемные убийцы, свет и тени…
Глаз у слепого мертвый, сам слепой живой. Все, чему слепому надо научиться у зрячих, — это видеть мир. Мир просто так не откроется — его нужно ждать. Встать, походить по комнате, почесать репу, поесть груш. Легче всего, конечно, мир открывается, когда ты с книгой. Тогда его — бери не хочу. Охапками, охапками несешь к себе — и еще остается. На завтра. Но у слепого сплошное сегодня. День-ночь — границы стерты, размыты.
Сколько за столом, столько и в раю — говорила моя бабушка, имея в виду людей. Сколько на столе, столько и в раю — я имею в виду книги. Что я скажу себе завтра, когда не будет ни рая, ни книг, ни мира, ни меня, когда навсегда настанет сегодня? Кем я буду? Что-то мне подсказывает — никем. Наверное, это и есть смерть. Черт бы вас всех побрал. Идите — читайте свои книги, оставьте меня в покое. Мы теперь с вами по разные стороны обложки. Прощайте. Прощайте — а как попрощаться со всеми, с кем ты еще не знаком — со Шварцем, Дидеротом, Шойинкой, Троллопом? Со Стейнбеком. Как много мне о нем говорили: и такой Стейнбек, и разэдакий, — а стал на полку, и все, ни с места, как вкопанный. Сколько раз взгляд ловил его взгляд, рука тянулась к руке, а потом вот так вот махала — до завтра, до завтра. Слушайте же меня, слушайте: не покупайте книг. Берите их почитать — тогда — есть шанс — прочитаете.
— Ваша правда, милорд, — говорит мне Гросстейнбек, — что вы знаете обо мне? Что я сиреневый, дедушка мой — эмигрант? Хотите, я расскажу? — И начинает… — Было у матери три сына. Старшего в армию забрали, средний женился и съехал, младший остался при ней…
А я слушаю и не верю ни слову: какие, к лешему, сыновья, какая-такая мать? Кому это нужно?
— Сам напиши, — огрызается Стейнбек.
Обложка тускнеет, бледнеет, сереет. В комнате — сумерки. Сам напиши… Гомер, Мильтон, Джойс, Борхес, Беккет, Джордж Ширинг и Краснящих. Впрочем, с Ширингом это я не туда заехал. Впрочем, нет. Каждая книга станет Ширингом, и Ширинг станет книгой. И лампа, моя лампа станет книгой. И чайник. И ковер. Я прочитаю занавеску — о чем она мне расскажет? О том, что ее постирали и кто-то торопится в путь, начинает путешествие. Солнце пригрело бродяг, бродяги уснули, попали на берег моря. Нимфа не нимфа — красивая женщина в розовом платье, нет, в синем, крадется за ними — шаг в шаг — по камням. Так хочется, но невозможно отсюда увидеть ее лицо — кого оно мне напомнит? Бродяга повыше похож на меня, второй — мальчишка — его поводырь. Уходят. А я остаюсь. Выпускаю из рук занавеску. Беру пепельницу. Большую, хрустальную — что-то в ней есть от не читанного мной никогда, даже в детстве, Пришвина. Я не курю. Откуда в моем доме пепельница? Откуда у меня Пришвин? Когда-то купил, наверно. Пепельница — тушить окурки; я держу в ней всякую мелочь: металлический шарик, колечко, значок. В них мало символизма, но много воспоминаний. Металлический шарик остался от детства — только он. Значок — от юности. На нем — можно не смотреть — написано-нарисовано «Выпускнику». Колечко — золотое, обручальное, не мое. Если в пепельницу налить воды, то все — и колечко — будет покоиться на дне моря, а шарик начнет ржаветь. Сначала появятся пятнышки, их будет немного, их будет почти не видно, разве что в увеличительное стекло (кстати, а где оно?). Рассматривая их, находишь на шарике порезы, царапины, ямки — никакой он не ровный, не круглый, не гладкий (не переборщи с описанием, символизма быть не должно!). Он скачет, бежит по столу, оставляя мокрую дорожку. Под каплями видно (опять! я убью это слово!), что и стол поцарапан, что он тоже не ровный. Весь мир неровный, щербатый, покоцанный, ему есть что рассказать.
Кто, ты, Левкин? Ты, Левкин, — холодильник. Гладишь тебя, гладишь — где же ручка? Нету ручки, холодильник на кнопке. Где кнопка? Вот она. Бесшумно открывается дверца. Чуешь, буженинкой пахнет? Балычком. Помидоркой. А водочки хочешь?
Кто ты, Дарио Фо? Ты, Дарио Фо, — умывальник. Правый кран — смешно, левый — грустно. Откручиваем оба, моем руки, споласкиваем лицо. Никуда не ходи, посиди еще здесь, послушай, как льется вода. Утром горячей воды не было — отключали, соседи что-то ремонтировали, стучали по потолку. Соседи — это Эрих-Эммануэль Шмидт: у них постоянно что-то происходит, то кошка орет, то ребенок, громко звонит телефон, громко ему отвечают, ночью — скрипит кровать.
Моя кровать — это Нат Готорн. Ох и одиноко же мне в ней, ох и не спится. Но все равно — хорошо, что она есть. И хорошо, что есть туалет. Туалет, унитаз — это Андре Моруа. Эмиль Герцог. Я спускаю воду и думаю о нем. Вода смывает мои какашки, несется по трубам — когда-нибудь мои какашки попадут в реку, потом — в море и прибьются к чьему-нибудь берегу. Кто-то непременно вляпается и обратит на них внимание.
Веселее, еще веселее! Солнце! Солнце, ты греешь мне спину, солнце — ты Пушкин — я знал тебя в детстве, я помню твои стихи, поэтому я назову тебя Лео Перуцем — я не знаю, кто это такой.
Женщины! Не разбегаться! Любить меня, женщины, любить еще сильнее! Вам все дано: приходить, уходить, извиняться, пахнуть росой, — вы Оскар Уайльд, я назову вас Нерудой, останьтесь со мной.
Я. Я — это я, Андрей Краснящих. Мир замкнулся на мне и захлопнулся. Я поднимаю Стефана Гейма и чешу себе Вересаева, а другим Стефаном Геймом (это уже Генри Торо) вытираю соплю под Вольтером.
И улыбаюсь.
СМОРОДИНОВЫЙ БЕС — 3 / АНТИБИБЛИОТЕКА — 4: МИР КАК ВОЛЯ, НЕВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Правила таковы: ты видишь на стене своего дома, на торце, на высоте своего седьмого этажа огромными красными буквами «АНЮТА Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ». Теперь тебе предстоит выяснить, кто такая Анюта, кто написал и как сложится их судьба.
Смеется: «Да ну тебя. Ну тебя. Ну».
«Ань, почему — Анюта? Сейчас Анютами уже никого не называют».
Смеется. Анюта должна быть смешливой.
Внизу парикмахерская. Может, Анюта — парикмахер? В мужском зале. «Височки прямые или косые?» Никогда не мог запомнить, когда какие. Сто раз показывали, и сразу забывал. Не складывается у меня как-то с ними — не нужно это мне. Ни прямые, ни косые. Какие, кстати, интересно, еще бывают?
Как он туда вскарабкался? Это ж седьмой этаж — пожарную машину вызывать надо. Буквы в полэтажа — вверх-вниз по лестнице, ступеньки на две. Почерк, если это почерк, четкий. Не спешил, вся ночь впереди. Для кого-то это вандализм, для него — крик отчаяния. Ведь понятно же, что крик в никуда, в полном смысле — безнадежье.
Может, поменять пароль? «ЛЮБЛЮ» на «ЛЮБИЛ», «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ» вообще стереть? Нет, плохо. Отвратительно. Пусть остается как есть.
Ну какая такая клиентура в парикмахерской — спальный район. Ходят местные, которым недалеко. Да и стригут местные. Все совсем по-соседски. И вдруг гром среди ясного неба: «АНЮТА Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». Кто здесь чужак — он или она? Он, конечно.
«Анюта!» — «Я тута». Радостно, с готовностью. Любит простоквашу с медом. Каждый вечер, вместо ужина. Телевизор. «Смехопанорама». Дроботенко.
Как описывать — так, чтоб не жалко было отдавать? Или чтоб жалко?
«Смотри, это он на тебя все время смотрит». — «Кто?»
«Смородиновый бес» — жанр немного брутальный. И несерьезный. Он вроде должен быть таким. Что-то произойдет — веселое, но пугающее: черти, радио, Дед Мороз. Но на самом деле это жанр-расследование, и автор тоже персонаж — дознаватель.
С пожарной машиной просто так не договоришься — за деньги, я имею в виду. Увидят, запишут номер, позвонят потом — куда служебную машину гоняли? Какая, мля, стена, вы что, совсем!?. Нет, машина была его, он пожарник. Не любит, когда говорят «пожарник». Пожарник — кто поджигает; пожарный — тушит.
Любит говорить «длинная история». «О, это длинная история», — и тут же ее рассказывает.
Дознаватель не следователь. Следствие закрыто, зашло в тупик, но кому-то поручается все взвесить и рассмотреть заново. По остывшим следам.
Анюта — у нее только имя и есть.
В отпуске был, у сестры. Зашел — нет. И на следующий день.
Веди, веди ее к нему. Аккуратненько веди.
Одно дело — на пожаре, это его территория; другое — у нее в парикмахерской. «Как вас подстричь?»
Нужно ли ему быть рыболовом? Болеть в футбол? Пить после работы пиво? Важно ли это? Что вообще — важно?
Приезжает. «Как отдыхалось?» — «Ой, здорово!» И принялась рассказывать.
Пора или еще не пора?
«Антибиблиотека» — жанр каталога, поиск системы, звенья которой сложатся так или этак.
Толпа на остановке троллейбуса. Все жмутся друг к другу, каждый хочет войти первым. Она сидит в троллейбусе возле окна, смотрит на пустую остановку и ждет, когда он отправится.
Кто-то должен быть за рулем машины, пока он на лестнице.
Когда был в деревне, оказалось, что любит колоть дрова. Колол бы с утра до вечера. Но что делать в городе с этой любовью? Что вообще делать с любовью?
В детстве плавала хорошо, далеко. Сейм, Псел, Ворскла — переплывала. Потом откуда-то появился страх утонуть, потерять сознание в воде, остаться одной. Ни разу же не тонула.
Как вообще сделать так, чтобы кто-то кого-то полюбил?
Зайти в парикмахерскую, посмотреть, кто из них может быть Анютой.
Как она относится к слову «парикмахерша»? Исправляет: «Парикмахер»? Не придает этому значения?
Вся ночь впереди, но ведь все равно ходят. Кто-то — с работы; подростки гуляют. Останавливаются, смотрят, задрав голову. Громко обсуждают, смеются — если компанией. Он должен был это учитывать. Решиться.
Жанр встречи — это «Антиантибиблиотека»; почему же здесь не оно?
Какой еще должна быть Анюта? Слегка полноватой. Как ее фамилия? Мигуля.
Характеризовать ее при помощи слов «должна быть», его — «нужно». Он раскрывается в действии, через поступок, она… ей не нужно раскрываться, она данность, только представить, увидеть.
Почему краской — красной? Все продумано, значит, и цвет тоже. Для пожарного красный — цвет огня, не крови. И сигнал о помощи: спаси меня. А что для пожарного синий, зеленый, желтый? Наверно, мучился, выбирая цвет.
В парикмахерской три девушки. Все слегка полноваты. Заняты работой. Сосредоточены, никто не смеется. Анюты здесь нет? Другая смена? Работают понедельно?
«Анют, это к тебе заходили?» — «Кто? Не, это, наверное, кто-то просто».
Я те дам — просто.
Важно ли, как он ее впервые увидел? Предположим, оказался в этом районе, предположим, решил подстричься, было лишнее время. Нет, не важно. Важно другое: отчего седьмой этаж? Как-то связано с конструкцией пожарной лестницы? Седьмой — максимальный? Если выше — нужна другая машина, пооснащеннее? Удалось вывести ночью из пожарной части без подозрений только такую машину? А новая, пооснащеннее, у них под особым присмотром, и так просто ее взять нельзя? Или этаж, как и цвет, выбран неслучайно? Дом — шестнадцатиэтажка; визуально седьмой этаж — срединный: когда смотришь снизу, верхняя часть дома немного ужимается. Нижняя — увеличивается. Почему нужно было, чтобы читалось именно по центру, зачем ему эта симметрия? Или не стремился к симметрии? Думал, слишком низко — будет бить по глазам, будет навязчивой, отпугнет; слишком высоко — не заметит, не прочитает, если специально не поднимет голову?
Жанр определяет интонация; глубина вдоха, ширина шага. То, что образуется между жанром и интонацией, общее пространство, и есть дискурс — который не стиль, а курс. Не стиль, а движение сюда, к жанру. Тот, кто написал на стене «АНЮТА Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ», тоже искал интонацию, двигался к жанру. Анюта как жанр — «исторически сложившийся тип произведения» — статична, готова, готова принять в свою жизнь того… Кто стремится к ней? А он, написавший, вложивший себя в это действие, — чистый дискурс, этим и ценен. Поэтому все, что мешает движению, что делает его вектором или вообще отрезком: первая встреча, решающая встреча — не нужно. Нет, не «Антиантибиблиотека». «Антибиблиотека». «Смородиновый бес».
Работают те же девушки. Может, не понедельно? Сутки-трое? Как-то сложнее?
Как он называл для себя «АНЮТА Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»? Надпись? Никак не называл? Потому что и так понятно? Или наоборот, все очень не понятно, и одно или два слова только не по-хорошему все разъяснят? Не боялся слов «я», «тебя», «люблю», боится их названия?
Не выводить его поступок из сферы прагматики? Оставить красные буквы как есть? Вывести? Красиво ли то, что он сделал, — красные буквы? Должна ли оценить их Анюта, как, скажем, оценивают картину, или красивый жест — в театре? Сумеет ли она это сделать — увидеть красоту там, где просто поступок, действие, крик, а так все бесхитростно и даже прямолинейно, чересчур? Или, может быть, только инженерную мысль — симметрию, размеры, цвет, хороший расчет?
Хорошо готовит. Лучше всего — «коронное блюдо». Каждый раз разное, но всегда вкусное. Темнее, гуще, острее; если спрашивают, в чем секрет, говорит — в помидорах. Свежие помидоры, не томатная паста.
Почему без знаков препинания, разве это телеграмма? «Люблю тчк выходи за меня вскл». «Хорошо тчк». Или: «Подумаю мнгтч». Ему часто доводилось посылать телеграммы? Редко, почти никогда, и поэтому телеграмма для него — это то, к чему прибегают в исключительных случаях? Кафка писал телеграфным стилем. В телеграмме за каждое слово нужно платить, каждое слово сколько-то стоит. И все слова выверены, продуманы несколько раз и подсчитаны. Те, без которых можно обойтись, отброшены, а оставшиеся — больше, чем слова, — сгусток информации, символы. В телеграмме платят за количество слов, за их скорость. Телеграмма должна быть доставлена как можно быстрее. Срочная телеграмма, «молния». И — чтобы быстрый ответ. «Да вскл».
Зачем я все так разжевываю, зачем выяснять? Странное, неясное, другие вещицы, где посреди вдруг ярко вспыхивает какой-то кунштюк — вне логики, сюжета, сам по себе — и все озаряет, — мне ближе и интересней. Мишки, которые делают «о-о-у-х-х» и валятся на спину, в мультфильме «Золотая антилопа». Они так бесполезны, красивы — к чему это «о-о-у-х-х»? к чему это паданье на спину? — и так не нужны сюжету, что их секундное появление в нем делает их самым главным. А историю о мальчике и антилопе, жадном визире и золоте — задником, фоном для охающих и падающих мишек. Мне бы хотелось, чтобы такие мишки были в моем рассказе.
Она не задумывается и никогда не думала об одиночестве. «Анют, а ты когда?» — «Да ну тебя». Но если б задумалась, поняла, что оставаться одной ей помогает уверенность, что тот, кто ей нужен, обязательно появится, а жизнь долгая и все успеется.
Так кто же сидел за рулем машины? Друг по работе? Но всегда есть опасность, что друг на работе случайно все разболтает; и лучше договориться с кем-то посторонним. Охранником с ближайшей заправки? Рассказать ему, что к ним в пожарную часть пришел один парень и упросил его помочь? Хмыкнуть при этом, ухмыльнуться? Или просто, ничего не объясняя, предложить денег? А на вопрос, кто такая эта Анюта, ответить: «А хрен ее знает».
В ней должно быть многое от меня. Не борщ, не коронное блюдо, конечно, и не «Я тута», но, допустим, страх утонуть — это мое. Откуда он появился — неизвестно; но вероятно, я его тоже у кого-то позаимствовал, потому что, в свою очередь, перезаражал им кучу людей. Большинство моих близких, я заметил, теперь опасаются отплывать далеко от берега.
Почему в «АНЮТА Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» все буквы большие? Чтобы кричало о себе, вопило? А если это не большие, а все маленькие — тогда это что, шепот?
Ей очень нравится песня «Пароле, пароле…», та самая, в исполнении Алена Делона и Далиды. Она не знает, что Далида — транссексуал, Кристиан Джильотти, а Делон — гомосексуалист. Она вообще не знает, кто поет эту песню и о чем. Ей нравится, как два голоса, женский и мужской, то вместе, то по очереди вытягивают слова «пароли, пароли…», будто действительно обмениваются паролями, будто они солдаты воюющих армий.
Зачем мне понадобилось сливать дискурсы «Смородинового беса» и «Антибиблиотеки»? Ради встречи двух главных героев? Или чтобы не дать им встретиться? Чтобы они стремились к встрече со мной — как бы третьим? Но при чем тут я? И так ли это уж вообще связано с персонажами: написавшим, ожидающей, пишущим? И кто к кому стремится: мы — к ней; они — ко мне?
Может быть, адресат не Анюта и «АНЮТА Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ» нужно читать как «Я ЛЮБЛЮ АНЮТУ И ХОЧУ ЧТОБЫ ОНА ВЫШЛА ЗА МЕНЯ». И тогда понятно, при чем тут я.
Как он ожидал получить ответ на свою телеграмму? Вряд ли рассчитывал, что Анюта напишет его на стене, внизу. Тогда как? Думал зайти в парикмахерскую и признаться, что он это он? При всех, отведя в сторону, с цветами? Или не ожидал никак, и ответ не нужен, телеграмма в одну сторону?
Но большие буквы еще и заголовок, думал он об этом? Выбирая не второй и не третий этаж? Что семь этажей под заголовком — это пустое место для текста? Что чем выше, тем больше поместится?
Надеть очки, чтобы прочитать имена на бейджиках — Даша, Марина? Даша, Марина — подождать, пока обернется третья? Зайти как-нибудь позже?
«Анюта, только не поворачивайся, он снова пришел». — «Кто, тот?» — «Нет, другой».
Она левша. Но в зеркале, перед которым она работает, клиенты ее видят правшой. Не чистая левша — пишет правой рукой. Ее переучили. Но стрижет, шьет, гладит — левой.
Почему он не зашел к ней на работу, не отозвал в сторону, не сказал, о чем написал на стене, тихо и с глазу на глаз? Зачем, чтобы видели все, для чего идти к цели с такими сложностями, обходным путем? Какова она — цель?
Услышать «да» или быть услышанным? Оцененным — ведь столько сделал, через столько пришлось пройти? Разве «АНЮТА Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ» подразумевает знак вопроса, разве это то же самое, что и «ТЫ ВЫЙДЕШЬ ЗА МЕНЯ?»? Или достаточно изложить намерения, заявить? Предупредить о своем появлении — может быть, через неделю? Дать время подумать, представить, побыть в ожидании?
Меня в детстве укусил шмель, я до сих пор помню, — кусал ли шмель Анюту?
На бейдже — я забыл очки — написано «Анюта»? «Анна»? «Аня»? «Вы будете стричься? — спрашивает Марина. — Садитесь в любое». Я сажусь к Анюте.
Слились ли дискурсы «Смородинового беса» и «Антибиблиотеки»? Нет? Слились, но не так? Так, как хотел? Как надо? Получилось ли что-то без кунштюков и вывертов, или кунштюки и выверты все-таки были, пролезли? Вообще, что такое — кунштюк, и такое уж удовольствие, когда текст без него, и несколько вариантов не маячат слева и справа от текста, и к концу один — не факт, что решающий, — не замаячит сильнее?
Анюта не умеет плавать и готовить борщ. Удивительно, но это так.
[1] Переведен.
[2] Имеется в виду: «Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического». М., «Прогресс-Культура», 1995, 624 стр.
[3] Рассказчик путает «Книгу о концах» со «Свидетелем истории».
За трудную дорогу
Ранчин Андрей Михайлович родился в Москве в 1964 году
Ранчин Андрей Михайлович родился в Москве в 1964 году. Доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ. Автор научных книг «Статьи о древнерусской литературе» (М., 1999), «Вертоград златословный. Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях» (М., 2007). Стихи публиковались в «Новом литературном обозрении» (2010, № 103) и в книге «Верхоград златословный...» Живет в Москве. Постоянный автор «Нового мира». Стихи публикует в нашем журнале впервые.
sub * * /sub
sub * /sub
настала зима улетел далеко за моря позолоченный ангел
и шпиль словно шприц исколол заболевшее серое небо
и кружится ветер по невскому и по дворцовой
и воду морщинит и в прятки играть с пустотою
зовет где тот дом где мы счастливы были с тобою
наверное встретив себя мы б теперь обознались
лишь бьется листок запоздалый на ветке кленовой
развит твой венок мост разведен и хладного Бельта
бесцветная кровь заполняет разбухшую вену
осталось лишь время стоять да шептать на ветру твое имя
не слыша себя и не в силах разжать губ замерзших
и память стереть и забыть все что было
и видеть как волны морские накроют петрополь/некрополь
sub * * /sub
sub * /sub
Когда своей младенческой рукою
Ты ягоду кладешь в мои ладони,
Ты знаешь то, что недоступно взрослым:
Что жизнь есть дар и доброта — даренье
Себя другому. Каждый дар бесценен,
И бусинка смородины помятой
Дороже всех жемчужин океанских
И всех алмазов, в недрах погребенных.
Ты улыбаешься, и улыбаюсь я.
Но ты не знаешь, что моя улыбка
Есть род гримасы, порожденной болью.
И ты не ведаешь, что мы сейчас творим.
Ты выше слов, их чище и свободней.
Не властвует тобой ложь нашей речи.
И слово для тебя — лишь языка
Дрожание, невнятный вздох молекул.
Твой лепет — шелестение листвы
И пенье птиц, и музыка дождя.
«Убитая любовь» или «подмена»,
«Разлука» и «обида» и «жестокость» —
Что эти метки черные тебе?
Тобою я рожден и есмь, доколе
Ты существуешь. Год лишь минул только,
Как ты живешь. И мы должны расстаться.
Виновна ли она иль я повинен —
Неважно: пред тобой виновен я.
Но этот грех и есть мне наказанье:
Отныне навсегда один пребуду
Я. Только я. Как ветер листья,
Безжалостное время вдаль уносит
Меня, во тьму. И ты не отзовешься
На этот жалкий крик — так плачут дети:
«Прощай — прости — прощай — прости — прощай!»
sub * * /sub
sub * /sub
И я бы мог, как труп, лежать
На нарах, в холоде и вони,
Или, раздавленный, стонать,
Трясясь в столыпинском вагоне.
И я бы мог — о, благодать —
По-фраерски, ломая ваньку,
Блатных на зоне ублажать
И тискать романы за пайку.
И я бы мог у следака
Сдавать знакомых и не очень,
И зубы сплюнуть в снег, зэка,
Чей рот конвойным раскурочен.
И я бы мог, став фитилем,
Лизать до дыр пустую миску,
Лечь в магаданский мерзлозем
И вычеркнутым быть из списков.
Или — возьмем иной расклад —
Кропать тщедушные доносы,
В надежде славы и добра
Писать про партию и розы.
И я бы мог. Но мне не стать.
С судьбой мне явно подфартило:
И мой отец, и моя мать
Не в те года меня родили.
Ведь это, право, дар небес:
Не быть испытанным на прочность,
Не быть проверенным на вес
И веровать: я непорочный.
Какая, братцы, благодать
Пить кофе с тостом, кушать зразы
И на десерт перелистать
Еще «Колымские рассказы».
2010 — 2011
sub * * /sub
sub * /sub
Спасибо за мороз,
За Новый год на даче,
За хрупкий очерк роз
На стеклах, за удачу
Покинуть суету
И оказаться в сказке,
За зимний рай в саду
И за гирлянды краски,
За сладкий ватный снег,
За треск поленьев в печке,
За кров и за ночлег
И за цветные свечки,
За счастье, за жену,
За двух детей у елки,
За день и ночь одну,
За лед в колодце колкий,
За то, что день один
Прожит — и слава Богу,
За сад, за дом, за дым,
За трудную дорогу.
sub * * /sub
sub * /sub
Ты еси вода
ты еси чистота
там где ночная орда
я пройду без вреда
смагу смягчив на губах
я не развеюсь в прах
словно орел в горах
гнездо совью на ветрах
ты еси вода
ты еси беда
тонкая как слюда
мертвая без следа
мертвой водой живой
меня умертви умой
душу вложи слюной
в рот пересохший мой
сердце пробила стрела
кровь уползла ушла
роза в эдеме цвела
буря ее унесла
в тмуторокани тишь
плачешь или молчишь
на иггдрасиле мышь
стонешь или кричишь
дом это семь досок
черен земной песок
боль покидает висок
дерево точит сок
горы прорыла вода
тучи прорвала звезда
если ты будешь всегда
я не умру никогда
«В рассуждении завоевания Индии...»
Маркелов Николай Васильевич — главный хранитель Государственного музея-заповедника М
Маркелов Николай Васильевич — главный хранитель Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова в Пятигорске. Родился в 1947 году. Окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Автор целого ряда книг о Лермонтове и Пушкине в их связи с историей Кавказа, в том числе «Лермонтов и Северный Кавказ» (Пятигорск, 2008), а также более 300 статей и публикаций о русских писателях на Кавказе и о событиях Кавказской войны XIX века.
В письме к брату Льву от 24 сентября 1820 года, делясь с ним летними впечатлениями о пребывании на Кавказе, Пушкин выразил надежду, что «эта завоеванная сторона, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасною торговлею, не будет нам преградою в будущих войнах — и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии». Подобный ход мысли был, вероятно, навеян поэту чем-то увиденным или услышанным в далеком полуденном краю.
«Когда на Тереке седом впервые грянул битвы гром…»
Сюжет «Кавказского пленника» Пушкину подсказала разгоравшаяся на юге война. Однако в отношении военной ситуации, сложившейся к тому времени у наших южных рубежей, особенно примечательны даже не две основные части поэмы, а ее эпилог, в котором автор рисует полет своей музы «к пределам Азии» — туда, где он сам недавно побывал и где теперь она, как он надеется, воскресит «преданья грозного Кавказа». Далее поэт строит литературные планы, связанные с событиями нашей недавней военной истории:
…И воспою тот славный час,
Когда, почуя бой кровавый,
На негодующий Кавказ
Подъялся наш орел двуглавый;
Когда на Тереке седом
Впервые грянул битвы гром
И грохот русских барабанов…
К тексту поэмы Пушкин сделал ряд примечаний, пояснив, что «счастливый климат Грузии не вознаграждает сей прекрасной страны за все бедствия, вечно ею претерпеваемые. Песни грузинские приятны и по большей части заунывны. Они славят минутные успехи кавказского оружия, смерть наших героев: Бакунина и Цицианова, измены, убийства — иногда любовь и наслаждения». Здесь же поэт объяснил значения слов, не знакомых тогда русскому читателю (аул, уздень, шашка, сакля, кумыс, кунак, чихирь, Байрам, Рамазан). Перефразируя слова Белинского о «Евгении Онегине», можно сказать, что пушкинская поэма для своего времени явилась маленькой энциклопедией кавказской жизни.
Не забыл поэт и о своих литературных предшественниках: «Державин, — замечает он, — в превосходной своей оде графу Зубову первый изобразил в следующих строфах дикие картины Кавказа» (и Пушкин выписал из оды две строфы, поместив следом и большой отрывок из стихотворного послания Жуковского к Воейкову).
Имена упомянутых в эпилоге поэмы и примечаниях к ней русских полководцев (Цицианов, Котляревский, Бакунин, Зубов) мало о чем говорят современному читателю, а стоящие за ними события далекой и бурной эпохи теперь уже едва проступают во мгле веков. Попробуем воскресить их, высвечивая в исторических потемках дела двухсотлетней давности и повторяя, согласно пушкинскому завету, забытые преданья грозного Кавказа.
Первая русская крепость на Тереке, с воеводой и стрельцами, появилась еще при Иване Грозном, в 1567 году. Она так и называлась — Терки — и находилась на его левом берегу, напротив устья Сунжи. Крепость поставили по просьбе кабардинского князя Темрюка Идарова, тестя русского царя. Правда, просуществовала она недолго, так как вызвала недовольство крымского хана Девлет-Гирея. В мае 1571 года этот хан-агрессор дошел с крымско-турецким войском до Москвы и сжег Кремль. Наглость хана не знала границ: он требовал отдать ему Казань, Астрахань и убрать нашу крепость на Тереке. Но военное счастье переменчиво: новый набег Девлета на Русь окончился его полным разгромом на подступах к Москве. От Астрахани он счел за лучшее отказаться, но Терки русским все же пришлось снести.
Князь Темрюк умер от ран, полученных в боях с крымцами, и с новым посольством в Москву отправился его брат Канбулат, принявший от царя грамоту с золотой печатью. Крепость возле устья Сунжи поставили снова. Снова она получила название Терки, и снова ее пришлось разрушить, — на этот раз по требованию Магомет-Гирея. Позднее у русских в устье Терека появился Тюменский острог (по названию реки Тюменки), с сильным гарнизоном и пушками, а на Сунже, на месте старой крепости, Сунженское городище, где обосновались «ратные люди». При царе Федоре Ивановиче было основано и Терское воеводство.
Движение молодой империи на юг решительно устремил Петр. Взятием Азова он попытался прорубить окно в Азию, а в 1722 году, предприняв Дагестанский поход, без боя покорил Дербент и в устье реки Сулак основал крепость Святой крест. Через десять лет небольшой экспедиционный отряд, направленный из этой крепости на территорию современной Чечни, имел боевое столкновение с жителями аула Чечень. Таким образом, и первые сведения, да и само название чеченцев вошли в русскую жизнь и русский язык из военных реляций.
Вскоре у русских появилось на Тереке два новых опорных пункта — Кизляр и Моздок. Кизляр, находившийся в 50 верстах от берега Каспия, впервые упомянут еще в 1616 году в «отписке» терского воеводы Хохлова. В 1735 году город становится пограничной крепостью, с постоянным гарнизоном и таможней. Городское население составляли русские, армяне, грузины, татары и персияне. По кривым улочкам тянулись то саманные домики, то турлучные сакли с плоскими кровлями. В Кизляре в 1765 году в семье небогатого офицера русской службы, родился Петр Иванович Багратион, будущий герой Аустерлица и Бородина.
Моздок основан позже. В 1762 году на левом высоком берегу Терека, в урочище Моздогу (по-кабардински — «дремучий лес»), поселился владелец Малой Кабарды Кургоко Канчокин, принявший православие и получивший от русских чин подполковника. Лес вокруг постепенно вырубили, и ландшафт принял степной характер, с цепью снеговых гор на горизонте. Терек, едва вырвавшись из глубины ущелий, здесь еще «дик и злобен» и стремительно несет к Каспию свои бурные мутные воды. В 1770 году в Моздоке разместился батальон пехоты, на земляных валах установили 40 орудий и с Дона переселили до ста казачьих семей. Моздокская укрепленная линия, представлявшая собой череду станиц, редутов и сторожевых постов, протянулась до Кизляра. Устройством Линии в западном направлении, от устья Лабы и по правому берегу Кубани до Азова, занимался в 1777 — 1780 годах командир Кубанского корпуса А. В. Суворов. Земля за Кубанью и побережье Черного моря находились еще под властью Турции. Укрепленная Линия, пересекшая кавказский перешеек от моря и до моря, получила название сначала Азово-Моздокской, а позднее Кавказской.
В 1785 году указом Екатерины II было основано Кавказское наместничество, состоявшее из двух областей — Кавказской и Астраханской. Первым наместником стал Павел Сергеевич Потемкин, родственник светлейшего князя Г. А. Потемкина. Он перенес свою резиденцию в Екатериноград (при слиянии Терека и Малки), выстроил здесь дворец и поставил каменные триумфальные ворота с надписью «Дорога в Грузию».
Основные события разгоравшейся Кавказской войны происходили в некотором удалении от Горячих вод, и, понимая это, Пушкин впоследствии признавался в письме к Н. И. Гнедичу, что «сцена моей поэмы должна бы находиться на берегах шумного Терека, на границах Грузии, в глухих ущельях Кавказа — я поставил моего героя в однообразных равнинах, где сам прожил два месяца…».
Побывать в 1820 году на Тереке Пушкину не довелось, но кубанский отрезок Линии он обозрел, что называется, своими глазами, когда вместе с семьей Раевских возвращался из кавказских странствий. «Видел я берега Кубани, — писал он брату Льву, — и сторожевые станицы — любовался нашими казаками. Вечно верхом; вечно готовы драться; в вечной предосторожности! Ехал в виду неприязненных полей свободных, горских народов…».
Жизнь на границе была трудна и опасна. Гребенские, терские и кубанские казаки вели необъявленную и непрерывную войну, защищая в стычках с горцами свои жилища и земли. Настоящий же «битвы гром» грянул на Линии в 1785 году. Уроженец чеченского аула Алды по имени Ушурма, постигнув премудрости шариата, стал проповедовать соплеменникам газават, то есть войну против «неверных». Он внушал им простую идею: бедствия, которые горцы терпят от русских, есть наказание Всевышнего, посланное им за отступничество от истинной веры. Ушурма принял имя шейха Мансура, что означало «победоносный». Его призывы имели успех, и, почувствовав опасность, военные власти направили в Алды карательный отряд полковника Пьери, дабы захватить «лжепророка» и доставить его на Линию. При первых же выстрелах Мансур успел скрыться, русские сожгли аул и, посчитав дело конченым, двинулись восвояси. И вот тут, в дремучих лесах на берегах реки Сунжи разыгрались главные трагические события этого печального дня. Сам Пьери и восемь его офицеров были убиты. Отряд, состоявший из трех батальонов пехоты, почти полностью истреблен, часть людей и два орудия захвачены нападавшими. По чеченскому преданию, от всего русского войска остались только фуражки, несшиеся по течению реки. Уцелела лишь горстка солдат, а среди них, по счастью, адъютант Пьери — двадцатилетний унтер-офицер Петр Багратион. Прошло еще пять лет, и когда в 1791 году генерал И. В. Гудович взял штурмом у турок неприступную Анапу, ее десятитысячный гарнизон был почти полностью истреблен, а укрывшийся в крепости Мансур взят в плен и отправлен в столицу империи.
Теперь мы обратимся к впечатляющей военной экспедиции, состоявшейся в 1796 году и известной под названием Персидского похода графа Зубова. Нет сомнений, что на протяжении долгих лет эта тема находилась в круге творческого внимания Пушкина. Даже после того, что он увидел на Кавказе своими глазами в 1829 году, совершив путешествие в действующую армию в Арзрум, «призрак невозвратимых дней» продолжал тревожить его воображение. Пристально вглядываясь с вершин Машука и Бештау в даль «глухих ущелий Кавказа», туда, «где рыскает в горах воинственный разбой», Пушкин стремился проникнуть мысленным взором и в даль времен — к грандиозным событиям минувшей Екатерининской эпохи.
«Потщитеся и низринется…»
На закате своего царствования Екатерина II решилась привести в исполнение так называемый «греческий проект» Потемкина, состоявший в том, чтобы, изгнав турок из Европы, отнять у них Константинополь и образовать новое «греческое королевство», трон которого императрица предназначала для своего второго внука, Константина.
Фантастический (или, как сказали бы в старину, — химерический) план предстоящей военной экспедиции был предложен фаворитом Екатерины Платоном Зубовым. Турецкую столицу предполагалось осадить с трех сторон: Суворов должен был перейти Балканы и угрожать городу с европейского берега Босфора, другой экспедиционный корпус — продвинуться по южному берегу Черного моря, а сама Екатерина с Платоном, находясь при Черноморской эскадре, осадила бы город с моря. Стратегический размах операции был столь широк, что простирался до пределов Индии и предусматривал захват торговых путей от Персии до Тибета с установлением наших гарнизонов в наиболее важных пунктах. Заблаговременно был составлен даже проект медали, лицевую сторону которой украшал чеканный профиль государыни, а по окружности шла надпись: «Божьей милостью Екатерина II. Императрица и самодержица всероссийская. Заступница верным». На обороте, среди волн морских, — объятый пламенем Константинополь с падающими башнями минаретов, над ним же — победно воссиявший православный крест. И надписи: «Потщитеся и низринется. Поборнику православия» [1] .
Однако выполнение этого невероятного плана осложнялось тем, что в 1795 году персидский шах Ага-Мохаммед-хан с 80-тысячным войском вторгся в Грузию и разгромил незначительные силы царя Ираклия. Этот «ужас Ирана», как прозвали его в соседних странах, некогда кастрированный по приказу шаха Надира, нечеловечески свирепый, разорил и залил потоками крови Тифлис. Россия, под покровительством которой находилась единоверная Грузия, не могла оставаться в стороне.
Кавказский наместник генерал-аншеф Иван Васильевич Гудович немедленно отправил в Тифлис отряд полковника Сырохнева, а другой, генерал-майора Савельева, — в Дербент, считавшийся тогда воротами в Персию. Савельев Дербента не взял: городским стенам, по которым можно было ездить на телеге, его шесть пушчонок не были страшны. Ответные вылазки, предпринятые дербентским правителем Шейх-Али-ханом, также не имели решительного успеха. Гудович тем временем начал собирать в Кизляре внушительный отряд, рассчитывая лично возглавить поход. Но Екатерина рассудила по-своему.
Для войны с Персией был сформирован отдельный Каспийский корпус, состоявший из двух кавалерийских и двух пехотных бригад, усиленный казаками и каспийской флотилией (всего около 35 тысяч человек). Есть сведения, что «Суворов отказался принять начальство над войсками, назначенными в персидский поход» [2] , и тогда командовать корпусом получил приказ 24-летний генерал-поручик и андреевский кавалер Валериан Александрович Зубов (родной брат Платона Зубова), прошедший боевую школу суворовских кампаний. Участник штурма Измаила, своего первого «Георгия» он получил из рук легендарного полководца. В одном из польских походов ему ядром оторвало ногу, и, находясь на излечении за границей, он заменил ее искусственной, позволявшей ему по суткам находиться в седле. За это персы стали называть его потом Кизил-аяг (Золотоногий).
Греческий митрополит Хрисанф Контарини, имея опыт личных впечатлений, подготовил для Зубова путеводные записки о Бухаре, Хиве, Кабуле и Кашмире, особое внимание уделяя дорогам, численности тамошних войск и местным обычаям. Соображения, которые он при этом высказал, приличествуют более представителю военной разведки, нежели служителю церкви: «Бухария уподобляется саду удивительной красоты; но к сожалению, наслаждаются сею частию света варвары. <…> Бухария почти превосходит самую Индию в богатстве и изобилии во всех жизненных потребностях. <…> В Кабуле воздвигнул свой престол Авганский государь пятьдесят лет по смерти Надир-шаха. <…> Государь сего владения чрезмерно богат дорогими каменьями и жемчугами, денег же не имеет и едва может содержать себя своими доходами; войска имеет всегда в готовности до двадцати тысяч, а не более. <…> В случае нужды число войска их может быть собрано до пятидесяти тысяч человек; но пять тысяч россиян чрез два часа сражения истребят оное и возьмут самого государя с женами и имуществом его. <…> Главнейшая сила их состоит во многих верблюдах, из коих на каждом прикреплен род фальконета, который сидящий на верблюде всадник оборачивает на все стороны, и в действии сем они довольно искусны. <…> Для вящего удостоверения и подробнейшего во всех частях к сведению вашему нужных замечания можно отправить в те края людей вами избранных, с наблюдением однако ж той осторожности, чтобы не походили они на русских, имели короткие волосы и странствовали бы под видом врачей, путешествующих для собрания произрастений…» [3] .
В марте 1796 года граф Зубов прибыл в Кизляр, откуда вскоре началось движение русских войск к Дербенту.
Дербент по-персидски означает «узел ворот». На тюркских языках его имя звучит иначе — Демир-Капи, то есть Железные Врата, упоминания о которых есть и в русских летописях. Его стены помнят великого Тимура и золотоордынского хана Тохтамыша, а в 1722 году Дербент без боя покорился русскому царю Петру. Из-за мелководья его корабли не могли подойти близко к берегу Каспия, тогда он приказал матросам нести себя на доске над волнами и первым ступил на кавказскую землю.
В рядах Каспийского корпуса находились многие из прославившихся впоследствии боевых командиров: П. Д. Цицианов, П. С. Котляревский, М. И. Платов, Н. Н. Раевский — будущий благодетельный спутник Пушкина в поездке на Горячие воды, от которого поэт и мог услышать подробности дела и сыну которого, Николаю, посвятил потом своего «Пленника». Был среди них и 19-летний офицер, начавший военную карьеру лишь за два года до персидского похода. Звали его Алексей Петрович Ермолов. Раздосадованный же Гудович сдал дела на Кавказской линии генералу Исленьеву и, сославшись на болезнь, покинул Кавказ.
В первых числах мая передовые казачьи разъезды появились под стенами Дербента. Город был надежно укреплен: стена Даг-Бары, построенная еще арабами для защиты от набегов хазар, уходила вглубь гор. Городские стены достигали в толщину трех метров. В верхней части города на неприступной скале высилась старинная цитадель — Нарын-Кала.
Решительный штурм привел русских к успеху: 10 мая под ударами артиллерии рухнули крепостные ворота, и Шейх-Али-хан, не дождавшийся помощи ни от персов, ни от турок, счел за лучшее сдаться на милость победителя. Серебряные ключи от города Зубову поднес столетний старец, который за 74 года до этого вручил их императору Петру. Великий Державин посвятил Валериану Зубову оду — «На покорение Дербента» и сравнивал своего героя с самим Александром Македонским, имея в виду предстоящее завоевание Индии.
В короткий срок войсками корпуса был занят прибрежный Дагестан, русские продвинулись от устья Терека до устья Куры и покорили все ханства Восточного Закавказья. Екатерина наградила Зубова чином генерал-аншефа и орденом Святого Георгия второго класса. За Дербент он получил также алмазные знаки к «Андрею Первозванному» (что считалось высшей степенью этого ордена) и бриллиантовое перо на шляпу, а всем нижним чинам и казакам на радостях было роздано по одному рублю. Не встречая сопротивления, русские кавалерийские отряды перешли Куру и вступили в Муганскую степь. Дорога на Тегеран была открыта…
Впрочем, при более пристальном рассмотрении ситуация, в которую попал Каспийский корпус, не казалась столь безоблачной. «Опрометчивость, которою был запечатлен весь план персидского похода Валериана Зубова, — читаем в обширном историческом очерке, посвященном братьям Зубовым „Русской стариной”, — не замедлила принести горькие плоды, и сам покоритель Дербента не мог не сознаться, что его положение на Кавказе было почти критическое» [4] . Сказывались необеспеченность продовольствием, нехватка войск и непривычные условия горной войны, когда нападения можно было ожидать в любой момент и с тыла и с флангов. «Валериан Зубов, — продолжает автор „Русской старины”, — обуянный ужасом при виде естественных твердынь Кавказа и тысячи препятствий, подробно писал о них брату своему и умолял: „Обеспеча мое пропитание, снабдите меня предполагаемою прибавкою войск к осеннему времени и примите к сему верные меры; ибо должен вам признаться, что все идет крайне медленно…”» [5] .
Осень действительно принесла новые беды, и отряд быстро терял подвижность и боеспособность. Очевидец событий передает, в какой отчаянной ситуации оказался зубовский корпус: «Между тем войско находилось в трудном положении. От чрезвычайных жаров и употребления плодов появились в оном болезни, и сего несчастия ничем другим отвратить было не можно, кроме запрещения привозить фрукты, для чего поставлены были везде караулы. Лошади, верблюды и быки большею частию попадали от недостатка в фураже, ибо трава была почти вся или вытравлена, или выгорела, а напоследок сделалась и вредною по серному свойству земли; притом же наступила ненастливая погода и дожди. Посему граф дал повеление немедленно выступить к Шамахе, которая хотя не далее была как верст на 15, однако переход сей за недостатком лошадей, верблюдов и волов для перевозки тяжестей был очень затруднителен» [6] .
Сложно сказать, могла ли эта кампания, столь доблестно начатая на берегах Каспия, победоносно завершиться на берегах Босфора: смерть престарелой императрицы круто изменила положение дел. Восшедший на престол Павел, враждебно настроенный ко всем начинаниям Екатерины, отдал войскам приказ немедленно вернуться в прежние границы, на Кавказскую линию, и возвратил Персии все завоеванные провинции.
С «Золотоногим» же император поступил издевательски хитроумно: приказ к отступлению был послан отдельно каждому из командиров полков, участвовавших в экспедиции, то есть всем, кроме самого Зубова, — в расчете, видимо, на то, что, лишенный войск, тот сложит голову за хребтом Кавказа. Но Зубова выручил Платов — вернулся в Россию вместе с ним, а за незапятнанную солдатскую честь заплатил заключением в крепость.
Обратный путь Каспийского корпуса представлял собой печальную картину и более походил на беспорядочное отступление проигравших сражение войск. По словам участника этого ледового похода А. П. Ермолова, полки, «предоставленные судьбе, не снабженные ни теплою одеждою, ни продовольствием, ни фуражом, шли среди суровой снежной зимы, сопровождаемой в горах и обширных кумыкских равнинах страшными вьюгами, — шли поодиночке, каждый сам себе, и в результате бедственный поход стоил стольких человеческих жертв и такого материального ущерба, каких нельзя было ожидать при самой неудачной кампании» [7] .
Павел вернул Гудовича на Кавказ, возместив ему превратности фортуны графским титулом. При Александре он стал и генерал-фельдмаршалом (за полный разгром турок на реке Арпачай в 1807 году). Пушкин назвал его имя в «Путешествии в Арзрум», описывая крепость «с заржавыми пушками, не стрелявшими со времен графа Гудовича».
«Ты самый молодой, но самый храбрый генерал в Европе»
Кто знает, не виделась ли Пушкину «даль романа» о Зубове: причудливый сюжет его жизни весьма к тому располагает.
Круто вознесенный судьбою к самому подножию российского престола, он в одночасье лишился всех монарших милостей. Победоносно пробившись с войсками за грани Кавказа — так далеко, как никто еще из русских полководцев, был вынужден без славы покинуть поля сражений. Недавний баловень удачи, сосланный и забытый, в отчаянной попытке вернуть утраченное, он вошел в кровавый заговор цареубийц.
«Современники не сходятся в оценке нравственных качеств графа В. А. Зубова, — писал великий князь Николай Михайлович. — Одни говорят, что внутренние свойства не соответствовали его красивой внешности. Человек далеко не умный, но менее ограниченный, чем его знаменитый брат, Зубов, легкомысленный, развратный и расточительный, был злопамятен и жесток. Другие, например, Державин, напротив, отзываются с большой похвалой о его храбрости, благородстве и честности» [8] .
Валериан Александрович Зубов родился в 1771 году и вскоре, по обычаю века, был записан вахмистром лейб-гвардии в конный полк. Чин следовал ему, как выражался классик, но, разумеется, стремительная военная карьера Зубова зависела не столько от личной доблести или полководческого таланта, а определялась положением при дворе его всемогущего брата Платона. Когда в 1790 году Суворов взял у турок Измаил, то с известием об этой победе Потемкин отправил в Петербург именно Валериана, пожалованного на радостях «Георгием» IV степени и званием флигель-адъютанта. Екатерина всегда относилась к нему с материнской заботой. В письме 1792 года, лично извещая его о пожаловании генерал-майором, она делает замечательную приписку: «Послушай, мальчик! Не давай себя в излишние опасности. Дело с поляками того не стоит; а за то, что хорошо поступаешь, тебе спасибо» [9] .
Чувствительное сердце императрицы не обманулось в своей тревоге: именно злополучное польское ядро нанесло ее любимцу неизгладимое увечье. На Зубова сыпались новые, бесконечные милости: графский титул, орден Cвятого Александра Невского, «Георгий» III степени, потом высший орден империи «Андрей Первозванный» и чин генерал-поручика. По мнению многих современников, Валериан превосходил красотою своего старшего брата, и в особенности отличался белизною лица, на котором всегда играл нежный румянец. Вот потому Платон, опасаясь соперничества, и отправил его подальше, завоевывать персиян.
Екатерина пристально следила за этим походом, вникая в детали, известные ей по донесениям Валериана, и не уставая своими письмами поддерживать и направлять молодого героя. «Все твои донесения я читала с удовольствием, — восклицает она, — и приказала до тебя доставить все, в чем только можешь иметь нужду или надобность. Нимало не сумневаюсь о твоем усердии…» [10] .
Взятие Дербента было отмечено в Царском Селе и Петербурге пушечной пальбой. Известия о быстром и победном продвижении русских на юг достигли европейских столиц и замелькали на страницах газет. Находясь в невероятной дали, где, говоря словами державинской оды, «ревут в мрак бездн сердиты реки», Зубов об этом знать не мог, но Екатерина не замедлила отправить к нему фельдъегеря с этой ошеломляющей новостью, поднявшей, говоря современным языком, полководческий рейтинг Валериана на небывалую прежде высоту. «Ты самый молодой, но самый храбрый и наиболее привлекающий внимание генерал в Европе, — пишет Екатерина Зубову в июле 1796 года. — С чрезвычайным удовольствием и со слезами на глазах читала я похвалы тебе в Гамбургской газете. Там говорят, что храбрый и заслуженный граф Валериан Зубов Дербентом овладел, и имя твое напечатано большими буквами. Заподлинно большими буквами твое имя напишется в истории, как продолжишь толь разумно как начал, о чем нимало не сумневаюсь. Геройский твой дух люблю как душу. Ради Бога продолжай, яко начал…» [11] .
Петр Бартенев, опубликовавший в своем «Русском архиве» письма и записки императрицы к Зубову, сделал особое примечание от себя, что «граф Валериан Александрович был лучшим из четырех братьев Зубовых, с 1789 года получивших большое значение при Русском дворе и в делах государственных: современники почти единогласно отзываются о нем с сочувствием и уважением. Проживи Екатерина долее, молодому герою предстояла деятельность всемирно-историческая: по свидетельству Державина, имевшего всю возможность знать дело, Персидский поход рассчитан был на овладение Константинополем со стороны Малой Азии и на установление прямой торговли с Индией (в предотвращение английских захватов). Мелкодушие двух следующих царствований дозволило увлечь себя губительным вмешательством в Западноевропейские дела. Из-за этих дел здравая и народная политика Екатерины не пролила ни капли русской крови, имея виды несравненно более обширные, но для России плодотворные» [12] .
О «всемирно-исторической» миссии Зубова говорить трудно даже предположительно. Справедливости ради положим на чашу весов мнение человека, вполне осведомленного в перипетиях его персидского анабазиса, но не ослепленного блестящими достоинствами этого, по выражению Екатерины, «героя во всей силе слова».
В том, что Валериан Зубов самый молодой генерал в Европе, императрица, вероятнее всего, не ошибалась. Но с суждением о том, что он «самый храбрый и наиболее привлекающий внимание», явно поторопилась: над Европой уже взошла яркая звезда Наполеона. Он был, действительно, двумя годами старше Зубова, но его альпийский поход (начатый, как и зубовский, в апреле 1796 года) получил высочайшую оценку того, кто разбирался в военном искусстве, говоря очень мягко, никак не хуже Екатерины.
«О, как шагает этот юный Бонапарт! — восклицал восхищенный Суворов. — Он герой, он чудо-богатырь, он колдун! Он побеждает и природу и людей; он обошел Альпы, как будто их и не было вовсе; он спрятал в карман грозные их вершины, а войско свое затаил в правом рукаве своего мундира. <…> Не заботясь о числе, он везде нападает на неприятеля и разбивает его начисто. Ему ведома неодолимая сила натиска — более не надобно. <…> В действиях свободен он, как воздух, которым дышит; он движет полки свои, бьется и побеждает по воле своей!» [13] .
Старший брат Валериана — Николай был зятем Суворова; помимо этого в нашей истории известен тем, что именно он, человек громадного роста и необыкновенной силы, нанес Павлу роковой удар золотой табакеркой по голове. Так или иначе, в письмах великого полководца разбросаны различные замечания о братьях Зубовых. Цитируемые ниже письма адресованы Д. И. Хвостову, женатому на племяннице Суворова, который покровительствовал ему и даже выхлопотал для него графский титул Сардинского королевства. Хвостов, в свою очередь, говорил о Суворове, что «нет тайны, которой бы он мне не вверял».
«Театр на Востоке: герой Граф Валериан за Дербент, — пишет Суворов из Тульчина в мае 1796 года, — покорит и укрепит Каспийское море, прострит свои мышцы до Аракса, далее завоеваниев Петра Великого, и ограничит Грузию. Тогда ему Ф[ельдмаршал] мал».
Столь высокая оценка сменяется вскоре, уже в сентябре, горечью и досадой. Валериана Суворов иронически называет «графом Анадолийским» — имея в виду предполагавшийся поход на Константинополь по южному, турецкому, берегу Черного моря (эта область носит название Анатолии). Подобная почетная приставка к фамилии, как, например, Потемкин-Таврический или Суворов-Рымникский, служила высшим признанием полководческой доблести.
Далее Суворов ревниво комментирует какое-то из донесений самого Зубова или сообщение о его изрядно преувеличенных успехах: «„Г[раф] В[алериан] освободил грузинское царство!..” Ложь, он там не был. „Лютый Магмут”. Он с ним не встречался. „Покорение”. Покоряют ослушных и противуборных. Дербент 150 тыс[яч] сдавался Савельеву. Баку занят казаками, и так войски вошли в Шемаху. „Соблюдение войск”. Последняя ложь. Здесь умирает в год 50 чел[овек], а там в полгода т[ысяч]и и, говорят, 3 т[ысяч]и побито. Запрещено о том рассуждать под смертною казнию…» («Лютый Магмут» — персидский шах Ага-Мохаммед-хан).
И в следующем письме: «Что мне о Персии писать? Новый завоеватель Шемахи будет после такового ж областью Гилянскою, Рящем и Гаванью обладать или хоть нечто еще и по малой мере Генерал-Аншеф. Сие стремление Князя П[лато]на должно быть для присвоения ему и себе армии и армиев. Гибель по сей игантической экспедиции пойдет гулять на облака». (Гилян — персидская провинция, охватывающая юго-западный берег Каспийского моря; Рящ (правильно Решт) — главный город Гиляна; Гавань — вероятно, искаженное персидское название; «игантический» — гигантский; «пойдет гулять на облака» — то есть останется безнаказанной.)
В письме от 25 ноября (спустя лишь двадцать дней по смерти Екатерины) Суворов пишет уже об «уничтожении полном Персицкой Экспедиции», то есть о возвращении Каспийского корпуса в прежние границы. Этот странный поступок эксцентричного Павла превратил зубовский бросок на юг в бессмысленную военную демонстрацию, пусть и «игантическую» по размаху, но не имевшую никаких политических последствий, что, впрочем, для нас теперь не так важно, как те замечательные последствия, которые она имела в отечественной литературе.
«В рассуждении достоинства он никогда не переменяет мыслей»
Блистательный певец Фелицы не обошел вниманием и нашего героя, которого всегда искренне считал «как лицом, так и нравами человеком прекрасным».
В своих записках Державин рассказал о появлении Валериана при дворе с известием о взятии Измаила. Находясь в это время в комнатах фаворита, «в первом восторге о сей победе» он дал слово радостному вестнику написать оду, что и было вскорости исполнено. Государыня пожаловала успешному придворному автору богато осыпанную бриллиантами табакерку. Сообразно течению времени и свершению исторических событий Державин посвятил «юному вождю» ряд стихотворений: «К красавцу» (1794), «На покорение Дербента» (1796), «На возвращение графа Зубова из Персии» (1797), «Волхов Кубре» (1804). Самый же ценный для нас источник — это уникальные «Объяснения на сочинения Державина относительно темных мест, в них находящихся, собственных имен, иносказаний и двусмысленных речений, которых подлинная мысль автору токмо известна; также изъяснение картин, при них находящихся, и анекдоты, во время их сотворения случившиеся». Эти «Объяснения» составлены самим Державиным, но изложены, как было тогда принято, от третьего лица.
Если в оде «К красавцу» поэт воспевал «души и тела красоту» и «сердце доброе» Валериана, не забыв отметить и «ужасный вред», нанесенный ему войною, то есть оторванную польским ядром ногу, другими словами — славил его личные качества, то в дальнейших творениях Державин возвел своего героя уже в статус полководца, обагрившего свой меч кровью «противных Россам Персиян» и покрытого лавровым венцом.
В пояснениях к оде «На покорение Дербента» Державин изложил план нашей наступательной кампании — в том виде, каким он был известен самому поэту: «…гр[афу] Зубову препоручено было исполнение сего предприятия таким образом, чтоб он, заняв важные чрез Персию до Тибета торговые места, оставил там гарнизоны, а потом обратился с своей армией вправо к Анатолии и там, взяв Анапу, пресек все подвозы и сношения с Константинополем, а тогда же бы Суворов чрез горы и Адрианополь шел к помянутой столице Оттоманской порты. Императрица же сама лично на флоте имела намерение осадить сей город, и сей план должен был начаться в будущий 1797 г., к чему уже Суворов и приуготовлялся; но Провидение, имея свои планы, не допустило сему свершиться» [14] .
И далее, в пояснениях к строке «Кому чертеж дают Платоны», имеется и указание на автора «сего предприятия», хотя и завуалированное, почтительно и прозрачно, именем древнегреческого философа, но вполне понятное современникам предначертателя этого грандиозного военного проекта — Платона Зубова.
Что же касается анекдотов, то к ним можно, пожалуй, отнести эпизод с «Петровыми ключами», то есть ключами от Дербента, поднесенными сначала императору Петру, а потом, три четверти века спустя, тем же самым жителем города, уже «столетним старцем» — Зубову. Не все находят этот случай достоверным. Но, как говорится, если это и неправда, то хорошо придумано. Державин, видимо, передает эту историю со слов самого Валериана. Во всяком случае, в его бумагах находилась копия зубовского письма с изложением всего происшедшего в тот победный миг, когда русские, уже не встречая сопротивления, ринулись сквозь поверженные городские ворота. «Но един, — доносит Зубов, — остановил наше стремление, и был то 120-ти летний старец, поднесший в начале столетия ключи Дербентской крепости Петру Великому Первому. Оруженосец Екатерины Второй те же ключи от того же старца принял 10 мая 1796 года» [15] .
Верил или нет сам Державин в историю с ключами, но в поэтическом смысле постарался извлечь из нее максимум возможного, намного превзойдя и без того чрезвычайно лестную для Валериана параллель с Петром: старца с ключами он уподобил персидскому царю Дарию, а Зубова — покорителю Персии и величайшему полководцу всех времен и народов Александру Македонскому: «В столетнем старце Дарий зрится, / А юный Александр — в тебе!».
Александр при начале войн с Дарием был еще моложе «оруженосца Екатерины», но Дербента завоевать не мог (город был основан много позже его походов), так что вся державинская метафорическая система, связанная с его именем («В тебе я Александра чтил»; «Ступавший Александра в след»), есть плод заблуждения или далеко зашедшей поэтической фантазии.
Гиперболическая несоразмерность такого сравнения могла показаться и плохо скрытой насмешкой (подобно «графу Анадолийскому»), но в данном случае была вполне искренней и подходила общему духу державинской баталистики, которую Екатерина сравнила однажды с громкой трубой.
Этот выпирающий перебор с Александром все же не остался незамеченным и еще имел свои последствия. В самом деле, написание оды «На покорение Дербента» было естественным поэтическим актом: она воспевала не просто очередную, а плановую, предрешенную «чертежом Платона» победу русского оружия, одержанную под знаменами того, кому сама государыня не уставала пророчить великую будущность. Появление же оды «На возвращение графа Зубова из Персии» не только не вытекало естественным образом из хода событий, но и, опасно противореча ему, сулило автору только неприятности и требовало, несомненно, каких-то особых побудительных причин. Сам Державин объясняет это так:
«К сочинению сей оды повод был следующий: по восшествии на престол императора Павла, когда у графа Зубова [была] отобрана команда, то, будучи при дворе, кн. С. Ф. Голицын упрекнул автора той одой, которая на взятие Дербента Зубову сочинена, сказав, что уже герой его не есть Александр и что он уже льстить теперь не найдет за выгодное себе; он ему ответствовал, что в рассуждении достоинства он никогда не переменяет мыслей и никому не льстит, а пишет истину, что его сердце чувствует.
— Это неправда, — ответствовал Голицын, — нынче ему не напишешь.
— Вы увидите.
Поехав домой, сочинил сию оду в то время, когда Зубов был в совершенном гонении, которая хотя и не была напечатана, но в списке у многих была, несмотря на неблагорасположение Императора к Зубову» [16] .
Отзывы об оде «На возвращение графа…» есть у Пушкина, Гоголя и Белинского. Видимо, именно по этой причине издатели по сей день охотно включают ее в сборники державинских стихотворений. Приведем здесь две строфы, помещенные Пушкиным в примечаниях к «Пленнику»:
О юный вождь, сверша походы,
Прошел ты с воинством Кавказ,
Зрел ужасы, красы природы:
Как, с ребр там страшных гор лиясь,
Ревут в мрак бездн сердиты реки;
Как с чел их с грохотом снега
Падут, лежавши целы веки;
Как серны, вниз склонив рога,
Зрят в мгле спокойно под собою
Рожденье молний и громов.
Ты зрел — как ясною порою
Там солнечны лучи, средь льдов,
Средь вод, играя, отражаясь,
Великолепный кажут вид;
Как, в разноцветных рассеваясь
Там брызгах, тонкий дождь горит;
Как глыба там сизоянтарна,
Навесясь, смотрит в темный бор;
А там заря златобагряна
Сквозь лес увеселяет взор.
Ода увидела свет в сентябрьской книжке «Друга просвещения» за 1804 год, где была помещена под заглавием «На возвращение из Персии чрез Кавказские горы графа В. А. Зубова, 1797 года». За текстом оды следовало еще четверостишие, прибавленное автором по поводу недавней кончины Валериана в Курляндии:
Пришел теперь к сему покою
И ты, прекрасный человек;
Когда б толь славною стезею
И мой пресекся век!
Но Державин писал не только оды. Зубовский цикл он завершил стихотворным посланием графу Д. И. Хвостову, которым откликнулся на смерть Зубова в 1804 году:
Уже и вождь, ногой железной
Ступавший Александра в след,
Прекрасный человек, любезный,
Луч бедных — блещет между звезд.
Хотя имени персонажа здесь нет, оно, по ряду очевидных примет, не вызывает сомнений, к тому же в «Объяснениях» сам автор сделал потом примечание к этим строкам, что в них имеется в виду «шедший по следам Александра Великого, царя македонского, завоевавшего Персию, граф Зубов, который имел поддельную железную ногу вместо настоящей, потерянной, как выше сказано, на сражении в Польше» [17] .
Поэт до конца верил в высокие душевные свойства Валериана, резко отличая его в этом от заносчивого Платона, которого и упомянул только однажды, в связи с вышеизложенным «чертежом». «Сей граф Зубов, — читаем в „Объяснениях”, — был человек снисходительный, говорил и выслушивал всякого с откровенным сердцем, не так как брат его, любимец Императрицы, несравненно старших, почтеннейших себя людей принимал весьма гордо, не удостоивая иногда и преклонением головы» [18] .
Поверим на слово русскому поэту, считая, что в данном случае приговор — окончательный…
«Державин в превосходной оде графу Зубову первый изобразил дикие картины Кавказа»
Современному читателю слог державинской оды может показаться тяжеловесным. Мнения же людей, более близких к Державину по времени, разноречивы.
Несмотря на сентиментальные воспоминания о лицейском благословении, Пушкин в доверительном письме к А. А. Дельвигу как-то заметил, что «у Державина должно сохранить будет од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь». В 1825 году в письме к А. А. Бестужеву в ряду лучших произведений Державина Пушкин назвал и оду к Зубову, упомянув, что она «недавно открыта»: ода появилась в печати только после смерти императора Павла, а до этого ходила в списках.
Также и пораженный Гоголь в своей знаменитой статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» процитировал и прокомментировал отрывок из этого державинского шедевра.
Белинский высоко ценил автора оды как человека и гражданина: «Во многих стихотворениях Державина личный характер его как человека является с весьма хорошей стороны. Несмотря на то, что его век был век милостивцев и что лесть и угодничество считались добродетелями, он льстил больше как ритор, чем как поэт. Когда Суворов, в отставке, перед походом в Италию, проживал в деревне без дела, Державин не боялся хвалить его печатно. Ода „На возвращение графа Зубова из Персии” принадлежит к таким же смелым его поступкам» [19] .
Но далее, когда речь заходит уже о поэтических достоинствах оды, а не о нравственных достоинствах ее автора, интонация у Белинского совершенно меняется. Он искренне и страстно восхищался «Кавказским пленником» Пушкина, а когда отправился на Юг, то перечитывал поэму и в Пятигорске, находя, что «„Кавказский пленник” его здесь, на Кавказе, получает новое значение». Он настаивал, что первооткрывателем Кавказа в русской поэзии был именно Пушкин, — настаивал вопреки словам самого Пушкина, благородно уступившего пальму первенства «старику Державину». «Грандиозный образ Кавказа с его воинственными жителями, — писал Белинский в знаменитой „Шестой статье”, — в первый раз был воспроизведен русскою поэзиею, — и только в поэме Пушкина в первый раз русское общество познакомилось с Кавказом, давно уже знакомым России по оружию. Мы говорим — в первый раз : ибо каких-нибудь двух строф, довольно прозаических, посвященных Державиным изображению Кавказа, и отрывка из послания Жуковского к Воейкову, посвященного тоже довольно прозаическому описанию (в стихах) Кавказа, слишком недостаточно для того, чтоб получить какое-нибудь, хотя сколько-нибудь приблизительное понятие об этой поэтической стороне. Мы верим, что Пушкин с добрым намерением выписал в примечаниях к своей поэме стихи Державина и Жуковского и с полною искренностию, от чистого сердца хвалит их; но тем не менее он оказал им через это слишком плохую услугу: ибо после его исполненных творческой жизни картин Кавказа никто не поверит, чтоб в тех выписках шло дело о том же предмете…» [20] .
Но и этого критику показалось мало. В рецензии на издание «Сочинений» Державина в 1845 году Белинский еще раз прошелся по оде, безопасно и безнаказанно иронизируя по поводу ее создателя: «Многие не знают, как и восхвалить Державина за оду „На возвращение графа Зубова из Персии”, а между тем, что в ней — сперва резонерство в холодных стихах, потом не совсем верные и живые (даже поэтически) картины Кавказа. Что такое, например, эти стихи:
Ты видел, как в степи средь зною
Огромных змей стога кишат,
Как блещут пестрой чешуею
И льют, шипя, друг в друга яд.
В те времена поэту не было никакого дела до действительности: он опирался только на свою фантазию. Что ему за дело, что Кавказ — не Индия, и в нем нет огромных змей, что змеи нигде не кишат стогами , что в стога складывается только сено и что змеи никогда не забавляются переливанием яда друг в друга?» [21]
Однако не все оказалось так просто, и Белинский, сам видевший Кавказ не далее курортного Пятигорска, радовался рано. Рисуя фантастические картины Кавказа, где «бездны пламень извергают» и «в воздухе пары сгорают» (то есть воспламеняются нефтяные и газовые выбросы), и выстраивая калейдоскопический ряд других ужасных и непредставимых для русского читателя образов, Державин ничего не выдумывал, а передавал реальные впечатления участников похода и, вероятнее всего, самого Зубова. Что касается так зацепившей Белинского строки «Огромных змей стога кишат», то сам Державин объясняет ее следующим образом: «Недоходя до Испагана от Каспийского моря находится степь, на которой в летние месяцы такое великое число собирается больших змей, что никоим образом пройти невозможно, и для того путешественники проезжают только сие место осенью и зимой, когда змеи скрываются» [22] .
Приведем и выдержку из статьи известного советского литературоведа Б. С. Виноградова, детально рассмотревшего вопрос о том, что же преобладает в державинской оде — поэтический вымысел или историческая действительность: «Встреча со скопищем змей тоже не фантазия. Еще Плутарх сообщал, что после сражения на левом берегу Алазани Помпей двинулся к Каспийскому морю, но вследствие множества ядовитых пресмыкающихся отказался от этого намерения. Советский историк К. В. Тревер, комментируя Плутарха, разъясняет, что большое количество змей имеется и в настоящее время в Мильской и Муганской степях. Белинского более всего удивила такая строка оды: „И льют, шипя друг в друга яд”. Великий критик иронически заметил: „Змеи никогда не забавляются переливанием друг в друга яда”. А Державин описал драку змей, побоище пресмыкающихся, наблюдающееся и в наше время» [23] .
Более того, ученому удалось разыскать сведения о современном состоянии этого природного серпентария. Заметка об этом была помещена в газете «Молодежь Азербайджана» 14 июля 1967 года: «Интересное сообщение поступило из Евлаха. Неподалеку от шоссейной дороги Евлах — Халдан, в нескольких сотнях метров от Куры, произошла настоящая битва между змеями. По рассказам очевидцев, на поле боя было свыше трехсот змей. В смертной злобе с шипением змеи бросались друг на друга. До темна длилось это побоище, а на следующее утро на месте битвы были обнаружены десятки погибших змей. Тут возможна встреча двух пресмыкающихся групп. Не исключено, что это была случка змей» [24] .
«А то, что у Державина огромные змеи, — заключает Виноградов, — видимо, на совести изумленных очевидцев, передававших свои впечатления поэту». Впрочем, даже не изумление очевидцев тому виной, а, скорее всего, действительные размеры и обилие в Муганской степи столь ужасных пресмыкающихся. У нас есть возможность не реконструировать ту давнюю ситуацию по современным данным, а просто оценить ее на момент происходивших событий. Вот свидетельство участника зубовского похода, оставившего в своих записках довольно подробную заметку на этот счет: «Муганская степь есть единственная и обширнейшая из всех степей Персии, но могла быть полезна для армии только в то время, в которое на нее пришли: она по всему ее пространству, как и лагерное место, покрыта лучшею и полезною травою потому, что селитряное свойство земляной подошвы сообщает ей некоторую соленость, которая для скота полезна и выпадающий снег тотчас растворяла; но с весны до наступления осеннего времени пространство степи сей есть жилище, или, так сказать, царство бесчисленного множества змей и других многоразличных вредных и ядовитых пресмыкающихся гадов. Воздух делается тогда тяжелый, горький и совсем неудобный к дыханию, так что и в некотором от нее расстоянии нельзя сносить оного; шум же и свист шипящих змей бывает слышим проезжающими издалека; словом, что в продолжение весны и лета ни человек, ни же какой-либо скот или зверь к сему месту приблизиться не может. Войско для зимованья построило землянки. При сем случае и здесь выкапывали множество змей…» [25]
И наконец, еще один автор — на этот раз сам Валериан Зубов. Он блеснул пером в 1801 году, составив «Общее обозрение торговли с Азиею» [26] . Это краткие заметки о наших торговых делах на Каспии с древних времен до Петра и Екатерины. Что касается персидского похода, то его целью, как пишет Зубов, было не только наказание «хищника Аги-Мегмед-хана» и защита Грузии, но и «главнейше основать твердым образом с Персиею нашу торговлю».
Для военного обеспечения торговых интересов России предполагалось «ниже впадения реки Аракса построить крепость» и основать город под названием Екатериносерд, который «был бы в совершенной возможности ограждать Персидскую нашу торговлю от буйных и хищных горских народов…»
«Сколь ни велик и ни обширен план сей, — замечает Зубов, — Великая Екатерина предполагала исполнить его мимоходом; и я, напоенный духом ея, считал сие тем более удобовозможным, что был уже близок к совершению оного…»
Можно понять его огорченность, но все же, уйдя в своем стремлении на Юг в небывалую прежде даль, Зубов оказался не столь дальновиден в своих политических оценках. Проблема рубежей империи в Закавказье решалась отнюдь не «мимоходом», и здесь еще не раз сталкивались под орудийный гром интересы России и ее беспокойных южных соседей.
«Ты зрел, как Терек в быстром беге меж виноградников шумел…»
История стихотворного послания В. А. Жуковского «К Воейкову», отрывок из которого Пушкин поместил в примечаниях к своему «Пленнику», не столь велика и занимательна, как зубовский цикл Державина, но некоторое внимание ей также необходимо уделить. Прежде всего, несколько слов об адресате. Александр Федорович Воейков — русский поэт, переводчик, критик, журналист, издатель и едва ли не одна из самых карикатурных фигур во всей нашей литературе. По личным свойствам это был совершенно отвратительный и циничный субъект, втершийся в доверие к своему однокашнику Жуковскому и обманом женившийся на его племяннице Александре.
Получив начальное образование в Московском университетском пансионе, Воейков служил в кавалерии, вышел в отставку в скромном чине и на военную службу, то есть в ряды ополчения, вернулся в 1812 году. После изгнания французов путешествовал по южным областям России, побывав, в том числе, на Тереке и Дону. Промотав состояние, обратился за помощью к Жуковскому, и тот выхлопотал ему кафедру русской словесности в Дерптском университете. Профессор из него получился неважный: «совершенный невежда», как писал о нем Н. И. Греч, Воейков пьянствовал со студентами и распутничал, а на коллег строчил мерзкие доносы, нисколько не стесняя своей буйной фантазии. Изгнанный за это из Дерпта, вновь воспользовался покровительством Жуковского и получил место инспектора классов артиллерийского училища в Петербурге. В столице он занялся журналистикой, погрязнув в литературных склоках и мелких махинациях. Даже кроткого Жуковского Воейков гнусными выходками умудрялся довести до белого каления, и тот лупил своего «приятеля» палкой по плечам. В ответ Воейков скандализировал домашних, обещая убить Жуковского, а потом зарезать и себя.
Как поэт Воейков прославился большой сатирой «Дом сумасшедших», куда поместил почти всех известных русских литераторов, в том числе и себя самого. Сатира, или, как писали о ней, «образец литературной брани», долгое время ходила в списках, так как пребывала под цензурным запретом, и вышла в свет только через 20 лет после смерти автора. В 1816 году Воейков был принят в литературное общество «Арзамас», где носил имена «Дымная печурка» и «Две огромные руки».
Пушкин знал Воейкова лично, был знаком с его женой и детьми и прекрасно понимал ему настоящую цену, а потому и относился к нему по преимуществу иронически. Упоминания имени Воейкова, почти всегда полные сарказма, довольно часто встречаются в письмах и заметках поэта. Так, в письме к брату Льву в 1824 году из Одессы он назвал Воейкова своим «высоким покровителем и знаменитым другом». Передают, впрочем, что Пушкин восхищался его стихами из «Дома сумасшедших», направленными против Булгарина и Греча.
«Послание к Воейкову» написано и опубликовано Жуковским в 1814 году, в ответ на «Послание к Жуковскому из Сарепты 1813 г.» самого Воейкова. Впоследствии, сожалея уже о выражении в этом стихотворении дружеских чувств к адресату, Жуковский в некоторые строки внес изменения. Публика встретила эти стихи с полным восторгом. Пушкин выписал из послания пространный отрывок в 53 строки, предварив его особой заметкой: «Жуковский, в своем послании к г-ну Воейкову, также посвящает несколько прелестных стихов описанию Кавказа». Вот некоторые строки оттуда:
Ты зрел, как Терек в быстром беге
Меж виноградников шумел,
Где часто, притаясь на бреге,
Чеченец иль Черкес сидел
Под буркой, с гибельным арканом;
И вдалеке перед тобой,
Одеты голубым туманом,
Гора вздымалась над горой,
И в сонме их гигант седой,
Как туча, Эльборус двуглавый…
…Но там — среди уединенья
Долин, таящихся в горах,
Гнездятся и балкар и бах,
И абазех, и камукинец,
И карбулак, и абазинец,
И чечереец, и шапсук.
Пищаль, кольчуга, сабля, лук,
И конь, соратник быстроногий —
Их и сокровища и боги…
…В дыму клубящемся сидят
И об убийствах говорят;
Иль хвалят меткие пищали,
Из коих деды их стреляли;
Иль сабли на кремнях острят,
Готовясь на убийства новы.
Со временем поэтические краски этого описания довольно потускнели. Мы уже приводили весьма прохладную оценку Белинского, который и вспомнил-то о «Послании» лишь для того, чтобы отметить благородство Пушкина, не поскупившегося на похвалы дорогому учителю. А уж те, кто увидел Кавказ своими глазами, чуть ли не в каждой строке тут стали натыкаться на всякого рода неточности. Известный дореволюционный автор-кавказовед Е. Г. Вейденбаум не упустил заметить, что Эльбрус, например, не виден с берегов Терека и что не стоило сравнивать эту гору, покрытую вечными снегами, с тучей, как передающей представление о чем-то мрачном и черном. «Согласно тогдашнему воззрению на горца, как на хищника, — продолжает Вейденбаум, — промышляющего исключительно разбоем и грабежом, все перечисленные племена, по словам Жуковского, только и делают, что „как серны скачут по скалам”, подстерегают путников и в них „бросают смерть из-за утеса”; дома же курят трубки, беседуют об убийствах и острят на кремнях свои сабли, „готовясь на убийства новы”. Нечего и говорить, что такое изображение кавказского горца очень односторонне даже и для того времени: миллионное население не может кормиться только плодами грабежа и насилия. Порядок, в котором Жуковский перечисляет племена, обусловлен исключительно потребностью рифмы. Некоторые названия (камукинец, чечереец) совершенно неизвестны в этнографической номенклатуре Кавказа» [27] .
Все это, увы, справедливо. Ну ладно еще — «камукинец»; это, можно догадаться, почти неузнаваемо искаженный «кумык». «Бах» — по-видимому, «убых», были и такие. А вот невразумительный «чечереец» совсем уж никуда не годится. Скажем еще, что Пушкин, вопреки утверждению Белинского, оказал Державину и Жуковскому вовсе не плохую, а поистине историческую услугу, продлив внимание к их кавказским творениям на бесконечно долгий срок.
«Граф Зубов находился в дружественных связях с народами кавказскими…»
К лету 1797 года Зубов вернулся морем в Астрахань. Позади осталось много пережитого в этой удивительной кампании, впереди ждала пугающая неизвестность. Облегчить душу смещенный главком смог в разговоре с человеком, которому его рассказ оказался интереснее, чем кому-то другому во всем белом свете. Это был польский путешественник и археолог Ян Потоцкий.
Он успел объехать Европу, Северную Африку, Турцию, а в дальнейшем, в составе посольства графа Ю. А. Головкина, совершил и транссибирский вояж к границам Монголии. Круг его научных интересов был необыкновенно широк: история, география, этнография, лингвистика и — литература, ибо, отдыхая от ученых занятий, граф сочинял еще пьесы и писал большой роман из испанской истории. Потоцкий имел и некоторый военный опыт: в молодые годы успел послужить лейтенантом австрийской армии. В период восстания Тадеуша Костюшко, в звании капитана польских инженерных войск, возводил на берегах Вислы укрепления против наступавших суворовских полков, в рядах которых находились 23-летний генерал-майор Валериан Зубов и его 17-летний приятель капитан Алексей Ермолов, впервые получивший под свою команду шесть артиллерийских орудий. За участие в смуте Потоцкий был внесен русскими властями в черные списки, грозившие ему потерей поместий и свободы, но был спасен влиятельной родней, а позже, в царствование Александра I, счел за лучшее принять российское гражданство и, пользуясь протекцией своего кузена Адама Чарторыйского, в то время министра иностранных дел России, поступил на службу в наш азиатский департамент. И прозывался тогда по-русски Иваном Осиповичем.
Свои многочисленные монографии, статьи и книги Потоцкий писал на французском языке, они выходили в свет в Варшаве, Париже, Берлине и Петербурге. Его знаменитый роман «Рукопись, найденная в Сарагосе» — занимательный, пугающий, полный иронии и головоломных интриг с неожиданной развязкой — высоко оценил Адам Мицкевич. Им же зачитывался Пушкин и даже, находясь под сильным впечатлением, начал писать большое стихотворение на тот же сюжет. Наш поэт упомянул Потоцкого в своем «Путешествии в Арзрум», признав, что его «ученые изыскания столь же занимательны, как и испанские романы».
О встрече с Зубовым Потоцкий поведал в своей книге «Путешествие в степях Астрахани и Кавказа», вышедшей в свет уже после смерти автора. Книга издана в Париже в 1829 году и помимо текста имела две гравированные карты и семь рисунков. Годом раньше петербургский «Северный архив» опубликовал отрывок из «Путешествия...» в переводе с французского на русский, причем с упоминанием об этой астраханской встрече. Недавние противники, теперь они счастливо обрели друг друга, и польский граф оказался, таким образом, интервьюером молодого полководца и записал свой рассказ буквально из первых уст:
«5 числа. Я имел удовольствие провести несколько часов с Графом Валерияном Зубовым, который возвращался с Персидской войны. Я слушал его с удовольствием, но сердце мое обливалось кровию, потому что я принужден был отказаться от многих идей, которые стали мне драгоценны. Я следовал, как только мог лучше, за ходом Русской армии по карте восточной части Кавказа, которая была весьма тщательно сделана во время похода. Русские, прошедши Хой-су, вошли во владения Шамхала Таркского; этот Князь уже отдался под покровительство Русских, и потому Генералу Зубову не трудно было подвигаться вперед; он овладел Дербентом, городом почти совершенно заключенным во владениях Кадия Табассеранского. Наконец Зубов расположил главную свою квартиру на пределах пустыни Муганской. Во всю эту кампанию Русские действительно принуждены были сражаться только с Лезгинцами, живущими в горах совершенно неприступных. За ними живет Авар-Хан: имя Авар, носимое сим Ханом, принадлежит одному древнему Гунскому народу, и вот причина, почему в сравнительном словаре всех языков, изданном в Петербурге, язык сих Аваров поставлен в след за языком Венгерским; однако ж я не заметил никакого сходства между ними. Граф Зубов находился в дружественных связях как с народами Кавказскими, так и с другими, гораздо более отдаленными, каковы суть: Туркменцы, Бухарцы и Авганцы. Бухарцы суть древние Согдияне; они смешались с Туркменцами, которые известны были под именем Узбеков» [28] .
Как видим, Потоцкого привлекали не столько успехи русского оружия, сколько возможность получить новые сведения об интересующих его предметах. Слушая рассказы Валериана, этого нового Синдбада, граф невольно сожалел, что судьба не позволила ему самому удостовериться и поведать миру обо всех этих, словами поэта, неведомых дорожках и невиданных зверях. Что же касается Пушкина, то он настолько увлекся испанским романом Потоцкого, что попытался даже разыскать рукопись «Сарогосы», — по всей видимости, для перевода ее на русский язык и дальнейшей публикации.
Судьба романа оказалась столь же запутанной, как и его сюжет. Начальные главы этой бесконечной истории о висельниках впервые были изданы в Петербурге в 1805 году в количестве 50 или 100 экземпляров — тут сведения расходятся. Раздобыть этот раритет Пушкин не сумел, зато в его библиотеке имелись парижские издания романа 1813 и 1814 годов. Более того, по возвращении из Арзрума, в 1830 году, он приобрел и упомянутое парижское издание «Путешествия в степях Астрахани и Кавказа», подготовленное и выпущенное в свет учеником Потоцкого — Генрихом Юлиусом Клапротом, сообщавшим, между прочим, в своих комментариях о том, что сохранилось пять рукописных копий текста «Сарагосы» и что одна из этих копий находится где-то в Польше или России. В надежде разыскать эту рукопись Пушкин обращался даже к графине Е. К. Воронцовой. Дело в том, что по рождению Елизавета Ксаверьевна — полька, графиня Браницкая, две старшие ее сестры, Екатерина и Софья, были выданы замуж за поляков из рода Потоцких. Свидетельств этой просьбы, кажется, не сохранилось, зато известно ответное, написанное по-французски, письмо графини к поэту — от 26 декабря 1833 года из Одессы:
«Я пользуюсь случаем, чтобы сообщить вам, что мои поиски рукописи [о трех повешенных. — Н. М. ] графа Яна Потоцкого оказались тщетными. Поверьте, сударь, что я получила сведения из первых рук. Ни у кого из родни этой рукописи нет, вероятно, так случилось потому, что граф Я. П. окончил жизнь в одиночестве, в какой-то деревне, и его рукописи были потеряны просто по небрежности» [29] .
Напомним, что родился и умер граф Потоцкий на Украине, близ Винницы, причем умер, действительно, «в какой-то деревне» — в Уладовке, которую и на карте не отыщешь. В 1815 году, в возрасте 54 лет, по неведомой причине он покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову. Обстоятельства его смерти до сих пор до конца не ясны. Смертоносную серебряную пулю Иван Осипович отлил сам, отломав ручку у сахарницы, и перед тем, как загнать ее шомполом в ствол пистолета, предусмотрительно освятил у капеллана. По некоторым воспоминаниям, он еще успел нарисовать карикатуру, на которой изобразил себя таким, каким станет после смерти, и оставил письмо, где в шутливом тоне сообщал, что ему наскучила жизнь [30] .
Мечта Пушкина о переводе «Сарагосы» на русский сбылась, но очень не скоро. В 1847 году роман перевели с французского на польский. После этого авторскую рукопись потеряли. Более точный перевод на польский, исправленный по прижизненным изданиям Потоцкого и отрывкам его рукописей, обнаруженным в польских архивах, вышел в свет более века спустя, в 1965-м. И только после этого «Сарагосу» перевели с польского на русский и дважды издали у нас в стране, в 1968 и 1971 годах.
«Описание многих любопытных предметов»
Подробное описание персидского похода можно найти (несколько неожиданно) в автобиографических записках, известных под сокращенным названием «Жизнь Артемия Араратского». Полное же название книги занимает несколько строк и звучит следующим образом: «Жизнь Артемия Араратского, уроженца селения Вагаршапат близ горы Арарата, и приключения, случившиеся с ним от младенчества до совершенных лет; удаление его от своего Отечества в Грузию; оттуда в Россию, потом в Персию и наконец возвращение обратно в Россию чрез Каспийское море, с описанием многих любопытных предметов, находящихся в его стороне и прочих местах Персии, с приложением шести гравированных эстампов, изображающих виды городов Персидских. Писанныя и переведенныя им самим с Армянского на Российский».
Изданы записки в двух частях в Петербурге в 1813 году. Имеется в книге и посвящение, адресованное одному из главных героев нашего рассказа: «Его светлости князю Платону Александровичу Зубову, генералу от инфантерии и разных орденов кавалеру нижайшее приношение армянина Артемия Богданова».
Артемий Богданов, то есть Артемий Богданович, — это русская калька с армянского Арутюна Аствацатуровича. С фамилией (или с фамилиями) автора дело обстоит несколько сложнее: в истории он остался под именем Араратского, что по современным меркам следует считать литературным псевдонимом. Иногда его называют также Вагаршапатским, по месту рождения. Селение это, основанное в глубокой древности армянским царем Вагаршом, в 1945 году получило новое название — Эчмиадзин. В ученых трудах, посвященных Араратскому, можно встретить и его, так сказать, настоящую фамилию — Хачикянц. Краткая литературная энциклопедия предлагает, видимо в интересах национально-исторической справедливости, еще один вариант — Араратян. Родился Артемий в 1774 году в семье мастера-каменотеса Аствацатура, но уже четырех месяцев от роду остался без отца. Молодые годы будущий писатель провел в бедности и скитаниях по Закавказью. Попав в услужение к офицеру из корпуса Зубова, проделал с войсками всю кампанию, от Кизляра до Астрахани, откуда сумел добраться и до Северной столицы. Сведения о дальнейшей судьбе Араратского отрывочны и скудны. Известно, что имел он невысокий чин на русской службе, некоторое время жил в Париже, а в Москве состоял действительным членом «Общества любителей древности при армянском учебном заведении гг. Лазаревых». Годом его смерти предположительно называют 1831-й.
Книга Араратского имела заметный успех и получила европейскую известность: ее перевели на английский, немецкий и французский языки, а потом и на грузинский, а еще позднее — уже в конце XIX века — снова на армянский, так как изначальный авторский текст остался неизвестным. Впрочем, не все здесь так однозначно. Некоторые полагают, что Артемий никогда свою книгу по-армянски и не писал, следовательно, и с армянского не переводил, а сразу написал ее на русском языке. Другие же упрекают автора в разного рода неточностях и небылицах, а знаменитый академик-лингвист и востоковед Николай Яковлевич Марр остался при мнении, что «Артемий Араратский обморочил читающую публику, выдав за свои, будто изо дня в день писавшиеся мемуары, составленный им впервые на русском языке сентиментальный роман, материалы для которого он черпал главным образом из своей фантазии...» [31] .
Современная наука хотя и признает, что «книга Араратского полна выдумок и порою эпизодов, граничащих с фантазией» [32] , однако относит ее к ценнейшим историко-этнографическим источникам. Что касается зубовской экспедиции, то автор сообщает важные подробности таких ее событий, как, например, бегство молодого Шейх-Али-хана из русского лагеря. По ходу текста рассеяны многочисленные замечания о милосердии и доброте души Валериана. Автор описывает и прощание Зубова с войсками: «Между тем главнокомандующий получил повеление возвратить армию в пределы России и вследствие сего стали приготовляться к походу. При армии остались только полковые орудия, а главная артиллерия была уже погружена на суда и отправлена морем. Главнокомандующий при сем случае в виду бесчисленного множества зрителей сам спрашивал почти у каждого солдата, не имеют ли они на него какого неудовольствия. Но в ответ все солдаты в один голос кричали ему, что они почитают его своим отцом, что вовек не забудут любви его к ним и будут благословлять имя его, и проч. и проч. Начальник сей и в самом деле расставался с войсками, как нежнейший отец с своими детьми, и сия сцена тронула всех до глубины души. Не было почти ни одного, который бы не плакал. Со всех сторон солдаты, рыдая, кричали: „Прощай, отец наш”, — и осыпали графа всеми благословениями от чистого сердца в продолжение нескольких минут беспрерывно; потом в честь его выстрелили по нескольку патронов. Великодушный, чувствительный граф, по совершенной доброте души и несравненной нежности сердца своего единственный, был столь растроган любовию и привязанностию к нему войска, что не мог также удержаться от слез, которые, может быть, против воли его падали обильно на благодарную грудь его» [33] .
Был ли на самом деле Артемий свидетелем этой слезоточивой сцены или только отдал дань притворной придворной риторике, судить теперь трудно. Упоминания о его книге есть у Грибоедова и Пушкина, причем автор «Кавказского пленника», имея интерес к описанию путешествий, держал ее в собственной библиотеке.
«И только некоторые военные люди знают, что в то же самое время происходило на Востоке»
Под пушкинским пером Кавказ из геополитической абстракции быстро превращался в обетованную землю русской поэзии — «ужасный край чудес», пугающий и прекрасный одновременно. Первый биограф поэта П. И. Бартенев передавал со слов Марии Раевской, что жизнь на Кавказе — «вольная, заманчивая и совсем не похожая на прежнюю, эта новость и нечаянность впечатлений, жизнь в кибитках и палатках, разнообразные прогулки, ночи под открытым южным небом и кругом причудливые картины гор, новые нравы, невиданные племена, аулы, сакли и верблюды, дикая вольность горских черкесов, а в нескольких часах пути упорная, жестокая война с громким именем Ермолова, — все это должно было чрезвычайно как нравиться молодому Пушкину» [34] .
Ермолов надолго попал в круг творческого внимания поэта. Сообщая в письме к брату Льву о своей жизни на Юге, он упомянул и прославленного генерала. И хотя в этих строках не обнаруживается еще поэтических намерений, но контекст, окружающий имя «проконсула», весьма многозначителен: «Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением. Дикие черкесы напуганы; древняя дерзость их исчезает. Дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои — излишними. Должно надеяться, что эта завоеванная сторона, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасною торговлею…»
Пылкое воображение влечет поэта гораздо дальше «знойной границы Азии», и если здесь еще не говорится прямо, что успехи «в будущих войнах» для него связаны прежде всего с Ермоловым, то очень скоро в эпилоге «Кавказского пленника» Пушкин именно ему предречет роль покорителя Кавказа:
Но се — Восток подъемлет вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!
И смолкнул ярый крик войны:
Все русскому мечу подвластно…
Предсказание поэта не оправдалось. Когда он, девять лет спустя, предпринял новую поездку на Юг, то Ермолов был уже не у дел, в опале, а Кавказ все еще оставался неусмиренным. Здесь начинало разгораться жаркое пламя газавата. Но писать о Кавказе и обойтись без Ермолова было невозможно. «Кончилась ли у вас война? — спрашивал Пушкин в письме у брата, служившего тогда в Тифлисе. — Видел ли ты Ермолова и каково вам после его?» Личная встреча Пушкина с Ермоловым произошла в мае 1829 года: поэт проделал двести лишних верст пути и заехал в Орел, чтобы познакомиться с пребывающим в отставке генералом (о чем рассказал на первых же страницах «Путешествия в Арзрум»). Описывая встречу, Пушкин даже в деталях постарался подчеркнуть по-прежнему важную для него неразрывность двух тем — «Кавказ» и «Ермолов»: «Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит свое бездействие».
Свои впечатления о встрече с поэтом оставил и Ермолов. Они известны в передаче его двоюродного брата Дениса Давыдова, который в декабре того же 1829 года сообщал П. А. Вяземскому, что Пушкин «проездом в Грузию заезжал к Ермолову», и приводил при этом несколько строк из письма генерала: «Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его и, как можешь себе вообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта! Я нашел в себе чувство, кроме невольного уважения…» [35] .
Эта встреча в Орле могла иметь и литературные последствия. Вполне вероятно, что Пушкин видел в Ермолове героя своих будущих произведений. Удовлетворив свои исторические интересы в созданных образах Петра и Пугачева, он искал возможности запечатлеть и современную ему личность исторического масштаба. В том, что поэт именно так подходил к оценке Ермолова, сомневаться не приходится: в его письмах дважды встречается весьма характерное в этом отношении (хотя и косвенное) сопоставление Ермолова с Наполеоном. Так или иначе, спустя несколько лет, в апреле 1833 года, Пушкин принялся составлять письмо к генералу. Беловик письма остался не известен, и в собраниях сочинений Пушкина оно публикуется в виде «сводки», то есть с учетом всех исправлений, сделанных поэтом, и с максимальным приближением к тому, что могло бы получиться у автора в окончательном варианте:
«Собирая памятники отечественной истории, напрасно ожидал я, чтобы вышло наконец описание Ваших Закавказских подвигов. До сих пор поход Наполеона затемняет и заглушает всё — и только некоторые военные люди знают, что в то же самое время происходило на Востоке.
Обращаюсь к Вашему высокопревосходительству с просьбою о деле для меня важном. Знаю, что Вы неохотно решитесь ее исполнить. Но Ваша слава принадлежит России и Вы не вправе ее утаивать. Если в праздные часы занялись вы славными воспоминаниями и составили записки о своих войнах, то прошу Вас удостоить меня чести быть Вашим издателем. Если ж Ваше равнодушие не допустило Вас сие исполнить, то я прошу Вас дозволить мне быть Вашим историком, даровать мне краткие необходимейшие сведения, и etc.».
Письмо черновое и, стало быть, имеет обычные в таких случаях исправления, то есть зачеркнутые или перенесенные с места на место слова и фразы и новые слова, вписанные взамен. Иногда Пушкин начинал фразу, но бросал ее, так как предыдущий смысл его не устраивал. Мысль поэта, словно ручей по весне, преодолевая препятствия и заторы, пробивалась к конечному результату.
Суть письма понятна. Обращаясь к Ермолову, Пушкин выражал желание издать его записки, а если таковых не имеется — стать его историком. К тому же поэта заботит и восстановление исторической справедливости, ибо поход Наполеона затемняет ту славу, которая по достоинству должна достаться Ермолову.
При первом, беглом знакомстве с текстом письма может показаться, что речь в нем идет о вещах вполне очевидных: «поход Наполеона» — это нашествие французской армии в Россию в 1812 году, а «Закавказские подвиги» Ермолова относятся к периоду его управления Кавказом в 1816 — 1827 годах. Ираклий Андроников так, например, и понял смысл этих пушкинских выражений. В одной из своих статей он пишет по этому поводу следующее: «Интерес к личности Ермолова и его деятельности в Грузии побудил Пушкина обратиться к нему с письмом, в котором поэт изъявлял желание написать историю ермоловских войн на Кавказе или быть издателем его записок» [36] .
Тут наш знаменитый лермонтовед ошибается или лукавит, ибо ни Кавказ вообще, ни любезная ему Грузия конкретно в письме Пушкина даже не упомянуты, речь там идет о Закавказье, по каким-то своим причинам Пушкин, обращаясь к генералу, предпочел выразиться именно так: «...описание Ваших Закавказских подвигов». В период же своего правления Ермолов никаких войн в Закавказье не вел и, следовательно, никаких подвигов там не совершал.
Теперь о «походе Наполеона». В черновых набросках письма Пушкин упомянул в этой связи еще и «шум 12-го года», и «пожар Москвы», и «бегство Наполеона», но все это потом вычеркнул и оставил только два слова. Эта короткая формула — «поход Наполеона» — нам сегодня недостаточно ясна и требует некоторых комментариев. Если Пушкин имел здесь в виду вторжение 12-го года, то почему тогда он обращается к Ермолову как к очевидцу и участнику каких-то военных событий, которые «в то же самое время происходили на Востоке»? Ермолов находился тогда, то есть в 12-м году, вовсе не на Востоке, а пребывал в должности начальника штаба 1-й армии Барклая, сохранив эту должность и при назначении Кутузова, и от начала до конца проделал всю знаменитую кампанию, так что спрашивать его о каких-либо восточных делах было бы совершенно бессмысленно.
Очевидно, что речь в письме Пушкина идет о чем-то другом, и это другое большой тайны не составляет, ибо до своего назначения главкомом в Грузию Ермолов побывал на Кавказе и в Закавказье один-единственный раз — участвуя в Персидском походе графа Зубова в 1796 году. Именно тогда его воинская доблесть (другими словами — подвиги) была отмечена Владимирским крестом. Блестящий Итальянский поход Наполеона, которым так восхищался Суворов, состоялся в том же 1796-м; вот он-то как раз все «затемняет и заглушает».
Ермолов мог сообщить о Зубовых много интересного. С графом Валерианом он был знаком еще со времен польских событий, связанных с восстанием Тадеуша Костюшко. Добившись перевода в действующие войска, молодой офицер оказался в отряде генерала Дерфельдена, авангардом которого командовал именно Зубов. Вот что пишет об этом биограф полководца Александр Ермолов:
«Во время сбора русской армии <...> А. П. получил в первый раз отдельную часть: ему было дано 6 орудий. <...> Приняв А. П. весьма благосклонно, граф В. А. был с ним во время всего похода в самых приятельских отношениях и неоднократно в самых лестных выражениях отзывался о нем Дерфельдену; к тому же оба были молоды — Валериану Зубову было 23 года, Ермолову 18 (даже только 17) и оба жаждали военной славы» [37] .
Некоторые подробности этих событий находим и в записках В. Ратча, составленных большей частью со слов самого Ермолова:
«Поляки быстро отступали перед Зубовым, который шел по пятам. 13-го октября, перейдя Буг, неприятель стал разрушать мост у местечка Попково; наши казаки, шедшие впереди, были остановлены неприятельскою артиллериею, поставленною на том брегу. Зубов, посадив тотчас свою пехоту на обозных лошадей, прискакал к переправе; Ермолов был при нем и получил приказание под выстрелами неприятеля кинуться вперед и сбросить в воду работников, разрушавших мост. Ермолов кинулся за охотниками. Это было последнее приказание Зубова в эту кампанию: ему оторвало ногу ядром» [38] .
Тяжелое ранение, из-за которого Валериан вынужден был покинуть теснившие неприятеля войска, придало ему все же совершенно особый «знак отличия» — известную уже нам железную или даже золотую ногу, с которой он, в качестве персонажа, и вошел в историю нашей литературы. Ермолов же при штурме предместий Варшавы удачно действовал с вверенными ему шестью орудиями и заслужил свой первый Георгиевский крест, полученный им из рук великого Суворова.
В письмах Пушкина дважды встречается сопоставление Ермолова с Наполеоном: в черновом письме к самому генералу и в более раннем, от 24 сентября 1820 года, к брату Льву. Здесь, высоко оценив свершения Ермолова в вверенном ему крае, Пушкин спустя всего несколько строк замечает, что покоренный Кавказ «не будет нам преградою в будущих войнах — и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии». Позднее, пережив какое-то разочарование, Пушкин отказался от своих творческих намерений, связанных с образом Ермолова, и в дневниковой записи назвал его «великим шарлатаном» — как полагают, из-за склонности последнего к политическим интригам.
Близкий друг Пушкина Петр Вяземский ставил в вину поэту то, что, упомянув в эпилоге «Кавказского пленника» имена Котляревского и Ермолова, тот «окровавил последние стихи своей повести». Взгляд Вяземского на кавказские события резко отличался от восторженных, панегирических строк пушкинского эпилога. «Что за герой Котляревский, Ермолов? — риторически вопрошал он в одном из писем. — Что тут хорошего, что он Как черная зараза губил, ничтожил племена ? От такой славы кровь стынет в жилах и волосы дыбом становятся. Если мы просвещали бы племена, то было бы что воспеть. Поэзия — не союзница палачей: политике они могут быть нужны, — и тогда суду истории решить, можно ли ее оправдывать или нет; но гимны поэта никогда не должны быть славословием резни. Мне досадно на Пушкина: такой восторг — настоящий анахронизм» [39] .
Поздняя критика пыталась сгладить этот упрек: воспевая покорителей Кавказа, Пушкин якобы лукавил, и «эпилог „Кавказского пленника” был написан с дипломатическим расчетом — подействовать на власти и подготовить возможность возвращения из ссылки» [40] . Но едва ли Пушкин заслуживает подобных упреков, едва ли нуждается и в оправданиях. Истекшее время показало, что его «Кавказский пленник» — это гениально начертанный пролог к трудной и горькой теме, продолжением которой явились «Валерик» Лермонтова и кавказские рассказы Льва Толстого.
Последний бросок на Юг
Эксцентричный Павел, так необдуманно и так пагубно для своих же войск положивший конец «персицкой экспедиции», некоторое время спустя затеял, тем не менее своеобразное продолжение этой истории, столь же скоропалительное в исполнении, как и возвращение Каспийского корпуса из Закавказья. Неожиданное сближение с Бонапартом придало замыслам Павла поистине наполеоновский характер: он не только поддержал планы о вытеснении англичан из Индии, но сделал первые шаги к осуществлению этой сумасбродной идеи. По его указанию был составлен проект совместной русско-французской военной экспедиции к берегам Инда, в результате которой предполагалось «изгнать англичан безвозвратно из Индостана; освободить эти прекрасные и богатые страны от британского ига; открыть новые пути промышленности и торговле просвещенных европейских наций, в особенности Франции…» [41]
Объединенный корпус представлял собой, по крайней мере — на бумаге, внушительную военную силу в 70 тысяч человек, по 35 с каждой стороны, и мог бы, конечно, доставить англичанам серьезные неприятности, но до Индии еще нужно было дойти. В географическом отношении это было бы в полном смысле хождение за три моря — Черное, Азовское и Каспийское. Наши части, собранные в Астрахани, составляли 25 тысяч регулярных войск, усиленных 10 тысячами казаков. Они должны были первыми отправиться морем в Астрабад — персидский порт на юго-восточном берегу Каспия, куда, заметим кстати, во время Дагестанского похода планировал добраться еще Петр Великий. Французы же на барках спускались вниз по Дунаю и в устье его пересаживались на наши торговые суда, которые доставили бы их в Таганрог. Отсюда предполагалось уже движение пешим порядком в Царицын. По пути намечалось приобрести у калмыков лошадей для французской кавалерии. Из Царицына — вниз по Волге до Астрахани и далее — в тот же Астрабад, где размещалась бы штаб-квартира союзной армии со всеми арсеналами и провиантскими складами. Начав поход в мае 1801 года, войска должны были сосредоточиться здесь через пять месяцев — к концу сентября.
Весь экспедиционный корпус был составлен из кавалерийских частей и артиллерии; роль авангарда, разведки и охраны отводилась казакам. Для обеспечения движения создавалась служба особо уполномоченных — комиссаров, которые, опережая армию, заблаговременно удовлетворяли бы все ее нужды: готовили транспорт и места привалов, заготавливали фураж, занимались доставкой багажа и прочего.
Достаточно внимания уделялось и, так сказать, идеологической подготовке экспедиции. Еще до отплытия в Астрабад комиссары должны были разъяснить всем ханам и мелким властителям, встреченным по дороге, что единственная цель похода — «освободить Индию от тиранического и варварского ига англичан» и что «князья и народы всех стран, через которые пройдет союзная армия, не должны нисколько ее опасаться». Доходчивости этих заверений способствовал бы набор замечательных подарков для туземных правителей, для чего следовало припасти карманные и настенные часы, сервский фарфор, зеркала и французские сукна разных цветов. «Союзная армия, — говорилось в заготовленной прокламации, — не будет взимать контрибуций, будет все закупать по обоюдному соглашению и платить чистыми деньгами за все предметы, для существования ее необходимые…» Тут же прилагалась справка, что в Персии и Индии «особенно обращаются и ценятся: венецианские цехины, голландские червонцы, венгерские дукаты, русские империалы и рубли».
С высадкой первой французской дивизии в Астрабаде первая русская должна была покинуть город и начать движение на восток. «Тотчас же по прибытии союзной армии на берега Инда должны начаться и военные действия», — гласил в заключение проект, обрываясь на самом интересном месте: что будет дальше и на чьей стороне окажется военное счастье, не мог знать никто.
Впрочем, столь грандиозное и многосложное предприятие не могло не вызвать справедливых сомнений у такого прозорливого практика войны, каким был первый консул Французской республики Бонапарт, уже имевший к тому же печальный опыт своей Египетской экспедиции. Ознакомившись с проектом, он сделал ряд вопросов и замечаний: о наличии у русских достаточного количества транспортных судов на Черном и Каспийском морях, о возможном противодействии экспедиции со стороны турецкого султана или английской эскадры, которая могла бы войти в Черное море и потопить транспорты с французами. Особые опасения вызывали предстоящие трудности неизведанного пути от Астрабада до Индии через бесплодные и дикие страны.
Все эти разумные соображения Павел отвел самым решительным, если не сказать — самоуверенным, тоном, заявляя, что он в состоянии «принудить Порту делать все то, что ему угодно», и что английской эскадре адмирала Кейта он не позволит пройти сквозь Дарданеллы, ибо «для этого у него есть средства действительнее, нежели думают». Что касается трудностей пути, то и здесь российский император не видел серьезной преграды, полагая, что «французская и русская армии жаждут славы; они храбры, терпеливы, неутомимы; их мужество, постоянство и благоразумие военачальников победят какие бы то ни было препятствия».
Вся эта безумная затея, размах которой не уступал, а скорее всего, и превзошел бы масштабы зубовской экспедиции, так и осталась на бумаге да в воспаленном воображении несчастного Павла, убитого вскоре заговорщиками. От посылки своих войск в Россию и далее, в самые недра Азии, Наполеон на этот раз благоразумно воздержался, чего не сделал всего лишь 12 лет спустя, предпочтя, себе же на горе, союзу с русскими вторжение в их погибельные просторы.
Известно также, что Павел в начале 1801 года отдал распоряжение атаману Войска Донского генералу Орлову готовиться к походу, но уже по другому маршруту. «От нас ходу до Индии от Оренбурга месяца три, — писал нетерпеливый император, — да от вас туда месяц, итого четыре. Поручаю всю сию экспедицию вам и войску вашему, Василий Петрович. Соберитесь вы с оным и выступайте в поход к Оренбургу, откуда любою из трех дорог или всеми пойдете с артиллериею прямо через Бухарию и Хиву на реку Индус и на заведения английские, по ней лежащие. Войска того края, их такового же рода, как и ваше, так имея артиллерию, вы имеете полный авантаж. Приготовьте все к походу. Пошлите своих лазутчиков приготовить или осмотреть дороги; все богатство Индии будет нам наградою за сию экспедицию. Соберите войско к задним станицам и тогда, уведомив меня, ожидайте повеления идти к Оренбургу…»
Вдогонку Павел отправил атаману «подробную и новую карту всей Индии» и потребовал попутно освободить в Хиве «столько-то тысяч наших пленных подданных». Однако испытать на себе все прелести индийского похода довелось не Орлову, а другому прославленному атаману донцов — Платову. Вот как рассказывает об этом историк Е. В. Тарле:
«Казачий атаман Матвей Иванович Платов, по неведомой причине засаженный Павлом в Петропавловскую крепость и находившийся там уже полгода, внезапно был извлечен из своего каземата и доставлен прямо в царский кабинет. Тут ему без всяких предисловий был задан изумительный вопрос: знает ли он дорогу в Индию? Ничего абсолютно не понимая, но, сообразив, что в случае отрицательного ответа его, вероятно, немедленно отвезут обратно в крепость, Платов поспешил ответить, что знает. Немедленно он был назначен начальником одного из четырех эшелонов войска донского, которому почти в полном составе приказано было идти в Индию. Всего же выступили в поход все четыре эшелона — 22 500 человек. Выступили они с Дона 27 февраля 1801 г., но шли недолго...» [42]
Тут самое время пояснить, что Платов в качестве походного атамана участвовал в зубовской экспедиции. Три казачьих полка двигались в авангарде отряда, и платовские казаки оказали корпусу неоценимые услуги: они не только первыми форсировали полноводный могучий Самур, но и спасли многих пехотинцев, унесенных бурным течением реки. Казаки заняли Баку, их передовые разъезды преодолели Куру и готовы были идти на Тегеран…
Заглянем еще в «Записки декабриста» Николая Ивановича Лорера, слышавшего рассказ об индийской экспедиции из уст самого атамана. Переведенный в 1837 году из сибирской ссылки рядовым в войска Отдельного Кавказского корпуса, он по дороге на юг, в Новочеркасске, посетил могилу прославленного героя, с которым был знаком в прежние времена:
«Заговорив о Платове, я привел себе на память рассказ его, слышанный мною еще в Варшаве в 1815 году, по возвращении наших войск из-за границы, от него самого. Он так любопытен, что помещаю его. В одном доме, после сытного обеда, Матвей Иванович, по обыкновению немного подвыпивший, сел на диван, со многими сотоварищами-генералами, а мы, молодежь, окружали эту любопытную группу. Кто-то спросил Платова, чем он был при императоре Павле Петровиче? Матвей Иванович, почесав у себя в голове, с расстановкою, своим малороссийским наречием сказал:
„Я, господа, при императоре Павле Петровиче по доносу одного из сослуживцев своих сидел в Петропавловской крепости вместе с Алексеем Петровичем Ермоловым. Я был тогда в чине генерал-майора и заправлял до сего донцами. Крепко грустил я в крепости, не зная, чем кончится моя участь. ‘Не грусти казак — атаманом будешь‘, — сказал мне А. П. Ермолов. В одну ночь меня потребовали во дворец и ввели в кабинет государя, пред которым я упал на колени. Государь велел мне встать и сказал: ‘Генерал Платов, вот тебе табакерка с моим портретом‘. Не понимая причины такой милости, я однако ж облобызал его царскую руку. Государь продолжал: ‘Поезжай на Дон, собери полки и выступай в поход. Пред выступлением получишь маршрут, карту и узнаешь, куда идти, и тогда же пришлешь мне рапорт с надежным офицером об исполнении моего повеления. Ступай...‘ Поехал я на Дон, живо собрал 20 тысяч казачков, отслужил молебен и готовился потянуться в неизвестный путь, как получил, по обещанию государя, карту, маршрут и приказ: открыть путь в Индию... Легкое дело!.. Я хранил все это в тайне, по приказу царя. Вот прошли мы Саратовскую губернию, Астраханскую и втянулись в необозримые киргизские степи. Пока были мы в своих границах, донцы мои были веселы, и песни их раздавались беспрестанно. Полковники и офицеры старались узнать, куда я их веду, но я крепко хранил тайну. <...> В одно утро старшины и сотники объявили мне, что полки два дня уже без воды, в войске ропот, что казачки отказываются идти далее. Полководцы просили меня сказать, куда я их веду... Плохо! ‘Погодите до завтра, детушки, — сказал я, — утром вынесу свой походный образ, отслужим молебен, и тогда скажу войску, куда мы идем‘. Грустно разошлись мои товарищи, печально полез я в свой шатер и, на бурке лежа, так рассуждал; или свои меня убьют, или Павел повесит, за неисполнение приказания. Тут смерть и там смерть. Ежели завтра не будет нам приказа вернуться, то передамся я со всем войском туркам и буду служить новому царю... Так пролежал я целую ночь и не смыкал глаз. Стало светать. Вдруг полы шатра моего зашевелились, и лезет ко мне на четвереньках человек не человек, черт не черт, зверь не зверь, и мычит каким-то хриплым голосом: ‘Воды... воды...‘ Я вскочил на ноги и подал несчастному, лежавшему на земле, несколько глотков, и тогда только он проговорил: ‘Павел скончался... Императором — Александр, и возвращайтесь на Дон!..‘
При воцарении Александра первый указ, им подписанный, был о нашем возвращении на Дон. Послано было 6 гонцов с приказанием непременно настичь нас и вернуть, и только один, едва живой, исполнил поручение. Остальные не довезли. Утром мы весело присягнули новому царю и поплелись в наши станицы, потеряв, однако много людей и лошадей”.
Так кончил свой рассказ Матвей Иванович» [43] .
«Химерический план Наполеона»
Упомянув в письме к брату Льву имя Наполеона и его химерический план завоевания Индии, Пушкин не сделал никаких пояснений, словно бы речь шла о предмете, всем давно и хорошо известном. И действительно, ни для кого из современников 12-го года в этом не было большого секрета. Мы долго молча отступали, об исходе войны тогда можно было только гадать, и уже общим было мнение, что «Москва будет взята, мир в ней подписан, и мы пойдем в Индию сражаться за французов!» [44] . Это слова Дениса Давыдова, чей авторитет не позволяет усомниться в правдивости такого свидетельства. Удрученный положением дел, он тогда же обратился к князю Багратиону, у которого служил адъютантом, с требованием выделить ему трехтысячный отряд для рейда по французским тылам. «Если должно непременно погибнуть, то лучше я лягу здесь! — горячо убеждал князя наш партизан. — В Индии я пропаду со ста тысячами моих соотечественников без имени и за пользу, чуждую России, а здесь я умру под знаменами независимости, около которых столпятся поселяне, ропщущие на насилие и безбожие врагов наших… А кто знает! Может быть, и армия, определенная действовать в Индии!..» [45] . Трех тысяч ему не дали. Дали только пятьдесят гусар и сто пятьдесят казаков, и вместо карты Индии Багратион вручил ему свою личную карту Смоленской губернии.
Оказывается, маленький злопамятный корсиканец ничего не забыл. Еще во времена Павла он настойчиво стремился заключить с Россией военный союз. «Идея союза, — писал об этом Е. В. Тарле, — диктовалась двумя соображениями: во-первых, отсутствием сколько-нибудь сталкивающихся интересов между обеими державами и, во-вторых, возможностью со временем совокупными силами грозить (через Южную Россию и Среднюю Азию) английскому владычеству в Индии. Мысль об Индии никогда не оставляла Наполеона, начиная от египетского похода и до последних лет царствования» [46] .
Сам Наполеон не раз выражался в том смысле, что если бы он даже с малым отрядом добрался до Индии, то непременно выгнал бы оттуда англичан. «Александр Македонский достиг Ганга, отправившись из такого же далекого пункта, как Москва, — увлеченно рассуждал он в начале похода в Россию. — Предположите, что Москва взята, Россия повержена, царь пошел на мир или погиб при каком-нибудь дворцовом заговоре, и скажите мне, разве невозможен тогда доступ к Гангу для армии французов и вспомогательных войск, а Ганга достаточно коснуться французской шпагой, чтобы это здание меркантильного величия Англии обрушилось» [47] .
Вслед за императором об Индии на все лады толковали его бравые вояки: «…настроение большей части армии в момент перехода через Неман было бодрое. В победе мало кто сомневался, а люди повосторженнее говорили вслух об Индии, куда они пойдут после победы над русскими, о золотых слитках и кашемировых тканях Дели и Бенареса» [48] . Нашествие на Индостан, с использованием вспомогательной русской армии, Наполеон планировал сделать одним из условий мира с Александром. Однако через несколько считаных месяцев после вторжения в Россию ему пришлось уяснить, что никакого мира ни на каких вообще условиях он не получит, а в том, что касается вожделенной Индии, то, вопреки всякой географии, из холодной сожженной Москвы до нее было гораздо дальше, чем от берегов Немана. Индия, еще недавно казавшаяся доступной, теперь предстала ускользающим миражом, химерой, — о чем, собственно, и упомянул Пушкин в письме к своему брату.
Между тем смерть Павла вовсе не похоронила окончательно наши собственные надежды помыть солдатские сапоги в Индийском океане. Русские военные стратеги вплоть до самой середины XIX века напрягали извилины «в рассуждении завоевания Индии». Поражение в Крымской кампании и наше вечное «за державу обидно» вновь вызвали к жизни проект неожиданного и мстительного удара по англичанам. На этот раз его автором явился генерал-лейтенант Евгений Егоров, чье имя давно затерялось на пожелтевших страницах старинных журналов. В сущности, это был голос широких генеральских масс, кипевших в нетерпении расквитаться с европейцами за позорную сдачу Севастополя. «Вникнув в политику главнейших государств Европы, — провидчески выводило острое генеральское перо, — мы увидим, что все ее пружины, все усилия и замыслы устремлены постоянно к тому, чтобы уничтожить или, по крайней мере, ослабить Россию, убить ее производительные силы и лишить ее возможности не только действовать, но даже думать наравне с европейскими державами» [49] .
План кампании не отличался большой оригинальностью и в общих чертах повторял предыдущий, разве что теперь мы должны были бы действовать без французских союзников и выдвинуться к Астрабаду либо по Каспию, либо сухим путем из Грузии. Дальнейшее движение не представлялось автору проекта сколько-нибудь затруднительным, ибо афганцы «с восторгом примут того, кто придет доставить им случай отмстить за себя англичанам» [50] . Что касается продовольствия для наступающей армии, то его можно приобрести у местных жителей, и командующему достаточно захватить с собой мешок с золотом. Справиться с англо-индийской армией тоже возможно, надо только стремительно атаковать ее, а главное, иметь равновесие в силах против регулярных английских частей. Если же придется выступить против сипаев, то есть туземных войск, сформированных англичанами, то эта чумазая сволочь разбежится во все стороны при первом залпе нашей артиллерии. Дальше, согласно плану, следовал триумфальный марш нашего корпуса вплоть до Бомбея и Калькутты.
Как всегда у нас, на бумаге все выходило гладко. На деле же могло статься, что счастливый обладатель золотого мешка и шестидесяти тысяч войск, едва вступив в каменистые пустыни Афганистана, очень скоро остался бы и без золота, и без своих солдат. Известно также, что этот проект был читан знаменитому покорителю Плевны и Шипки генералу Скобелеву и Михаил Дмитриевич остался в полном восторге.
Индия, благодаренье Господу, осталась нами не завоеванной. Если кто и достиг ее пределов, то это не полководец, а тверской купец Афанасий Никитин. Что касается Персии, то «голубая родина Фирдуси», этот загадочный и опасный южный сосед еще долго манил к себе русских поэтов. Там погиб Грибоедов, и персидский принц Хозрев-Мирза привез нам «цену его крови» — знаменитый алмаз «Шах». В Персию собирался и Лермонтов, но, предпочтя «милый север», отправил в этот роковой путь своего Печорина. В персидских мотивах слышал что-то родное Сергей Есенин. Ну что ж, пусть лучше говорят музы, чем пушки.
[1] «Медаль на взятие Константинополя». — «Русская старина», 1875, июль, стр. 446.
[2] П. П. Князь Платон Зубов. Биографический очерк. — «Русская старина», 1876, декабрь, стр. 691.
[3] «Объяснение митрополита Хрисанфа Неопатрасского. Поданное в 1795-м году князю Зубову для соображений графа Зубова перед походом его в Персию». — «Русский архив», 1873, май, стр. 866, 871, 875.
[4] П. П. Князь Платон Зубов, стр. 696.
[5] Там же.
[6] «Жизнь Артемия Араратского». М., «Наука», 1981, стр. 137.
[7] «Исторический очерк Кавказских войн от их начала до присоединения Грузии». Тифлис, 1899, стр. 309 — 310.
[8] «Именитые россияне». — «Мир музея», 1994, № 3, стр. 61.
[9] Письма и записочки Екатерины Великой к графу Валерьяну Зубову. — «Русский архив», 1886, март, стр. 271.
[10] Там же, стр. 274.
[11] Письма и записочки Екатерины Великой к графу Валерьяну Зубову. — «Русский архив», 1886, март, стр. 274 — 275.
[12] Там же, стр. 277.
[13] Здесь и далее: Суворов А. В. Письма. М., «Наука», 1986, стр. 304, 310 — 312, 314, 616.
[14] Сочинения Державина. СПб., изд. I-е. 1866. Т. 3, стр. 645 — 646.
[15] Сочинения Державина. СПб., изд. II-е. 1869. Т. 2, стр. 26.
[16] Сочинения Державина. СПб., 1866. Т. 3, стр. 672.
[17] Сочинения Державина. I-е. изд. СПб., 1865. Т. 2, ч. 2, стр. 37.
[18] Сочинения Державина. II-е. изд. СПб., 1869. Т. 2, стр. 26.
[19] Белинский В. Г. Полное собрание сочинений в 13 тт. М., «Издательство АН СССР», 1955. Т. VI, стр. 652.
[20] Белинский В. Г. Указ. соч., 1956. Т. VII, стр. 372 — 373.
[21] Белинский В. Г. Указ. соч., 1955. Т. IX, стр. 298.
[22] Сочинения Державина. СПб., 1866. Т. 3, стр. 672.
[23] Виноградов Б. С. Начало кавказской темы в русской литературе. — В сб.: «Русская литература и Кавказ», Ставрополь, 1974, стр. 20.
[24] Виноградов Б. С. Начало кавказской темы в русской литературе. — В сб.: «Русская литература и Кавказ», Ставрополь, 1974, стр. 25.
[25] «Жизнь Артемия Араратского», стр. 138 — 139.
[26] «Русский архив», 1873, № 5, стр. 879 — 894.
[27] Вейденбаум Е. Г. Кавказские этюды. Тифлис, 1901, стр. 279.
[28] Путешествие Графа Ивана Потоцкого в Астрахань и окрестные страны, в 1797. — «Северный архив», 1828, ч. 31, стр. 81 — 83.
[29] Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 19 тт. М., «Воскресенье», 1999. Т. 15, стр. 102.
[30] Ланда С. С. Ян Потоцкий и его роман «Рукопись, найденная в Сарагосе». — В кн.: Потоцкий Ян. Рукопись, найденная в Сарагосе. М., «Художественная литература», 1971, стр. 23.
[31] Марр Н. Я. Подлог Артемия Араратского раскрыл А. Е. С. — «Записки Восточного отделения Императорского Русского археологического общества». СПб., 1896. Т. IX, стр. 227.
[32] Григорьян К. Н. Араратский и его книга. — В кн.: «Жизнь Артемия Араратского», стр. 182.
[33] Григорьян К. Н. Араратский и его книга. — В кн.: «Жизнь Артемия Араратского», стр. 157.
[34] Бартенев П. И. Пушкин в Южной России. М., 1914, стр. 21.
[35] Давыдов Денис. Сочинения. М., ГИХЛ, 1962, стр. 577.
[36] Андроников Ираклий. Лермонтов. М., «Советский писатель», 1951, стр. 285.
[37] Ермолов Александр. Алексей Петрович Ермолов. 1777 — 1861. Биографический очерк. СПб., 1912, стр. 12 — 13.
[38] Ратч В. Сведения об Алексее Петровиче Ермолове. СПб., 1861, стр. 46.
[39] Эйхенбаум Б. От военной оды к «гусарской песне». — В кн.: Давыдов Денис. Полное собрание стихотворений. Л., 1933, стр. 39.
[40] Там же.
[41] Здесь и далее: «Проект русско-французской экспедиции в Индию. 1800 г.» — «Русская старина», 1873, сентябрь, стр. 401 — 410.
[42] Тарле Е. В. Сочинения в 12-ти томах. М., «Издательство АН СССР», 1959. Т. 7, стр. 114.
[43] Лорер Н. И. Записки декабриста. М., 1931, стр. 183 — 185.
[44] Давыдов Денис. Сочинения. М., ГИХЛ, 1962, стр. 316.
[45] Там же.
[46] Тарле Е. В. Указ. соч., стр. 113.
[47] Там же, стр. 474.
[48] Там же, стр. 471 — 472.
[49] «Поход русской армии в Индию». — «Русская старина», 1886, июнь, стр. 600.
[50] Там же, стр. 612.
Равенство или свобода?
Роман Максима Кантора «Учебник рисования», вышедший в 2006 году, стал событием
Роман Максима Кантора «Учебник рисования», вышедший в 2006 году, стал событием. Книга не могла не вызвать полемики: автор, казалось, решил свести счеты со всеми: с ненавистным авангардом и хорошо знакомой ему художественной тусовкой, с интеллигенцией и властью, с политиками и бизнесом, наконец, с самой историей — словом, создать «роман века».
Григорий Ревзин так его и оценил: «Написан еще один великий русский роман, хотя, казалось, что после „Мастера и Маргариты” и „Доктора Живаго” этого уже никогда больше не будет» [1] .
Меня тогда очень заинтересовал роман Кантора, но в своей статье о нем [2] я поостереглась раздавать столь щедрые эпитеты. Все-таки великий роман не может быть столь громоздким и диспропорциональным, великий роман сам тянется к читателю, от него невозможно оторваться, — а тут надо делать над собой нешуточное усилие, чтобы следить за вялой интригой и многочисленными героями, которые разбегаются по страницам, как тараканы. Плутовской роман, сатира, экскурсы в историю, любовная линия и трактат по живописи были соединены смело, но не всегда удачно, не без ущерба для устойчивости конструкции.
Новый роман «Красный свет» [3] в известной степени является продолжением «Уроков рисования». Дело даже не в том, что семья Рихтеров (ее явный прототип — семья Канторов), все члены которой являют собой редкий образец достоинства, стойкости, мудрости, человеколюбия, порядочности и мужества посреди всеобщего негодяйства, сервильности, тупости и трусости, перешла из предыдущего романа в новый. Дело в том, что амбиции автора написать «роман века» разбились о равнодушие публики, как разбиваются амбиции главного героя «Учебника рисования» Павла Рихтера написать картины, «которые взорвут общество», «отомстят за всех униженных и обманутых» и «покончат с подлой моралью».
Но как автобиографический герой «Уроков рисования» будет писать свои полотна вновь и вновь, ставя перед собой недостижимую цель, так его прототип будет добиваться того же посредством слова.
Пафос учительства, даже проповедничества настолько отчетливо проступает в публицистических статьях Максима Кантора, написанных после выхода первого романа (самые ранние из них собраны в книгу «Медленные челюсти демократии», 2008), что нетрудно сообразить: задача следующего романа — подвергнуть ревизии символ веры интеллигенции, а заодно пересмотреть и изложить свою версию истории ХХ века.
Виктор Топоров предсказал, что следует ожидать двух возможных реакций на новый роман Кантора: «одной по замалчиванию романа (и его автора), другой — по охаиванию» [4] .
Замалчивания точно не было: почти все издания откликнулись на новую книгу. Роман еще в рукописи, то есть — в преддверии читательской реакции, не просто вошел в шорт-лист премии «Национальный бестселлер», он лидировал и едва не стал победителем, а теперь имеет все шансы стать лауреатом премии «Большая книга», являясь одним из фаворитов короткого списка.
«Охаивания» романа Виктор Топоров ожидал из-за «беспощадного избиения всего самодеятельного и самозваного руководства несостоявшейся „оранжевой революции”». Этого и в самом деле можно было ждать. Однако и «охаивания» не было. Даже те рецензенты, которых неприятно поразили инвективы автора по отношению к политической оппозиции, все-таки не предъявляли обвинений в сервилизме — кроме разве что Мартына Ганина, переадресовавшего самому Кантору его нелестный упрек интеллигенции в том, что она, интеллигенция, в начале девяностых пошла в услужение к ворам, к паханам, и как это полагается на зоне, стала чесать им пятки и «тискать романы».
«Ворам чесать пятки нельзя, а чекистам — нормально и даже как-то почетно», — иронизирует Ганин, видя в изображении оппозиции в виде беспринципных попрошаек, шакалящих по иностранным посольствам и получающих инструкции и деньги для государственного переворота у иностранных государств «заявку на место при будущем дворе тт. Бастрыкина, Чайки и прочих» [5] .
Это несправедливо. Оппозицию Кантор поносит, но и власть не так чтобы жалует. Верховный правитель Руси изображается у него «невзрачным человечком, полковником недоброй памяти КГБ», которого наняли охранять нажитое олигархами добро. «И поставили сторожа — пусть смотрит за сундуками, нужен и на пиратском корабле капитан, который следит за дележом добычи. Полковник смотрелся гербовым львом на задних лапах. <…> Но год от года аппетиты гербового зверя росли».
С таким придворным портретом ко двору не просятся. Это стандартный полемический прием, рожденный той самой привычкой мыслить штампами, против которой восстает Кантор. Отрицательное отношение к какому-либо явлению либо личности не означает автоматически прославления антагониста. Если тебе не нравится оппозиция — это еще не значит, что тебе нравится власть и ее слуги.
Часто пишут, что Максим Кантор предпринимает ревизию штампов интеллигентского сознания. Вообще я с интересом отношусь ко всякой ревизии штампов, но сатирические образы оппозиционеров — это как раз не развенчивание штампов, это культивация штампов государственного агитпропа: оппозиция насквозь продажна, финансируется из-за рубежа, сотрудничает с зарубежными спецслужбами, замышляет государственный переворот в интересах иностранного государства, хочет ограбить Россию, ее интересы противоречат интересам народа.
И не оттого ли «муза пламенной сатиры» на сей раз осталась глуха к призывному кличу автора и вместо ювеналова бича подсунула ему какую-то подделку времен советского «Крокодила»?
В романе несколько пересекающихся линий. К счастью, лишь одна из них сатирическая: это именно современная сюжетная линия, где действует оппозиция. И с чисто писательской точки зрения эта линия провалена.
Большой просчет автора — начинать роман с самой слабой главы: я знаю читателей, которые ею и ограничились, в уверенности, что книга представляет собой неуклюжий памфлет. К тому же нельзя в каждом романе повторять один и тот же принцип композиции, восходящий к Толстому с его салоном Анны Павловны Шерер.
«Уроки рисования» начинались с вернисажа авангардного искусства, на котором автор собирает едва ли не всех героев будущего повествования.
«Красный свет» начинается с приема у французского посла, по случаю вручения галеристу и меценату Ивану Базарову (основной бизнес которого — подпольные казино) ордена Почетного легиона.
На прием приглашена современная элита: по версии Кантора это воры, называющие себя бизнесменами и интеллектуальная обслуга воров: политики, оппозиционеры, журналисты, литераторы. Большинство из них продолжат свое существование в следующих главах. Лидеры оппозиции появятся, в частности, в Лондоне, где они будут получать деньги на государственный переворот и инструкции от своих кураторов из английской разведки. И пойдут на поклон к старому, едва ли не бессмертному нацисту, другу и соратнику Гитлера, почти мистической фигуре, олицетворяющей у Кантора историю (что должно, очевидно, свидетельствовать о подоплеке их идеологии).
Но это произойдет в середине романа, а пока, в первой главе, оппозиционеры, собравшиеся во французском посольстве, чтобы выработать план действий (тут тонкая штука, что сходка не в посольстве американском, где караулят чекисты), участвуют в каком-то дурном цирковом представлении: восклицают «позор» объявившемуся на приеме человеку другого круга, усомнившемуся в том, что Ленин — немецкий шпион, одобряют поведение либеральной идиотки, потребовавшей, чтобы «сталинист» покинул дом посла (хотя не имеют на это никакого права, будучи сами приглашенными). И, наконец, узнав, что сомнительный гость — следователь, как клоуны выстраиваются вокруг него, бравируя своей подписью под письмом в Страсбургский суд с требованием освобождения всех арестованных предпринимателей: этот поступок в их глазах сопоставим с протестом советских диссидентов против оккупации Чехословакии. «Приступайте, — говорит оппозиционная журналистка, — отпечатки пальцев снимать будете?»
Если бы автор заставил представителей оппозиции участвовать в шабаше на Лысой горе и там вырабатывать план государственного переворота, получая задание от какого-нибудь консультанта с копытом, — это, право же, выглядело бы куда правдоподобнее, чем прием у французского посла, где заговорщики собрались было «решать судьбу революции», — но тут является следователь прокуратуры, устраивает публичный допрос, объявляет, что все они подозреваемые по делу об убийстве Мухаммеда Курбаева, шофера галерейщика Ивана Базарова, раздает судебные повестки гостям посла и публично уличает хозяйку дома в интимной связи с убитым шофером… Полагаю, что эффектный замысел следователя рухнул бы на стадии подготовки: во первых, его бы не пригласили, но а уж если б ему удалось пробраться со своими повестками на прием — его бы настойчиво попросили удалиться, прежде чем он начал публично вести допросы подозреваемых на иностранной территории.
Но ведь это фарс, сатира, автор и добивался комического эффекта, могут возразить. Значит — не добился. Пасквиль — не сатира. Помню агитплакаты середины семидесятых, где карикатурный Солженицын, похожий на Шейлока (ну да ведь положено было на закрытых инструктажах рассказывать, что его настоящая фамилия Солженицер), жадно протягивал руки к заокеанским буржуям, с высокомерной и снисходительной улыбкой ссыпающим в них доллары. Какое чувство должен был испытывать нормальный человек от подобной сатиры? Смеяться? Над кем? Автором плаката? Тупым советским агитпропом?
Но, к счастью, содержание романа никак не сводится к натужному памфлету… Коммунизм и его вожди, борьба за власть после смерти Ленина и политические процессы, Вторая мировая война, ее причины и следствия, истоки нацизма и метаморфозы демократии, послевоенная Европа и ее судьба, прошлое и будущее России — все это предмет размышлений автора. А герои? А сюжет? А интрига? — может спросить читатель. Тут апологет Кантора вынужден будет замяться.
Роман требует героя. Кантор пишет традиционный реалистический роман со множеством авторских отступлений. Парадокс в том, что отступления есть, многие из них — яркий образец публицистики автора и стоят читательского внимания. А вот героев и внятного сюжета — нет.
В «Уроках рисования» герой был. Во-первых, сам рассказчик, Павел Рихтер. Уже одна его судьба образовывала сюжетную линию: любовь, коллизия выбора между женой и любимой женщиной, неожиданный удар: измена любимой, горькая правда о ней, разочарование, отрезвление, творческие поиски и сомнения.. Было увлекательно следить за судьбой мистификатора от искусства Гриши Гузкина, настоящего героя плутовского романа. Восходящая к гоголевскому «Носу» гротескно-фантастическая линия художника Сыча, придумавшего перформанс с насилуемым хорьком, влюбившегося в похотливого зверя, и похождения самого хорька, превратившегося в светского персонажа — тоже запоминающийся сюжет.
В новом романе нет героя, судьба которого могла бы составить увлекательную сюжетную линию и увлечь читателя. Наиболее удачен в исторической части романа образ офицера Сергея Дешкова, сына красного командира Григория Дешкова, соратника Тухачевского и Гамарника. После расстрела отца он пребывает в растерянности, испытывает чувство обреченности и страха, пытается спасти мать и жену (довольно безуспешно). И лишь большая война его окрыляет: смысл жизни возвращается. Этот смысл — в исполнении долга. Враг напал на твою страну — надо ее защищать. На войне таких офицеров неизменно находит их подвиг, ждет подвиг и Сергея Дешкова.
У персонажей современной части романа обнаруживаются предки в части исторической. У ничтожных оппозиционеров и предки дрянные. У ограниченной журналистки Фрумкиной, той, что каждой строкой борется против сталинизма, бабка — твердокаменная сталинистка, сочиняющая агитпроповскую ерунду и твердо следящая за тем, чтобы ни одно живое слово не просочилось в печать. Впрочем, она способна и на человеческое, живое движение души: достать для умирающего сына третируемого ею сотрудника драгоценный пенициллин. У нынешних оппозиционеров, как их видит автор, никакой души уже нет.
У бизнесмена и оппозиционера Семена Панчикова тоже обнаруживается предок, Аркадий Панчиков. Во время войны он ведет себя позорным образом: трусоват, попал в кавалерию, а лошадей боится, ворует хлеб у крестьян, похищает из дома, где останавливался на постой, крест, а когда мужественный Сергей Дешков обвиняет командира в том, что тот трусит, Панчиков стремится выслужиться перед начальством и готов застрелить бунтаря. Но просчитался Панчиков: Дешков разрубит его саблей, а медлящему с атакой командиру (вина которого в том, что он не хочет исполнять гибельный для кавалерии, бессмысленный приказ), отрубит руку и возьмет в соответствии со сталинским приказом командование на себя.
Есть предок и у следователя Петра Яковлевича Щербатова, того, что заявился во французское посольство раздать повестки и учинить присутствующим допрос: он чекист, благоразумно поостерегшийся занимать высокое место преторианца при соперничающих вождях. И правильно: всех этих выскочек, состоявших в гвардии Зиновьева, Каменева, — вычистили или арестовали. А он потихоньку делает свою чекистскую карьеру. Тоже человек не без души: пытается помочь жене Сергея Дешкова, квартиру которого, после ареста Дешкова-старшего, он получил в собственное пользование вместе со всеми книгами, картинами, фотографиями и мебелью.
Современная сюжетная линия, связанная со следователем Щербатовым, содержит даже детективный элемент, правда, очень вялый. Кто убил Мухаммеда Курбаева и зачем? Кому мешал безобидный шофер, что его задушили прямо в галерее хозяина, спящего? По подозрению в убийстве будет даже арестован бизнесмен Панчиков, но кто убил — читатель так и не узнает. Вообще-то это противу всяких литературных правил: оставить детективную линию незавершенной. Это даже хуже, чем оставить так и не выстрелившим ружье, все три действия пьесы мозолившее зрителю глаз.
Тайну гибели Мухаммеда Курбаева, очевидно, откроют в следующем романе. Но, боюсь, все читатели к тому времени уже забудут об убитом шофере, не говоря уже об именах подозреваемых.
Есть только один запоминающийся герой в романе, записки которого составляют отдельную (и самую яркую) сюжетную линию: это — Эрнст Ханфштангель, друг Гитлера, издатель и редактор гитлеровской «Майн Кампф», фигура почти мистическая: носитель старой, но бессмертной имперской идеи и сам почти бессмертный (доживает до нашего времени), он олицетворяет собой историю.
Ханфштангель — пожизненный заключенный, при этом тайный, словно романтическая Железная маска. О его судьбе никому, якобы, неизвестно, он считается давно умершим — а он полвека провел на американской базе в США, под надсмотром военных, после чего его перевезли в Британию и поселили на юге Лондона, под надзором британского майора. Не то чтобы строгая тюрьма, но и не свобода. В США в его распоряжении была прекрасная библиотека, предупредительные тюремщики доставляли газеты и документы по первому требованию. В Британии его тоже снабжают какими угодно книгами и документами, а от старого нациста требуется одно: писать мемуары. Он и пишет, но совсем не то, чего от него ждут. Эти бессистемные записки мы и читаем.
Герой Кантора с гордостью подчеркивает свою роль в становлении идеологии нацизма, напоминая, что газета «Volkischer Beobachter» своим существованием обязана нью-йоркскому магазину «Академическое искусство» (которым владела его семья), и что именно он, финансируя газету, превратил ее из еженедельного листка в боевой орган НСДАП. Он ввел харизматичного выходца из низов общества во влиятельные салоны, подарил ему важные знакомства, он издал «Майн Кампф», потратив много дней на литературную обработку наговоренного Гитлером текста, чтобы «придать ему легкий и одновременно убедительный стиль», он, в конечном счете, способствовал приходу Гитлера к власти.
Кантор использует не только биографию, но даже не меняет имя реально существовавшего лица, создавая своего вымышленного героя.
Настоящий Эрнст Ханфштангель (имя часто также транскрибируют как Ханфштенгель, немецкое — Ernst Hanfstaengl ) — полу-немец — полу-англосакс (его мать американка), умер в 1985 в возрасте 88 лет. Родился в Германии, учился в Гарварде, юность провел в США, но в 1921 вернулся в Мюнхен, где вскоре познакомился с Гитлером и сблизился с ним. Но уже в 1937 году пресс-секретарь НСДАП разошелся с другими нацистскими лидерами, в частности с Геббельсом, почувствовал опасность своего физического устранения и бежал в Швейцарию, потом перебрался в Лондон. После начала войны был интернирован как гражданин Германии, но в 1942 году знания нацистского пиарщика оказались востребованы американским правительством: его перевезли в США, где он участвует в составлении досье на видных нацистов, предоставляет сведения о личной жизни Гитлера.
Держать его всю жизнь в заключении, как придумал Максим Кантор, по любому было не за что: настоящий Ханфтшангель не убивал людей и не посылал их в газовые камеры, он разошелся с Гитлером еще до начала второй мировой войны, он, наконец, участвовал в антинацистской пропаганде. За это не полагается пожизненный тюремный срок. В 1947 году Ханфштангеля перевезли обратно в Германию в лагерь для интернированных, и вскоре он стал полностью свободен. В 1957 году он выпустил мемуарную книгу «Мой друг Адольф, мой враг Гитлер». Ее перевели на множество языков, в том числе и на русский — она были издана в 2006 году издательством «Ультра.Культура».
Расхождение между судьбой своего героя и реального Ханфштангеля в романе объясняется просто: тюремщики настригли куски из ежедневных записей Ханфштангеля, скомпоновали в нужном им виде и издали под видом его мемуаров. И придумали для него фальшивую биографию, где ни слова о его незаконном пожизненном заключении. То есть взамен подлинных мемуаров Ханфштангеля (по Кантору — фальшивых) нам предлагаются те, что придуманы романистом. Остроумный и вполне законный писательский ход.
ХХ век полон литературы, содержащей размышления о генезисе фашизма. Версий много, убедительных мало, общепринятых нет.Герой Кантора смеется над Ортегой-и-Гасетом, который пишет о «вертикальном вторжении варварства в тело Европы» «Жили-жили, и вдруг случилось! — иронизирует Ханфштангель. — Смешно! В культуре и истории одно явление вытекает из другого, надо уметь проследить цепь влияний».
Сам он прослеживает ее так: «С тех пор как Священную Римскую империю Каролингов распри растащили на три части, Европа только тем и занималась, что пыталась собрать себя обратно в единое целое». В истории Европы действовали силы центробежные и центростремительные. Центробежные Ханфштангель считает для Европы гибельными, а Гитлера видит продолжателем дела тех великих императоров, кто хотел собрать Европу в единое целое, «последним из тех, кого в Италии именовали гибеллинами». Построение империи требует жертв. Не Гитлер толкает к войне. Шторм не поднимает капитан корабля: капитан лишь умело ведет корабль навстречу шторму. Чтобы зажечь войну, нужен народный энтузиазм. Гитлер — воплощение чаяний немецкого народа, он воплощает энергию нации, он — орудие истории.
Гитлер виновен в бойне сороковых годов? Но «кто ответит за те девять миллионов, что были уничтожены на полях Первой мировой?» Однако они остаются респектабельными политиками.
В рецензиях на роман Кантора несколько раз прозвучало сравнение с «Благоволительницами» Джонатана Литтелла, знаменитого романа, написанного от лица эсэсовца-интеллектуала, поверившего в витальную силу национал-социализма и миссию Гитлера возродить немецкую нацию. «Наверно, Максим Кантор прочел роман Литтелла „Благоволительницы” и захотел сделать не хуже», — меланхолично замечает Владислав Толстов [6] . Мартын Ганин находит, что Ханфштангелю принадлежат симпатии автора и что временами он «плохо отличим от литтелловского Ауэ» (при том что Литтелла критик считает писателем куда более высокого ранга).
Дмитрий Филиппов [7] обрушивается на тех, кто поминает Литтелла в связи с романом Кантора и гневно отвергая всякое сходство, доверительно сообщает, что автор «Красного света» роман Литтелла принципиально не читал.
Это очень плохой способ защиты. Кстати, «принципиально» не читать роман Литтелла можно только в том случае, если о нем как-то наслышан. Но и самое приблизительное знание о романе может послужить импульсом для собственного литературного замысла.
Однако зависит Кантор от Литтелла или нет — это не имеет значения. В литературе полно случаев влияния одного писателя на другого, и установление подобного рода влияний никогда не служит делу дискредитации писателя. Вообще это уже забота литературоведа и предмет дипломных работ и диссертаций. Критику же важен результат.
Полвека нацизм разоблачали и пытались объяснить извне. Возможно, это новый тренд времени — попытка понять психологию и логику нацизма изнутри. Ханфштангель Кантора непохож на литтелловского Ауэ, другой человеческий тип. И Кантора интересуют совсем иные грани нацизма. Литтелл исследует психологию интеллигента, поддавшегося обаянию нацизма и действующего соответственно тому, что он понимает под чувством долга (даже если этот долг велит расстреливать людей, а тонкой натуре Ауэ это претит). Кантора же больше интересует судьба идей. Ханфштангель почти не действует, но беспрерывно рассуждает. Следить за этими рассуждениями интересно, но надо помнить, что Ханфштангель — адвокат дьявола, и логика его рассуждений ведет к оправданию зла.
Иногда, впрочем, он изменяет собственной логике.
Ну, вот пример. В публицистике Максима Кантора часто достается понятию «тоталитаризм». «Сравнение Сталина и Гитлера давно стало трюизмом в политической риторике, хотя мало какому врачу придет в голову сравнивать чуму и холеру, и лечить недуги одной таблеткой. <...> Было сделано немало, чтобы сплющить исторический анализ до того, что грехи века превратились в трудно произносимое и трудно понимаемое слово „тоталитаризм”», — пишет Кантор в статье «Мера Истории» [8] , настаивая на том, что есть иерархия вины, что слишком разнятся идеалы нацизма и коммунизма. «Нельзя забыть, что есть разница между равенством и неравенством, есть разница между интернационализмом и национализмом».
Короче: фашизм хуже коммунизма, Гитлер хуже Сталина. Автор имеет право так думать. Но Кантор еще и заставляет своего героя-нациста излагать собственную точку зрения, согласно которой в иерархии зла Гитлер много страшнее Сталина. Так, Эрнст Ханфштангель спорит с русскими правозащитниками, видящими вину Сталина в том, что он убивал собственный народ (в то время как Гитлер народы чужие). «…как хочется им очернить свое прошлое», — иронизирует Ханфштангель, объясняя, что нацисты вселяли вражду в австрийские сердца, поощряли доносы французов друг на друга, братоубийственную вражду эльзасцев и испанцев... — «Именно истребление собственных братьев и сестер — есть плата за империю!».
Но если истребление братьев и сестер — такая нацистская доблесть, которой можно гордиться, то как можно обвинять русских правозащитников в «очернении прошлого»? Не логичнее ли старому нацисту сказать, что и в СССР истребление братьев и сестер было этакой большевистской добродетелью, а правозащитники просто не понимают высокого нравственного смысла братоубийства?
Но как бы то ни было, и Кантор и его герой Эрнст Ханфштангель — оба не хотят видеть сходство гитлеровского и сталинского режимов и не приемлют термина «тоталитаризм»
Хотя термин возник еще в двадцатые годы и даже применялся в Италии в позитивном смысле, само понятие приобрело популярность благодаря книге Ханны Арендт «Истоки тоталитаризма». Неприязнь к концепции тоталитаризма у Кантора распространяется на неприязнь к Ханне Арендт, с которой он и расправляется руками своего героя.
Есть одна характерная деталь в лукавом рассказе Ханфштангеля о знакомстве с Хайдеггером и Ханной Арендт, на которую я хочу обратить внимание. (Хотя читатели, возможно, скажут, что нижеследующее замечание уж очень женское. Пусть так.)
Ханфштангель рассказывает не лишенный скабрезности случай из своей жизни: во время любовного свидания со свой возлюбленной в провинциальной гостинице, опасаясь предательских звуков хлипкой кровати, он вдруг услышал мощные удары в стену из соседней комнаты — кровать другого номера долго и мощно молотила в ту же стену. Подивившись неутомимости неизвестного соседа и как следует отдохнув, Ханфштангель вышел из номера и стал свидетелем вопиющей сцены: из соседней комнаты выскочила полуобнаженная женщина, настолько уродливая, что рассказчик подумал: «надо обладать темпераментом трех сатиров, чтобы возжелать такую барышню» и следом вышел смельчак, возжелавший столь уродливое существо. Им оказался профессор философии Хайдеггер. Дама была его студенткой Ханной Арендт.
Признаюсь, меня смутила не скабрезность сцены, а облик Ханны Арендт: «уродливая еврейка», «волчье костлявое мужское лицо». В свое время книга Ханны Арендт «Истоки тоталитаризма» произвела на меня большое впечатление, а введенное ею в репортажах с процесса по делу Эйхмана понятие «банальности зла» до сих пор кажется мне лучшим объяснением того, как обычный человек становится комендантом нацистских лагерей смерти или следователем НКВД , и с рвением пытает людей, считая, что просто исполняет свой долг.
Естественно, я помню портреты Ханны Арендт. Умное лицо с высоким нежным овалом, правильными чертами, в молодости — просто красивое, в старости — значительное.
Нелли Васильевна Мотрошилова, известный историк новейшей философии, в статье «Ханна Арендт. Судьбоносная встреча с Хайдеггером» так описывает появление молодой студентки в университете в Марбурге, где уже успел прославиться Хайдеггер и завоевать симпатии студентов: «В свои тогдашние восемнадцать Арендт была не просто хорошенькой — она была настоящей красавицей („bildhubsch”, как говорят немцы, буквально: картинно красивой). О характере и неотразимости ее тогдашней красоты оставили свои восторженные свидетельства ее соученики <…> Ганс-Георг Гадамер в своих воспоминаниях о Марбурге и о Хайдеггере написал, что его студентка Арендт <…> была девушкой, яркая красота которой сразу бросалась в глаза» [9] .
Вот это превращение красавицы в уродливое чудовище кажется мне ключом ко многим рассуждениям Ханфштангеля.
Вот Ханфштангель говорит, что Гитлер убил меньше людей, чем просвещенный демократический мир. «Если нужны массовые убийства — требуется демократия». Стоп — что это значит? Демократии осуществляют геноцид, плодят лагеря смерти? Оказывается, Ханфштангель подсчитал жертв гражданских войн, разразившихся в Африке и Юго-Восточной Азии после того, как эти страны получили независимость. Тут придется вопреки нормам политкорректности признать печальную истину: колониализм не только зло, но и цивилизующий фактор. Независимость неразвитых стран не только благо, но и опасность. Стоит уйти колониальным войскам и провозглашенная с помпой независимость влечет за собой гражданскую войну и взаимоистребление. Но не западные демократии организовывали, например, геноцид тутси в Руанде в 1994 году. Напротив, они хоть и неуклюже — все же его остановили.
Но только ли герою Кантора принадлежит мысль о кровавой сущности современных западных демократий?
Линия романа, посвященная советской истории и войне, куда менее удачна, чем линия Ханфштангеля. В заслугу Кантору часто ставится то, что он разбивает штампы, усвоенные нашей интеллигенцией. Мне показалось иное: Кантор сначала приписывает ненавистным либералам примитивный «рабочий список убеждений»: «Революция — зло, Сталин — тиран, социализм — тупик» и сам же начинает доказывать, что список мелковат.
Вот Федор Раскольников, который некогда входил в иконостас антисталинистов: автор темпераментного письма 1939 года, обличающего Сталина в том, что интересы его личной диктатуры вступают в конфликт с интересами народа, в развязывании репрессий и организации голода. Кантор скажет, что Раскольников был казнокрад и мерзавец, что это он довел кронштадтских рабочих до исступления своим роскошным образом жизни.
Вот Тухачевский, которого, согласно тому же канторовскому «списку убеждений» либералы должны чтить: как же, жертва сталинских репрессий. И тут Кантор открывает глаза: репрессированный Тухачевский не такой уж великий полководец, а палач тамбовского восстания. К тому же поклонник Гитлера. И Сталин имел реальные основания опасаться маршала, явно смотревшего в Наполеоны.
Подобные разоблачения были очень актуальны в начале горбачевской перестройки, когда у сторонников возвращения к мифическим «ленинским нормам руководства» было правило: если ты сказал что-то осуждающее Ленина — ты оправдываешь Сталина, если ты сказал, что Каменев и Зиновьев — коммунистические вельможи, сами повинные в красном терроре — ты оправдываешь репрессии 1937 года. Сейчас подобные аргументы вышли из моды, про Тамбовское восстание и про то, как Тухачевский выкуривал крестьян газом, написал не только Солженицын — этому посвящены горы литературы, а предположением, что заговор военных против Сталина мог быть, уже никого не удивишь. Да и странно, если б его не было. Как могли люди, считающие себя образованнее и умнее, терпеть самодурство восточного деспота на русском троне и жить в постоянном страхе ареста? Вон нацистская верхушка решила избавиться от Гитлера. Неужели в советской верхушке не нашлось никого, кто мог решиться на устранение Сталина?
Высказывать подобные предположения — никакая не интеллектуальная доблесть, это одна из исторических гипотез. Видеть же в трезвом взгляде на политические сталинские процессы пропаганду сталинизма могут только герои самого Кантора, которых он намеренно снабдил мозгом с единственной извилиной. В реальной жизни подобные особи почти повсеместно вымерли.
Что касается самой войны — то ее изображение лежит в русле советской военной традиции. Вон и Виктор Топоров, горячий поклонник романа, заметил, что роман Кантора возвращает нас «на новом историческом этапе к монументальным художественным полотнам Константина Симонова и Василия Гроссмана, а также в какой-то мере Алексея Толстого». Я не уверена, что это для Кантора звучит как комплимент.
Еще Топоров поставил в заслугу Кантору, что он отвергает «черно-белый взгляд на историю». Очень хорошо: кто ж за черно-белый взгляд? Но тогда вопрос: почему новейшую историю Кантор видит только в черно-белом свете?
Для толпы, выгруженной из автобусов, чтобы участвовать в пропутинском митинге, Кантор находит слова сочувствия и сострадания. Как же — простой народ. Назвать этих людей анчоусами — непростительный снобизм. Но назвать сотню тысяч людей, вышедших на Болотную, ворами и прислужниками воров — это нормально. Сказать, что этих людей «сплотила сегодня не жажда равенства, но осознанное требование неравенства...» — это тоже нормально.
Но что-то мне не помнится ни одного лозунга на Болотной, требующего неравенства. А вот лозунги в защиту свободы — были. И неужели чувство собственного достоинства, которое вывело многих людей на площадь, нежелание быть пешкой, которой манипулируют — это такое постыдное чувство? Оно заслуживает насмешки? А те, кто кричат по команде дирижера «Труд, мир, Путин» — заслуживают всяческого сочувствия, они ведь за равенство.
В конце романа Соломон Рихтер, мало действующий, но несомненно самый любимый, идеальный герой автора, попав в лагерь по доносу друга, пишет ему мужественное письмо. Среди прочего там есть гимн в защиту равенства, там, наконец, обосновывается название романа: Соломон Рихтер сколько достанет сил готов защищать равенство и строить мир равных. Он знает, что это опасный путь, но хочет видеть перед собой «красный свет опасности и идти на красный свет».
Парадокс в том, что Соломон Рихтер находится в лагере, где и переживает состояние равенства с другими. Его не смущает, что провозглашаемое им равенство слишком похоже на шигалевщину, придуманную Достоевским: равенство в рабстве. Его не смущает, что критики коммунизма говорят о возможности равенства лишь в нищете.
Для Кантора дихотомия ХХ века — это идея равенства, противостоящая идее иерархии. Коммунизм не осуществил идею равенства и справедливости, но он ее провозгласил. Поэтому у него ничего не может быть общего с фашизмом, отстаивающим идею иерархии. Зато фашизм и демократию объединяет наличие иерархии.
Но это ложная дихотомия. Идеям справедливости и равенства противостоят вовсе не идеи неравенства и несправедливости. Их никто и никогда не выдвигал как принцип общественного строительства (это навет Кантора, что митингующих вывело на Болотную площадь требование неравенства). Позитивной идее равенства и справедливости противостоит другая позитивная идея: свободы. Но этой дихотомии Кантор видеть не хочет.
[1] <; .
[2] Латынина А. «Я пишу картины, которые взорвут общество». — «Новый мир», 2006, № 12.
[3] Кантор Максим. Красный свет. М., «АСТ», 2013.
[4] <; .
[5] Мартын Ганин. Не очень красный свет <; .
[6] <; .
[7] «Литературная Россия», 2013, № 23, 7 июня.
[8] «Российская газета», 2013, 23 апреля <-site.html> .
[9] <-online.ru/page/no-title-1> .
Буратино русской поэзии
Юрьев Олег Александрович родился в Ленинграде в 1959 году
Юрьев Олег Александрович родился в Ленинграде в 1959 году. Закончил Ленинградский финансово-экономический институт. C 1991 года — в Германии (Франкфурт-на-Майне). Автор книг драматургии, прозы, нескольких сборников стихов, многих публикаций в периодике; значительная часть произведений издана (а пьес — поставлена) также по-немецки. В начале 1990-х — один из ведущих авторов литературной программы «Поверх барьеров» (Радио Свобода). Один из основателей литературной группы «Камера хранения» (1985), куратор одноименного интернет-проекта. Лауреат Премии имени Хильды Домин (2010), присуждаемой в Германии писателям-эмигрантам, и премии журнала «Звезда» (2012).
1. Немного о Нельдихене, 1891 г. р., русском, из интеллигентов
Свершилось! Дожили, не иначе, до морковкина заговенья : Главдурак русской поэзии снова с нами! Не зря, видно, Сергей Евгеньевич Н е льдихен (1891 — 1942), русский, из интеллигентов, до революции — студент, хаживал, говорят, с этой, я бы сказал грубо, морквой в нагрудном кармане пиджака на заседания петроградского литобъединения «Звучащая раковина»! А не домой и не на суп , как удачно выразился Главпоэт советской эпохи .
Итак, московское издательство «ОГИ» выпустило толстенный том [1] , содержащий, помимо собственных литературных и административных, так сказать, сочинений Нельдихена (автобиографии, анкеты, отрывки из писем...), множество секундарных материалов — цитат, упоминаний, воспоминаний, отзывов и т. п. Речь идет об утвердившемся в этом издательстве формате своего рода базовой библиотеки в одном томе, позволяющей получить под одной обложкой и текст и контекст. Идеальным изданием этого типа было «Всё» Введенского, подготовленное Анной Герасимовой [2] . Нельдихен — туда же, на ту же полку. Разумеется, я не сравниваю литературного значения Нельдихена со значением Введенского или Вагинова (выпущенного там же и тем же способом) [3] ; Нельдихен интересен, поучителен, забавен, Нельдихен, несомненно, исторически важен, у него, несомненно, есть хорошие и даже очень хорошие стихи. Введенский и Вагинов — великие русские поэты.
Сергей Нельдихен-Ауслендер [4] родился в Таганроге, в семье отставного генерала по медицинской части: «Отец мой садился рядом со мною. / Рассказывал неинтересное / О каких-то своих турецких походах» — из самого, пожалуй, удачного его сочинения, «поэморомана» «Праздник (Илья Радалёт)».
Учился в военном училище, закончил Харьковский университет по физико-математическому (?) отделению, был на войне, совершил «самострел», позже служил «лейтенантом» на Балтфлоте. Впрочем, к сведениям, почерпнутым из нельдихенских сочинений и официальных анкет, следует относиться со всевозможной осторожностью — это очевидно уже на простом сравнении вышесказанного с данными анкеты, вынесенными в заголовок настоящей главки: отставные генералы по раннесоветским понятиям «интеллигентами» никак не являются!
Во всяком случае, в 1918 году Нельдихен появляется в Петербурге и в кругу Гумилева. Первая его книжечка, «Ось» (1919, напечатана, но, кажется, не поступила в продажу), написана типичными пост- и околоакмеистическими стихами, частично не очень уклюжими, но с приятными неожиданностями в темах и поворотах. Открывающий ее стихотворный наскок на Ульянова-Ленина (Нельдихен дразнит его «калмыком», как позже Мандельштам дразнил Сталина-Джугашвили «осетином») сделался даже отчасти знаменит среди молодых петроградских поэтов. А когда, в результате знакомства с Корнеем Чуковским и его переводами из Уитмена, Нельдихен перешел на «свободный» стих, называемый им также «уитменовским» и «библейским», на время заинтриговалась и старшая литературная публика.
Тут и стряслась легендарная история с его приемом в Цех поэтов и предваряющей речью Гумилева: «Все великие поэты мира, существовавшие до сих пор, были умнейшими людьми своего времени. <...> Но вот свершилось чудо, — явился Нельдихен — поэт-дурак. И создал новую поэзию, до него неведомую — поэзию дураков» [5] .
2. Немного о дураках
Конечно, мы не станем обсуждать личную глупость или неглупость С. Е. Нельдихена — она нас так и так не касается, да и нет у нас определений, позволяющих использовать это понятие формализованным образом. По моему личному, вполне необязательному ощущению, дураком Нельдихен не был, не был и Аристотелем — был совершенно нормальным молодым человеком своего времени с совершенно нормальными умственными способностями. Несколько деревянным, быть может, — эдакий богемный Буратино, вечно стремящийся в обетованную землю со специально оборудованным под него театром и вечно попадающий в Страну Дураков. И конечно же, был он чудовищно запутан и раскоординирован обрушением мира, в котором родился и вырос. Пережившие обрушение советской цивилизации хорошо знают этот феномен — куда бежать, что делать, что и как говорить? Не полагается ли говорить о себе то, о чем в «цивилизованные времена» полагалось умалчивать? — все правила отменены и введены новые, практически неизвестные, можно вроде бы все, но с неизвестными последствиями, иногда роковыми, почему жители большей частью и кажутся (себе тоже) идиотами. Не иначе было после октябрьского переворота.
Нельдихен, навеки уязвленный речью Гумилева (которого, кстати, описал хорошо и пластично в одной из своих попыток воспоминаний), всю жизнь размышлял об уме и глупости. Ему ничего не оставалось, как напирать на то, что это, дескать, не он, не автор, дурак, а его герой:
Поэт прочел стихи о носе, о воришке,
Недобродетельную бросил мысль —
И заглянули все в лицо поэта.
Прочел прозаик —
Никто его воришкой не назвал.
Он может высказать все, что захочет,
От имени героя своего рассказа, —
И лично к автору никто не придерется.
Легко прозаику!
o:p/
(«Поэт и прозаик») o:p/
Кстати, иногда, по ходу этого постоянного и, вероятно, мучительного размышления над феноменом глупости — литературной глупости и глупости вообще, — вдруг возникают у Нельдихена пронзительные проникновения в суть вещей: «Рубить сук, на котором сам сидишь — Это даже не глупость, а естественная потребность интеллигента».
Впрочем, обсуждать глупость «лирического героя» мы тоже не станем. Надо еще доказать, что таковой у Нельдихена имеется. При исчезающе малом расстоянии от реального человека до говорящего «я» в стихах Нельдихена — собственно, во всех стихах Нельдихена, а не только в нескольких знаменитых! — лично я бы не взялся их разделять. О «масочности» же, о какой-то «дурацкой машкере», говорить в данном случае и вовсе не приходится. «Маска» — это, например, Козьма Прутков, поэт-персонаж, далеко отстоящий от своих создателей. Нельдихен говорящего персонажа не создает и себя превратить в персонажа отнюдь не стремится, более чем бережно относясь к своей авторской персоне.
Но оставим это: в конечном итоге дело вовсе не в том, кто глуп , автор, лирический герой или маска, а в том, что это за глупость !
Глупость в стихах Нельдихена — не личная, а культурно-коллективная: легкая арцыбашевщина, помноженная на будем-как-солнце и я-гений-Игорь-Северянин . Речь идет о типе человека, созданном бытовым декадентством первых двух десятилетий XX века с его восторженным эротизмом и культом исключительной личности [6] . Если бы обнаружились совсем ранние стихи Нельдихена, то они были бы «под Северянина» (хотя сам он утверждал, что они были «под Надсона»), почему-то мне так кажется. Это глупость почти что уже почетная, породистая. Кое-кто из участников Цеха и сам через нее прошел (возьмем хоть Георгия Иванова, начинавшего с эгофутуристами).
Соединим Северянина, не столько в его словообразовательных формах, сколько в саморекламной позиции маленького невзрачного человека, объявляющего себя «учителем человечества», солнечным богом и т. п., с торжественными антикизирующими или библеизирущими ритмами и сложносоставными словами, как бы псевдогрецизмами, и мы сходу получим Нельдихена эпохи его короткой славы.
Следует, однако, понимать «литературно-бытовую» реальность гумилевского высказывания. Оно было бы колоссальным комплиментом — дураков-то на свете много, но в первый раз в истории человечества (!!!) дурак пишет хорошие стихи! — если бы речь не шла о типичной «телеге», «прогнанной» по случаю театрализованного приема нашего героя в Цех поэтов. Думаю, заподозри Гумилев хотя бы на мгновение, что эпизод этот с легкой руки недавно осевшего в Петрограде и лишенного всякого чувства юмора Ходасевича [7] пойдет гулять по белу свету, он бы раз десять еще подумал, прежде чем высказаться таким образом: в стране, несколько лет валявшейся в пыли под ногами Игоря Северянина [8] и учившей наизусть его поэзы (у которых не отнимешь ни поэтических достоинств, ни тяжелой безвкусицы и полной ерундовости), говорить о каком-то открытии Нельдихеном поэзии, отражающей «мир дураков», было, конечно, смешно. Оно и должно было быть смешно. И даже... не побоюсь этого слова: глупо.
Однако же, высказывание Гумилева, как это иногда происходит с высказываниями, ложными по своему непосредственному приложению, но проявляющими некую непроизвольную зоркость, оказалось своего рода прорицанием. И даже двойным прорицанием. К Нельдихену оно имеет скорее опосредованное отношение, но, на мой взгляд, само по себе очень интересно.
3. Двойное прорицание Гумилева (отступление)
Во-первых, это прорицание о советской литературе. Советская литература есть литература принципиальной ограниченности , которая, как известно, является одним из словарных синонимов глупости. Эта литература заранее отсекает [9] определенные возможности, ходы и представления, недоступные, с ее точки зрения, или «вредные» для ее читателя, и существует таким образом в принципиально ограниченном мире. Она отражает (и порождает, вероятно) человеческий тип, выведенный советской цивилизацией. В различных вариантах он сохранился до конца советской эпохи и вполне ее пережил (...еще плодоносить способно чрево...) . Но в рамках собственно «советского периода», вне зависимости от личных версификационных дарований и «политической составляющей», тип этот является преобладающим для подцензурной литературы. Советская литература, взятая в исторической развертке как общественно-культурное явление, и есть литература (для) «большинства человечества», по выражению Гумилева — литература (для) дураков . Кающийся интеллигент Олеша мог бы провозгласить это как определение социалистического реализма на Первом съезде писателей. Но не стал. Не так был глуп.
Вторым, альтернативным прорицанием Гумилева можно считать предсказание Олейникова, который и точно работал с «миром дураков», хотя, конечно, не изнутри , как его полноправный участник (был, как известно, умен и зол, как змей!), а снаружи , но отнюдь и не в смысле простой масочности и стихового сказа, как считала Л. Я. Гинзбург, а гораздо сложнее: как с образным и риторическим средством.
Поздний Олейников с его торжественными ритмами, Олейников, наконец-то поверивший в собственную поэзию («Хвала тому, кто первый начал называть котов и кошек человеческими именами, / Кто дал жукам названия точильщиков, могильщиков и дровосеков...»), действительно бывает интонационно похож на Нельдихена («Женщины, двухсполовинойаршинные куклы, / Хохочущие, бугристотелые, / Мягкогубые, прозрачноглазые, каштанововолосые. <...> О как волнуют меня такие женщины!»).
Конечно, не приходится сомневаться, что и Олейников, и Заболоцкий (которому вдобавок приходилось бороться с сидевшим в нем «Карлушей Миллером», автором-персонажем прутковского типа) знали основные стихи Нельдихена и не могли их не знать. Введенский и Липавский, по свидетельству Якова Друскина, с ним одно время дружили. Но мало ли кто их знал, эти стихи? — в Ленинграде, вероятно, все литературные люди. О Нельдихене вообще не стоит говорить как о «забытом поэте» (вплоть и до нашего времени — все, кому он был нужен, его знали) — скорее, как о неотрефлектированном поэте, поэте, с самого начала не введенном в общую историческую систему русской поэзии (поскольку его сначала ввели в компанию Гомеров и Дантов, а потом выбросили, как сломанную деревянную игрушку). Речь, однако, ни в коем случае не идет о каком-то «влиянии» — речь идет о сходстве, возникающем из типологически сходных речевых обстоятельств.
Конечно, в восприятии Олейникова знаменитая статья Л. Я. Гинзбург [10] , апострофировавшая его как «борца с мещанством», переигравшего в стихи галантерейный язык Зощенко, сыграла почти такую же роковую роль, как шутка Гумилева в судьбе Нельдихена. Зачем Олейникову в непечатающихся, не предназначенных для печати и непечатных стихах бороться с мещанской стихией? Он «боролся» со своими друзьями — гениями.
Интересно, однако, несколько ближе рассмотреть упомянутое типологическое сходство позднего Олейникова и раннего Нельдихена. Речь, в сущности, идет о выведении на поверхность все того же среднего человека эпохи Северянина и Арцыбашева (но и Мариенгофа или Туфанова). Нельдихен выводит его впрямую, да он и сам им является . Ранний Олейников пародирует своих обэриутских друзей, которые в свой черед осмеивают (в смысле высокой пародии) «театр символизма», оставаясь при этом его плотью и кровью, то есть он пародирует пародию . Один из методов этой обэриутской высокой пародии — деперсонализация, исключение или выведение на край зрения собственного «я»: возвышенность и значительность символизма провисают и обвисают, как платье на шестке, и оказываются нервно-веселящей высокопарностью и трагикомическим безумием. Но Олейников упорно тыкал Хармса, Введенского (в большей степени), Заболоцкого (в меньшей) в то, что остается по отстранении собственной личности и полного сдутия и оседания «символов»: на виду остается предреволюционный, он же раннесоветский хам, пошляк и графоман [11] . Олейниковские длинные эпиграммы — корректив и комментарий обэриутского театра, они как бы говорят: это все есть и в вас, и в нас, как ни меняй фамилии.
«Перемена фамилии» — главный документ этой возвратной персонализации обэриутского мироздания [12] . Ответ на него — в «Старухе» Хармса с ее, впрочем очень мягкой, карикатурой на карикатуриста (считается, что сардонический друг рассказчика Сакердон Михайлович — это Олейников). Здесь демонстрируется собственный, не отраженный из «старой культуры» мистический потенциал убогого советского быта. Хармс как бы говорит: надо дойти до самого дна и толкнуться вверх. Олейников уже ничего не может ответить: он расстрелян в 1938 году.
Поздний Олейников снимает один уровень пародии, обращается через голову Хармса, Введенского и Заболоцкого непосредственно к маргинально-символистскому человеку (в себе) — и «автоматически» время от времени приходит к нельдихеновской торжественности. Но нельзя, конечно, сравнивать качество этих стихов — у Нельдихена надо выискивать замечательные речевые образы (они есть — те же «прозрачноглазые, каштанововолосые, носящие всевозможные распашонки и матовые висюльки-серьги» женщины), у большого поэта Олейникова все соткано из драгоценной ткани. Да и уровень литературной и философской проблематики, на котором происходило внутреннее общение в кругу «чинарей», был Нельдихену недоступен — мир его, конечно, не является «миром дурака», но как мир «нормального» человека (пусть с чудачествами) его все-таки можно обозначить. В этом нет ничего обидного, собственно, так можно обозначить и поэтический мир Гумилева (несмотря на всю его экзотику), и Ходасевича, и Пастернака. «Чинари» были совсем особой общностью, существовавшей на совсем особом дискурсивном уровне.
4. Судьба дурака
Возможно, неудача литературной судьбы Нельдихена [13] в первую голову связана с неудачным выбором компании, хотя на фоне первых оглушительных успехов поверить в это было трудно. Но, пожалуй, у него и выбора не было: акмеистский круг с самого начала был в значительной степени кругом дворянских детей, родом из «военной интеллигенции» или из обедневших помещичьих родов, что, разумеется, не означало невозможности быть принятым в него... — ну, хотя бы для купеческого сына Мандельштама. Нельдихен был естественно , по воспитанию, по хабитусу за рамками своих несколько деревянных чудачеств [14] , «социально близок», что бы он там ни писал. И его к ним тянуло. Но Буратино нашел себе не тот театр. Ему бы сдружиться с выступившими на завоевание мира провинциалами-футуристами, но за теми еще надо было ехать в тарабарскую столицу — петроградский футуризм почти что прекратился, поскольку перебрался в Москву вслед за перепуганным большевицким [15] начальством, умчавшим от Юденича, как наскипидаренное. У футуристов был инстинкт власти и успеха, у кроткого Нельдихена почти полностью отсутствовавший.
Позже, с гибелью Гумилева и постепенным распадом гумилевского круга, Нельдихен пытается найти себе новую компанию, выступает с имажинистами и тому подобными группами, основанными на стратегии «-изма», но невозможно было сделать карьеру среди (в среде) Мариенгофов и Шершеневичей, которые в смысле торжествующей глупости еще и фору ему могли бы дать (снова подчеркну: и здесь я не о личном уме или глупости названных, речь идет только о текстах) [16] . Да и не нуждались они в Нельдихене, у них, как, впрочем, и у футуристов-лефовцев или конструктивистов, были свои фельдмаршалы и свои генералы. С пехотой вот было плохонько, но на эту роль он никак не годился — г-н поручик всегда шагал не в ногу. Его уже сравнивали с Гомером, Пушкиным и Данте, мог ли он умалиться пред Маяковскими, Есениными и Сельвинскими, не говоря уже о Крученых, Мариенгофах и Чичериных?
Попытался придумать себе собственный «-изм» — «синтетизм», — что вполне нормально для начала 20-х годов, но в 1929 году, когда вышли «Основы литературного синтетизма», было уже неуместно по времени (или несвоевременно по месту) и могло лишь насмешить слуг тарабарского короля, пардон, «победившего пролетариата». Но проблема «синтетизма» не только в этом и даже не в его титанической ерундовости, а в том, что у Нельдихена не было под него товарищей, не говоря уже о последователях. Все, кого он по-человечески, по реакциям и отношениям понимал, и все, кто понимал его, Буратино, сбежавшего от таганрогского папы Карло в генеральских погонах, погибли, или уехали заграницу, или совсем переменились. Или замкнулись в частном кругу, куда ему не было хода. А без этого человеческого взаимопонимания никакие литературные движения и даже группки и школки не образуются. Что ж ему оставалось? Жить как умеет. Умел он плохо. В сущности, и не жил, жизнь его осталась там, в нескольких годах его величайшего успеха и величайшего оскорбления. Не жил, а строил прожекты и надеялся. Грустный, милый, несчастный деревянный человечек в стране литературных бульдогов.
Нельдихен забавен (почему его иногда и считали юмористом) умеренностью своих конкретных претензий при безмерности абстрактных. Это, кстати, и свойство первого «поэта-дурака» (из знаменитых) в истории русской литературы — В. Г. Бенедиктова (и его отражения в первом знаменитом поэте-персонаже этой литературы — Козьме Пруткове, к которому Нельдихен испытывал острый интерес, вероятно, слегка тягостный). В конце концов, ему достаточно, чтобы современники знали его фамилию и не путали ее произношение. Не Нельдихин, а Нельдихен, пожалуйста! Хотя в 1941 году арестованный в Москве как немецкий шпион он, возможно, и пожалел, что папа-генерал не сделался Нельдихиным на манер папы — жандармского полковника, сделавшегося из Вагенгейма Вагиновым. Но папа-Нельдихен был в глубокой отставке (и жил в глубокой провинции), ему это все было ни к чему. Сам Сергей Евгеньевич писал себя в анкетах русским, но лингвистов из НКВД интересовало, вероятно, скорее немецкое звучание фамилии, чем национальность или вероисповедание. В 1942-м Нельдихен погибает в лагере.
Во второй половине 20-х годов мы замечаем некоторую попытку прислужиться [17] , которая, впрочем, быстро сходит на нет — ввиду полной бесперспективности. Репутация его давно и сразу установилась («дурак-графоман», спасибо, Николай Степанович!), и никому не нужен был его переход на «советские позиции». На совсем другом уровне это напоминает случившееся с Мандельштамом в Воронеже (да и со всеми, кто не осознал приоритета формально-эстетического в советской культурной политике): никого не интересовал «внутренний перелом» каких-то сомнительных представителей буржуазной культуры — это уж само собою разумелось. Речь шла о переходе на усредненно-советский способ изложения, понятный «народу» и служащий для его идеологического окормления. И даже научившиеся писать очень плохо процвели не обязательно, да не обязательно и выжили. Карьеры Тихонова или Федина — нисколько не правило.
Литературная работа у Нельдихена в это время была — изложенный стихами устав воинской службы, пара детских книжек, в своем роде даже неплохих, проиллюстрированных ни больше ни меньше как Любовью Поповой, вполне казенных, но далеко, конечно, отстоящих по степени цинизма от детгизовских опусов Введенского или Олейникова (Хармс подходил к этому делу иначе).
В 1931 году Нельдихена отправили на три года в ссылку в Казахстан — практически рутинная процедура применительно к людям его происхождения и занятий, ни о каком особом его значении или об опасениях властей, с ним связанных, она не свидетельствует. Вернувшись, он пытается освоиться в Ленинграде, пишет письма — Николаю Тихонову, например, напоминая начинающему начальнику, как вместе начинали: «Прочти, дорогой Николай Семенович...».
...Дурак? За рамками ритуального надувания щек и выпучивания глаз, полагающихся «мировому гению», человек, напряженно рефлектирующий себя и свою литературу, но не понимающий (а кто и когда это понимает?), что время и для того, и для другой навсегда ( до морковкина заговенья! ) ушло. Пришедший даже к суждению, что каждое следующее серьезное художественное явление начинается с пародии на предыдущее. Каждое — это чересчур, но здесь сказано что-то очень важное для истории литературы русского модернизма, прежде всего для «чинарей», чего мы уже касались. Вряд ли он ходил на заседания ОПОЯЗа (хотя с Эйхенбаумом был знаком и прислал ему из Казахстана рукопись на хранение — поступок трогательно-дурацкий), а даже если ходил и читал, так еще надо было все это понять и применить!
Осознавал свой стих как «библейскую прозу», не отпирался и от Уитмена — искал себе «породу».
После казахской ссылки и неудачной попытки осесть в Ленинграде «под Николай-Семенычем» сумел перебраться в Москву, где его почти никто не знал и не помнил (в его случае несомненное преимущество), прописался, нашел литературную работу и, если бы не война и не немецкая фамилия, дожил бы еще до 70-х годов, как Дмитрий Майзельс, например, с которым он познакомился при первом посещении студии Гумилева.
Уж лучше бы, действительно, сделался Нельдихиным, может, и пронесло бы. В порядке перемены фамилии, перемены судьбы...
5. Немного о нельдихенском стихе
И все же надо, вероятно, коротко остановиться на стихе Нельдихена, который только в небольшой степени был его изобретением и в целом никак не воздействовал на будущее русской версификации, но теоретически очень интересен.
Стих Нельдихена (преимущественно в «Празднике», лучшем, что он написал) есть библеизирующий безрифменный стих, подсмотренный им в переводах Чуковского из Уолта Уитмена. Сознательно не называю этот стих верлибром — пока у «верлибра» не появится положительного определения (что он есть такое, а не чем он не является), я буду считать его теоретически несуществующим, а все, что им на практике написано, по крайней мере все поэтически существенное, — безрифменным акцентным стихом или, скажем, тоническим стихом с 2-4 ударениями. Или белым тактовиком — как хотите.
Проблема — и это серьезная проблема, действующая и сегодня! — русского белого акцентного стиха всегда состояла в низком литературном качестве Синодального перевода Библии, на который он исторически опирался (к нему же восходит и Уитмен Чуковского). Покойная Эльга Львовна Линецкая, бывало, замечала на занятиях переводческого семинара при ленинградском Доме писателей: «Библейские цитаты мы, к сожалению , обязаны давать по Синодальному переводу». Обычно для возвышенности библеизирующие тексты уснащаются по-русски церковнославянизмами. Нельдихена в детстве русской церковной службой и Законом Божьим, очевидно, не мучали (все же семья была, скорее всего, не православная, а, вероятнее всего, лютеранская), поэтому церковнославянизмы он систематически заменяет своего рода грецизмами, сложносоставными словами, напоминающими о гомеровских переводах, — так сказать, личный его вклад в этот стих. Да и некоторые стихотворения, особенно краткостопные, свидетельствуют о знакомстве с хорошими переводами с греческого. Вот, например, прелестные элегические трехстишия:
Бирюзою перстня божьего
Небо нынче не заткнуто, —
Небо серое.
Но зато и в бурю осенью
На деревьях загорелых
Листья солнятся.
В городах во время праздника
Марш дудит солдатскошагий; —
Разве весело?
<...>
Даже северяниноподобное «солнятся» можно простить этому веселому стишку!
Библейский стих (Нельдихен называет его «библейской прозой») соблазнял не одного Чуковского и не одного Нельдихена. Возьмем, к примеру, сочинение легендарного (в свое время в Тифлисе) графомана или, лучше скажем так — «естественного поэта» Константина Гургенова [18] :
1
Вот и я, один, всюду тишина.
Страшная кругом меня картина:
Все спит, как будто сном непробудимым,
Ничто не дрогнет предо мной,
Чтоб жизнь мне прошлую напомнить,
В глубокой алой гуще крови,
Лежат рабы покорные земли.
<...>
7
Сначала страшной и жалкой
Казалась картина эта мне,
Затем, спустя минуты две,
Я стал свыкаться с обстановкой
И стал не так уж жалким,
И много добрым к ним;
Так как с этого момента
Меня другое стало занимать:
Но что ж мне оставалось делать?
Видя вокруг себя и серебро и злато,
И как не забирать мне
Несметное богатство,
Оставшееся не по праву,
Земле сырой наследством.
Что бы, интересно, сказал Николай Степанович Гумилев, если бы вздумал принимать Гургенова в Цех поэтов. Не вздумал бы? Пожалуй, но вполне уверенным быть нельзя. Так-то это действительно покруче Данте будет — Данте, скорее всего, не пришло бы в голову в качестве, так сказать, завершения апокалипсиса пойти пошарить по карманам у покойников. Но мы сейчас все же о стихе. Отстранимся от того, что Гургенов ко всем своим прочим достоинствам был нетверд в русском языке и русском стихосложении, и взглянем на результат: так ли он далек от «библейских» стихов Нельдихена, который в русском языке и русском стихосложении был вполне тверд? В версификационном смысле — за исключением длины строки — не так уж и далек, но разница между ним и Нельдихеном очевидна: последний иногда демонстрирует такое упоение текстом и такое форсирование его непроизвольно-комических сторон до самодействующих поэтических образов, какого действительно «наивные поэты» сами никогда не достигают, поскольку упоены не текстом, а словами — или собой, что, впрочем, одно и то же. Здесь проходит граница. Еще одна граница, на марш выше, — граница между Нельдихеном и Олейниковым: между непроизвольным (и талантливым) комизмом серьезного, фиксированного на себе человека и сознательной, по крайней мере художественно дистанцированной работой с «естественным человеком» (в том числе, конечно, и в себе).
6. Вместо заключения
Что можно сказать в заключение?
Замечательно, что книга эта вышла, качественно подготовленная и любовно оформленная. Закрытие некоторых историко-литературных позиций, десятилетиями зияющих, совершенно необходимо. Введение в историко-литературный оборот «одиночек» (а у нас остаются, кажется, только одиночки), обсуждение их места и значения в истории русской литературы, просто знакомство с ними как с людьми в реальных исторических обстоятельствах (и тут «контекст» нашего издания бесценен) — необходимы тоже. Не для «возвращения поэта» и не для «просвещения публики» — как я уже сказал, все, кому Нельдихен или кто-либо еще, пусть Тихон Чурилин или Владимир Макаввейский, действительно были очень нужны, даже и в советские времена имели возможность их найти [19] . Речь идет об объемности, разноречивости, сложности образа этой необыкновенно богатой (и в массовом восприятии, ограниченном официозом и антиофициозом советского времени, необыкновенно бедной) литературы. История русской литературы должна непрерывно расширяться во все стороны, иначе она не Вселенная. А она — Вселенная.
Вопрос «глупости» в литературе — первичной (Гургенов), вторичной (Нельдихен) и третичной (Олейников), как индивидуальной, так и коллективной, — требует дальнейшего рассмотрения и углубления, снова являясь одним из актуальных вопросов нашей словесности — в первую очередь, из-за разлаженной межчеловеческой коммуникации и так и не установившихся за постсоветские десятилетия закономерностей поведения и взгляда на вещи. Мы попытались об этом подумать, будем думать и дальше.
Жизнь Сергея Евгеньевича Нельдихена — необходимый комментарий к литературной истории (не совсем то же самое, что история литературы), очередная невозможная возможность, очередной вдох тарабарского воздуха. Время от времени такой вдох необходим нам всем — чтоб не думали, что сильно умные. В каждом из нас есть этот потерянный Буратино, его нужно лишь позвать из мрака.
Стих Нельдихена (если, конечно, не мифологизировать его достижений) — важное и интересное примечание к истории русского стиха ХХ века. Но есть у него и несколько текстов [20] , оставшихся живыми вне зависимости от их историко-литературного и литературоведческого интереса, — а это много, очень много. Остаться в русской поэзии хотя бы несколькими стихотворениями, хотя бы несколькими строчками — высокая доля, не искупающая нелепой и трагической жизни (а чья жизнь не такова?), но наполняющая наши сердца бесконечной благодарностью.
Спасибо Вам, Сергей Нельдихен, умненький Буратино из Страны Дураков. Теперь мы больше знаем, любим и понимаем Вас — Вам это давно безразлично, а для нас означает расширение и углубление нашего мира!
Бамберг, июль 2013 г.
[1] Нельдихен С. Е. Органное многоголосье. Составление, подготовка текстов, примечание и подбор иллюстраций Максима Амелина. Вступительная статья Данилы Давыдова. М., «ОГИ», 2013. Все дальнейшие цитаты из произведений Нельдихена и упоминания или описания этих произведений опираются на это издание.
[2] Введенский А. И. Всё. Составление А. Герасимовой. М., «ОГИ», 2010.
[3] Вагинов К. К. Песня слов.Составление, подготовка текста, вступительная статья и примечания А. Герасимовой. М., «ОГИ», 2012.
[4] Ауслендера откинул, входя в литературную жизнь, вероятно, чтобы не смешивали с писателем Сергеем Ауслендером, племянником Михаила Кузмина. Кстати (само по себе совершенно неважно, но для колорита), все известные мне Ауслендеры были евреями — и отец племянника Кузмина, и черновицкая поэтесса Роза Ауслендер. Ничего не утверждаю, но вполне возможно, что бывший начальник тифлисского лазарета происходил из крещеных евреев, как и бывший жандармский полковник Вагенгейм (установлено Алексеем Дмитренко, см. соответствующую статью в вышеобозначенном издании Вагинова).
[5] Цит. с выпусками: по нашему изданию (стр. 417 — 418). Источник: Чуков- ский Н. К. Николай Гумилев. — В кн.: Чуковский Н. К. Литературные воспоминания. М., 1989.
[6] Это, собственно, родовая мета бытового декадентства. В. И. Шубинский в своей статье «Дурацкая Машкера» <; цитирует письмо Брюсова Льву Толстому: «Меня не удивило, что Вы не упомянули моего имени в длинном списке Ваших предшественников, потому что несомненно Вы и не знали моих воззрений на искусство. Между тем именно я должен был занять в этом списке первое место, потому что мои взгляды почти буквально совпадают с Вашими. <…> Вам легко поправить свою невольную ошибку, сделавши примечание ко второй половине статьи, или к ее отдельному изданию, или, наконец, особым письмом в газетах» и справедливо отмечает, что Брюсов был человек неглупый и довольно корректный, а тут сморозил... Вера в массированную саморекламу возникла вместе с массовой рекламой как таковой. С конца ХIХ века, и, понятно, не только в России, начинающие литераторы, кто поглупей, сделались убеждены, что многократное говорение мантры «я-гений-игорь-северянин» вознесет их на «пьедестал», хотя бы на время. И в целом, не ошибались.
[7] А когда Ходасевич спросил его, зачем он так зло шутит, что должен был Гумилев на это ответить? Что да, шутит, устраивает слегка ернические церемонии в целях собственного и учеников своих развлечения в голодные и холодные времена? Мне кажется, психологически это совершенно невозможно. Ходасевич, воспитанник московских символистов, вообще плохо понимал тон петербургского литературного общения.
[8] Не говоря уже о Бальмонте, чье двустишие «Но мерзок сердцу облик идиота, / И глупости я не могу понять» Гумилев лукаво цитировал. Бальмонт был талантливый поэт с большими заслугами, но многие его стихи неумны почти до слабоумия.
[9] Ей отсекают, а она соглашается с отсечением и сама научается себе отсекать, и не единственно потому что желает публиковаться, ездить в дома творчества и получать заказы в столе заказов «для писателей», но и потому что верит, что «служит народу», для которого-де ее обрезки и огрызки лучше, чем ничего. И верит в конце концов в правоту отсечения — «слишком сложное» «народ» не поймет, а для него же мы и пишем, не для себя же...
[10] Гинзбург Л. Я. Николай Олейников — В кн.: Олейников Н. М. Стихотворения и поэмы. Вступительная статья Л. Я. Гинзбург. Биографический очерк, составление, подготовка текста и примечания А. Н. Олейникова. СПб., «Академический проект», 2000 («Новая Библиотека поэта»).
[11] Ср.: «Птичка скачет, птичка вьется / Под названием скворца, / Из уст сладка песня льется / На унылые сердца» (Л. Лундин. «Вестник весны», цит. по чрезвычайно богатой и интересной по материалу статье Олега Лекманова «Русская поэзия в 1913 году. Часть I». — «Новое литературное обозрение», 2013, № 119, стр. 147). На этом маленьком примере мы видим заодно, что в источники Олейникова не стоит записывать то одного, то другого «несправедливо забытого стихотворца», как это нынче любят, — его непосредственные источники, по крайней мере в первом периоде его стихописания, — справедливо забытые стихотворцы.
[12] «Пойду я в контору „Известий”, / Внесу восемнадцать рублей / И там навсегда распрощаюсь / С фамилией прежней моей. // Козловым я был Александром, / А больше им быть не хочу. / Зовите Орловым Никандром, / За это я деньги плачу...» (1934).
[13] Я не имею в виду отсутствие советских литуспехов — само по себе это скорее о нем хорошо говорит. Я имею в виду его сомнительную и постепенно исчезающую литературную репутацию.
[14] Вроде упомянутой морковки в кармане или подачи объявления в газеты об утере чемодана с рукописями, которого никогда не существовало, — для рекламы, как он объяснял.
[15] Это не для вящей противности. Просто-напросто в русском языке не существует слова «большевист» (в отличие, скажем, от немецкого), а слово «большевик» существует. Как-то это дико — производить прилагательные от несуществующих существительных.
[16] Преимущественно в стихах; проза Мариенгофа — особая статья, нашедшая свою вершину в малоизвестном и более чем замечательном романе «Екатерина». Любопытно, что закончил он афоризмами, в каком-то особом сочетании чуши и глубины недалеко ушедшими от афоризмов Нельдихена.
[17] «Это уже история — семнадцатый год, / Это уже бесспорное геройство...», «Верстать учебники по истории человечества / Способен лучше всех пролетарий».
[18] В кн.: «Стихотворения Константина Гургенова». М., Товарищество скоропеч. А. А. Левенсон, 1907, стр. 51, 54.
[19] Речь, конечно, идет только об опубликованных авторах. В больших библиотеках, в той же Публичной в Ленинграде или Ленинской в Москве, можно было найти редкие книжечки, журналы и альманахи, да и в букинистах они бывали. Конечно, нужно было сначала что-то о них знать , но для этого служили литературные мемуары и воспоминания, довольно обильно выпускавшиеся в Советском Союзе, да и личные контакты с людьми «того времени» — к ним стремились. Особый и уникальный случай — проникновение в читательский обиход ненапечатанных поэтов — Хармса, Введенского, Олейникова, за что вечная благодарность и Якову Друскину, сохранившему архив Хармса, и тем, кто обеспечил распространение этих текстов.
[20] Многие номера из «поэморомана» (что за нелепое слово!) «Праздник (Илья Радалёт)» — «...Сегодня день моего рожденья; / Мои родители, люди самые обыкновенные...»; «Орган выдыхает круглый воздух...» («круглый воздух» — очень хорошо!), о хохочущих бугристотелых женщинах. Еще, например, «Детское» («Кого ты, тетя, больше всего любишь из вещей?..» ) или уже цитировавшиеся стихи «Бирюзою перстня божьего...». Впрочем, вот она, книжка, — каждый может выбрать свое.
Василий Белов: опыт разлома
Журов Александр Вячеславович — литературный критик. Родился в 1987 году в городе Железногорске, Курская область. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Печатался в журналах «Волга», «Литературная учеба», «Новый мир». Живет в Москве.
Другой мир
Читать Белова сегодня несколько странно. Поначалу то проваливаешься в текст, то спотыкаешься о корягу неизвестного наречия: словно идешь по болотистой местности. Чтение его прозы дает опыт иного — мира, течения, жизни. Со временем это иное все труднее опознается нами как свое, однако оно никуда не исчезает и просматривается в мутной глубине прошлого. Белов обозначил, зафиксировал точку, в которой переломилось сознание целой эпохи. Страна, надломленная еще где-то там — в XVII веке. Страна, взрастившая в этом надломе великую культуру и похоронившая ее же в слое жирного чернозема, из которого до сих пор выглядывают обломки великих идей. Страна, треснувшая по швам и наскоро сшитая неумелыми руками новой власти. Страна, извечно ищущая свободы под знаменами деспотии (или наоборот?). Страна вечного раскола, до сих пор парадоксальным образом избегающая своей гибели. Белов ее слышит и дает возможность услышать нам.
От современного читателя тексты Василия Белова отстоят на дистанцию даже большую, чем классическая литература XIX века. Главная причина в том, что классика имеет совершенно иную степень открытости миру. Белов же, в первую очередь, писатель национальный. И придется признать его провинциальность, намеренную, нарочитую ограниченность русским миром, как точкой сборки писательского и человеческого «я». Но в этой провинциальности можно увидеть не недостаток, а достоинство и своеобразие. Иначе понять Белова будет трудно. Но здесь же необходимо сказать: «русскость» Белова направлена в прошлое, она питается им, растет в нем, и она же ставит под вопрос будущее, потому что сознательно отворачивается и не видит его, она словно запинается, обращается в память, окутанную облаком усталости. Именно это отличает Белова от литературы классической, с недоумением, может быть, даже горько, но бодро вопрошавшей: «Русь, куда ж несешься ты?».
Для нашего глаза и слуха мир, которому дал заговорить Белов, практически закрыт, герметичен. Обилие диалектной и просторечной лексики, сама интонация — окающая, врывающаяся в течение сюжета — намеренно сопротивляются слишком легкому проникновению. Это крестьянская проза по самой своей сути, то есть не потому, что она о крестьянах, а потому, что говорит их языком.
Большая литературная традиция, которой Белов наследует, у него не просто использует деревенскую тему как одну из возможных — она сама трансформируется под тяжестью крестьянского мира и языка. В этом смысле Белов в лучших своих вещах продолжает Шолохова и перекликается с Клычковым, Есениным, Павлом Васильевым.
Вплоть до начала XX века язык крестьянского мира никогда не пытался выйти за свои пределы. Он был окаймлен размеренным ходом крестьянской жизни, замкнут на самом себе и не искал иного. Это было фольклорное, устное творчество, которое периодически подпитывало большую культуру, но само всегда оставалось лишь продолжением непосредственной жизнедеятельности, быта крестьянской деревни. У Белова этот тип творчества воспроизводится и вполне объективистски (в народных частушках, сказках, бухтинах, вплетенных в текст) — как бы со стороны, и через речь персонажей, и непосредственно вторгаясь в авторскую речь. Описывая крестьянский мир, Белов неизбежно выходит за его пределы, смотрит извне, но при этом остается внутри. Это раздвоение хорошо видно в «Плотницких рассказах»: «Память тасует мою биографию, словно партнер по преферансу карточную колоду» [1] — усредненное советское интеллигентское письмо, вполне обоснованное образом рассказчика — бывшего крестьянина, а ныне городского жителя Константина Зорина, существует в языковом пространстве, полностью созданном крестьянским говором. Наибольшей силы авторский голос Белова достигает как раз благодаря простонародному языку, который оживляет литературную норму.
Потребовался XX век, чтобы крестьянин заговорил не только для себя, но и для другого, чтобы речь его стала литературой, освободилась от быта и зазвучала в пространстве культуры. Но это была не речь, а погребальная песня: этот же век, дав крестьянству голос, смял, раздавил, уничтожил его мир — мир крестьянской общины. Однако только в расколе этот мир и смог обрести свой язык. Он научился смотреть на себя со стороны, рефлексировать, рассказывать о себе, используя приемы литературы. И он впервые осознал свою смерть. Смерть, потерявшую анонимность, переставшую быть просто частью естественного цикла. Она стала подлинным опытом вторжения иного, опытом нарушения, опытом прерывания, опытом исчезновения. Смерть стала личной, единственной, она разверзлась и поглотила этот заговоривший мир, выйдя за пределы сельскохозяйственного круга. Именно поэтому смерть, в самых разных своих обличиях, стала главной темой всей так называемой «деревенской прозы», и Белов здесь не исключение.
Уходящий крестьянский мир попытался поставить себе на службу большую культуру. Крестьянин заговорил на ее языке, но лишь для того, чтобы высказать, наконец, себя, вплести свою интонацию в традицию печатного слова.
Час шестый
Трилогию «Час шестый» Белов создавал в общей сложности около 26 лет. Первая часть — роман «Кануны» — писалась с 1972 по 1984 [2] год. С 1988 по 1994-й, в период развала Советского Союза, была написана вторая часть — «Год великого перелома» [3] . Последняя — «Час шестый», давшая название всей трилогии, написана — с 1997 по 1998 год [4] . Вероятно, неслучайно произведения, описывающие смутные времена первой половины прошлого века, даже временем своего создания срифмовались с очередной русской смутой. В трилогии Белов попытался наиболее полно и законченно выразить свою главную тему — трагедию русского крестьянства. К ней стягиваются все основные нити его поисков, здесь он затрагивает самые болезненные вопросы.
Поставленная художественная задача потребовала от писателя несколько иного подхода, чем в рассказах или повестях. Например, «Привычное дело» [5] — это в большей степени личное проникновение в жизнь деревни, взгляд изнутри, и хотя автор отстраняется и выходит за пределы описываемого мира — например тем, что ведет рассказ от третьего лица, дистанция между ним и его героями минимальна. Естественно, что написание трилогии «Час шестый» потребовало изменения точки видения, точнее, совмещения нескольких. Легко заметить (хотя бы по главам, описывающим историю партийной верхушки), что Белов много работал с историческими материалами в процессе создания трилогии. Поэтому повествование имеет более широкое социально-нравственное измерение. Личный опыт и открыто заявленная попытка социального осмысления сталкиваются в пространстве романов, образуя новый, более масштабный, нежели в рассказах или повестях, рисунок.
В трилогии четко представлены персонажи, принадлежащие конкретным социальным группам, и несоответствие между личным и тем социальным, которое навязывает советская идеология, становится одним из инструментов для того, чтобы показать абсурдность политики коллективизации, а вместе с ней и природу идеологического высказывания, которое по форме стремится к нерушимости и безальтернативности, а по сути зависает в воздухе и оказывается совершенно пустым.
Игнаха Сопронов — сквозной персонаж трилогии, крестьянин-бедняк, который в идеологической системе советской власти должен стать (и становится) одной из опор нового мира. Он носитель справедливости, обновления, живое воплощение народа, получившего свободу, землю и готового устраивать рай на земле. Белов сталкивает это идеологическое социальное наполнение с личными качествами и стратегией поведения героя: Игнаха — человек мелкий, подлый, ленивый, бедность которого обусловлена исключительно качествами характера. Писатель показывает, как абстрактный лозунг о справедливом перераспределении собственности оборачивается банальным грабежом, который совершают люди, изначально занимавшие маргинальное положение в крестьянском мире. Никакого восстановления справедливости для крестьянина эта революция не принесла, но лишь стала источником нового угнетения. Власть помещика сменилась безличной властью государства, которая установила в процессе коллективизации новую версию крепостного права, попутно истребив невписывающихся в свою систему.
Советская страна вполне могла бы безболезненно наследовать коллективистскую модель, исконно действующую в русской деревне, сохранить опыт общины, если бы коллективизация была в основе своей действием экономическим, а не идеологическим, то есть пыталась разрешить реальную проблему организации производства. Главный конфликт между крестьянином и государством, который вычитывается из текста Белова, лежит в принципиально различной природе их отношения к труду. Если крестьянин относится к нему с живой, практической точки зрения, то для государственной машины (выбравшей самый болезненный и бессмысленный путь развития сельского хозяйства) труд принимает отчужденную, безличную форму, и на первое место встает идеология. Здесь же и происходит надлом.
Крестьянство само по себе неспособно осознать и сохранить собственную традицию. Оно воспроизводит ее бессознательно, и случившийся кризис социальных отношений довольно легко ее разрушает. Потому что кончается человеческое усилие, державшее этот традиционный мир. Перед большевистской идеологией традиционное крестьянское мировоззрение оказывается бессильным. Однако сама идеология, разрушая это мировоззрение, одновременно обращается к интеллигентским и имперским клише уже отжившего мира: она придает старым традиционным мифам новую энергию. В большевизме воскрешается русское мессианство, переосмысливается толстовское преклонение перед грубым физическим трудом и по-новому раскрывается народническая идея. Если раньше она была мыслима только для интеллигента и, по справедливому замечанию Бердяева, лишь увеличивала разрыв между интеллигенцией и народом, то теперь она утверждается в самой народной среде, одновременно сливаясь с новой властью. Тот же Белов изначально усваивает народничество именно через свое включение в советскую культуру: она, раздвинув границы крестьянского мира и утверждая народность как фундамент нового строя, создает ситуацию, требующую от вчерашнего крестьянина сознательного самоопределения, которое раньше носило совершенно естественный характер.
Но в ходе кровавых перипетий российской истории то живое, что определяло содержание и форму народного духа, совершенно изничтожается. Теперь его нужно отыскивать, воскрешать, утверждать заново. Именно это Белов и пытался делать на протяжении своей жизни. Отсюда его отчаянная борьба за традицию и бесконечно подозрительное отношение ко всему новому.
Игнаха не случайно становится непосредственным проводником безжалостной политики нового века. Он выключен из традиционного хода крестьянской жизни, он элемент разлада, он не умеет ни пахать, ни сеять. Именно такие, как он, — люди, изъятые из традиции, — становятся точкой разлома, впускают зло в мир. Белов акцентирует на этом внимание: самым естественным образом даже незлобивый Носопырь замарывает себя доносительством. А все потому, что и он — на обочине деревенской жизни. Мысль, к которой обращает нас писатель, понятна: нарушение традиции — приводит к непоправимым последствиям. Так он утверждает ее ценность. Но если задуматься, почему же традиция легко нарушается, то можно заметить: ее носители молчаливо попускают это.
Крестьянский мир за редким исключением не воспротивился антицерковной политике новой власти. Белов показывает это в своем романе: несколько советских активистов выступают против молчаливого крестьянского большинства — оно осуждает, но не сопротивляется попытке спилить крест и сбросить колокол с деревенской церкви. Народ отвернулся от («никонианской») церкви, погрузился в языческую стихию, разбуженную большевизмом [6] . Только когда дело касается насущных хозяйственных вещей, например вступления в колхоз, крестьяне обнаруживают природное упрямство. Белов, вероятно, не согласился бы с подобной трактовкой, но текст его свидетельствует: в деле сохранения собственных традиций крестьяне удивительно беспомощны и отступают до последнего рубежа — собственного хозяйства. Только когда речь заходит о выживании семьи, они встают на путь сопротивления. Как тут не вспомнить: моя хата с краю.
Можно задать много острых вопросов (и их уже задавали): так ли уж была сильна православная вера на Руси, если ее тысячелетнее здание было сметено в течение нескольких революционных лет? И Белов-художник этот вопрос, без сомнения, ставит. Абсолютно естественно из текста следует и вопрос о коллективной ответственности народа за преступления сталинского режима. Ведь главной силой в раскулачивании становятся как раз Игнахи, которые из зависти пишут доносы на своих же соседей. Или Шиловские — неплохие, в сущности, парни, которые соглашаются взять на себя роль палачей. Да, их меньшинство, но социальные связи разрушены, разрушены сами формы общественного взаимодействия, строго говоря, общества больше нет, и в ситуации полного отсутствия иерархии оказывается, что горизонтальное со-общение тоже не работает. Эту пустоту начинают заполнять маргиналы, как люди, менее всего привязанные к старым формам и органически созвучные выступившему «ничто». Вековые традиции, лад крестьянской жизни — все оказывается погребено в огне революции. Однако если он вспыхнул так ярко, значит, было достаточно дров.
Белов попытался написать историю уничтожения русской деревни. Но коллективизация — не просто плод чьей-то злой воли. Она явилась естественным продолжением социокультурного кризиса. Во многом коллективизация — не убийство, но самоубийство деревни. Она следствие социальной разобщенности, усилившейся в виду внешних неблагоприятных причин: голод, разруха стали лишь катализатором, ускорившим уже существующие в обществе противоречия. Первое, что показала история России в XX веке, — слабость общественной структуры.
Большевистская идеология моментально навязывает разобщенному крестьянскому миру простую истину: кулаки — вот причина всех бед. У Белова это коллективное принятие новой социальной логики прочитывается в языке: брата Павла Рогова в школе дразнят «Пачин-кулачин». Крестьянская община тем самым принимает политику коллективизации. И сама же в лице Игнахи и Шиловского проводит ее в жизнь.
В своей книге «Козел отпущения» Рене Жирар [7] подробно описывает механизм коллективного убийства (неумолимо запускающийся в моменты социальных кризисов, когда культура оказывается неспособной защитить общество от насилия) и способы его репрезентации. Жирар выделяет четыре последовательные стадии работы такого механизма: социальный кризис (гибель норм и различий, задающих культурные категории), обвинение узкой социальной группы или даже одного члена общества в преступлениях, якобы порождающих этот кризис, универсальные признаки жертвенного отбора (физические или социальные аномалии), собственно акт насилия.
Если применить метод Жирара к трилогии «Час шестый», то все четыре стадии обнаруживаются моментально. Кризисная ситуация — налицо. Гражданская война кончилась совсем недавно, социальные перегородки сломаны, общественное хозяйство — в руинах. Козел отпущения — крестьянин-кулак — тоже есть. Учебник истории говорит нам: «Кулацкими считались хозяйства, применявшие наемный труд и машины с механическим приводом, а также занимающиеся торговлей. В 1929 году на их долю приходилось 2,5 — 3% общего числа крестьянских дворов». Однако в процессе раскулачивания были ликвидированы 1 — 1,1 миллиона хозяйств (до 15% крестьянских дворов) [8] . Эти чудовищные цифры — отличная иллюстрация к тезису Жирара: вина не требует доказательства, она требует лишь убежденности обвинителей. Необходимость найти виноватого превращает в кулака любого, кто не вписывается в бедняцкий стандарт, утверждаемый советской властью. Силой оружия и средств массовой информации большевистская идеология стремительно меняет социальную норму крестьянской общины. Трилогия Белова начинается со сцены пробуждения Носопыря, живущего в бане и стесняющегося своей нищеты. Мы сразу же узнаем: чтобы ребятишки не дразнили нищим, Носопырь носит сумку с красным крестом, притворяясь коровьим лекарем [9] . Но новый государственный лозунг гласит: «Кто был ничем, тот станет всем». Так оно и происходит. Община перестраивается по новому образцу, а чтобы оправдать беды, которые выпадают на ее долю, к ответу призывают немногочисленную группу зажиточных крестьян (вот и третья стадия по Жирару: достаток трактуется как социальная аномалия и становится причиной преследования). Их без разбора обвиняют в предательстве родины, в нежелании сдавать хлеб по бросовым ценам и кормить страну. Они объявляются виновниками тех бед, которые выпадают обществу. И крестьяне в страхе бросаются зарывать сундуки в сугробы — лишь бы успеть до прихода бригад по раскулачиванию. Но и это не гарантирует спасения: важно не наличие вины, а вера в нее.
В этом торжествующем механизме взаимной ненависти образ Игнахи — центральный, он ведь не столько идейный представитель новой власти (Белов показывает, что идеи коммунизма Игнаху заботят мало), сколько маргинальный член крестьянской общины, проводник воли толпы, которая появилась в результате кризисных процессов и теперь несет «жертвенный огонь очищения». Текст Белова реконструирует механизм насилия, приводящий традиционное крестьянское общество к уничтожению.
В своих книгах Белов прямо не обвиняет советскую власть. Образ Сталина, например, у него как бы раздваивается. «Отчаяние и растерянность опять охватили генерального, ударились куда-то вниз, ноги его ослабли, на лбу выступил пот. „Да, марионетка! Он лишь орудие в чужих масонских руках…” Нет! Все будет по-иному… Он бросил под ноги ленинским апостолам миллионы мужицких душ. Иначе его давно бы отстранили от руля великой страны. И здесь, в России, все будет не так, как было задумано у Вейсгаупта и его русских последователей типа Гучкова и Бройдо» [10] , — пишет Белов. Сталин в подобной трактовке выглядит пассивным, его ответственность за происходящее — ослаблена, активностью наделяется его окружение: «Масоны и евреи во главе с Лениным облепили революцию как мухи» [11] . В послесловии к роману «Час шестый» Сталин и вовсе называется чуть ли ни освободителем: «Фигура Сталина, пытавшегося освободить Москву от интернациональных сетей, еще не однажды возникнет на страницах хроникальных, научных и художественных произведений» [12] . Таким образом писатель достаточно явно отделяет большевизм от Советского Союза, построенного, в том числе, сталинскими усилиями, а ответственность за преступления коллективизации словно растворяется в революционной борьбе.
Однако изначально Белов поставил перед собой задачу как можно более полно и объективно отразить тот великий перелом, который пережила деревня в первой трети XX века. То есть он стремился к написанию объективного исторического романа. И, стремясь к этой объективности, нащупал тот механизм коллективного убийства, который был запущен. Белов строит свое произведение на конфликте. Но он противопоставляет не классы или идеологии, а «Лад» и «Разлад», то есть наличие и отсутствие структуры. Эта фундаментальная альтернатива, независимо от воли писателя, уводит нас от непосредственного противостояния одних социальных сил другим и ставит вопрос о вине всего общества. Тем самым писателю удается выпасть из цепочки «негативного обмена» [13] , отказаться от мести: его текст уже не порождает насилие, но осуждает его как неотъемлемый элемент Разлада [14] . Однако выпав из одной цепочки негативного обмена, Белов тут же создает другую: он воспроизводит теорию масонских и еврейских заговоров, которая, кроме прочего, была актуализирована кризисными событиями перестроечной и постперестроечной России.
Социальная группа, приговоренная к уничтожению, произвольно расширяется под воздействием идеологии. Кулаком можно объявить любого крестьянина, признаки принадлежности к этой социальной группе лишены стабильности, подвижны. Крестьянство, согласившись играть по таким правилам, обрекает себя на самоубийство. Когда козлами отпущения назначают этнические, религиозные, сексуальные или любые другие меньшинства, представители большинства моментально оказываются спасенными, они обретают уверенность в своей непогрешимости и четкое знание, что делать дальше. Но когда козлов отпущения выбирает действующая извне идеология, большинство не получает никакой выгоды и окончательно теряет почву под ногами. Чтобы выжить, большинству придется присягнуть на верность новой идее, предав все свои внутренние установления. Таким образом, идеологическая инъекция превращает крестьянскую общину в палача и жертву одновременно. Именно этот момент Белов не замечает в своем тексте. Насильственное умерщвление старого уклада жизни он описывает как некий, почти природный, процесс, как стихийное бедствие. У него Разлад прямиком вырастает из Лада, из его распада, из отпадения человека от него, но Белов не видит этого взаимодействия и рисует взаимоотношения Разлада и Лада как четкую бинарную оппозицию, как борьбу условного «Ничто» — чуждого русскому миру интернационального монстра, опутавшего Кремль своими сетями, — с условным «Великим Духом русской деревни». Он описывает поражение последнего, но чает его воскрешения в рамках советской идеологии.
В процессе становления Советского Союза народ сначала был принесен в жертву, а потом обожествлен, и понятие «Народ» стало той социально-этической категорией, которая определяла жизнь новообразованного общества. Именно двойственность советской системы ценностей мешает Белову в полной мере осознать единство жертвенного и сакрального статуса народа.
Это подводит нас к мысли, что «Час шестый» не что иное, как попытка самоопределения в ситуации внутреннего конфликта: с одной стороны, Белов хотел отразить реальные исторические события, с другой — выразить свое идеальное представление о деревне, а кроме того, в процессе написания появилась еще одна важная задача: примирить свою политическую позицию, которая ясно обозначилась после распада Советского Союза, со своим же пониманием истории. Думается, что последняя задача в полной мере не была решена: осознание трагической судьбы русского крестьянства неизбежно вступает в конфликт с положительным отношением к советской власти. Но именно эта нерешенность и делает трилогию Белова свидетельством живого, колеблющегося сознания.
Миф и история
В трилогии «Час шестый» Белов создает апокалиптический миф. На протяжении полутора тысяч страниц перед нами разворачивается история уничтожения крестьянского мира, того Лада, который писатель показал в своих очерках и первой части трилогии — романе «Кануны». Павел Рогов — носитель традиции, порядка, гармонии. Игнаха — его антипод. Конфликт между этими персонажами имеет сквозной характер и во многом определяет структуру всей трилогии.
Белов строит повествование по спирали: сюжетные линии появляются, исчезают, появляются вновь — спираль сужается. Начинается все почти с идеального круга: в «Канунах» действие течет размеренно, там еще можно уловить черты того Лада, который является основополагающим для Белова. Здесь совершается главное событие — строительство мельницы, колесо которой символизирует вечно обновляющийся ход жизни крестьянской общины. Дальше этот круг разрывается и постепенно сворачивается в спираль — трагические события становятся все интенсивнее, в конце концов спираль постепенно превращается в точку, устремляясь в небытие. «А крылья мельницы все шли, шли в обратную сторону, окончательно ломая шестерни и пальцы пестов» — финальный аккорд трилогии.
«Час шестый» — это столкновение мифа и истории. Реальные исторические события писатель накладывает на свое мифологическое представление о деревне. По сути, перед нами миф о разрушении мифа.
Образ русской деревни у Белова — это та идея, вокруг которой строилась жизнь русского народа веками. Наиболее полно он выражает ее в книге «Лад» [15] . Очерки о народной эстетике не привязаны к какой-либо исторической эпохе. Время словно сливается с пространством и оборачивается вечностью. По своей форме эта книга представляет собой глоссарий, своеобразный путеводитель по вселенной народной жизни. Формальная энциклопедичность выражает притязание полноты, исчерпанности, законченности. При этом внутри «энциклопедии» Белов воспроизводит цикличность народной жизни: содержательно одни эпизоды книги как бы повторяют другие, но на новом уровне и с другой стороны. Время в этой книге обретает мифологический характер. Белов почти не дает ссылок на конкретную историческую эпоху (а если они и появляются, то имеют сугубо побочное значение). Мир, который он описывает, не просто существовал когда-то, он существует всегда, здесь и сейчас. Не случайно от глаголов прошедшего времени Белов так легко переходит к глаголам настоящего.
Но тот русский мир, который воссоздает в «Ладе» Белов, оказывается практически выключенным из истории. Он составляет сердцевину жизни империи, ее опору (и писатель совершенно справедливо указывает, что именно крестьянство было широкой основой русской армии), однако сам по себе он изолирован от нее. Существовал гигантский разрыв между крестьянами и высшими слоями общества. Крестьянская жизнь органично связана с природой, продолжает и дополняет ее. Это своеобразный заповедник, который империя, так же как и природу, использует в своих нуждах, но с которым она имеет мало общего. Таким образом, налицо конфликт: государство живет в историческом времени, а русская деревня — его основа — в мифологическом. И каждое вторжение государства, истории оказывается крайне болезненным для заповедного крестьянского мира. Именно этот процесс вторжения истории Белов и описывает в своей трилогии «Час шестый». Он совмещает свое идеальное видение крестьянского мира и вполне реальные исторические события, показывая тем самым, как вместе с крестьянскими судьбами гибнет и идея русской деревни: со временем она просто теряет место и носителей для своего воплощения.
Между словом и делом
В 1960 году, еще будучи студентом Литературного института, Белов написал очерк «Страшнее всего — тишина» — о буднях комсомольского работника [16] . Казалось бы, ничего примечательного. Однако если мы сопоставим этот очерк с художественными произведениями и поздней публицистикой писателя, то увидим присущий его творчеству конфликт между собственно художественным и идеологическим.
Сложно представить, что писатель, ставший одним из основателей литературного направления «деревенской прозы», по всей видимости, вполне искренне мог написать такое: «Уже километров за пять до центра артели вижу голубые с золотыми звездами купола, и во мне закипает злоба. Черт возьми! Идет сорок второй год советской власти, а под ногами у нее до сих пор путается всякая нечисть вроде Бога!» [17] .
Вполне справедливо, что в общественном сознании подобные высказывания Белова не сохранились. И последнее, что следовало бы делать сегодня, это корить писателя за воззрения юности, тем более что никаких воззрений, в сущности, и нет. Есть только текст, погруженный в советскую идеологию и начисто лишенный даже попытки самостоятельного взгляда. Важно другое: момент перехода к критическому восприятию господствовавшей идеологии однажды случился, и, вероятно, именно он сделал возможным появление Белова-писателя. В противном случае вряд ли бы молодой очеркист ушел в своем творчестве дальше непростых (и иногда даже героических) будней советских тружеников.
Возможно, Белова спас опыт деревенской жизни: именно его самоидентификация как крестьянина давала возможность выйти за пределы культурных клише общества вечно грядущего коммунизма. Впрочем, за эти пределы Белов всегда выходил несколько осторожно и в конечном итоге вновь к ним вернулся.
Белов не зря делал ставку на органическую целостность крестьянского мира, на живую память, на традицию. Его, как художника, всегда спасало именно это. Там, где Белов отдается стихии крестьянской жизни, где ровно и последовательно идет за музыкой народной песни, — он всегда достигает художественной убедительности. Но как только он отдаляется от всего этого и начинает ориентироваться на сугубо личное — оценки, пристрастия, свою «моральную философию», — проваливается. В трилогии «Час шестый» тоже чувствуется эта нарочитая публицистичность, но там она сглаживается близкой Белову темой и органично переходит в мифологическую плоскость. В «городских» же произведениях писателя она выходит на первый план. «Всё впереди» [18] — роман в этом смысле показательный. В свое время он стал красной тряпкой для критики. Белова дружно хвалили за «Привычное дело» и «Плотницкие рассказы» и не менее дружно ругали за «Всё впереди». Такая реакция была и предсказуема и закономерна. Эти произведения находятся на разных полюсах творческого усилия писателя. Но дело совсем не в том, что Белов якобы не знал города или не любил его (и знал и любил — внимательный читатель заметит это сразу). Дело в том, что «Всё впереди» изначально создавался как роман «против чего-то». Он очень легко раскладывается по темам. В центре — тема женской эмансипации, которую Белов винит в развале института семьи и видит своим главным врагом. Рядом с ней — тема вреда алкоголя и курения. Здесь же — темы нарастающей рационализации современной жизни, бесконтрольного разрастания города, зависимости человека от техники, проблема бесконтрольного роста производства и потребления. Все это Белов последовательно разоблачает в своем романе. Но странное дело, он, выступая против господства рационального, против механизации — и в жизни, и в искусстве, — сам строит свое произведение чудовищно рациональным образом. Диалоги и монологи героев, сюжетная коллизия — все это не вырастает из образов героев, из жизни, которую воссоздает писатель, но изначально возникает именно как публицистическое высказывание самого Белова. В этом легко убедиться, если параллельно с романом «Всё впереди» прочитать корпус его зрелой публицистики: монологи и диалоги из романа представляют собой практически готовые конспекты газетных статей или публичных выступлений. В отличие от «Привычного дела» и «Плотницких рассказов», где торжествует логика художественная, «Всё впереди» — яркий пример торжества идеологии. Таким образом, писатель становится заложником собственной совести. Он чувствует себя обязанным непосредственно включиться в социально-политические процессы.
С конца восьмидесятых Белов все активнее выступает в печати как публицист и в конечном итоге становится народным депутатом и членом Верховного Совета СССР. Круг замыкается: художник снова попадает в пространство идеологии. Существующий конфликт между художественным и идеологическим Белов ощущал и сам. В автобиографии он посчитал нужным сделать такое замечание: «Пройдя ротацию в Верховном Совете СССР, я был непосредственным участником событий 1991 — 1993 годов. Все эти годы пытался совместить политическую деятельность (т. е. публицистику) с художественной. Как это получилось, пусть судят читатели» [19] . Проблема в том, что Белов не использовал идеологию как элемент своей художественной системы (что, в общем-то, лишает ее силы), но попытался, напротив, включить свое художественное творчество в идеологию, а это неизбежно лишает его самостоятельности. Однако и в этом прослеживается глубокая органичность Василия Белова, как исключительно русского писателя. Балансирование между моралью и эстетикой — свойство вполне привычное для русской литературы (Гоголь, Толстой, Достоевский). Белов демонстрирует ту радикальность в постановке нравственных вопросов, которая всегда была присуща русской культуре. И в этом смысле он — фигура, без сомнения, знаковая. Другое дело, что у Белова это часто принимает курьезный и поверхностный характер, как в случае с пропагандой здорового образа жизни [20] .
За двадцать лет знаменитый разговор Ивана Африкановича со своим мерином («А что, разве русскому человеку и выпить нельзя? Нет, ты скажи, можно выпить русскому человеку?») превратился в унылую проповедь о вреде эмансипации и алкоголя. В попытке найти баланс между искусством и нравственностью Василий Белов пошел в ту же сторону, что и Лев Толстой. Толстой, однако, был радикальнее и в какой-то момент почти полностью отказался от художественной литературы. Белов попытался сделать литературу проводником своих идей и использовал писательский статус как ресурс для непосредственного политического действия.
Впрочем, стоит помнить, что причиной этого политического действия было желание сделать жизнь страны лучше. И это один из тех немногих случаев, когда абсолютно искренняя этическая мотивация проникла в сферу политического, а не была симулирована в рамках очередной PR-стратегии, как это происходит повсеместно.
Некоторая наивность общественной позиции Белова, таким образом, снова отсылает нас к Толстому, понимание мысли которого требует решительно отбросить все усредненные толкования и сосредоточиться исключительно на личном, целостном высказывании писателя. В случае Белова, правда, такого высказывания, как правило, не случается. Белов слишком втянут в размеченную систему координат, он следует прописанным идеологемам и не добирается до своего слова в публицистике. Поэтому и наивность Белова чаще всего оборачивается банальностью, она не приводит нас к последнему пределу, не высвечивают истину в своей непосредственности, как это часто происходит у Льва Толстого.
Нет ничего странного, что на позднем этапе Белов возвращается к советскому . Это не столько возвращение к той идеологии, за пределы которой на какой-то момент ему удалось вырваться, сколько утверждение народной традиции, парадоксальным образом нашедшей свое последнее прибежище в этой идеологии. Пусть криво, трагично и несовершенно, но русский мир сохранял хотя бы свои очертания в рамках советской культуры. Взаимодействие русского и советского, с одной стороны, всегда носило очень конфликтный характер. С другой — советская идея подменила собой имперскую и выполняла ее функции. Она раздвигала мир для всего «русского», и во многом именно через нее это «русское» входило в мировую историю, обретало универсальный характер. Думается, что Белов это понимал и выступал не столько за советское, сколько за тот мифический град Китеж, бледное подобие которого нашло себе пристанище в советской системе. Либерализация, шедшая на смену умиравшему строю, пренебрегла национальным и в своей сердцевине содержала тот вечный Разлад, который Белов всегда пытался преодолеть своим творчеством. Поэтому с ней Белову было точно не по пути. Однако его добровольное смещение в сторону идеологии не могло пройти даром. В конце концов творческий путь Белова замкнулся: когда-то писателю удалось уйти от унылого партийного очерка к «Привычному делу» — произведению и яркому и самобытному, но на позднем этапе он вновь вернулся к стилистике советской газеты.
Опыт разлома
Если всмотреться, то вся традиционность Белова — не что иное, как ретроспективное конструирование себя в контексте истории страны, то есть дело творческое и исключительно индивидуальное, при этом настроенное на воспроизведение коллективного бессознательного и отождествление с ним. Что есть, условно говоря, народничество, в любом своем изводе, как ни мистическое приобщение к «мы»? Если заходить с этой стороны, то неизбежно увидишь Белова такого рода мистиком. При этом в поздних вещах у него почти отсутствует чувство мистического. Он весь по эту сторону, сосредоточенный на борьбе людей и идей: пьянство — плохо, женская эмансипация — плохо, развал Союза — очень плохо. Только вот чем активнее Белов ввязывался в какую-либо борьбу (идейную, политическую), тем дальше он уходил от себя и от своего чувства традиции.
Пожалуй, ближе всего к своему Белов подошел в ранней повести — «Привычное дело», поэтому об этом произведении стоит поговорить подробнее. Здесь Белов полностью сосредоточен на постижении того крестьянского мира, частью которого он был. Но делает он это, не просто тенденциозно следуя за какой-либо мыслью, а приобщаясь к этому миру словом. В «Привычном деле» Белову удалось выразить и обозначить то общее, что волновало его в народной жизни, через глубоко личное: через судьбу, через движение, через голос. Этим он оживляет традицию, наполняет ее смыслом и придает форму.
В «Привычном деле» сегодня советская идеология не чувствуется совсем (хотя не исключено, что она там была). Осталась только чистая поэзия. Остался платок Катерины, через который Иван Африканович пьет болотную воду, запах ее волос, чувство утраты, шум леса и коровье недоумение, безотчетная радость детства и ненадежное веселье зрелости, неуклюжая любовь Ивана Африкановича и Катерины, ветер, и жизнь, текущая сквозь. Все это осталось поныне, все это исключительно, единично, но вместе с тем раскрывается во всеобщее, в объединяющую целостность, из которой просвечивают предметы и движения нашего мира.
Смерть Катерины — главное событие повести, которое бросает последний отсвет не только на ее жизнь, но и на жизнь Ивана Африкановича, на жизнь всей их семьи, а в широкой перспективе и на судьбу русской деревни. Катерина вырастает в мифологическую фигуру, в Великую матерь уходящего мира.
Здесь происходит осознание, раскрытие смерти. Причем осознание глубоко личное, выраженное в сбивчивой речи Ивана Африкановича, в его плутаниях по лесу, в стенаниях на могиле жены. Смерть встает во весь рост: смерть неестественная, слишком ранняя. Это опыт прерывания, надлома. Опыт исключительный и ненормальный. Разлад. Однако именно в XX веке он, во-первых, превратился из исключения в правило, а во-вторых, был осознан и выговорен в крестьянской литературе, которая, таким образом, вполне вписывается в рамки модернизма, так как является прямой реакцией на его утверждение. «В мир победоносно вошла машина и нарушила вековечный лад органической жизни. С этого революционного события все изменилось в человеческой жизни, все надломилось в ней» [21] ,— писал Бердяев еще в 1918 году. И деревенская проза оказывается одним из способов осознания случившегося разлома, причем она говорит свое слово из самого эпицентра — у нее нет возможности спрятаться за новые, городские формы жизни, ей некуда отступать в своем понимании человека, она сама есть часть той последней органики, которая погибла в XX веке. Она была обречена изначально. В современной русской литературе деревня может существовать как символ отшельничества, как у Олега Ермакова в книге «Свирель Вселенной» [22] , или символ доведенной до собственного несуществования русской провинции, как у Романа Сенчина в «Елтышевых» [23] . Но нет и не может больше быть в нашей литературе деревни как живого организма, как энергии и силы, ибо последняя энергия — энергия умирания — уже растрачена.
Однако тот русский мир, тот невидимый град Китеж, который искал Белов, никуда не исчезает. Он остается в нас местом, куда невозможно вернуться. Это земля обетованная, навсегда исчезнувшая, но именно силой своего отсутствия свидетельствующая об истине. Лад — основная идея творчества Белова, и сегодня, если не понимать ее буквально, она так же, как и вчера, требует своего воплощения. В каждый момент времени перед нами стоит задача — воссоздать структуру, сделать собирающее усилие, остановить энтропию, придать хаосу смысл. Проза Белова — не просто бесплодная ностальгия. В ней есть искреннее движение к невозможному, обреченность уходящего мира, упрямое непонимание современности и вечно нависающий вопрос о России. Это определенный способ реакции на травматическую историю XX века. И он требует внимательного анализа независимо от личных эстетических предпочтений.
o:p/
[1] Белов В. И. Собр. соч. в 7-ми тт. М., РИЦ «Классика», 2011. Т. 2, стр. 129.
[2] Белов Василий. Кануны. Хроника конца 20-х годов. Роман. [1972 — 1984]. Первая публикация: «Север», 1972, № 4, 5 (части первая и вторая, сокращенный вариант); «Новый мир», 1987, № 8 (часть третья).
[3] Белов Василий. Год великого перелома. Хроника начала 30-х годов. Роман. Вторая часть трилогии «Час шестый». [1988 — 1994]. Первая публикация с подзаголовком «Хроника девяти месяцев»: «Новый мир», 1989, № 3 — часть 1; 1991, № 3, 4 — часть 2; «Наш современник», 1994, № 1, 2 — часть 3.
[4] Белов Василий. Час шестый. Роман. [1997 — 1998]. Заключительная часть одноименной трилогии. Первая публикация с подзаголовком «Хроника 1932 года»: «Наш современник», 1997, № 9, 10; 1998, № 2, 3.
[5] Первая публикация — журнал «Север», 1966, № 1.
[6] О глубокой сопричастности большевизма народному духу писал Николай Бердяев в своей статье «Гибель русских иллюзий»: «Русская земля живет под властью языческой хлыстовской стихии. В стихии этой тонет всякое лицо, она несовместима с личным достоинством и личной ответственностью. Эта бесовская стихия одинаково может из недр своих выдвинуть не лица, а личины Распутина и Ленина. Русская „большевистская революция” есть грозное всемирно- реакционное явление, столь же реакционное по своему духу, как „распутинство”, как черносотенное хлыстовство». — Бердяев Н. А. Духовные основы русской революции. Опыты 1917 — 1918 гг. М., 2009, стр. 174 — 175.
[7] Жирар Рене. Козел отпущения. Перевод Г. М. Дашевского. СПб., «Издательство Ивана Лимбаха», 2010.
[8] Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А. История России. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., «Проспект», 2013, стр. 500.
[9] «Бывала на Руси и такая профессия! Необъятность бытового разнообразия, терпимость народной молвы допускали ее существование. Люди были снисходительными к таким редким нравственным отклонениям, как профессиональное нищенство, к тому же в чистом виде оно встречалось весьма редко», — пишет Белов в цикле очерков «Повседневная жизнь русского севера». Однако: «К скрытым, по народному выражению „хитрым”, молва беспощадна: разоблачат и обязательно припечатают хлесткое прозвище. Носи за бархат до конца дней своих. Мало было охотников на весь мир прослыть тунеядцем!» <-sib.ru/book/kniga/185.htm> .
[10] Белов В. И. Собр. соч. Т. 4, стр. 527.
[11] Там же, стр. 526.
[12] Там же, стр. 601.
[13] Согласно Рене Жирару, «…когда общество разлаживается, то сроки уплаты сокращаются и устанавливается более скорая взаимность не только в позитивных обменах, которые сохраняются лишь поскольку они абсолютно необходимы, например, в форме бартера, но и в учащающихся враждебных, или „негативных”, обменах. Взаимность, которая в этот момент становится заметна, — это взаимность не благих, а дурных действий — взаимность оскорблений, ударов, мести и невротических симптомов» (См.: Жирар Рене. Козел отпущения, стр. 30).
[14] На конкретно-образном и сюжетном уровнях эта же идея отказа от мести, прерывания дурного обмена выражается в сценах прямой борьбы Павла Рогова и Игнахи. Рогов не убивает Игнаху тогда, когда ему представляется возможность. Павел, тем самым, утверждает Лад, стремится закончить войну и вернуть равновесие в мир. Игнаха же — раз за разом чувствует себя обиженным и жаждет отмщения, порождая тем самым механизм коллективного насилия.
[15] Белов В. И. Лад. Очерки о народной эстетике. М., «Молодая гвардия», 1982.
[16] В 1958 году Белов был избран первым секретарем Грязовецкого райкома комсомола Вологодской области. Проработал в этой должности он 11 месяцев.
[17] Белов В. И. Собр. соч. Т. 7, стр. 21.
[18] Белов В. И. Избранное. Роман, рассказы. М., «ИТРК», 2002.
[19] Белов В. И. Собр. соч. Т. 7, стр. 11.
[20] В частности, речь идет о поддержке Беловым пропагандиста трезвого образа жизни Владимира Жданова, отличающегося агрессивной риторикой и склонностью выдавать свои тезисы за доказанные результаты научных исследований. А также о настойчивом утверждении Беловым расхожих конспирологических теорий: «Скрытые троцкисты и их новые последователи потому и подсунули народу горбачевский указ 1985 года. Народ уже открывал глаза на троцкистскую революцию, на масонов и мировой заговор против России. Не дать отрезветь до конца! Не позволить самим русским распоряжаться своей судьбой! Своей верой! Своими идеалами! И явилась тут так называемая перестройка» (Белов В. И. Собр. соч. Т. 7, стр. 134).
[21] Бердяев Н. А. Кризис искусства. (Репринтное издание). М., «Интерпринт», 1990, стр. 13.
[22] Ермаков О. Н. Свирель Вселенной. СПб., «Издательство Ивана Лимбаха», 2001.
[23] Сенчин Роман. Елтышевы. М., «Эксмо», 2009.
Мотыльки для кунстника
Андрей Иванов. Харбинские мотыльки. Роман. Таллинн, «Авенариус», 2013, 312 стр.
Андрей Иванов написал неожиданную и по-своему долгожданную книгу. Неожиданной она стала, главным образом, в контексте творчества самого писателя: прежние его тексты — от «Путешествия Ханумана на Лолланд» до «Ночи в Сен-Клу» — представляют собой попытку так или иначе осмыслить современность, пусть даже современность трактуется расширительно, захватывая детство и юность героя (например, герой интенсивно что-то вспоминает, и сам процесс воспоминания — это уникальный экзистенциальный опыт оживления прошлого, включающий его в текущее настоящее наравне с событиями этого настоящего). В новой книге современность может считываться только специалистами, задавшимися целью проанализировать подтекст или художественные приемы, использованные автором. «Харбинские мотыльки», опубликованные в журнале «Звезда» [1] и подготовленные к выходу отдельной книгой, — это исторический по своему хронотопу роман. При этом, вопреки возможным ожиданиям, с жанром исторического романа он не имеет ничего общего. Перед нами скорее роман-реконструкция, как «Орфография» Дм. Быкова или, что еще ближе, «Казароза» Л. Юзефовича. Ничего подобного у Андрея Иванова ранее не наблюдалось, а потому стало для автора своеобразным достижением, планкой, которую теперь нельзя понижать.
В новой книге действие происходит в Эстонии во времена Первой Республики. Персонажи — русские эмигранты преимущественно свободных профессий, ведущие богемный образ жизни, тот, к которому они привыкли у себя на Родине еще в эпоху Серебряного века. Но прежняя Россия исчезла, а художники, фотографы, писатели, поэты, журналисты, издатели оказались новой России не нужны, их словно сбросили с парохода современности и заключили в гетто где-то на окраине империи, которая вроде бы политически независима от Страны Советов (хотя зависима, и еще как! конец 1930-х гг. это покажет), но это ничего не значит, так как какого-либо мощного культурного центра здесь нет, а есть рядом: в СССР и стремительно гитлеризирующейся Германии. Атмосфера Ревеля и Юрьева 1920 — 1930-х гг. — атмосфера глубокой провинции, до которой доходят отголоски большой культуры. Доходят с запозданием, когда эта культура «конца века» уже перестала существовать, а потому от нее остались лишь фрагменты и какие-то внешние проявления, вроде богемного увлечения контрабандным кокаином. Такова же, например, Пермь 1920-х гг. с ее эсперантистами в «Казарозе» Л. Юзефовича: провинция как аномалия времени, законсервировавшая в себе то, что уже стало очевидным прошлым. Русские в Ревеле, который изображает Андрей Иванов, настолько замкнуты в своем кругу, что не замечают, как мир вокруг меняется и история делает еще один опасный для них поворот. По сути, они становятся эмигрантами, то есть по-настоящему ощущают свою отчужденность только тогда, когда дни независимости Эстонской Республики подходят к концу. Пророческими оказываются предсказания одной героини романа, что все или почти все русские, живущие сейчас в Ревеле, умрут в один год и год этот будет тысяча девятьсот сороковой.
Ситуация провинции с ее ограниченными рамками для самовыражения, атмосфера сгущающейся безысходности порождают порой странные феномены. Здесь ожиданно расцветает эзотерика, здесь богема вовлекается в дела контрабандистов (или воображает себя вовлеченной), здесь рождается на эмигрантской почве убогий гомункулус — русский фашизм, представленный автором как идеология униженных и умалишенных. Он не настолько страшен, как стоило бы ожидать от фашизма, поскольку нет еще зверств и преступлений Германии и ничего или почти ничего их не предвещает, он воспринимается как еще одна ипостась общего декаданса, как новая религия для узкого круга сектантов, бросившихся в него во главе с братьями Каблуковыми в состоянии тревожности и невроза, в попытке убежать от беспросветности эмигрантского существования. Фашизм расширяет их горизонт, он становится связующим и объединяющим делом: соратники эстонских русских фашистов находятся даже в Харбине, откуда приходят странные посылки с агитлитературой и китайскими мотыльками. Каблуковы на почве фашизма даже водят знакомство с Элиотом и Бердяевым, которым поначалу любопытны новые идеи и новая идеология. Братья и их соратники бредят фашизмом, не понимая всей опасности этого бреда.
Как признается Иван Каблуков, «мой „фашизм” — это крик, который должен быть услышан. Молчать нельзя. Преступно — молчать. Мой „фашизм” — смысловая провокация, яркий, трагический образ, необходимый для того, чтобы расцветить блеклый облик нынешнего национал-радикального движения, давно уже ставшего призраком, уныло слоняющимся по улицам с хоругвью и свастикой. Наконец, это искреннее уважение к заблудшим героям былой Европы, чей опыт так же полезен нам, как опыт парижских коммунаров был полезен большевикам». Не зря фашизм здесь взят в кавычки — это не политическое движение, а персональная вера отчаявшегося человека.
Роман действительно можно назвать долгожданным. По сути, перед нами новое слово о русской эмиграции. Не Париж, не Берлин, не Прага и даже не Шанхай и Харбин (маркированный в названии романа), о которых написано немало (хотя об эмиграции всегда мало, всегда есть лакуны, требующие заполнения), но именно Таллинн (Ревель), доселе не проявлявший себя в этом отношении зримо, попадает в поле зрения автора. В романе выведены в качестве некоторых персонажей вполне конкретные исторические лица: Борис Вильде, А. В. Черниговский-Чернявский, но важнее, пожалуй, обобщенный образ русских, обитающих за пределами своей страны. «Русских узнаешь по старым шляпам. У „Русалки” под ивами на скамейках сидят — пальто в подпалинах, драная шуба. Над ними на ветках вороны. Небо свернулось, как сливки. Ветер гонит бумажки по променаду. Вытягивает чей-то зонтик. Крякнул клаксон. Шляпы шевелятся, смотрят вслед автомобилю. Листья, бумажки, фонари. Так они и сидят. Шелестят газетами. Донашивают костюмы. Плывут по дорожкам Екатериненталя. Стоят там и тут, как шахматные фигуры. Каплями пуантилиста проступают на фоне серого моря. Сядешь на скамейку, и тут же кого-нибудь принесет».
Эмигрантские тексты — амплуа Андрея Иванова, которого можно уже по праву назвать специалистом по быту и бытию эмиграции, причем не только и не столько теоретиком, а, учитывая его биографию, и практиком. Однако «Харбинские мотыльки» — это едва ли не единственный текст, лишенный автобиографизма в силу его исторической дистанцированности от автора, хотя, как водится в текстах данного писателя, полный автопсихологизма. И здесь вновь оказываются востребованными столь любимые Андреем Ивановым герои-маргиналы, герои, переживающие мучительную разлуку с Родиной и не менее мучительно встраивающиеся в новую систему социальных отношений, будь то лагеря для «азулянтов» на Лолланде, постсоветский Таллинн или досоветский Ревель.
Главный герой романа — кунстник Борис Ребров. Кунстник — в переводе с эстонского художник. Ребров не зря называет себя именно по-эстонски, акцентируя положение эмигранта и вольного художника с нестабильным заработком и неопределенным будущим. К тому же художником в традиционным смысле он не является, поскольку хоть и пишет картины, но ими не ограничивается, занимаясь фотографией и даже инсталляциями. Например, самой популярной его работой становится созданная из подручных предметов и затем запечатленная на пленку Вавилонская башня, символ эмигрантского существования, его лингвистического аспекта и в большей мере — бытийного, лишенного какой-либо уверенности в завтрашнем дне.
Продолжая разговор об автопсихологизме, нельзя не отметить очень тонко замаскированную исторической отдаленностью близость героя автору. Борис Ребров в романе более всего проявляет себя как писатель, ведя дневник и фиксируя происходящее с позиции вовлеченного наблюдателя. Его дневник в событийном плане становится важнее его художественных работ, как важнее всего происходящего оказывается психологическое состояние героя. Андрей Иванов словно бы примеряет на себя ситуацию Бориса Реброва и щедро наделяет его своим мироощущением, эмоциально-психологическим потенциалом. Ребров — это попытка автора преодолеть в себе Реброва, как ни парадоксально это звучит.
Тревожное состояние, в котором перманентно находится кунстник, все обостряется, так что начинают рваться ткани материального мира: сначала появляются прорехи, сквозь которые летят и летят харбинские мотыльки, а затем наступает символическая смерть. Борис Ребров, доведенный до отчаяния и умалишения, умирает, продолжая жить. В морге под именем Реброва остается умерший немец Штамм, а Ребров, присвоивший фамилию и национальность Штамма, начинает новую жизнь, про которую ничего не известно, кроме того, что вряд ли она будет счастливой. Другой, но точно не счастливой, учитывая уже начавшуюся Вторую мировую войну и не покидающих героя мотыльков.
Нет смысла искать в романе историческую правду, но реконструкция все же удалась. Андрей Иванов оживил прошлое и тем самым заставил читателя с учетом этого прошлого по-новому посмотреть на настоящее, в котором по-прежнему актуальны и русская эмиграция, и фашизм; жизнь все также абсурдна, и абсурд этот непреложен — не только как прием в художественной прозе Андрея Иванова.
[1] «Звезда», Санкт-Петербург, 2013, № 4, 5.
Вон там квадратики впотьмах…
Игорь Булатовский. Читая темноту. Стихотворения 2009 — 2012 годов. Предисловие Василия Бородина. М., «Новое литературное обозрение», 2013, 192 стр.
Игорь Булатовский. Ласточки наконец. Июнь 2012 — январь 2013. NewYork, «AilurosPublishing», 2013, 103 стр.
Четыре года назад в новомирской же заметке о книге «Стихи на время» [1] я цитировал Олега Юрьева («Октябрь», 2004, № 6): «Голос кажется тихим и прерывистым, смахивающим на медленную задумчивую скороговорку, я бы сказал, на гармоническое бормотание, если бы по случайности давней моды все на свете не именовалось (одобрительно) бормотанием» — и уже от себя добавил, что «хотя Олег Юрьев говорит о бормотанье не без приличествующей иронии, хрестоматийные строчки Ходасевича „Бог знает, что себе бормочешь, / Ища пенсне или ключи” составляют очевидный и неотъемлемый фон поэтики Игоря Булатовского».
В двух почти одновременно вышедших новых книгах (без малого триста густо заполненных страниц) то, что было названо «бормотаниями», разрослось до едва ли не глоссолалических словесных захлебов.
— В том смысле, на голову сточенном…
— В том смысле, что? — В том смысле, что
в том смысле сточном, об-источненном,
истонченном до нищи той,
истошной, тошной, не спасающей,
не понимающей, за что,
за что ей встать в той нише тающей,
в том обесточенном пальто,
под ветром, стачанным из полостей
слезящихся, слезящих ртов
и голых веток ветхих голостей,
горящих каплями цветов…
«Вдоль ручья» (1) (из книги «Читая темноту»)
Когда речь заходит об упоении звукоподобиями, невольно вспоминается Пастернак и вся футуристическая «звучаль», когда мы говорим о «пинцетной» работе поэта с корнями, аффиксами и флексиями, на нас тут же падает тень Хлебникова, но случай Булатовского, как мне представляется, принципиально иной.
Антисимволистский вектор футуристов и акмеистов был по-разному, но так или иначе направлен к «овеществлению» языка поэзии, к чувственному образу, «картинке»; Булатовский, используя сходный инструментарий, от «картинки», от образной чувственности решительно отказывается (если у него и мелькнет «картинка», то ненароком и уж никак не как желанная цель, отчасти поэтому и стихи его, как, впрочем, и едва ли не все самое существенное в современной поэзии, сопротивляются цитированию, выдергиванию «ударных» строчек).
«Булатовский же — по существу! — именно что поэт „слова как такового”, по степени радикальности в этом смысле сравнимый с Хлебниковым. Сбивает с толку то, что он совсем не „авангарден” по форме, что Хлебников у него сросся с безумным неоклассиком Комаровским. Новая реальность растет у него не из зауми, но из речи-о-речи-о-речи», — пишет Валерий Шубинский на сайте «Сolta.ru» 12 марта 2013 г. [2] Вот это положение — «речь-о-речи-о-речи» — хотелось бы обдумать. Грубо говоря, если «речь» выражает (а поэтическая речь еще и в той или иной мере изображает) реалии и отношения предметно-чувственного мира (включая и психические переживания, и умозрения), то «речь-о-речи» не может быть не чем иным, как рефлексивной «метаречью», по необходимости пользующейся все тем же общепоэтическим лексиконом. Ну а «речь-о-речи-о-речи» в таком случае будет уже рефлексией второго порядка, но неизбежно в тех же словесных границах. Мне кажется, я понимаю, что имел в виду Шубинский, но это не совсем «речь-о-речи-о-речи».
«Вообще поэзии приходится говорить словами, т.е. символами психических актов, а между теми и другими может быть установлено лишь весьма приблизительное и притом чисто условное отношение», — писал Иннокентий Анненский [3] ; то, чем занимается Игорь Булатовский, состоит именно в бесконечном уточнении, бесконечном развертывании отношений между словом, «словом как таковым» и психическими актами. Это уточнение и это развертывание осуществляются не в порядке рефлексий, а непосредственно в речевых многовариантных сцеплениях, заплетках, в хождениях вокруг да около — сплошь и рядом причудливых, странноватых, но совершенно естественных. (Отмеченное Шубинским — не «авангарден» — как раз и подразумевает эту естественность; обращение авангарда со словом всегда было, на мой взгляд, несколько, скажем так, насильственным.)
Цифровая техника позволяет с легкостью производить статистические наблюдения над текстами, чем мы и воспользуемся, благо, книга «Ласточки наконец» имеется в свободном доступе на сайте издательства «Айлурос» < >.
В сравнительно небольшой книжке по нескольку десятков раз повторены (с производными) такие слова, как «воздух», «ветер», «вода», «огонь», «свет», «земля»; те же слова «на глазок» выделяются заметной частотностью и в книге «Читая темноту». Вряд ли поэт сознательно акцентирует понятия, соприродные четырем первостихиям древних натурфилософий, но настойчивые отсылки к этим знакам неслучайны. (Ну да, эти символы — особенно ветер — частотны и у советских романтических поэтов, и вообще принадлежат к общепоэтическому ряду, но, скажем так, в иных пропорциях и, главное, в иных контекстах.)
Дело, мне кажется, в том, что Булатовского занимают не столько предметы, сколько сущности, идеи предметов — едва ли не в платоновском смысле. А идею предмета, запертую в его родовом имени, никак невозможно вывести напрямую — только в столкновениях, взаимопроницаниях, перекличках с другими именами. И не в последнюю очередь такими вот, как «воздух», «вода», «земля», «огонь»…
В этом новом символизме важно, что слово «идея» здесь, в отличие от символизма вековой давности, следует писать с маленькой буквы. Никакой мистики, никакой игры в таинственность, химия, а не алхимия, хотя лабораторные опыты проводятся на интуиции, наугад и на ощупь.
В том духе, воздухом растрёпанном,
в том воздухе, от ветра злом,
в том ветре, до крови раскопанном
твоим дыхательным числом,
в твоем дыхании, растыренном
кровавой мышкой по углам
своей норы и там растаренном
со всякой дрянью пополам,
в той таре, в тех сосудах, полнящих
и осушающих до дна,
и помнящих о чём? — не помнящих, —
одно и то же — тишина…
«Вдоль ручья» (7) (из книги «Читая темноту»)
Вот из этой тишины, из беззвучия, в котором толкутся-толкуются неоформленные смутные смыслы, выходит все, что так характерно для Булатовского, — и сосредоточенное, с пинцетиком и отверточкой, прилаживание морфем, и многочисленные темноты, зияния, и хождения вокруг да около, отчего стихотворения то ветвятся на части, а то сцепляются в циклы.
В этом смысле удивительно-показательна алгебраически структурированная поэма «Ласточки наконец», состоящая из трех частей, каждая из которых разбита на три главки, каждая из которых в свою очередь представляет собой одну разветвленную фразу с выделенными пятью разделами — по три катрена в первых четырех и четыре катрена в пятом. (Надо сказать, эта поэма заслуживает отдельного и, полагаю, весьма обширного и трудоемкого исследования.) А внутри этой четкой просчитанной схемы (правда, с одним-другим мелким от нее отступлением) — захлебывающаяся и местами не вполне вразумительная речь.
и жизнь оказалась маленькой, синегубой,
с коромыслицем варежек в рукавах пальто,
с черными метками глаз, уже сутулой, сугубой, —
как ответ на вечный вопрос из-за двери: «Кто
там?» «Это я». «Кто это — я?» Пустая
ветка скребет по стеклу, просит ее впустить,
в инфинитиве окна саму себя знать не зная,
зная лишь инфинитив темного времени — «жить»;
где и когда — все равно: в этом саду безымянном,
том безымянном саду, в обществе честных ворон,
в обществе белых воров, кому ничто по карману,
когда нищета стоит с четырех сторон
(из книги «Ласточки наконец»)
Вообще говоря, стихи бывают темноватыми в двух случаях. Первый и, к сожалению, весьма распространенный, когда поэты «интересничают» и стараются понадежней зашифровать свои послания. Послания как таковые при этом могут быть вовсе не бессмысленными, но сама установка на «конспирацию» лично у меня вызывает некоторое отторжение. Другое дело — и перед нами именно тот случай, — когда поэт именно что докапывается, прорывается к вербализации каких-то не вполне внятных ему самому, невыразимых простым словом интуиций, и речь его темна по необходимости.
Впрочем, отчетливо различать эти случаи не всегда просто — ни читателям, ни самим авторам.
Говоря о стихах (да, в общем-то, и о прозе), мы раз за разом повторяем, что никаких общеобязательных критериев литературного качества нет и быть не может, и раз за разом, явно или неявно, от каких-то критериев, пусть и принимаемых «к случаю», в рабочем порядке, отталкиваемся.
Неизменно важный для меня критерий я бы назвал несколько корявым словом «сочувственность». (Понятно, что наличие и мера этой самой сочувственности в тексте улавливается в конечном счете интуитивно, «по впечатлению».) У Булатовского ласковое, бережное сочувствие к разного рода живым и неживым и очеловечиваемым этой ласковостью и бережностью материям, можно сказать, бросается в глаза.
Хоть запивай, хоть закусывай корочкой,
что-то застряло, что-то першит,
устрица намертво хлопает створочкой
и не пускает в себя алфавит
весь из углов, из иголок и скрепочек,
лезвий, скругленных до полной луны,
разных предлогов и всяких зацепочек,
чтобы вторгаться в жемчужные сны,
чтобы его, это тельце ненужное,
разве — на закусь, на беленький зуб,
вырвать, как сердце, что втерло жемчужину
в створ известковых, стрекочущих губ.
(Из книги «Ласточки наконец», цикл «Зима тринадцатого года», — впрочем, тридцать — одно стихотворение под этим заголовком, как и другие большие циклы Булатовского, вернее все же называть «книгой в книге».)
О чем это?
Что за известковые губы? Створки раковины-жемчужницы?
Или вот эти, из стихов Мандельштама на смерть Андрея Белого — «Лиясь для ласковой, только что снятой маски, / Для пальцев гипсовых, не держащих пера, / Для укрупненных губ, для укрепленной ласки / Крупнозернистого покоя и добра».
А устрица — из примыкающего, незаконченного «Молчит, как устрица…»
А еще из «Ариоста» — «А я люблю его неистовый досуг — / Язык бессмысленный, язык солено-сладкий / И звуков стакнутых прелестные двойчатки… / Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг».
Можно отыскать и другие интертекстуальные «зацепочки», но все это — фон, поэтический гул; распознаваемые отзвуки расширяют пространство стихотворения, что-то проясняют, но главное — вот эта сочувственность — в самом тексте, в словах «как таковых».
Не противоречит ли то, что я сейчас пишу, сказанному выше — о новом символизме, о том, что для Булатовского важны не столько предметы, сколько идеи предметов? Разумеется, противоречит; те или иные разнонаправленные векторы, одномоментные противоположные импульсы лежат в основе поэтического языка и вообще любой художественности. В уже классической книге «Психология искусства» Л. С. Выготский цитирует Тынянова: «Здесь стих обнаружился как система сложного взаимодействия, а не соединения, метафорически выражаясь, стих обнаружился как борьба факторов, а не содружество их. Стало ясно, что специфический плюс поэзии лежит именно в области этого взаимодействия, основой которого является конструктивное значение ритма и его деформирующая роль относительно факторов другого ряда…» [4] — и добавляет: «Если мы от фактов чисто звукового строя перейдем к смысловому ряду, мы увидим то же самое».
Вот и стихи Булатовского — в формальном плане едва ли не математически, аскетически расчислены — я уже говорил об «алгебраической» структуре «Ласточек»; можно упомянуть и цикл — книгу в книге — «Квадратики», сорок восьмистиший, из которых каждое нечетное начинается словом «смотри» (Булатовский вообще неравнодушен к императивам, и этот — частотнейший) и написано четырехстопным ямбом, а каждое четное — ямбом пятистопным. И в формальном же, фонетическом плане его стихи, как уже было сказано, представляются сбивчивым речевым захлебом, какими-то барочными фиоритурами. В смысловом ряду тяготеют к первоосновам, к чистым идеям — и в при этом проникнуты всеобъемлющей нежностью, чтобы не сказать — сентиментальностью. (На сотне страниц нью-йоркской книжки я насчитал порядка полутора сотен употребления уменьшительно-ласкательных суффиксов, в московской книге их частотность никак не меньшая.)
В книге «Читая темноту» есть десятичастное стихотворение с многозначительным названием «Не слова», можно сказать, приоткрывающее «поэтическую кухню» Игоря Булатовского. Вот часть 8:
кричащие криком
на безъязыком
языке безротом
кричащем криком
кричащим прости и
помилуй простые
вещи твои мы
внутри пустые
полные пустых
вещей своих
полных умного шарка
цепких лапок смешных
Крик никак не свойствен нашему автору, вообще повышение голоса и «бормотания» — вещи плохо сочетаемые, но здесь криком кричит безъязыкое-безротое, дословесное, хаос, пустота, «физический вакуум» (хотя, имея в виду общий модус поэзии Булатовского, пожалуй, уместнее сказать «метафизический вакуум», но я как-то больше доверяю физике). В самих же стихах, в их словесном веществе это кричащее до-словное «озвучивается» дословным (возня с морфемами заразительна) негромким разумным шарканьем цепких смешных лапок одного из тех мелких существ (одни только всякие-разные птицы-пичуги упомянуты несколько десятков раз), а то и одушевляемых предметиков (от каких-нибудь спичек до буковок и знаков препинания), названиями которых так насыщены обе книги.
Вот взять хотя бы «Дощечку» из «Читая темноту».
Сухая звонкая дощечка,
от счастья выгнутая вся,
ступенька низкого крылечка,
вся настораживающаяся:
наступит — не наступит; выше
и выше протягивающая свой изгиб
и ждущая, все тише, тише…
И говорящая: скрип-скрип.
Это не живопись, не графика, не «картинка»; простыми словами обозначен «внутренний мир» этой самой дощечки (понятно, дело не только и не столько в «дощечке»; здесь перед нами, грубо говоря, парафраз на тему «с любовью пасть к ее ногам», но именно что грубо говоря — уж больно тонко это сделано, и уж больно живая эта «дощечка»).
Кажется, все просто: ну подумаешь, три строчки классического четырехстопного ямба перебиваются строкой в десять слогов с одним-единственным ударением — а получается даже не словесное, а какое-то дыхательное письмо, какая-то «пневмопись». (О стиховом дыхании Булатовского пишут и Юрьев и Шубинский.)
Формат небольшой рецензии на две немаленькие, густо и сложно заполненные поэтические книги поневоле предполагает либо некоторую голословность, либо известную лоскутность, я предпочитаю последнее. И не могу не упомянуть цикл «Что говорил Святой Франциск» из книги «Ласточки наконец» — 12 монологов, о которых Шубинский пишет: «В каком-то смысле францисканский цикл и есть виртуозный перевод, вхождение в чужую кожу — не Франциска Ассизского, конечно, а другого (воображаемого) поэта». Вот, чтобы не быть голословным, почти навскидку:
Ты, брат Массео, хорош собой, вот и накидали тебе горбух,
а у меня за пазухой — что Святой! — даже не хлебный был дух.
В той церкви, помнишь, маленькой, ты еще так долго меня искал,
просто для этой церковки был ты великоват, а я был мал,
вот я в алтарь и спрятался, чтобы там пропечься пожарче мне,
чтобы покрыться корочкой, чтобы захрустел я в ее броне.
Ну что, похавал корочек (может, и курочку где прихватил?),
давай теперь померимся, у кого из нас двоих больше сил.
Это и впрямь совсем другое, и эти стихи могут оказаться не просто экспериментом, шагом в сторону, а подступом к каким-то новым неожиданным открытиям.
И уж совсем напоследок — из «Квадратиков»:
Вон там квадратики впотьмах,
горящие простые души,
пиши «впотьмах», читай «в домах»,
чьи стены да имеют уши,
чтоб слышать в общем ничего
особенного: смех и слезы,
и крик, и шепот — вещество
прекрасной жизни, страшной прозы.
Так сказать, вместо эпиграфа.
[1] См.: Книжная полка Аркадия Штыпеля. — «Новый мир», 2009, № 11.
[2] Шубинский Валерий. Слова и не-слова <;.
[3] Анненский Иннокентий. Что такое поэзия? — В кн.: Анненский И. Книги отражений. М., «Наука», 1979, стр. 202.
[4] Цит. по: Выготский Л. С. Психология искусства. М., «Искусство», 1986, стр. 276.
Способность сказать «нет»
o:p/
Сьюзен Сонтаг . О фотографии. Перевод с английского Виктора Голышева. М., «Ад Маргинем Пресс», 2013, 272 стр. o:p/
Сьюзен Сонтаг . Заново рожденная. Дневники и записные книжки 1947 — 1963. Перевод с английского Марка Даяна. М., «Ад Маргинем Пресс», 2013, 344 стр. o:p/
Знаменитая книга Сьюзен Сонтаг о фотографии приходит к нам через тридцать с лишним лет после того, как она стала фактом и формирующим фактором западной интеллектуальной истории. В середине 70-х книга произвела на свою англоязычную аудиторию решающее впечатление и определила основные установки интеллектуалов по отношению к фотографии на 30 — 40 лет вперед. Во-первых, так о фотографии, несмотря на почти уже полуторавековой к моменту написания книги возраст последней, тогда еще никто не говорил, — по крайней мере, от Вальтера Беньямина до Сонтаг вопрос о сущности фотографии как типа отношения к реальности так радикально никем не ставился (третья из коренных книг «фотографического» канона западной мысли, «Camera Lucida» Барта, выйдет тремя годами позже книги Сонтаг), никто так подробно — тем более, в этическом аспекте, важнейшем у Сонтаг, — о ней не думал. Во-вторых, заговорив о фотографии, Сонтаг ударила свое время в наиболее чувствительные точки. В-третьих, она первой связала практику массового фотографирования с изменением условий человеческого существования в мире [1] .
Известность пришла к Сонтаг не благодаря этому сборнику — это произошло раньше, в 60-х. Но в числе ведущих теоретиков предмета она оказалась.
Составившие сборник очерки писались в середине 1970-х (и печатались с 1973 по 1977 год в «Нью-Йоркском книжном обозрении») — в совершенно другую, нежели теперь, фотографическую и культурную эпоху. Реакция на избыток фотоизображений (сравни его с безудержным тиражированием картинок в нынешнюю эру Instagram’а — покажется скудостью и аскезой) явно защитная: из тех, которыми культура склонна отвечать на всякий — еще не освоенный ею, не встроенный в собственные равновесия — избыток. В 70-е избыток фотоизображений для западного мира был еще внове; теперь он, пожалуй, входит в число свойственных этой культуре источников — да, проблематичного, да, динамического, — но все же равновесия.
Впрочем, этап отрицания и настороженности надо было пройти, проработать во всех его аспектах. «Для того, чтобы назвать чувствительность, набросать ее контуры и рассказать ее историю, — писала Сонтаг в одной из своих знаковых статей — „Заметки о кэмпе”, — необходима глубокая симпатия, преобразованная отвращением» [2] . В книге о фотографии она скажет прямо: «Всякое понимание предполагает способность сказать „Нет”».
Именно «нет» Сонтаг и говорит фотографии, чаще, чем «да». Напряжение и неразрывность притяжения-отталкивания точно характеризуют ее собственные отношения с фотографической «чувствительностью». Не зря уже в предисловии к сборнику Сонтаг говорит о своей «одержимости» фотографией. Выстраивая дистанцию между предметом своего исследования и современной ей культурой, она выстраивала ее еще и между ним и собой.
Сонтаг продумывает этические аспекты фотографии (обращая внимание на то, что она — «грамматика и, что еще важнее, этика зрения») — но в своем стиле. Общая ее установка по отношению к фотографии скорее обличительна.
«Камера, — пишет она, — идеальное орудие сознания, настроенного приобретательски». «Фотографии документируют процесс потребления». «Сфотографировать — значит присвоить фотографируемое. А это значит поставить себя в некие отношения с миром, которые ощущаются как знание, а следовательно, как сила». «…в акте фотографирования есть нечто хищническое. Сфотографировать человека — значит совершить над ним некоторое насилие: увидеть его таким, каким он себя никогда не видит, узнать о нем то, чего он не знал, словом, превратить его в объект, которым можно символически владеть». И конечно, фотография — орудие власти: «С тех пор, как парижская полиция стала снимать расправу с коммунарами в июне 1871 года, фотография сделалась удобным инструментом современных государств для наблюдения и контроля за все более мобильным населением».
Характерная черта фотовласти над миром — иллюзорность: «…фотографии создают иллюзию владения прошлым, которого нет…»; то же касается и туристского фотоприсвоения пространства. Даваемое фотографией чувство присутствия — неподлинно: «Фотография — псевдоприсутствие и в то же время символ отсутствия». Фотография по крайней мере столь же способ видения мира, сколь и форма слепоты: она унифицирует видимое: «Погубленные надежды, молодежные неистовства, колониальные войны, зимний спорт — все едино, все стрижется под одну гребенку камерой. Фотосъемка установила хроническое вуайеристское отношение к миру, уравнивающее значение всех событий».
Среди ведущих интонаций и сквозных мотивов книги — критика «туристской», «коллекционерской», «вуайеристской» установок в фотографической практике; присваивающего и потребительского, а потому непременно «хищнического» отношения к (бедной беззащитной) реальности. Автор видит в фотографии и — более радикальную, чем печать — «коварную форму выщелачивания мира, превращения его в ментальный объект», средство продуцирования и культивирования отчужденности человека все от той же реальности. Обеспечивая «большую часть представлений о том, как выглядело прошлое, и о размерах настоящего», фотография подменяет собой и то и другое. Фотографирующий, по Сонтаг, отчужден уже тем, что не включен в снимаемое, не влияет на него: ты либо участвуешь, либо снимаешь. Следовательно, фотография — воздержание от участия, иной раз просто пагубное.
От простодушного убеждения, что фотография «отражает реальность», Сонтаг не оставляет камня на камне. «Решая, как должен выглядеть снимок, предпочитая один вариант другому, фотографы всегда навязывают свои критерии объекту». Дальше еще категоричнее: «Любое использование камеры таит в себе агрессию».
В фотографии Сонтаг вычитывает едва ли не в первую очередь агрессивный, подавляющий аспект, прежде прочего замечает ее разрушающее (например, упрощающее) воздействие на человека и на его реальность.
Сам акт фотографирования, подозревает Сонтаг, — свидетельство разлада между сущим и чаемым, между реальностью и ее идеальными образами: «Фотографирование становится ритуалом семейной жизни именно тогда, когда в индустриализированных странах Европы и Америки сам институт семьи подвергается радикальной хирургии». Это — результат неуверенности в себе [3] , следствие травмы [4] .
Сонтаг уличает фотографическую практику во «встроенной», изначальной, не преодолимой до конца и даже не замечаемой неподлинности [5] и несвободе. Все это говорится в характерном для времени контексте «критики культуры», ее ложностей, «неорганичностей», недолжного обращения с ценностями.
Проблемы отчуждения, власти, насилия вообще чрезвычайно занимали в то время, когда писалась книга, умы западных левых интеллектуалов — к ним Сонтаг несомненно принадлежала (и Фуко, еще один тогдашний властитель дум, был озабочен тем же). Этот контекст, кроме марксизма, был в значительной степени сформирован психологическим дискурсом вообще и психоаналитическим в особенности, с характерным для него вниманием к «недовольству культурой». Так, Сонтаг видит в фотографировании «социальный ритуал, защиту от тревоги и инструмент самоутверждения», а значит, разновидность конформизма, форму культурного прессинга [6] ; у своих современников она диагностирует «зависимость от камеры как устройства, придающего реальность пережитому…» [7] (фотографирование оказывается следствием дефицита реальности). Иной раз она прямо пользуется лексикой из психоаналитического словаря: «Если камера — сублимация оружия, то фотографирование — сублимированное убийство…». Сказывается в ее мышлении и шпенглеровское наследие, тоже вполне вросшее в состав очевидностей западного самопонимания («первый шаг к отчуждению», сделанный некогда печатью, породил, полагает Сонтаг, «…избыток фаустовской энергии и психический ущерб, которые позволили построить современные неорганические общества»).
Тенденции, которые своей травматологией фотографии продолжила Сонтаг (расширила; углубила; усложнила… — но тем не менее продолжила, уложилась в их русло), — «фотофобические». Корни у них глубокие. Их узнавала и сама Сонтаг у представителей архаических народов, которые боялись сниматься, подозревая, что это лишит их души; а Бальзак, которого к архаическим народам не отнесешь, выстроил вокруг своей, связанной с фотографированием, тревожности целую наукообразную теорию.
Расправляясь со стереотипными представлениями о фотографии, сложившимися в массовом сознании к середине 70-х (например, с представлением, будто та точно отражает реальность и исключительно правдива), Сонтаг вносит свой вклад в создание того, что уже вправе претендовать на статус новых стереотипов, — скорее всего, не таких массовых, как прежние (действующие и по сей день), но не менее устойчивых, ригидных и категоричных.
С тех пор, как Сонтаг писала свои «фотографические» тексты, предмет ее анализа успел не только эволюционировать, но и более прежнего сформировать (теперь уже не только западного) человека. В наше читательское сознание эта книга, переведенная на русский впервые, входит совсем в другом контексте, нежели тот, в котором современники впервые прочитали ее в оригинале. Понятно, что, написанная в середине 70-х, книга не только отражала контекст своего времени и пользовалась его интеллектуальными средствами, но и решала актуальные для него задачи. Тогда было важно выстроить и защитную, и критическую дистанцию между сползающей в хаотический избыток фотографией и человеком. Для ее выстраивания Сонтаг предложила эффективный инструментарий. Не то чтобы эту дистанцию пора теперь сокращать — нет, — но явно есть смысл сосредоточиться на том, что в ходе решения задач по ее выстраиванию осталось на периферии.
В издании книги у нас можно видеть свидетельство того, что отношения человека и фотографии, самое фотографию как тип чувствования и практики пора перепродумать.
У современного отношения к фотографии четко видны два полюса: гипердоверчивость, доминирующая, приводящая вкупе с цифровыми технологиями к тому переизбытку фотоизображений, который чуть ли не синонимичен сегодняшней массовой культуре, во всяком случае, составляет ее неотъемлемую часть и гиперзащита от нее, занимающая куда меньше места, но представляющая собой, по сути, реакцию на массовую некритичную доверчивость и в конечном счете оборотную ее сторону. Чтобы понять фотографию хоть сколько-то непредвзято, стоит постараться выйти за пределы этой — не дурной ли? — дихотомии.
Фотографию пора и переоправдать: нам не хватает, так сказать, фотодицеи. Стоило бы понять ее не (только) как форму насилия над реальностью, отчуждения от нее, а то и вовсе ее убиения (такое отношение к ней само по себе основано на определенном — не зауженном ли? — представлении о реальности), но (и) как один из способов контакта с этой реальностью (с самими собой). И конечно, формирования реальности, не обязательно тождественного деформированию.
На эти темы, по крайней мере по-русски, не так много написано, что само по себе позволяет надеяться на плодотворность этого не слишком распаханного тематического поля. Из отечественных авторов приходит на память разве что Сергей Лишаев с его книгой «Помнить фотографией» [8] . Правда, он скорее развивает критическую, «защитную» и дистанцирующую линию в отношении своего предмета, которая, надо признать, у нас не только не осуществлена до конца, но даже как следует и не начата. Еще и поэтому усвоение сказанного Сонтаг важно: фотодицея не должна быть некритичной.
Для начала вспомним о том, что и фотография, и фотографирующий — части реальности. Разделение этой последней на «фотографическую» и «нефотографическую» условно, если не сказать — насильственно. o:p/
А вообще стоит подумать, например, над тем, как фотография настраивает, оформляет и воспитывает внимание (она сама по себе — воспитание взгляда), что фотография дает чувство ценности снимаемого — останавливает и фокусирует на нем внимание и чувство. Что она, — расширяя пространство визуального опыта и притом позволяя, в отличие от, скажем, видеосьемки, рассматривать остановленное мгновение сколь угодно долго, — способна помочь человеку почувствовать, что разные области бытия, которые входят в его зрительный опыт, имеют к нему отношение. Что она — в числе средств, расширяющих пространство человечности, раздвигающих границы субъективности, — и что она, в конце концов, лишь средство, способное быть использованным и с иными целями, нежели агрессивные, приобретательские и потребительские (в том, что она — «орудие сознания, настроенного приобретательски», найдутся основания обвинить и шариковую ручку). Что она противостоит всепожирающему небытию. Соединяет нас с исчезнувшим. Предоставляет новые, неведомые дофотографическим эпохам способы работы с прошлым — которые не могут сводиться к подмене памяти о живой жизни памятью о ее изображениях.
Начатки будущей фотодицеи есть уже у самой Сонтаг. «Самым грандиозным результатом фотографической деятельности» она считает «ощущение, что мы можем держать в голове весь мир — как антологию изображений» (это ли не способ воспитания всемирной отзывчивости?). Сонтаг видит, что «фотографические изображения — не столько высказывания о мире, сколько его части...» — несколько противореча тому, что сама и утверждает (а утверждает она, напомним, что они — очень даже высказывания, интерпретации и конструкции. Впрочем, когда это высказывания, интерпретации и конструкции не были частью реальности?).
У Сонтаг вообще многое намечено и не развернуто: подступы и к гносеологии фотографии, и к ее этике (которая не обязательно должна быть выстроена в предложенном Сонтаг ключе с его марксистскими и психоаналитическими компонентами), и к самой ее антропологии. В конце концов, составившие книгу тексты — именно эссе, а в существе этого жанра — не столько систематичность, сколько парадоксальность и провокативность. Как и положено в эссеистике, Сонтаг дает много заготовок, затравок, отправных точек для выстраивания будущей теории фотографической работы с реальностью. И в этом смысле хочется даже признать удачей то, что ее издали у нас только теперь: мы не захвачены контекстом, в котором она когда-то читалась, избавлены от соблазнов актуальности и неминуемо связанных с нею заострений и преувеличений. Мы имеем шанс не подпасть под влияние сказанного и вести с ним диалог на равных.
Одна только беда. Надо же было умудриться выпустить книгу о фотографии без единой фотографии. Возможно, иллюстраций нет и в англоязычном издании. Но даже если это так, русскому читателю — в голове у которого не обязательно есть представления обо всех упомянутых в книге снимках, значимых для западной культурной истории и для развертывания авторской мысли, — было бы важно хоть что-то из этого увидеть.
o:p/
Дневники Сонтаг вышли по-русски позже ее знаменитой книги о фотографии, появившейся в русском переводе еще в конце декабря 2012 года. Тем интереснее прочитать это введение в смысловой мир автора «обратным» зрением — уже зная, что вышло из четырнадцатилетней девочки, перу которой принадлежат первые из вошедших в дневники записей; сравнить «текст для себя» и «текст для других», внутренний и внешний. Что можно найти в них общего? Чем может помочь первый в понимании второго? o:p/
Сын Сонтаг Дэвид Рифф, посмертно издавший бумаги матери, включил в книгу страницы из ее дневников и записных книжек с 1947 по 1963 год — с 14 до 30 лет (вообще она вела дневник с двенадцати лет). Чем бы ни был обусловлен именно такой выбор, мы получаем возможность проследить, как менялась внутренняя речь автора в эти годы, что на каждом из этапов становления виделось ей достойным фиксации и письменного проговаривания. o:p/
В начале книги мы видим четырнадцатилетнего человека (язык не поворачивается сказать — «ребенка» или «подростка»), формулирующего свои основные ценности и принципы, жадно набирающего материал для самовыстраивания, составляющего списки книг, которые непременно надо прочитать. Человека, который, несмотря на зрелый сложный ум, все еще накануне самого себя: «Все мое естество кажется мне сжатой пружиной, оно исполнено ожидания». На последних страницах… пожалуй, человека вне возраста. Свободного, наконец, от возраста как от одной из форм ограничений и условностей. o:p/
Она, кажется, уже родилась взрослой — как Афина из головы Зевса, сразу в полном боевом облачении. И основной пафос ее личности на протяжении всех уместившихся в книгу лет оставался, кажется, неизменным: это — пафос свободы, независимости от условностей и инерций, вообще от всего недостаточно прожитого и прорефлексированного. А отсюда — предельная, насколько возможно, честность с собой. o:p/
«Я не позволю интеллекту, — размашисто и решительно пишет шестнадцатилетняя Сьюзен, — господствовать над собой и не намерена преклоняться перед знаниями или людьми, которые знаниями обладают!» o:p/
Ключевые слова здесь, на самом деле — «не позволю господствовать над собой» и «не намерена преклоняться». o:p/
Средством достижения свободы — ценности, по сути, этической — в самом начале признавался исключительно интеллект. Впрочем, позиции его были не так уж тверды даже в расцвете его господства во внутреннем мире автора: «Проблема состоит в том, — выписывала Сьюзен из „Контрапункта” Хаксли еще в ту пору, когда разум, казалось, был для нее всем, — чтобы преобразовать отчужденность интеллектуального скепсиса в полноту гармоничной жизни». Вскоре — ненадолго, хотя и со страстной категоричностью, интеллект вытеснила в этой роли новооткрытая для себя юным автором, прежде всего гомосексуальная (значит, табуированная), чувственность. Пережитый в 16 лет сексуальный опыт стал для Сонтаг инициацией в свободу — инструментом освобождения. Но опять же — не более чем инструментом. Благодаря этому опыту она, по собственному чувству, родилась заново — стала такой, какой была потом всю жизнь. Но этот опыт, в сущности, оказался нужным лишь затем, чтобы окончательно утвердиться в понимании недостаточности одного только интеллекта: «Никогда до сих пор мне не приходило в голову, — изумлялась юная Сонтаг,— что можно просто жить своим телом, не предаваясь омерзительным дихотомиям !». o:p/
Очень недолго ей казалось, что «любить свое тело и использовать его как следует — вот самое главное». Главным было другое — и она догадывалась об этом уже тогда, в шестнадцать: «Бисексуальность как выражение полноты личности…». И здесь ключевое — совсем не то слово, что стоит первым, но «полнота личности», та самая «полнота гармоничной жизни». o:p/
На смену острым очарованиям интеллектуальным и чувственным началами вскоре пришло, чтобы так с нею и остаться, понимание того, что оба они — в некотором смысле явления одного порядка [9] . И то и другое способно стать (захватывающей человека) страстью, экстазом. («Интеллектуальный экстаз, — замечает она, — доступен мне с раннего детства. Но ведь это лишь экстаз».) И то и другое может — и должно — быть обращено в средство освобождения. «Я знаю, что смогу, потому что я вырвалась на свободу». o:p/
Дневник Сонтаг — книга трудная, прежде всего для самого автора. «Всю жизнь, с юности до старости, — пишет в предисловии Рифф, — она, похоже, вела одну и ту же битву — с внешним миром и с собой». То была битва за предельную честность и отчетливость видения всего переживаемого. Дневник для нее был средством «самосозидания», того, чтобы «очертить свои пределы». С юных лет до зрелости записи пронизывает пристальность рефлексии — «испытание каждой мысли, и слова, и поступка…» — и готовность сказать «нет» всему внешнему, что претендует подчинить человека себе. Даже если это любовь — страстная любовная зависимость от человека, сказать «нет» которой — и которому — мучительно трудно. В этом, разумеется, есть нечто утопическое. Но люди с темпераментом Сонтаг смиренными реалистами не бывают. o:p/
Три — синонимичные друг другу, сливающиеся друг с другом — принципа персональной утопии Сонтаг: свобода — полнота чувств — максимум осознания. Достижение и сохранение — одновременно — свободы и полноты внутреннего контроля и порядка [10] . Выбор этих принципов ни в коей мере не умозрителен — о движущих ею ценностях Сонтаг пишет как о «вещах, которые всецело захватывают» ее: и это — обратим внимание на порядок слов — «нравственность, творение, хаос, познание, чувственность». «Чувственность» к 26 годам сместилась на последнее место; не на много опередило ее и само «познание», уступив даже «хаосу». А на первом месте — и так ли это случайно? — «нравственность». o:p/
Сонтаг, как на первый взгляд ни удивительно, — не интеллектуал (с его убежденностью в самоценности и всесилии интеллекта — этим она переболела в отрочестве). Она — этик и никогда не перестает чувствовать границы интеллекта, исследовать, растягивать их (в том числе — и бунтовать против них; но это опять же потому, что они есть и чувствуются). «То, что существуют тайны (а не только степени неопределенности): вот чего не понимает пуританский дух», — пишет она в двадцать восемь. Она — человек с парадоксальным, напряженным, явно небесконфликтным единством религиозного темперамента (страстной воли к Безусловному) и теми атеистическими сознательными установками, которыми снабдила ее современная ей культура. Для полноценности и подлинности существования ей было необходимо Безусловное — и на эту роль в разные периоды жизни пробовались разные претенденты: «Так же как некогда я была до ужаса, до исступления религиозной и подумывала о переходе в католичество, — записывает пятнадцатилетняя Сьюзен, — так теперь я обнаруживаю в себе лесбийские наклонности...». Наклонности-то останутся и будут приняты, но экзамена на способность считаться Безусловным, пожалуй, не выдержат. o:p/
Этот экзамен выдержит — по крайней мере, в той части жизни Сонтаг, что уместилась в книге, — кажется, лишь синонимичная свободе ясность видения и понимания, которой она неустанно добивалась от себя всю жизнь. Эта ясность была для Сонтаг прежде всего вопросом человеческого достоинства, и работа над нею — этической работой. Выделкой человека. Записи для себя и книгу о фотографии, при всем различии и вошедших в них материалов, и степени выстроенности текстов, — объединяет именно это. o:p/
o:p/
o:p/
o:p/
[1] «Сама эта ненасытность фотографического глаза, — пишет Сонтаг в первом же абзаце книги, — меняет условия заключения в пещере — в нашем мире». o:p/
o:p/
[2] Зонтаг Сьюзен. «Взгляд на фотографию». Цит. по: <-shoot.ru/load/43-1-0-261>. o:p/
o:p/
[3] «…само это занятие, — пишет Сонтаг о навязчивом туристском фотографировании, — успокаивает, ослабляет чувство дезориентированности, нередко обостряющееся в путешествии». o:p/
o:p/
[4] «…самые рьяные фотографы и дома, и за границей, видимо, те, у кого отнято прошлое». o:p/
o:p/
[5] «…в работе фотографа творятся те же, обычно темные, сделки между правдой и искусством, что и во всяком художестве». o:p/
o:p/
[6] «Не снимать детей, особенно когда они маленькие, — это признак родительского равнодушия, точно так же, как не пойти на съемку класса после выпуска — это проявление подросткового бунта». o:p/
o:p/
[7] «Подобно автомобилям и пистолетам, фотокамера — машина фантазий и вызывает зависимость». o:p/
o:p/
[8] Лишаев Сергей. Помнить фотографией. СПб., «Алетейя», 2012. o:p/
o:p/
[9] «Интеллектуальный „голод”, — пишет уже тридцатилетняя Сонтаг, — подобен острому половому влечению». o:p/
o:p/
[10] «Я ощущаю… потребность, — пишет она в 23 года, — …зафиксировать + расположить в порядке свой опыт и переживания, понять собственное развитие как философа-диалектика — быть в совершенном сознании каждую минуту, а значит, ощущать прошлое таким же действительным, как настоящее». o:p/
o:p/
КНИЖНАЯ ПОЛКА ДЕНИСА БЕЗНОСОВА
Свою десятку представляет поэт, переводчик, литературовед, редактор издательства «ОГИ».
Томас Пинчон. Радуга тяготения. Перевод с английского А. Грызуновой, М. Немцова. М., «ЭКСМО», 2012, 760 стр.
Роман скорее о ракете, нежели о человеке, комичный и вместе с тем крайне болезненный, наконец, появился на русском языке.
Об этом тяжеловесном постмодернистском эпосе Томаса Пинчона, кажется, уже все всем хорошо известно, поскольку книга вышла почти 40 лет назад (первое издание — 1973 г.) и с тех пор успела стать культовой, войти в университетские программы США и проч. Люди, интересующиеся Пинчоном и «Радугой тяготения», надо полагать, либо уже прочли текст в оригинале, либо достаточно узнали о нем и решили в силу трудночитаемости до поры до времени к книге не прикасаться.
Но, несмотря ни на что, хотя бы в качестве реализации самоцели, Анастасия Грызунова и Максим Немцов решили перевести заведомо непереводимый текст, и вроде бы им это удалось. Впрочем, критика перевода неизбежна, как и в случае с «Улиссом» (с которым, кстати говоря, часто сравнивают «Радугу…»), поскольку издание (вероятно, сознательно) не снабжено переводческим комментарием, которого часто не хватает. Так, например, имя главного героя (чье существование вполне можно поставить под сомнение), Тайрон Слотроп, переведено как Эния Ленитроп — если с фамилией все понятно ( sloth — леность), то трансформация имени вовсе не очевидна, хотя, разумеется, и у нее есть некое объяснение.
У Ленитропа есть загадочная связь со знаменитой ракетой V-2, которая падает именно там, где у него накануне случился половой акт, и в течение всего романа Эния пытается узнать о причинах этой связи. Вскоре оказывается, что существует ракета с необычным номером из пяти нулей и секретным компонентом Schwarzgerаt (черный блок), сделанным из Имиколекса G, изобретенного неким исследователем, который когда-то ставил эксперименты на Ленитропе и т. д. Между тем за Энией устанавливается слежка, причем шпионят за ним практически все окружающие, и шпионят вплоть до его расщепления на отдельные личности и, затем, полного исчезновения.
«Радугу…» нельзя назвать бессюжетной, однако сюжет отнюдь не самое в ней главное. Прежде всего, помимо бесконечного количества персонажей, здесь присутствует целый спектр речевых стилей — от высокопарности до жаргона, и контрасты весьма насыщенны. Кроме того, сама по себе архитектоника романа крайне непросто устроена.
Существует немало мнений относительно схемы, по которой выстроен пинчоновский opus magnum, из которых хочется выделить гипотезу о закольцованности повествования. Книга открывается ракетным воем и эвакуацией, приснившимися (ли?) «Пирату» Джеффри Апереткину, и заканчивается падением ракеты на кинотеатр, т. е. вполне возможно, что вся эта параноидально-многоголосная история о Ленитропе, Тедди Бомбаже, Катье Бергесиус, нацистском капитане Бликеро, советском разведчике Чичерине, секретной службе АХТУНГ, фаллической V-2 и еще о многом другом — попросту приснилась «Пирату». Быть может, он вовсе не просыпался, и книга длится всего несколько минут или секунд — от хлопка запущенной ракеты до ее беззвучного приземления на кинотеатр?
Надо полагать, универсального ответа нет и не может быть, поскольку a priori не предполагалось. Зато остается немало вопросов: «„Пойдем наверх”, — грит Ленитроп. Может, она и замялась, но так, что он не заметил: „О чем мы все это время говорили?” — „Об этой ракете…”».
И разговор длится 760 страниц — как в первом издании, так и в русском переводе.
Сэмюэль Беккет. Про всех падающих. Пьесы. Перевод с английского М. Дадяна, Е. Суриц. М., «Текст», 2012, 254 стр. («Классика»)
Сэмюэля Беккета принято воспринимать как представителя т. н. театра абсурда (или — шире — абсурдизма), причем, как правило, к этому сегменту искусства относят не только его драматургию, но и прозу (особенно трилогию 1951 — 1953 гг.), и даже стихи. Однако это не совсем верно, если понимать под абсурдистской пьесой лишенную смысла совокупность действий, совмещенную с еще менее осмысленными репликами персонажей. И то и другое не вполне применимо к Беккету, у которого и действие, и речь персонажа всегда четко структурированы, а бессмыслица на самом деле только прикидывается таковой.
Если «В ожидании Годо» — это гротескная аллегория, герои-метафоры которой — согласно известной формулировке Делеза — прокляты, то более поздние пьесы (исключая разве что «Игру» 1963-го) избегают аллегоричности и куда более реалистичны, чем может показаться на первый взгляд. Собрание англоязычных драм, радио- и телепьес «Про всех падающих», представляющее инструментарий Беккета во всем его обширном диапазоне, — яркий пример такой мнимой абсурдности.
За пределами протяжных, зачастую самоповторяющихся, моно-, диа- и (реже) полилогов существует некое определенное событие, поддающееся логичной интерпретации, но сквозь речь кажущееся нелогичным, поскольку говорящий не рассказывает, предполагая собеседника, но рефлексирует, оставляя за скобками все, что, с его точки зрения, и без того известно.
Привычный персонаж при этом может частично отсутствовать: в «Словах и музыке» разговаривают Слова, Музыка и Хрипун; в пьесе «Не я» монолог принадлежит Рту, владелец которого погружен во тьму; или, наоборот, раздваиваться: «Последняя лента Крэппа» — своеобразный диалог героя с самим собой в молодости; «А, Джо?» — равнодушное «лицо» Джо слушает не менее равнодушный Женский голос, говорящий как бы изнутри него; «Экспромт „Огайо”» — беседа двойников, один из которых рассказывает их общую жизнь, а второй время от времени стучит по столу, прерывая собеседника и заставляя его повторять некоторые места; «В тот раз» — молчаливое лицо Слушателя, и с трех сторон — принадлежащие ему три голоса: А, В и С.
А в драме «Укачальная», где женщина в кресле-качалке опять-таки слушает запись своего голоса, ее внутренне-внешний монолог сегментирован на стихотворные строки, имитирующие ритм раскачивания: «…так наконец / вечером долгого дня / вернулась внутрь / наконец вернулась внутрь / говоря себе самой / кому ж еще / пора остановиться / пора остановиться / взад и вперед…» и т. д.
Беккет последовательно устраняет персонажа, либо репродуцируя через него беспрерывный речевой поток, либо лишая его возможности говорить, заставляя повторять раз за разом одинаковые действия. Так, герои пьесы «Шаги» ходят вдоль и вокруг освещенного щита (шаги, в сущности, и являются персонажами), а в «Квадрате» еще более прихотливые передвижения героев сопровождаются шумовыми и световыми эффектами.
Но это устранение достигает своего апогея в радикально минималистичном «Вздохе», длящемся около минуты, где нет ничего, кроме мусора, раскиданного по сцене, и двух криков новорожденного — в начале и в конце пьесы. Такова предельная грань беккетовской пустоты.
Сергей Бирюков. Полет динозавра. Madrid, Ediciones del Hebreo Errante, 2011, 52 стр.
Очередная книга стихотворений Сергея Бирюкова, одинаково мастерски владеющего авангардно-заумной и привычно-нормативной речью, синтезирует в себе особенности прежнего его творчества и некоторые интонационно новые для него формы поэтического высказывания. Одним из центральных приемов «Полета динозавра» является своеобразное моделирование стройного логичного суждения внутри заведомо нелогичной речевой структуры. То есть достигается причудливый эффект, так сказать, параллельной логики, весьма отличающейся от общепринятой, но при этом не менее последовательной.
Такая витиеватая конструкция реализуется автором уже в предисловии «Для особых любителей предисловий»: «Если кто-то хочет узнать что-либо другое, кроме того что здесь и так, но нет, вот оно что, другое то что, нет, а но да»; причем рассуждение сознательно обрывается на сослагательности: «Если литеры пишмашинки оставляли неведомым сигналы на валике. Если дигитальные признаки/призраки слов. Здесь должно последовать указательное местоимение „то”. Но вместо него последовало предположительное „если”».
Похожим образом Бирюков действует в стихотворении, давшем название сборнику, на этот раз начиная речевым клише, которое тотчас же оборачивается парадоксом: «по наблюдениям ученых / голодные мыши живут дольше...». Далее следует ряд сообщений, рисующих фантасмагорическую картину, будто созданную по стопам сугубо научных фактов («но оказывается динозавры / летали / по наблюдениям ученых»), и навеянных ими рациональных размышлений («упорядоченная система / неожиданно трансформировалась / в хаос / что по определению Пригожина / позволило выйти на новый виток»). Так, заведомо нелогичное облачается в иронию и прикидывается достоверным.
С того же «наблюдения ученых» начинается другой квазилогичный текст «Полета…» — «Концепутальное»:
по мнению ученых
обезьяны понимают
концепцию смерти
если другие обезьяны
им ее объясняют
доходчиво
например играют
в то что умирают
Поэзия Бирюкова не только логична/нелогична, она одновременно серьезна и (само)иронична. Игровой тон повествования об обезьяньем понимании резко контрастирует с последними двумя строками стихотворения: игра в смерть сама собой перечеркивает концепцию смерти.
Помимо квазилогичных сообщений, также весьма любопытна имитация диалога в тексте «Тогда он сказал»:
…тогда он сказал
если меня не примут здесь
тогда примут там
если не там
так здесь
если не здесь
так не там
что еще есть
еще кроме там
и здесь ?
не забудь
о последних
о каких?
ну о тех которые…
а…
В размышлении бирюковского персонажа и следующего за ним диалога с другим персонажем, безусловно, есть своя логика, не подвластная внешней интерпретации и содержащая в себе скорее импульс речи, нежели саму речь. Подобно зауми, говорящей с читателем на несуществующем языке, но обладающей при этом вполне определенной внутренней структурой (фонетической, синтаксической и т. д.), алогичные стихи Бирюкова говорят что-то понятное и в то же время непонятное. Правда, автор говорит с едва заметной улыбкой, потому порой практически невозможно разобраться, где ирония сменяется серьезностью, и наоборот.
Вальтер Беньямин. Улица с односторонним движением. Перевод с немецкого И. Болдырева. М., «Ад Маргинем Пресс», 2012, 128 стр.
«Улица с односторонним движением», вышедшая в 1928 г. параллельно с одним из ключевых трудов Беньямина — «Происхождением немецкой барочной драмы», — воспринимается как своего рода маргиналия к «Московскому дневнику» и смотрится наподобие «Афоризмов житейской мудрости» на фоне главной книги Шопенгауэра. Однако писать «Улицу…» автор начал в 1924-м, а московскую поездку совершил двумя годами позже, так что здесь — скорее обратная зависимость.
Афористично фрагментарная книжечка, посвященная возлюбленной Беньямина, латышской актрисе и коммунистке Асе Лацис, — это собрание разнородных тезисов, иные из которых развернуты на несколько страниц, а иные сжаты до короткой фразы. Но при всей своей кажущейся сумбурности и действительно походя на собрание дневниковых записей, «Улица…» представляет собой монолитный текст, в котором прослеживается общая лирическая, даже поэтическая интонация, что отчасти роднит ее с другой отрывочной , но более поздней книгой Беньямина «Берлинское детство на рубеже веков».
Взгляд автора сфокусирован на пространстве реальном и пространстве сна; так, осязаемая действительность сама собой перекликается со своим сновиденческим двойником: «Посещение дома Гёте. Не могу отделаться от ощущения, что видел эти комнаты во сне»; «Во сне я видел безлюдную местность. Это была рыночная площадь в Веймаре» и т. д.
Зачастую описываемые Беньямином сны почти аллегоричны, но, как правило, обрываются после своеобразной эпифании, когда автор внезапно нащупывает какой-то свой, отчасти разгерметизированный, персональный смысл. Так, например, во фрагменте, загадочно озаглавленном «Мексиканское посольство», вслед за эпиграфом из Бодлера об истинности бога-фетиша рассказывается, как во сне, будучи участником исследовательской экспедиции в мексиканских лесах, автор обнаружил подземный грот, и на его глазах свершился древний обряд: «…перед деревянной поясной статуей Бога-Отца, установленной на большой высоте на одной из стен, священник поднял мексиканский фетиш. Тогда голова Бога в знак отрицания трижды повернулась справа налево». Но это все, больше нам ничего не сообщается, нас уже ждет следующая глава под названием «Просьба бережно относиться к зеленым насаждениям».
Где-то Беньямин сентиментален, где-то строг и серьезен, а где-то и вовсе создает шутливо-пародийный текст. Чего, скажем, стоит его учебное пособие о «принципах увесистых томов или искусстве писать толстые книги», где помимо прочего абстрактному подмастерью он советует использовать «длинные и многословные описания замысла», общие понятия иллюстрировать множеством примеров («если речь идет, скажем, о машинах, то следует перечислить все возможные их виды»), излагать словами «взаимосвязи, которые можно было бы представить графически» и т. д. Но за этими шуточными советами следует весьма любопытное рассуждение о каталогизации современного научного труда, пресловутой взаимосвязи пишущей машинки и пера, а также о достижении гармонии в прозе через ритмическое нарушение: «Так сквозь брешь в стене в комнату алхимика прорывается луч света и заставляет сверкать кристаллы, сферы и треугольники».
Диапазон рассуждений исключительно широк. При довольно небольшом объеме книги, на «Улице…» Беньямина сосуществуют самые разные мысли, как, впрочем, и самые разные жители.
Пьер Клоссовски. Диана и Бафомет. Составление, перевод с французского и послесловие В. Лапицкого. СПб., «Амфора», 2011, 476 стр. («Читать не просто»)
Диана в окружении нимф омывается после охоты.
Случайный взгляд охотника Актеона, воспитанника Хирона и внука Кадма, наблюдает за омовением богини и постепенно перестает быть случайным.
Через мгновение она заметит, что за ней наблюдает человек, превратит Актеона в оленя, и его же охотничьи собаки разорвут охотника на части.
Такова исконная мифологема, но Пьер Клоссовски не склонен послушно ее принять. Его камера начинает вращаться, меняя ракурсы один за другим, глядя на застывшую поперек времени историю Дианы и Актеона. Постепенно сменяется и полярность, поскольку теперь не совсем ясно, кто был инициатором этого вуайеристского акта. Возможно, вся ситуация была изначально предопределена и не могла завершиться иначе, кроме как наказанием Актеона, причем он не только тому не противился, но заранее готовился к своей участи, и его взгляд увидел тело Дианы не случайно. Заранее Актеон примерял шкуру оленя, потому как Диана, заключив договор с демоном-посредником, вселила в него желание обладать богиней, и «демон-симулянт» стал «воображением Актеона и зеркалом Дианы».
Камера продолжает вращаться, и герметичный текст т. н. эссе «Купание Дианы» уже вызывает настоящее головокружение. Впрочем, именно так выглядит стиль Клоссовски, соратника не менее запутанных Батая, Фуко и Бланшо. В длинных, но парадоксально емких предложениях всегда зашифрована та или иная умозрительная мысль, прочесть которую получается не сразу.
Гностический роман «Бафомет» кажется еще более герметичным, нежели «Купание Дианы». Здесь за основу повествования берется миф о тамплиерах, якобы наказанных за содомию и поклонение Бафомету-андрогину, и говорится о явлении этого андрогина в теле молодого пажа Ожье де Бозеана. Но только отчасти предполагается телесная метаморфоза, поскольку герои романа, которым является Бафомет, божество, обретшее образ, — не сами тамплиеры, а их предсмертные дыхания, роящиеся вокруг Великого Магистра. Это не вполне герои, скорее перед нами оголенные рассуждения, идеи или некая единая эманация, транслируемая в виде разрозненных реплик.
Внетелесные события романа резко контрастируют с телесным, почти бытовым прологом, где описывается реальный (т. е. материальный) план повествования, — правда, вряд ли уместно говорить о предыстории, поскольку текст Клоссовски далеко не всегда линеен. Ожье де Бозеан, молодой паж из пролога, которого в корыстных целях использует его тетушка Валентина де Сен-Ви, и Ожье Бафомет, гностический андрогин после преображения, — две противоположные ипостаси одной сущности, одного героя-идеи. Его трагедия относительна, поскольку, потерпев поражение среди тел, он обретает место среди дыханий.
Кроме того, даже реальное подвергается у Клоссовски сомнению, ведь что-то из наблюдаемого тамплиерами вполне могло явиться, например, галлюцинацией. Полярность настоящего/ненастоящего постоянно переменяется, что, разумеется, напоминает рассуждения о Диане и Актеоне.
Кто создал зародыш ситуации, стоившей Актеону жизни, и было ли то, что с ним произошло, смертью? Какая из предложенных в «Бафомете» реальностей реальна? Но и тут дуализм: либо Клоссовски сознательно не отвечает на свои же вопросы, либо отвечает, но косвенно, чтобы только сведущий сумел его понять.
Артур Хоминский. Возлюбленная псу. Полное собрание сочинений. Составитель А. Л. Соболев. М., «Водолей», 2013, 200 стр.
Роман (или что-то подобное) «Уют Дженкини» и стихотворения Артура Хоминского, эксцентричного киевского писателя с приблизительной датой рождения (1888?) и вовсе неизвестной датой смерти, весьма необычны. Сразу бросается в глаза пародийность текстов (особенно прозы), но подается она со всей серьезностью, поскольку объектом пародии выбрано не что иное, как популярная в начале века символистская парадигма.
В сущности, Хоминский дает символизму своеобразное развитие через его же осмеяние, оживляет наскучившие «фиолетовые руки на эмалевой стене», временами напоминая Стерна, а где-то и Жарри. Потому его любимый прием — травестирование символистского текста, с его одухотворенными переливами, высокопарными переживаниями и густым метафорическим туманом.
Но автором прорабатываются отнюдь не только один русский символизм — кое-где, например, мелькают прямые или косвенные отсылки к предсимволистской «Падали» Шарля Бодлера: «Они встали, ушли и встретили труп коня. — Милая, помнишь у Бодлэра? И ты, которую я люблю больше жизни, а жизнь я ни в грош не ставлю, будешь такое же роскошною падалью в сияющем цветами лугу» (из «Уюта…»; также см. стихотворение «Весной», где вместо трупа лошади — дохлый пес); а где-то встречается интонация, родственная, скажем, Шарлю Кро.
Вся эта игра, смешение патетики и наивного примитива, порой напоминает нечто почти обэриутское:
<…> Воровка залезла в купальную будку,
Мой месяц хохочет над злом,
В кустах я приметил домашнюю утку,
Эх! дернуть ее бы веслом!
Ты вновь не одета, в предвечной печали
Стоишь на крутых берегах,
Но мне этот образ интимной детали
Спирает сознанье в мозгах <…>
Еще более обэриутские пассажи встречаются в «Уюте…» Хоминского — скажем, подобные диалоги: «Виноват, ваш отец кто?» — «Мой отец золотопромышленник, а вы?» — «Я, пожалуй, помещик, а ваш отец кто?» — «Мой отец золотопромышленник, а вы?» — «Я, пожалуй, помещик, хотите жить вместе?» — «Согласна». — «Дайте мне вашу руку!» Или задачи, в решении которых преуспел главный герой «Уюта…» Тальский, некогда «ушедший от повседневной маяты в Дженкинское Общество Стояния на Перекрестках» (смысл и цель этого стояния , конечно, не объясняются):
«19 мальчиков, кушая по 22 часа в сутки, в продолжение 14 дней съели 972 яблока, 1 грушу и 16384 сливы. Спрашивается: сколько потребуется таких же мальчиков, чтобы они, кушая по 24 часа в сутки, в продолжение 30 дней, могли съесть 997 яблок, 52578 груш и 72568 7/ sub 5 /sub сливы, если питательность этих фруктов, по их порядку в задаче, равна 1, 0,6 и 0,25? Ответ: 81,2 (7) мальчика».
Иные же цитаты-нонсенсы выглядят почти сюрреалистично: «Когда брат доказывал свое царское происхождение, он смотрел на ту собаку, около которой стоял дом»; «Опытный фармацевт мажет красной краской длинный хвост нездешнего кота» и т. д.
Действительно, Хоминскому удалось очень многое предвосхитить из разного рода формальных открытий 1920-х. Но в первую очередь любопытен он вовсе не своими предоткрытиями, а всепоглощающей игрой, шуткой, рассказанной с каменным выражением лица и оттого становящейся только забавнее.
Альфред Дёблин. Берлин Александерплац. История о Франце Биберкопфе. Перевод с немецкого; издание, подготовка — А. В. Маркин, Н. С. Павлова, Т. А. Баскакова. М., «Ладомир: Наука», 2011, 634 стр. («Литературные памятники»)
Модернистское жизнеописание берлинского цементщика и транспортного рабочего Франца Биберкопфа, освободившегося из тюрьмы, с тем чтобы «стать порядочным», приспособиться к окружающему миру, о трех обрушившихся на него несчастьях, после которых он попал под суд и — затем — в психиатрическую лечебницу, и о его постепенном превращении в «незаметного труженика», стало важной вехой не только для творчества крупнейшего немецкого романиста Альфреда Дёблина, но и для всей мировой литературы ХХ века.
Существует два перевода этого романа на русский, наиболее известный из которых (Г. Зуккау под ред. Н. Португалова) был впервые опубликован в 1961 г. и впоследствии неоднократно переиздавался. Второй же — или, точнее, первый хронологически — анонимный перевод выходил единственный раз, в 1935 г. — этот текст и взят за основу нынешнего издания, поскольку именно он, по утверждению А. Маркина, одного из составителей книги, значительно точнее передает «своеобразие дёблиновского письма, например, разные стилистические регистры, используемые писателем». Иными словами, в переводе 1961-го многое сглаживается: к примеру, игнорируются воровской жаргон, библейские цитаты и их авторская имитация, архаичная лексика, непристойные сцены и проч. Правда, надо отметить, и в первом издании романа отсутствовали неприличности и критика политического характера — эти фрагменты также теперь восполнены. То есть перед нами самое полное и подробно прокомментированное издание одной из главных книг немецкоязычной литературы предыдущего века.
«Берлин Александрплац», синтетический, коллажный роман, полный потоков сознания и формальных экспериментов, давно вошел в канон мирового модернизма. Наряду с Дублином Джойса (в подражании которому автора неизбежно обвиняли) и Манхэттеном Дос Пассоса Берлин Дёблина — это огромный, шумный организм, внутри которого живут люди, заводы, магазины, автомобили, рекламные объявления и газетные заголовки, радиопередачи и телефонные звонки — и еще многое, сливающееся в единый бурлящий поток. Но писатель практически не дает описаний, образ города складывается из формирующих его элементов — отнюдь не только потоков сознания, которые используются в числе прочих приемов. Его интересует сам по себе урбанистический шум, рождающийся из эклектичной смеси чьих-то отдельных реплик и уличной полифонии, что роднит стиль «Берлина…» с симультанными стихами и брюистской музыкой дадаистов.
Дёблину удалось создать чуть ли не эпическую поэму в прозе, патетично повествующую о маргинальных слоях общества. Герои дёблиновского «Берлина…» — это, прежде всего, воры, проститутки, сутенеры, убийцы и т. д. И Франц принадлежит этому миру, но пытается его покинуть, чтобы стать обыкновенным законопослушным служащим, — перейти от маргиналии к самой, как ему кажется, сердцевине города.
Однако при всей своей пестроте и многоликости, шумный город очень монотонен, потому каждая глава открывается кубистическим «зачином», где текст призван напоминать об однотипной берлинской застройке тех лет. В сущности, случившаяся с Биберкопфом метаморфоза только кажущаяся — он по-прежнему бродит среди этих каменных параллелепипедов, но несколько в другой роли. Впрочем, кажется, у Дёблина главный герой вовсе не Франц, а Берлин, урбанистический эпос, разлитый вокруг Франца.
Амарсана Улзытуев. Анафоры. М., «ОГИ», 2013, 76 стр.
Параллелизмы — эпифорические и/или анафорические — весьма часто встречаются в бурятской поэзии. Если систематически используемая в тексте эпифора создает своего рода плясовый ритм, то анафора ближе к напевному стиху. Именно на анафорах построены стихотворения из книги русско-бурятского поэта Амарсаны Улзытуева, а в заглавие книги вынесено название этой стилистической фигуры. Надо сказать, чаще всего автор употребляет фонетические анафоры («Слон вселенноподобный купается в мутной от ила реке, / Словно самое первое слово вначале времен»; «В сельве Амазонии, / Вселенной на Божьей ладони…»), реже лексические («Как утрами река свою вечность несет — любоваться, / Как веками волна за волной, припадает народ») и морфемные («Нежная кожа цвета рдеющей вишни, / Нега в миндалевидных темных глазах»), иногда порождая довольно любопытные начальные рифмы вроде «гениев-Гегеля» или «Непал-неба».
А где-то посредством аллитерации и опять-таки анафорического (и не только) повтора создаются, скажем, такие переклички: «Эзра Паунд еще не якшался с фашизмом, / Эзоповым языком Зощенко еще вовсю соловьем заливался, / Эсэсовцы еще не повесили этих девчонок, / Эту по имени Искра, и ту по имени Зоя…».
Однако перед нами вовсе не упражнения в стиле , где прием является самоцелью, — это оригинальный и даже несколько экзотичный поэтический голос, существующий в самом что ни есть нынешнем пространстве.
В стихах Улзытуева современные реалии раскачиваются под напевные бурятские ритмы и подаются одновременно серьезно и иронично: «То не Джеймс Кэмерон спускается в Байкал, / То не глубоководный аппарат „Мир — 1” с чужестранцем в гости к омулю, / То Титаник и Аватар в душу мою погружаются один за другим, / Топят лукоморье мыслей моих, вспучивая воображение». С одной стороны, это просто авторская рефлексия о популярных фильмах, для выражения которой выбрана довольно незаурядная форма, но с другой — этот контраст между напевно-анафорическим строем текста и его содержанием выглядит неожиданно и поражает своей насыщенностью. Само собой возникает ощущение вне- или даже безвременности — будто привычная нам реальность не столько врастает в то, что ей предшествовало, сколько именно существует наряду с этим. Прошлого как такового нет, есть фикция в виде, скажем, настенных часов [1] .
Иные стихотворения Улзытуева аллегоричны, с каким-то утробно-языческим звучанием, но по-прежнему крепко (в первую очередь, лексически) связаны с современностью:
И пока ненасилья идя трансцендентным путем,
Извлекая из гиперпространства кумыса броженье —
Эти степные народы еще не нашли
Эсхатологический способ питаться чистой энергией солнц…
<…>
Создается природа, человечества варится крепкий бульон,
Сок совершенства и жизни сочится,
Гости отведали плоти и крови, и потрохов,
Кости — собакам, и на дворе — свежесодранно, неба руно золотое дымится…
Натуралистичный процесс разделки барана оборачивается развернутой метафорой и даже воспринимается как некий ритуал, совершающийся опять-таки вне времени и, вероятно, вне единого (гипер)пространства. А напевная поэтическая речь не дает ритуалу распасться на составляющие.
Альфред Кубин. Другая сторона. Фантастический роман. Перевод с немецкого К. Белокурова. М., Екатеринбург, «Кабинетный ученый», 2013, 296 стр. («Old Europe»)
Графика Альфреда Кубина имеет обширную генеалогию: она идет от Босха и Брейгеля через барочного Риберу, «Капричос» и «Черные картины» Гойи к полумакабрическим Энсору, Редону, Клингеру, Мунку и в итоге обретает себя. Что же касается ее последующего развития — кажется, дальше, перекликаясь, например, с Кокошкой и Эшером, она стремится уже к сюрреализму. Но несмотря на некоторую сумбурность, возникающую при объективации сновидения, этот графический мир всегда предметен, осязаем, избегает чистой абстракции, вместо которой скорее берется конструкция из символов и аллегорий.
Похожим образом выстроен единственный роман Кубина «Другая сторона».
Книгу только отчасти можно назвать визионерской: все же помимо сновидческого опыта для автора не менее важен опыт реально-бытовой, поскольку здесь, как и во всякой (анти)утопии, важное место занимает сатирический аспект. Сама по себе сюжетная канва при всей своей авантюрности выполняет почти побочную функцию, поскольку писателя-графика в первую очередь интересует статичное изображение, динамическая же сторона разрабатывается через описание мыслей и снов.
Впрочем, и все происходящее в книге тоже можно интерпретировать как снящееся (автору, персонажу?): alter ego автора, тоже художник, получает от знакомого юности, Клауса Патеры, приглашение посетить подчиняющееся ему царство грез Перле и переселяется туда с женой; затем происходит классический поворот сюжета — страна, с самого начала не показавшаяся рассказчику безоговорочно идеальной, постепенно превращается в настоящую преисподнюю, которую он покидает после трех лет проживания. Так же как и в «Замке» Кафки, безусловно, во многом схожем с «Другой стороной», над всем царством грез возвышается персона Патеры, встречи с которым ищет рассказчик.
Этот загадочный мир, где весьма размыты экономические и социальные отношения, являет собой категорическое отрицание прогресса. Он не столько борется с эволюцией, сколько попросту игнорирует ее. Потому царство грез наводнено грудами старых вещей, которые свозятся сюда со всего мира, а новое не вызывает никакого интереса. Отсюда — любопытная дихотомия: греза (Traum), вокруг которой выстроены владения Патеры, может пониматься как пассеистский сон-воспоминание или же как футуристический сон-мечта; но второе значение в Перле насильно избегается. Правда, эта обращенность в прошлое обладает известной долей очарования. Потому роман Кубина не только критически рушит созданную им утопию, но и отчасти любуется ею.
Все-таки как бы ни была страшна хтонически-подсознательная реальность, ее черно-серая дымка многих привлекает — иначе зачем персонажи переселяются в Перле и не уезжают сразу же, осознав ее несовершенство, и, кроме того, зачем автору во всех подробностях описывать такой мир, сопровождая описание соответствующими графическими зарисовками? Несомненно, получившуюся у модерниста Кубина метафору «другой стороны» можно рассматривать с самых разных сторон, а не только с точки зрения антитезы утопии / ее отражения. Поскольку порой даже самый страшный кошмар во что бы то ни стало хочется досмотреть до конца.
Анна Альчук. Собрание стихотворений. Предисловие М. Рыклина; составление и комментарии Н. Азаровой и М. Рыклина. М., «Новое литературное обозрение», 2011, 352 стр.
Поэтика Анны Альчук (1955 — 2008), сформировавшаяся под влиянием Мандельштама и Цветаевой, с одной стороны, и футуристов — с другой, эволюционировала от модернизма первой половины ХХ века к своей собственной оригинальной манере. Но эволюцией этот процесс можно назвать с весомой долей условности, поскольку свойственное поэту стремление к молчанию через поглощение раздробленных смыслов присутствует и в ранних стихах (книги «Сиринга» и «Двенадцать ритмических пауз»), и в радикально-концептуальных книгах «Словарево» и «Простейшие», и в поздних текстах («не БУ», «Помимо»).
Если читать книги в хронологическом порядке, то поиски Альчук становятся очевидны. Она идет от рифмы и регулярной метрической организации к верлибру, затем текст сжимается, становится до крайней степени лаконичным, и, наконец, обретя новую оригинальную ритмику, распадается на отдельные морфемы, которые либо склеиваются между собой, порождая новые слова («спасиБо(г)де Ты(?)»), либо так и остаются отдельно лежать на странице («стра Дания / принц / тень от ЦА»).
Помимо прихотливого ритма, стихотворения Альчук зачастую обладают не менее прихотливым визуальным обликом. Работа над визуализацией поэтической речи лежит в основе «Словарева»: здесь «ЧАСЫпется (п)есок» (и он действительно осыпается буквами «к», превращаясь в полупалиндромное «косе(ц)»), стихотворение о «клетке тел» буквально представляет собой клетку, а текст о «рамке» — рамку и т. д. Кроме того, на визуализировании текста в пространстве страницы построена книга «Простейшие», состоящая из 10 буквенных квадратов, — «не эксперимент, а результат», по характеристике Вс. Некрасова.
При сращении изощренных словесного, ритмического и визуального планов возникла характерная для Альчук форма по-японски минималистичного — не только по объему, но и по внутренней интенции — стихотворения с совмещением двух текстовых слоев, границы между которыми маркируются при помощи прописных букв, скобок и пробелов:
РУ
ИНЫх уж нет
а те да(лече
ние) лесное
СНОВа (ве
тки) сквозь окон
прое(мы сЛИ)
СТВЫ одичалой
лоси СОВЫ
Текст предполагает как минимум два прочтения, что делает невозможным чтение его вслух, — неизбежно потеряется та или иная формальная особенность. Стихотворение монолитно и, вероятно, предполагает считывание сразу всех слоев «с листа», но вместе с тем оно опирается на многочисленные аллитерационные повторы и медитативную мелодику, что все-таки возвращает нас к попытке его устной репрезентации. И подобных расслоений текста у зрелой Альчук очень много: «лиловолны / (под нож)я скал льдов»; «УСТрицА губ / иТЕЛьна / накипь»; «(ВОП реки) течению / РОС ясен(ь)»; «О ТВАРИ! / ПОТ ИХ(оньку) КАЛ(итку) / И ВОЙ!(див тих ийс) / АД» и т. д.
В последних книгах содержание стихотворного текста сжимается — перед нами возникают зачастую статичные словесные кадры, где по-японски скомпрессированная лаконичность граничит с тавтограммами в духе футуризма: «сталь / а не латекс / стекло / а не пласт <…> / барокко укор — / красота?». Из звуков, из взаимодействия стихотворения с окружающей его страницей рождается емкая зарисовка, где все говорится не напрямую, а скорее в обход привычной речи. Поэзия Альчук, избегая таким образом банальностей, несколькими воздушными штрихами изображает самую сердцевину мира.
[1] См. также подборку стихотворений А. Улзытуева в «Новом мире» (2013, № 6).
КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ
«ПЕНА ДНЕЙ»
«Пена дней» Мишеля Гондри, по общему мнению, — наиболее близкая к тексту экранизация знаменитого романа Бориса Виана. Мечтатель, фокусник и визионер Гондри («Вечное сияние чистого разума», «Наука сна») любовно следует за автором книги и выстраивает на экране совершенно сумасшедшую сюрреалистическую среду, внутри которой разворачивается печальная история любви юного бездельника Колена (Ромен Дюрис) и прекрасной Хлои (Одри Тоту), угасающей от экзотического недуга. Все вроде как надо: празднично и цветисто в начале, трагично и монохромно в конце. Солидный бюджет, политкорректный кастинг: в главных ролях помимо Тоту и Дюриса — афрофранцуз Омар Си (звезда фильма «1+1»), афрофранцуженка Аиссса Маига и франкоараб Гад Эльмалех; все по высшему разряду, как и положено в статусной экранизации национальной классики. Но в итоге, по общему же мнению, выходит «чего-то не то». То есть не то чтобы скучно, а как-то непонятно, к чему вся эта прорва искусства? Зрители попроще покидают зал в недоумении. Продвинутые склоняются к мысли, что идеальное совпадение режиссерской манеры и текста Виана оборачивается в данном случае тавтологией, не прибавляющей к исходнику ни грана нового смысла.
Рискну предположить, что дело тут не столько в режиссерской манере Гондри, сколько в самом романе. Точнее, в его парадоксальных отношениях с историческим временем.
Написанный в 1946 году, на руинах послевоенной Европы, он тогда прошел почти незамеченным. Холод, голод, память о миллионах погибших, незабытый позор оккупации, не затихший гул всеобщего потрясения… И посреди всего этого 26-летний Виан сочиняет яркий, экстравагантный, причудливый текст, где сначала описывает мир, в котором единственно согласился бы жить, а затем с подростковым отчаянием живописует его погибель под катком «ненавистной действительности». В этом мире светят два солнца; вдохновенный повар Николя готовит изысканные блюда, рецепты которых занимают в романе по полстраницы; «пьянококтейль» — помесь пианино и шейкера — готовит напитки без единой фальшивой ноты; девушки прекрасны и в момент знакомства не устают повторять: «Представьте, я тоже!» («Я люблю джаз!» — «Представьте, я тоже!»)… Музыка Дюка Эллингтона льется изо всех щелей; мышки разговаривают и преисполнены дружелюбного сочувствия к человекам… А главное, — тут можно бездельничать в полное свое удовольствие, поскольку в мраморном сейфе хранятся нескончаемые дублоны.
Мир, где единственная ценность — персональное счастье, а все идолы модерна — Любовь к человечеству, Наука, Патриотизм, Милитаризм, Религия, Труд, Мораль, Философия и прочая, прочая — сброшены со своих пьедесталов. Больше того, именно эти чудовищные химеры во многом и превращают в романе персональный рай — в персональный ад: труд здесь — проклятие, религия — издевка, философия Жан-Соля Партра сводит с ума лучшего друга, а медицина разоряет дотла, но все равно бессильна спасти любимую.
Отчаянный бунт Виана против модерна опередил свое время на 20 лет, и только в 60-е, уже после смерти автора, роман «Пена дней» сделался культовым — знаменем революции 1968 года, положившей конец трехсотлетней эпохе становления современного общества и открывшей дорогу постмодернизму.
И вот еще полвека спустя Мишель Гондри, экранизируя «Пену дней», неожиданно оказывается в ловушке сбывшейся до мельчайших деталей утопии. Увы! Увы! Воображаемый рай Виана стал в Европе реальностью. Ужасы индустриального производства давно забыты. Гонка вооружений иссякла. Люди изобрели машины, которые работают вместо них. Свободного времени хоть отбавляй. Продвинутых игрушек и гэджетов — море. Деньги, правда, никто не отменял, но беспечно кататься на коньках и шляться по магазинам может позволить себе даже безработный на вэлфере.
Жизнь, однако, по-прежнему жестока и несправедлива…
В принципе «Пену дней» сегодня Гондри мог бы просто снимать на соседней улице. Но это был бы непростительный грех по отношению к сюрреалистической плоти романа. И режиссеру приходится выстраивать рядом с реальным — похожий на него, но намеренно остраненный, альтернативный потребительский «рай».
Главный способ «остранения» тут — последовательная элиминация из этой параллельной действительности ненавистных режиссеру цифровых технологий. Сам фильм снят без каких-либо компьютерных спецэффектов: только мультипликация и комбинированные съемки. А в пространстве, где происходит действие, компьютер словно бы вообще не изобрели. При всем том технологии — страшно продвинутые. Машбюро здесь — гигантский амфитеатр, где пишущие машинки стремительно движутся по ленте конвейера так, что каждый оператор успевает настучать только одну фразу, а дальше машинка отъезжает к другому. Есть тут, к примеру, аналоговый вариант «GPS»: звонишь по телефону, формулируешь барышне запрос, а потом глядишь в какой-то хитрый прибор (наподобие перископа), как на гигантской карте картонными стрелками тебе выкладывают маршрут. А если вдруг захочется полетать, то вместо нынешних фургончиков-кинотеатров «5D», дарующих, как говорят, полное ощущение заоблачного полета, — к твоим услугам прямо на улице облако с прозрачной сферической крышей: садишься в него, свесив ноги, и мощный строительный кран, подцепив, возносит тебя в небеса…
Первые минут пять этот забавный ретрофутуризм развлекает, но затем начинает несколько утомлять как всякое обезьянство и ненужное умножение сущностей. Искренне радуют разве что оживающие предметы вроде дверного звонка-таракана, который то и дело, грянув об пол, рассыпается кучей дребезжащих маленьких тараканчиков, а затем, собравшись, вновь водружается на дверную притолоку. Или ботинки, которые бегут на свидание впереди своего обладателя. Но когда подобным же образом живут своей жизнью сосиски на блюде — энтузиазма это как-то не вызывает. Равно как и живой угорь, выползающий из кухонной раковины. И стол с волнистой столешницей, откуда тарелки то и дело валятся на пол. И диджей с птичьей головой на катке. И пластилиновые ноги-макаронины, отрастающие у персонажей при исполнении зажигательного танца «Скосиглаза». И гонки на вагонетках: кто первый успеет к алтарю, — во время свадебной церемонии… Во всем ощущаешь не столько полет фантазии, сколько монотонное стремление сделать «не так, как на самом деле». И чувствуешь себя безнадежно взрослым посетителем луна-парка: тебя пугают, удивляют, толкают под локоть и теребят поминутно, а ты испытываешь только усталость и злость.
Не знаю, добивался этого Гондри сознательно или нет, но вся первая половина фильма — затейливая «аналоговая» параллель современной компьютерной цивилизации — воспринимается как своего рода карикатура, пародия, разоблачающая иллюзорность нынешнего постмодернистского космоса. Зато во второй части, когда болезнь Хлои и ощущение неотвратимо надвигающейся катастрофы заставляют фильмическое пространство сжиматься, гаснуть, покрываться паутиной и копотью, терять краски и избавляться от маньеристских гэджетов, — мир на экране делается вдруг до боли понятным и близким. Он соответствует печальным обстоятельствам и чувствам героев и вступает в резонанс с нашими глубинными страхами — страдания, нищеты, унижения, насилия, смерти… И как-то так само собой получается, что в фильме весь наш нынешний консюмеристский гедонизм — утомительная иллюзия, а кошмар бытия — реальность. Вечная. Неотменимая. Онтологическая.
А самое ужасное, что современному великовозрастному ребенку, получившему от цивилизации все мыслимые ништяки и подарки, в этом кошмаре уже некого обвинять.
В фильме Гондри, в отличие от романа, отсутствует энергия бунта. Против кого восставать?
Кадры ужасной работы на хищных станках, периодически с чавканьем превращающих в фарш рабочих, смотрятся просто как цитата из древних фильмов вроде «Метрополиса» Ф. Ланга.
История с выращиванием протонных ружей за счет человеческого тепла — уже не столько о безумии гонки вооружений, сколько об угасании человеческой энергии. Да, жутко, когда живого голого человека кладут на кучу голой земли и заставляют сутками лежать неподвижно, чтоб из посаженных в землю стальных желудей выросли смертоносные бяки. Но в книге Виана у Колена, когда он служил наседкой в этом милитаристском инкубаторе, вырастали ружья с прекрасными стальными розами на концах стволов. А в фильме стволы у героя получаются просто кривые и вялые. И когда в финале он пытается расстрелять из такого ружья смертоносные кувшинки, одна из которых, поселившись в легком, сгубила Хлою, ружье палит в белый свет, как в копеечку.
Кажется, главная проблема нынче — уже не жестокость внешней реальности, а внутренняя, душевная импотенция. К примеру, Гондри сочинил эпизод, отсутствующий в романе: безумный Шик (Гад Эльмалех), свихнувшийся на философии Жан-Соль Партра, предпринимает попытку обворовать уже почти разорившегося несчастного друга. И Колен с Хлоей, лихорадочно бегая по дому, ищут ключи, открывают сейф и собственноручно насаживают пачки денег на конец троса, спущенного через почерневшую стеклянную крышу. Шик вызывает уважение. Он в своем безумии готов идти до конца. А Колен позволяет себе ныть по поводу ненавистной работы, за что получает презрительные упреки от Анизы — подружки Шика (Аисса Маига).
Мир сбывшейся утопии выглядит на экране настолько расслабленным, вялым и ватным, что автору, кажется, хочется уже слегка отмотать назад. Ввести в него хоть что-то, что можно по-настоящему возненавидеть. Полицию, например, которая убивает Шика не за неуплату налогов, как в книге, а за чтение недозволенной литературы. Или наглых, смеющихся бюрократов, усаживающих Колена на специальный, сломанный стул. Но это все несерьезно. Энтропия анонимна, безлика и пронизывает собой все и вся. Хлоя болеет, цветы вянут, стены дома сдвигаются, неунывающий Николя стареет на глазах, всякое соприкосновение с внешним миром угнетает и ранит, а жизнь превращается в необратимое движение к смерти. Просто пока ты молод и у тебя есть дублоны в сейфе (его в фильме открывают двумя ключами — скрипичным и басовым, — висящими в тайнике за портретом Дюка Эллингтона; так что дублоны тут не просто деньги, а, скорее, — запас творческой, витальной энергии) — кажется, еще можно на что-то надеяться. Но по мере того как сейф пустеет и отпущенный при рождении ресурс иссякает, жуткая реальность вступает в свои права и принимается планомерно пережевывать человека.
И никто в этом не виноват.
Даже сами герои. Они в фильме лишены выбора и какой-либо индивидуальности. Куклы. Маски. Колен — влюбленный меланхолик. Хлоя — идеальная возлюбленная. Шик — яйцеголовый маньяк, у которого страсть к философии съедает живые чувства. Алиса — несчастная брошенка (ей, правда, хватает духу выдрать сердце у надутого ученого доктора — Жан-Соль Партра — с глазами, нарисованными на стеклах очков). Николя — чернокожий Арлекин, который ведет себя то как вышколенный слуга, то как свойский чувак из Гарлема. К актерам претензий нет. Даже то, что Одри Тоту и Ромен Дюрис почти в два раза старше своих героев, — нормально. У кукол нет возраста. Переломный момент картины — кадр, где мы внезапно оказываемся внутри грудной клетки уснувшей Хлои: в пластмассовых ребрах бьется бархатное алое сердце, а рядом распускается смертоносный цветок. Что тут поделаешь?
В общем, экранизация романа, оказавшегося ранней предтечей постмодернизма, выглядит сегодня памятником этой эпохе, окончательно зашедшей в тупик. Что называется: «Радио есть, а счастья нет».
Молодость, любовь, радость, творчество — иллюзия. Мир полон страданий, им правят угасание, старость, болезнь и смерть. Впору, кажется, усесться где-нибудь под деревом Бодхи и начать размышлять о четырех благородных истинах и восьмеричном пути. Или заняться еще какой-нибудь душеполезной практикой, избавляющей от главного проклятия современного человека — заключения в одиночной камере любимого «эго», набитой утраченными иллюзиями и неутраченными кошмарами.
Но Гондри — не мистик. Он предпочитает по-прежнему искать спасения в своем бесхитростном рукодельном искусстве.
В финале книги мышка — единственный подлинный филантроп в романе, — не выдержав страданий хозяина, засовывает (по взаимной договоренности) голову в пасть коту и ждет, когда кто-нибудь наступит ему на хвост: тогда сытая скотина изволит сжать челюсти.
В фильме мышь (актер Саша Бордо в костюме мыши) выносит из схлопывающегося коридора дома Колена блокнот с рисунками Хлои. Фигурки, нарисованные по краю страниц, при перелистывании — движутся. Блокнот передают в машбюро, размножают, получаются примитивные мультики, на фоне которых и идут финальные титры.
В 1946 году Виану, предвосхитившему нашу эпоху, хватило горечи описать и ее неизбежный конец.
В 2013-м, когда все напророченное сбылось, Мишель Гондри в своем фильме не решается так просто поставить точку. Да. Наши надежды и мечты иллюзорны, энтропия неумолима, дышать нечем, все щели в иные пространства законопачены. Но мы готовы длить и длить этот бесконечный экзистенциальный тупик в младшей группе детского сада. Ибо, как выбраться из него, — нынешняя Европа пока не придумала.
ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ С ПАВЛОМ КРЮЧКОВЫМ
Настя и Никита. Часть 1
Если бы я даже не видел ни одной книжки, выпущенной небольшим издательством, название которого сразу же раскавычиваю для обозначения сегодняшней темы, — то все равно посчитал бы проект удачным. Ибо как корабль назови, так он и поплывет, а что может быть лучше знакомого нашему уху дуэта: «Иван-да-Марья», «Стрекоза и муравей» или «Чук и Гек»? Правда, мне сразу же вспомнились «Необыкновенные приключения Карика и Вали», написанные Яном Ларри по заказу Маршака, тем более, что герои этой повести 1937 года — мальчик и девочка, брат и сестра.
Кстати, «Настя и Никита», вероятно, и есть наиболее точная реинкарнация легендарного довоенного ленинградского «Детгиза» — в своем замысле. Если, конечно, учесть снижение возрастной планки: книги авторов-«маршаковцев» рассчитывались все-таки на чуть более старший возраст.
Помнится, когда мне в редакции православного журнала «Фома» (а проект является его брендом и френдом) подарили самую первую настиникитину книжку — а это была Наталья Ключарева с «Королем улиток», я подумал: если проект выживет, ему суждено войти в историю отечественной детской литературы. Уж больно хорошо придумано: и традиция присутствует (герой/герои поверх той или иной истории, вспомнить хотя бы «Аленушкины сказки» Мамина-Сибиряка), и возможность привлечения к проекту «взрослых» писателей, раскрывая возможности их дарования, и — стремление «выращивать» новых литераторов — через конкурсы, чем «Настя и Никита» давно занимаются.
Откуда взялись удачные детские имена в названии? Разведка донесла, что именно так зовут детей шеф-редактора проекта — Алины Дальской. Но если бы дело было только в названии: у книжных Насти и Никиты нагрузка немалая, так как эти герои присутствуют в каждом выпуске «НиН», в каждой книжке каждой серии, коих — серий — шесть: «Рассказы», «Сказки», «Стихи», «Биографии», «Знания» и «Путешествия». Но об этом попозже.
Не считая переизданий, которые обеспечиваются читательскими просьбами, а проще говоря, спросом, количество книг, изданных под маркой «Насти и Никиты», приблизилось к сотне (юбилей!). В середине лета я получил «Дмитрия Менделеева», написанного Ириной Никитиной и проиллюстрированного Александром Яковлевым. В издательской аннотации сказано, что это 98-й выпуск. Стало быть, сейчас, когда вы читаете нашу колонку, — сотня уже есть, книги выходят два раза в месяц. Поздравляем!
Когда проект заработал и вышли первые восемь книг, на него откликнулся примечательный интернет-портал, а точнее, журнал, под названием «Журнал для настоящих пап Батя» (), обращенный, в первую очередь, к отцам, чьим детям от 2 до 12 лет. Руководит изданием 32-летний священник Дмитрий Березин, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери села Молоково, отец троих детей. Шеф-редакторствует в «Бате» — психолог и выпускница Литературного института Александра Оболонкова.
Так вот, постоянный автор «Бати» Артемий Лебедев, составитель замечательного сборника «Отцы, папы, бати», выпущенного «Никеей», — подошел осенью 2009 года к стенду «Насти и Никиты» на традиционной книжной ярмарке «Читай-ка!» и для начала расспросил Алину Дальскую о новом детском книжном проекте. Это было, кажется, одно из первых ее интервью. Примечательно, что она начала свой монолог с рассказа, кто именно подсказал идею появления серии.
Это были читатели «Фомы», родители сегодняшних Насть и Никит.
«…Решили, что будем делать не какой-то отдельный православный журнал для детей, а детскую литературную серию. Просто очень хорошие тексты. У журнала „Фома” огромный опыт разговора о христианстве с людьми самыми разными — в том числе с невоцерковленными, со считающими себя неверующими. И мы понимаем, что православный журнал — это не агитация и пропаганда, а в первую очередь доверительный разговор о добре и зле, о жизни и смерти. Этих принципов мы придерживаемся и в литературной серии „Настя и Никита”. Детская книжка должна быть обязательно хорошо написана. А христианской она становится не потому, что на каждой странице после дурно написанного морализаторского текста приписано по молитве, а когда ей удается достучаться до сердца. И именно поэтому главные герои серии Настя и Никита — современники наших маленьких читателей. Это сделано для того, чтобы дети могли себя с ними ассоциировать».
Придя домой с полученными в подарок первыми восемью книжками, Артемий Лебедев немедленно прочитал их и поделился с «Батей» своими впечатлениями о каждой, предпослав этим впечатлениям сдержанную эмоциональную оценку всей восьмерке.
«Начну с того, что ни одна из книг не зацепила по-настоящему за сердце. Но и ни одна не вызвала раздражения или отвращения. Вводные и заключительные части с Настей, Никитой, их старшими братом и сестрой, мамой и папой порой кажутся натянутыми, приклеенными искусственно». А в завершение своего обзора, припомнив почти непременную идеологическую оснастку советской детской литературы и жутковатые книги «эпохи вседозволенности», то есть детлит 1990-х, — отметил и своевременность появления новой книжной серии.
«И вот как раз сотрудники „Фомы” почувствовали, что цвет времени изменился, что должна появиться новая хорошая детская русская литература. Её рождение — процесс непростой, отсюда и недочёты серии „Настя и Никита”. Но сделан задел. Вышло 8 книг, ни одну из которых не следует прятать от ребёнка. 8 книг, наполненных добром. Это немало на сегодня. Это хотя бы стимул для новых авторов написать сказку или рассказ для детей, зная, где его по крайней мере рассмотрят, а возможно, и опубликуют. А это очень важно…»
«Самой странной» из всех книжек обозреватель назвал самую первую, давшую отсчет серии, — «Короля улиток» Натальи Ключаревой, получившую за два года до этой сказки премию имени Юрия Казакова за рассказ «Один год в раю», опубликованный в нашем журнале. Достоверно сассоциировав «Короля улиток» с «Чайкой по имени Джонатан Ливингстон» и горьковским Данко, похвалив хороший слог, читатель остался в недоумении — к чему, о чем это?
«…Это, по большому счету, парафраз истории о Христе, — сказала два года спустя Алина Дальская в интервью порталу „Богослов.RU”. — Является ли это христианской историей? Безусловно. Но не думаю, что эта книга как-то бы выиграла, если бы мы туда на каждой странице по цитате из Евангелия поставили. И таких хороших, умных, добрых, но формально абсолютно светских книг очень много. И многие книги советской литературы, не говоря о христианстве, говорили о любви, о дружбе, об умении жертвовать собой».
Интересно, что в том же, 2009 году на сайте «Православие и мир» на книжку Ключаревой отозвалась православный журналист, редактор и филолог Ксения Лученко. Ее отклик на «Короля улиток» открывается тем же естественным приемом, каким открываются профессиональные и непрофессиональные отклики на любую книжку для младших, — оценкой собственного ребенка.
« — Интересная книжка.
— А про кого?
— Про улитку. Она рассказала остальным, как спастись. Но ее забыли, и она взорвалась.
— Грустная сказка?
— Нет. Мне понравилась.
— А она тебе… Ничего не напоминает?
— Напоминает. Про Христа. Он также за нас погиб. Поэтому и не грустная.
Вот так мы обсудили с восьмилетним сыном книжку Натальи Ключаревой „Король улиток”, которая вышла в cерии „Настя и Никита” издательского дома „Фома”. Потом он прочел еще „Тайну старого сундука” Натальи Щербы из той же серии. „Ничего, — хмыкнул. — Поучительная. Про дружбу”.
Заслужить благосклонную реакцию младшего школьника художественной книге сегодня довольно трудно: слишком много конкурентов — мультфильмы и фильмы, комиксы, журналы, разного рода энциклопедии и словари, в которых информация тоже преподносится клиповым образом, ярко и сжато. Может быть, в этом есть и преимущество: дети учатся структурировать знания, выделять главное, кратко формулировать мысли».
Я так много цитирую именно потому, что мне интересны отклики и оценки непосредственных читателей, и, что особенно важно, читателей пристрастных — «из цеха». Что до меня, то настиникитин зачин мне понравился. История про улитский народец, давно ожидающий появления Короля улиток, их главное испытание — невозможность «выйти из себя», то есть покинуть свой домик; и — подвиг маленького, отважного У, сделавшего это и поплатившегося за стремление к свободе — жизнью (улитки-старейшины связали его и бросили умирать во время лесного пожара), конечно же — сказка-притча. Ее финал напомнил мне окончание романа замечательного японского писателя-христианина Сюсаку Эндо «Уважаемый господин дурак» (1959), печальной истории о нелепом французе Гастоне, временно поселившемся в семье своего однокашника и совершенно изменившем внутренний мир как небольшой ячейки восточных обывателей, так и всех, кто с ним, Гастоном, соприкоснулся. В конце романа Гастон погибает в драке «за други своя», однако тела его не находят. Осталось только свидетельство человека, видевшего его в последние минуты, однофамильца автора.
«Он рассказал, как Гастон принял на себя удары Кобаяси, чтобы спасти его, и, серьезно раненный, упал на мелководье болота.
— Что потом с ним случилось?
Эндо так резко покачал забинтованной головой, что ему, должно быть, стало очень больно. Затем он вспомнил, что через некоторое время после того, как он потерял сознание, он почувствовал, что туман намочил его щеки и он приоткрыл глаза. Часть неба была безоблачной, и перед его взором в голубое небо, распахнув белоснежные крылья, взлетела одинокая цапля.
Больше он ничего не помнил. И даже в этом он не мог быть полностью уверен».
Через некоторое время эту грациозную цаплю, поднимавшуюся над рисовыми полями, увидел и однокашник Гастона Такимори и тихо прошептал ей вслед: «Гас-сан, до свидания».
А вот как заканчивается сказка Натальи Ключаревой:
«Перебравшись в безопасное место, улитий народец обернулся на свою пылающую поляну. И увидел связанного У, о котором никто не вспомнил в суматохе бегства. В этот момент огненный язык как раз дотянулся до него. У вспыхнул и взвился в небо.
И тогда у всех на глазах в расплавленном воздухе появилась маленькая корона и тихо поплыла над болотом, грустно задевая камыши. Она была похожа на шаровую молнию, только совсем крохотную, размером с орех. И все вокруг нее переливалось нежным жемчужным светом. Огонь подступал к болоту. Шипел и смирялся. Наступало новое утро».
Что же до главных и постоянных героев, то есть Насти и Никиты, то в этой книге они впервые знакомятся с читателем в свой не самый удачный день: за окном — проливной дождь, игры все переиграны, книжки перелистаны, взрослые заняты своими делами, — и если бы не внезапный звонок в дверь, то, возможно, никакой сказки не было бы. Так в их доме появился возвращавшийся из книжного магазина промокший архивариус дедушка Маврикий, которого мама Насти и Никиты пустила выпить чаю и обсушиться. Тут он и достал из своего загадочного портфеля тонкую, потрепанную книжку (которую, уходя, незаметно оставил в знак благодарности приютившей его семье).
Среди самых первых книг «Насти и Никиты» оказалось еще несколько сказок (раздел выделяется на обложке в перечне небольшого «меню») и по одному представителю для разделов «Стихи», «Путешествия», «Рассказы» и «Биографии». Вот среди этих последних сразу выделяется прозаик Максим Яковлев с книжками «Сергий Радонежский приходит на помощь» и «Прощай, Терминатор!».
Первую в проекте биографию выпало писать профессиональному прозаику, пришедшему в литературу из живописи. Автор повестей «Ничего не бойся», «Пир», «Время дороги», исторического романа «Димитрий и Евдокия» и цикла прозаических миниатюр «Фрески» так сложил житие преподобного Сергия для детей, что оно стало живым, не слащавым повествованием, и одновременно строгим отражением канонического жития. И настоящим открытием для маленького читателя. Написано это, повторюсь, тем языком и тоном, который, не создавая преград в чтении — даже невоцерковленному ребенку, знакомил его с совершенно новым в его жизни героем .
А тем, кто уже знал о преподобном, возможно, довелось стать первыми читателями духовной литературы, пусть и адаптированной для детского восприятия.
«Здесь, в глухом лесу, исполнилась наконец мечта Варфоломея — он стал монахом. Один сельский игумен прочитал над ним особые молитвы и остриг на его голове прядь волос. Когда люди становятся монахами, они получают новое имя. И Варфоломей стал Сергием.
Началась его монашеская жизнь.
Днём Сергий трудился в лесу и у дома: ходил за водой на родник, колол дрова, чинил одежду, работал на огороде. Шумели над головой высокие сосны, звонко выстукивал клювом дятел, порхали и пересвистывались в кустах лесные птицы. Ночью же Сергий тоже трудился дома или в церкви: читал молитвы и священные книги.
Тихо шелестели страницы... Слышно лишь, как потрескивает огонёк смолистой лучины, да ухает филин в чаще... Спал он совсем мало».
Яковлевскому тексту о святом предшествует, как обычно, вводный сюжет о брате с сестрой. Здесь Настя и Никита играют в волшебников, «назначая» друг другу разные невиданные «превращения». Причем так бурно, что на шум игры из своей комнаты выходит папа и, узнав, что детям захотелось чего-то удивительного, протягивает руку к одной из иконок, стоявших за компьютером, рядом с часами. Так и появляется рассказ о святом Сергии.
Интересно, что традиционного заключения в этой книжке — нет, автор и издатели, конечно же, поняли, что после заключительных слов героя — завещания преподобного своим духовным чадам и всем, «кому еще жить в свои времена», — нашим брату и сестре обсуждать уже особенно нечего. Не говоря уже и о том, что их второе появление было бы вкусово провальным и даже бестактным.
А вот в «Прощай, Терминатор!» брат с сестрой закольцовывают повествование: история о спасенной мальчиком Игнатом вороне (папа мальчика соорудил ей алюминиевую лапку из вилки) не смогла обойтись без морали. Как же не обсудить, о чем рассказывалось в истории помимо внешних обстоятельств жизни птицы, преодолевшей свое изгойство?
В следующий раз мы подробнее поговорим о развитии «Насти и Никиты» в последующие годы существования проекта и почитаем некоторые неожиданные книжки.
Книги
* o:p/
Николай Байтов. Любовь Муры. Роман. М., «Новое литературное обозрение», 2013, 560 стр., 1500 экз. («Уроки русского»)
Роман Байтова — вторая его книга в проектной серии «Уроки русского» (первая — Николай Байтов . Думай, что говоришь: 41 рассказ. М., «КоЛибри», «Азбука-Аттикус», 2011); представляет собой байтовский вариант любовной переписки двух женщин в стране строящегося социализма (30 — 40-е годы).
Михаил Бутов. По ту сторону кожи. Повести, рассказы. М., «АСТ», 2013, 412 стр., 1500 экз.
Новая — после переиздания романа «Свобода» (М., «Олимп», «Астрель», 2011) — книга прозы Михаила Бутова, составленная из рассказов и повестей 1990 — 2000-х годов, как и в случае с упомянутыми выше текстами Николая Байтова, — своеобразная инвентаризация того лучшего, что было в русской прозе последних двух десятилетий.
Андрей Вознесенский. Полное собрание стихотворений и поэм в одном томе. М., «АЛЬФА-КНИГА», 2012, 1223 стр., 6000 экз.
Из классики русской литературы второй половины прошлого века.
Марианна Гончарова. Дракон из Перкалаба. М., «Эксмо», 2012, 256 стр., 4000 экз.
Лирико-философская — использующая атрибутику свободной, «блогерской» игровой стилистики — проза, представляющая собой попытку поговорить о смерти и о радости и силе жизни как о явлениях одного ряда, а отнюдь не взаимоисключающих друг друга; собственно, в этом и состояла художественная задача автора, для разрешения которой он вводит в изображаемый мир драконов, говорящих собак и карпатских ведунов — мольфаров; главная героиня этой повести, художница Влада, памяти которой повествовательница посвящает свою повесть, — и есть мольфар, человек, способный видеть и чувствовать бытийное в бытовом, способный вносить в повседневность радость и полноту жизни; только обнаруживается это в момент ее смерти. «Эта книга — не детектив и не фантастика. Тем более — не фэнтези и не мистический триллер... Это, видите ли, правда. Все здесь написанное, дорогой читатель, абсолютная правда. Да, да. Горы — правда. Дракон — правда. Мольфары — правда. Владка и ее стремительная жизнь — правда. Мое личное участие, прямое участие почти во всем нижеописанном — тоже правда. А вымысел в том, что волей своего воображения я все это решила заплести в пеструю веретку. Знаете ли, что такое веретка? Красивое звучное слово, да. Это домотканая дорожка. Рачительные гуцульские хозяйки стелили ее на пол, на лавки, сейчас уже и диваны накрывают... И вот я сплела такую длинную плотную дорожку из разноцветной яркой пряжи — одна полоска радужная и веселая, вторая — густо-черная, печальная, следом полоски другие, постепенно переходящие от одного цвета к другому, дальше опять резкие цвета — красный бешеный, белый нежный, опасливый и опять черный... Повесть эта сделала Марианну Гончарову, писательницу из города Черновцы, лауреатом «Русской премии» 2012 года в номинации «Малая проза».
Оксана Забужко. Музей заброшенных секретов. Роман. Перевод с украинского Елены Мариничевой. М., «АСТ», 2013, 704 стр., 2500 экз.
Одно из самых значительных произведений современной украинской литературы, опровергающее, в частности, расхожее представление о том, что общественная острота и актуальность прозы (в романе — история Украины ХХ века, и история совсем не та, которую мы «знали») несовместимы с ее художественной изощренностью. Первое представление романа на русском языке — в отдельных главах — состоялось в «Новом мире» (№ 7, 10, 12 за 2011 год).
Леонид Каганов. Оды. М., «ОГИ», 2012, 304 стр., 1000 экз.
Книга московского поэта, а также писателя-фантаста и сценариста Леонида Каганова, составленная из «од», писавшихся им в 2009 — 2012 годах для газеты «F5», — именно од, написанных стихами, но графически оформленных как проза — «Чтоб пахать с утра не выйти в поле — было пять причин, примерно так: воскресенье, свадьба, сильно болен, умер, и с рождения дурак. И в таком режиме наши предки жили и трудились каждый день. И простои возникали редко, и не слышно было слова „лень”. Жить в то время людям было плохо: каждый день — дела, дела, дела. Но ушла бесследно та эпоха. И эпоха новая пришла! Отдыхают и душа и тело, постепенно труд сошел на нет. День прожить и ни...я не сделать — вот что подарил нам интернет! Мы теперь не сеем и не пашем, ходим в офис поторчать в сети. Потому что в интернете нашем столько дел — за век не разгрести! Там такие жизненные темы! Там настолько важно, просто жуть! Там такие крупные проблемы! Там неправ все время кто-нибудь! Там такие новости культуры! Там такой полет, такой разбег! Цукербергу в личку пишет Дуров! Дурова залайкал Цукерберг!..»
Владимир Кочнев. Маленькие волки. М., «Воймега», 2013, 96 стр., 300 экз.
Книга молодого пермского поэта, создающего свой «эпос безгероического времени» (Максим Амелин) — «Первый парень моей девушки / был торговец — китаец / из элитной богатой семьи. / Звал в Китай, / но она отказалась. // Потом был дипломат, / светило замужество, / безбедная жизнь в Канаде, / она отказалась. // Третий был наркоман и барыга / (подсел после года торговли), зверел постепенно — / сбежала от него в другой город. // Четвертый был мямля / и нытик, / жаловался, что у него рак, / что после оказалось неправдой. // Пятый — алкоголик-спортсмен, / напивался и бил собутыльников, / приносили домой в крови, / пыталась спасти, / не вышло. // Теперь у нее я — скромный человек, /старающийся избегать неприятностей. // В охрененную компанию я попал».
Станислав Ливинский. А где здесь наши? М., «Воймега», 2013, 48 стр., 400 экз.
Сборник стихов одного из лауреатов Международного Волошинского конкурса (2012) — «Хутор. Брошенная хата. / Дверь, подпертая лопатой. / Сверху ржавая подкова. / На стене плохое слово. // Опустевшая изба, / словно брошенная баба. / Ей какого мужика бы, / Но, как видно, ни судьба. // Рядом — спуск, ступеньки сгнили. / Колокольня у реки. / Говорят, что здесь убили / барина большевики. / А теперь тут мотыльки. / Ива дремлет, как сиделка. / Мальчик, севший на мостки, / с удочкою-самоделкой. / Рыбка плещется в садке. / Стрекоза на поплавке».
Бернард Маламуд. Бенефис. Рассказы. Составление Л. Беспаловой. Перевод с английского Л. Беспаловой, В. Пророковой, Е. Суриц. М., «Текст», «Книжники», 2013, 302 стр., 5000 экз.
Новая, составленная из впервые переведенных на русский язык текстов, книга рассказов одного из ведущих мастеров американской литературы ХХ века; наряду с уже традиционными для прозы Маламуда еврейскими мотивами здесь возникает и тема жизни советской творческой интеллигенции (в рассказе, точнее, в маленькой повести «В стол»).
Александр Правиков. Внутри картины. М., «Воймега», 2013, 64 стр., 400 экз.
Книга стихов поэта, известного ранее, прежде всего, как критика (автора журнала «Знамя») и переводчика, — «Музыку подземных переходов / Никогда не сыграть молодым, / Они даже слушать ее не могут, / А быстрым шагом скорее наверх. // Да, не сыграть молодым, / И здоровым, и сытым, и трезвым, / Тут нужны корявые пальцы, / И гнилые зубы, и темное прошлое, / Но главное — отсутствие будущего. // Музыку подземных переходов / Обычно играют быстрее, чем нужно, — / Как будто время не ждет, / И выдыхается пиво, / И нагревается водка, и менты уже на подлете. // Или, наоборот, медленнее, чем нужно, — / Как будто все уже поздно, / И водка нагрелась, и пиво выдохлось, / И менты уже тут как тут. // <…> Она лезет наверх, как дым горящих торфяников, / Стелется по Москве, / Достойна быть гимном России».
Андрей Родионов. Звериный стиль. М., «Новое литературное обозрение», 2013, 112 стр.,1000 экз.
Стихи Родионова последних двух лет, когда поэт работал в музее «PERMM», то есть стихи «пермского периода»; соответственно, словосочетание «звериный стиль» употреблено здесь еще и в пермском значении — «Я вышел из дома сутулый, / я мелочь в карманах искал / а перед выходом пивом из Тулы / у нас в туалете поссал // Пермяга, город напряга / реально крутых пацанов / у нас в туалете бумага / из Набережных Челнов // в автобусе едешь, / дивишься на русские лица одни / (автобус как русская книжка) / как русские буквы они // за них Чхартишвили и Быков / и Путин за них и медвед / Емелин, в Перми незабытый / и я, я ведь тоже поэт…»
Владимир Скребицкий. Русский дом. М., «У Никитских ворот», 2012, 208 стр., 200 экз.
Литературно-критическая и мемуарная эссеистика ученого-биолога и писателя, посвященная персонажам из истории русской и европейской культуры прошлого века, — Василий Кандинский, Габриела Мюнтер, Василий Розанов, А. К. Толстой, Анастасия Цветаева и другие; а также — собственно проза, отчасти заставляющая вспомнить «Записки охотника».
Ольга Сульчинская. Волчок. М., «Воймега», 2013, 84 стр., 500 экз.
Третья книга московской поэтессы («Amor Brevis» — М., «Издательство Руслана Элинина», 2005; «Апрельский ангел» — М., «Арт Хаус медиа», 2010) — «Это ты там шумишь / Растешь / Вниз головой / До самых крыш / Небесный камыш / Дождь»; «Эти камешки морские / Так прелестны, так влажны. / Но когда они сухие, / То скучны и не нужны. // У подножья Карадага / пьется всякое вино, / Но возьмешь его с собою — / И теряет вкус оно. // Потому-то мы отсюда / Ничего не заберем: / Ни напитка, ни посуды, / Ни того, что мы вдвоем».
Жюль Сюпервьель. Дитя волн. Притчи. Перевод с французского Виталия Бабенко. М., «Текст», 2013, 112 стр., 3000 экз.
Проза известного французского поэта — а также драматурга, критика, прозаика — Жюля Сюпервьеля (1884 — 1960), написанная в жанре, который принято называть «прозой поэта», — полуфантастические новеллы, чей образный ряд содержит развернутую лирико-философскую метафору.
Тарас Трофимов. «Мне внове — богом. Зябко на душе…». Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 2012, 304 стр., 500 экз.
«Тарас Трофимов родился в 1982 году, погиб в 2011-м. Поэт, прозаик, лидер рокабилли-группы „Stockmen”. Неоднократный лонг-листер „Дебюта”, лауреат „ЛитератуРРентгена”. Автор единственной выпущенной при жизни книги стихов („Продавец почек”), публикаций в „Воздухе”, „Вавилоне”, „Урале”. Это официальные сведения — а книга, изданная посмертно друзьями Тараса, демонстрирует феерический талант необыкновенно живого, гротескно-остроумного и макабричного, легкого и глубокого автора», — Данила Давыдов («Книжное обозрение»).
* o:p/
Люк Болтански, Лоран Тевено. Критика и обоснование справедливости. Очерки социологии градов. Перевод c французского О. В. Ковеневой; научный редактор перевода Н. Е. Копосов. М., «Новое литературное обозрение», 2013, 576 стр., 2000 экз.
От издателей: «Книга Люка Болтански и Лорана Тевено — наиболее значительное произведение французской социологии последнего тридцатилетия (периода, последовавшего после появления основных работ Пьера Бурдье). В ней предложена теория общества, легшая в основу так называемого „прагматического поворота” или „возвращения субъекта” во французских социальных науках 1990-х годов. Эта книга направлена также против „школы подозрения” — общепринятой после Маркса, Фрейда и Ницше привычки видеть в рациональных аргументах субъектов социальной жизни не более чем отражение скрытых пружин их поведения. Поэтому главное внимание в книге уделено не социальным структурам или идеологиям, но анализу конкретных ситуаций, споров и конфликтов в повседневной жизни и прежде всего — аргументов, которые их участники выдвигают для обоснования справедливости своих притязаний».
Дэвид Брукс. Бобо в раю. Перевод с английского Д. Симановского. М., «Ad Marginem», 2013, 296 стр. Тираж не указан.
От издателей: «Книга американского социолога и журналиста Дэвида Брукса посвящена описанию нового класса, возникшего за последние двадцать лет в США. Для обозначения этого класса автор придумал неологизм „бобо” (bourgeois bohemian, богемная буржуазия). Русским читателям более известны другие определения — хипстеры, креативный или образованный класс. Но как бы ни менялись названия или национальная специфика, перед нами новая глобальная элита, соединившая в своем этосе демократизм и элитизм, уважение к образованию и финансовую состоятельность, творчество и корпоративный бизнес. Путеводитель по миру „бобо” — возможность узнать о привычках и происхождении элиты информационного века, то есть возможность понять и принять ее».
Дени Грозданович. Искусство почти ничего не делать. Перевод с французского Оксаны Чураковой. М., «Текст», 2013, 288 стр., 2000 экз.
«„Искусство почти ничего не делать” — вовсе не руководство для халявщика. Дени Грозданович просто рассказывает много-много маленьких лирико-философских притч, объясняющих, как понять, что ты гораздо счастливее, чем тебе кажется, и научиться „хотя бы раз в день на мгновение приобщаться к ускользающей вечности”» («Книжное обозрение»).
В. М. Жирмунский. Начальная пора. Дневники. Переписка. Публикация, вступительная статья, комментарии В. В. Жирмунской-Аствацатуровой. М., «Новое литературное обозрение», 2013, 400 стр., 1000 экз.
Материалы из личного архива Жирмунского: юношеские дневники, относящиеся к периоду его обучения в Петербургском Тенишевском училище (в том числе и к событиям первой русской революции 1905 года), переписка с коллегами: с В. В. Гиппиусом в 1909 — 1928 годы и с А. А. Смирновым в 1917 — 1922 годах; естественно, с историко-литературным комментарием.
Барри Майлз. Бит Отель. Гинзберг, Берроуз и Корсо в Париже, 1957 — 1963. Перевод с английского Анастасии Алексеевой при участии Алекса Керви. М., «Альпина нон-фикшн», 2013, 330 стр., 3000 экз.
Документальное повествование о жизни американской литературной богемы, к каковой в те годы относили Аллена Гинзберга, Уильяма Берроуза, Питера Орловски, Грегори Корсо, Брайона Гайсина и других — обитавшей на рубеже 50 — 60-х в Париже. Местом, которое эти молодые тогда еще люди выбрали для своей жизни в Париже, был один из самых дешевых и демократичных по нравам отель в Латинском квартале на улице Жи-ле-Кер в доме 9, известный впоследствии под именем «Бит Отель». Автор повествования, английский журналист, культуртрегер, историк литературы (главным образом, современной), со многими из своих персонажей был знаком лично, ну а Гинзберг просто жил в его лондонской квартире, но знакомство это состоялось чуть позже описываемого в книге периода, и Майлзу приходилось восстанавливать многие обстоятельства своих сюжетов по рассказам друзей-битников и по разного рода документальным источникам. Книга Майлза написана чуть суховато — что в данном случае является ее несомненным достоинством — она на редкость информативна, чувств своих к персонажам автор не обнаруживает, или как минимум не навязывает читателю, и потому у читающего достаточно возможностей выстроить собственный образ Берроуза или Корсо, или Брайона, благо текст содержит достаточно для этого материала. К несомненным достоинствам этой книги относится также определенная дистанция автора от всей той литературной мифологии, которой оброс образ своеобразной американской бит-колонии, в которую на время превратился Бит Отель. Впервые книга вышла на родине автора в 2001 году.
Сомерсет Моэм. Время и книги. М., «АСТ», 2013, 512 стр., 3000 экз.
Литературно-критическая проза знаменитого англичанина — книги «Точки зрения» (в переводе Е. Корягиной) и книга «Десять величайших романов человечества» (в переводе Валерии Бернацкой); в десятку Моэма вошли «История Тома Джонса, найденыша», «Гордость и предубеждение», «Красное и черное», «Отец Горио», «Дэвид Копперфильд», «Мадам Бовари», «Моби Дик», «Грозовой перевал», «Братья Карамазовы», «Война и мир».
Энгус Уилсон. Чарльз Диккенс. Литературная биография. Перевод с английского Р. Померанцевой, В. Харитонова. СПб., «Вита Нова», 2013, 592 стр., 1100 экз.
От издателей: «Литературная биография Чарльза Диккенса (1812 — 1870), созданная известным английским литератором сэром Энгусом Уилсоном (1913 — 1991), со свойственной этому автору мудрой иронией яркими и точными штрихами набрасывает сложный портрет кумира читателей всех возрастов, избегая нарочитого возвеличивания своего героя, не боясь представить его смешным и честолюбивым, слабым и деспотичным, наивным и прагматичным, исторически ограниченным и „неполиткорректным”, но при этом всегда — пытливым и сочувственным исследователем человеческой природы во всей ее трагикомической сложности. Текст сопровождается уникальным по широте охвата диккенсовской эпохи изобразительным материалом. В качестве приложения в книгу включен обширный литературно-философский очерк английского мыслителя Гилберта Кита Честертона (1874 — 1936) „Чарльз Диккенс”. Издание снабжено аннотированным именным указателем».
Периодика
«Вестник Европы», «Гефтер», «Иерусалимский журнал», «Известия», «Искусство кино», «Коммерсантъ Weekend», «Литературная газета», «Московские новости», «Московский книжный журнал/The Moscow Review of Books», «НГ Ex libris», «Нева», «Неприкосновенный запас»
«Вестник Европы», «Гефтер», «Иерусалимский журнал», «Известия», «Искусство кино», «Коммерсантъ Weekend», «Литературная газета», «Московские новости», «Московский книжный журнал/The Moscow Review of Books», «НГ Ex libris», «Нева», «Неприкосновенный запас», «Новая газета», «Перемены», «ПОЛИТ.РУ», «Православие и мир», «Радио Свобода», «Российская газета», «Русский Журнал», «Русский репортер», «Свободная пресса», «Сибирские огни», «Теории и практики», «Теория моды», «Топос», «Урал», «Эксперт Юг», «Colta.ru», «Family.Booknik/Букник младший»
Елена Айзенштейн. «Сокровенное, в слезах, едва прошептанное слово». Образы Бога и поэта в творчестве Елены Шварц. — «Нева», Санкт-Петербург, 2013, № 5 < >.
«При всем многобожестве Елены Шварц и увлеченности ее мифологическими, дохристианскими образами замечательны стихи, в которых звучит христианская тема, осмысленная в индивидуально-авторских образах и в образах традиционного православия».
«Е. Шварц умела быть истово верующей, и эту истовость веры она передала в стихах».
«Елена Шварц любила икону Богоматери-Троеручицы в Никольском соборе. Свою любовь к иконе она объясняла приворотом небесных сил, колдовским, магическим влиянием».
И другие формулировки — такие же двусмысленные.
Максим Амелин. «Карта нашей поэзии предельно неточна». — «ПОЛИТ.РУ», 2013, 16 мая < >.
Речь лауреата Литературной премии Александра Солженицына на церемонии награждения, 15 мая 2013 г., Москва.
«Особенно трепетным отношением и подлинной любовью я проникся к поэтам допушкинской поры, оказавшимся для меня отнюдь не литературными ископаемыми, а верными собеседниками и учителями. Русский поэтический XVIII век, изъясняющийся на необыденном, необычайно весомом и емком языке, на самом деле был огромной плавильней и кузней едва ли не всего грядущего разнообразия форм и жанров, видов и традиций, до сих пор так или иначе проявляющегося в нашей поэзии».
Полина Барскова. «Мне нужно переключение времени». COLTA.RU публикует очередную главу из биографического проекта Линор Горалик — книги бесед с современными русскими поэтами «Частные лица». — « Colta.ru », 2013, 28 мая < >.
«Мои запросы юношеские были совершенно из области Страны Желанной, как сказано в отличной книге ёМио, мой Мио”, я как-то влюблялась мифологически, у меня была мучительная страсть в области 13 лет к фотографии, вырезанной откуда-то тайно, — Михаила Николаевича Барышникова. Я тогда такие удивительные тексты писала, натурфилософские — например, о летнем дожде, называлось это „Барышников”, а о зимнем дожде — „Бродский”. И отношения с этим пантеоном были крайне интенсивные, как бывает во сне. Да, и еще было детское великое чувство к Высоцкому, всепоглощающее, лет в 10. Главное, все эти детские страсти с возрастом не истаяли, как-то оказались переработаны сознанием».
Андрей Битов. Я люблю Петрушевскую. Юбилей современного классика. — «Новая газета», 2013, № 56, 27 мая < >.
«Для меня феномен Петрушевской в том, что она не принадлежит ни к какому поколению. Ее, уж не знаю, яхта или кораблик, проплыл между двух айсбергов и застрял в будущем».
«„Время ночь” — такая штука в прозе, которую мне не с чем сравнить. <...> Я с впечатлением от „Времени ночи” заседал в первом Букеровском жюри. И совершенно невыносимым было, что явному победителю не дали первого Букера. Мы с Элендеей Проффер боролись за это, но дело оказалось безнадежным. И с тех пор Букер стал хром на один глаз, слеп на одну ногу, так и не выровнявшись, потому что таких ошибок совершать в истории литературы нельзя».
Кира Богословская. Двойной капкан. «Ловушка» зрительского восприятия. — «Искусство кино», 2013, № 4, апрель < >.
«Зрители [ТВ] не хотят видеть сюжеты „о себе”, посвященные ежедневным проблемам и ситуациям, если в финале нет полной и безоговорочной победы „их типа” правды. Сегодняшняя семантика российской жизни работает так, что при помещении „простых людей” в узнаваемые российские обстоятельства создается ощущение, что и они сами, и их жизнь незначительна. <...> Сегодня такой идеологии, которая позволяла бы „обычным людям” себя достойно и спокойно чувствовать, нет».
«В таких условиях зрителям становится важно соответствие представленного на экране их личной мифологии, которая, как правило, является одновременно и массовым мифом. Именно она худо-бедно защищает их от тревожной неопределенности мира. Двойной капкан зрительских ожиданий можно обозначить как: „Я хочу видеть правду, но не хочу ее видеть”».
Дмитрий Быков. Карамзин с автоматом. К 75-летию Людмилы Петрушевской. — «Коммерсантъ Weekend », 2013, № 19, 24 мая < >.
«Людмила Петрушевская — один из весьма немногих российских литераторов, по всем статьям заслуживающих Нобелевской премии. Мне трудно назвать более значительное явление в русской прозе и драматургии девяностых и нулевых. Рядом с ней, пожалуй, можно поставить Владимира Сорокина — но думаю, что приемы Петрушевской тоньше, а ее концепция человека (без которой не бывает серьезного прозаика) оригинальнее».
«Петрушевская сентиментальна, как Андерсен, и потому безжалостно отсекает все, что могло бы сделать жизнь ее героев хоть сколько-нибудь сносной. Персонажи самых бессолнечных, безвыходно мрачных ее текстов — таких, как „Время ночь”, — могли бы найти сотни вариантов спасения, знают они и какие-никакие радости, и надежду, и адаптивные механизмы у них должны бы работать, как всегда они работают у людей, долго борющихся за выживание, — но Петрушевской все это не нужно, поскольку ее жанр есть именно страшная сказка».
Быть ли России нерусской? Накануне дня рождения ученого и мыслителя [Игоря Шафаревича], с ним встретился корреспондент «ЛГ». Вел интервью Геннадий Старостенко. — «Литературная газета», 2013, № 22, 29 мая < >.
Говорит Игорь Шафаревич: «<...> должен заметить, что в попытке пресечения русского национализма у власти могут быть не только порочные подходы, но и вполне естественные опасения. Недавно я читал статью одного известного пропагандиста национальной идеи — о том, что власть вытесняет национальные протестные формы в подполье. Возможно, так оно и есть, но, с другой стороны, жесткая установка на такой протест может отдавать авантюризмом и привести к разрушениям. Такого рода „партизанская война” может развиваться непредсказуемо. Поэтому надо быть реалистами. Все-таки в последнее время жизнь немного повернулась к лучшему, появилась какая-то стабильность, у людей есть какая-то работа, которая их кормит. И мнение, что строящуюся сейчас жизнь нужно разрушить, пусть она и плоха с моральной точки зрения, слишком жесткий взгляд на вещи».
Владимир Варава. Апофатические этюды. Вечность. — «Топос», 2013, 17 мая < >.
«Ибо наше существование не совсем наше, и оно проистекает из неведомого нам принуждения самого бытия к существованию. Это не мы существуем, это нас принуждают существовать. И это принуждение к существованию без спроса (без нашего ведома и желания) имеет единственное оправдание лишь потому, что мы существуем вечно. Будь мы конечны, это вынужденное существование без спроса, абсурдное и жестокое в своей основе, сущностно несправедливое, было бы просто невыносимо, и человечество давно бы придумало способ избавиться от самого себя».
«Ум потрясен и заворожен таинственной непостижимостью самого обычного и естественного. Но именно в этой естественности, в страшном свете солнечного мрака, в дневном пепелящем зное, в лучезарной прозрачности свежего дыхания ветра и видна вся его потрясающая неестественность. Неестественность и невозможность. Невозможность, граничащая с умопомрачением, если мы только на миг отрываем взгляд от привычного и направляем его еще на более привычное: на то, что есть. <...> Вот эта невозможность существующего более всего и потрясает».
Алексей Варламов — о мифах, выживании писателя и непойманном карпе. Беседу вела Оксана Головко. — «Православие и мир», 2013, 22 мая < >.
«Когда я собирался писать книгу про Алексея Толстого, думал, что размажу этого негодяя по бумаге и буду рвать на себе и на нем волосы, стеная, до какой низости может пасть русский писатель и русский человек. А когда я стал вникать во все извивы его судьбы, он меня победил и в этот момент сделался мне ближе».
Игорь Вишневецкий. «Я скорее синефаг, чем синефил». Беседу вел Евгений Майзель. — «Искусство кино», 2013, на сайте журнала — 30 апреля.
В связи с полнометражной художественной картиной «Ленинград», снятой прозаиком, поэтом и музыковедом Игорем Вишневецким по собственной одноименной повести (см.: «Новый мир», 2010, № 8).
Говорит Игорь Вишневецкий: «Меня интересовали люди, которым к началу блокады было 30 — 50 лет, т. е. родившиеся между 1891 и 1911 гг. Раннее детство их прошло в другой стране, при другом порядке вещей, и вполне „советскими” людьми их назвать очень трудно. А ведь они и составляли большинство гражданского населения. Кто-то успел до начала советского погрома окончить школы и гимназии, а кто-то университеты и даже начал проявлять себя на том или ином поприще. Конечно, у всех у них была разная степень включенности в советский мир и потому конформизма. Но основа-то была иной, и на советский мир они все смотрели чуть отстраненно. Это видно, например, по „Осадной записи” лингвиста А. Н. Болдырева, которому в 1941-м было 32 года и который довольно часто пишет в блокадных дневниках „Петербург”, а не Ленинград, отмечая сугубо советские новации с антропологической внимательностью Миклухо-Маклая, живущего среди папуасов».
«Из того, что я знаю, можно заключить, что окончательное принятие советской судьбы, а вместе с ней и имени города произошло, конечно, не в 1945-м, а после первой блокадной зимы 1941 — 1942. По сути это было смирение перед ужасом пережитого, отчасти и советским ужасом, но также ужасом военным. Так что я не предлагаю тут никакой новой концепции».
Андрей Грицман. Пятнадцать лет спустя. Бродский в Америке. Эссе. — «Вестник Европы», 2013, № 36 < >.
«Относительная индифферентность Бродского по отношению к окружающему американскому пейзажу и культуре не ограничивалась Новой Англией. Любопытно, что это относилось даже к сумасшедшему Нью-Йорку, в котором Бродский провел довольно много лет. С другой стороны, по какой-то причине европейский, особенно итальянский, культурный пейзаж легко входил в его искусство и на самом деле служил декорацией для многих его стихов „постсоветского” периода».
«Поразительно, что из 64 стихотворений в сборнике „ So Forth ” (последнем — 1996 года; 21 из них написаны по-английски) почти ни одно не имеет отношения к американскому культурному ландшафту. Есть, правда, несколько идиоматических оборотов, разговорных словечек, которые разбросаны по разным стихотворениям („Песня”, например). Но все-таки создается впечатление, что эти словечки являются имитациями (почти пародиями) языка. В то же время представляется, что естественный для Бродского поэтический английский язык парит где-то среди теней Джона Донна и У. Х. Одена, что отличает его от другого великого поэта-иностранца — Чеслава Милоша».
Гуманитаристика будущего? Беседа с Сергеем Ушакиным в кулуарах «Банных чтений» 2013 года. Беседовали Ирина Чечель и Александр Марков. — «Гефтер», 2013, 15 мая < >.
Говорит профессор славистики и антропологии Принстонского университета Сергей Ушакин: «Вы помните фильм „Отдел” канала „Культура”? Та же самая ситуация, житийный жанр, Жития Святых. При этом любопытно, что, несмотря на то что фильм был о представителях гуманитарной науки, речь об их научной деятельности, о качестве их научных идей, об их влиянии на новые поколения исследователей в фильме практически не шла. Наука ученых оказывается неважной. Как у Жванецкого: а при чем тут борщ, когда такие дела на кухне? А дела-то на кухне идут бурно, и в результате оказывается самым важным, кто сколько пива выпил, кого и сколько давили. А то, что книжек нет, что идеи малоинтересные, да и просто нежизнеспособные… Ретроспективно особенно понятно, что жизнь (и жития!) этих людей оказалась более интересной, чем то, что они производили профессионально. Мне кажется, в этом трагедия позднесоветской гуманитарной интеллигенции».
Екатерина Дайс. Орфей Рафеенко. — «Русский Журнал», 2013, 8 мая < >.
«Никто так, как украинцы, Москву не любят и не понимают ее глубинной сути (в этой любви, конечно же, есть оттенок Стокгольмского синдрома), поэтому когда мы читаем, что „в Кремле — вернее, под ним, на глубине тридцати метров, — есть Тайный зал Московского Сердца. В этом зале вот уже сотни лет слоняется без дела от стены к стене и распевает песенки огромный розовый заяц…”, то невольно верим в такую абсурдную зоософию. Кстати, насчет зоософии. Один из наиболее удавшихся Владимиру Рафеенко образов — это образ ежика, в прошлой жизни бывшего великим танцором». Это о романе донецкого прозаика Владимира Рафеенко «Московский дивертисмент» (М., «Текст», 2013; журнал «Знамя», 2011, № 8).
Даниил Дондурей. Граждане против гражданского общества. Телерейтинг как Воспитатель Нации. — «Искусство кино», 2013, № 4, апрель.
«Ни в одном из сообществ „думающей России” нет сущностного понимания того, что современные электронные медиа, в первую очередь телевидение, — могущественный институт культуры. Под видом доставки потребителям бесплатной информации и развлечений оно снабжает их ценностными системами, нормами, образцами поведения, кодами реагирования на любые ситуации и проблемы реальной жизни во всех ее сферах».
«Видимо, именно поэтому — в силу деликатности своей миссии — ТВ не заинтересовано в публичном обсуждении действующих здесь технологий, а свое истинное значение и результаты работы всячески преуменьшает, если не табуирует. Уникальное, надо заметить, явление».
«...И Рим погиб от трудовых мигрантов». Философ Александр Доброхотов о том, почему ходит на Болотную, как на работу, и называет себя монархистом, почему в России нет национальной проблемы и почему власти выгодно правовое государство. Беседу вела Юлия Меламед. — «Московские новости», 2013, на сайте газеты — 17 мая < >.
Говорит Александр Доброхотов: «В Пестеле никакой истерии не было. Пестель был полу-Наполеон, он был настоящий монстр».
«Когда был подростком, я запоем читал все книжки про Наполеона. Но вообще-то это первая редакция Гитлера. <...> Он был полуфашист. Настоящий урка корсиканский».
«В легитимации современной власти чего-то не хватает. Источником власти всегда были божественные санкции. Только в XVII — XVIII веках появилась идея делегирования полномочий власти от общества, через электоральные механизмы. Религиозные санкции стали не нужны. Но не все так просто. Монарх отвечал не перед народом, а перед Богом. Это смешно звучит сейчас, но народу это проще понять. Народ тоже знает, что он не сахар, что он источник произвола и дури. Легче признать, что есть еще одна точка — более высокая, над народом».
Игра в бисер в контексте культуры. «Душу не спасти ни инновациями, ни инвестициями. Искусство — тоже», — считает Игорь Волгин. Беседу вел Валерий Выжутович. — «Российская газета» (Федеральный выпуск), 2013, № 107, на сайте газеты — 22 мая < >.
Говорит Игорь Волгин: «Только что под моей редакцией вышла 1220-страничная „Хроника рода Достоевских”. Мы над ней работали несколько лет. Это коллективный фундаментальный труд, изданный Фондом Достоевского. „Хроника” наследует уникальной книге 1933 года М. В. Волоцкого. Он просчитал значительное количество персоналий начиная с XIV века. Мы продолжили реконструкцию этого родословного древа — вплоть до наших дней. Нашли сотни неизвестных ранее имен. Книга оказалась в три раза больше прежней. Удалось восстановить потерянные звенья в XVIII веке, там были существенные генеалогические провалы. Достоевский, сколь это ни удивительно, не знал своих ближайших предков. Не знал даже имени бабки (Анастасии), отчества деда (Андрея Григорьевича), униатского священника (перешедшего в православие) в его родовом селе Войтовцы, под Брацловым. Там родился отец писателя, осталась большая родня. В книге много новых архивных документов: официальные бумаги, частная переписка, материалы из фондов НКВД... Под одной обложкой с „Хроникой” — моя книга „Родные и близкие”. Я, в частности, уделяю там большое внимание обеим супругам Достоевского. Ведь жена в России (особенно писательская) — больше, чем жена».
Александр Иличевский. Литература как искусство убеждать. Беседовала Наталия Демина. — «ПОЛИТ.РУ», 2013, 11 мая < >.
«Относительно Стругацких я не могу составить мнение, поскольку мне не довелось прочитать ни единой их книжки. Поэтому здесь я не эксперт. <...> Нет, я как-то смотрел что-то, но меня это не привлекло».
«Я бы не писал, если бы было, что читать».
«Меня очень интересует момент, когда литературная реальность становится психической реальностью. Это очень важный момент, потому что нет никакого сомнения, что весь наш мир создан с помощью букв, чисел и речений (коммуникаций). С помощью слова — в широком смысле. Потому что числа — это тоже слова. И мы видим, как материальный мир является продуктом неких речей, донесенных до человека, и понятых им текстов. Это вполне теологическая ситуация. Уподобляясь Творцу, человек с помощью текста и коммуникаций (речений) создает материальный мир».
«Бумажная книга — „уходящая натура”, без сомнения. Мне 42 года, я год пользуюсь Kindle и не могу нарадоваться».
Джеймс Киллок. За цифровые права. Интервью взяла Анна Сакоян. — «ПОЛИТ.РУ», 2013, 4 мая.
«<...> я думаю, что копирайт не должен регулировать каждый штрих нашего взаимодействия с информацией. В настоящий момент по умолчанию позиция такова, что копирайт важнее всех остальных прав. <...> Так что первый момент — это то, что мы не должны считать копирайт более важным, чем он есть. Есть более важные вещи. Неприкосновенность частной жизни важнее, чем копирайт. Свобода слова важнее. Да и в целом возможность коммуникации, передачи информации — это самое значимое свойство Интернета».
«<...> копирайт — это хороший стимул, если вы автор, пишущий книгу. Но это уже не очень хороший стимул, когда вы уже двадцать лет как умерли, и уже ваш внук получает доход от тех книг, которые вы написали примерно сто лет назад. Едва ли это эффективно поощряет креативность».
Джеймс Киллок ( James Killock ) — исполнительный директор британской организации Open Rights Group .
Алексей Колобродов. Ад и Рай Алексея Балабанова. — «Перемены», 2013, 20 мая < >.
«Наивно предполагаю: в неснятом Алексеем Балабановым фильме о юности Сталина молодое поколение страны получило бы нового героя, сравнимого с Данилой Багровым».
Григорий Кружков. Два эссе. О стихах Ильи Эренбурга и Олега Чухонцева. — «Иерусалимский журнал», 2012, № 43 < >.
«Прелесть этой мелодии — в ее новизне, необычности для нашего уха. В русской поэзии размеры с двумя цезурами — большая редкость. Ища у нас аналогию большому асклепиадову стиху, я сумел вспомнить лишь стихотворение Олега Чухонцева. Не совсем то — но две цезуры есть, и анапедактили наличествуют.
sub Зычный гудок, ветер в лицо, грохот колес нарастающий, /sub
sub Вот и погас красный фонарь — юность, курящий вагон. /sub
<...> Интересно, думал ли Олег Чухонцев, сочиняя свое стихотворение, про „Левконою” Горация?»
Илья Кукулин. «Сегодня — время ускоренного развития литературы». Беседу ведет Наталия Санникова. — «Урал», Екатеринбург, 2013, № 5 < >.
«На мой взгляд, сегодня — время ускоренного развития литературы, аналогичное Серебряному веку в русской поэзии».
«Многие рефлексирующие люди психологически чувствуют себя висящими в пространстве без опоры, потому что непонятно, какое отношение мы, живущие в России после стольких катаклизмов и после семидесяти лет разделения русской литературы на легальную, неподцензурную и эмигрантскую, — какое отношение мы сейчас имеем к культурной традиции. Мне кажется, любая культурная традиция, которая продолжается как ни в чем не бывало, часто воспринимается в образованном сообществе как фальшь и обман. И чтобы понять, что происходит с тобой лично, поневоле приходится становиться аналитиком».
«Эта функция культурной легитимации сегодня отделяется от распространения текстов: местом распространения все в большей степени становится Интернет, а функция культурной легитимации пока что во многом сохраняется за книгой».
Сергей Куняев. Николай Клюев. Главы из биографического повествования. — «Сибирские огни», 2013, № 5, 6 < >.
«Клюев не мог не ждать этого дня, не мог не предчувствовать его наступление. Когда комиссар оперода Шиваров предъявил ему ордер, Николай прочитал, отошел в сторону, тяжело уселся на низенький стул, предоставив свою дальнейшую судьбу Божьей воле. <...> В протоколе обыска было подробно и добросовестно зафиксировано все изъятое для представления в ОГПУ: „Рукопись поэмы ‘Я‘ (это была рукопись ‘Каин‘ со стертым прежним заголовком и частично разорванными пополам страницами. — С. К. ), вторая часть; рукопись поэмы ‘Погорельщина‘, зеленая тетрадь с записями различных стихотворений на 34 страницах; рукопись сборника стихотворений ‘О чем шумят седые кедры‘ и другие, напечатанные на машинке на 54 листах; рукопись из первой части поэмы ‘Я‘ на первом листе; рукопись поэмы ‘Песнь о великой матери‘ на 82 страницах; рукопись стихотворения ‘Не верю‘ на двух листах; программа концерта от 9 октября 1914 г<ода>; книга Таро... и книга В. В. Розанова ‘Люди лунного света‘; три записных книжки; шестнадцать писем и записок с адресами”...»
Эрик Мартин. Ошибка как творческий ресурс в романе Набокова «Дар». Авторизованный перевод с немецкого Надежды Григорьевой. — «Неприкосновенный запас», 2013, № 2 (88) < >.
«Прежде всего следует подчеркнуть, что нарративная экономика „Дара” подразумевает нехватку и дефицит в той же степени, как богатство и избыток, так что чистое накопление никоим образом не может быть оценено позитивно».
Борис Межуев. «Русское викторианство» между политикой и литературой (Жизнь и смерть Александра Солженицына). — «Гефтер», 2013, 22 мая < >.
«Солженицын и в самом деле может быть назван „совестью” России, только не в банальном смысле этого слова, но скорее в том, в каком Сократ говорил о своем „демоне”. „Демон” никогда не советовал философу, как надо поступать, но всегда оберегал от дурных и неправильных поступков. Солженицын и был таким сократовским „демоном” России. Он призывал „жить не по лжи”, но ему почти никогда не удавалось говорить и думать правильно, то есть взвешенно, расчетливо, обдуманно. „Демон” не подсказывал ему точных и политически безукоризненных решений. <...> Но тем не менее Солженицын каждый раз почти мистическим путем уходил от Большой лжи, от всех тех соблазнов, которым поддавались почти все честные русские патриоты».
«Мы дадим премию поэту, от которого еще нет оскомины». Поэт Юрий Кублановский — об Андрее Вознесенском, переделкинских дачах и непереводимости Бродского. Беседу вела Лиза Новикова. — «Известия», 2013, на сайте газеты — 14 мая < >.
Говорит Юрий Кублановский: «Когда-то я бредил стихами Вознесенского. Для меня он был преемником раннего Маяковского, которого я обожал. Тогда, в начале 1960-х, выискивалось все, что отличалось бы от соцреалистической „серятины”. Когда в журнале „Знамя” я прочитал стихи Вознесенского, они произвели на меня огромное впечатление. Потом, когда стали открываться Пастернак, акмеисты, Ходасевич, у меня появились другие приоритеты. Но первоначальный огонь, который мне дала поэзия Вознесенского, остался и сейчас».
«Назову вам два имени, Денис Новиков и Борис Рыжий. К сожалению, обоих этих поэтов уже нет в живых, их сломали 1990-е годы. В их поэзии как раз совмещались традиционализм и свежесть. Я как раз нашел очень интересного поэта, продолжающего традицию Дениса Новикова. Но назвать его имя пока не могу».
Этот поэт, ставший лауреатом премии «Парабола», — Андрей Гришаев. См. также поэтическую подборку Андрея Гришаева «Птицы летят на выход» («Новый мир», 2013, № 4).
«Мы победили великое зло». Интервью с Эдуардом Веркиным — автором лучшей современной книги о войне для подростков. [Материал подготовила] Аня Ликальтер. — « Family.Booknik /Букник младший», 2013, 6 мая < >.
Говорит автор повести «Облачный полк» Эдуард Веркин: «Как-то так получилось, что в нашей уютной песочнице писательниц гораздо больше, чем писателей, особенно в подростковом ее уголке. И читательниц больше, чем читателей. И читательницы эти гораздо активнее. И библиотекари. И обозреватели. И даже все наши критики — они тоже девушки. Все вместе очень напоминает школьный коллектив, где мужиков традиционно два: трудовик и физкультурник. Отсюда определенная специфика. ФБ-склоки, ЖЖ-вопли и стоны, коалиции, холивары, заполошный алармизм, ну, кто работал в школе, тот знает. Как результат — подростковая проза уже во многом ориентирована на девачковые (от 12 до 40) таргет-группы и на соответствующее восприятие. И это верно как про коммерческую прозу, так и про серьезную. Я понимаю, что раньше, с Жюлем Верном, лунными тракторами, мушкетерами и индейцами, у нас был перекос в сторону мальчиков, но все равно мне, как отцу двух мальчишек, хотелось бы, чтобы для них писали больше. И я сам стараюсь это делать».
«Назад в будущее»: 2100-й. Оптимизм и трагедийность, свет и тень: так сочетаются два эти материала. Новые два видения мира и будущего — в проекте корпорации Би-би-си «Назад в будущее». — «Гефтер», 2013, 20 мая < >.
Говорит Фрэнсис Фукуяма: «Я думаю, XXI век совершенно точно будет веком биологии. Самые значительные перемены будут связаны со способностью человека изменять геном и, в конце концов, свою собственную природу».
«Я хочу сказать: очень может быть, что в XXI веке мы увидим совершенно новые технологии общественного контроля, о которых в прошлом могли только мечтать, и я думаю, это повлечет за собой довольно неприятные политические последствия. <...> Например, то, что некоторые утопические политические проекты, которые просто нереализуемы сейчас, станут возможны в будущем».
«Ну, я боюсь, что мы даже не сможем узнать в них своих внуков и правнуков. Если будет реализована хотя бы одна из этих призрачных возможностей, они будут не просто сильнее и умнее, но с ними произойдут такие неуловимые изменения, которые мы даже не можем себе представить. Вполне возможно, мы вступаем в постчеловеческий период истории. И тогда станет ясно, что я был прав, потому что на самом деле история человечества окончена, приходит время другого вида, который появится не в результате естественного отбора, а в результате отбора, произведенного человеком».
«Нам плохо, потому что это мы такие». [Материал подготовили] Владимир Козлов, Людмила Шаповалова. — «Эксперт Юг», 2013, № 17 — 19, 13 мая < >.
Говорит Денис Гуцко: «Литературоцентричная Россия погибла, писатель в литературе больше не пророк. Кому как, а я скажу: и слава Богу. Умерла, так умерла. Мне вполне комфортно в этой ситуации — может быть, потому, что сам я на пророка не тяну. Да и то сказать, здоровье дороже. Это ж какая нагрузка — вспомнить хотя бы Льва Николаевича, его три дневника: дневник, тайный дневник, „для одного себя”. А несчастную жену его?».
«Важно и то, что я пишу о провинции. Не о тихом маленьком городе вроде Вологды, например, где провинциализм может давать ощущение корней, истоков, а о такой тяжелой его форме, как провинциальный город-„миллионник”. Это глубоко нездоровое пространство, особый воспаленный мир. По крайней мере, в Ростове[-на-Дону] это бросается в глаза. Сочетание столичных понтов и абсолютно серого пространства — душного, замусоренного, пыльного».
Анна Наринская. Дневник ненадежного рассказчика. О том, что Софья Островская написала помимо доносов. — «Коммерсантъ Weekend », 2013, № 20, 31 мая.
«Она принадлежит к традиции женско-романтической — рассчитывающей на читателя по определению (и высмеянной за это Оскаром Уайльдом в „Как важно быть серьезным”: „Видите ли, это всего только запись мыслей и переживаний очень молодой девушки, и, следовательно, это предназначено для печати”), и при этом на читателя заочно влюбленного. К традиции, ярчайшим образом воплощенной в „Дневнике Марии Башкирцевой” — популярнейшей книге в России начала XX века, которую Островская никак не могла не читать. <...> В принципе дневник Островской, если его читать тем самым первым, „неосведомленным”, „невинным” способом, — это и есть дневник Башкирцевой, умноженный на долгую жизнь, революцию, сталинизм и блокаду (ее записи 1941 — 1943 годов, самые искренние из имеющихся, — один из самых ярких из всех имеющихся блокадных дневников)».
«Но знание о тайной (и куда более обширной и изобретательной, чем просто вынужденное „сотрудничество”) деятельности автора превращает этот же текст в роман о любви, самоистязании, предательстве и манипуляции, а его создательницу — даже не просто в литературную героиню, а в один из главных фетишей нарратива XX века. Потому что Софья Казимировна Островская, годами пишущая свой подробный дневник и умалчивающая о главном („Дурное о Т. Г., — записывает она в день ареста Татьяны Гнедич, обвинения против которой во многом опирались на ее донесения. — Говорят, что арестована. Possible ”), — это и есть „ненадежный рассказчик”, центральная фигура творчества Владимира Набокова, Итало Звево, Кадзуо Исигуро и еще многих в его самой шокирующей ипостаси».
Одна история на всех. Беседу вел Константин Мильчин. — «Русский репортер», 2013, № 21, 30 мая < >.
Говорит Максим Кантор: «Идея романа [«Красный свет»] в том, что личного нет. То, что ты считаешь своей экстерриториальностью, так или иначе часть истории всех людей. Человек состоит из других. И твоя личная история есть контаминация и сплав истории многих».
См. об этом романе статью Аллы Латыниной в настоящем номере «Нового мира».
Глеб Павловский. Антропология зла: будущее и пережитое. — «Гефтер», 2013, 9 мая < >.
«С трудом я восстанавливаю свои разговоры с М. Я. Гефтером — его последних лет. В них он совсем другой. Это Гефтер Темный. Особенно важен был для нас обоих 1993 год. Беседы с ним я надеюсь вскоре издать. Вот отрывок из разговора, бывшего ровно 20 лет тому назад с бывшим рядовым истребительного батальона. К нему приложена реплика из одной моей лекции о Гефтере в Русском институте. Глеб Павловский, 09.05.2013».
Говорит Михаил Гефтер (1993 год): «Человеку свойственно удержать первоначальное наименование вещи, даже явно не соответствующее масштабу и природе явления. Русские не единственные пользовались клише „культа личности”, „застоя”, „перестройки”. Это также антропология. Когда некое явление, вдруг появившись и не будучи освоенным, напугает нас, мы, не способные его опознать, беремся за старый термин. Так сложилось, что в ХХ веке антропологизм убийств получил санкцию и имя фашизма. Как СПИД, который искали по военным лабораториям, а оказалось, что он в самой природе гоминид. И я утверждаю, что фашизм внутри каждого из нас».
«С этой точки зрения я бы волновался не хасбулатовскими шансами против Ельцина, а орбитальным оружием, которое испытывают высоко над нами американцы. Если однажды испытания будут удачны — все, планету захлопнут, вся и всех будут контролировать. А кто тогда будет контролировать Кремль, это частность. Тебе все еще неясно, что я называю фашизмом? Я хочу, чтобы ты об этом хорошо подумал».
Говорит Глеб Павловский (Беседа в Русском институте 24 августа 2012): « Гефтер отклонял либеральное деление на героев и злодеев русской истории, которое в России в каждую эпоху директивно. Вот и сегодня, меняя свои пристрастия или допуская двусмысленность в этих вопросах, ты рискуешь репутацией и политическим местом. Только в России существует понятие „рукопожатных исторических деятелей”. Отнюдь не практикуемая на деле человеком этическая твердость сублимируется в надменном ригоризме безопасных приговоров покойникам, размежевании и порицании тех, кто преступает линии разметки. <...> Гефтер не пытался пожалеть злодеев. Он всматривался в них именно как в людей падших. Его интересовали скрытые точки слома личности , в России такой хрупкой, часто временной и ненадежной».
Елена Петровская. «Ширпотреб определяет наше восприятие искусства». Беседу вел Фуркат Палванзаде. — «Теории и практики», 2013, 13 мая < >.
«Позволю себе вернуться к понятию произведения искусства, которое мы по-прежнему употребляем, хотя, конечно, условия для бытования самих творений настолько изменились, что употреблять это словосочетание уже не представляется возможным. И в этом есть ирония и даже парадокс: как можно продолжать говорить о произведении искусства, когда оно предполагает нечто завершенное в себе, замкнутое, обладающее внутренней логикой, более того, встроенное в контекст определенных социальных отношений, востребованное в этом качестве и в нем опознаваемое? Но сегодня все это разрушено — нет больше созерцающего индивида. Уже во второй половине XIX века появляется то, что называют публикой. А сейчас мы последовательно прошли этап эволюции, когда сама аудитория искусства расширилась до невероятных пределов — в том смысле, что любой человек участвует в этом процессе».
Владимир Рафеенко. Абрикосы Донбасса. Беседовала Екатерина Дайс. — «Русский Журнал», 2013, 30 мая < >.
«Вообще, мне кажется, хороший современный роман — это всегда джаз. Это мотивы, которые развивают сами себя, музыка, которая выпевается, выговаривается, вытягивается из мерцающей разноцветными смыслами пустоты».
«Роман [ёДемон Декарта”] о том, что внутри человека нет никаких инструментов для того, чтобы отделить правду ото лжи, добро от зла, а тьму от света. Человек тотально погружен в иллюзии, он беспомощен и слеп. И только милосердие и активная помощь Создателя помогают ему идти по жизненному пути, находить смысл и ориентиры для этого движения».
Сергей Ромашко. «Надо пересмотреть переводы Гессе». Беседу вела Полина Николаева. — «Московский книжный журнал/ The Moscow Review of Books », 2013, 20 мая < >.
«Подражать ему [Гессе] трудно, потому что у него нет определенной манеры. Скорее Томасу Манну можно подражать, у него все-таки есть своя, тягучая манера письма. А Гессе — разный, и стремился это показать. Потом, он большой эстет, а эстетство такого рода у нас тоже не очень идет, даже если автор популярен. Рильке популярен, а кто подражает Рильке? Так и здесь. В какой-то степени он на многих повлиял, выражение „Игра в бисер” прочно вошло в русский язык. Но я не вижу особенного „гессевидного” отпечатка на одном или нескольких авторах. Это можно скорее говорить о писателях вроде Оруэлла или Кафки, там, где конструктивные признаки ощутимы. А то, что некая общая радиация была на тех, кто был достаточно восприимчив в 70-е, — это несомненно. Очень многие люди прошли через увлечение Гессе, другое дело, что оно потом по-разному преломлялось или уходило, но думаю, не уходило совсем».
Елена Рыбакова. Лев Толстой идет на баррикады. — « Colta.ru », 2013, 27 мая < >.
«Не стоило бы, повторю, и браться за разбор этого биографического опуса, если бы Павел Басинский на время забыл, что он человек государственный, и делами биографическими в новой книге и ограничился. Но нет — в период обострения идеологической борьбы государственному человеку положено быть на передовой и строчить агитки, пусть даже в героях у него значится Толстой и события происходят сто с лишним лет назад. В этом качестве — как агитка — новая биография Толстого представляет даже определенный интерес: примерно как фантазии Павла Пожигайло о вредных классиках XIX века, которым не место в школьной программе (в дни триумфа Пожигайло книга Басинского как раз покидала типографию). Как агитку ее и будем читать».
Андрей Рудалев. Обреченность на роль второго плана. О романе Дениса Гуцко «Бета-самец». — «Свободная пресса», 2013, 3 мая < >.
«Если литературный ровесник Гуцко Роман Сенчин в своих произведениях выясняет, с какого момента „пластмассовый мир” начинает побеждать человека, когда он смиряется и превращается в насекомое, то в „Бета-самце” проводится дотошное расследование причин, обстоятельств и выявление того момента, когда человек перестает жить своей жизнью, а движется по социальным рельсам чужих императивов».
Герман Садулаев. Сокровенные человеки. — «Свободная пресса», 2013, 20 мая.
«Итак, русские — это уникальная этническая общность, со своей собственной культурной идентичностью, со своей генетикой, кровью и антропологическим типом. И русские — это степень цивилизованности, это городские, современные, свободные, государственные, выше и вне этнической узости. Два суждения, противоречащие друг другу. И тем не менее оба верные. Линейного решения для этого противоречия нет. Только вместе два подхода способны определить русский народ. Подобно тому, как волновая и корпускулярная теории света только совместно могли описать его природу. Пока не была сформулирована квантовая теория. „Квантовая теория” русского народа еще будет создана, еще предстоит».
«Русскому нужно государство потому, что он ярый, беспримерный, беспримесный индивидуалист. Он вольный, свободный. Слишком свободный. Ошибались все, и народники, и западники, которые полагали русский народ приверженным к общинной жизни, к коллективизму. Одни видели в этом его добродетель, другие — порок, а заблуждались и те и другие. В мире нет такого индивидуалиста, такого эгоиста, как русский человек».
Ольга Седакова. Наш ответ Кириллу и Мефодию. — «Православие и мир», 2013, 24 мая < >.
«В чем, я думаю, должна была бы выразиться наша благодарность святым Кириллу и Мефодию? Я думаю, в исполнении совершенно насущной задачи: изменении традиции преподавания русского языка в школе, прежде всего».
«Школьные уроки русского языка сводятся у нас к обучению орфографии и пунктуации. Я твердо убеждена, что с родным языком человека нужно знакомить другим образом. Он должен представлять себе его историю (здесь найдется место и очерку о старославянском и церковнославянском), его место в кругу родственных языков, многообразие его вариантов, исторических и географических (сведения по русской диалектологии). Его нужно знакомить с узусом языка и его стилистикой».
Ирина Сезина. Скинхеды в России: особенности субкультурного кода и идентификаторы. — «Теория моды. Одежда. Тело. Культура», № 27 (весна 2013) < >.
«Для начала, однако, стоит разобраться в терминах. Отсутствие функционирующих медиа, с одной стороны, воспитанная им нелюбопытность населения — с другой, информационное пространство, изобилующее низкокачественной телепродукцией разнообразных жанров, которые принято объединять исчерпывающим тегом ёчернуха”, а также реальность, к которой правомерно применить этот же тег, обусловили гигантскую путаницу в терминах — скинхедов, нацистов, националистов, фа, антифа и футбольных фанатов (!) часто не различают даже уважаемые издания. Те же факторы породили в обывательском сознании образ скинхеда, состоящий во многом из заблуждений, преувеличений и мифов».
Смерть в купальном трико. Беседу вел Дмитрий Волчек. — «Радио Свобода», 2013, 24 мая < >.
Беседа с Сергеем Кудрявцевым, основателем издательства «Гилея» и составителем сборника неизданных стихотворений Бориса Поплавского «Небытие».
«— Вы пишете в предисловии, что публикации из наследия Поплавского были изуродованы в угоду беженской культурной политике. В чей огород камень — [душеприказчика] Николая Татищева?
— Я сказал достаточно резко, конечно. Но речь идет о том, что он [Поплавский] пытался приспособиться к действительности и писал такие стихи, которые надеялся опубликовать. В нескольких эмигрантских журналах они появлялись, вышла книга в 1931 году. Она была изуродована, но не им. Ему не дали возможности посмотреть корректуру, и, конечно, там был ряд ошибок. О том, что он пытался некоторым образом приспособиться к действительности, свидетельствует его письмо Зданевичу, оно тоже было опубликовано в первой из гилеевских книжек. Там он пишет, что пытается стать понятным и не разделяет то храброе презрение к действительности, которого придерживается Зданевич. То, что осталось неизданным до последнего времени, вряд ли могло быть опубликовано тогда. Вы сами можете увидеть, что в основном тексты тому времени или той культурной цензуре не соответствуют. Так что при его жизни была опубликована лишь очень незначительная часть. И я не считаю, что это лучшие стихи».
Андрей Тесля. «Допечатный» Сологуб. — «Русский Журнал», 2013, 8 мая < >.
«Реальная плотность культуры — это наличие массы разных „маргинальных версий”, „частных интересов” и т. п., существующих на обочине сложившегося на данный момент „большого канона” и тем самым придающих ему, кстати говоря, устойчивость — способность меняться через подключение этих самых „версий”, поскольку они стремятся войти в него, учитывают его наличие — и тем самым оказываются „пригодны к использованию” по мере надобности».
«„Советский” разрыв в этом плане катастрофичен не столько теми версиями культурной истории, которые он последовательно утверждал (или принимал, перенимая из других источников, подвергая соответствующей редактуре), сколько в почти полном уничтожении иных версий».
«Собирание прошлого в этой ситуации превращается в своеобразную „революцию наоборот” — в большем или меньшем масштабе, но практикующее не „припоминание” наличествующего (и смутно различаемого периферийным зрением), а „открытие”: новые имена, едва ли не новые культурные эпохи оказываются некогда бывшими — и затем как бы сгинувшими начисто: и только последующая, идущая за „открытием” рефлексия обнаруживает следы памятования в позднейших эпохах — ранее почти неразличимые, они прочитываются как отсылки, смутные припоминания, которые были актами скорее внутренней речи, чем речи, рассчитывающей на то, чтобы быть услышанным кем-то вовне».
Андрей Тесля. «Святой священник» vs . «яснополянский старец». — «Гефтер», 2013, 24 мая < >.
«Однако и Толстой, и о. Иоанн [Кронштадтский] — при всех отличиях, делающих их содержательно по большинству положений радикально противоположными друг другу, — имеют одну важнейшую черту. И тот и другой являются религиозными реформаторами, персонажами модерной религиозности — с формированием которой связаны и конфликт Толстого с Церковью, и деятельность о. Иоанна. Этот новый тип религиозности в качестве массового, формирование которого начинается в России в XIX веке, разрастаясь во второй половине столетия, предполагает сознательное принятие и усвоение религиозного исповедания».
«Острота конфликта между Толстым и Церковью (нетипичным, но характерным лицом которой в этой ситуации оказался о. Иоанн) связана не с личными религиозными исканиями Толстого или персональными особенностями о. Иоанна Кронштадтского: это конфликт между требованием принадлежности к государственной религии и требованием искренности веры, конфликт между новой религиозностью и ее формами — и прежними рамками, которые взламывались тем же о. Иоанном в его священнической деятельности, но которые он стремился сохранить на надперсональном уровне».
См. также статью Аллы Латыниной «Нельзя одновременно любить Льва Толстого и Иоанна Кронштадтского»… (Заметки о книге Павла Басинского «Святой против Льва»). — «Новая газета», 2013, № 57, 29 мая < >.
Тихие новаторы. Поэт Александр Переверзин о погружении в текст, тисках поэтической тусовки и киберкнигах. Беседу вел Борис Кутенков. — «НГ Ex libris», 2013, 16 мая < >.
«— Расскажите подробнее о готовящемся сборнике Дениса Новикова, претендующем на то, чтобы стать первым полноценным собранием стихов поэта и более обширным по сравнению с „ Визой ” , вышедшей в „ Воймеге ” в 2007 году. Когда ждать этого издания?
— Как и „Виза”, книга составлена Феликсом Чечиком, в нее добавлены радиоэссе Новикова, которые он писал, недолгое время сотрудничая в Лондоне с программой Севы Новгородцева на радио BBC, и стихи, по разным причинам в „Визу” не попавшие. Большой труд проделала Ольга Нечаева, расположив все тексты в хронологическом порядке. Работа близка к завершению, но есть организационные моменты, которые пока не позволяют сказать о точной дате выхода книги. Но я очень надеюсь, что это случится до осени 2013 года».
Михаил Трофименков. Очень злой гений. О столетии Фантомаса. — «Коммерсантъ Weekend », 2013, № 20, 31 мая.
«На самом деле тот Фантомас, которого мы знаем и любим, не имеет практически никакого отношения к герою Сувестра, Аллена и Фейада. <...> Бессмертный Фантомас — плод коллективного творчества гениев авангарда: сюрреалистов и их предшественников. Сюрреалисты что ниспровергали кого-то, что превозносили — делали это с тоталитарной категоричностью. Сказано, что „‘Фантомас‘ — это ‘Энеида‘ нового времени” (Блез Сандрар), так тому и быть. Сказано: „Фантомас, иже еси на небеси, // Поэзию спаси” (Мерман), значит, молись святому Фантомасу, пока лоб не расшибешь».
«Авангард 1910-х возводил на пьедестал „плохое искусство” и то, что искусством вообще не считалось. В России это были, скажем, трактирные вывески — интерес к ним был важнейшим этапом в открытии искусства примитивистов. Во Франции — книги и фильмы о Фантомасе, тоже своего рода лубок. При этом — современный лубок. Утверждать, что фильмы Фейада не хуже „Энеиды”, означало утверждать, высокопарно выражаясь, что кино — тоже искусство, причем искусство, наиболее созвучное эпохе».
Украинская литература — это гетто. Интервью писателя Ильдара Абузярова с поэтом Евгенией Чуприной. — «Свободная пресса», 2013, 5 мая < >.
Говорит Евгения Чуприна: «Новая волна у нас зародилась с феерическим появлением Олеся Ульяненко. Оксана Забужко тоже позиционирует себя как основатель современной украинской литературы. У нее гораздо более мощные медийные ресурсы, она может убедить мир в своей божественности, но ее знаменитые „Полевые исследования…” вышли через два года после появления ульяненковской „Сталинки”, которая взорвалась как нейтронная бомба в сознании нашей интеллигенции, и после этого всякий сообразительный автор неминуемо должен был написать скандальное произведение. Забужко так и поступила».
«Достоин упоминания Юрий Андрухович со своим станиславским (т. е. ивано-франковским) феноменом. Его деятельность находится несколько в стороне от украинской культурной традиции. Ивано-Франковск был в составе других государств. Однако сейчас это — тоже мы».
«И вот явился Сергей Жадан, который сумел объединить обе линии — Ульяненко и Андруховича — и создать общеукраинскую культурную концепцию. Это огромный интеллектуальный труд! Он также предложил собственную версию украинского литературного языка, которую молодежь с благодарностью приняла. Так что Жадан у нас играет роль Пушкина, который тоже свел влияния могучего Державина и грациозного Карамзина в единый канон. Жадан породил множество подражателей, с моей, кстати, легкой руки называемых поджаданниками».
См. также повесть Сергея Жадана «Продавцы счастья» в переводе Евгении Чуприной в июльском номере «Нового мира» за этот год.
Фри-джаз для Одиссея. Новый лауреат премии Александра Солженицына Максим Амелин — о том, кому нужны поэты прошлого. Беседу вел Михаил Визель. — «Российская газета» (Федеральный выпуск), 2013, № 101, на сайте газеты — 15 мая.
Говорит Максим Амелин: «Ситуация с XVIII веком еще более закостенелая. Как на него положил тяжелую могильную плиту Белинский, так никто ее с места и не сдвинет. Были попытки во второй половине XIX века, но они оказались прерваны революцией. Только в середине 30-х годов начали выходить академические сборники серии „XVIII век” и восемнадцативечные тома „Библиотеки поэта”. Но эти издания были купированы, а полного собрания нет ни у кого из поэтов XVIII века, за исключением Ломоносова. Достаточно сказать, что Полное собрание сочинений Державина выходило последний раз во второй половине XIX века. На тот момент это собрание, подготовленное Гротом, было образцовым, но сейчас безнадежно устарело — много чего было найдено, уточнено и так далее. В этом году 270-летие со дня рождения Державина будет отмечаться, а собрания нет. Это же позор всем нам!»
«В следующем году хотелось бы выпустить Анну Бунину, первую русскую поэтессу широчайшего диапазона, от философской оды до страстной лирики „на разрыв тельняшки”, родоначальницу всей женской лирики в русской поэзии. (Двоюродную тетку Жуковского и родную — Семенова-Тян-Шанского, между прочим.) От нее остался довольно большой корпус стихов, она серьезно повлияла на Баратынского, отчасти на Лермонтова, ее высоко ценили Крылов, Державин, а сейчас ее никто не знает, и тексты ее не присутствуют в литературе, потому что она тоже оказалась придавлена тем же неистовым Виссарионом. Хотя в любой стране писательнице такого уровня стояли бы памятники».
Составитель Андрей Василевский
«Вестник аналитики», «День и ночь», «Дилетант», «Дружба народов»,
«Иностранная литература», «История», «Знамя», «Лампада», «Наш современник», «Нескучный сад», «Октябрь»
Андрей Бильжо. Депутат П. А. Романов. — «Дилетант», 2013, № 7 (19) <;.
На обложке номера — стилизованная под каньонные скульптуры американских отцов-основателей на горе Рашмор композиция: Сталин, Екатерина II, действующий президент. И — Петр Первый, занявший 1-е место в рейтинге исторических личностей. Рубрика художника и психиатра называется «История от Андрея Бильжо», с картинкой, конечно.
«Кстати, если оторвать имя, фамилию и отчество от времени и личности, некоторые полные имена звучат очень современно. Ну, смотрите сами. Петр Алексеевич Романов. Депутат Государственной думы. Член „Единой России”. Такая вот визитная карточка. Ну, ведь правда — ничто не смущает.
В Петре Алексеевиче много было от наших депутатов. Да и от новых русских — тоже. Так и вижу его в малиновом пиджаке, в расстегнутой до пупа рубахе, с голдой и крестом на груди. Но это мое сугубо личное мнение. И возможно, ошибочное».
А еще психиатр просит патриотов не ругать его за «размышления», они, мол, «чисто дилетантские».
Алексей Варламов. Наша религия крайне неагрессивна. — «Лампада», 2013, № 3 (90).
« — Видите ли вы динамику в процессе „православизации” нашего общества?
— Во-первых, мне не нравится сам термин, ни по звучанию, ни по сути. Он предполагает некую сознательную политику, которой нет и быть не может. А во-вторых, какая может быть „православизация” общества, где обанкротившуюся коммунистическую идею заменила куда более успешная идеология денег и их тотальной власти? Я думаю, мы сегодня дальше от христианских ценностей, чем были раньше, как бы это ни противоречило ответу на предыдущий вопрос. Да и любые разговоры о насаждении Православия, которые иногда ведутся в либеральной среде, что Церковь — это, дескать, новая КПСС, — все это спекуляции, и только. На словах государство, может быть, и лояльно к Церкви и людям верующим, но посмотрите хотя бы на наш гражданский календарь: гуляем две недели перед Рождеством, а на Святки работаем. У нас нет пасхальных каникул, принятых во всем мире. Нам навязываются ценности, чуждые христианству, подвергается сознательной порче система образования, идут постоянные нападки на институт семьи — какая здесь „православизация”?
— Не вызывает ли у вас вопросов нынешнее довольно жесткое противостояние секулярной части общества и людей верующих? Нет ли здесь опасности углубления раскола в обществе? Как следовало бы держать себя православным людям?
— Возможно, я ошибаюсь, но я не вижу ни такого уж жесткого противостояния, ни, соответственно, этой опасности, за исключением тех случаев, когда это противостояние искусственно создается или раздувается. Особенность Православия в том, что наша религия крайне неагрессивна. Она никому ничего не навязывает, не мстит, насильственно к себе не вербует и не удерживает против воли. Расколы в обществе происходят совсем по другим линиям напряженности. И православным людям нечего ни бояться, ни смущаться. А держать себя обыкновенно, без ложного смирения и напускной набожности, но очень твердо».
Говорят финалисты премии Ивана Петровича Белкина. — «Знамя», 2013, № 7 <;.
Из зачина речи первого финалиста (Дмитрия Верещагина с повестью «Заманиловка»).
«Друзья мои, согласитесь, что такое название для повести очень клевое? Да, конечно, скажете вы, клевое. И однако же, не попади она в руки умному человеку, такому, как Леонид Владленович Бахнов, эта моя повесть, пожалуй, лежала бы в мусорном контейнере; но он сперва обратил внимание на мой рассказ „Клакеры”, напечатал его в журнале „Дружба народов”; и после этого между нами началась, я говорю вам это честно, между нами началась дружба в „Дружбе народов”. Но это название, „Заманиловка”, у меня не от Гоголя, хотя в „Мертвых душах” Чичиков спрашивает мужика, где тут деревня Заманиловка, и на это мужик ему отвечает: „Может быть, Маниловка? А Заманиловки тут нету”, — но нет, господа вы мои хорошие, это у меня не от Гоголя, а от святителя Игнатия Брянчининова, благо есть у него очерк „Сети миродержца”, в котором наш гениальный святитель говорит о вселенской беде человека, даже, вернее сказать, всего человечества, да, да, потому что все люди барахтаются, как мухи в сетях паука. Очень многие люди попадают в сети этого „паука”…»
Какие же клевые бывают иногда стенограммы, господа вы мои хорошие, я говорю вам это честно.
Игорь Голомшток. Эмиграция. О людях и странах. — «Знамя», 2013, № 7.
Окончание второй части мемуаров. Ниже два умозаключения (прошу прощения за длинные выписки), читая которые, мне хотелось временами даже и ущипнуть себя.
«<…> Упаси Боже! я не собираюсь обвинять Солженицына в сотрудничестве с КГБ. То, что я собираюсь написать, — это лишь гипотеза, может быть, слишком смелая, но в качестве таковой имеющая право на существование. <…> В случае с Солженицыным эти люди (продвинутые выпускники МГУ, пришедшие в КГБ. — П. К. ) должны были прекрасно понимать, с кем они имеют дело. Его антизападничество, национализм под маской патриотизма, его презрение к плюрализму, к либеральному диссидентству („образованцам”), „демдвижу” (как сам Солженицын уничижительно называл демократическое движение) — все это было близко мировоззрению самого КГБ и в эмигрантских кругах не могло не вызвать, с одной стороны, сопротивление либеральной интеллигенции, а с другой — восторженную поддержку патриотов и националистов. Его арест в Москве и последующая переброска на самолете в наручниках на Запад послужила блестящей рекламой для утверждения его авторитета как мученика и врага номер один советской власти. За такового он и был принят политизированной эмиграцией. Это было мудрое решение Андропова: Солженицына запустили на Запад как лиса в курятник, и он произвел тут большой переполох».
«Напоследок хотел бы я спросить у прежних поклонников Солженицына: как бы они отнеслись сейчас к его пребыванию после возвращения в путинской России? Ведь его национализм, антидемократизм, православие, антизападничество — все то, против чего выступали Синявские вместе с либеральной интеллигенцией, — вошли составной частью, если не легли в фундамент идеологии теперешнего Кремля, и его награждали новыми высокими орденами (неплохо бы автору и в „Википедию” было глянуть, кто и чем награждал, от чего А. С. отказывался, ну да ладно. — П. К. ), Путин ездил к нему на поклон, отрывки из его „Архипелага ГУЛАГ” собирались ввести в школьные учебники (или уже ввели?), и сам Путин вместе с Медведевым зажигали свечи, а потомки вертухаев того же ГУЛАГа хором пели „Со святыми упокой” над его гробом. К сожалению, эти поклонники почти все уже пребывают на том свете вместе со своим кумиром, так что и спросить не у кого».
Нет, многие еще живы. Только вряд ли это заинтересует И. Г.
Валентина Голубовская. Вверх по лестнице — к Риду Грачеву. — «Октябрь», 2013, № 6 <;.
«В воспоминаниях о Риде я не раз встречала, что его называли в те годы (в начале 1960-х. — П. К. ) „литературной совестью Ленинграда”. Это было время, когда он переводил письма Сент-Экзюпери и, как мне помнится, начал переводить Камю. И писал эссе — о Сент-Экзюпери, о Поле Верлене, о Мориаке и Фолкнере, и такие, как „Уязвимая смертью болезнь”, „Интеллигенции больше нет”, „Значащее отсутствие”. Отрывки из этих эссе, естественно, не дадут полного представления об их философской и социальной остроте, но хоть в малой степени приоткроют внутренний мир Рида Грачева.
„Совесть же говорит нам о том, что мы не можем довольствоваться системой разрешений и запретов, что она, эта система, бессовестна, а поэтому ясно, что область поступка находится вне этой системы. Другими словами, эта система не есть завершение человеческого прогресса, а существует помимо прогресса, вне его. Эта система заменяет совесть. Таким образом, современный мир живет благодаря тому, что сохраняет следы утраченной совести, ‘пустое место‘ от нее. Достаточно всем забыть, что именно отсутствует, как произойдет катастрофа, распад структуры мира. Поэтому-то мы и говорим, что мир находится на грани катастрофы” („Значащее отсутствие”)».
Павел Гуревич. Абсурд как социальный феномен. — «Вестник аналитики» (Институт стратегических оценок и анализа / Бюро социально-экономической информации), 2013, № 1 (51) <;.
«Человек разумен, но часто поступает иррационально. Люди творят новое, но сами же его и разрушают. Человек удивительное существо. Он все понимает, но поступает наоборот. Это, впрочем, мысль Сократа».
Ну и так дальше — в статье, открывающей номер. Есть и примеры интересные. И финал есть. «Абсурду пора противопоставить гражданское мужество, здравый смысл и социальную терапию». Правы, Павел Гуревич, давно пора.
Адольфо Бьой Касарес. Борхес. Из дневников. Перевод с испанского Александра Казачкова. — «Иностранная литература», 2013, № 7 <;.
Друг и соработник Борхеса (много писали вместе, вели книжные серии, составляли антологии и т. п.). Немного из «русской литературной темы».
«Пастернак мне не интересен. Предпочитаю думать о нем плохо, нежели хорошо».
«Читаем первые страницы „Лолиты” Набокова. Борхес: „Я бы поостерегся читать эту книгу. Пожалуй, она очень вредна для писателя. Чувствуешь, что писать иначе невозможно. Сразу начинаешь обезьянничать перед читателем, фокусничаешь, достаешь цилиндр и кролика”».
«По поводу „Войны и мира” Борхес замечает, что неверно начинать роман большим праздником с большим числом персонажей, которых читатель должен индивидуально распознать: „Зачем Толстой так нагружает читателя, заставляя отождествлять каждого? Есть же замечательный ход: ‘Жил некогда человек‘, — почему им не воспользоваться?”» (из записей 1959 года).
«Среда, 16 декабря [1964]. Читаю Борхесу копию протокола суда над Иосифом Бродским, поэтом-переводчиком, осужденным за тунеядство в Ленинграде: мол, мало работал и недостаточно зарабатывал. Борхес: „Обвиняемый тоже вносит свою долю кафкианства: он похож на обвинителей, сам погружен в этот мир. Понятно, не будь этого, его бы просто убили”».
Елена Комлева. От православия к феномену ядерной энергии: заимствование фрагментов методологии антропосоциального толкования. — «Вестник аналитики» (Институт стратегических оценок и анализа / Бюро социально-экономической информации), 2013, № 1 (51).
«Мы не будем затрагивать вопросы веры в Бога». И через полторы страницы: «Хотя у Православия пока нет однозначного, на все случаи жизни, мировоззренческого „рецепта”, оно располагает общечеловеческим опытом, который формировался тысячи лет. Опыт этот и истина Откровения (если принять таковое за факт) позволяют черпать из них многое вновь и вновь. И это хороший базис при грядущем соосмыслении совместно атеистами и верующими, ядерного феномена и человечества».
Светлана Никорук. Как воспитать императора? — Научно-методический журнал для учителей истории и обществознания «История» (Издательский дом «Первое сентября»), 2013, № 5 <; .
Публикуется в рубрике «Материалы к уроку». Автор — учитель гимназии из города Новочебоксарска (Чувашия). Цитирую последнюю главку очерка.
«Зимой 2011 г. мне довелось быть на экскурсии в коттедже „Александрия”. Местные краеведы-экскурсоводы рассказали интересную историю о системе поощрения детей в семье Николая I <...>.
Через призму такого детства, такого воспитания можно увидеть и прощение декабристов, амнистию участников польского восстания, и череду либеральных реформ 1860 — 1870-х гг. Однако в стране существовали и глубокие внутренние противоречия, которые оказались неразрешимы и привели 1 марта 1881 года к трагической гибели Александра II. Николай I говорил цесаревичу: „Ты должен всегда помнить: только своей жизнью ты можешь искупить подаренное тебе Господом происхождение”. Александр II об этом помнил всегда…»
…Э, нет, это не для «Дилетанта» (см. стр. 235).
В следующем, июньском номере главный редактор «Истории», Алексей Савельев пишет в своей колонке: «Знаете, о чем я мечтаю? О том, чтобы создать учебник, где бы история российского государства, социальных отношений, экономического развития показывалась через историю семей ». В том же выпуске — яркая статья Аркадия Мурашева «Простая русская семья» с подзаголовком «О „черных баронах” Врангелях».
Ирина Лукьянова. Если ты умеешь петь. — «Нескучный сад», 2013, № 5-6 <http://www. nsad.ru>.
« Берестов вспоминал, что и ему, и его второй жене, Татьяне Александровой, художнице и автору „Домовенка Кузьки”, критики советовали не быть такими благостными: ей — стать безжалостнее к героям, ему — рассердиться… А чего сердиться, ворчал он, и так полно сердитых кругом. <…> Берестовские стихи, негромкие, не предназначенные даже иной раз для чтения вслух — это надо читать глазами, про себя, складывать в душе, — всегда о главном: о любви. Хорошие взрослые стихи могут рождаться из скорби, ярости, гнева, боли, из тревоги и тоски. Хорошие детские стихи всегда рождаются из любви и счастья: это самое главное, что человеку надо вынести из детства <...>. Ведь не для того мы детям, чтобы обучить их алгебре и вырастить из них высокооплачиваемых специалистов, а для того, чтобы поделиться с ними самым главным — счастьем и светом, вырастить в них любовь и радость — единственное, что помогает жить и дышать на самых крутых поворотах жизни, в самые горькие исторические времена».
В этом году Валентину Берестову исполнилось бы 85 лет. А этот номер «Нескучного сада» — последний в бумажном формате. Журнал уходит в Интернет.
Ярослав Смеляков. Я обвиняю. — «Наш современник», 2013, № 7 <-sovremennik.ru>.
Если совсем коротко, то это яростное, плотное эссе 43-летней давности (кажется, до настоящей публикации так и бывшее в «самизатском» статусе) можно характеризовать строфой из стихотворения Я. С., напечатанного в том же 1970 году: «Ты б гудел, как трехтрубный крейсер, / в нашем общем многоголосье, / но они тебя доконали, / эти лили и эти оси». Кроме того, это, вероятно, одно из первых исследований о возможном убийстве Маяковского. (Смеляков собрал немало разноречивых свидетельств, в частности, приводит свою запись поразительного рассказа Н. Асеева о его малодушной «невстрече» с явно информированным человеком — в 1942 году.)
Илья Фаликов. Евтушенко. Love story. — «Дружба народов», 2013, № 7.
Отрывки из хроникальной биографической книги для серии «ЖЗЛ» публикуются в «казанском» (или «татарском») номере «ДН».
«2 июня 1949 года Тарасов напечатал у себя в газете («Советский спорт». — П. К. ) „очень смешное, разоблачавшее ‘их нравы‘”, стихотворение, подписанное Евг. Евтушенко .
Первая публикация. Автор попросил машинистку Т. С. Малиновскую поставить „Евг”, и это осталось навсегда. Что это означало? Боязнь слипшегося „ЕЕ”? Или в этом „Ев г ” было подсознательно закодировано родовое имя Г ан г нус? Так или иначе, мы имеем дело с практически новым парапсевдонимом.
Евг. Евтушенко существует в русской поэзии 65-й год».
Дмитрий Шеваров. Стиль, который никогда не повторится. — «Лампада», 2013, № 4 (91).
«А ведь его могло не быть и как художника. В ту пору, когда начинал свой творческий путь, искусство решительно отвернулось от Церкви, сочтя религиозную тему исчерпанной. А эти тонкие, бледные, почти чахоточные лица нестеровских отроков и девушек — откуда Нестеров взял их? Ведь Россия еще дышала здоровьем. Взгляните на цветные снимки Прокудина-Горского: там страна, полная сознания своих сил. Грандиозные заводы, новейшие паровозы и корабли, замечательные дороги и мосты, новенькие храмы, красиво одетые и вполне довольные жизнью люди. Ничто не предвещает катастрофы.
Нестеров же начиная с 1890-х годов пишет Россию страдальческую и жертвенную. Пишет новомучеников в то время, когда они еще не ведают о предстоящем мученичестве.
Тут много необъяснимого. Вот в 1897 году 35-летний Нестеров работает над „Великим постригом”. Самый пронзительный и нежный образ этой картины — девушка, идущая со свечой, низко склонив голову. И это оказывается первым портретом великой княгини Елизаветы Федоровны. А ведь художник еще не был с ней знаком, и она тогда не помышляла о постриге. Пожалуй, никто, кроме одного-двух человек, не мог тогда оценить пророческий художественный дар Михаила Нестерова. В нем видели добротного мастера, который по своему „ортодоксальному недомыслию” хватается за „уходящее и отжившее”. Главные герои его картин — иноки и инокини, послушники и послушницы — вызывали у критиков безумное раздражение.
С другой стороны, его критиковала тогдашняя православная общественность, обвиняя в подражании французским модернистам и символистам. „Это большое заблуждение. Я пою свои песни, они слагаются в душе моей из тех особенностей, обстоятельств моей личной жизни, которые оставляют наиболее глубокий след во мне”».
Экспедиция «Енисей». — «День и ночь», Красноярск, 2013, № 3 <;.
По следам прошлогодней летней поездки французских писателей по удивительному маршруту, от Абакана до Норильска. Впечатлениями делятся Франсуа Белек, Кристиан Гарсэн и Элизабет Бирийе. Последняя — маленькой поэмой «Сибирь»: «<…> Тайга горела. / Старик обвинял Соединенные штаты. / Я разглядывала / Древние сани. / Сталинградский шлем. / Коренной зуб мамонта. / Сталина в рамке над диваном. / Мощи. / Иконы. // Озноб от земли до неба. / Твое небо. / Ходила ли я под ним? / Сибирь. / Как подавленное желание. / Сердце, которое не смогли принять. / Любовь, которую не смогли сберечь. / Ты живешь во мне».
Этим утверждением заканчивается сочинение французской поэтессы.
Составитель Павел Крючков

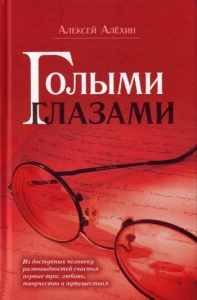


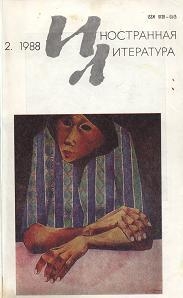



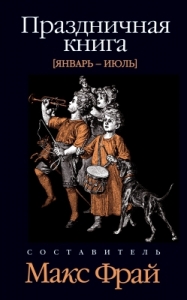

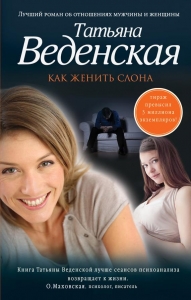
Комментарии к книге «Новый Мир ( № 9 2013)», Журнал «Новый Мир»
Всего 0 комментариев